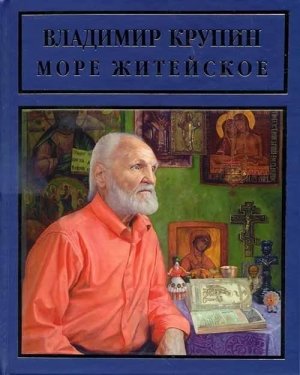
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ВЛАДИМИР КРУПИН
МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей - святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.
Аксаков И. С.
Аксаков С. Т.
Александр III
Александр Невский
Алексей Михайлович
Андрей Боголюбский
Антоний(Храповицкий)
Баженов В. И.
Белов В. И.
Бердяев Н. А.
Болотов А. Т.
Боровиковский В. Л.
Булгаков С. Н.
Бунин И. А.
Васнецов В. М.
Венецианов А. Г.
Верещагин В. В.
Гиляров-Платонов Н. П.
Глазунов И. С.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Григорьев А. А.
Данилевский Н. Я.
Державин Г. Р.
Дмитрий Донской
Достоевский Ф. М.
Екатерина II
Елизавета
Жуков Г К.
Жуковский В. А.
Иван Грозный
Иларион митрополит
Ильин И. А.
Иоанн (Снычев) митрополит
Иоанн Кронштадтский
Иосиф Волоцкий
Кавелин К. Д.
Казаков М. Ф.
Катков М. Н.
Киреевский И. В.
Клыков В. М.
Королев С. П.
Кутузов М. И.
Ламанский В. И.
Левицкий Д. Г.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Ломоносов М. В.
Менделеев Д. И.
Меньшиков М. О.
Мещерский В. П.
Мусоргский М. П.
Нестеров М. В.
Николай I
Николай II
Никон (Рождественский)
Нил Сорский
Нилус С. А.
Павел I
Петр I
Победоносцев К. П.
Погодин М. П.
Проханов А. А.
Пушкин А. С.
Рахманинов С. В.
Римский-Корсаков Н. А.
Рокоссовский К. К.
Самарин Ю. Ф.
Семенов Тян-Шанский П. П.
Серафим Саровский
Скобелев М. Д.
Собинов Л. В.
Соловьев В. С.
Солоневич И. Л.
Солоухин В. А.
Сталин И. В.
Суворин А. С.
Суворов А. В.
Суриков В. И.
Татищев В. Н.
Тихомиров Л. А.
Тютчев Ф. И.
Хомяков А. С.
Чехов А. П.
Чижевский А. Л.
Шаляпин Ф. И.
Шарапов С. Ф.
Шафаревич И. Р.
Шишков А. С.
Шолохов М. А.
Шубин Ф. И.
ВЛАДИМИР КРУПИН
МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ
МОСКВА
Институт русской цивилизации 2016
УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-442.3
К 84
Владимир Крупин
Море житейское // Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 752 с.
В автобиографическую книгу выдающегося русского писателя Владимира Крупина включены рассказы и очерки о жизни с детства до наших дней. С мудростью и простотой писатель открывает свою жизнь до самых сокровенных глубин. В «воспоминательных» произведениях Крупина ощущаешь чувство великой общенародной беды, случившейся со страной исторической катастрофы. Писатель видит пропасть, на краю которой оказалось государство, и содрогается от стихии безнаказанного зла. Перед нами предстает панорама Руси терзаемой, обманутой, страдающей, разворачиваются картины всеобщего обнищания, озлобления и нравственной усталости. Свою миссию современного русского писателя Крупин видит в том, чтобы бороться «за воскрешение России, за ее место в мире, за чистоту и святость православия...»
В оформлении использован портрет В. Крупина работы А. Алмазова
ISBN 978-5-4261-0155-5
© В. Н. Крупин,2016 © Институт русской цивилизации, 2016
ПРОЩАНИЕ С ПРОЙДЕННЫМ
И опять Новый год. Да новый ли он? Просто очередной. И чего от него ждать, ведь все же будет по-старому. И нет пророка в своем Отечестве. Мы же знаем, обязаны знать, что на святом Иоанне Крестителе кончилось время пророков. Начались времена апостольские. А люди будто этого не знают и, как малые дети, паки и паки надеются, что из будущих времен грядут к нам радости. Откуда их взять? Мы их заслужили? Однополые маршируют по Европе, куда еще страшнее? Содом и Гоморра домаршировались. В аду живем. А дальше? Дальше будет еще хуже: злу не положено предела.
Людей мучает будущее от того, что они, особенно нынешние, в нем не уверены. Как дожить до нового года, как его прожить, как пережить? Но разве нам не сказано: каждому дню довлеет злоба его? И разве кто-то из нас безсмертен? Все мы будущие покойники. И что страшного в земной кончине, если она неизбежна?
Листал газеты и журналы конца XIX-го, начала ХХ-го века с предсказаниями на столетие вперед. Ни одно не сбылось. Надеялись на технику -она стала обслуживать убийство. Надеялись на науку - она разбежалась по направлениям, которые все дальше друг от друга. Надеялись на человека, что он станет лучше - он звереет.
Хотели жить лучше, а сами лучше не становились, вот в чем дело. Но как стать лучше без Бога? Да никак!
Надо, чтобы нас мучило не будущее, а прошлое, вот в чем спасение. Будущее так и так все равно наступит, а прошлое можно исправить. Как? Очиститься от грехов, которые тяготят. Их тяжесть может быть сброшена с плеч и каждого человека, и всего народа через покаяние. И только покаяние заслужит нам хорошее будущее.
* * *
Не знаю, будут ли кому интересны эти записи, но выбросить их не поднимается рука. В них много пережитого, выстраданного, память о встречах, поездках, житейские истории, разговоры, замыслы - все о нашей любимой России. Тут заметки начала шестидесятых, и есть сделанные только что. Думал, как назвать. Это же не что-то цельное, это практически груда бумаг: листки блокнотов, почеркушки, клочки газет, салфетки, программки. Да и груда не очень капитальная, много утрачено в переездах, в пожарах (у меня рукописи горят). Всякие просились названия: «Куча-мала», «Отрывки из обрывков», «Конспекты ненаписанного», «Записи на бегу». Называл и «Жертва вечерняя», и «Время плодов», то есть как бы делал отчет, подбивал итоги. Хотя перед кем и в чем? И кому это нужно? Детям? У них своя жизнь. Внукам? Тем более. Все-таки печатаю и надеюсь, что найдется родная душа, которой дорого то, что дорого и моей душе.
Название «Крупинки» казалось самым подходящим: и фамилия такая, и записи малых размеров. Тем более что первая книга называлась «Зерна». Но, пока писалась книга, вышли две книжки-малышки с названием «Крупинки» - и вроде того что перебежали дорогу. Посему окончательно нарекаю книгу «Море житейское», которое заканчиваю пересекать.
Читать можно с любой страницы.
БЫЛ ПРАХ И БУДУ ПРАХ
Вчера я был ребенком - сегодня я старик. Вот и все. Измучились мои глаза глядеть на людей и на себя среди них. Уйду за далекую линию горизонта, лягу на краю кладбища, на зеленой лужайке, и буду лежать среди цветов под березой и облаками. Куда ушла жизнь, куда утекла, с какой водой, каким дождем пролилась на сухой песок? Из земли я пришел - и в землю уйду. Был прах - и буду прах. Зачем я приподнимал свою голову над землей, что увидел, что понял? Видел я землю и понял, что самое главное, что дал нам Господь, - это земля. Жить можно только на земле и спастись можно только землею. Как истосковавшиеся в плавании моряки во все глаза вглядываются в край водной стихии, как ликующе кричит впередсмотрящий: «Земля!», так мы тянемся к земле.
Кто вырос на земле, тому и объяснять не надо. Тот, кто вырос на асфальте, кто однажды видел росток травы, пробивший мостовую, понимает: вся сила в земле. И земля наша не только поилица-кормилица - она душа и сердце всего живого. «Добра мать для своих детей, а земля - для всех людей», - говорит русская пословица. А мы, дети земли, живем по другой пословице: «Материнское сердце - в детях, а детское - в камне». Ни к кому - ни к животным, ни к машинам, ни друг к другу, - ни к кому мы так плохо не относимся, как к земле. Едешь в поезде, глянешь в окно и сразу понимаешь: подъезжаем к станции - свалки мусора, ржавое железо, содранная бульдозером кожа земли, бетон, прижимающий и убивающий все живое под собой.
А разве не нам говорили древние: осторожнее к земле, в ней ростки жизни! Земля не выдерживает уже нашего к ней отношения: взрывается газ в шахтах, падают самолеты, случаются землетрясения - все по Писанию. Святитель Иоанн Златоуст ставил в прямую зависимость урожай на земле и нравственность людей. За что нас кормить, когда мы такие иждивенцы, когда мы не бережем землю и только обременяем ее. Сколько она еще протащит непосильную тяжесть? Может быть, даже то, что сейчас происходит, то, что многие поля не засеваются, вызвано мольбой самой земли ко Всевышнему: дай, Господи, отдохнуть! Единственное, что нас хоть немного оправдывает, - это наша забота об украшении земли на тех несчастных сотках, которые даны нам, чтобы мы в поте лица добывали себе пропитание. Это и есть тот самый пот лица, назначенный нам Господом. Ведь и в райском саду надо было что-то делать, собирать плоды, кормить прирученных зверей, и всего-навсего было запрещено есть плоды с одного дерева. С одного, а кругом - тысячи, и все плодоносят. И не выдержали искушения первые люди, Ева - от змия, а Адам - от Евы, вкусили запретного плода. И уже долгие века мы мучаемся прародительским грехом, прибавляя к нему и собственные. Такое впечатление, что ощутимее всего мы освобождаемся от грехов, когда работаем на земле.
Теперь уже не то время, чтобы считать себя спасенным, если ты за всю жизнь посадишь хотя бы одно дерево. Одно? Сотни нужны, сотни. Вот пустырь, а ведь это земля для сада. Вот помойка, а это место для клумбы. Безконечные ленты репья вдоль дороги, а ведь здесь надо цвести шиповнику. Сажавший деревья знает тот счастливый момент, когда ты утаптываешь землю вокруг стволика, а твой сын принес воды. Вот и привязали дерево к палочке, полили воды, вроде все, а уходить не хочется: какая у этой крошки долгая, тяжелая жизнь. Но разве не ее листья будут лепетать под легким ветерком невнятные для нас, но понятные природе слова благодарности нам, уже ушедшим в землю.
Не спасешься, пока не будешь спасать то, что тебе доверено. Вот тот клочок земли, который тебе доверен, - спаси его. Твой сад, твой огород, ведь ты даже зимой постоянно о нем думаешь. А не ты один о нем помнишь, вот скворцы, ласточки, они сейчас в Африке, но они скоро вернутся. Снег ложится на землю, но и он растает, уйдет к корням, напоит их. И солнце обогреет, и дождь придет в свое время, и сколько благодати, и все от Бога, и все из земли, и все в землю.
ДЕТИ ПИШУТ ДИКТАНТ
Даже у пятилетнего ребенка уже есть его прошлое. В нем и открытие мира, и стремление жить дальше. Есть прошлое и у любой семьи. В нем память о живших прежде предках, оставивших после себя накопленное: дом, вещи, книги, земельный участок, а главное - память о том, какими они были. И кому дети, вырастая, будут подражать. Как яблочки яблоне.
И есть история приходской жизни. Какие батюшки служили в нашем храме, как закрывали и разрушали храм, как его потом восстанавливали.
И уж тем более есть великая история своего народа, Отечества. Она не что-то отвлеченное, это конкретная история происшедших в стране событий. И составляется она из историй жизни отдельных людей и их семей. И жизни села, поселка, городка, города.
Ощущение того, что ты принадлежишь к истории Отечества, - одно из главных в понимании того, что ты его гражданин. И что другого у тебя не будет. У нас нет запасной родины.
Прошлое уже прошло, будущее еще не наступило. Мы живем в летящей из прошлого в будущее точке времени, мы как бы на вершине, с которой видно уже пройденное и с которой мы вглядываемся в будущее.
О, нам есть чем гордиться! Великой Россией, много раз спасавшей мир и Христа в этом мире. Какие тяжелейшие и блистательные века прожила Россия, какие образцы человеческих подвигов, какие свершения творческого ума и научной мысли дала она миру! Какие несгибаемые чудо-богатыри защищали ее! Нам есть у кого учиться, нам есть ради чего жить.
Вспоминаем дни древние, говорит Священное Писание, и подражаем им. Уроки жизненного поведения, когда мы понимаем, что надо поступать так, а вот так не надо, дает каждая эпоха. И надо выучить эти уроки, надо знать все эпохи. Иначе жизнь обречена на безполезное, фактически животное, состояние. Есть, пить, спать могут все млекопитающие, но только человеку дана безсмертная душа, разум, рассудок. Не ради же еды и удовольствий мы существуем. Мы же один-единственный раз живем, и живем неповторимо. Ни один прошедший час, минуту, день заново не переживешь.
И это чудо, что ты пришел в этот мир. И ты - самый любимый у Господа. И Господь любит тебя. И как же не отблагодарить Его за радость видеть этот прекрасный подсолнечный мир. Чем отблагодарить? Своими добрыми делами и поступками.
И как душеполезно и отрадно знать историю Родины, Державы, Отечества, любимой России! Людей, события, обычаи, костюмы, кухню. Знать русскую литературу, живопись, музыку. Ведь все они лучшие в мире. Почему? Потому что выращены православием. Другого ответа нет. Душа у мира славянская, а душа безсмертна.
ТАМ, ВНИЗУ...
.. .узкого и мокрого оврага гнули дуги и полозья для саней. Свершалось большое дело: дерево, обтесанное под нужный профиль, сгибалось, чтобы застыть в изгибе.
Заготовки, продолговатые дубовые плашки, распаривали в камере над котлом до потемнения. Они были так горячи, что к гибочному станку их торопливо несли в рукавицах. Один конец закрепляли в станке, другой привязывали к валу. Мужики наваливались на ворот и медленно ходили по кругу, каждый раз нагибаясь под канат.
«Хорош!» - кричал главный. Он скреплял концы лыком. Намертво согнутые дугу или полоз оттаскивали в сторону.
Некоторые заготовки не выдерживали, трескались. Их не выбрасывали. Их бросали в топку под котел.
ЗАТО ВЕСНОЙ.
День пасмурный, долго тянется. После обеда идет снег. Он вперемешку с дождем, снежинки темные.
- Через месяц после первого снега начинается зима, - говорю я пришедшей с улицы женщине. Пальто мокрое, и дорогой мех на узком воротнике некрасивый. - Но это среднегодовое, многогодовое, нынче может и не сойтись.
- И не плакала, - говорит женщина, - а ресницы потекли.
- Если через месяц начнется зима, то поверим в наблюдательность предков.
- Господи, - говорит она, быстро поправляя прическу, - о чем ты думаешь? - И, наладив красоту, садится к столу и говорит, что пасмурно, что в такую погоду что ни надень, все убивается, - А ты еще говоришь, что зеленое - цвет надежды. В такой день ничем не спасешься.
- Зеленое не по цвету, а по смыслу: дождаться первой зелени означало выжить.
- Да, вот что! - спохватывается она. - Все забываю. Дай мне Монтеня.
- Обязательно Монтень? Возьми «Летописца». Мне кажется, наши летописи заполнялись осенью. Так же мрачнело и снег таял. В летописях...
- Ой, не надо. Не лепо ли бяшеть! Аще кому хотяше! Монтень хоть переведен, а это когда еще соберутся.
- Возьми «Назиратель». Он переведен с латыни на древнепольский, оттуда к нам. Узнаешь, как ставить дом, лечить заразу, сажать овощи...
- Ах, - говорит женщина, смеясь и трогая щеки сухой чистой ватой, -«извозчики-то на что»?
Отходит к окну, смотрит вверх, вытирает стекло.
- Ослепнешь, - говорит она. Снова долго смотрит, поворачивается: -Да, да. Раньше или позже, но каждый год приходил первый снег. Мальчишки радовались, а матери боялись, чтоб дети не простыли.
- Босиком бегали, а крепче были, - говорю я и злюсь неизвестно на кого. - Смотри, сейчас одеты, обуты прекрасно, а без конца болеют, совсем хилый народ...
- Все-то ты знаешь, - иронически замечает женщина. - Скажешь, сидели на печке, одни лапти на всех...
- Зато весной...
- Да, весной. Весной, да. Им снова радость.
Мех на воротнике высох и потрескивает, когда она проводит по нему ладонью.
На окне как будто легкие кружевные занавески.
Снег все гуще.
К вечеру светлеет.
* * *
...и оказывается, что эта томность, это изображение разочарованности, весь набор интеллигентного кокетства - все это оказывается обыкновенной человеческой усталостью.
- Никаких нервов не хватает, - говорит она и виновато улыбается.
И я вижу - не врет: замотана до последней степени. А минуту назад думал: игра.
- К вечеру я буквально труп, - говорит она.
Я беру ее на руки и несу в спальную комнату. Пока иду коридорами, она засыпает, и тело ее, тяжело обвисшее, становится легким.
В детской, около окна, стоит девочка и смотрит вниз, на белое дно двора. Девочка слышала наш разговор. Спрашивает:
- «Слово о полку Игореве» - первая русская книга. А какая будет последняя русская книга? Слово о другом полку?
Ночью я выхожу на балкон и не могу понять, исчезает луна или зарождается. То ли туман, то ли такой насыщенный воздух.
Тепло. Снег тает.
Не пора ли нам, братия, начать старыми словесами новую повесть?..
КУЧА-МАЛА
- КУЧА МАЛА! - так кричали мы в детстве, затевая битву стенка на стенку. Налетали, сшибали друг друга с ног, сами валились. Кто был внизу, старался вырваться, вынырнуть и оказаться наверху. Кричал: «Я -главный!» Так и моя бумажная куча: какая бумажка оказывается сверху, та и, на время, главная.
У МЕНЯ БЫВАЛО: советовали редактора взяться за так называемую проходную тему или просто переделать что-то уже написанное, «сгладить углы», «спрятать концы», для моей же пользы советовали: книга выйдет, все какая копейка на молочишко. Нищета же одолевала. Я даже и пытался переделывать написанное. Но Бог спасал - не шло. «Не могу, не получается, - говорил я, - лучше не печатайте». То есть бывало во мне малодушие - известности хотелось, благополучия, но, повторяю, Господь хранил от угождения духу века сего.
ТУНИС, ПОСОЛЬСТВО, пресс-конференция. Мы с Распутиным отвечаем на вопросы. Приходит записка: «Будьте осторожнее в высказываниях - в зале враждебные СМИ». Но что такого мы можем сказать? Какие секреты мы знаем? Скорее всего, чекисты посольства опасаются за свое место. Значит, есть что-то такое, что может повредить Советскому Союзу? Ничего не понятно.
«Нас объединяет культура, она независима от политики, систем устройства государств, есть единое общемировое движение человеческой мысли», - это один из нас. Другой: «Разделение в мире одно: за Христа или против Него».
Встреча долгая. Долгий потом ужин. Один из советников, подходя с бокалом: «О культуре очень хорошо, но о разделении немного неосторожно». - «А разве не так?» - «Так-то так. Но, может быть, рановато об этом?»
КАРФАГЕН
И было-то это совсем недавно. Тунис. Ездили в Бизерту, видели умирающие русские корабли. И, конечно, в Карфаген. Услышать голос римского сенатора Катона: «Карфаген должен быть разрушен».
Остатки амфитеатра. Осень. Мальчишки вдалеке играют в футбол. Раздеваюсь и долго забредаю в Средиземное море. Даже и заплываю. Возвращаюсь - надо же - полон берег веселых мальчишек. Аплодируют смелому дедушке. Под ногами множество плоских камешков - «блинчиков». Вода спокойна, очень пригодная для их «выпекания». Бросаю - семь касаний. Кружочки аккуратно расходятся по воде. Еще! Десять. У мальчишек полный восторг. Неужели так не играют? Во мне просыпается педагогическое образование. Учу подбирать камешки. Выстраиваю мальчишек. Их человек двадцать. Бросаем. Вначале для практики, потом соревнование. Вскоре выявляются лидеры. Вот их уже пятеро, трое. И наконец два последних. У одного получается пять «блинчиков». Объявляю его победителем и - что-то же надо подарить - дарю кепочку с эмблемой Фонда святого апостола Андрея Первозванного. Благодарные мальчишки дарят мне... футбольный мяч. Передариваю его самому маленькому, у которого пока не получилось бросать камешек по глади воды. Ну не все сразу, научится.
Около монастыря Преподобного Герасима Иорданского возрождается античность, строится амфитеатр Александра Македонского.
НИЧЕГО НЕ НАДО выдумывать. Да и что нам, русским, выдумывать, когда жизнь русская сама по себе настолько необыкновенна, что хотя бы ее-то успеть постичь. Она - единственная в мире такого размаха: от приземленности до занебесных высот. Все всегда не понимали нас и то воспитывали, то завоевывали, то отступались, то вновь нападали. Злоба к нам какая-то звериная, необъяснимая, - это, конечно, от безбожия, от непонимания роли России в мире. А ее роль - одухотворить материальный мир.
А как это поймет материальный мир, те же англичане? Да никак. Но верим, что Господь вразумит.
«Русская народная линия» провела очень нужный обмен мнениями ученых, богословов, просто заинтересованных, о мировоззренческих различиях меж Россией и Западом. Вывод один: эти различия преодолимы при одном условии - Запад должен вернуться в лоно православия, заново обрести Христа. Это единственное условие. Иначе он погибнет, и уже погибает. Остается от него только материальное видимое, да плюс ублажение плоти, да плюс великое самомнение. А вечное невидимое отошло от него.
ВИНОВАТ И КАЮСЬ, что не смог так, как бы следовало, написать об отце и матери. Писал, но не поднялся до высоты понимания их подвига, полной их заслуги в том, что чего-то достиг. Ведь писатели-то они, а не я, я - записчик только, обработчик их рассказов, аранжировщик, так сказать.
И много в завалах моих бумаг об отце и матери. И уже, чувствую, не написать мне огромную им благодарность, чего-то завершенного, так хотя бы сохранить хоть что-то.
Читаю торопливые записи, каракули - все же ушло: говор, жизненные ситуации, измерение поступков. Другие люди. «До чего дожили, - говорила мама, страдавшая особенно за молодежь, - раньше стыд знали, а сейчас что дурно, то и потешно». - «Да, - подхватывал отец, - чего еще ждать, когда юбки короче некуда, до самой развилки. Сел на остановке на скамье, рядом она - хлоп, и ноги все голые. У меня в руках газета была, я ей на колени кинул: на, хоть прикройся. Она так заорала, будто режут ее. И знаешь, мамочка, никто, никто меня не поддержал».
РАССКАЗ МАМЫ
Запишу рассказ мамы о предпоследнем земном дне отца.
- Он уже долго лежал, весь выболелся. Я же вижу: прижимает его, но он всю жизнь никогда не жаловался. Спрашиваю: «Коля, как ты?» Он: «Мамочка, все нормально». - А отойду на кухню, слышу -тихонько стонет. Весь высох. Подхожу накануне, вдруг вижу, он как-то не так глядит. - «Что, Коля, что?» А он спрашивает: «А почему ты платье переодела? Такое платье красивое». - «Какое платье, я с утра в халате». - «Нет, мать, ты была в белом, подошла от окна, говоришь: “Ну что, полегче тебе?” - “Да ничего, - говорю, - терпимо”. Говоришь: “Еще немного потерпи, скоро будет хорошо”. И как-то быстро ушла». Говорю: «Отец, может, тебе показалось?» - «Да как же показалось, я же с утра не спал».
Назавтра, под утро, он скончался. Был в комнате один. Так же, как потом и мама, спустя восемнадцать лет, тоже на рассвете, ушла от нас.
Великие люди - мои родители.
БОЮСЬ СИЛЬНО умных. Налетает: «Вам это надо знать! Записываете? Энергетические силовые линии идут векторно по России. Это сакрально и мистически раздвигает информационное поле нашего влияния, которое заполнено другими. А ждут нас. Это понятно?» - «Еще бы», - торопливо соглашаюсь я. Он доволен: «Да, так. Подключайтесь. Мы не за баксовое, а за нравственное благополучие».
МАТУШКА: «ЖИЛА, мать очень суровая была, по голове не погладила, парней больше любила. Раз я, еще девчонкой, корову подоила, хлев забыла закрыть, а корова уже копытом в ведре с молоком стоит. Мне влетело».
ЭПИГРАФЫ: «Нет в жизни счастья» (наколка на груди). «Отец, ты спишь, а я страдаю» (надпись на могильном памятнике). «Без слов (слез), но от души» (отрывок из дарственной надписи). «Спи, мой милый, не ворочайся» (из причитания жены над гробом мужа).
ИГРАЛИ В «ДОМИК». Детство. И прятки, и ляпки, и догонялки, всякие игры были. До игры чертили на земле кружки - домики. И вот -тебя догоняют, уже вот-вот осалят, а ты прыгаешь в свой кружок и кричишь: «А я в домике!» И это «я в домике» защищало от напасти. Да, домик, как мечта о своем будущем домике, как об основе жизни. Идем с дочкой с занятий. Она вся измученная, еле тащится. Приходим домой, она прыгает. «Катечка, ты же хотела сразу спать». - «А дома прибавляются домашние силы».
И лошадь к дому быстрее бежит. И дома родные стены помогают.
МЕДИЦИНСКИЕ ВИРШИ: «На горе стоит больница, там приемная. Приходи ко мне лечиться: ночка темная». Или: «Врач назначил мне прием, я разделася при ем».
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ изобрели аппарат, который работает на доверии. Чем больше ему доверяешь, тем он лучше работает. Но приемная комиссия такому изобретению не поверила. Вот и все.
СТЫДНО ПЕРЕД детьми и внуками: им не видать такого детства, какое было у меня. Счастливейшее! Как? А крапиву ели, лебеду? А лапти? И что? Но двери не закрывали в домах, замков не помню. Какая любовь друг к другу, какие счастливые труды в поле, огороде, на сенокосе. Какие родники! Из реки пили воду в любом месте. А какая школа! Кружки, школьный театр, соревнования. Какая любовь к Отечеству! «Наша Родина - самая светлая, наша Родина - самая сильная».
ОТЧЕГО БЫ НЕ НАЧАТЬ с того, чем заканчивал Толстой, - с его убеждений? Они ведь уже у старика, то есть вроде бы как бы у мудреца. А если он дикость говорит, свою религию сочиняет, то что? Чужих умов в литературе не займешь. И не помогут тебе они ни жить, ни писать, ни поступать по их. На плечи тому же Толстому не влезешь, да и нехорошо мучить старика. Это в науке, да, там плечи предшественников держат, оттого наука быстра, но литература не такая. Наука - столб, литература - поле, где просторно всем: и злакам и сорнякам. Ссориться в литературе могут только шавки, таланты рады друг другу. Не рады? Так какие же это таланты?
ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ
Нет, сколько ни говори, что искусство - это одно, а жизнь - другое, безполезно. Все-таки в искусстве есть магия, в этом искусе, в искусственности, что тянет сильнее, чем жизнь. Приезжает с гастролями какой-нибудь актеришка, пустышка душой, глупый до того, что говорит только отрывками из ролей, еще и бабник; приехал - и что? И все девочки его. Известен, вот в чем штука. Играл героев, говорил правильные слова, лицо мелькало, запомнилось. Сам подлец подлецом, приехал баранов стричь, ему надо «бабок срубить», заработать на шубу для очередной жены, которая, как и предшествующие, оказалась стервой.
Прямо беда. И ничего не докажешь, никого не вразумишь. Дурочки завидуют актрисам, топ-моделям, даже и проституткам (еще бы - интервью дает, в валюте купается), и что делать? Говоришь девушкам: да, хороша прима-балерина, а за ней, посмотрите, десятки, сотни девушек-балерин в массовке, которые часто не хуже примы, но - вот - не вышли в примы, так и состарятся, измочалят здоровье в непосильных нагрузках, оставят сцене лучшие годы и канут в безвестность. Да и прима не вечна, и ее вымоет новая прима, другая. А эту другую выхватит худрук из массовки. Все же они что-то могут, все прошли балетные классы. В балете, правда, худрук чаще любит не балерину, а другого худрука.
Сколько я ездил, сколько слушал самодеятельных певцов, видел танцоров, народные танцы, и они гораздо сильнее тех, которых навязывают нам на телеэкране. Кого воспитали в любви к Родине Пугачева, Киркоров? Очень патриотические песни у Резника?
Хрипеть, визжать, выть, верещать, свистеть, дергаться, прыгать - это тоже искусство.
Ой, неохота об этом.
КОНСЬЕРЖКА ИЛИ ДЕЖУРНАЯ?
Как я могу доверять французским романам, если в них нигде не встретишь фразы: «Консьержка была явно с тяжкого похмелья»?
А ее русская сестра, дежурная по подъезду, бывала. Был я знаком и с другой дежурной, которая ходила в церковь и знала, что в воскресенье нельзя работать. Она и не работала. Мало того, закрывала двери лифта на висячий замок, приговаривая: «Не ходите в церковь - ходите пешком». Она этим явно не увеличивала число прихожан, но упрямо считала свои действия верными. Была бы она консьержкой, ее бы уволили, но так как она была дежурной по подъезду, а пойти на ее место, на ее зарплату желающих не было, то она продолжала пребывать в своем звании. Как и первая, которая, опять же в отличие от консьержки, в частом бываньи (по выражении мамы) добиралась утром до работы, испытывая синдром похмелья.
То есть одно из двух: или русские романы гораздо правдивее французских, или консьержки закодированы от выпивки.
ЖЕНЩИНА, оглядываясь на идущих за нею мужа и сына: «Не распыляйтесь», то есть: не отставайте.
Похоже, как в больнице врач пришедшим посетителям громко: «Не тромбируйте коридоры».
ПОЗАВЧЕРА ПАВЕЛ Фивейский, сегодня Антоний Великий, завтра Кирилл и Афанасий Александрийские. Будем молиться! Есть нам за что благодарить Бога, есть нам в чем пред Ним каяться, есть о чем просить. Надо омыть Россию светлыми слезами смирения и покаяния, иначе умоемся кровью.
ИСКАТЬ НА ЗЕМЛЕ то ценное, что будет ценно и на небе. (Прочитал или услышал.)
КОШКА ВО СНЕ - к недругу. Собака - к другу. Лошадь - ко лжи. Смешно все это. Ко лжи от того, что ложь - лошадь? А по-немецки -«пферд». Где тут ложь? Исчезнет все «яко соние восстающего», то есть просыпающегося. Лучшие сны - это река, берег, прохлада.
И ЧТО НАМ за указ международное право. Оно уже одобряет педерастов, - и ему подчиняться? Свобода ювенальной юстиции и содомии? Нет, это окончательно последние времена. Дожили. Именно в наше время, время прозрения. Так нам и надо.
ИДЕОЛОГИЯ, КОНЕЧНО, всегда есть, как какая-либо идея. И если она предтеча веры в Бога, то и хорошо. Но как идея вообще безплодна. Вот идея, чем плоха: народ настолько верит государю, насколько государь верит в Бога. А идеология марксизма-ленинизма - это зараза мертвечиной, противление Христу.
ЗНАКОМ БЫЛ со старушкой, которая в 1916 году в приюте читала императору Николаю молитву «Отче наш» по-мордовски. Она была мордовкой. Потом стала женой великого художника Павла Корина. Привел нас с Распутиным в его мастерскую Солоухин. Конечно, созидаемое полотно не надо было называть ни «Реквием», как советовал Горький, ни «Русь уходящая», как называл Корин, а просто «Русь». Такая мощь в лицах, такая молитвенность.
ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ на свадьбе в Керчи. Немного запомнил:
Бывайте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
Насколько позволит вам ваша зарплата:
На тещу, на брата, на тестя, на свата.
А если муж будет у вас не разиня,
Получите ордены «Мать-героиня».
Окружат гурьбой вас дочурки с сынками,
А как прокормить их, подумайте сами.
ВООБЩЕ ПЕРЕДЕЛКИ общеизвестных песен, выражений были повсеместны, это было и творчество, и неприятие казенщины. Тут хорошая песня «Бывайте здоровы, живите богато» не шаржируется, а расширяется. А вот, например, времен войны песню «Ты меня ждешь и у детской кроватки тайком ты слезу проливаешь» пели, бывало, и так: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь».
Или на мотив «Тучи над городом встали»: «Папка воюет на фронте - мамка смеется в тылу. Папка вернется, к мамке приедет, я ему все расскажу».
ЧЕГО ЕЩЕ нам не хватило и не хватает? Войны, конфликты, истребление лесов, отравление воды - это же все от нас самих. Поневоле оправдаешь и возблагодаришь Господа за вразумления - наводнения, землетрясения, огненные очищения.
ОТЕЦ ДИМИТРИЙ ДУДКО всерьез уговаривал нас - Распутина, Бородина, меня принять священнический сан. «Ваши знания о жизни, о человеческой душе раздвинутся и помогут вам в писательском деле». Мы вежливо улыбались, совершенно не представляя, как это может быть. А вот писатель Ярослав Шипов смог, и стал священником, и пишет хорошо. Когда я преподавал древнерусскую литературу в Академии живописи, ваяния и зодчества, то просил кафедру искусствоведения пригласить его для преподавания Закона Божия. Пригласили. Но ректор донимал его вопросом: «Почему же надо подставлять правую щеку, когда уже ударили по левой? Ну нет, я не подставлю!»
- СКАЖИ НАШИМ: мы пашем.
- ЗА МОДОЙ не гонись, была б задница не голая. Тут же: нашему подлецу все к лицу.
- РАСТРЕПАЛА ДУНЯ косы, а за нею все матросы. Так же говорили. А нынче чего? Дуне той хоть было чего растрепывать. И небось в юбке была. А нынешние? Или подола совсем нет, или штаны в такую обтяжку, что срамотища. Я бы парней нынешних за то, что на девок набрасываются, не судил. Девки такие - это же собаки, сучки, кобелей подманивают. Вот и получай, сама же подманивала.
СТАРИКИ СИДЯТ. Один торопится. «Сиди, теперь чего тебе не сидеть: старуха не убежит». - «Дак ужин-то без меня съест. Такая ли стала прожора. Со зла на меня ест» - «А с чего злая?» - «Дак все никак не помру».
- О, У НЕГО эрудиция была трехэтажная.
- Мат у него был трехэтажный. Из матери в мать, да из души в душу, прости Господи. Чего вот он теперь? Там-то не поматеришься, язык сгнил.
- ЛЕТ-ТО МНЕ сколько было - копейки! Конечно, обманул. «Женюсь, женюсь». Женился, да на другой. А мне: «Нельзя быть такой доверчивой». Вот и вся тут лайф стори.
«НА ХРЕН НИЩИХ, сам в лаптищах». Нищие играли в карты «на деревню, на куски». Проигравший обходил деревню и все поданные куски отдавал выигравшему.
РЕБЕНОК НАУЧИТ быть матерью. Такая пословица. Отнесем ее к рождению идеи. Родилась идея, и воспитает, и вытянет. И сама родит. Да, если ее оплодотворить. Оплодотворяется мысль. Чем? Духом.
ВЗВИНЧЕННЫЙ, ВЗДУТЫЙ авторитет Сахарова. Это ненадолго. Конечно, другого вырастят. Боннеры-то на что. А откуда боннеры, новодворские, алексеевы, Ковалевы? Из инкубатора ненависти к России. Но инкубатор - это нечто искусственное, а оно не вечно. Перестанет сатана его подпитывать, тут ему и кирдык.
ЕВРЕЙ И СУББОТА. Кошелек. Брать нельзя: суббота. Четверг вокруг кошелька в субботу.
ПРИШЛО ПО СМС: «Тонкий месяц, снег идет. Купола с крестами. Так и чудится: вот-вот понесутся сани. Ждешь и веришь в волшебство, кажется все новым. Так бывает в Рождество. С Рождеством Христовым!» И: «Струится синий свет в окно, весь серебрится ельник. Все ожиданием полно в Рождественский сочельник. Встает звезда из-за лесов, а сердце так и бьется. Осталось несколько часов, и Рождество начнется».
ПРИНИМАЛ НА РАБОТУ по трем параметрам: может работать, хочет работать, не обманет. И еще - обязательно - кто жена, какая.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ: вода чистая, но мертвая.
НАЩУПЫВАЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, пробуя начала: «Усталый взгляд вождя на племя....... «И тебе же с тобой изменяя...» ... «И глядя в
усталую душу снегов.» ... «Знал, что будет отчаянье, но что это -любовь.» ... «Как мир размыть потоком мотыльков?» ... «На паперти вселенского лекала.» - Ему: «Друг Аркадий, не говори красиво!» -Поэт: «О, не поймите меня правильно». - А ты: «О, закрой свои бледные вирши».
ВОЕВАЛИ ВРАГ с врагом, воевали друг с другом, воевали со своим народом. Надо последнюю войну: каждого со своим несовершенством. Победа или смерть перед смертью.
СОБОЮ ВСЕГДА был доволен, своим положением - никогда.
ТЕХ, КТО УСТРАИВАЛСЯ по блату, по звонку «сверху», так и называли «блатники», «позвоночники». Конечно, семейственность («как не порадеть родному человечку») была и будет. Отец очень смешно истолковывал слово «протеже»: «Это протяже, своих протягивают».
Но вот есть искусство, в котором семейственность очень предпочтительна. Это цирк. Жена Георгия Владимова, Наталья Кузнецова, дочь репрессированного директора Госцирка, несколько раз водила нас в цирк, ходили с дочкой за кулисы. Даже я летал в Сочи в 72-м к Георгию Николаевичу, возил ему верстку «Большой руды», там тоже был в гостинице актеров цирка. То есть знал немного циркачей, был даже на свадьбе карликов. Там как раз задумал рассказ «Пока не догорят высокие свечи». Также написал стихотворение, из которого не стыдно за строки: «Попробуй по блату пройти по канату, вот тут-то семья и заметит утрату».
В ТОКИО у машин левостороннее движение, у пешеходов правое. Как понять этих японцев? Японцы думают: ну и варвары эти русские.
ВАЛЯ: «УВИДЕТЬ небритого японца - все равно что увидеть плачущего большевика. Или в нечищеных ботинках».
ДЕРЕВЬЯ ПО ПОЛГОДА в снегу, в холоде, а живы. Реки подо льдом очищаются. Так и мы: замерзнем - оттаем. Как говорили, утешая в несчастьях: зима не лето, пройдет и это.
ХУДОЖНИК: «Нам сказать есть чего, а не можем, а журналистам сказать нечего, а только они и болтают».
В ЯПОНИИ память о Хиросиме - государственная политика, у нас забвение Чернобыля - тоже государственная политика.
ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ на себя, сокращает жизнь, потраченное на других - ее продлевает.
«ИЗ-ЗА ОСТРОВА на стрежень», новый вариант песни. Уже поют не «Позади их слышен ропот: нас на бабу променял», а «Позади их слышен рэкет: нас на баксы променял». Такая милая хохмочка.
«МНЕ СКАЗАЛИ: Боря умер, я и не поверила: неужели в гроб засунут этакого мерина?»
«На свидание хожу к мужику Фаддею. Учит пить одеколон, я сижу, балдею».
«Видишь, какая стала худая. Вся истенетилась».
«Лучше тесно, чем пусто».
«Наука - блуд ума».
ВСЕГДА ОСУЖДАЛИСЬ пустосмешники. Звали: зубомойка, омма-лызга (от ухмыляться). Вообще показывать зубы значит угрожать. Смех -оружие против ума. Юмор ослабляет защитные свойства души. «Зубы грешников сокрушит», чтоб не смеялись. Конечно, лучше, когда «сеющие слезами радостию пожнут». А всероссийская ржачка над натужным юмором хохмачей КВН - что это? Ума это явно не прибавляет, а силы душевные и нервные утягиваются в черный квадрат экрана.
С УТРА ПОРАНЬШЕ
Встанешь пораньше - подальше шагнешь. Кто раньше встает, тому Бог подает. И других таких пословиц о пользе раннего вставания много. А моя эта привычка вставать рано в самом прямом смысле спасала всю жизнь.
Вот Москва. Вот московская интеллигенция, которая оживает только к вечеру и звонит друг другу до поздней ночи. А потом кто спит, кто дрыхнет, кто и звонить продолжает.
И я никак не мог войти в такой ритм жизни. Не от чего-либо - от того, что уже часам к десяти-одиннадцати вечера ничего не соображал. То есть соображал, но не настолько, чтоб вести умные обсуждения имеющих быть на это время событий. Так честно и говорил: «Простите, но я сейчас ничего не соображаю. (Некоторые могли думать, что я выпивши.) Позвоните утром». - «А когда утром?» - «Часов в шесть-семь». Так вот, сообщаю: никто и никогда мне утром часов в шесть-семь не позвонил. И получается, что московская интеллигенция - этот сплошь ночные совы, а я - залетевший в столицу вятский жаворонок.
И в природе (ранняя роса к вёдру, ранняя весна - много воды, ранняя птичка носик чистит, то есть уже покушала, а поздняя глазки продирает, утренники побили ранники, то есть весенние заморозки сгубили всходы ранних овощей, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...) и в жизни (раннего гостя не бойся, он до обеда, рано татарам на Русь идти; на работу рано, а в кабак самая пора; работать поздно, спать рано, а в кабак самое время; молодому жениться рано, а старому поздно; богатые раньше нашего встали, да все и расхватали; не то беда, что рано родила, а та беда, что поздно обвенчалась; всем т а м быть, кому раньше, кому позже; такая рань - и петухи не пели.) все в защиту рани-ранней.
Когда в детстве я или кто из братьев долго спали, мама шутила: «Проспали все Царствие Небесное», а отец выражался проще и доходчивей: «Девки-то уж все ворота обмочили».
Интересно, что тот, кто просыпался позднее, вставал и продирал глаза гораздо дольше, чем тот, кто вскакивал раньше. То есть, говоря опять же вслед за мамой, не растягивался. Хотя потянуться до хруста в суставах было очень полезно. Маленьких деточек-ползунков будили, поглаживая по спинке и животику: потянунюшки-поростунюшки. Не-залежливых Бог любит.
Может, в слове «радость» напоминание о славянском божестве солнца, боге Ра. В данном случае и его можно вспомнить.
АПОСТОЛ ПАВЕЛ молитвой сокрушил храм Артемиды Эфесской, которая славилась возгласом: «Велика Артемида Эфесская!» Велика-то велика, а не устояла. И кто первым возмутился действием апостола? Против него поднял возмущение медник, который производил статуэтки Артемиды. Перестали их у него покупать. То есть ему не святость была важна, доходы, на деньги мерил богиню. А она обезценилась. Кто будет покупать изображение божества, храм которого обрушился по молитвам христианина? Так бы и нам: помолиться, чтобы бесы телевидения провалились к своим хозяевам. Нет, сил не хватает на такую молитву. А возмущаемся. Тогда другой пример, тоже из предания. Один человек проходил мимо идолов и поворачивался к ним спиной. И однажды услышал грохот. Идолы не выдержали такого пренебрежения и рухнули. Давайте и мы показывать спину идолам нашего времени. Вообще понемножку уже получается. Где теперь немцовы, ковалевы, алексеевы, гайдары, макаревичи, хакамады, касьяновы - где? Уже съеживаются жваноиды эстрады, чахнет и российская примадонна и навсегда поблекла зарубежная. Не сразу, не вдруг, трудно выковыриваются из сознания: зубами держатся за известность, за деньги, за влияние на умы. Свои зубы износились, вставили искусственные, ими уже вцепились, но все равно. Сказано же: «Звезды меркнут и гаснут», день наступает.
РЕЧИ ГОВОРИЛИ - птицы возмущенно кричали, когда начался молебен - замолчали.
ЧЕРНЫЕ ПЕСКИ САНТОРИНИ
О, черные пески Санторини! Допотопный остров вулканического происхождения. Однажды поднялся со дна. К нему мы и не причалили даже, встали на рейде. На сушу переехали на «тузике», так называются портовые кораблики для буксировки больших кораблей и для перевозки пассажиров.
На Санторини все крохотно: музейчик, улочки, площадочка в центре, даже торговцы сувенирами и зеленью кажутся маленькими. Заранее нам было объявлено, что после музея повезут на какой-то очень престижный пляж. И заранее я решил, что на пляж не поеду. Не от чего-либо, от того, что сегодня был день моего рождения. Мне очень хотелось быть в этот день одному. Такой случай - Средиземноморье, голубые небеса и догнавшая меня в этот день очень серьезная дата. Конечно, я никому не сказал о дне рождения. Это ж не день ангела.
Со мною был сын, он отправился со всеми. Я перекрестил его, он меня, автобус уехал. Уехал, а я осознал, что уехала и моя сумка, в которой было все: документы, деньги, телефон, пакет с едой, выданный на теплоходе. То есть я стоял на площади, как одинокий русский человек без места жительства и без средств к существованию. Не завтракавший (торопился на берег) и не имеющий надежды на обед, а ужин (тоже объявили) заказан на семь вечера в ресторане Санторини. А было еще утро.
Но была радость от того, что я сейчас один-одинешенек, а вокруг такая красота, такие светло-серые в пятнах зелени горы, такое цветенье деревьев и кустарников и - особенно - такое море! Как описать? Залив изумрудного цвета, гладкий как стекло, в который была впаяна красавица «Мария Ермолова» - наш теплоход.
Вино сантуринское поставляли ко дворам императорских и королевских величеств многих европейских стран. Оно и в литературу вошло. Зачем я, со своими нищими карманами, сантуринское вспомнил, когда на газировку нет? Хотя... я на всякий случай прошарил карманы. Ангел-хранитель со мной! Набралось на бутылочку воды. И вот она в руках, и вот я иду все вниз и вниз.
Море казалось недалеко. Быстро кончилась улица, выведшая к садам и огородам. Пошел напрямую. Изгородей меж участками не было, хотя видно было, что тут владения разных хозяев. Где-то посадки были ровными, чистыми, где-то заросшими. Фруктов и овощей было полным-полно, осень же. А если чем-то попользуюсь? Не убудет же у хозяев. Но виноград рвать боялся, конечно, обработан химикатами. Да и другое тоже как будешь есть, надо же вымыть. И не хотел ничего брать. Но потом, честно признаюсь, кое-что сорвал, положил в пакет.
Море казалось совсем рядом. А подошел к обрыву - Боже мой, еще надо целую долину пройти. А по ней асфальтовая дорога. Пошагал по ней. Долго шагал. Думал: ведь это же надо еще и обратно идти. Да и в гору.
Увидел издали белый глинобитный домик. Для сторожей? Оказалось, что это крохотная церковь. Так трогательно стояла среди цветов, арбузов, дынь, винограда. На дверях маленький, будто игрушечный, замочек. Заглянул в окошечко. Ясно, что в ней молились. Чистенько все, иконостасик. Горит перед ним лампадочка.
Наконец берег. Черный берег. Черный крупный песок. Кругом настолько ни души, что кажется странным. Почему? Такой пляж: вода чистая, видны песчинки, рыбки шевелятся, водоросли качают длинными косами.
Разделся и осторожно пошел в воду. Всегда в незнакомом месте опасения, боязнь колючек, морских ежей. Тем более тут, когда непонятна была глубина под ногами - чернота и на отмели и подальше. Потихоньку шагал, поплескал на лицо и грудь, и так стало хорошо, так тут все аккуратненько: крупный, податливый песок под подошвами, мягкая вода, не теплая, но и не совсем прохладная. Отлично! Я заплыл. Из воды оглянулся. Да, вот запомнить - белый город над синей водой под голубыми небесами. И черная черта, отделяющая море от суши.
Повернулся взглянуть на море. Показалось, что в нем что-то шевельнулось. Вдруг совершенно неосознанный страх охватил меня. Боже мой, как же я забыл: это же известнейшая история о Санторини, как на нем враги православия, франки, в годовщину памяти святителя Григория Паламы праздновали, по их мнению, победу над учением святителя. Набрали в лодки всякой еды, питья, насажали мальчиков для разврата и кричали: «Анафема Паламе, анафема!» Море было совершенно спокойным, но они сами вызвали на себя Божий гнев. А именно - кричали: «Если можешь, потопи нас!» И, читаем дальше: «Морская пучина зевнула и потопила лодки».
Вроде меня топить было не за что: святителя я очень уважал, изумляясь тому количеству его противостояний разным ересям, но было все ж-таки немножко не по себе. Вера у тебя слаба, сердито говорил я себе.
Вымыл фрукты в морской воде, устроил себе завтрак, переходящий в обед. Далее был обратный путь. Он был в гору. Но я никуда не торопился. Никуда! Не торопился! Вот в этом счастье жизни. Останавливался, смотрел на синюю слюду залива, на выступающие из воды острова, на наш теплоход. Легко угадал иллюминатор своей каюты.
Было не жарко, а как-то тепло и спокойно. Редчайшее состояние для радости измученного организма. Мог и посидеть и постоять. Никакие системы электронной слежки не могли знать, где я. Свободен и одинок под средиземноморским небом.
Махонькая церковь была открыта будто специально для меня. То есть пока я был у моря, кто-то приходил к ней и открыл. А у меня даже и никакой копеечки не было положить к алтарю. Долил в лампадочку масла из бутылочки, стоящей на подоконнике. Помолился за всех, кого вспомнил, за Россию особенно.
Вдруг осознал: времени-то уже далеко за полдень. И как оно вдруг так пронеслось? Целый день пролетел.
Пошел к месту встречи. Дождался своих спутников. Потом был ужин в ресторане над живописным склоном. А на нем сын подарил мне серебряное пасхальное яйцо. Не забыл о моем дне рождения.
Встречать бы дни рождения на островах Средиземноморья! О, если б на любимом Патмосе!
ПАТМОС! Уже я старик, а как мечтал пожить хоть немножко зимой или осенью на Патмосе, сидеть в кафе у моря, что-то записывать, что-то зачеркивать, вечером глядеть в сторону милого севера, подниматься с утра к пещере Апокалипсиса и быть в ней. Когда не сезон, в ней почти никого. Прикладываешь ухо к тому месту, откуда исходили Божественные глаголы, и кажется даже, будто что-то слышишь. Что? Все же сказано до нас и за нас, что тебе еще?
ВЗЛЕТЕЛИ НАД СВЯТОЙ ЗЕМЛЕЙ. Облака редкие, над морем стоят над своей тенью. И будто и самолет замер. Нет, летим. Оглянулся назад - одно море, Боже мой, где ты, Святая Земля? Сердце бьется, говорит: «Здесь она, здесь!» Всю, что ли, забрал?
СТОИТ ТОЛЬКО вечером лечь в постель и закрыть глаза, как сразу - просторы Святой Земли, тропинки Фавора, Сорокадневной горы, Елеона, побережье Тивериадского (Генисаретского, Галилейского) озера, улочки Вифлеема, козочки Хеврона, подъем к пещере Лазаря Четверодневного в Вифании, зелень и цветение Горненского монастыря, торговые ряды в сумерках Акко, пещера Ильи-пророка на Кармиле в Хайфе, сады Тавифы и гробница Георгия Победоносца в Яффе... И так идешь, идешь по памяти, так наплывает: Иордан, Мертвое море... смещаешься вниз к Красному (Чермному) морю, там Шарм-эль-Шейх, разноцветные рыбы, утонувшие колесницы войск фараона. Синай! Ночное всегда восхождение. И при полной луне («В лунном сияньи Синай серебрится, араб на верблюде ограбить нас мчится..»), и при полной темноте с фонариками, когда и далеко впереди, вверху и позади, внизу, ленточки огней.
Или, обязательно тоже, Кильмезь. Великий Сибирский тракт, на котором она поставлена и стоит сотни лет. И все еще живые в памяти екатерининские березы. Свой дом. Из которого увезли в армию в 60-м и который сгорел в 2011-м, то есть перешагнувший за столетие, и теперешний, новый, в котором в прошлом году жил всего-навсего пять дней. Пять из триста шестидесяти пяти. Вот и остается, как милость, память предсонных воспоминаний. Тополя, сирени перед домами, мальвы в палисадниках. И, конечно, река, река, река. И луга в полном цветении разгара лета.
И ничего бы мне не надо, как только ходить по ним да дышать напоследок воздухом родины. А вот дышу бензиновым перегаром центра столицы. Но что делать? Разве бросишь борьбу за звание лучшего зятя Российской Федерации? Вот она, дорогая 97-летняя героическая теща, сидит рядышком. «А ночь какая темная, да?» - «Да». И это за десять минут десятый раз. Но мне все же легче, чем Наде. Наде за вечер раз пятьдесят: «Чем тебе помочь?» Послал Господь нам на старости лет возможность вырабатывать терпение.
ЗВОНАРЬ САША (надевая перчатки):
- Ко мне сюда и батюшки ходят. Поднимаются: «Саша, полечи-ко». Становятся под колокол. Я раскачаю, раскачаю - ж-жах! От блуждания в мыслях лечит. Мозги чистит (Надевает наушники.) Будет громко. (Ударил.)
Да, впечатляет. Всего звоном протряхивает. Но не глохнешь. Освежает.
АРИСТОТЕЛЬ, КАТАРСИС, очищение искусством. Очистился, вышел из театра и тут же согрешил. Какой катарсис, соблазны не прекратятся до последнего издыхания.
«О ИЗОБИЛИИ ПЛОДОВ ЗЕМНЫХ». Долгое время, когда в церкви слышал этот диаконский возглас, то сразу в памяти представлялось наше поле, засаженное картошкой, эти ряды, пласты, которые мы окучивали, пропалывали, на которые была вся наша надежда на пропитание в долгую зиму. На что еще было надеяться?
Но вот что важно сказать - воровства почти не было. Почти - это один-два кустика кто-то выроет, и все. Или кто с голодухи, или мальчишки шли в ночное или на рыбалку. Но не больше.
Еще помню Подмосковье (ближайшее), все совхозно-колхозное. Поля, поля. Нас в баню водили из сержантской школы в Вешняках (метро «Рязанский проспект», недалеко Кусково) в Текстильщики (метро «Текстильщики») раз в неделю. Шли через поля капусты, свеклы, моркови, кукурузы, то есть через Кузьминки. Конечно, улучив момент, выскакивали из строя и вырывали кочан, какой побольше. Его тут же раскурочивали и съедали.
В этом я даже и не каялся. Не воровство это было, а витаминная подкормка солдат - защитников Отечества от этого самого Отечества.
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ В СТИХАХ описал одну встречу в пути. Увидел из вагона - два еврея играют в карты, в «дурачка», сочинил: «В могучих зарослях кипрея, то спину грея, то бока, два волосатые еврея весь день играли в “дурака”. Они в игру свою вложили ум и способности свои и были равными их силы, и все ничьи, ничьи, ничьи. А за бугром, в степи безкрайней, весь день держа штурвал в руках, сидел Ванюша на комбайне, все в дураках, все в дураках».
А Старшинов играл всю жизнь в «дурачка» с Владимиром Костровым. Счет у них был примерно двенадцать тысяч на одиннадцать. Мы были в поездке, в северном леспромхозе, ночевали в конторе. Они всю ночь играли, еще и курили. Я сочинил такую пародию: «Некормлены, полуодеты, средь сигаретного дымка, два сильно русские поэта всю ночь играли в “дурака”. Забывши дом, семью, скрижали, не написавши ни строки, они сто раз подряд бывали поочередно дураки. О братья, бросьте ваши драчки, вернитесь к родине своей, не то вас крепко одурачит всю ночь рифмующий еврей».
БЫВШИЙ БРИГАДИР: «Ох, работали! Агроном за лето две пары кирзовых сапог изрывал. А как уборка шла, да если вдруг, в частом бываньи, непогода? Я всяко исхитрялся, но у меня чтоб люди без простуды. А как? Дождище хлещет, картошка тяжеленная, старики, дети-школьники, женщины, как сохранить? Вывозил в поле котлы, воду кипятил, заваривал чего-разного, травы. И поил горячим. Да еще хлебушка, да еще с молочком! Да когда и по яичку. Сам-то, конечно, на другом подогреве держался. С мужичками за день бутылки по три-четыре ошарашивали. Не вру! И - жив! Сейчас? О-о, нынешних бы в то поле вывезти, никто бы не вернулся. (Хмыкнул.) Но нынешние и не поедут. Нынче дураков нет. Нынче люди стали умнее, а жить стало тяжелее. А тогда крепко нас подсадила компартия. (Подумал.) Но хоть работали, хоть прочувствовали. Нисколь не жалею себя за те годы, нисколь. Было б позорище, если бы я, например, на митинг пошел чего-то требовать. Глядел я на этих, что на Анпилова, что на эту Новодворскую. Только орать. А лопату не хошь в руки? А сто мешков мокрых перетаскать, загрузить-разгрузить а они по шестьдесят, по семьдесят килограмм. (Долго молчал.) Если бы в Бога не верил, уже бы и не жил... Ох, Россия ты Россия, матушка. »
ЭТОТ ВАЛЕРКА - прикол ходячий. Вовремя в гараж не вернулся, утром приезжает. Завгар Мачихин ему: «У какой тра-та-та ночевал?» -«Ни у какой. Парома не было». - «А-а». А потом только сообразил: какой паром в январе?
С Валеркой работать - каждый день живот болит. От смеху. Сделал пушку. Серьезно. Меня уговаривал снаряды точить. Я не стал: вляпаешься с ним. Тем более просил точить на сорок. Это ж почти сорокапятка. Но ему кто-то выточил. Стреляли. Из буровой трубы. Стенки толстые, заклепали один конец изнутри. Напрессовали алюминиевой пудры, вложили пакетик с порохом, внутрь спираль от электролампочки. Так ее аккуратно разбили. А дальше провода, дальше нацелили на забор, отошли подальше, концы закоротили и - залп! Забор свалило. Потом эту пушку сделали минометом. Заряд поменьше. Валерка свой сапог на ствол надел.
Ударили! Сапог летит с воем, подошву оторвало. Баба шла с сумками, перед ней сапог - хлоп! Она аж присела. Оглянулась - никого. Бежать. Смех разобрал: Витька прыгает в одном сапоге.
- ЧЕРНОГО РОДИЛА? Как это? - А так. Когда я ее в роддом вез, черная кошка дорогу перебежала. - А тебя когда в роддом везли, осел дорогу не переходил?
ВЯТСКИЙ - НАРОД хватский: семеро одного войска не боятся. Или: вятский - народ хватский, столько семеро не заработают, сколько один пропьет.
- АХ, УЧИЛА меня мать, говорила мине мать:
«Надо землю пахать да добра наживать».
А уж как погулять, научился я сам.
Я и с Богом дружил, и с нечистым успел.
Видно, в жилах моих есть цыганская кровь.
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, зыбки, укачивание готовили будущих моряков. Как? Закаляли вестибулярный аппарат. Не случайно в моряки посылали призывников из вологодских, вятских краев. Где зыбки были в детстве любого ребенка. Потом пошли коляски. Но это не зыбки, это каталки, в них не убаюкивают, а утряхивают. И что споешь над коляской? Какую баюкалку?
Да что говорить - русская печь становится дивом даже для сельских детишек. Ко мне приходят, смотрят на русскую печь как на мамонта. У всех уже и отопление с батареями, и выпечка в газовой или микроволновой печи. Да разве ж будет тут чудо плюшек, ватрушек или пирожков? Или большущего рыбника? Нет. Это можно было б доказать в момент снятия с пирога верхней корки, когда пар поднимается и охватывает ликованием плоти. То есть, проще говоря, ожиданием поедания.
Все уходит. А как иначе? Мы первые предали и печки, и сельские труды.
И Сивку-Бурку, вещую каурку. Желание комфортности жизни повело к ее опреснению. И к безполезности жизни. Вот сейчас: выросли, старятся дети перестройки. Было им в восемьдесят пятом, допустим, десять лет. Сейчас сорок и за сорок. Цели нет, пустой ум. И воспитанная либералами ненависть к «совкам». Сын родной ляпает мне: «Вы жили во лжи». - «А ты в чем? Ватники мы? Так ватник стократно лучше любой синтетики».
РАЗДАЕТСЯ ЗВОНОК. Толя: «Записывай. Диктую: Не слыша ангельского пенья из мглы заплаканных небес, я говорю в канун Успенья: “Ты почему, мой друг, не здесь? В селенье, на забавы тощем, мы прежний вспомнили бы пыл. И ты стенанья милой тещи хотя б на время позабыл. Я б для тебя, мой друг, поджарил вкуснейший самый кабачок. И в холодильнике б нашарил кой-что, что валит на бочок. Тогда бы ангельское пенье мы слышать стали бы с небес, сердечно б встретили Успенье... Ты почему, мой друг, не здесь?”»
И таких и подобных экспромтов у него были десятки. Многие пропали, а этот записал. Толя мне сострадает, что сижу, прикованный к теще, ее не оставишь: Надя на работе. Но я даже радуюсь, что могу этим защититься от постоянных просьб куда-то пойти, где-то выступить. Я же сижу с ней и худо-бедно что-то делаю. А не делаю, так читаю. Вот сейчас Гончарова. Пишет Майковым из Мариенбада: «Я старик». А ему всего сорок пять.
И до чего же все писатели мнительны. Будто бы к нему на чтения Тургенев посылал своих агентов и что идеи Гончарова потом использовал. Конечно, Гончаров куда как сильнее Тургенева, но и Тургенев неплох. Вот как мы от богатства нашего рассуждаем.
СНОВА ЗВОНОК, снова Толя: «Записывай еще! Разговор с твоей тещей: “Я и сейчас еще рисковый: нетленки запросто творю. Не осуждай меня, Прасковья, когда с Володей говорю. Еще мы в ящик не сыграли, как прежде, душами близки, да вот на Западном Урале я загибаюсь от тоски. Давно смогли мы породниться, он мне порой родни родней. Не Ницца здесь, психобольница, и я уж тридцать лет при ней. Я при больнице Всех скорбящих, душою тоже он скорбит. Пока мы не сыграли в ящик, пускай со мной поговорит”». Теща якобы отвечает, говоря мне: «Да, побеседуй с ним, Володя, ведь не чужим мне Толя был. Он стал своим мне в стары годы, когда в Никольском крышу крыл».
Это Толя вспоминает случай, когда мы с ним застелили шифером дырявую крышу сарая в Никольском. Крыша сильно протекала. Теща, конечно, сетовала. А шифер у меня был. Покрыли. И потом хлынул дождь. И как было мне не сочинить: «Какое счастье в сильный дождь войти в сухой сарай. Ну, Толя, ну, ядрена вошь, устроил теще рай».
А еще без улыбки не могу вспомнить экспромт этой осени. Мы ехали в Вятку: я с запада, Толя с востока. Приехал раньше, звоню ему: «Где ты сейчас?» - «Скоро Фаленки». А Фаленки - это для родителей двадцать лет жизни после Кильмези перед Вяткой. Это родина повестей «Живая вода», «Сороковой день». - «Поклон передай Фаленкам!»
Встречаю на вокзале, он сияющий: «Есть чем записать?» - «Так запомню».
- Фаленки, снега белизна. Бегут за поездом ребенки. Конечно, внуки Крупина. Голодные как собачонки. Ему до них и дела нет, он совести не слышит зова: его ждет царственный банкет в апартаментах у Сизова. - Это тебе мой ответ на Гребенки.
Это от нашей поездки в Кильмезь. Там по пути деревня Гребенки. Я и срифмовал: «Здесь курчавы детей головенки: побывал, значит, Гребнев в Гребенках».
А Сизов - это Владимир Сергеевич, ректор вуза, прекрасный писатель. У него на даче есть даже бассейн при бане. Или баня при бассейне. И прекрасная восточная красавица, жена Аниса. Может быть, благодаря ей он написал роман из средневековой китайской жизни.
А вот опять же из истории нашей дружбы с Гребневым: я Толин крестный отец. Крестился он в восьмидесятом в Волоколамске, у знакомого священника, отца Николая. А тогда было ничего не купить. Коммунисты не могли даже трусов нашить для населения, не говоря о народе. А как креститься не в новых трусах? А рано утром надо уже на электричку. И Надя где-то разыскала какую-то ткань и сшила трусы. Это было в день Божией Матери, и именно Гребневской. Это нас потом, когда увидели в календаре, поразило.
Были в церкви втроем. Потом пообедали с батюшкой. Потом поехали в Москву через Теряево, где Иосифо-Волоцкий монастырь. Толя был в необычайно восторженном состоянии. У монастыря пруды. Никого. Мы погрузились в воду в адамовых костюмах. Толя еще и от того, что не хотел мочить крестильные трусы. «Носить не посмею: Надя сшила, ночь не спала!»
Вылез я первым, оделся, а тут два автобуса с туристами. Да много их. Да никуда не спешат. А как Толе выйти из водной стихии? Так и плескался. То есть добавочно крестился, ведь эти пруды сохранились еще от монахов. А тут мы, как вольтеровские простодушные.
Вспомнил этот случай. Позвонил ему. Посмеялись. Толя кладет трубку. Через пять минут звонок.
- Записывай! «Да, будут ангелы коситься, как стану к Богу на весы: из маркизета иль из ситца его крестильные трусы? Но я скажу: “Гадать не надо, секрет остался там, внизу. Поклон снесите милой Наде и благодарную слезу”».
НА ЗАБОРАХ, на остановке везде объявления от руки: «Строим дач гаражей».
- ТАКАЯ ВОТ суета суетина.
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, новых богатых вопиющая безграмотность. Не отличат Гегеля от Гоголя, Бабеля от Бебеля, с другой - какое-то необъяснимое стремление к строительству своего дома на святом месте или около него. Ну что ему: мало островов, яхт, пейзажей? Нет, ему надо, чтобы во время аперитива подвести гостей к высоким окнам гостиной и показать: «А тут вот Михайловское, а там (показывает) Тригорское. Читали? Скамья Онегина. Думаю сюда перенести. Тут усадьба Ганнибалов. Черный был дедушка у Пушкина. И я негров заведу».
Другой: «Тут Радонеж, слыхали? Патриарх приезжает. Думаю в гости звать. Но надо же что-то достойное соорудить».
Третий: «Видишь? Возьми бинокль. Видишь? Багратионовы плеши, не так себе. Тут Кутузов на барабане сидел, там вот Наполеон, тоже на барабане. Так и сидели. Не пойму, как руководили, айфонов же не было. Или были? В общем, живу между полководцами. Кто-то там возмущается? Ну, это они завидуют. Я еще хочу в Тарханах построиться, не как-нибудь. Представь: луна, я гуляю. О Лермонтове слыхал? Выхожу, понял? один я, понял? на дорогу. Дальше не помню, неважно».
- С ЭТОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ сопьешься. А я ей благодаря пить бросил. Стали нас травить европейским дерьмом, спиртом «Рояль». Взял с устатку, налил рюмку, поднял - одна горелая резина. Весь переблевался. Утром и похмелья нет. Я эту «европу» приговорил к смертной казни через позор: шарахнул в общественный туалет. Только схлюпало.
А кто и втянулся. Так их уже и живых нет. На это Европа и рассчитывала. Ничего, схлюпает.
«ПОЭМА СТРАНСТВИЯ, она Куняеву посвящена. Чтоб он не думал, что один в поездке этой был акын».
Так я начинал свое рифмованное сочинение о нашей поездке в программе «Байкальский меридиан» году в... примерно в середине восьмидесятых, и огласил его во время последнего застолья. Да, было такое счастье: Распутин, Потанин, Куняев, аз многогрешный с женою свершили недельную поездку. Вот уже нет на земле Распутина, опустело в моей жизни пространство надежного друга, что делать, так Бог судил. Прямо делать ничего не могу, тычусь во все углы. Вроде и не болен ничем, а еле таскаю ноги. Некуда пойти, некому позвонить. Чаю не с кем выпить. Сегодня сел перечитать его письма, хотя бы одно для утешения, вдруг эти листки. Думаю, это-то можно огласить:
«Закончим чтенье до рассвета. Читаю: Первая глава. С кого начнем? Начнем с поэта: он делегации глава. Ведет вперед, печали нету, туда, куда течет Куда (река). Рысцой бегущего поэта (Куняев по утрам бегал) узрела вскоре Усть-Орда. Узрели дети и отцы и Баяндай, и Еланцы.
Ценою тяжких испытаний, осиротив родной Курган, был с нами верный наш Потанин, наш добрый гений, наш титан. Но правды ради отмечаем, был часто он большой нахал: пил закурганно чашку с чаем и на Терентии пахал (то есть всегда на выступлениях рассказывал о земляке Терентии Мальцеве).
То с радостью, то, может, с болью, с затеями и без затей, вел наши встречи и застолья бюро директор Алексей (Владимирский). Труды бюро совсем не просты: пять раз на дню экспромтом тосты.
Поэмы круговая чаша идет к тому, сказать пора, была в пути Надежда наша. Жена мне, ну а вам сестра. Зачем, зачем в такие дали, зачем, пошто в такой мороз она поехала за нами? Зачем, ей задали вопрос. “Прочла я письма декабристов, их жен Волконских, Трубецких... рекла: считайте коммунистом, поеду, я не хуже их”.
Я сочинял оперативно, хоть нелегко для одного. Всех нас хвалили коллективно, но персонально одного. Кому обязаны поездкой, чей свет весь освещает свет. И вообще, заявим дерзко, кого на свете лучше нет. Он одевался всех скромнее, он телогрейки (ватники) покупал, пил меньше всех, был всех умнее, пред ним приплясывал (штормил) Байкал.
Мы все причесаны, умыты, у всех у нас приличный вид, идейно и реально сыты. а чья заслуга? Маргарит. (Сопровождающая из обкома КПСС). Вот нас покинул Витя Шагов (фотокорреспондент), печально это, но зато вело, как знамя над рейхстагом, нас Риты красное пальто.
Итак, нимало не скучая, уборку хлеба тормозя, мы шли, куда вела кривая “меридианная” стезя. Различных наций здесь немало, что знали мы не из газет, но что приятно умиляло: французов не было и нет.
Вот на пути река Мордейка. Бригада хочет отдохнуть. Но вдруг нарядная злодейка. с наклейкой преграждает путь. Сидим, уже не замечая, что пир идет под видом чая.
Алой, Куреть, Харат, Покровка, Жердовка и “Большой” Кура. Нужна, нужна была сноровка брать укрепленья на ура. Такие были перегрузки! Но мы работали по-русски.
Мелькали овцы, свиноматки, бурят на лошади скакал... Казалось мне, что воды Вятки впадают в озер Байкал.
Встречали всяко, как иначе. Ну вот пример: возил шофер, земляк Астафьева, и, значит, известен был ему фольклор.
Записки из десятков залов. На них бригада отвечала. И заклеймила все пороки, а красоту родной земли, давая совести уроки, мы как могли превознесли.
Как нас кормили! Боже правый! Сверх всяких пищевых программ. Пойди найди на них управы, на водопады тысяч грамм, на град закуски, дождь напитков, на мясо-рыбную напасть. О ужас! В талиях прибытки. хотелось отдохнуть, упасть, упасть под кедры, под березы. Но уже шли в атаку позы (сибирские пельмени), и с ним соленья и варенья атаковали нас подряд. Но побеждал всех, без сомненья, сверхсытный местный саламат.
Как нас кормили, Боже правый! За нашу прозу, очерк, стих. Никто нигде в чужих державах давно не кормит так своих. Ольхонский стол нас доконал: вломился на него Байкал. За хлеб, за соль тяжка работа. Вперед, усталая пехота!
Наш катерок был без названья, а как назвать, вот в чем вопрос. Решили чрез голосованье назвать его “Поэтовоз” На нем забыли мы о доме: еще бы - мир здесь сотворен. Мир сотворен! А еще кроме Андрей Бар-гаевич рожден (большой начальник).
Вдруг шторм! Как страшно Наде с Ритой: “Поэтовоз”, он как корыто. Но вот и берег. Как Пицунда. “Нырнем!” - Куняев провещал. Нырнули и через секунду обратно, это же Байкал.
Друзья, вы ждете эпилога? Но впереди еще дорога. Да и едва ли выносимо - поставить точку и понять, что впору плакать и рыдать: ведь эти дни невозвратимы.
Спасибо всем, кто нас встречал, за хлеб, за соль, за чай! Гори-гори, любви свеча, гори, не угасай!»
Ох, Валя, Валя.
СЫН НА ОСТАНОВКЕ чувствует, что я чем-то опечален, и старается оттащить меня от плохих мыслей: «Пап, а это наш идет?» - «Нет, двадцать девятый» - «А это какой, наш?» - «Нет, это двадцать первый». - «А наш какой?» - «Вон, двести седьмой идет». - «Двести седьмой! - восклицает малыш, - двести седьмой! Давай порадуемся!»
И часто потом в жизни, когда мне становилось плохо, я вспоминал своего сына и говорил себе: «Двести седьмой, давай порадуемся».
- ЛУЧШАЯ рыба - это колбаса. Лучший чулок - чулок с деньгами.
МОЯ ПРАВАЯ нога ничего не делает,
Нога левая, кривая, все по девкам бегает.
САЛОНИКИ. СВЯЩЕННИК из Кении, темнокожий отец Анастасий, вместе с нами едет со святой горы Афон. Показывает дорогу к гостинице. Волочит огромный чемодан на колесиках. Переехал ногу полной гречанке. Она в гневе поворачивается и... потрясенно произносит: «Отелло!»
НОВОМУ «РУССКОМУ»: «Ваш сын сделал в диктанте сто шестьдесят две ошибки». - «А вы не подумали, что он на другом языке писал?»
- ДАВАЙ Я ПОРОВНУ разолью, у меня глаз набитый.
Друг смотрит за разливом:
- Тебе б еще морду набить.
НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ Синодального периода нашего с Викторианским. У нас сохранилась и Россия и вера православная, они потеряли империю, вера стала прикладной, осталась только политика (ссорить людей и государства).
ЗНАК ВРЕМЕНИ - отсутствие времени. «Прошли времена - остались сроки», - говорит батюшка. Он же утешает, что людей последних времен будет Господь судить с жалостью к ним. «Страшно представить, что переживаем, в каком аду живем».
В БУЛОЧНОЙ (ГРЕЦИЯ) взял хлеб. Показался твердым для моих зубов. Как объяснить? Постучал по хлебу и по столу. Мол, такой же твердый. Продавец обиделся ужасно.
СКАЗАЛ ВНУКУ:
- Книги разные, они между собой ссорятся. Иногда до драки.
Внук:
- Они ссорились, а пришла Библия, и они замолчали.
Он же:
- Бог как воздух: Он везде, а мы Его не видим.
И тут же он же:
- Дедушка, меня вообще так плющит, что в классе есть лохи. Такие бамбуки.
ТОЛЯ (по телефону):
- Ходил за грибами. Как только начинаю Символ веры читать, попадаются. Вот тебе комментарий к тургеневскому Базарову: «И грибы домой таская, я доказываю вам, что природа - мастерская, но она и Божий храм».
У ДОКЛАДЧИКА на трибуне явный понос слов и одновременно явный запор мыслей.
УХВАТИЛИСЬ ЗА СВЕЧКУ и Горбачев и Ельцин. Но Горбачев пошел дальше Ельцина. И дальше Ленина, и дальше Троцкого. Они бредили о мировой революции, Горбачев - о мировой религии. Это похлеще.
В ЧИСТУЮ РЕКУ русского языка всегда вливались ручьи матерщины, техницизмов, жаргонизмов, всякой уголовной и цеховой фени, но сейчас уже не ручей, а тоже река мутной, отравляющей русскую речь интернетской похабщины и малоумия. «Аккаунт, кастинг, чуваки, фигня, блин, спикер, саммит, мочканули, понтово, короче», так вот. В такую реку, в такую грязь насильно окунают. И отмыться от этого можно только под душем святителя Димитрия Ростовского, Даля, Пушкина, Шмелева, Тютчева, Гончарова - под русским, одним словом, словом.
У ЛЕРМОНТОВА: «В той стороне, где не знают обману, ты ангелом будешь, я демоном стану...» А как это может быть рядом?
И НЕОЖИДАННО, даже для себя, в припадке временной любви объяснился ей и искалечил и ее и свою судьбу. Верил себе, когда клялся, верила, когда слушала. А еще кто был слушатель?
ПОЛИТИЧЕСКОЕ сочинительство:
Я тебя замучаю, как Пол Пот Кампучию.
Ленин, Сталин, Полбубей ехали на лодке.
Ленин, Сталин утонули, кто остался в лодке?
Нельсон борется Мандела, чтоб жизнь негров посветлела,
А у нас уж сколько лет: негры есть, Манделы нет.
Убили, гады, Патриса Лумумбу и даже труп жене не отнесли.
Город Владимир переименован в город Владимир Владимирович.
ВИНОВАТ перед многими, и чем старее, тем более виноват. Вот уже кажется, что и раскаялся, и исповедовался, и прощено, а все равно достигает, летит из прошлого вина.
Обещал же врачу Маргарите Ким посвятить ей рассказ, и где он? А как обещал? Да в самую счастливую минуту жизни. Она была врач родильного дома, наша знакомая, к ней мы и приехали, когда Надя почувствовала: пора.
И вот - рука трясется - звоню. «У вас мальчик». Боже мой! Мы же тогда не знали, кто родится. Да и хорошо, что не знали, от этого ожидание томительно и таинственно. Боже мой! Первое, что крикнул в трубку:
- Маргарита Михайловна, я вам рассказ посвящу!
Это как-то само вырвалось. То есть это, по-моему, было огромной благодарностью. И я всегда помнил про обещание. Но не было такого «медицинского» рассказа. А, казалось бы, зачем тут тематика? Она, с ее интеллектом, знаниями, кореянка, знаменитый врач-гинеколог, могла оценить рассказ из любой области.
Ну и простеснялся. Теперь уже поздно.
ТЕКСТЫ, ВЫПИСЫВАЕМЫЕ по памяти, могли бы ответить на вопрос, как же мы при большевиках и коммунистах сохранили Бога. В душе прежде всего. Так как тексты эти могли и пролетать мимо сознания, а душу сохраняли.
Господь, помилуй и спаси, чего ты хочешь, попроси.
Дай окроплю святой водою. Дитя мое, Господь с тобою.
Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала,
Или молитвой услаждала тоску волнуемой души.
Затеплила Богу свечку (вначале), затопила жарко печку (потом).
Скорей зажги свечу перед иконой.
Русалка
Над главою их покорной мать с иконой чудотворной Слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит».
Сказка о царе Салтане
Я вошел в хату - на стене ни одного образа - дурной знак.
Герой нашего времени
В ЧЕЧНЕ, в Г розном, в пасхальную ночь, сержант из ручного пулемета трассером (светящимися пулями) написал в небе ХРИСТОС ВОСКРЕ-СЕ. И долго слова эти были видны в небе Грозного. (Рассказ очевидца.)
ВОЛОДЕЧКА: «ДУША - это я, без одежды и тела».
- ПО ДЕРЕВНЕ идите, играите и поите,
Наших девок дерите, на нас же задираите.
По деревнюшке пройдем, на конце попятимся,
Старых девок запряжем, с молодым прокатимся.
В РЕСТОРАНЕ, В ПОЕЗДЕ, попутчик: «Счастья всем нам хочется, и чтобы быстрей-быстрей. Чтобы и теща за пивом побежала да по дороге ваучер нашла».
СПОР
- Ты иудей, я - православный. Ты меня ненавидишь, я тебя жалею.
- Мне твоей жалости не надо!
- Так ведь гибнешь.
- (Взрывается.) Наш царь будет велик! Всемирный владыка! А ваш в хлеву родился, ходил с оборванцами, руки перед едой не мыл!
- Вы Христа распяли. Не отпирайся. Сами сказали: «Кровь на нас и на наших детях и на детях детей». Кайся.
- Так это когда было.
- Это было вчера. Кайся. Я же каюсь в расстреле царской семьи. Тоже мог бы сказать: не я же расстреливал, а опять же иудеи.
- Римляне распинали.
- А кто натравил? Распяли - и с кем остались? С убийцей Вараввой? С предателем Иудой? Изгнали Христа из Писания, из жизни, посадили своего бога в Ватикане, и что? И золотишка и алмазов нагребли, а что ж все счастья у вас нет? Ваши банки везде торчат, ваши проценты распухают, и все вам страшно?
- Я еврей! (Опять кричит.) Таким меня мой бог создал! Не виноват я, что у меня руки и голова так устроены! Ты можешь копать, копай! А я - избранный!
- Так я-то тем более избранный.
- Как это? Кем?
- Господом Богом, Святой Троицей.
Убежал. Но этот хоть говорил откровенно. А так с ними спорить безполезно. И ведь знают, и понимают, что правда у православных. Да разве захотят лишиться доходов.
А стать православным легко. Раздай богатство бедным и следуй за Христом.
КАК СТАТЬ ДЕБИЛОМ за полгода? Смотреть рекламу.
Как стать зомбированным? Смотреть новости.
Как утратить художественный вкус? Смотреть современные фильмы о России.
Как потерять сострадание? Смотреть американские фильмы.
К РЕКЛАМЕ выработать такое отношение: то, что рекламируется, не покупать, не брать, не есть, не употреблять, не пользоваться, отвращаться, брезговать. А всего лучше не смотреть рекламу, не смотреть телевизор. И выкинуть его вообще с седьмого этажа на асфальт, когда на улице нет прохожих. А потом спуститься и или самому подмести эти электронные кишки и выкинуть их в мусорку, то есть в контейнер для вывоза отбросов, или дать дворнику приличное вознаграждение. Оно стоит того. И вернуться в дом, и занять освобожденное место иконой.
Ура, товарищи!
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ дом без молитвы от стойла? Чем отличается накрытый стол без молитвенного благословения от свиного корыта?
ДИВУ ДАЕШЬСЯ, как легковерны люди, как поддаются внушению. И повсеместное кумиротворение. Ну какие же это великие: пугачевы, резники, шифрины, вся эта эстрадная жваноидная шайка хохмачей, все это хрипящее и визжащее телевоинство, всякие макаревичи. А ведь смотрят, а ведь волокут им свои кровные рубли. Педераст на экране, и все знают, что педераст, и смотрят - как это понять? И хлопают.
Что удивляться, уже и покойникам хлопают. Хотел пойти хоронить Золотухина, были же знакомы, хотя именно он противился постановке уже готового моего спектакля «Живая вода», чем очень угодил Эфросу. Да и это бы Валере простил, но как вспомнил, что открыто он жил с двумя женами, это-то его дело, но он публично это оправдывал, а это так грешно и противно, да больше того - представил, как гроб повлекут к выходу и начнутся аплодисменты... Нет уж, Валера, прости, Господи, Бог тебя простит.
Да, гроб на Таганке. Абрамов всерьез возмущался, что ему и Любимову запретили в пьесе («Деревянные кони») носить гроб по залу. Мы с Распутиным дружно встали на сторону запрета. Зачем гроб, зачем эти похороны России? Этим и Можаев был болен, и Тендряков, и, конечно, Астафьев. Белов-то более их всех знал о гибели деревни, но сила таланта такова, что читаешь его «Привычное дело», «Кануны», «Час шестый»... и все равно жить хочется.
СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ, чтобы убедить людей в том, что земля плоская? Год? Смеетесь. Три месяца! Да какое там! Две недели. Объявляются выводы многолетних трудов великих ученых, наваливается свора знаменитостей, только и делов.
ЦАРЬ ГОРЫ. Спросил сына, знает ли он игру «Куча мала». Он сказал, что они в детстве играли в игру «Царь горы». Тот, кто захватывал вершину какую, холмик, возвышение, тот и царь. Конечно, его спихивали. Какой бы ни был сильный, все равно спихивали, никому долго не удержаться.
И сколько ж у нас было «царей горы»? Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин. Какие они цари горы - скорей захватчики пирамиды. Пирамиды искусственной. От которой кормятся свои, остальных отторгают.
Выборная власть людей ссорит, наследственная сдруживает.
СПРОСИЛ И ВНУКА о «Царе горы», оказывается, и он со сверстниками играл. Несколько иначе. Зимой все для начала залезали на ледяную горку и по команде сталкивали друг друга. Оставался «царь». Его начинали обстреливать без всякой жалости, даже ледышками, и большими. Атаковали. Свергали. И по новой.
С одной стороны, отношение к войне изменяется в сторону все более легкого к ней отношения. Мы играли в войну, сын играл в военку, а внук играет в войнушку. То есть вроде игра все несерьезнее. Но с другой, игры эти все ожесточеннее. Разве могло быть у нас такое, чтобы бросаться ледышками, твердыми кусками глины, чтобы «пленных» привязывали к дереву и давали пинка. Ужас. Что-то непрерывно сдвигается под уклон к пропасти.
ИЗ ЗАПИСКИ 1991-го. 532 тысячи снесенных сел и деревень. Заседание в ВАСХНИЛ, создание энциклопедии деревень России, живых и убитых.
ЛИБЕРАЛЫ, ВАРЯГИ, они не на земле живут, на территории.
- НАЧИНАЕМ конопатить пятый угол от дверей. Бабы ходят по вечеркам, караулят дочерей.
Какая в тексте ошибка? Правильно, пятого угла, считая от дверей, нет. А то, что ходят и караулят, это точно.
СВИСТ В АДРЕС русских писателей - это признание их любви к России, ее защиты. И это знак ненависти к России этих свистунов. И показатель их слабости. Ну торчат на экранах, ну премии сшибают, ну вроде известны. А больше их были известны эренбурги, шпановы, рыбаковы, сотни других - и где они теперь, в каком уголке народной памяти? Такого уголка для них нет, только в каких-то авторефератах тиражом по сотне экземпляров да в диссертациях тиражом менее десяти. Причина? Языка в произведениях нет, русского языка. А если Россию не любишь, так какой у тебя русский язык? Ты ее шельмуешь, а еще хочешь, чтоб тебя и читали. А тексты твои - суррогат, который ум отторгает. Не та пища.
Не насыщает. И будешь прочно забыт. А книги твои забыты еще до твоей смерти. Обидно? А как ты хотел?
(После встречи на улице с когда-то знаменитым К. Я думал, он уж и не жив. Нет, высох, но ползает. И видно, что встреча ему неприятна. А мне его жалко: ведь жил-то он всю жизнь в России.)
ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР предсказал, что третье тысячелетие будет принадлежать христианству Достоевского. Такое предсказание от ума. Будут же у падшего мира и другие распорядители. Достоевский - христианин без радости. С ним тяжело. Но, может, я излишне придирчив. Так же и с Толстым. Есть же у нас батюшка Серафим. Есть же малое стадо Христово, есть же «острова спасения мнози».
СТАРЫЙ ВОЯКА:
- Лозунги были: «Добей врага в его траншее!», а получалось: «Прицел ноль пять, по своим опять! Вперед, ребята, сзади немцы!» Но немцы, учти, как только наши в рябых майках в атаку идут - сразу бежали. (Рябые майки - тельняшки.) В детстве книга «Морская душа».
- ЛАДНО, НЕ ГРОЗИ, не грози! Еще встретимся!
- На том свете?
- Естественно.
- ОЙ, ЭТО ЛЕШОЙ, а не ребенок: семь кучек наклал, еще кряхтит. И такой ли безсовестной: от парной кучки отопрется. «Не я, и все!» Да у него и мать такая же.
ПОЛКОВНИК в войну, посылая парламентера: «Скажи им: воевать мы согласны, но в плен брать не будем».
Те сразу сдались.
- ЖИЛИ НА ДУРНЯКА. Выпускали призывы: «Коммунизм победит». Кого? Нас и победил. (И не к месту, может, я не понял, к чему): Дурьтопьян и три аматера.
- С ХОРОШЕГО ПОХМЕЛЬЯ бутылку искал. Ведь была же, была! Ей говорю: «Ты где хоть? Не видишь, человек помирает. Хоть аукнись». Так мучился! Лекарство же искал, не для пьянства же. И через неделю -вот она, собака! Поехал в лес, начал валенки надевать, она в валенке. Из горла всю выпил, выкинул. Так ей и надо. И в лес не поехал.
ИЗ ДЕТСТВА ОТ дедушки: «Наша жизнь, словно вскрик, словно птицы полет, и быстрее стрелы улетает вперед. И не думает ни о чем человек, что он скоро умрет и что мал его век».
ЧЕМ ХОРОША была моя жизнь в детстве, отрочестве и юности, так это тем, что всякие модные веяния (правильнее сказать, всякие обезьяньи подражания «западнистам») доходили до нашего богоспасаемого далекого вятского села уже на издыхании и уже в сопровождении известий, что это уже устарело, что мы отстаем, что уже не твист в моде, а буги-вуги и тому подобное.
То же и в одежде. Тем более повезло и в том, что жили бедно. Практически все. А это великая милость, когда юноша или девушка не стесняется быть скромно одетым. Да, не модно, но все же чистенькое: брюки поглажены, стрелки наведены, воротнички у девочек беленькие, кружевные, сами вывязывали, у всех косы, и в косы вплетены алые или голубые ленты.
Шло нашествие и на язык. Поменее сегодняшнего, но тоже. Тюрем и тогда было достаточно, жаргонов хватало. Всякие стукачи, вертухаи были не только в жизни, но и проникали в лексикон.
Были, помню, выражения, которые подчиняли русскому выражению нерусские слова. «Крути колесо - делай бизнес» - это шутка из той поры. Колес для кручения было изрядно, работали же всегда: молотилки, веялки, печатная машина, колодезные валы, на которые накручивались веревки (колодцы глубокие, иногда оборотов по шестьдесят-семьдесят). Так что бизнес - это не то, что сейчас всех захомутало, а физическое развитие.
Появился танец линда, сразу появилось выражение - линдачить. Конечно, и чарльстонили.
Песни иностранные проникали. Чаще не словами, музыкой. Бывали свои слова на «ихнюю» музыку. «На чердаке танцуют тоже. Там буги-вуги кочегар всю ночь дает. И по его немытой роже пот трудовой, пот трудовой ручьями льет». Да даже и позднее, например, темнокожие «Бони-М» пели свою «Ра-ра, Рас-пу-тин», припев ее наша молодежь передавала такими словами: «Варвара жарит кур... жа-арит, жарит ку-ур...»
Но ничто и никто не мог победить ни песен, ни танцев России. Танцевали и краковяк, и польку, и падеспань, и все побеждающий вальс. Танго не любили, но фокстроты! И тоже тут переделки были. Был модный фокстрот «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня». Переделали: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и рублей? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что в книжке нету прибылей».
А незабвенная игра в «ручеек», когда проходили под руками стоящих пар и выдергивали себе того, кто нравился. Оставшийся (оставшаяся) без партнера возвращался к началу и тоже выбирал, кого хотел. При этом всегда пели. Вообще песни советского времени очень в хорошем смысле воспитательны. Они и лиричны («На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг».), и воспитательны («Не думай, что все пропели, что битвы все отгремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет.), и патриотичны («Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех.», «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна»).
Конечно, были и такие, например: «Трясучка - модный танец, привез американец. Придумали индейцы, а пляшут европейцы», разве не актуально?
И огромное русское частушечное богатство, мгновенно откликающееся на все события эпохи, на появление новых понятий: «Нету свету, нету свету, нету электричества. Нет ребят по качеству, не надо по количеству».
МУЖЧИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ как волк. Он или одинок, или всю жизнь с одной волчицей. А бегать за козами и овечками - это удел козлов и баранов.
И вот - услышишь в детстве-отрочестве какое выражение, оно тебе запомнится, живет в тебе и в тебе действует.
КОГДА ЛЮБОВЬ украинцев к своим детям будет больше ненависти к русским, дело пойдет на поправку. В Переяслав-Хмельницком в магазине говорю с двумя продавщицами, помнящими советские времена и тоскующими о них.
- Детей, пусть не вы, но отдаете же в армию. Убивать братьев.
- А как жить? В армии хоть платят. А откажись, тем более пострадаешь. В тюрьму посадят.
- Уж лучше, думаю, в тюрьме, чем убивать своих.
- Вам так в Москве легко рассуждать.
- ЕРШ ДУРАК, а окунь умный. Ерш, хоть сытый, хоть голодный, все равно хватает. Тащишь его, заранее плюешься. Еще же надо с крючка снять. И колючий и сопливый. А окунь вначале к червячку присмотрится, принюхается. А как попадется, тут же моментально заматывает леску за лопух, за корягу. Умный. Красивый, полосатенький.
ИВАН ФЕДОРОВИЧ, фронтовик: - В Венгрию вошли, не забыть! Поле, копны соломы, все вроде как в колхозе, бегаем за немцами, гранатами, прямо как снежками, кидаемся. Мне попало. В госпиталь. Очнулся: кости, мясо на ногах - все перемешано. А вшей там! Смерть чуют. Перестелили все новое, все равно вши. И меня письмо нашло. От матери. О налогообложении. И яблони облагали. Вырубить она, я понял, не посмела, подсушила. Пришли: или отдавай овцу, или деньги, или под суд. Овцу увели. Она им: «У меня муж и два сына на фронте». Написала на командира части. Ко мне приходит в палату особист. «У тебя мать несознательная». Сам носом крутит, еще бы - мясо на ранах гниет, пахнет. - «Так и несознательная есть хочет». - «Вот ты как заговорил, а тебя хотели к награде». - «Зачем награду, овцу верните». - «Тебе, значит, овца дороже награды Родины?» А сам торопится. Ушел. Ну и ни овцы, ни награды.
Да. А там же, в Венгрии, еще до ранения, у нас было - первый солдат в город ворвался. И его хотели к Герою представить. Действительно герой: двое суток без сна. Там под всеми домами подвалы, в них бочки, вино свое. Он зашел в подвал - бочка. Стрелил в основание - струя льется. Выпил пару всего стаканов, с устатку распьянел. Дай полежу. Уснул. А струя льется. Так и утонул. И Героя не дали. Мы с ребятами обсуждали, жалели его. Хоть бы посмертно присвоили - семье бы какое пособие. А этот же, наверное, особист и пожмотился. Сам-то брякал железками.
Да, надо ему было не в низ бочки стрелить, в срединку хотя бы. Они же буржуи все, бочки у них как цистерны, залило подвал. Да, нагляделись мы в этой Европе на европейцев. Жадные до свинства. И чего на нас поперли, чего не хватало?
Ну да, дороги там хорошие, но и без дорог нам прекрасно. Хоть не сунется всякое дерьмо.
КУЛЬТУРА КАК САМОЦЕЛЬ - полный тупик. Она может быть орнаментом на сосуде веры. Или проводником к паперти храма. А там надо самому шагнуть. Старуха, которая при Петре плевала на голых мраморных диан в Летнем саду, культурнее офранцуженных дам.
А ведь на Святой Руси заслушаться иностранной песенкой считалось не просто грехом, а проклятьем, губящим душу. «Возрождение» Запада есть вырождение и религии и культуры. Уход в новое язычество. И это готовилось миру. Да во многом и отравляло. Какое возрождение? Возрождали язычество, еще более его приукрашивая. Тело, плоть, амурчики.
«НЕ НА НЕБЕ, НА ЗЕМЛЕ жил старик в одном селе». Без «Конька-Горбунка» не представить детство русского ребенка.
У меня, может, еще найдется, была курсовая по «Коньку-Горбунку». Так как у потерянного кинжала всегда золотая ручка, то кажется, что я там что-то такое нечто выражал. Помню, что сказку часто перечитывал. Это и у старших братьев было. Астафьев знал сказку наизусть, восхищался строчками: «как к числу других затей спас он тридцать кораблей». -«К числу других затей, а?»
И вот, жена моя, бабушка моих внуков, не утерпела, купила прекрасное издание сказки. И я ее перечитал. Конечно, чудо словесное. Но и очень православное. Думаю, в курсовой не обращал внимания на такие места, как: «...не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами и нейдет ли царь Салтан басурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились.» А вот, как враг Ивана собирается на него «пулю слить»: «Донесу я думе царской, что конюший государской - басурманин, ворожей, чернокнижник и злодей; что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкий держит крест и постами мясо ест».
Постоянно встречаются выражения: «Миряне, православны христиане. Буди с нами крестна сила. Не печалься, Бог с тобой. Я, помилуй Бог, сердит, - царь Ивану говорит. Обещаюсь смирно жить, православных не мутить. Он за то несет мученья, что без Божия веленья проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду. Я с земли пришел Землянской, из страны ведь христианской. Ну, прощай же, Бог с тобою. А на тереме из звезд православный русский крест. Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет.» И так точно далее. Это же все читалось, училось, рассказывалось, усваивалось, впитывалось в память, влияло на образ мышления. Было это «по нашему хотенью, по Божию веленью».
И если жуткую сказку Пушкина про попа и Балду («От третьего щелчка вышибло ум у старика») внедряли, то «Конек-Горбунок» сам к нам прискакал. Он и весело и ненавязчиво занимал свободное пространство детских умов, оставляя о себе благотворную память.
Когда спрашивают, что читать детям, надо спросить, читали ли они «Конька-Горбунка». Читали? Очень хорошо. А перечитывали? Прекрасно! А наизусть выучили?
ОСЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО. Я на телевидении, редактор Дискуссионного клуба. Всегда идем в прямой эфир. Приглашаю Кожино-ва, чем-то ему нравлюсь, он приглашает после передачи посидеть с ним, «тут недалеко», в ресторан «Космос». После краткого там «посидения» зовет поехать в один дом. Дом этот у Курского вокзала. Чаепитие. Ко-жинову все рады. Хозяйка вида цыганистого, веселая. У нее большущая кошка Маркиза. Очень наглая, все ей разрешается. Хотя хозяйка кричит: «Цыц, Маркиза, не прыгай на живот, еще рожать буду!» Вадим Валерьянович весел тоже, берет гитару.
- Самая режимная песня: «На просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде». Так? Вставляем одно только слово, поем. - Играет и поет: - «На просторах родины, родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили, В ОБЩЕМ, радостную песню о великом друге и вожде. Сталин - наша слава боевая, Сталин - нашей юности полет. С песнями борясь и, В ОБЩЕМ, побеждая, наш народ за Сталиным идет...» Да, друзья мои, был бы Сталин русским, нам бы... - Не договаривает. Потом, как бы с кем-то доспаривая: - Исаковский - сталинист? Да его стихи к юбилею вождя самые народные. Вдумайтесь: «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Это же величайший народный глас: и горечь в нем, и упрек, и упование на судьбу. А евтушенки успевают и прославить и обгадить. Нет, если бы не Рубцов, упала бы поэзия до ширпотреба. Представьте: Рубцов воспевает Братскую ГЭС, считает шаги к мавзолею, возмущается профилем Ленина на деньгах, как? Ездит по миру, хвастает знакомствами со знаменитостями, а?
Тогда я впервые услышал и имя Рубцова, и песни «Я уеду из этой деревни», «Меж болотных стволов красовался закат огнеликий», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «В горнице моей светло». Да, та ночь была подарена мне ангелом-хранителем.
А жить Рубцову оставалось два года.
ПРИ СОВЕТАХ молодежи ставились три маяка, три Павла: Власов, Корчагин, Морозов. Власов мать загубил, Корчагин священнику в пасхальное тесто табаку насыпал, Морозов отца родного выдал. До чего доходило: дети за отцами-дедами подсматривали. Вот бы донести, вот бы стать знаменитым. Отец-то меня посек за курение, а посадили бы его, я бы и открыто курил. Вышел бы на улицу, да сел бы на лавке, да нога на ногу с самокруткой. То-то бы все девки с ума по мне сошли.
- СКАЗАТЬ ТЕБЕ секрет русского запоя? Сказать? Вот я выпил - с горя, с радости - безразлично. Стало хорошо. Но мы же русские: если хорошо, то надо еще лучше. И понеслось. Но главное - мы же внутренне понимаем, что жизнь наша тут временна. Раз временна, то пусть скорее проходит. А в запое она птичкой пролетает. То есть жизнь себе сокращаем. Получается, что специально. Никто ж тебя не заставляет в запой уходить. Сам. Ну да, змий ищет меня поглотить. Но меня не проглотишь. Проглотит, а я ему там все облюю, выпустит, извергнет. А очнусь, тут я сам виноват. Это жене выгодно - пилит, и вроде за дело. А я не заметил, как две недели прошло. Опять поближе к концу.
В монастырь? Нет, мне не вытянуть. Конечно, хорошо старцам -горы, воздух, тишина, а тут город, бензин, шум, грохот. Так ведь и дети тут, и та же жена, им-то как без меня? Еще и от этого пью.
БИЗЕ, «КАРМЕН». Эскамильо: «Тореадор - солдату друг и брат (а тореадор чего-то отвлекся). Эй! Там ждет тебя любовь».
ЭСТЕРГОМ, ВЕНГРИЯ, унылый Адам, переводчик. Еврей из России. «Спрашиваешь, чего уехал? Там у вас (уже «у вас») зарплата как пособие на карманные расходы». - «Так здесь чего такой тоскливый?» - «Тут получше. Но тоже. Товарищ во Францию зовет. Думаю». - «То есть ты как тот еврей в анекдоте: и тут ему плохо, и там плохо. А хорошо в дороге?»
- ДЕЛА ДА СЛУЧАИ меня замучили.
- КАК ЭТО «истина сделает вас свободными»? Я и так свободен.
- А ты куришь?
- Да. А что, это препятствует свободе? Хочу и курю.
- Как раз это несвобода. Рабство греху. Ты такой большой и зависишь от этой, тьфу, сигаретки-шмакодявки. И ты ее раб. Как? А вот посидим еще двадцать минут, и ты задергаешься, тебе надо курить, как же не раб? Так что «всяк, делающий грех, раб греха». А конец греха - смерть.
- А ты не куришь и не пьешь, ты здоровеньким помрешь.
- Смерть-то не физическая, душу убиваешь... Чего молчишь?
- Курить пойду.
- А пойдешь курить и Витьку вспомнишь. Ему позвонишь: Вить, давай пивка по кружечке. А встретитесь: чего это мы пиво пьем, печень мучаем. Давай водчонки. Выпили: а ты давно Лерке звонил? Скажи, чтоб с подругой приехала. Так? Грех грех тянет.
ЧАЮ, ЧАЮ накачаю, кофею нагрохаю.
Я отсюда уезжаю, даже и не взохаю.
Уезжаю, уезжаю и наказываю вам:
Не ругайте мою милочку позорными словам.
- ЭТО БЫЛО. это было? А! В день мониторинга. Точно!
САМОЕ ПОЗОРНОЕ в творческих людях - псевдонимы. Ну, революционеров можно понять. Подполье, скрывались, меняли паспорта, обличье, от жандармов бегали. Но когда победили, зачем было скрываться? Уже от них бегали. Чего ж не торжествовали в открытую, чего ж предавали фамилию отцов? Неужели фамилия Ульянов хуже, чем фамилия Ленин? У нас в селе мальчишка вырастал, Вовка. Без отца. Мать Елена. Так его все звали Вовка Ленин. И это никого не смущало. Но это же не было псевдонимом.
А вот все эти драмоделы, писаки, журналюги - чего им скрывать? Значит, есть чего скрывать, знает кошка, чье мясо съела. Знали, что в есть людях идущее из древности недоверие к евреям? А оно откуда? «Жиды Христа распяли» - вот откуда. То есть плата за предков. «Кровь на нас и на детях наших».
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМИ БЫЛИ слова «Нечерноземная зона РСФСР». Все жили в России, а стали жить в зоне. Товарищи из ЦК, скажем так, национально ориентированные, интимно объясняли, что хотя бы так, но помощь была России. То есть горной зоне грузин и степной зоне казахов, и черноземной зоне малороссов помогали без их оскорбления. И в самом деле, жила Кировская область, и без того униженная псевдонимом Костри-кова (Кирова) в зоне. Вот спасибо. Жили в зоне. И привыкли. Ну народ! «Вас завтра всех повесят!» - «Со своей веревкой приходить?»
ЕВРЕЙ СРЕДНИХ лет, новый русский, был богат еще от папы и мамы, и сам был шустрый в прибавлении капитала. Одно его сгубило: женский пол. Рано совсем стал импотентом, в педерасты не пошел, женщин возненавидел.
А занимался искусством, то есть не производством его, а скупкой и перепродажей. Дело прибыльное. Картины старых мастеров заполонили и его квартиру, и загородный дом.
В основном он собирал изображения женских тел. Очень мечтал о «Данае» Рубенса. Но как ни богат, а она была не по его деньгам. На нее и так золотой дождь льется. Это, оказывается, к ней так языческий бог в спальню приходит. Наш коллекционер заказал копию «Данаи». Сделали хорошо.
И появилось у него такое ночное занятие. В доме тепло, слуги ушли, охранники на посту. Он один. Он раздевается догола, зажигает свечи, ходит по коврам около картин, выпивает с «обнаженками». Говорит с ними, вначале вежливо, а когда напьется, даже оскорбляет.
Ничего, они все стерпят.
МАТРЕШКА «ЕЛЬЦИН» появилась на Арбате, точно помню, в 91-м, после свержения тогдашних безхребетных властей. Когда все стало можно. В форме матрешки была не матрешка, а нарисованный Ельцин. Матрешка открывалась, в ней оказывался «Горбачев», в нем «Брежнев», в «Брежневе» «Никита», в «Никите» - маленький «Сталин», в «Сталине» -совсем маленький карлик «Ленин».
Все это была потеха для иностранцев и для быдла. Увы, даже докатился до названия такого. А что? Неуважение к властям признак или тупости, или своенравия, или зависти. Конечно, власти - дерьмо, но лучше пусть такие, чем анархия. И не нам судить.
ДОЧКА ПРИШЛА и присела, и молчит. Я сижу, читаю. Она (обиженно): «Я сижу, как пустота. А ты говоришь: природа не терпит пустоты». Сорок лет прошло, а помню.
СУДЬЯ - ТАТАРИНУ: «Вы всю жизнь живете среди русских, в документах значится, что вы окончили русскую школу, и вы до сих пор не выучили падежи». - «Выучил, - отвечает татарин. - Я был именительный падеж, и она именительный. Я сделал предложный падеж, она ответила дательный. Мы вместе творительный, а если вместе, то почему я должен быть один винительный?»
НА ПЛЕНУМАХ, СЪЕЗДАХ, заседаниях, собраниях сколько же лет, именно лет, высидел. Это была такая писательская дементность. Мы памятники себе созидали, начиная чугунеть с задницы.
СЕРДИМСЯ НА ЖВАНОИДОВ ТВ и эстрады, а что сердиться? Чего и не стричь баранов? Жваноиды - показатель падения культуры. Она ушла от культа культуры и пришла к кассе.
Это давно начиналось. Замена житийной литературы литературой художественной, замена описания подлинного подвига реальной жизни святого «художественным образом» - это было бесовской заменой святости на щекотание нервов. Это не «лишние люди» в литературе, это такая литература лишняя. Что она дала? Раскрыла двери для революции?
Да нет, никого тут нельзя винить. Бог всем судья. И хлеба хватало, и зрелищ, и кто виноват, и что делать, было все. Даже и вопрос пилатов-ский - что есть истина - цитировался. Но Истина стояла перед ним и нами. До сердца не доходило. А в голове всегда ветер гуляет.
ВРЕМЯ ДАНО нам в наказание. Время - судья, время лечит, - говорится вроде как в утешение. Но главное: время приближает Страшный суд.
Страшный. Страшно. Тут одно спасет - молитва. Молюсь я - отодвигаю Страшный суд. Не молюсь - приближаю. Время неотвратимо, неотодви-гаемо, неумолимо, неизбежно. И разве боится Страшного суда святой?
ИЗ ДЕТСТВА. Кто-то кому-то сказал известие о смерти жадной женщины. Тот в ответ: «Хлеб на копейку подешевеет».
И из детства же, о нерадивой хозяйке: «У нее за что ни хвати, все в люди идти».
И оттуда же. Пиканка. Из консервной жести делали наконечники для стрел. А луки были сильные, тугие, из вереска. Стреляли в фанеру - пробивало. Стреляли в доску, у кого пиканка глубже воткнется. Вытаскивали осторожно, раскачивая за жестяной кончик. Охотились на ворон. У меня не получалось.
Еще помню: набирали в грудь воздуха и громко, без передышки, говорили: «Эх, маменька, ты скатай мене валенки, ни величеньки, ни ма-леньки, вот такие аккуратненьки, чтоб ходить мне по вечерочкам, по хорошеньким девчоночкам, провожать чтоб до крылечечка, чтобы билося сердечечко...», дальше еще что-то было, забыл. Видно, от того, что только на этот текст хватало воздуха.
«ДЕВКИ, ГДЕ ВЫ? - Тута, тута. - А где моя Марфута? Не гуляет тута?»
«БЮРОКРАТЫ КРУГОМ такие ли: бегал за трудовой книжкой по кабинетам. Одна сотрудница бланк мой потеряла, валит на меня. А я его ей отдавал. Она: “Ищите на себе”. Извините, говорю, бланк - не вошь. И что? И разоралась, и еще три дня гоняла. Ладно. Потом вышел, гляжу, она к остановке идет. Я про себя ей как бы говорю: “Бога ты не боишься”. И она тут же, вот представь, на ровном месте запнулась. Я же и подбежал поднять».
ХИРУРГ: «ТРУДНОСТЬ в том, что у людей разное измерение боли. Прощупываю: “Тут болит? А тут?” Терпеливый терпит, а неженка стонет от пустяка».
Вспомнил тут маму, говорила о городских женщинах: «Их-то болезнь - наше здоровье». То есть в поле, в лес, на луга, к домашней скотине ходили при температуре, при недомоганиях, ломотье в пояснице, в суставах, с головной болью. О гипертонии не слыхивали, хотя она, конечно, была у многих. Надо работать, и все.
Белье мама полоскала в ледяной воде. «Ночью потом руки в запястьях прямо выворачивало. Подушку кусаю, чтоб не застонать, вас не разбудить».
- НЕНАВИЖУ БАБ! Ты погляди на них, хоть на базаре, хоть в автобусе, все больные. А ведь перескрипят мужиков.
- ТЫ ХАПНУЛ комбинат за десять миллионов, а он стоит сто. Ты владей, но разницу государству верни.
- НЕОКЛЕВЕТАННЫЕ не спасутся. Напраслина на меня мне во спасение, так что продолжайте меня спасать, реките «всяк зол глагол».
НА КАМЧАТКУ ПРИЕХАЛИ молодые супруги. Заработать на квартиру. Дочка родилась и выросла до пяти лет. Это у нее уже родина. А деньги накоплены, и они свозили дочку к родителям. И уже вроде там обо всем договорились. Возвращаются за расчетом. Дочка в самолете увидела сопки и на весь самолет стала восторженно кричать: «Камча-точка моя родненькая, Камчаточка моя любименькая, Камчаточка моя хорошенькая, Камчаточка моя миленькая!» И что? И никуда ни она, ни родители не уехали. Именно благодаря ей. Сейчас она взрослая, три ребенка. Преподает в воскресной школе при епархии.
Очень я полюбил Камчатку.
В ЗАСТОЛЬЕ, с видом на пирамиды, которые вечером как коричневый картон на желтом фоне. Произносится тост, который не только духоподъемный, но и телоподъемный. Все встали. И откуда-то много мух.
«Давайте швыдких вспомним, и мухи подохнут». И точно - досиживали без насекомых.
«ДАЙТЕ МНЕ АПЧЕХОВА», - просил я в библиотеке детства. То есть я Чехова уже читал, но фамилию его запомнил по корешку, на котором было «А. П. Чехов», то есть Апчехов. Мало того, я не знал значения сокращений. Например, мистер обозначалось «м-р», доктор - «д-р». Так и читал: «Др Ватсон спросил мра Холмса». Или господин - «г-н». «Гн Вальсингам». Не знал, и что буква «о» с точкой - это отец. «О благочинный ласково благословил отрока».
Но читал же!
БАНЩИК ВАНЯ у Шмелева «читал-читал графа Толстого, дни и ночи все читал, дело забросил, ну в башке у него и перемутилось, стал заговариваться, да сухие веники и поджег» («Как я ходил к Толстому»).
ТАК ВЛЮБИЛАСЬ, что когда собиралась ему звонить, то перед этим причесывалась.
- КОГДА ЖЕНА наступает на горло собственной песне, это ее дело, это я могу понять, но за что, «за что, за что, о Боже мой?» она тут же передавливает горло моей песне? Причем, ведь вот что ужасно, как бы моей песне подпевая.
- ДОРОГУЩИЙ КОНЬЯК подарили. Принес, горжусь. А жена: «Какая, говорит, тебе разница, чем напиваться?» На, говорю, и весь коньяк в кадку с фикусом вылил. У нас фикус огромный, все время помногу поливаем. Вылил, сам рванул питье отечественного производителя. Уснул, просыпаюсь: песня. Откуда? Фикус поет и листьями качает.
НА ЛЕКЦИИ В СТУДЕНТАХ пускаю записку по рядам: «Сколько можно штаны протирать и на доцента глазеть? Давайте сбежим и возьмем “на ура” художественный музей».
И еще помню записку: «У студентов обычно нет промокашки. Что мы, разве мы первоклашки? Лист промокашки скромен, неярок, но ах, какой это был бы подарок. И собрав угасающую отвагу, я прошу промокательную бумагу». Студентки смеялись, бумаги надавали. А зачем просил, не помню.
«Дни, как грузчик, таскаю зазря. Но есть выходной с легким грузом. Завтра просплю я тебя, заря, и встану с голодным пузом».
«В болтовне язык не точится. В болтовне ум истощается. Но молчать совсем не хочется. И мораль вся тут кончается».
Это из сохранившихся студенческих.
А вот оттуда же, и как только сбереглось? М.б., 63-64-й г.:
АРМЕЙСКИЕ СТИХИ почти не сохранились. Но, дивное дело, сохранилась страничка, исписанная рукой брата. Он сохранил стихи, которые я посылал ему из армии в армию:
И прочел сохраненное, и вдруг ощутил, что многие живут в памяти. Надо их оттудова извлечь. Первые армейские, когда еще живой ракеты не видел, были бравыми:
Лихо. Все врал: «тревога» не срывала и так далее. Да и какие девчонки. Уходил в армию, поссорясь с одной и отринутый другой. Потом были стихи покрепче:
Или:
Это я для одного «женатика» написал.
Или:
Дальше шли мои зарифмованные уговоры отказаться от суицида, а завершалось:
И ему же:
По «заявкам трудящихся» сочинял частенько. Одно мое «творение» очень было популярным:
Это извлечение из середины стиха. А сочинилось оно «из жизни». Рядом с нашей сержантской школой в подмосковном Томилино (потом мы переехали в Вешняки) были огромные армейские склады, и нас, совсем зеленых, еще «доприсяжных», гоняли туда. А нам и в радость. Это ж не полоса препятствий, не строевая подготовка. В этих складах были не только обмундирование, топливо, всякие запчасти, и еда была. Таких, похожих на пропасть, емкостей для засолки капусты мне уж больше и не увидеть. И там, на этих складах, мое свободное сердце - а когда оно не свободно у поэта? - увлеклось учетчицей Любашей. Таких там орлов, как я, были стаи, но я-то чем взял: увидел у нее учебник литературы для школы. Оказывается, готовится к экзаменам в торговый техникум. Предложенная ей моя помощь ею отринута не была. Тогдашние экзамены требовали не собачьего натаскивания на ЕГЭ, сочинение требовалось и устный экзамен тоже. Ну вот. Она жила в доме барачного типа недалеко от части. И я - я рванул в самоволку. Любовь делает нас смелыми. Там проволока была в два ряда и собаки. Но собаки были давно прикормлены, своих не трогали, а в проволоке были секретные проходы. А чтобы тебя часовой пропустил, надо было сказать пароль: «Рубите лес!» - а часовой отвечал: «Копай руду». И все, и зеленый свет.
И вот я сижу у Любаши, и вот ей вручены мои стихи, и она: «Ах, это мне? Врешь! Списал!» И вот надвигается чай, я развожу тары-бары про образ Базарова или еще про кого, образов в литературе хватает. Далее - я не выдумал - дверь без стука открывается от пинка, и на пороге огромный сержантюга из стройбата. Любаша, взвизгнув, выпрыгивает в окно. Оно открыто, ибо это ранняя теплая осень. Сержант хватает меня за грудки, я возмущенно кричу: «Ты разберись вначале! Я ей к экзаменам помогаю готовиться». На столе, как алиби, тетради и учебники. Сержант не дурак, понимает, что ничего не было. Садится. Из одного кармана является бутылка белой, из другого красной. Выпиваем. Молчит. Знает, где что лежит у Любаши, ставит на стол. Закусываем. Еще выпиваем. После молчания: «А знаешь, хорошо, что я тебя застал. Я же на ней жениться хотел. А если она так к себе парней будет затаскивать, что с нее за жена?» - «Я не парень, я репетитор». - «Кто?» - «Ну, консультант». Вернулся я в часть, и как-то все обошлось, и пароль и отзыв. Только вот собаки облаяли, хотя и не тронули, не любят они пьяных.
Мое это стихотворение однополчане рассылали своим Любашкам, Наташкам, Сашкам (Александрам). Не у одного меня «смирительную рубашку на гордость не принимало сердце». Они переписывали стихи, как бы ими сочиненные, для своих адресаток. Все получалось хорошо, но иногда имя девушки сопротивлялось и не хотело лечь в строку. Как в нее поставить Тамару, Веру? Тогда в ход шли уменьшительно-ласкательные имена: Тамарашка, Верашка.
А раз меня засекли с книгой на посту. Чтение было увлекательным. Вот доказательство:
Сочиненное немного повторяет еще доармейское, когда я ездил поступать в Горький, в институт инженеров водного транспорта. Ткнул пальцем наугад в справочник высших учебных заведений. От того такая глупость, что с работы не отпускали, а учиться нельзя было запретить. Вот дальнейшее:
Крепко сказано. Автору семнадцать лет. Стихи, кстати, процитированы в повести «Боковой ветер», и вот - да, так бывало в советской империи, в ней книги читали, - прочли в Горьком, в этом вузе, и написали в Союз писателей справедливо обиженное письмо. Говорили об этом вузе самые хорошие слова. И я с этим очень был согласен и, конечно, извинился перед ректоратом и студенчеством.
- В РОССИИ ТРИ ПРОЗАИКА: Бунин, ты и я, - говорит по телефону знакомый писатель Анатолий.
Я понимаю, что он уже хорошо выпил.
- Тут у меня еще Женя сидит.
- Да, и еще Женя.
«ПЕЧАТЬ - САМОЕ сильное, самое острое оружие партии». Такой лозунг в моем детстве был повсюду. И я совершенно искренне думал, что это говорится о печатях. О тех, которые ставят на бумагах, на справках, которыми заверяют документы или чью-то доверенность. Круглые, треугольные, квадратные. Без них никуда. Все же знали, что документ без печати - простая бумажка. А «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Писали контрольные диктанты на листочкам с угловым штампом.
Так и думал. А когда мне стали внушать, что печать - это газета, журнал, я думал: какая ж это печать? Это газета, это журнал. А печать - это печать. И при ней штемпельная подушка. Прижмут к ней печать, подышат на нее, да и пристукнут ею по бумаге. И на отпечаток посмотрят. И человеку отдадут. А тот на печать полюбуется. Не на саму печать, а на ее оттиск, который уже тоже сам по себе печать.
ОТКУДА СЛОВО «золотарь», то есть ассенизатор (по Маяковскому, революцией призванный), я не знал. И вдруг в Иране разговор о поэзии. Проводят при дворе шаха вечер поэзии. Нравится шаху поэт, открывай рот, туда тебе накладывают полный рот золота. Не нравится - тоже открывай рот, и тоже накладывают, но уже другого «золота».
ОТЖЕВАЛ ЧЕЛОВЕК жвачку, бросил, а ее хватает воробей, думает, что это ему крошка хлеба. И клюв воробья увязает в жвачке, и воробей не может его вынуть. Да если еще зимой, жвачка быстро замерзает. Так и погибает.
ТЯГА ЗЕМНАЯ. Только ею побежден непобедимый Святогор. Земля. Все из нее, от нее и в нее. Всегда очень волновал запах земли, свежей пашни. Свежевырытой могилы. Конечно, по-разному. Народный академик Терентий Мальцев относился к ней как к родной матери. Приникал к ней, слушал ее, вдыхал запах. Время сева определял даже так: садился на пашню в одном белье, а то и без него. Шутил: «Сегодня рано, послезавтра поздно. Завтра выезжаем».
РАНЬШЕ ПЛЕВАЛИ в лицо, сейчас вслед, в спину. Прогресс. Значит, идем вперед, значит, боятся.
ВСПОМНИЛСЯ КАРТОННЫЙ шар, в который я был заключен. В школе математичка Мария Афанасьевна, зная о моих стихах по школьной стенгазете, велела сочинить стихи о геометрических фигурах: диагонали, катете, гипотенузе, биссектрисе, секторе, сегменте, прямоугольнике, трапеции, сказав, что все они вписаны в идеальное пространство шара. Написал как пьесу в стихах. И пришлось исполнять роль шара. Потом меня долго обзывали «толстый». Очень это было горько. Какая ж девочка полюбит мальчика с таким прозвищем?
- ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ подлецов, почему?
- Женщины любят победителей.
НАЧАЛО ПРОТЕСТАНТИЗМА от перевода Священного Писания Лютером от «Вульгаты». Он избегал слова «церковь». Он ушел от ватиканского престола, но, по гордыне, не пришел и к Восточной Церкви. Заменил слово «церковь» словом «приход», то есть вера в приход. Каждый приход получался столпом и утверждением Истины. И уже к середине XIX века было до семидесяти различных течений, движений протестантов. Плодились как кролики, и как кролики были прожорливы. Но не как кролики, не питались травой, им души простачков подавай.
ПРИТЧИ О ЗАСЕЯННЫХ полях. Одна о семенах, брошенных в землю придорожную, в каменистую, и в землю добрую. И другая - о том, как на посеянное поле ночью приходит враг нашего спасения и всевает плевелы. То есть, как ни добра почва, как ни хорошо всходят посевы, надо быть начеку. Не мы выращиваем их, но охранять обязаны.
- ВЫЛЕЧИЛ Я СВОЕГО соседа от беса, - говорит на привале во время крестного хода Анатолий. - Как? Он мне все время: бесы, бесы, все они ему карзились, казались. Видимо, пьянка догоняла, пил он крепко. А уже и отстал от пьянки, бесам-то, видно, в досаду. Опять тянут. Везде у него бесы. И жена уже не смогла с ним жить, ушла к матери. Звал его в церковь, ни за что не идет, не затащишь. Оделся я тогда, прости, Господи, самочиние, в беса. Вечером, попоздней. Вывернул шубу, лицо сажей вымазал. К нему. В коридоре грозно зарычал, потопал сапогами, дверь рванул, вламываюсь. Боже мой! Он в окно выпрыгнул. Я скорей домой, умылся. Рубашка, курточка. К нему. Он во дворе, еле жив, в дом идти боится. И мне, главное, ничего не рассказывает. В дом зашли вместе. Я у него в первую ночь ночевал. А потом в церкви батюшке повинился. «Ну Анатолий, - батюшка говорит, - ну Анатолий! А если б он умер от страха?» - Говорю: «От страха бес из него выскочил». - «Вместе с ним». А я скорей голову под епитрахиль сую. И что? И не являлись ему больше никакие бесы. Я к жене его сходил, уговорил вернуться.
ПОСЛУШНИКА ЯШУ поставили прямить гвозди. Их много надергали из старых досок, когда разбирали пристрой к церкви. Гвозди большие, прямятся плохо. Яша день промучался, а назавтра пошел в хозяйственный магазин, купил на свои деньги новых гвоздей, принес настоятелю. Думал, похвалят. А настоятель вздохнул и говорит: «Яша, конечно, и эти гвозди понадобятся. Спасибо. Но дороже мне старые гвозди, которые еще послужат. Ты не гвозди прямил, ты себя выпрямлял».
Яша-то очень уж нетерпелив был.
ЕВРЕЙ СПРАШИВАЕТ другого еврея: «А ты знаешь, кто Мао Цзэдун по национальности?» - «Не может быть!»
В ВЕЛИКОРЕЦКОМ на Никольском соборе проявился образ святителя Николая. И много таких явленных образов проступает по России.
Как же я любил бывать и живать в Великорецком! И дом тут у меня был. Шел за село, поднимался на возвышение, откуда хорошо видно далеко: река Великая, за ней чудиновская церковь. И леса, леса. Зеленый холм, на котором пасется стреноженный конь, мальчишки играют на ржавеющем брошенном остове комбайна. Как на скелете динозавра. Играют в корабль. Скрежещет ржавый штурвал.
ПРОЩАЙ, ИСПАНИЯ! Испания - вымечтанная страна отрочества и юности. Как я любил Испанию! «Арагонская хота», Сервантес, Лопе де Вега, Гойя, Веласкес, «Итак, Равель, танцуем болеро... О, эти пляски медленных крестьян. Испания, я вновь тобою пьян!», «Как ты думаешь, друг Санчо, не мало ли я свершил подвигов во имя прекрасной Дульси-неи Тобосской?» - «Думаю, чем мы сегодня будем ужинать». «Ночная стража в Мадриде», «Ах, как долго, долго едем, как трудна в горах дорога, лишь видны вдали хребты туманной Сьерры», Эль Греко, каталонцы, «Лиценсиат Видриера», Валенсия, Мадрид, Барселона, Саламанка, Кордильеры. музыка!
И вот, все это я к тому, что не бывать мне в Испании, не бывать. И сам не хочу в Испанию. Вернулись из нее жена и дочь, привезли множество фотографий. Гляжу: где Испания? «Макдональдсы», реклама английского виски, американских сигарет. Прощай, Испания, тебя убили. Хватит мне того, что бывал на многих могилах европейских стран. Мертвые города, мертвые ходят по улицам.
МОЛОДЯЩАЯСЯ ВДОВА, еще собирающаяся устроить жизнь, ухаживает за вдовцом: «Разреши мне поцелульку в щекульку». - «Моя твоя не понимай», - отшучивается вдовец. - «Чего понимать, Вася, хочется рябине к дубу перебраться». - «Я тебе не пара, ведь я глухой, бухой и старый». -«Сам сочинил?» - «Мне дублеров не надо». - «Вася, от восторга падаю!» -«Дуня, у нас говорили: “Шестьдесят лет дошел, назад ума пошел”». - «Вот именно! Ты молодеешь, Вася!» - «Дуся, я встал у стенки насовсем. Кранты.
Годен только на металлолом». - «Не верю! Зажгу! Растоплю любое замерзание... А? У тебя что, Вася, насчет любови не работает чердак?» - «Да за мной босиком по снегу бегали». - «Уже разуваюсь. О чем ты думаешь?» -«Думаю, что мне на поясницу лучше не горчичники, они ожгут, и все, а лучше редьку, всю ночь греет». - «Всю ночь? Зови меня редькой, Вася».
ВСЕ-ТАКИ РАССТОЯНИЕ между католиками и православными (не в смысле церковном, тут пропасть, а в житейском смысле) меньше, чем расстояние между православными и протестантами. Католики хоть слушать могут. А протестанты считают, что нас надо учить. Это с их-то обезбоженностью. Ученость их к этому привела. Много захотели знать, рано состарились.
Ученость всегда на один бок. Всегда в самомнение, в возглас: высшая ценность - человеческая личность! Эти личности валяются то мертвыми, то пьяными по всем континентам. Высшая ценность мира - Господь, мир сотворивший.
УЖАСНАЯ ИГРА детства «В царя». Я и понятия не имел, что это идет из начала Новой эры. У римских воинов в Иудее была такая игра «В царя». Выбирали жребием «царя», исполняли его желания, а потом (ссылаюсь на монахиню, которая говорила о последних днях земной жизни Христа), потом убивали. Они так и со Христом поступили, когда над Ним издевались. Это и в Евангелии. Ударяли Его сзади, а потом глумливо спрашивали: «Прорцы, кто Тебя ударил». И мы в детстве так играли. Один становился спиной, другие, столпясь сзади, по очереди ударяли. Ударяли по левой руке, которую «осужденный» высовывал из подмышки правой. А ладонью правой он прикрывал лицо. Точь-в-точь как на пермских деревянных скульптурах. Ударяли и спрашивали: кто? Если угадывал, угаданный шел на его место. Иногда ударяли очень сильно. Счеты сводили или еще что. Да-а, как откликалось в веках.
СЕКРЕТ ПСЕВДОНИМОВ, может быть, в том, что евреям хотелось стать как бы своими для того народа, в который они внедрялись. Нет, не так, лучше: в котором они поселялись и за счет которого жили. «Мы не Нахамкесы, не Гольдманы, не Бронштейны, не Зильберштейны, мы Ивановы-Петровы-Сидоровы, не Фельдманы - Полевые, не Гольдберги -Златогоровы. Мы вас освободили от царя, мы ваши, мы такие, как вы, только работать руками не умеем, а все головой, головой, все соображаем, как вас, русаков, осчастливить. А вы такие неблагодарные, ах, как нехорошо. Придется еще чего-нибудь придумать».
НАТАША ПРИ МНЕ сочинила новое слово. Сидела, чистила ноутбук от всяких электронных микробов. «Вроде все, - говорит. Вдруг: -Нет, еще и это выползает. Это нам ни к чему. Это надо лечить. Надо тут, думаю, вот такую “лечилку” применить».
Слово «лечилка» я раньше не слыхал.
«ЧТО НИ ДУРНО, то и потешно, - говорила мама, очень не одобряя всякие намазюкивания на лицо. - Соседка говорит: если с утра не накрашусь, так будто голая иду. Чего только не нашлепают на харю - прости Господи, лицо харей назвала. А как не назвать? Наштукатурят - лица не видно, будто скрывают то, что Бог дал. И совсем молодые, вот ведь! Старухи вроде как оправдывают себя: морщины мазью да пудрой скрываем. А что их скрывать? Мы их всей жизнью заработали, это награда. Ордена же не замазывают. И седина. Что плохого в седине?»
«Седина - это благородно, - поддакиваю я. - В Ветхом завете: “Перед сединами встань”. И лысиной можно гордиться: умным Бог лица набавляет. А косметика эта вся - это даже богоборчество. Правильно ты говоришь: будто лицо скрывают. Господь дал тебе лицо, а ты его перекрашивашь. Вроде у тебя не лицо, а холст натянутый, а ты художник, по нему рисуешь. Или тащишь его с собой в салон красоты. Вот тоже и подтяжки эти. Срам».
«Лицо, глядишь по телевизору, молодое вроде, а шея как у старой курицы. И глаза тусклые. Уж как ни пыжатся».
Такой с мамой разговор о косметике. А еще о том, какие молодые глупые:
«Слышали с подружкой разговор старух. Они говорят: “Вот, дожили до старости, теперь как бы до смерти дожить”. Мы отошли маленько в сторону, расхохотались: чего это такое: умрут, да и все. Вот какие дуры. Старухи-то во много умнее были. И смерти нельзя звать, и умирать вроде пора».
СТАРЫЙ ПОЭТ - это как старик, который вяжет. Берет привычные спицы, начинает низать петли. И выходит носок.
АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ, оставив денежки на свою премию для поощрения достижений в культуре и науке, одну науку из списка вычеркнул. Какую? Математику. Да, представьте, основную, фундаментальную, двигатель всего. А почему? Оказывается, за его женой ухаживал (и, пишут, небезуспешно) молодой математик. Так вот почему, понял я, не получил «нобеля» великий математик Игорь Ростиславович Шафаре-вич. Обидно. Но с другой стороны, тот-то ухажер-математик тоже премии не получил.
- ОДНА ОДЕРЖИМАЯ, это при мне было, я послушничал, приехала в наш монастырь, еле-еле (очень за нее просила родня) была допущена ко причастию. Причастилась, ее вырвало в ведро. А ведро вылили в помойку. Зима, мороз. Отец наместник узнал, меня благословил выдолбить всю помойку и вынести в мешках в реку. Архиерей узнал и действия архимандрита одобрил. Еще бы! Это ж причастие. Ох, я долбил, долбил.
- ВОТ, НАБЛЮДАЙ, кто как банки консервов открывает. Если какой верный муж, то открывает слева направо, а какой гулящий - справа налево. Я, говорит, имею право налево. Вот заметь.
- Да глупость все это!
- Конечно же. Но интересно.
ОГЛУШИТЕЛЬНО, ЯРОСТНО чихает. «Эх, продирает, эх, хороша у свата молодушка! - Достает большой серый платок. - Фильтр грубой очистки. - Высмаркивается, достает белый платок. - Фильтр тонкой очистки. - Добавляет: - Чихание с утра - признак здоровья, чихание вечером - признак простуды. - И еще чихает, и опять с присказенькой: -Здорово девки пляшут! От деда чихать научился. Он так чихал - у бабушки из рук кастрюля падала».
ИСПОВЕДЬ НА ВЕЛИКОЙ начинается с вечера. Всю ночь. Комары, костры. Приготовил, казалось, искреннюю фразу: «Каюсь в грехах, особенно в том, что понимаю, что грешу, но плохо их искореняю». - «Каешься? - сурово спросил высокий седой батюшка. - Да если б ты каялся, ты б уже тут рыдал, головой бы бился. Днесь спасения нашего главизна, это когда говорят?» - «На Благовещение». - «Правильно. И это каждый день надо говорить. День настал - спасайся! День спасения - это каждый день! Чего с тобой делать?» - Накрывает епитрахилью.
ОН ЖЕ: «ЧТО ВАЖНЕЕ - Рождество Божией Матери, или любой другой праздник, или день воскресный? Нынче совпало Рождество и воскресенье. Если бы Рождество было в другой день, конечно, пришли бы люди. А в воскресенье б было поменьше. Но ведь воскресенье - это Воскресение! Каждое воскресенье - это малая Пасха. В воскресенье не можешь идти, значит, ползи! В церковь! На литургию! Болен, умираешь? Тем более ползи. Врачи сказали: три часа тебе осталось жить, и за эти три часа можно спастись. Помни разбойника на Кресте. А если у тебя в запасе не три часа, а три дня - это такое богатство!»
ВСТРЕТИЛ ЗНАКОМОГО, гордится удостоверением: «Читай: “Член Правления Совета Дружбы народов”». - «А чего “народов”-то не с большой?» Юмора не понимает: «Исправим».
НЕУЖЕЛИ СНОВА придется жить в мире, где женщины ходят в брюках, курят, тащат за горло бутылку, накрашенные? Идут простоволосые, коротко остриженные, как после тифа. Думаешь так, когда идешь в крестном ходе с сестричками во Христе: все в платьях, юбках, сарафанах, все без косметики, все такие красивые.
Да, есть, есть красавицы. И всегда будут, пока будут верить в Бога. А эти, по собачьей кличке гламур, эти куда? Этим всего быстрее к погибели.
МАМА: «МНЕ мама говорила: “Дожила, дочка, соседи дороже детей”. -“Почему?” - “Вас же никого нет, все далеко. А соседка заходит, воды принесет”. А тятя мой все себя казнил, почему маму не спросил, кого ей жалко. Она умирала, ее последние слова были: “Жалко, ой как жалко!”»
Я эту бабушку Сашу, маму мамы, помню. Маленькая, худенькая, звала меня Ова. «Ова, принеси из погреба крынку». Я приносил. «Ова, возьми ложку, всю сметану сверху счерпай, съешь». Все ругала моего любимого дедушку, что он меня заставляет работать. Да разве он заставлял? Я сам рвался ему помочь. Он молчалив был. Но так помню, просто ощутимо помню, как он кладет мне на голову огромную ладонь. Как шапку надевает. Это он так похвалил меня за то, что выпрямляю гвозди. Помню, боялся сказать, что промахнулся и ударил молотком по пальцу, палец почернел. Прошло.
ИЕРУСАЛИМ, ДОМ УСПЕНИЯ Божией Матери. Скульптура в гробу. На православный взгляд, когда увидел впервые, не испытал прилива благоговения, рассматривал. Думал: все-таки это католическое. А нынче опять был там. И бежит ко гробу женщина и кидается на колени и рыдает: «Мати Божия, Мати Божия!» И все увиделось иначе.
ЕВДОКИЯ ПРО СВОЮ дочь: «Редчайшая сволочь! Развратница! Раньше меня невинности лишилась. С баптистами связалась. Потом эти хари в раме, бритые и в простынях. Вот такие хари. Привела их. Я чуть в окно не выскочила. Еле-еле не пустила на квартиру. “Дочь, у меня тут муж”. - “Ну и что? Сколько их у тебя было. Давай его притравим, ускорим естественное угасание организма!” - “Опомнись! Он же бросал сирень-цветы в мое полночное окно”».
ЖЕНЩИНА-ЧИСТЮЛЯ - это страшно. Заездит чистотой. С ней жить почти невозможно. Муж не ангел, не может он летать над полом, не может не сажать пятен на брюки, не может до стерильности отмывать тарелки. Да и зачем? С грязного не треснешь, с чистого не воскреснешь, гласит мудрая вятская пословица, в основе которой библейские «неумовенные руки». Не может муж постоянно вымывать шею, чтобы сохранить воротник рубашки в девственной белизне. Он у жены из грязнуль не вылезает, да еще и обязан быть благодарным, что она его так чисто содержит. Ей никогда не объяснить, просто не поймет, какая мне разница, что весь день ходил в разных носках. Ну, завтра пойду в одинаковых, - я что, от этого умнее стану?
В конце концов, раз сошелся с такой женщиной-чистюлей, надо терпеть. Если любит, так, в конце концов, должна понять, что мужа не переделаешь. Но вот что касается мужчины-чистюли, то этот тип просто отвратителен. Его щепетильность, его эти всякие приборы для бритья, для волос и кожи, для обуви, это же надо об этом обо всем думать, время тратить, и потом, его какой-то дезодорантной дрянью пахнущие модные одежды, его брезгливость в общественном транспорте, его сразу заметное ощущение превосходства перед другими. Нелегко дается такое внешнее превосходство. О нем же надо заботиться непрерывно. Время тратить. А время не деньги, не вернешь, не наживешь.
Обычно таких чистюль женщины не любят. А вот, думаю, свести бы этих чистоплюев, его и ее, в парочку. Для чистоты отношений. Представляю, какие у них будут стерильные разговоры. «Чистютенький мой пупсичек», «Свежемытенькая моя лимпопонечка!»
КАК ХОРОШО ПИСАТЕЛЮ! В искусстве лучше всех именно писателю. ХУДОЖНИК натаскается с мольбертом, намерзнется на пленэре, нагрунтуется досыта холстов, измучится с натягиванием их на подрамники, а краски? И сохнут и дохнут. И картина в одном экземпляре. И с выставки при переезде могут картины поцарапать или вовсе украсть. И приходиться дарить их даром нужным людям. Это пока выйдешь в люди.
А чаще всего тебя специально держат в безвестности, в бедности, загоняют в могилу, чтоб потом на тебе нажиться.
СКУЛЬПТОРУ тяжело не столько от тяжести материала: глины, мрамора, дерева, гранита, даже гипса, арматуры, тяжело от безденежья, ведь мастерская у него побольше, чем у всяких акварелистов, и материалы дороги. Да уж придется много-таки ваять памятников богатым покойникам, которых рады скорее закопать родственники, и от этой их радости от них и скульптору перепадет. Для своего творчества. Да еще получи-ка заказ, выдержи конкурс. Все же члены комиссии уже куплены-перекуплены.
РЕЖИССЕР пока молодой, то еще ничего, жить можно. А дальше? Все же приедается, все же было. Ну, перебрал трех жен, десятка два любовниц, скучно же. Премий пополучал, поездил. Уже и печень стонет, уже и сердчишко. И все притворяйся, все изображай какие-то поиски, пути, глубину постижения образов, соединения авангарда и традиции. Хренота все это. Да еще вцепится на старости лет молоденькая стерва из ГИТИСа, вот и выводи ее в Джульетты.
А ПЕВЦАМ, певицам каково? Но им-то еще все-таки терпимо. У басов и теноров голос может долго держаться. А БАЛЕРУНАМ? Не успеют по молодости выйти в знаменитости, и не успеют никогда. А как пробиться? Все же занято. Завистники сожрут.
АРХИТЕКТОРЫ? Тут тяжко вздохнем и даже не углубляемся.
И все они зависимы. От костюмеров, осветителей, гримеров, продюсеров, от всего. От подрядчиков, от властей, от пожарных и т.д и т.п.
Нет, ПИСАТЕЛЕМ быть - милое дело. Взял блокнотик да карандашик, да и пошел в люди. А то и никуда не пошел. Просто сел на завалинку. И люди сели рядом с тобой.
В музыке нет запахов, в живописи нет звука, в архитектуре нет движения, в танце нет слов, у певцов и исполнителей чужие мотивы и тексты... А вот в СЛОВЕ есть все.
На это обратил мое внимание Георгий Васильевич Свиридов. Искренне я сказал ему, что многие искусства могу понять, но что музыка для меня на седьмом небе. «Нет, Слово, прежде всего Слово. Оно начало всех начал, Им все создано. Им все побуждается к действию. (Жене, громко): Эльза! Позвони врачу! (Мне): И позвонит. А я только всего-навсего три слова сказал, а Эльза идет и звонит. А Господь сказал: “Да будет Свет!” И стал свет».
МОЛОДОСТЬ ПРОШЛА - какое счастье! Прошло это кипение самонадеянных мыслей, эти телесные наваждения, эти внезапные нашествия глупых поступков. Сколько добрых молодцев залетело в тюрьмы, сколько спилось, сколько на дурах женилось, сколько уже т а м. О, если бы не Господь Бог и не ангел мой хранитель, где бы я был? Господи Боже мой, не оставь напоследок! Господи, дай претерпеть до конца, Господи, дай спастись!
ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО сужается, а словесное разбухает и поглощает духовность. Понять это можно через изречение: «Извините, что написал длинно, не было времени написать коротко». Еще и от того, что обилие слов - имитация мыслей. «Вы хочете мыслей, их есть у меня». А уже и нет. Духовность убивается взглядом вовне, а не внутрь.
«ЗАПОМНИ: БАБЫ - рабы инстинкта, а мы - рабы Божии». - «Да уж, хорошо, если б так. Бабьи мы рабы. Рабы желаний плоти. Сидим, выпиваем, чем плохо? А женщина придет, и все испортит. Так?» - «Смотря какая женщина». - «Любая. И куда ты от них денешься?» - «В каком смысле?» - «В любом. Главное - понять, что это не дождь идет, не прохожие идут, это жизнь проходит. Это ты умираешь». - «Но так же и женщина». - «Если без Бога, то так».
ПОСЛЕДНЕЕ ЯБЛОКО, упавшее с антоновки, лежит у крыльца. А у меня горе - больна Надя. Все жили, ругались, а тут так прижало. Вез в «скорой помощи», огни улицы на ее белом лице. Лежит в больнице неделю, все не лучше.
Не был в деревне давно, приехал, сижу у окна, гляжу на ее цветы. Зачем все, думаю, если бы остался один? Этот дом, работа, вся жизнь. Вот только дети. Дети, да.
Сегодня Димитриевская суббота. Снег, ржавчина листьев на снегу. Сам весь больной, в температуре, в соплях, поясница, но это-то что, не от этого умирают. А у Нади серьезно. Плакал в церкви, заказав молебен об исцелении рабы Божией Надежды. Нет, нет, нельзя, чтобы жена уходила первой. И ей говорю: «Надя, запомни: Надежда умирает последней».
СТАЛИН ЗАСТАВИЛ американских евреев заставить американское правительство помогать русским воевать с Гитлером. За это государство евреям обещал. И слово сдержал. Ну, Крым не Крым, но Биробиджан - это же лучшие земли Сибири. Плюс автономия. Уехали туда, но очень мало. Тогда и Палестину получайте. И, может быть, полагал, что все уедут. Уехали далеко не все. Зачем? Им и тут хорошо. И там.
А был еще анекдот. Еврей то уедет в Израиль, то опять обратно просится. То туда, то сюда. Чекист: «Вам здесь плохо?» - «Да». - «И в Израиле плохо?» - «Да». - «Так где же вам хорошо?» - «В дороге». Приучил их Моисей кочевать.
«Еврей Америки чувствует еврея русского, тогда как я не чувствую русского даже в соседней улице. Мы все “один”, каждый из нас “один”, но евреи “все”, во всякой точке “все” ..» (В. Розанов)
А ЦЫГАН КТО приучил? Тоже на месте не сидится. Кажется, Маркс (Кошмаркс) писал, что социализм тогда победит, когда кочевые народы станут оседлыми. То есть перестанут счастье искать, успокоятся.
Цыган: «Мы имеем право воровать, мы у Креста гвозди украли, чтобы Христа не распинали».
ПОДАЮ НИЩЕМУ, привычно: «О здравии трех Владимиров, дедушки, сына и внука, Надежды, Натальи, Екатерины, Прасковьи. - Крестится. - А твое какое святое имя?» - «Легко запомнить - Дмитрий. Димитрий Донской. Слышал?»
НУ ИЗБРАЛИ МЕНЯ в академики, ну вскоре ввели в Президиум, и что? Я что, умнее стал или писать стал лучше? А званием все-таки пользуюсь. Когда какое письмо для какого нужного дела подписать. А также для внуков. Но это им, как они выражовываются, «пофиг». Стыд и позор академику российской словесности за такой лексикон внуков.
«Я ВИДЕЛ ВСЕ, я изжился». - «А пирамиды египетские видел? Нет? Так как же все видел?» - «Людей я видел. Рассветы, и закаты, и дни, и ночи, чего еще?»
«ВЫПЬЕМ ЕЩЕ?» - «А куда мы денемся? Все равно уже выпили. Смотри: трава, деревья, закат! Одна природа к нам добра. Вот кто высшего женского рода - природа! Она не обманет. А будет буря, шторм - заслужили. Наливай! За высшую меру! Радости! Расплата потом. Наливай».
- СПАСИБО ЕЙ: крепко заставила страдать. А то я все срывал цветы удовольствий, да вдыхал их аромат, да, как Печорин, бросал в пыль. А она скрутила, сделала человеком. О, если б ты ее видел! Я ее как увижу, прямо сердце растет.
СЛЕСАРЬ СЕРГЕЙ соображает во всем, варит аргоном, а это высший класс. Где чуть что, какое в механизмах затруднение, все мастера к нему. А запивает - берет ящик водки, выгоняет жену и запирается.
ДАМА НЕПОНЯТНЫХ лет напористо вещает: «У нас не поставлено сексуальное воспитание, нет культуры общения полов, от этого частые разводы. Молодые люди не понимают, что любовь - это не что иное, как целая наука».
- Брешешь ты все, - говорю я ей, - какая это наука? Любовь, это любовь. И какая культура общения полов или там потолков, это любовь, и все. Вот две частушки, показывающие полное непонимание этого общения: «Как и нынешни ребята не поют, а квакают. Целоваться не умеют, только обмуслякают». И вторая: «Меня милый не целует, говорит: потом, потом. Я иду, а он на лавке тренируется с котом». То есть вот такая критика неумелого влюбленного, отсутствия сексуального воспитания. Но жили! Но рожали по десять детей! Не изменяли друг другу. Для мужчины женщиной могла быть только одна женщина - жена. Для жены единственный мужчина - муж. И в любви друг к другу раскрывались всеми силами, и душевными, и телесными. Ты вот сильно воспитана, так что ж третий раз замужем? А в школу вдвигали половое воспитание, и что? Увеличили разврат, только и всего.
БЫВШИЙ ЗЭК: «Западло не жил. Самолично не воровал, не грабил, в замках понимал. Нет такого замка, такой сигнализации, охраны электронной, чтоб я не осилил. На каждый замок есть отмычка. Тут она (постучал по лбу). И жил без подлянки. Но подумай: работа совместная, надо делиться. Так они не только обсчитали, даже подставили. Отмотал пятеру, выхожу - подползают на брюхе: помоги, весь навар твой. - “Вам что, замок надо открыть? Вот этим ключом откройте”. Сложил кукиш, покрутил перед мордами. Тронуть не посмели. Законы знают. А я в тюрьме поумнел. Там даже священник приходил».
ИРКУТСК ЖЕЛТЕЕТ, Москва чернеет. Посмотрите на рынки. А вечером в метро? И жалко их даже, людей по кличке «гастарбайтер». Детство же было и у них. Тут-то им не родина, мы им чужие. Они ж сюда не в Третьяковку сходить приезжают. А нас за что теснить? Терпим.
Терпим, а опять во всем виноваты. И опять нас вопрошают: когда же мы уйдем из мировой истории. И опять мы отвечаем: уйдем вместе с ней. Г ибель России означает гибель остального мира.
Китай, китайцы, узбеки, корейцы заполнят просторы России. И что? Научатся валенки валять? На лыжах бегать? Свиней разводить? На белок охотиться? У оторванных от родины какая будет культура? Стоны и стенания?
СТАРИК, СТАРИК! - кричит старуха.
- В наш дом влетела бляха-муха.
Вскочил старик, дал мухе в ухо.
- Орел старик! - кричит старуха.
Сочинено, конечно, не про летающее насекомое. В подтексте то самое ребро, в которое лезет бес, когда седина в бороду. А в надтексте решимость юного старичка порвать с соблазном. И изгнание его. И радость жены, освободившейся от конкурентки.
ХУДОЖНИК БОРЦОВ
Андриан Алексеевич Борцов, земляк, роста был небольшого, но крепок необычайно. С женщиной на руках плясал вприсядку. Писал природу, гибнущие деревни. У него очень получалась керамика. И тут его много эксплуатировали кремлевские заказчики. Он делал подарки приезжавшим в СССР всяким главам государств. Сервизы, большие декоративные блюда. Где вот теперь все это? Уже и не собрать никогда его наследие. И платили-то ему копейки. Когда и не платили, просто забирали. И заикнуться не смей об оплате: советский человек, должен понимать, что дарим коммунистам Азии, Африки и Европы.
Старые уже его знакомые художники вспоминают его с благодарностью: он был председателем ревизионной комиссии Союза художников. «Всегда знали, что защитит».
Он всю жизнь носил бороду. «В шестидесятые встретит какая старуха-комсомолка, старается даже схватить за бороду. А я им: на парикмахерскую денег нет. Не драться же с ними. А уже с семидесятых, особенно с восьмидесятых бороды пошли. Вначале редко, потом побольше, повсеместно».
В моей родне ношение бород прервалось именно в годы богоборчества. Отец бороды не носил и вначале даже и мою бороду не одобрял. А вот дедушки не поддались. Так что я подхватил их эстафету.
Да, Андриан. Были у меня его подаренные картины, все сгорели. Но помню. «Калина красная», например, памяти Шукшина. «Три богатыря» - три старухи, стоящие на фоне погибающей деревни, последние ее хранители.
В РЕКЛАМЕ НА ТВ полуголая бабенка жадно обнюхивает плохо побритого мужчину. Оказывается, он - какое-то мачо, пахнет непонятно чем, но видно же - бабенка дуреет. Покупайте, мужчины, прыскайтесь, можно будет за женщинами не ухаживать: понюхают и упадут. Или другая реклама: румяный дурак, насквозь обалдевший от того, что сунул голову в капкан кредита. И третья: молодожены ликуют - они уже в клетке ипотеки. Пока изображают радость.
А сколько зрителей в эти часы, дни, годы превращаются в идиотов.
ПРАВОСЛАВИЕ НИКОГДА не ставило задачи сделать жизнь людей легче. Для православия главное, чтоб человек стал лучше. А станет лучше, то и любая жизнь ему будет хороша.
СОН О СТАРШЕМ нерожденном сыне. Плакал во сне и, проснувшись, продолжал плакать.
ЧИТАЕШЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ или религиозное и постоянно указывается на утраченные тексты. «От его сочинений (святителя, богослова, философа) сохранилось только...» Но нам же хватает и сохранившегося. Пропавшие были, естественно, не хуже. И что? Библиотеки, и те горели, и доселе горят. С непрочитанными текстами. И нам хоть бы что. Вздохнули, да и дальше живем. А сейчас и гореть им не надо, их просто убивают.
ВНЕЗАПНО ВДРУГ вспоминается какое-то меткое выражение, которое, может быть, и не употреблял лет шестьдесят. А оно, значит, жило во мне.
Вот сегодня вдруг выскочило: «Не спрашивают - не сплясывай!» Это человеку, который суется что-то сказать, толком не вникнув в суть дела.
КАТОЛИКИ И МЫ - это два мира, потому что было два детства. У них только Рождество, оно у них и главное. У нас, конечно, тоже Рождество, его незабываемое морозное ликование, а у нас еще и ледяные крещенские проруби, но и, прежде всего, великий день - Пасха Христова. А она о чем? Она о победе над смертью.
Да и Рождество у них - это распродажа. И Санта Клаус для рекламы кока-колы.
Убогий у них быт. Замкнутый. Вот наши русские дома - какие резные окна, какие ставни, крыльца какие расписные. А у них, у них все внимание на двери. Запоры какие, засовы какие кованые. Видел я выставку такую. А видов наших замков там негусто. Я вообще из детства замков не помню. У них: мой дом - моя крепость; у нас: заходи, садись за стол.
И как они давали клятвы? Клали руку на эфес шпаги. Вроде красиво - слово рыцаря. Мы - прикладывая руку к сердцу.
Разница?
Есть большие отличия и в миропонимании меж нами и мусульманами. Да, единобожие. А кто для мусульман Аллах, воплощение чего? Справедливости.
Конечно, это хорошо. А вдуматься? Тогда будет справедливо пересажать всех несправедливо судящих, обманывающих. Тут буква закона. Но спасает ли закон? Милость выше закона или нет?
Наш Бог - это любовь. Это и прощение, и строгость, и терпение, все тут. Разница эта началась в первые века новой эры, когда западный мир стал жить по Писанию, из которого был вычеркнут Иисус Христос. Конечно, тогда чего ждать? Разница стала пропастью непонимания нас Европой. И нам еще говорят, что мы - Европа. Ну уж, увольте, в инкубатор не хотим. А считаете нас отсталыми, так от чего мы отстали? От безбожия? Слава Богу.
И все-таки, все-таки лучше чалма, чем тиара.
ХОРОНИЛИ АБРАМОВА. Человек из обкома не хотел давать выступить Василию Белову. Жена Абрамова, уже вдова, Людмила Александровна, ворвалась в комнату президиума, где нам повязывали траурные повязки для почетного караула, и во всеуслышание заявила: «Если не дадите слова Белову, я вам прямо у гроба скандал устрою!»
А тогда только что наши войска вошли в Афганистан. Не самовольно, отвечая на просьбу правительства. Теперь, по прошествии времени, понятно, что для нас-то это было трагично: сколько гробов разлетелось по Руси, но гибель Афганистана отодвинуло. Русских солдат - шурави -афганцы вспоминают с благодарностью.
И в моем родном селе есть могилы «афганцев» и, позднее, «чеченцев». В другом районе, сам видел, могила солдата в его родном дворе. Потребовала мать, чтобы цинковый гроб (не разрешили открыть) закопали во дворе. Потом совсем недолго пожила, еще ей и сорока не было. И цинковый гроб, и ее, деревянный, упокоились на общем кладбище.
Вот она - русская судьба.
Тогда Василий Иванович предсказал трагедию Афгана.
Выступал там и Гранин Даниил. Причитал: «Ах, Федя, Федя, как ты рано умер, а ты так много обещал». Ну не глупость? Кто же тогда за Абрамова написал трилогию «Пряслины»? «Две зимы, три лета»? «Аль-ку»? «Пелагею»?
Сам-то Гранин что написал? «Иду на грозу»? Очерк об ученых. А с Адамовичем походили по квартирам блокадников, позаписывали. Да все втравливали в разговоры о мерзостях, например о том, куда приходилось девать экскременты. Именно эти либеральные классики воспитали нобелевскую лауреатку, которая соскребала с женщин на войне только грязь, только оговоры нашего воинства.
А вот есть в Белоруссии прекраснейшая писательница Татьяна Дашкевич. Она написала книгу «Дети на войне» - великая книга! И в ней много трагичного, но в ней есть свет любви.
Да, Федор Александрович. За неделю до его кончины мы с ним, еще Василий Иванович, обедали в ресторане гостиницы «Россия». Он все подшучивал над Василием Ивановичем, тот над ним. «Чего ж ты семгу заказываешь, ты же написал про нее “Жила-была семужка”?» - «А ты и семужки в Вологодчине сухопутной не едал, хоть сейчас поешь. - И мне: - Пей, на нас не гляди. Пей. Написал же “Живую воду”, пей, не уклоняйся от привычек народа».
Когда гроб с телом его опустили в родную ему землю на высоком берегу Пинеги и воздвигли над могильным холмом еще один холм из цветов, в деревенском клубе начались поминки. Село человек триста, но ведь очень много приехало отовсюду. Люди все шли и шли. Шли и несли поминальные рыбные пироги, завернутые в старинные расшитые полотенца. Женщины из Архангельского народного хора, все увеличивая льющиеся слезы, пели любимую песню писателя-земляка: «Ой, по этой травушке ходить не находиться. Ой, по этой травушке тебе больше не ходити, ой, на эту травушку тебе больше не ступати...»
- ВОТ СПАСИБО злой жене: загнала в монастырь, - говорит монах. -А ты сочувствуешь нам. Зачем? Здесь нам рай: и кормят, и спать есть на чем. И денег не надо. Нам что, - вот вам там, в миру, каково?
КТО БЫ НАПИСАЛ об этих событиях борьбы за Россию, о борьбе с поворотом северных рек на юг, о 600-летии Куликовской битвы. Пробовал, не получится. Потому что участником был, а тот, кто сражается, плохо рассказывает о сражении. Вроде как буду хвалиться. Помню, Белов послал мне статью свою «Спасут ли Воже и Лача Каспийское море?» Я ее повез Залыгину в больницу, в Сокольники. Он сказал: «Надо шире, надо подключать академиков, научные силы. А то статья писателя. Скажут: эмоции». Залыгин имел опыт борьбы против строительства НижнеОбской ГЭС. Но там был довод: там место низменное, затапливалось миллион гектаров, а главное - нашли залежи нефти. А тут жмут - надо спасать Каспий, давать воду южным республикам. Как противостоять?
И закрутилось. Какие были выступления, вечера. Один Фатей Яковлевич Шипунов чего стоил. Отбились. Конечно, за счет здоровья, нервов, потери ненаписанного. Но и противники иногда сами помогали. Что такое болота? Это великая ценность для природы. А министр мелиорации Полад-заде, выросший, видимо, на камнях, договорился (ТВ. 27.6.82) до того, что болота не нужны, безполезны, что клюкву можно выращивать на искусственных плантациях, она на них будет вкуснее. Это уже было такой глупостью, что и его сторонники эту глупость понимали. Это было все равно как утверждение Хрущева об изготовлении черной рыбной икры из нефти. Слово писателя тогда многого стоило. Бывало, что люди, взволнованные чем-то, возмущались: «Куда смотрят писатели?»
- ЗА ОТХОДЫ ОТ ТРАДИЦИЙ! - такая здравица, - возглашает Витя. -Пьет, крякает. - За что я кровь мешками проливал, а нервы ящиками?
КИНОМЕХАНИК ГВОЗДЕВ Митя. Кинолента «Ленин в Октябре» сгорела. Посадили на 12 лет.
ВЛАСТИ ГОВОРЯТ о поддержке талантов. Но если талант искренен, народен, то он обязательно противоречит тем, кто его собирается поддерживать.
ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЛСЯ до тех пор, пока не сдался.
ЖАРГОНЫ БЫЛИ всегда. Не прикалывались, а кадрились. Не крутой мужик, а балдежный, четкий, неслабо говорит. Но уж такого количества мусорной словесной дряни не бывало. Будто все сговорились «по фене бо-тать». Тут и нравственная распущенность, но тут и противление официальной казенщине языков журналистов, политиков, дипломатов, ученых, говорящих такими штампами, что только им одним кажется, что они умные. Другие их просто не понимают, уже и не вслушиваются. Проще сказать: энергия жаргонов увлекает тем, что увеличивает действие речи. На это клюют «деятели» искусства, особенно кино. Дожили: знаменитости - пишут Путину, больше ему делать нечего, разрешить вдвигать матерщину в диалоги экранных героев. Мол, все равно же люди матерятся.
Какой это срам! И ведь не швыдкие, а михалковы, хотиненки. И м ли не знать, что на Руси никогда не было матерного слова. Никогда! Появилось оно в татаро-монгольское иго. Разрешили русским ходить в церковь, а сами стояли у нее и издевались, говоря: «Идите к своей, такой-то матери».
Как материться? Какую ты мать поминаешь? Божию? Ту, что родила? Крестную? Мать сыру землю? Родину-мать?
НА ЗАВОД «ДИНАМО» в компрессорный цех еле попали (78-й год) Станки в церковном здании. Ревут отбойные молотки. Кричим друг другу, прямо глохнем. Черные компрессоры. Росписи стен закопчены. Вдруг резко стихает, выключили молотки. Зато вырывает шланг, ударяет сжатым воздухом в разные стороны. Пылища, шланг носится как змея и по полу, и взлетает. На месте захоронения Пересвета и Осляби станок. Женщина в годах. «Тут я венчалась».
РОЖДЕННЫЙ ТВОРИТ, сотворенный безплоден. То же: искусственное сделанное блестит, естественное мерцает. (Разговор с Леоновым. Рассказ о Сталине, Горьком. Ягода хотел Леонова закатать, те заступились. Ванга виновна в том, что «Пирамида» читается тяжело, не вошла в пространство культуры. Сказала Ванга Леонову, что не умрет, пока не закончит роман. Он и тянул. Жизнь и роман увеличивались. Жизнь все равно кончилась. На похоронах Леонова вышел из-за кулис и потом ушел за них Астафьев. Г невно сказал в непонятный адрес «литературных шавок», которые «рвали писателя за штаны». То есть как понять? Тормозили работу? Конечно, тут Астафьев имел в виду себя.)
Ох, а как страшно вспоминать похороны Астафьева. Не буду.
«КРЫША ПОЕХАЛА» - это уже повсеместное выражение. А вот ничуть не худшее выражение: «Посылка до ног не доходит», то есть приказ головы не выполняется, не туда пошел, забыто. Почта стала дорогой и от этого стала еще хуже работать.
ТАЕЖНИК-ПИСАТЕЛЬ: «Написать хочу, как наши звери, которые ушли в Европу на меха, оживают и вцепляются в головы, в голые плечи. Соболи, зайцы, бобры, белки, лисицы, норки... Представляешь?» -«С радостью».
СТРОЯТ, ВОРУЮТ строительные материалы. Находится один честный. Вдруг он при всех берет банку краски. «Куда?» - «Вот, ворую.» - «Ты же позоришь нашу бригаду.» - «Так банка уже уворована.» Молчат.
76-й, ОСЕНЬ, ФЕРМА. Клички коров. «На коров попа нет, сами крестим.» Доярки в годах дают прежние, родные мне с детства имена: Зорька, Милка, Ночка, Звездочка, Бура, Пеструха, Сиротка, а молодежь именует уже по-новому: Деловая, Рубрика, Жакетка, Бахвалка, Переучка, Баллада, почему-то Коптилка, Опечатка, Салака, Нажива... Четыреста голов. (Это 76-й. Четыреста коров только на одной ферме. Сейчас ни одной, и только сгнившие стены. И на дрова не разбирают, деревня почти убита. Да, сатана, сильны твои прихвостни.)
«И опустевшая деревня московский смотрит охмуреж».
- НА ПЕНСИЮ НЕ пускали. «Пойдешь на склад ЧБ». Понял, на какой склад? Чебэ, чугунные болванки. Что, говорю, таскать их? Не хочу таскать. «Не хочешь таскать, поедешь пилить». - «Так это из анекдота о Ленине. Он сам-то таскал надутое резиновое бревно. Ему привезли обед, другие голодные. Он ест, а лицо у него такое доброе-доброе. Так ты пошел на склад ЧБ?» - «Пошел. Квитанции выписывал».
ДОСЬЕ НА ЛЕНИНА собирал Федор Абрамов. Рассказывал многое. Уже и неинтересно пересказывать. Где-то же хранится. И я помню. Но что мусолить. Также Куранов собирал факты. Еще в 60-е. Откуда-то взял факт: в Симбирске их отца навестил священник. Отец-то Ленина был приличный человек. Его жена тиранила. Гоняла по Симбирску, все хотела дом получше. К 100-летию не знали даже какой превращать в музей. Когда возникают справедливые разговоры о возвращении имени Симбирска Ульяновску, то в защиту этого имени говорят, что это не в честь Владимира Ленина, а в честь Ильи Николаевича, народного просветителя. Так вот, пришел священник, а Володя говорит Мите: я этого попа ненавижу. Во дворе он сорвал с себя крестик и топтал его ногами. Он пошел своим путем.
Теперь уже все в руках Божиих.
МОГИЛА УЛЬЯНОВА Ильи Николаевича была в парке, сделанном на месте кладбища. Могилу хранили, стоял памятник. Недалеко там же было захоронение Андреюшки, любимого симбирского юродивого. Старухи не дали затоптать могилку, все клали на нее цветы. Милиция гоняла. Сейчас мощи в храме. «Андреюшка, милый, помоги!»
ЦЫГАН СИДИТ в тюрьме с урками, усваивает их лексикон, по их уголовной фене ботает. Одна из жен его еле находит. «Где ты потерялся?» - «Как я потеряюсь, тут в день раз по десять пересчитывают и спящих считают». Из тюрьмы не хочет выходить, придумывает, что не только торговал наркотиками, но и готовил захват власти. Следователю смешно.
НА ИЛЬИЧЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ все: драмоделы, киношники, художники. Особенно скульпторы. «Ваяю Лукича». Такое прозвище было у Ильича. А шуток! Изваяли: стоит в кепке и кепка в руке. «Серпом по молоту стуча, мы прославляем Ильича». Анекдотов! Картина «Ленин в Польше». На картине Крупская с Дзержинским. Одеколон «Запах Ильича». «Наденька, что это в коридоре такой грохот?» - «А это железный Феликс упал». Любимый «ленинский» анекдот: приходят Горький и Дзержинский к Ленину, советуются - может ли большевик иметь и любовницу и жену или только жену? «И жену, и любовницу! - твердо отвечает вождь мирового пролетариата. - Жене говоришь: пошел к любовнице, любовнице сообщаешь, что вынужден остаться у жены, а сам на чердачок - и конспектировать, конспектировать, конспектировать».
Очень книжный в трудах Ленин, очень компилятивный, читали его только из-под палки. И оставался бы книжным червем. Нет, крови жаждал. Конечно, видишь неотвратимость Божьего наказания России за богоотступничество, но такой ценой?! Аттила - бич Божий для Европы за ее отступление от Бога после времен раннего христианства. И наши большевики - бич Божий. Только почему наши? В советское опять же время, куда ни приедешь, везде натыкано памятников, навешано табличек улиц и площадей евреям-большевикам. Но ведь и местных большевиков видимо-невидимо. Костриков разве еврей? По-моему, и Кедров архангельский не еврей. Калинин, Бухарин. И все?
В МОНГОЛИИ ПОРАЗИЛ пейзаж. Подлетали на «Як-40» к маленькому аэродрому. Долгие пространства. Никого. То ли так было в Первый день Творения мира, то ли так будет после кончины его. Причем это не лунный пейзаж - кратеры, горизонт, тут гигантские пространства с наваленной на них и застывшей глиной. Приготовленной для мастера, чтоб что-то лепить из него. Нет, как-то все не так. Безпощадный пейзаж. И слово «пейзаж» тоже не сюда.
НЫНЧЕ НЕ ПОШЕЛ на Великорецкий крестный ход. Отходили мои ноженьки, отпел мой голосок. Да, в общем-то, и прошел был. Но причина даже не в возрасте, в людях. Именно в тех, что идут впервые или недавно. Им надо со мной поговорить. Отошел один, подошел другой, стережет третий. Когда молиться? И уклониться нехорошо. «А помните, мы с вами?..» Но неужели я вспомню сотни и сотни встреч? Хорошо бы, но голова не держит уже. Неужели это такая искомая многим известность? Я знаю сто человек, а меня знает тысяча. Вот и все измерение известности. А как в детстве, отрочестве, юности мечтал, о! «Желаю славы я, чтоб именем моим...» Известность угнетает меня, надо терпеть. Да я уже и умею. Лекарство - молитва и уединение.
Но не пошел, но всю неделю «шел» с ними. Знаю же каждый поворот, все дороги, изучил за двадцать лет. Особенно Горохово и Великорец-кое. Без конца то им звонил, то они мне, братья во Христе, наша славная бригада: Саша Чирков, Саша Блинов, Леня Ермолин, это костяк, а уже как много было за эти годы новых крестоходцев в нашей бригаде. Володя Соколов, Борис Борисов.
Шел из испанского посольства, выступал. Ливень, всего исхлестало, даже и майка мокрая. Но радовался: хоть немного получил ощущения крестного хода, особенно третьего дня, когда перед Великорецким полощет ливнем. Потом радуга. Сейчас они подходят к церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
У меня питание в телефоне ослабло и зарядника нет. Но все ясно так вижу, знаю, как дальше пойдут, как будут читать акафист святителю Николаю.
И как все мы будем ожидать следующего крестного хода. И пойдут крестоходцы! Хоть камни с неба вались, пойдут!
ЕСЛИ БЫ АДАМ И ЕВА были китайцы, они бы съели не яблоко, а змею.
- ТОВАРИЩИ, ВСЕ МЫ, товарищи, друг другу товарищи, но, товарищи, среди нас есть такие товарищи, которые нам, товарищи, совсем, товарищи, не товарищи.
МУЗЕИ ПОЭЗИИ. Иранское министерство культуры самое большое и могущественное. В стране высочайшее отношение к поэзии. Музеи Хафиза, Хайяма, Джами, кажется, еще Руми (Джалалэддин), Низами, Фирдоуси, потрясают величием и... и посещаемостью. Есть вообще музей безымянного поэта-дервиша. Это не домики, не мемориальные музеи-квартиры, это городки в городах. Штат обслуги. Аллеи благоухающих цветов, кричащие павлины, журчащие светлые ручьи, песчаные дорожки. Потоки людей. Вход безплатный. Школьники, экскурсии, но полным-полно и самостоятельных взрослых, пришедших по зову сердца. Именно здесь знают Есенина, Пушкина, тогда как в Европе я напрасно пытался говорить о величии русской поэзии. Европе трущобы Достоевского подавай. А тут: «Свирель грустит. О чем поет она? - Я со своим стволом разлучена. И потому, наверное, близка тем, в чьей душе и горе и тоска». А вот совершенно замечательное: «Любовь честна, и потому она для исцеления души дана. Я плачу, чтобы вы постичь могли, сколь истинно любил Меджнун Лейли».
Но при всем уважении к принимающей стороне я деликатно уклонился от прохождения через ворота поклонения Корану. Отстал, стал торговаться за часы с восточным орнаментом на циферблате. Потом догнал делегацию и гордился, что выторговал некую сумму. Принимающая сторона деликатно не заметила моего маневра.
Часы идут.
ОТЕЦ С ВНУКАМИ: - Кто самую большую шляпу на Руси носил? Петр Первый? Нет. Простая теорема: у кого голова всех больше. А что такое колокол? Били кол о кол. А что после чаю? Десерт? Думайте... Воскресение. Чаю воскресения мертвых! Так-то. Спокойно все, луна сияет, и наш табор с высоты тихонько освещает.
Мама: - Ну, заборонил. - А маме невдомек, что таким образом отец дает мне понять, что у него еще есть кой-какие запасы для продолжения радости жизни. Говорит маме: - Мамочка, золото ты мое. - Золото была, да помеднела.
Внукам: - Шарада: первый слог - крик птицы, второе в болоте?.. Карр. дальше? ... тина, правильно! А это что? Наши святки высоки? Это: наши с Вятки, вы с Оки. - У вас ричка яка? - Ока. - О, то ж и у нас така. А это кто: «Тихохонько медведя толк ногой»?.. Это дедушка. Крылов! - И меня отец тихонько толкает ногой под столом. - «Проказница, прости ей, Боже, тихонько графу руку жмет». Мама: «Отец, что ж при детях-то?» -«Это не я, мамочка, это Александр Сергеич».
ЕВРЕЙ ИДЕТ к врачу за бюллетенем за год до болезни, русский - за час до смерти. Война; еврей - русскому: «Ой, беда, ой, беда. Доставать вагон надо, мебель грузить, деньги в золото переводить». Русскому (с упреком): «Тебе хорошо: взял винтовку и пошел». Или: русский солдат из госпиталя идет снова на фронт, евреям: «Здорово, мичуринцы!» - «Почему мы мичуринцы?» - «Так мы воюем, а вы хреном груши околачиваете». Или: «Здорово, вояки! - «Мы - вояки?» - «Да. Мы Берлин взяли, а вы - Ташкент». Еще: идут пять евреев, навстречу два парня. Евреи: «Давайте убежим: их двое, а мы одни».
И таких анекдотов было море. Отчего-то же они возникали?
Так как я первого еврея увидел в армии, то они были мне интересны. Правда, в школе был учитель Бернгардт (не выговорить) Иосифович, из эвакуированных, он, заметив мою склонность к литературе, все советовал читать Эренбурга. Тогда я национальностей знал уже много: татары, марийцы, удмурты, мордва, чуваши, так что добавке еще одной нации не удивился. Да и что нация - все говорили на русском, все хотели быть русскими.
Но Москва меня крепко обуяла еврейским вопросом. Еще бы: телевидение, на котором, кстати, было очень много «ташкентских» евреев (они получили московскую прописку и жилье после ташкентского землетрясения), радио, издательства, Союз писателей... сплошь евреи. Особенно театр. Я любил театр с малолетства. Пьесы писал, в школьном театре играл. «Ах, какие у вас диалоги, ах, вы рождены для театра» - этого я наслушался во многих московских театрах. Что ж не ставили? Ответ простой и грубый - не хотели к кормушке чужого пускать. Все же завлиты евреи. За нос водили. Читки устраивали, роли расписывали. Больше всего пережил на Таганке. При Любимове, с его одобрения, начали репетировать «Живую воду». 81-й год. Свежесть смерти Высоцкого. Театр трясло. Даже плановый ремонт зала истолковали как удар по свободомыслию. Пьянки тоже были.
Но пьесу репетировали азартно. Я ходил в театр как в дом родной. Меня там уже считали своим. На репетиции стоял у задних кресел, откуда осветительница Оля давала свет на сцену. Она была не равнодушной работницей, слушала и смотрела. Когда ей нравилась какая реплика, она поворачивалась ко мне и говорила: «Ну вы нормально!»
Актеры Таганки искренне сопереживали, когда на просмотре новый главный режиссер Эфрос посмотрел и сказал совершенно оскорбительно: «Ну, это воскресенье в сельском клубе».
В общем-то, я не жалею, что все так получилось. Как говорится, дополнительные знания. Тем более больше тридцати лет прошло. Вспоминаю Таганку с благодарностью. Тогда они еще не разбежались по враждебным станам. Молодые, веселые, все друг о друге знали.
ТАК ЧТО на многое я в театре нагляделся, многого наслушался. Веры православной там не было, а суеверий было много. Через плечо поплевывали, за черное держались, кошек боялись, числа тринадцать тоже. Так это еще было самое начало 80-х, еще все-таки в театре Обломов и Захар не играли, лежа на сцене на одной койке, похабщины и разврата, матерщины не было. Вот такая вот у нас была и чем окончательно стала Мельпомена.
ВСЕ У НИХ было как бы понарошку, игра, чего обижаться, какой там менталитет. Стоим в вестибюле театра, разговариваем с актером. Подходит еще один, его знакомый. Первый: «Отойди, жид, здесь русские люди!».
ИГРЫ В ПРЕЗИДЕНТСКИЕ выборы, да и вообще выборы - это кукольный спектакль. Уже на него и не хожу. А ведь как начиналось - я еще не голосовал, тогда голосовали с 18-ти, а уже был членом избирательной районной комиссии. От районной газеты. Давали концерты, ездили к больным на санях с урной. Люди, помню, относились к выборам очень серьезно. Люди мы доверчивые. И тогда были махинации с голосами, и всегда и везде были. Толку от выборов всегда было ноль целых хрен десятых.
- ЖИЛИ ТАК, чтоб некогда было подумать. Это специально. Чтоб только выжить. И сейчас точно так же, вроде все изменилось, а времени думать опять нет. Уже и желание думать убито. Чего и добиваются. -Кто? - Жиды. Не говорю евреи - жиды. Не одно и то же. Был, помню, в 50-е такой хохмач Жорик. Подсылали в компании, рассказывал анекдотики. Когда и батьку усатого затрагивал. А была статья «За недоносительство». И кого намечали, того выдергивали. «При тебе этот Жорик анекдот рассказал? При тебе! Свидетели есть. А чего же не сообщил, куда следует?» И на цугундер.
МОЕТ ПОСУДУ! Ополаскивает вначале ложки, потом кружки и стаканы. Жена делает замечание: надо вначале стаканы ополаскивать.
- Это, мамочка, показуха, а не гигиена. К стакану только ко краю приникаем, а ложку всю в рот суем, вся в рот залезает. Разница?
- КОРОВУ ДЕРЖАЛ, теленка, телочку. Хозяйство. С работы знакомый, отпуск у него, просит: «Передержи с месяц ризеншнауцера, он такой у меня добродушный». Ладно, взял. А у меня еще козы, козлята, куры. Вроде он к ним лояльно. На длинную веревку посадил. Я из детсада с кухни возил бачок отходов. Ведро всем разливаю, и ему, он Лорд, налил. «Жри, Лорд, от пуза». Свежее все. Он нажрался, от миски отошел. Я нагнулся к ней, он как кинется, вот сюда, вот тут шрам. Кровищи! Схватил доску-сороковку, его отвозил. Меня в больницу, перевязали. Сколотил ему конуру, в нее той же доской загнал. Рычит. Запомнил. Еще раз отличился: телочка мимо конуры шла, он ее за шею и валит. Тут уж я решил его убить. Той же доской. Он в конуру забился. Посиди, посиди. Наутро заскулил. Я для проверки козлят мимо конуры прогнал, молчит. Тут я ему в миску помоев из детсада. Жрет, хвостом виляет.
Хозяин вернулся, не знает, как благодарить. Говорю ему: ну тебе спасибо. Показываю руку. «Не собака, говорю, дура, а хозяин дурак. Ты что, не знал, что он такая сволочь?» За бутылкой побежал. Но я пить с ним не стал. Поставь, говорю, свечку, мне это дороже.
«ТИХА УКРАИНСКАЯ ночь, но сало надо перепрятать».
ГДЕ ГУМАНИЗМ, там безбожие, где человек ставится во главу угла, там непременно будет фашизм. Где конституция, там безправие, где демократия, там власть денег. Где главная ценность - личность человека, там ни человека, ни личности.
ТЕЛЕГРАММА ОТ ОТЦА: «Больше радостей счастья успеха удачи добра и веселого смеха. Знать вам меньше огорчений больше радостных минут пусть как светлые мгновенья до ста лет года идут».
СЕРЫЙ ДЫМ как обрывки осенних облаков над баней. Топим баню.
Разговоры: «Нас не купить». - «Да никто и не покупает». - «Честно бы дожить, вот и все. А вдруг и наше слово отзовется. Друга в поколеньи нашли, и читателя в потомстве вдруг да найдем».
Рубит полено: «Давно настала нам пора писать поэму топора». - «Писали уже. Была эпоха, да сплыла, теперь икону в центр угла».
У печки: «Живем давно, не без причины, и не последние умы. Горит, горит в печи лучина, горим-горим с тобой и мы». И тут же: «Жиды Россию все сволочат, а дети россов пьют и молчат». - «В студентах строчку сочинил, долго самому нравилась: “Топоры до поры на прорыв”». - «Нулевка, упражнение». - «Точно».
СЛУЖИЛ ПЕРВЫЙ год за страх, второй за отпуск, третий за дембель.
ВРЕМЕНА ДЕМАГОГИИ
Кажется, Карл Радек учил молодых коммунистов при проведении линии партии выступать так: «Если кто с тобой несогласный, уставь на него палец и кричи: - Ты против советской власти? Против? Если кто все равно не согласный и уходит, кричи вслед: “Бегите, бегите! Вы так же бежали с баррикад, когда мы шли с каторги на баррикады».
А эта, я ее помню, насильственная «добровольная» подписка на развитие народного хозяйства? Легко ли - месячная зарплата. Не подписываешься, крик: «На Гитлера работаешь!» Оттуда же выражение: «Хрен с ём, подпишусь на заём».
То есть демагогия всегда была на вооружении и большевиков, и коммунистов. «Вы против линии партии?» А теперь и демократов. «Вы против демократии?» Да, всегда говорю публично, а часто и письменно, конечно, против. А как вы думали? «Но это же общемировой процесс прогресса цивилизации». Вот он и довел нас от софистов древности, от схоластов средневековья, через большевизм до юристов демократии. «Но это не та демократия, - голосят они, - настоящей в России еще не было». Та демократия или не та, все равно она выдумана для того, чтобы производить дураков или холуев системы. И стричь их как баранов. И внушать им, что они что-то значат. Ведь что греческое «демо-кратия», что латынь «республика» - это власть народа. И кто в это верит? И кто народ?
ЕДУ, КАК ВСЕГДА, в плацкартном. И наездил я поездах, вернее, в них прожил примерно четыре года. Нагляделся, наслушался: в дороге люди откровеннее. И люди все хорошие, думающие. Но безправные. А дальше вагон купейный. В нем уже не думают, считают. Еще дальше вообще вагон СВ. В нем просто едут. То есть за них и думают и считают. Прохожу - стоит в СВ у окна, чешет живот. Тоже работа. Иду дальше и над собой смешно: классовая ненависть, что ли, шевельнулась. Господь во всех разберется.
«ВЫБРОСЬ ТЕЛЕВИЗОР, купи (варианты: топор, балалайку, мешок картошки, ящик водяры...)». Почему же такой убогий набор? Это для быдла опять же. А почему не купить в храме свечи и не поставить их за (варианты: здравие России, упокоение телевизора как орудия разврата и пошлости, за терпение и спокойствие)?
СКОЛЬКО ЖЕ ПРОСТРАНСТВА вошло в меня от российских дорог. Но не подпою гоголевскому воспеванию дороги о том, как много чудных замыслов родилось у него в дороге. У меня мои замыслы, скорее, умирали в дороге. Почему? Пейзажи не гоголевские: позор, разор, разруха - вот что досталось мне обозревать измученными глазами.
Особенно разрушенные храмы. Это уж долго после были умиротворяющие виды возрождаемых церквей. И старался скорее забыть, что тут было долгие десятилетия. И как скорбно и несгибаемо стоял над развалинами Ангел-хранитель, поставленный туда Господом при освящении престола. Он-то знал, что все вернется: молитвы, росписи, иконы, пение. И угрюмый сторож Юра, который по совместительству и звонарь, и истопник, и все остальное.
ПЛОЩАДЬ ИРКУТСКОЙ епархии была шесть с половиной миллионов квадратных километров (!). Так вот. Сколько тут можно Ан-глий скласть?
ВСЕ ЗАПАДНЫЕ модные веянья по пути в Сибирь вымерзали. В Иркутске есть и барокко, но это сибирское барокко.
НАЧАЛАСЬ С НАЧАЛА 90-х публичная казнь России. Четвертовали: обрубали образование, оборону, экономику, промышленность, сельское хозяйство. Замахнулись на особо ненавистную космополитам Православную Церковь. А она выстояла. Выстояла, как выстаивала во все века. Почему же опять врагам неймется? Теперь уже замысел: физически убить, уничтожить богоизбранный народ русский. Да, именно так. Но ничего не выйдет: Господь с нами.
Когда-то прочел высказывание монаха: «Если все против меня, но Бог за меня, то я сильнее всех».
РАЗВЕЛАСЬ ПОРОДА людей, которые считают себя смелыми, потому что требуют от других смелости. Смелость можно требовать только от себя.
ГЕРБ ВЯТКИ - Господь перстом с небес из тучи указует, где учиться святости. Конечно, в Вятке.
УСТАНАВЛИВАЛИ КРЕСТ на храме. Вверху был Борис. Леня страховал. Мы пели: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», пели безчислен-ное множество раз. Ветром шатало и сшибало и крест, и Бориса.
Укрепил в гнезде, натянул растяжки. Сил нет спуститься. А мы глядим и глядим на крест. Оглянулись - пришел старик на костылях. Плачет: «Пошел умирать, а сейчас знаю - жить буду, Крест увидел над храмом. Тут же я жил. А умирать буду, умру спокойней».
КРЕПКО УГОДИЛИ Толстой и Достоевский большевикам. Одному создали музей - целую Ясную Поляну, другому издали полное собрание сочинений. Оба написали такой образ Руси, в которой жить невозможно, и только революция спасет.
ГРАД ВО ВРЕМЯ крестного хода. Гром резко внезапно ударил, разодрал небо. Оттуда сыпануло. Било в голову, в грудь, по плечам. В больные места било. Их даже подставляли. «Так нам! Так! Мало еще, мало!»
Подбирали градины, ели, освежали лицо. Держали в пригоршнях. Солнце вдруг. Градины сверкали, дорогу выбелило.
СТЫДНО ЗА СЕБЯ: спасение так близко и возможно, а не спасаешься. Бес силен? Конечно. А ты этим оправдываешься?
ИМПЕРАТРИЦА ВЫШЛА в гродетуаровом платьи (род тафты), слушает. Ей читают: «Да процветет Москва подобьем райска крина. Возобновляет Кремль и град Екатерина!» - «Говорите, говорите: я сегодня комплезантна» (снисходительна).
МНОГО ВЫПИСОК из выброшенной книги с оторванной обложкой. Может быть, «Русская старина»:
«Потеха Петра 1-го. На вечеринках у Лопухина он забавлялся с друзьями, рассекая лубки кнутом. Увидел человека в окно: “Чужой! В мощи его!” Сие означало, что каждый присутствующий должен был кинуться на него как собака и (в доказательство) принести или клок его волос, или вырванный кусок мяса».
Сообщение Н. Барсова: «Рассказ о слоне принадлежит перу Андрея Денисова, малоизвестного литератора эпохи Петра, ученику Ф. Прокоповича. Эта картинка тогдашней жизни очень любопытна:
«:.. .толь велий зверь малому при нем всаднику повинуется, и водится от малосильного многомощное безсловесное диво. Кольми паче мы, словесные твари Божии, страсти наши вольны обуздывати».
«В пожертвованиях в пользу арестованных Мясницких участков братья Александровы пожертвовали 127 ситничков на 2,5 копейки».
«Пляска цыган доходила до исступления, их телодвижения и возгласы производили такое дикое и сверхъестественное действие, что мудрено было вообразить их обитателями нашей сонной планеты».
«Небывалый случай. Матвеев, воспитатель детей Алексея Михайловича, строил дом, церковь. Не было камня. Вдруг делегация стрельцов. “Прими, отец наш, камень”. - “Я заплачу”. - “Нет, это камни с могил наших отцов, и продавать их нельзя ни за какие деньги”. Небывалый случай».
«Народный театр на Варварской площади представляет комедию “Скапеновы обманы” в переводе Василия Теплова». Видимо, «Проделки Скапена». Ничто не ново под луной, а ново то, что хорошо забыто.
«Балы длились всю ночь. Вся Мясницкая бывала запружена каретами, и все цуги, цуги и цуги (шестерки лошадей). Кучерам выносили по калачу и по стакану пенника.
Ни одна девушка на балу, как бы ни была утомлена, не смела сойти с паркета. Считалось плохим, что девушка не ангажирована на какой-то танец. Заботливые маменьки, отбросив всякое самолюбие, бегали за кавалерами и просили их: “Батюшка, с моей-то потанцуй”.
Было модным для девушки быть томной, безстрастной, говорить, что не нравятся танцы, скучно на них, но не пропускать ни одного бала».
«После чумы на Москву надвинулась зараза пострашнее - францу-золюбие».
А после Наполеонова антихристова нашествия «московские щеголи и щеголихи взяли в моду одеколон: он любил мыть им голову и плечи». «Под какое декольте шею мыть, под большое или под малое?»
С конца XVIII века вошли в большую моду обмороки. Обмороки Ди-доны, Венеры, по случаю, обморок кстати, обморок коловратности.
«Нервы» стали известны в 20-х годах XIX столетия.
«1801. Первый велосипед на фоне дома Пашкова. То и другое новинка для Москвы».
Тут я не согласен. Вятские умельцы задолго до этого подарили императрице Екатерине «самобеглую коляску».
Три восьмерки, 1888 год, двадцать пять лет отмены телесных наказаний в России.
КАМЧАТКА
Декабрь, снега. Прилетел сюда, обогнав солнце. Взлетал при его полном сиянии, прилетел, а тут уже рассвет. Красные стекла иллюминаторов. Живу несколько дней, погода всякая, но так хорошо! Вдруг объявляют с вечера штормовое предупреждение на завтра. А как улетать? Тут и на месяц, бывает, застревают. Были в эти дни и метели, и солнце, и холодно, и тепло, и пасмурно, и даже дождливо. Снега казались мне уже глухими. «Разве это снега? Снега у нас в марте. Снега и в мае лежат». Из окна номера в гостинице три сопки, «Три брата». Разные все время, не насмотришься. Да, Камчатку можно полюбить. Тем более я житель школьной «камчатки» - последней парты. Да, посадили на нее за шалости, но как же на ней хорошо!
Жить на Камчатке трудно. Один факт - рыба дороже, чем в Москве.
Японцы все время завидуют: «На Камчатке сто пятьдесят тысяч населения, в Японии сто пятьдесят миллионов». Мол, делайте выводы.
Богатства Камчатки неисчислимы. Рыба, ископаемые, термальные воды, дичь. Показали газету 30-х годов. Рыбколхозу дают задание - заготовить на зиму сто медведей, рыбколхоз рапортует: заготовили триста. Ужас. Еще ужаснее: убили медведицу, медвежат раздают в бедные семьи, кормить на мясо к зиме. Ну, а что делать, это жизнь.
ЛЕТУЧКА В ЛИТДРАМЕ на телевидении, обозреватель: «Драматургическое зерно взошло и подняло действие на гребень девятого вала по гражданскому накалу. В ФРГ ставят Горького: “Варвары”, “На дне”, “Дачники”, показывают: вот что происходит в России. России не знают. Три аспекта исторической темы: одни режиссеры ставят так: показывают - вот как было плохо до Октябрьской революции, другие: вот что у нас осталось от того времени (пережитки или было что-то ценное: прославить, пожалеть или искоренить?), третьи: а что, собственно, изменилось?»
И ЛЕВ ВОЗЛЕЖАЛ рядом с ягненком. И питались травами. И раздул лев ноздри, и почуял вдруг запах крови, проходящий сквозь тонкую кожу ягненка. И возжелал его и съел. И понравилось это ему. А травы продолжали расти. (Подражание.)
ЧУВСТВА НЕ ЗАСЫПАЮТ, они умирают. Умершее чувство можно воскресить еще большим чувством. Но это личное. А если умирает чувство родины? Зачем России покойники?
ДРОЖИТ СТАКАН, боюсь - пролью. Мне не впервой запить. Но слово пить и значит - быть. За это пью! Понять меня давно пора: я не иду ко дну. Творю, напившись, до утра, благодаря вину...
Не сердись, и не будь истерична, дорогая моя историчка. В мир искусство пришло давно, но давнее его вино...
Вино длинит судьбы длину. Я трезвым бы пропал. Всю ночь, благодаря вину, пишу. А так бы спал.
Алкаю алкоголь, как алчет пищи нищий, колечко пальчик, а наследник трон. Как старец детства, как взросленья мальчик. Алкаю алкоголь, как пропитанья голь.
- СТАРИЧОК, СЛУШАЙ, - говорит писатель другому, - а ты не думал, почему нас не читают? Боли нет! Боль нужна, нерв! Я когда читаю и боли не вижу, я книгу отбрасываю. Это что такое в литературе? Сын умер, а нам предлагается ржать, это у Чехова. А потом уже и у наших: свет в туалете не выключил, его секут, нам смешно. Ночью мясо жрет, жена засекла. Какой тут смех: жена ушла! Вот сюжет! У тебя, я вижу, ушла? И почему ты не пользуешься моментом? Прочувствуй! Пиши! Это же боль!
СТОДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ ПУШКИНА, журнал «Октябрь», гнуснейшая публикация Абрама Терца (Синявского) о Пушкине. Добавляется мерзость Гачева, размышления о Синявском в «Московском вестнике». И только что «Собеседник» вновь мерзотит имя Пушкина. Ни Гачева, ни Терца не буду цитировать, ни какого-то (для меня какого-то) Цветкова из Вашингтона: напечатаны мелкопакостные измышления на тему «поэт и народ». Цитировать значит тиражировать. Под видом борьбы с наркотиками идет руководство по их изготовлению и пользованию, борьба с проституцией - ее пропаганда. Да, и Саскии на коленях сиживали, и Боккач-чио, и Верлен, и Апулей, но мы-то в России, вот с чем не могут смириться враги ее. В России чистота отношений, стыдливость были нормой. Вот почему оскорбляет отклонение от нее.
Стыдно бы изданиям, выходящим на русском языке, использовать русский язык для словоблудия о русской национальной гордости. Ну, ты сказанул: стыдно. Это им-то стыдно?
ПОЕЗД МУРМАНСК - Москва. В ресторане подсел парень, выпивший крепко. И насильно рассказал мне ужасную историю. Он из армии пришел, его ждала девушка. А мать велит ему жениться на другой. Наговорила на ту, что ждала, что гулящая, нечестная, и заставляет жениться на дочери подруги. Он встретился со своей девушкой. Пошли за околицу. Рассказал о словах матери. Девушка кинулась к нему на шею: «Я не такая! Проверь!» Разделась, отдалась. Парень плачет: «Она девушка была». А днем привели в его дом другую, которую он и не хотел видеть. Но его девушке, видимо, сказали. И она побежала на то место, где они были вчера вечером, и повесилась.
«ОТ ОТЦА-МАТЕРИ родился, от книжного научения воспитался». «Тайну цареву добро есть хранити, а дела Божия проповедати преславно есть».
«ЕЩЕ ТЕ ЗВЕЗДЫ не погасли, еще заря сияет та, что озарила миру ясли новорожденного Христа».
ДО СИХ ПОР СТЫДНО - в 81-м семинар поэтов, прозаиков в Бур-макино. Троицкая суббота. На кладбище познакомились с мужчиной. Он обещал истопить баню, звал. Мы не пришли. Стыдно. Он же надеялся.
- ПИЛЯТ МУЖЕЙ, тиранят, ругают, жалуются всем на них. В гроб гонят. Потом рыдают, говорят, что был всех лучше. Говорят: пусть бы пил, пусть бы бил, лишь бы был. (Батюшка.)
КОЛЯ-ПОЛИЦАЙ. Так на Крестном ходе прозвали косноязычного Колю еще задолго до смены милиции на полицию. Он следит за порядком. Особенно, когда в последний день идем по шоссе. Движение по трассе не прерывается, нас прижимают вправо. Колин голос слышен: «Впаво, впаво дежжи! Из коленны не выходим! Не выходим! Бабука, куда? В колену! Дедука! В колену. Впаво, еще впаво!» Первое время Коля досаждает, потом привыкаешь и даже веселеешь: полицай охраняет.
ПРИЧАЩАТЬСЯ ЗА ВСЕХ. Подумал сегодня на литургии о радости причащения и о том, что оно сейчас доступно. А было-то что! И думал, что надо мне не только за себя причащаться, за здравие души и тела, за оставление грехов и жизнь вечную, но и за детей и за внуков, которые почти совсем не причащаются. И чувствую, что злятся, когда напоминаю. То есть это моя обязанность их спасать, семью сохранять. Если не воспитал стремления к Церкви.
Меня-то врагу спасения труднее укусить, чем тех, кто не причащается. Вот он и действует на меня через родных и близких, через тех, кого люблю.
ВЕСЕННИЕ РУЧЕЙКИ у нашего дома взрослели вместе со мной. Они начинались от тающего снега и от капели с крыши на крыльцом. Я бросал в них щепочку и провожал ее до уличного ручья, а на будущий год шел за своим корабликом, плывущим по уличному ручью, до ручья за околицей. Он увеличивался и от моего и от других ручейков, все они дружно текли в речку, а речка в реку. Однажды в детстве меня поразило, что мой ручеек притечет в Вятку и Каму, и Волгу. Щепочка начинает плыть по ручейку, и сколько же она проплывет до моря? Считал и со счету сбивался. А как считал? Шагал рядом с плывущей щепочкой, считал время, то есть соображал ее скорость, за сколько примерно она проплывет до Красной горы. Очень долго, может быть, часа три-четыре. А за Красной горой - там такие дали, такие горизонты. Может быть, думал я, год будет течь. И подо льдом потечет.
Когда, через огромное количество лет, узнал я от Вернадского, что вода - это минерал, что у нее есть память, я сразу поверил. Да-да, я это знал. Я же помню эту холодную снежную воду, и как я полоскал в ней покрасневшие руки, как с ладоней падали в ручей капли и убегали от меня, и уносили желтую сосновую щепочку. И помнила меня эта утекающая вода. И помнила себя в виде узоров на оконном стекле. И в виде снежинок, которые взблескивали в лунную ночь и, умирая, вскрикивали под ногами.
ТАШКЕНТ, БАЗАР. Узбек уговаривает купить: «Все хорошее, все самое дешевое! Курага, видишь? Самая свежая!» - «Какое ж дешевое - дороже, чем в Москве». - «Заморозки были».
- Ладно, давай два килограмма.
Купил, еще походил меж длинных прилавков, среди великолепия поздней осени. Возвращался с другой стороны от продавца кураги. И увидел: он опускает ладони в блюдо с растительным маслом, пригоршнями достает из мешка сухой чернослив и протирает в замасленных ладонях. Чернослив начинает блестеть и выглядит как «самый свежий». Куда денешься, «заморозки были».
Интересно, что, с одной стороны, все от нас зависят и все нас, с другой, за дураков считают.
СПАСАЕМ ВСЕГДА не себя, а других. Вот мысль, пришедшая в голову в самолете, когда шло сообщение о поведении пассажиров в аварийных случаях. Кислородную маску вначале полагается надеть на себя, а уже потом на ребенка. Иначе можно погибнуть и самому и ребенку. Вот и мораль: да спасись ты, матушка Россия, сама вначале, потом спасай «ребенков».
Разве не так было в конце восьмидесятых? Погибали, надвигалась катастрофа, а все надевали кислородные маски на республики. Сами погибали. И почти погибли. Но и республики недолго дышали кислородом.
МИТРОПОЛИТ: БОГ никогда не спешит и никогда не опаздывает.
ОТЕЦ ВАЛЕРИАН о примерном прихожанине (он называет такого в шутку протоприхожанином): - «И всем он рад, и всем он раб».
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОТОРВАННОСТЬ от России вовсе не означает оторванности от ее корней. Если это корни православные. Четыре долгие службы отстоял в Ташкенте. И не было совсем ощущения, что я в Средней Азии. Этот храм православный, в этом все дело. Причащался.
Конечно, много всего наслушался. В основном хотят вернуться в Россию. Но куда, как? И почему оставлять нажитое молитвами и кровью? Здесь же уже им и родина. А в предках кто? Одних только архиереев в здешней ссылке было семнадцать. И несколько сотен священников. Земля исповедничества. И ее бросать?
Все перебаламутилось, взболталось. Сейчас муть оседает. Но не исчезает. Нет проточной воды.
«ЖУК ЕЛ ТРАВУ Жука клевала птица. Хорек пил мозг из птичьей головы». Вот так вот. Не хватает в этой цепочке последнего звена, все и всех поедающего существа.
В ВАГОНЕ СТАРУХА вяжет. Выпивший парень хочет ей сказать комплимент: «Нить Ариадны на носки переводишь?». Старуха отодвигается и энергичнее начинает шевелить спицами. Входит человек с гитарой, с усилителем, сходу громко: «Я сел за руль и взвизгнула девятка. Давлю на газ, гоню судьбу вперед. Ах, как свобода щекотала пятки, кто не сидел, меня тот не поймет. Куда я мчусь, уже я не фартовый, уж снова жизнь мне больше не начать. К тому ж на ней, как камень стопудовый, стоит судьбы крестовая печать».
Допел, идет в следующий вагон. Пьяный за ним. В тамбуре останавливает певца, рвет из-за пазухи начатую бутылку: «Халява, плиз!»
Дальше идут вместе.
ПИСАЛ СЦЕНАРИЙ о Блоке, ездил в Шахматово (68-й), написал. Вдруг говорят: «Это надо обязательно Павлу Антокольскому показать. Он же у нас главный специалист по Блоку». С чего бы? Ну, показали. Он, я этого ожидал, сценарий зарезал. Как это, кто-то въехал в его тему.
КСТАТИ О ШКЛОВСКОМ
Писаля телепьесу о художнике Федотове. Она была поставлена. Потом у меня была работа, в которой цитировались нравящиеся мне заметки из книги Олеши «Ни дня без строчки». Была еще жива вдова его, одна из сестер Суок. Прочла, понравилось. «Давайте все-таки покажем Шкловскому, он на моей сестре женат, хорошо знал Юрия Карловича. Я ему передам сценарий, прочтет». Вскоре звонит. «Шкловскому понравилось, хочет вас видеть». Приехал в писательский дом на Красноармейскую, метро «Аэропорт». Знакомимся, вспоминаю прочитанное о нем, как в Академии «петардой взрывался Шкловский». Маленький, круглый, говорливый необычайно. «Крепкая у вас рука. Молодец! Сколько лет? О, вечность в запасе!» Я все не мог улучить момент, чтобы выразить ему благодарность за его маленькую брошюру о художнике Федотове. Я, конечно, ее читал, но кроме ее использовал и много других источников. Список их приложил к сценарию. Наконец, уловил паузу, благодарю. Он неожиданно бледнеет, краснеет, напыживается: «Так это вы - автор этой, с позволения сказать, поделки?» - «На обсуждении постановка получила высокую оценку». - «Высокую? Значит, так нынче ценится плагиат? Я сам не видел, но мне сказали, что это инсценировка моей книги». - И он стал так орать на меня, что ничего и вставить было невозможно. Катался по комнате, взрывался петардой: «Я написал библиотеку книг! Я вырастил советскую литературу». Я махнул рукой, решительно встал и стал уходить, а он кричал: «Извольте вам выйти вон! Извольте вам выйти вон!»
В доме было почтовое отделение. Я, разгоряченный и глубоко оскорбленный, написал ему письмо, начав: «Высокочтимый Виктор Борисович, извольте сказать Вам...», - и далее по тексту. Думаю, именно оно подвиг-нуло Шкловского к заявлению на меня, как на плагиатора. Он требовал от меня денежной компенсации за уязвленное его авторское достоинство. Начальство Госкомитета по радио и телевидению велело разобраться. То есть просто велело меня уволить. Кто я? По штату редакторишка. А он тогда значимая величина. Я и не цеплялся за крохотный оклад, сценариями больше заработаю. Но тут же дело другое, тут же обвинение в воровстве. Я потребовал разбирательства. Дело пошло в арбитраж. И вскоре стороны приглашаются. Являюсь в сопровождении приятелей. Шкловский тоже с кем-то. Выводы экспертов: никаких следов плагиата не обнаружено, телепьеса совершенно самостоятельна. Мое авторское право не подлежит сомнению. Шкловский выслушивает, встает, надменно мне: «И сколько же вы, позвольте узнать, получили за ваше, так сказать, произведение?» - Я: «В документах должна быть означена сумма гонорара». Сумму озвучили. Четыреста пятьдесят рублей. Я видел: Шкловский изумлен. Друг мой Витя Крейдич сурово произнес: «Тут не деньгами надо интересоваться, тут извиняться надо за клевету».
Но Шкловский передо мной не извинился. Я от этого не печалюсь. Мне хватает оценки его личности Олегом Волковым: «Болтливый эрудит Шкловский». Один из организаторов поездки писателей для воспевания рабского труда на Беломорканале.
ИСКУССТВОВЕД: «В ЭТОМ месте звучит музыка хорошо темперированного клавира». Из зала: «Да ну ее на хрен, давай гармошку».
Искусствовед: «Именно так! Русской гармошке все по ее размашистому плечу! Итак, слушаем музыку хорошо темперированного клавира».
ГУСИНОЕ ЯЙЦО попало в куриные, его квочка высидела. Гусенок привязался к хозяйке настолько, что ходил везде за ней. Вся деревня смеялась. Она на огород, и он. Она в дом, он сидит на крыльце, ждет. Зарубить не смогла и никому не позволяла.Ей говорили: «Это же гусь, Инна!» Так и умер своей смертью.
ЗАДАЧКА ИНТЕРПРЕДАМ. Коля Петрович, огромный мужчина, жалуется на жену: «Гонит меня, думает, ехать не хочу. А куда, на чем? Шестерня полетела, раздатка скурвилась, тормоза надорвались, одна фара цокнула. Так что дуру она гонит».
- МОГУ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, как одевал бы жену, если б мне платили по-человечески. Ко мне же по-свински относятся. Хрюкаю.
ПЕРЕПАЛКА ЖУРНАЛОВ в середине XIX века. «К “Молве” названье не пристало: ее подписчиков так мало, что хоть зови ее отныне “Глас вопиющего в пустыне”». Журналу юмора: «Всех патриотов “Весельчак”, тупого юмора кабак, приводит в слезы и раздумье о нашем жалком остроумьи».
Из Петербурга в Москву: «Журнал Москвы хамелеон душой, московских умников безграмотное эхо. К несчастию других к несчастью встал спиной и ноги целовал у всякого успеха».
Отвечает «москвич»: «Вглядевшись в Петербург и все в нем сознавая, невольно выскажешь понятие свое: О Боже мой! Посредственность какая. О Боже мой! Какое дурачье!».
Сумарокову: «Что полновеснее: ум или глупость? - «Конечно, глупость. Ее везут шесть скотов, а меня одна пара».
Старались угнаться за француженками. Модницы завидовали: весь наряд француженки весил двести грамм. Старухи не отставали от молодых. «Пред зеркалом с час места посидит - морщины пропадут, румянец загорит. И зубки явятся, и бровка пострижется. Красотка! Жаль одно - от старости трясется».
Фонвизин подражал голосам Голицына, Вяземского, Разумовского, чем веселил императрицу. Это как в наше время Ираклий Андроников. Гордился даже, что его возили по дачам и он там изображал в лицах. Попугай. Но Фонвизин - драматург, у него «Бригадир» и «Недоросль», а у Андроникова «Загадка Н. Ф. И.», а загадки в ней нет.
НИЦШЕ
И как только Ницше сумел так оболванить многих? Специально и внимательно читал, еще в конце шестидесятых, получая из спецхрана, например «Посрамление кумиров». А уж себя-то Фридрих как любит: «Я говорю предложением то, что не сказать книгой... я дал глубочайшую книгу, моего Заратустру... я учитель вечного возвращения...». Может, вот это Гитлеру нравилось: «Чтоб совершить преступление красиво, надо суметь полюбить красоту». А это глупость: «Современный человек слишком ленив для некоторых пороков, так что они, пожалуй, в конце концов переведутся». Пороки? Переведутся? Да они могут только усиливаться. Если их не гнать молитвой.
И постоянный эпатаж: «Как ранит та рука, которая щадит», тут на Шекспира замашка. «Сердце не любит свободы, рабство от самой природы сердцу в награду дано». «Данте - человек, раскапывающий могилы. Г юго - маяк на море безсмыслия. Жорж Санд - дойная корова с «красивым стилем». «Жизнь - это мирно и тихо гниющий от света могильный череп». А вот это, может быть, верно: «Все то, что мы лично переживаем, не может быть высказано. Речь. опошляет говорящего». А вот это его или не его: «Искусство для искусства - собака, бегущая за свои хвостом?». А вот это -чистый фашизм: «Тот, на чьей стороне сила, не заботится о духе». «Если все враги убиты, надо их воскресить, чтобы снова убить».
За что ж его немцы любили, если он о них мнения невысокого: «поверхностные немцы», «Гете - последний немец, к которому я питаю уважение».
А это без комментариев: «В великих людях и в великих временах лежит чрезвычайная опасность: всяческое истощение, оскудение, без-плодие следует за ними по пятам».
А это полнейший сатанизм: «Из любви к жизни следовало бы желать смерти, свободной, сознательной, без случайностей, без неожиданностей. Наше появление на свет не от нас зависит, но мы можем эту ошибку - а это иногда бывает ошибкой - вовремя исправить. Упраздняя (читай: убивая) себя, человек совершает достойнейший поступок, этим он заслуживает почти. жизнь».
«БРИГАДИРОВА ЖЕНА не рабатывала. Каждый день трудодень выхахатывала». «У кого жена в Сочах, у нас грабли на плечах». «Сочи, Оричи, Дороничи - курортные места» (вят.).
КАК ЕДЯТ: Старик, трясущийся от старости, в буфете исторической библиотеки, говорит: «Ефреи коронят уже не ситя. Коронят по-руски, в кропе». Брал котлету, нес ее, тряся на тарелке,ревматически переступая, к столу. Делил котлету вилкой. Откусывал от кусочка так близко к зубцам вилки, что остаток падал. Он его снова накалывал.
НА МЯСОКОМБИНАТЕ приходил в столовую возчик из приготовительного цеха. С мороза красный, в шапке. Не снимал ее, брал только два первых и хлеб. Хлеб крошил в желтый борщ. Снимал шапку, вставал и, стоя, вычерпывал тарелки до дна. Садился, надевал шапку, доставал пачку «Прибоя», из пачки вынимал папиросу, вставлял в зубы и уходил.
«ВСЕ ТАЙНЫ творчества изведав, слегка амброзией налит, писатель на велосипеде по Переделкину палит. Его прекрасная ждет дача и сверхшикарный кабинет. Но вот такая незадача: не пишет - музы близко нет».
ПОДХОДИТ, УВЕРЕННО:
- Мы встречались, помните? «Вы все, конечно, помните». - Жмет руку. - Мы даже в принципе где-то как-то типа того, что «на ты». Позволишь, снимок с тобой для истории? - Снимай, это не страшно. Да скорее, а то каждую минуту, на глазах, стареем.
Он:
- Как ты ощущаешь: чаша народного гнева скоро будет с краями полна? - и без паузы: - Как тебе музыка? Что она тебе говорит?» (Мы в перерыве концерта в консерватории).
- Музыка разве говорит? Она действует.
Он:
- Ты молоток! Среди долины ровныя ничто в полюшке не колышется. И вообще: отойдите от края платформы!
Зачем подходил? Кто это? Зачем записал?
БОРОНИТЬ, СКОРОДИТЬ, лущить... прощайте, славные слова. И приметы. Почему пожар от молнии надо тушить молоком от белой (вариант: от черной) коровы. Да ведь ее пока подоишь, все уже сгорит. И подоить перепуганную корову невозможно, мышцы вымени сожмутся. Оказывается, молния попаляет нечистую силу, которая прячется под коровой и лошадью.
Еще я застал и такое поверье: живой огонь, царь-огонь. Это, когда добывают огонь трением дерева о дерево. Или высекают искру, ударяя кремнем о другой кремень или о железо.
БЫВШИЙ ОФИЦЕР стал писать стихи: «О, как я был тогда красив: я вырастал на фоне ив». «Живете вы все с нервами, а я живу со стервами». «Война - фигня, главное - маневры». (Это он свистнул из прошлого еще армейского фольклора.) Мне он долго досаждал, чтоб я помог ему и с книгой и со вступлением в Союз писателей. Неграмотность его меня устрашала. Но человек он был хороший. Я подарил ему Даля, сделав надпись в японском стиле: «Тебе, читавшему букварь, уже пора читать Словарь. Прими его, читай всечасно и начинай писать как встарь». Он: «Зачем встарь, у меня свой стиль, ты просто не понимаешь».
Но экспромт мой привел его в восхищение. Дело в том, что он приходил с хорошими сухими винами. Я сделал почеркушку, опять же в его стиле: «Мне нынче крупно повезло: пришел поэт, принес мерло. Мы сразу круто воспарили, не все же жить нам западло».
О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ говорят во всем мире, а о любви - только в России. Легко оспорить, но если учесть, что в западном мире (да и в восточном) под любовью понимается физическое общение, то тут им всем до России как до далекой звезды. И не остыла она, не погасла, и свет и тепло только от нее.
ДОВЕЛА. В НАЧАЛЕ нашего супружества жена подарила мне к 23 февраля теплый шарф. Я ей к 8 марта подарил спортивный костюм. Вскоре она купила мне толстое вязаное белье, я ей лыжи и коньки. Затем дело шло следующим образом: от нее мне: валенки, меховая телогрейка, стеганый халат, домашние боты. Я отвечал ей кедами, велосипедом, ракетками.
И вот, больной и усталый человек, сижу, завернувшись в одеяло, и читаю ее веселые письма. «Старичок мой...», - пишет она с туристской тропы.
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: «У меня строчку “Русскому сердцу везде одиноко” напечатали: “Русскому сердцу везде одинаково”». Я утешаю: «И то и другое верно».
НЕ УМЕЕМ МЫ, русские, объединяться. И все-таки русское дело движется туда, куда надо. То есть к Богу. Это Божия милость. И даже лучше не кричать про объединение. Усилия партий, фондов, союзов, ассоциаций только тормозят. На них же начинают надеяться, и собственные усилия ослабляют. Не царское это дело - объединяться вкруг идей.
Идея одна - воцерковление.
ПРОСТРАНСТВО ДНЯ непрестанно загружает мозговые клетки мусором сведений, впечатлений. Конечно, «все ниспослано Тобою», но находить бы силы избавляться от нашествия того, что и не было и не будет нужно.
СОТНИ И СОТНИ собраний, заседаний, съездов, пленумов, комитетов, комиссий. Тысячи и тысячи речей, выступлений, дискуссий, реплик, постановлений. И редкость редчайшая, что услышишь умное слово. Нет, живая мысль бьется только в книгах. В хороших.
«СПАСИБО, ДРУГ! Тоской влеком вновь за тобой след в след ступаю. В твоем Никольском-Трубецком я, как убитый, засыпаю. Проснусь - дождище за стеной, и храм Никольский за спиною. Моя тоска опять со мной, и кладбище передо мною».
НА КАЧЕЛЯХ ДВЕ девочки, три и четыре года, качаются и весело поют, войдя в ритм раскачивания туда-сюда, нажимая на ударные слоги: «В одной маленькой избушке жили-были две старушки. И была у них собачка по названью Кукар^чка. Раз поехали на дачку, захватили Кукар^чку. По дороге неудачка - заболела Кукарачка. Повезли ее в больничку, стали делать оперичку. С оперичкой неудачка: сдохла наша Кукарачка... В одной маленькой избушке плачут, плачут две старушки: ведь была у них собачка по названью Кукарачка» (Керчь, Аршинцево).
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ - духовное рабство. Кричи, что хочешь, толку никакого. И ничего не добился, и опять в дураках.
Но демократам сказать вообще нечего. Это сразу заметно по тому, что они постоянно поднимают крик про общечеловеческие ценности. Тут уже такая исчерпанность, что и выдрючивания на тему не спасают. Но им-то что: все проплачено, предоплата свершена, надо отрабатывать. Общечеловеческие ценности? Да у вас одна ценность - деньги.
ЧЕМ ПРЕКРАСНЕЕ было прошлое, тем тяжелее жить в настоящем. Когда-то прошлое было будущим, и оно прошло и стало прошлым. И опять есть будущее, и оно пройдет. Такое колесо. То есть настоящего нет. Во всех смыслах. Ни времени и ничего настоящего, то есть надежного, стоящего.
УТЕШЕНИЕ ПОЭТУ: «Твою обиду мне не забыть, за тебя содрогаюсь от боли я. Конечно, поэта надо любить. Поэта в годах тем более. Такого тебя весь мир возлюбил: в Европе, в любой Замбезии. Зачем же ты погасил свой пыл в родимой моей Кильмезии? Здесь половина людей не умна, то половина женская. Виновна в этом опять же луна, да плюс темнота деревенская. Ты запомни, мой друг, ты в Кильмези любим. На том стою до упертия. Я знаю - ты талантом своим подаришь Кильмези безсмертие».
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ в Иркутске подошел мужчина в галстуке: «Можно спросить? Я так и не понял, как вам удается динамизировать слово и как удается насыщать фразу энергетикой?» Я абсолютно не понимал, что ответить. Отговорился незнанием. Он, разочарованный, отошел. Рядом стоял еще один мужчина, тоже был на встрече. Первый отошел, этот мне посоветовал: «Ты б сказал ему: иди ты в баню мыть коленки. Умный, как у Ленина ботинок. Динамизировать! Закрой рот, открой глаза, так? А пойдем примем, земеля, за встречу вятских на сибирской земле!Как товарищ Сталин сказал: «Скажи мне, кто твой друг, и оба поедете в Сибирь». Я тоже всю жизнь за Вятку буром пер. А эти умники развелись: «Закрой чакры, открой мантры!» Только болтать.
ЧТО ТАКОЕ «Один день Ивана Денисовича» после Шаламова, Зазубрина, Бунина, Шмелева? Да это еще ничего, как хроника одного дня. И очерки «Матренин двор» и «Захар Калита». Но эти гигантские исследования «Узлов», «Гулагов», ну честно бы говорили - невозможно читать. Мысль опережает художника. А мысль тендециозна. Герои не для показа жизни, а для выражения авторской идеи. И это опять же терпимо. Но давит своими мыслями, а они не новы. Старается «важно в том уверить, в чем все уверены давно». И эта манера не собственно прямой речи, косвенной. Вроде и герой, а вроде бы автор. Чувства родины, русскости заменены борьбой с коммуняками. А этот «расширительный» словарь русского языка? Комедия.
И что я о нем?
ПЛОТНИК: ПЯТНИЦА - тяпница. Хватит топором тяпать, пора тяпнуть.
- ВНЕЗАПНО ЯВЛЯЕТСЯ муженек и дружки его. Где-то уже отметились. Еще и шутит: «Наливай, хозяйка, щи, к нам пришли товарищи». Я растерялась: четыре мужика, чем кормить? Потом ставлю им живо-жаренку, садитесь. Сидят, нахомячивают. Им что, было бы жидкое, без твердого обойдутся.
- ПУСТЬ У ПИСАТЕЛЯ нет таланта, компьютер-то есть у него? -Есть. - Ну, так чего еще надо?
РАССКАЗЫВАЮ В ВОСКРЕСНОЙ школе о Китае детям, какие умные китайские дети, какие упорные. Девочка: «Ребенок из Китая равен ребенку из прошлой России».
СТАРУХА ТАЛАЛАНТЬЕВНА: - Нельзя стрелять в людей с иконами. А племянник служил в МВД, говорит: «Присягу подписывали - выполнять приказы». - А если бы приказали? - «Я бы, тетя Шура, мимо стрелял».
ЭНГР НРАВИЛСЯ за краски. Может, и не более. Помню его, а опять и опять смотреть не тянет. А к Левитану пришел позднее. Мое он приподнял и на подносе живописи преподнес. Будучи экскурсоводом, наблюдал за ребятами. Их тормозили сюжетные картины и нежно выписанные лица, вскоре наскучивающие. И то, что вспоминалось из иллюстраций в учебниках и открытках. Великие произведения оставляли равнодушными. Ничего, все постепенно.
Пришел я к Пластову, Венецианову, Тропинину, Нестерову, Боровиковскому, Серову от тех же Нисского, Сарьяна, Домашникова, Ван Гога, Матисса (писал о них). А к Рублеву от всех их вместе взятых, от икон и росписи в церквах.
Что Энгр? Для примера. У голландцев так много тяжелого матового серебра, что полотна чуть не рвутся, так много его (серебра) наставлено. То же дичь, фрукты-овощи, полдни в Неаполе...
Словом, мысль еще такова, что к большому приходишь, когда оно было в твоей жизни, ты был лишен его, и вот: оно здесь, на картине. Осень моя, ее золото, над вечным покоем, радуга и березы Куинджи, грачи Саврасова... Но и (тогдашнее: Моя любимая картина - Романо Джульо «Форнарина», о, милая, так грустно не смотри, ты лучше двух десятков Самари) «Жанна Самари». Все ж-таки без голой груди и без красного знамени на баррикадах.
СУПРУГЕ: НУ, МЫ идем в гости? - Не знаю. - Но мы же обещали. -Иди. - Как же я один пойду? - Очень просто. - Ладно, собирайся. - Интересно, в чем я пойду? - Вот в этом платье. - Ему сто лет. - А в этой кофточке? - Да кто теперь такие носит? - А этот костюм? - Если хочешь опозориться из-за жены, надену. - А вот эта блузка? - Ее надо было сто лет назад выкинуть. - Но вот это-то, это-то! И это! - Я во всем этомкак чучело огородное! Тебе вообще всегда все равно, как я выгляжу.
НА РЕЙДЕ МНОГО света от береговых прожекторов, от фонарей на мачтах. Да плюс большущая луна. Все соединилось в гармонии неба, земли и моря. Спокойная вода, хорошо видно спящих рыб. Привыкшие к гудению винтов даже и не шевельнутся. Они были независимы от ковчега Ноя. А нам бы без него не спастись. Но в будущем и вода закипит, и море станет как кровь.
Рыба прыгнула в руки монаху, когда нечего было есть, и он взмолился.
В ГОСТЯХ ДЯДЯ Савелий. Поел хорошо, откинулся, гладит живот: «Ну, отвел душу». Мальчик, сын хозяев: «Дядя Сава, не надо душу отводить».
ДРУГОЙ МАЛЬЧИК, плохо послушный. Бабушка провожает его: «Иди с Богом!» - Он (сердито): «Нет, я один пойду!» И плохо закончил жизнь.
ЧЕРЧИЛЛЬ, НАГОВОРИВШИЙ много любезностей Сталину и вообще СССР, известен еще и тем, что выпивал ежедневно две бутылки армянского коньяку. Это-то все знают, а речь в Фултоне забыли. Речь совершенно гитлеровская, даже по лексике: «Гитлер начал дело развязывания с войны с того, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию». Господин Черчилль начинает дело развязывания новой войны тоже с расовой теории, утверждая, что “только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы мира”». Каково? («Правда» март 1946 г.)
ТЫСЯЧИ ПЕСЕН всякого рока, авангарда, рэпа, но как выйдет на берег Катюша! «Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет». И эта Катюша была родная сестра гвардейскому миномету «катюша».
ДЕВОЧКА МАЛЬЧИКУ: «Не тронь муравья, у него есть маленькие дети - муравьи». - «А если нет, так можно наступить?»
- ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА, почему же вы не читаете Белова, Распутина? - Миленький, есть же Евангелие.
Читать художественную литературу стали меньше, потому что появилось много духовной литературы. И должно же это принести духовные плоды.
Почему трудно воззреть ко Господу? «Омрачились умом в житейских страстях». И: «Дружба с миром есть вражда против Бога».
Терпение вырабатывается волей. Терпеть может и гордый, и себялюбец, и тщеславный. И прикрываются заботой о мире, о людях. А вот смирение, за которое дается благодать - это награда за молитвы, самоотречение. Главное тут для интеллигентов, чтобы язык не был бы «прикрасой неправды».
Да что ж я-то такой умный получаюсь, а сам очень плохой молитвенник, очень пребываю «в лукавствии мира».
НА ПТИЧЬЕМ РЫНКЕ мужчина в телогрейке ходит с котом, щиплет его за шерстку меж ушей. Кот моргает. «Смотри, какая шапка. К зиме вылиняет, мех окрепнет». Другой купил рыбок, а банка с ними вдруг выскальзывает и разбивается. Все ахают, а продавец рыбок кидается на четвереньки и собирает трепещущих рыбок ртом. Встает, кровь на губах, порезал об осколки банки. Но доволен, спас рыбок. Выплевывает рыбок в аквариум. Наполняет водой еще одну банку, начинает сачком снова ловить. «А сколько неончиков брали? Пять? Возьмите еще самочку. Через год и уху будете варить».
- РУССКИЕ ВО ВСЕ века испытывали сверхчеловеческое напряжение. - То есть хочешь сказать, что устали? - Никогда! Как солдаты на марше? Спали на ходу. А вспомни наши Крестные ходы.
ТОПЛЮ БАНЮ
Стыдно сказать, топлю шестой час подряд: дрова сырущие, баня худющая. Мусор жгу, фанеру. Сегодня даже солнце. Так неожиданно выходит из-за туч, что вздрагиваешь как собака, которую неожиданно погладил хозяин. Или как наказанный и прощенный ребенок.
Все больше тянет к уединению. И даже не только для работы. Молод был, мог и на вокзале писать. И в ванной. Уединение сохраняет душу. Один находишься и не грешишь, хотя бы языком. И легче гасить помыслы, они быстрее замечаются. Легче глазам - не на кого смотреть, легче ушам - некого слушать. То есть как раз ушам полная благодать - слушать крик петуха, шум ветра, птиц, хруст снега... Стараюсь запомнить, как озаряется церковь, как обозначается на темном небе. Уходил из Лавры, все оглядывался. У преподобного снопы, костры свечей, отраженные в золотых окладах. «Радуйся» акафиста. Прошу все это жить в моем сердце, занять его. Чтобы, когда пытаться будут войти в него помыслы, им сказать: а место занято!
Колокол ударил. Негромко. Подождал, как бы сам прислушиваясь, так ли начал звон, еще ударил, еще. К вечерне.
Как же легче жить со Христом, слава Богу. Знали бы деточки. Нет, им их дела дороже. Что горевать, все описано святыми отцами. И нечего думать, что кто-то страдает меньше другого.
В Лавре, в Троицком соборе у меня есть место, стоя на котором особенно ощущаю Божие присутствие в себе и в мире. Около хоругви. Даже иногда пол храма покачивается подо мной, как палуба корабля перед причаливанием к Святой земле. Это ощущение хочется передать сыну, дай-то Господи.
- МЫ - ЛЮДИ БОГА или люди истории? (думает) История разве не от Бога?
ШТАБ ДЬЯВОЛА
Сам дьявол редко вмешивается в события обычной человеческой жизни. Он занят главным - готовит путь антихристу. Всю бесовщину в мир внедряет его дьявольский штаб. Работу ведет и по странам и континентам, и, главное, по умам, душам, сердцам. Ссорит людей, убивает любовь, спаивает, развращает, прельщает деньгами, удовольствиями. От падения нравов производные: пошлость культуры, недоумки образования, продажность дипломатов и политиков.
На этот штаб работают, и вроде бы сильно, русские патриоты. Телепузикам велено и русским слово давать. Пусть пищат, визжат, хрипят, что Россия гибнет, это же музыка для дьявольских ушей.
Почему же мы терпим поражения? Мы, русские? Потому что дьявольские штабисты занимаются не глобальными проблемами, а каждым отдельным человеком. Человек рушится - остальное само собой.
У дьяволят и отпуска бывают, их хозяин об их здоровьи заботится. Отпуск у них у моря, среди педерастов.
ПОЖИРАТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Мне кажется, это такие маленькие незаметные существа, которые всюду. Они все пожирают, у них вообще один рот, едят все. И они распространяют бацилл обжорства, лени, жадности. Но самое для них лакомое - наше время. Вот они втравили человека в переедание, он уж еле дышит, а все ест и пьет. Упал поспать. А должен был потратить время на нужную работу, а теперь это время убито обжорством. Но оно не пропало безследно для пожирателей времени, это их добыча. Девица перед зеркалом часами. Эти часы опять же съедены пожирателями. Вот вытянули людей на безполезное орание на митинге. У кого дети не кормлены, у кого мать-старуха, а время на заботу о них уже им не вернуть. Идут, никто не гонит, на эстрадников смотреть. Что им с того? Одна трата времени, да усталость. А пожирателям радость. Телезрители особенно кормят пожирателей. У них есть слуги: утешатели, убаюкиватели, увеселители. Пожиратели от награбленного времени пухнут, складируют время, как сжиженный газ, в хранилища. Потом продавать будут.
(Хотел писать подробнее и с юмором. А какой тут юмор? Сам же много времени своей жизни пожирателям в рот склал.)
- БАСТА, КАРАПУЗИКИ! Танцы кончились.
- ОЧКИ КУПИЛ за двести долларов. - Ну-у, нам так не жить.
ПРИ ГИТЛЕРЕ БЫЛ готов проект памятника Покорения России. Множество товарных вагонов было нагружено специально для этого заготовленным финским темно-красным гранитом. Когда немцев погнали от Москвы, гранит был брошен. После войны им облицевали цокольные этажи зданий по центральной Тверской (тогда Горького) улице. Когда я в студентах в школьные каникулы (для заработка) водил экскурсии по Москве, то всегда обращал внимание на этот гранит. Но ведь надо было говорить еще и о том, что верхние этажи домов в начале Тверской, особенно дом, следующий за Центральным телеграфом, украшен деталями архитектуры, снятыми с взорванного храма Христа Спасителя. Но я же не знал.
Дом этот весь в щитах мемориальных досок. В том числе память о министре культуры Фурцевой. Она покончила жизнь самоубийством. Русская была, но мышление партийное. Колокольный звон запрещала. Хрущева спасла в критическую минуту. А надо было?
- ТАМ СТОИТ избушка с сенцами, с колдунами-экстрасенсами. Генератор синэнерговый и станочек гутенберговый.
ПАРЛАРЕ - БОЛТАТЬ по-итальянски, то есть парламент - говорильня, болтология. Когда депутатов в конце 80-х показывали в прямом эфире, все бежали к экранам. Ой, какие смелые, ой, как народ-то любят. Такое было парларе. Конечно, и съезд КПСС - та же трепотня, ведь все же уже решено до съезда. То же непрерывное бренчание текстов. Был анекдот: мама приходит с работы, хочет включить телевизор. Сынок: «Мама, не включай!» Хочет радио включить: «Мама, не включай!» - «Почему, сынок?» - «Страшно, мама. Все время говорят: “Съест кпсс, съест кпсс”». Даже шутили, что и чайник и утюг не надо включать, там тоже съест. Или еще: чтобы было изобилие продуктов в холодильнике, надо его вилку включить в розетку радио или телевизора.
А ВЕДЬ БУДЕТ последний день. Будет такой страх, что жить не захочется. А смерти не будет. Оглянешься на запад, где он? А он уже провалился. И только с востока свет.
ЖЕРТВЕННАЯ КОРОВА капитала - вот что такое демократия.
МАЛЬЧИК ЛЕТ ДЕСЯТИ говорит девочке: «Пусть тебя твой муж топором убьет». Она, надменно поводя плечиком: «Ат-вали, каз-зел!»
Мальчик мне (а я ни о чем и не спрашивал, стоял): «Папка на шабашке, а мама красавица».
В ТАМБУРЕ ПОЕЗДА. Веселый подпивший парень, руки в наколках: «Приму сто грамм я водочки - и жизнь помчится лодочкой. И позабуду, где, за что сидел. Дядя, - это мне, - ты сидел? Нет? Зря! Тюрьма - это академия жизни, школа воровства и мошенничества. Посадят пацана за ерунду, а он выйдет готовым специалистом. Там знаешь, как там сериалы смотрят - во всех же в них показ: тюрьма и следствия. Смотрят как учебники. Как кого покупают, кто на чем попался. Естественно, из-за баб. В основном, конечно, в этой кинятине туфту гонят, кино, одним словом, и у них там режиссеры - шпана, но у блатных есть и свой опыт. Туфту анализируют, базар фильтруют, пацанов на будущее готовят. Хоть коммунизм, хоть что, работать все равно неохота. Сейчас вообще такое время, что его лучше в тюрьме пересидеть. На всем готовом. И церковь в зоне есть. Эх! - вскрикивает парень. - О, сол лейк-сити, Америку спустите! Мы - дура, без тебя прекрасная страна!»
- ЖИТЬ ВРОДЕ легче становится: не голод, а жить все страшней. Собаке раньше бросишь картошку - рада. Потом хлеб и им бросали. Потом они и хлеб перестали есть, мясо давай. Говорили: социализм -это учет. Стали считать. Рассчитают, сколько корму на зиму для коров, столько и заготовят, а тут весна на месяц задерживается - падеж. Это в колхозе. Да и дома - наготовили солений-варений, а гости едут, родня нахлынула. То есть и накорми, и в дорогу дай. Да друг перед дружкой стали выхваляться. У кого больше да модней. Работа стала не в радость, а в тягость. От нервов пить стали больше. Страхом не удержишь. Возили водку до войны на лошадях, после войны на машинах, сейчас вагонами возят - не хватает. Хотя, читал вчера, мы все равно меньше других пьем. В войну столь не гибло, сколь сейчас.
- Так и сейчас война. Война с бесами пьянства. И они побеждают. Несем потери. Могли бы небесное воинство пополнить, нет, идем в бесовское. Ведь и там война.
- И там брат на брата? Трезвенник на пьяницу?
- Ну, все гораздо сложнее.
- А как?
- Если б я знал.
- ДА, ОТСТАЛИ от Японии по компьютерам. Но это дело поправимое. Начнет «оборонка» работать на мирную жизнь - и догоним. А вот никаким Япониям-Америкам нас не догнать по «Троице» Андрея Рублева, по музыке, литературе, по культуре вообще. То есть по нравственному состоянию души. Все дело в том, что мы православные.
То есть мы далеко впереди всего мира. Разве же он с этим согласится?
ГОД 75-76-й, МАСТЕРСКИЕ колхоза. Шофер, парень в разноцветной рубахе, друзьям: «Я же в районе, в сельхозуправлении был». - «И что?» - «Встретил Вениамина Александровича. И он там при всех знаете что?» - «Что? Не тяни!» - «Он при всех заявляет: “Я в Бога верю”. -Да. Публично. И спокойно так говорит и ничего не боится: “Я верю в Бога”». - «Но это его дело». - «Нет, парни, нет. Это такой человек золотой, да вы же его знаете, приезжал. Последнее отдаст. Слова плохого от него не услышишь. Любому поможет». - «И что?» - «А то! Если такой человек верит в Бога, значит в Бога верить надо».
НА ТУ ЖЕ ТЕМУ: Приходил в церковь и стоял у выхода мужчина. Он был некрещеный. Батюшка, видя его интерес, сказал: «Давай, Леонид, крестись. Мы же видим тебя, какой ты». - «Да я и сам подумываю. Только мне бы вот увидеть ваше начальство». - «Архиерея?» - «Так называется? Да, значит его». Тут батюшка затосковал, ибо архиерей тот был, скажем так, жизнелюб. Но как уклониться? «Архиерейский дом в городе там-то». Леонид уехал. Батюшка ждет, переживает, с чем он вернется. Вернулся. Лицо радостное: «Если с таким архиереем вы так храните веру православную, я тем более окрещусь».
(У Пушкина: «Как в церкви вас учу, вы так и поступайте. Живите хорошо, а мне не подражайте»).
КОГДА ПОЛКОВНИК полиции и майор при нем захохотали на мое возмущение тем, что в ста метрах от Красной площади мужчина с темной кожей раздает прохожим яркий журнал с фотографиями и телефонами проституток, то меня это ударило необычайно. «У каждого свой бизнес», - сказали они.
Вот так. Вот о чем мечтала Новодворская, говоря, что нужен России капитализм. Он пришел. Но один он прийти не мог. Ему нужны были подпорки пошлости, разврата, убийства всего святого.
ТАК ПРЕПОДНОСЯТ прошлое либералы, что внуки всерьез уверены, что при Советах за границу не выпускали. Бедные люди! Ездили непрерывно. Сотни и тысячи туристских групп, причем, что важно, ездили самые простые труженики. Режьте меня, если в какой-то группе не было доярок, каменщиков, слесарей, трактористов. Эти поездки были как поощрение за хорошую работу. Да, в каждой группе был проинструктированный товарищ, который отвечал за безопасность группы. Но это, согласитесь, хорошо. У меня, расскажу для улыбки, был знакомый из ЦК ВЛКСМ, он иногда возил группы. А был бабник. В Берлине распустил группу, сам зашел в магазинчик. «Смотрю сувениры. Изнутри высунулась фрау, опять спряталась. Вдруг входит немочка, такая белокурая бе-ляночка. А, думаю! Дай подскочу. Ну схлопочу по морде, ну и что? Руки развел, улыбаюсь: “Гутен таг!”, ее шаловливо приобнял. Она отскочила. Вдруг входит еще девушка. Эта первая: “Смотри, Наташ, эти немцы думают, что если русская, так все с нами можно”».
ВОТ ФРАНЦУЗЫ: После первого заключения на острове Эльба Наполеон сбежал, стремясь вернуть себе власть. Известие о его бегстве потрясло всех. Вот заголовки из французских газет той поры в порядке очередности событий: «С Эльбы сбежало корсиканское чудовище», «Самозванец высадился на берег», «Бывший император идет на Лион», «Наполеон Бонапарт в Лионе», «Император идет на Париж», «Париж приветствует Ваше Императорское величество». Как говорится, без комментариев.
ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ моей жизни - рождение в России, и именно в Вятской земле, и именно в моей семье. И счастье, что родители успели еще захватить настоящую русскую жизнь, пропитались ею, тосковали о ней и рассказывали нам про нее. И от них я очень легко представляю, что такое православное бытие русского человека.
Становится прохладно, день рано темнеет. Мама вздохнет и скажет: «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла? Еще просит сердце света и тепла».
«Бабушка Дарья, - вспоминает отец, - всегда на Сергиев день ржаной пирог пекла».
Приносил из леса рябины и клал между рамами. «От угара». - «И для красоты», - добавляла мама.
Ах, как помню, мы к вечеру возвращаемся с сенокоса. Мама оставалась на хозяйстве, стоит на крыльце, нас встречает: «Наработались ди-тенушки, шаляпают домой». А мы ей и цветов и ягод принесли. И отчет: «Мама, мы всю круглую поляну выкосили. И около озера весь луг».
НЕ ОКЛЕВЕТАННЫЕ НЕ СПАСУТСЯ, повторяю я, слыша все новые словоизвержения в адрес России. «Блаженны вы, егда поносят вас...» Это и к человеку относится, и к России. Мы потерпим. Жалко вообще-то клеветников: собирают себе «горящие угли на голову». Тут я ничего не выдумываю: все по Писанию.
А не по Писанию можно всего насобирать. И Грозный, и Годунов злодеи (Карамзин). И царь - чудовище (большевики, Покровский), всего наболтано и внедрено. Доселе: бомбят живых людей, а родной мне человек уверяет, что это постановочные кадры.
Теперь уже поле битвы не сердца людей, а головы.
«СЕРПОМ ПО МОЛОТУ стуча, мы прославляем Ильича». И это выражение не сейчас сочинено. Слышал в мальчишках. Как и: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь», как и: «Наливай, хозяйка, щи, к нам пришли товарищи». Художники советского времени прозвали Ильича Лукичом и говорили: «Для водочки и для харча ваяю срочно Лукича».
ИЗ ЗАПАДНОЙ Украины, еще с Гражданской: «Живут родственники. Одни на горе, другие в долине. “Кум, - кричит с горы мужчина, - яка ныне влада?” То есть какая власть, какой портрет вешать на стенку. Портреты приготовлены.
ШУТКИ НА ГРАНИ то ли политики, то ли юмора. О самоубийцах. «Рука, откинув пистолет, качнулась в сторону стакана». «Держа в руке кинжал, вонзаю в себя нож». И театральное, как обозначение плохой драматургии: «Здравствуй, Вася, мой школьный товарищ».
БЫВАЛО И МНЕ повезет - глядеть на землю с небес: поезд гусеницей грызет хвойно-лиственный лес. Проплывает в медленном танце природа без наших скверн, но душит за горло станцию длинный состав цистерн. (Или: ожерельем на горле станции.)
ОТЕЦ АНДРЕЙ: - Святость не уменьшает страданий, она их увеличивает.
Два человека в нас нам подвластны. Внешний, который с годами тлеет и внутренний, который может обновляться. Но если внешний в любом случает уйдет вниз и утащит с собой всю мирскую шелуху: деньги, награды, костюмы, дачи, то внутренний облегчается, обретает крылья для подъема в Царство Божие.
А третий человек в нас - Божеский.
- У КОГО КАКИЕ собаки, какие кошки, даже коровы, можно по хозяевам сказать. Кошку соседскую застала - она подскочила к корыту, в котором вареное пшено было для кур, и ест. А увидела меня, отпрыгнула и притворяется, что траву нюхает. И хозяйка ее такая была врунья! Вот врет и тут же уверяет: «Правду, правду». И внук ее маленький совсем, чего бы ни говорил, всегда прибавит: «Павду, павду», - и рукой, как она, поведет.
«ВСЕ МЫ ЯКОВЫ, все я да я. А когда будет: он, она, они? А пока, скажи кому-то про чьи-то страдания, тут же: “Да? А у меня еще тяжелее”».
ТАЛАНТА НЕ ПРИБАВИТЬ себе, но вырастить в себе уважение к другому таланту, а не зависть к нему, возможно для каждого. Лишь бы талант работал на доброту.
ЕДИНСТВО СЛОВА и действия. Писатели есть, издатели есть, книгопродавцы есть, покупатели есть. Даже читатели есть, даже понимате-ли. Действователей нету.
Почему? Потому что нет третьего составляющего в этом единстве -молитвы.
Единство слова и молитвы, и появится действие.
«ЗЛОЕ СЛОВО и добрых делает злыми, а доброе и злых может сделать добрыми» (Авва Макарий).
ИДЕЕЙ СЧАСТЛИВОГО будущего держались большевики, постоянно врали советские коммунисты. А все нет и нет его. Демократы уверяли в счастливом настоящем. Где оно?
Но почему же люди такие податливые на посулы врага спасения? Какое счастливое настоящее, когда настоящего просто нет? Мы же не в настоящем живем, а во времени, которое несет нас к смерти. И это очень нормальное понимание жизни. Да, каждый день умираем. А как иначе?
Надо на болтовню о счастливом будущем наплевать и ее забыть. Счастливого будущего на земле ни у кого не будет. Поступила дочка в
институт - радость, и тут же телеграмма - мать умерла. Получил премию, а в боку печень закололо. Надо одно: работать на свой будущий загробный мир. Вот уж он-то точно будет. Там и время исчезнет. Не было же времени до Сотворения мира. Вот в такой мир и попадем. А какой он будет для каждого, страшно подумать. Хочешь хороший? Надо заработать, заслужить. Загробный мир не обманет.
СОСТРАДАНИЕ УБИВАЕТСЯ рынком, ибо рынок - это конкуренция, а сострадание - это жертва. Чувство стыда убивается телержанием над всем человеческим. Бранными словами, порнографией. Издевательством над классикой. Благоговение перед святынями - плясками перед алтарем. А без этого человек превращается в животное (В. Соловьев). Пройди по улице. Много ты видишь людей? Фигуры, тени, манекены, роботы. И всех жалко. Особенно ранним утром в метро, в автобусах, в электричках. Усталость и тусклость во взглядах. Да и вечером то же.
ТАК НАЗЫВАЕМУЮ русскую дворянскую элиту кто выращивал? Модистки, пленные французы, ставшие учителями языка и танцев?
Приписывают графу Уварову слова: «Ни одна заграничная тварь меня не учила». А не так называемую, а просто русскую элиту выращивали православные святители, полководцы, школа Рачинского, а они шли от Креста в небе. «Сим победиши». Царь Ираклий разувается и несет Крест босиком. Царь ниневитян посыпает голову пеплом, Давид пляшет перед ковчегом. Без этих примеров не было бы подлинного народного духа. Ни, тем более, никакой элиты.
И мне тоже очень радостно, что ни одна зарубежная тварь меня не учила. А когда потом пытались учить, я уже был наученный.
БЕЛОВ, ПРИЕЗЖАЯ в любой город СССР и видя привычно-советские названия улиц, спрашивал: «А они здесь были? А что они сделали для города? Тогда при чем тут либкнехты, марксо-энгельсы, цеткины, люк-сембурги, воровские?»
ЮРИЙ КУРАНОВ: «Старичок, конечно, мы выбираем плюс, но протягиваться из минуса в плюс приходится через ноль. А как ты хотел, мой милый?»
«НОГИ ЗАМОРЖЕЛИ, ехал в санях в мороз, скрючился. Встать не мог. Заморжели как не свои». - «Замерзли?» - «Нет, в санях сено, не замерзли, именно заморжели».
СЛОВО СТАТУС. Старшеклассник: «У меня социальный статус бездельника». Девчонки восхищены: орел! А девчонкам хочется восхищения.
- НЕТ, НЕ МОГУ с вами идти, надо работать. - Если хочется работать, ляг, поспи, это пройдет.
- ЗОЛОТО ТЫ у меня, мамочка, - говорит отец. - Была золото, да помеднела.
ПРИЕХАЛ В ИЗБУШКУ в Троицком, жил два дня. Крошил на пенек корм для птиц. Налетали, расклевывали и ждали, что опять выйду покрошу. Привыкли ко мне моментально и не боялись. А уеду? И будут прилетать, крылья мучить. Прилетят - пусто. - Что ж ты, хозяин, пели для тебя, веселили, благодарили за крошки, а ты?
Да, на родине нельзя бывать, на родине надо жить.
«ТИХО И БУДЕТ все тише», - вспоминал строчку сегодня, когда ходил к реке по лесу. Вроде все березы в желтизне, а ни один листочек не слетел вниз. День спокойствия. Но моего спокойствия и в этот день во мне не было. Оно и в природе скоро прервется. Придет сюда ветер с жестоким названием «листодер», сорвет по-хамски золотые покровы. Неизбежно. Но и хорошо: обнаружится даль.
- БАПТИСТ ВСЕГДА активист. Как и вообще протестанты. За руку хватают, литературу свою навязывают. «Свидетели Иеговы» напрямую говорят, что только они правы. То есть напрямую свидетельствуют о своем сектантстве.
СТИХИ ВНУКОВ: «Бабушка стряпает, бабушка полет, бабушка варит картошку. Мы помогаем, уселись за стол, в общем, всего понемножку. Мы тебя любим, бабушка наша, очень прекрасна гречнева каша».
БОЛЬШЕВИЗМ ВЫШЕЛ из протестантизма, а протестантизм из безбожия (Тростников). Он же: «Настоящий мудрец, подлинный мыслитель может выйти только из православной цивилизации, поскольку мировоззрение, из которого выросла ее культура, есть неповрежденное учение самого Бога, воплотившегося и сошедшего на землю для того, чтобы дать ее людям».
«ОБЛАСТЬ ЭМОЦИЙ - элемент оружия пропаганды». Так? Так. Чувства можно вызвать, внушить, заглушить, оживить, руководить ими. Такая разная душевность. Душевно можно пивка на берегу попить. Дико говорить о каких-то положительных эмоциях. Это же всегда расход душевных сил, а они всегда на пределе.
- ПРИДЯ ИЗ БЕЗДНЫ, мчится в бездну и день, и час, и каждый миг. И это вспоминать полезно, когда хвалы раздастся крик.
В ПОЕЗДЕ НОЧЬЮ ходит по вагону возбужденный парень. Хлопает дверьми, пристает к проводнице: «Вызовите врача». - «Нет в поезде врача». «“Скорую помощь” вызову на ближайшей станции, вас ссадят». - «Не надо “скорую», дайте таблетку». - «Нам таблетки запрещено давать».
Ходит по вагону, будит: «Вы не врач?» Я ему: «Чего ты всех будишь?» -«У меня шум в голове, он будит, а не я».
СТАРИК ПОХОРОНИЛ старуху, живет у сына. Невестка жадная. Их маленькая дочка увидела, как дедушка вставляет в рот протезы.
- Мам, дедушка как собака кости грызет.
Невестка мужу:
- Я и говорю - его не прокормишь.
«И ЖИЗНИ НЕ ВКУСИВ, смерть жалобно принял» (Тредиаковский об аборте).
СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ повелительного наклонения, русские просительного. В застольи гармонист: «Вам комсомольскую? Или для души?» «Ищи меня, где шумит тайга, ищи меня, где метут снега». Или: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян».
И еще помню рассказчика в компании: «Вам постненьку или молос-неньку?» То есть скромную историю или не очень.
РУССКИЕ И, МЕНЬШЕ, советские видели в выборе профессии призвание и, обязательно, пользу Отечеству. Теперь средство выжить и, желательно, обогатиться. И уже привыкают. Как и в замужестве. По любви или по расчету? Первое тяжелее, но счастливее. Второе легче, но несчастнее.
КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ Изяслав: «Иду на исповедь - ноги подгибаются». Вот от этого такое и княжество. (При Изяславе игумен Даниил.)
ОРУЖИЕ ЖЕНЫ - ухват - сменила поварешка. Или утюг, желание пользоваться которым приходило обычно в моменты, когда он помогал наряжаться.
ПЛОХ ШУЙСКИЙ? Да. Но на троне его удержал великий Ермоген.
«ОБ ЭТОМ-ТО, - показала рукой в землю, - помнить надо» (Мама).
Она же: «Будь потверже. Не будь травой, будь сеном».
Она же: «Нельзя жить с вывороченной душой. Держи душу в кулаке».
Она же: «Я ведь не в щепках найдена, не в угол носом росла».
Она же: «Однажды только, раз в жизни я маме сказала обидное слово, я сказала: “Ой ты, Андреевна гневна”. Она нас в клуб не отпустила.
Так ведь и правильно, нас жалела, в четыре утра надо подниматься. И всю жизнь стыдно, что так сказала».
- ОЙ, В ВОЙНУ такая нищета, такая! Я тебе все от пяты до пяты расскажу. Как их жалко! С детьми ходили. Детишечки, уже давно осень, они босые. Оборванные. Где куском подашь, где картошкой. Спрашивает: «Нет ли хоть головки от рыбы?» Нет, не буду рассказывать, вся изревусь.
КО МНЕ ПРИБЕЖАЛИ: «Твой, - говорят, - у Маруськи на празднике». Я набралась натуры, пошла. Мужики в передней. Баб обносят из одной стопы. Они по всей и я всю. «Марусь, говорю, бери моего мужика, бери! Знаю, любишь. И мне он хорош, но, может, ты больше любишь. Бери! С приданым отдаю, бери всех четверых (пятой еще не было). Бери!» И дверью хлопнула! Не заждалась: явился вскоре. Я ему ни слова.
- ЗЕМЛЯ ХОРОШАЯ, только то и не растет, чего не посадишь. Огурцов было - огребание. Тыквы ребята катили как тележные колеса. Шляпами подсолнухов ведра в шутку закрывали. Морковь, свекла, репа - все крепкое, чистое. Ко мне к весне за семенами в очередь. «Слово какое знаешь?»
- ЗАЧЕМ ЖЕНИТЬСЯ? Зачем? (Разговор в мужском общежитии.) Чтоб ей деньги отдавать? Отдай, да потом у ней же на чекушку проси. Или хоть там на баню. Заработай, да и не порасходуй. - Так-то так. Но хоть постирает, хоть чего сварит, тоже и утешит. - Во-от, на том и ловят.
- РАЗВОДИЛИСЬ В НАРСУДЕ, так народ, как на концерт сбежался. Он: «А чего я от тебя видал? Одну ее, да и то не досыта».
РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ старше первой итальянской на сто лет. Как и французских хроник. Немецкая вообще в XIV веке. Наш Нестор одновременен с греческими и латынью.
КАК ЖЕ, СОБАКИ либералы, издевались над нами. «Ты умный? Почему ты такой бедный?» Осмеивали порядочность. Думал: нет, такие долго не продержатся. А вот держатся. И паки и паки вся надежда на Бога.
СВЯЩЕННИК: - ОТПУСКАЮ тебе грехи.
А Господь: - А Я не отпускаю!
Тут-то страшно.
НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ сравнивал происшедшее в России со Всемирным потопом. И он же: «Надежда и Запада и Востока только на Россию».
СТАРИК У ПЕРЕКРЕСТКА, долго ожидая зеленый светофор: «А вот убрать эти дымогарки, убрать вообще машины, и что? И пойдут пешком и спасутся. Жить будут - будь здоров! Лошадка в хлеву, коровка. (Проникаясь доверием): Отца за двух лошадей раскулачили, а тут парень-амбал девку везет, и у него пятьдесят лошадиных сил, это как? Небось, его дед моего отца и раскулачивал».
ПЬЯНЫЙ МНЕ с обидой: «Я хотел их посмешить, а они стали смеяться».
Он же: «Я за ней приударял, ты понял, да? Говорю: “Я старше коня Буденного, но не верблюда”. Каково? Говорит: “Буду слона искать”. Понял, да? О, она с юмором. От меня научилась».
У МОНТЕНЯ: «ТАК как наш ум укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общением с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная зараза».
В ТОН ЕМУ: Если кто-то говорит как по писаному, а книги его средненькие, значит, нахватался ума опять же из книг. Не из своих.
СКОЛЬКО БЫЛО молодых, подававших надежды писателей, легион. Сколько прокукарекало, заявило о себе, и довольно успешно, сколько... остановимся. А дальше? Кто спился, кто обозлился, кто вышел в издательские, журнальные начальники и успешно стал тиранить пишущих. Почему? Да потому что молодых тянули, хвалили, продвигали. Тянули за волосы, хвалили авансом, продвигали себе подобных. Надо было обязательно поддерживать, но все время напоминать, что пределов для совершенства нет. И что никогда никому не написать ничего подобного Евангелию. А один мой современник всерьез (!) говорил, что по его книгам учатся, «как по Евангелию».
Правило «топить котят, пока они слепые», тоже не всегда верное. Кто-то, плохо начав, развивается, кто-то, ярко блеснув, гаснет. А утопят первого.
НЕБО ТАКОЕ спокойное, что кажется - жить и можно и нужно. И по нему ямбы, хореи летают, октавы несутся вослед, летают и тяжко вздыхают: когда нас поймает поэт? За хвост.
В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ главное содержание. Так думаю. А навязшее в зубах правило единства формы и содержания тоже условно. Куда она денется, форма, когда нужно выразить верную, нужную мысль. Если мысли нет, то любое выдрючивание, изысканность стиля, всякая плетение амбивалентности, текста, контекста, надтекста, упражнений в рифмовке, всякая верлибристика-маньеристика уйдет, оставив только пену. И, увы, именно в этой серой пене копошатся и пузырятся исследователи. И находят какое-то что-то нечто. - «Привычное дело»? Ну что тут такого, - скажут, -ну что это? Жил Иван, работал, воевал, детей нарожал, жену похоронил, что такого? Где хорал мысли, многовекторность, оркестровка идеи?
Да, Белов пень-клубу - кость в горле.
ВЯТСКИЕ ЛЮДИ - это, в шутку говорю, русские евреи. Во-первых, они везде, во-вторых, они везде начальники, в-третьих, они помогают друг другу.
И это не шутка. Вятское землячество самое мощное в Москве. Это понятно: Москва стоит на земле вятичей. Досадно, что земляки московские не поняли заголовка моей повести-стенограммы «Мы не люди, мы -вятские». А чего обижаться? Кто бы еще так мог назвать, если б не был вятским? То есть: все думают, что я умный, а на самом деле... так оно и есть. Да и вспомнит века минувшие: обедают господа, а что-то не доели: «Ну, это в людскую».
В ДЕТСТВЕ ДОЧЕРИ. Игры в классики. Прыгают по расчерченному мелом асфальту. Биточка - баночка из-под ваксы. «На тоненьких живем!» То есть можно чуть-чуточку приступить черту. Ответ: «Хлюзда долго не живет!» То есть тот, кто ищет судьбу полегче.
ГОРДОСТЬ ПОЭТА от того, что актриса знаменитая, западная, уже не молодая, в гостях на даче у него ошарашила русского шнапса, разделась и залезла на стол. И он (не стол, а поэт) это в интервью сообщает. Как очень значительный факт своей творческой биографии. Еще об одной знакомой, знаменитой поэтессе: когда волновалась, ела много мороженого и запивала пивом. О модных джинсах, чулках со стрелками, магнитофоне «грюндиг», джазе, считавшихся культурой в то время, когда сселялись деревни, убивались земли, вырубались леса.
Но ведь то же бывало и раньше. В Гражданскую, при расстрелах, в голод и холод Лиля Брик купалась в молоке, и в Отечественную кто-то обжирался, а кто-то умирал с голоду. Господи, все они уже т а м. Но кто где именно?
ПЕРЕСТРАХОВКА, «ЛУЧШЕ перебдеть, чем недобдеть» считается усердием и не наказывается, тогда как это надо считать трусостью. У издателей считалось нормой советовать автору сказать то, что он сказал, как-то иначе, спрятать мысль, чтобы пройти цензуру. И прятали так, что и концов не находили. Дипломаты вообще дошли, оказывается, язык им дается для того, чтобы скрывать свои мысли. Я наивно полагал, что он для их выражения.
«КИНОМЕХАНИК ЗВЕРЕВ принял “озверину” и прыгает сквозь горящую картину» (детский конферанс). «Внимание! Танец зеленой лягушки!»
«ТЫ ПОЧЕМУ на каблуках? Тяжело же! А спина? А поясница? Не девочка уже». - «То-то и оно. Держаться надо. Каблуки снимешь - сойдешь с дистанции».
САМОЕ ЗМЕИНОЕ место между обрывом и рекой. Ходить побаивался, хотя ходил босиком. Надо было палочкой постукивать. А торопился. И вот она - змея! Да большая, да в восьмерку свитая. Да рядом. Из меня вырвался крик. И потом я долго анализировал его. Это был не мой голос. Это был вообще не человеческий голос. Но и не звериный. Что-то страшно первобытное было в нем. Конечно, в нем был и испуг, но была и угроза. Змея стремительно развилась и исчезла.
ЖАРКО. ПАЛОМНИЦА: «Кусаю на ходу огурец свежий, кусаю: соленый. Вроде с парника. Что такое? А, думаю, в газете писали: идут соленые дожди». - «Да это у тебя пот со лба льется». - «Да, пожалуй что».
- ЧТОБЫ КЛЕЙМИТЬ поэта, ты будешь пить и злеть. А я тебя за это жалеть, жалеть, жалеть.
- ДА, ДЕВКИ, уехал дорогой мой человек. - С вещами?
ЕДУ К ЮГУ. Снега, снега. Истончаются. Лес уже без снега, потемнел. За Рязанью проталины. Мысль: утром проснусь, а за окном земля. И тоже русская.
Однажды, смешно даже, вернулся из Костромы и сразу уехал в Калугу. Выхожу перед аудиторий: «И вот здесь, на этой святой костромской земле...» Из-за кулис поправляют: «Здесь Калуга, Калуга!». Спасла народная песня: «А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!» А по большому счету, что там Россия, что здесь, что там она свята, что везде.
СТРАШНЫЙ СУД неотвратим, но отодвинуть его можно. Молись. Уж куда проще: молись. И помни сказанное до тебя и без тебя: в Боге постижимо только то, что Он непостижим. И не постигай, а люби и бойся. Дух не рабства, сыновности.
«ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ время безсильно, если память любовью живет. И любить нам друг друга не поздно, и для нас, это чувствуешь ты, расцветают, как в юности, звезды и земные сияют цветы».
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
- Уже у меня был пятый курс и диплом через месяц. А я крутил с дочкой проректора. Она такая откровенная: «Мама говорит, что нам надо жениться». Я испугался: «Что, ребенок?» - «Нет, но говорит: не тяните». Я понял: бежать! Собрал в общаге сумку, на самолет! Друг заложил. Я уже вошел в салон, сижу внутри, тут черная машина. Пилот по радио: пассажир такой-то, на выход с вещами.
Вышел - они. Мама, шофер, она. Я растерянный совершенно. Да и стыдно. Она вдруг: «Мама, пусть он улетает». Теща: «Ну как хочешь». И ко мне спиной. Я по тому же трапу обратно.
И двадцать пять лет прошло. И я ее вспоминал. И знал, что она уже доктор наук, завкафедрой. И я не мойщик посуды. В ее городе проводил совещание. Узнал телефон, дозвонился, договорился о встрече. Вместе пообедать. И она... не пришла! Послала со студенткой записку: так и так, очень занята. И я ее понимаю. Не хотела, чтоб видел. Они же быстрее нас стареют. Эх! И что, что стареют. Это же я, может, судьбу свою пропустил. От трусости. Не я же сказал, что женитьба решает участь мужчины.
ТОЛЬКО СТАЛИНСКИЙ сокол увидит. Сидим на совещании молодых писателей в Министерстве обороны. Докладчик: «Теперь прошу пятую и шестую слайды. Нет, уже седьмую». Но так на экране пестро и мелко, что говорю соседке: «Это только сталинский сокол рассмотрит». Она: «Да и то в бинокль».
ВЫСТАВКА ЛОШАДЕЙ. Одна другой краше. Клички: Оракул, Лоренцо, Галатея, Гувернантка, Камилла, Колумбус, Эфир, Фокус, Нобель, Нерадивый, Мале-Адель, Аргус, Феномен, Вандер, Армяк... Представил рядом заморенную, измученную клячу лесхоза Партизанку. Помню, как жалел ее. Конюх лесхоза доверял мне ее купать. Сидеть на ней было просто невозможно: острые позвонки хребта были на взгляд как зубья пилы. Вел за повод. Такая была измученная, что еле-еле пережевывала траву, которую ей рвал на обочине дороги.
ВЫСТУПАЮЩИЙ ЗАЛИВАЕТСЯ соловьем в рапортах о достижениях вверенного ему подразделения. Начальник: «А вы подальше, подальше от парада. Сойдите с брусчатки на проселок».
Он же, осматривая запущенное подсобное хозяйство, недовольный: «Да вас хрен заставь разводить, у вас и хрен не вырастет».
СПОРЯТ В КУРИЛКЕ: - Интересно! Собирают с нас деньги, делают на них стол якобы от себя, нас угощают, и мы благодарить должны. Так только в Америке поступают. - Нет, в Америке порядка больше. - А радости никакой. Там по улице с гармошкой не ходят. - Там на работе не пьют. - У нас Сашка их стал догонять, на работе перестал пить. - И что? -Говорит: ну, ребята, это полный абзац.
КОММЕНТАТОР «ОЗЕРОВ»: Преимущество нашей команды очевидно. Нарядная форма наших игроков мелькает всюду, иногда даже у ворот противника. Быстрые перемещения, точная пасовка, виртуозные обводы -перед нами слаженный коллектив со своим звучанием. И. и только совершенная случайность, что мы вновь проиграли.
АКАДЕМИК «КАПИЦА»: Очевидное - невероятное. Социальные тесты где-то параллельны экономическим. В городе Энске выплаченная месячная зарплата составила сто тысяч рублей. На сберегательные книжки поступило пятьдесят тысяч. В то же время выручка магазинов, ресторанов, кафе, сданная в сбербанки, составила триста тысяч рублей. Это очевидный факт. Но он невероятен. Научен ли он? Об этом в следующий раз.
«КОГДА ЖЕНЕ в глаза я заглядаю, прилива текстов в разум ожидаю».
- МАНЯ, НАЧАЛЬНИК у нас такой дурак! Маня! Слышь? Такой дурак! - Ну, ты сам становись начальником. Еще дурней будешь. Сиди уж. Борща налить?
И КТО ЕЩЕ где так скажет?
- Пьет твой-то? - Так как не пить, пьет. Но чтобы уж так-то, так-то не пьет.
«И В ТРОИЦКОМ, вы мне поверьте, скажу я, как сказал поэт: Не надо рассуждать о смерти: есть только жизнь, а смерти нет».
«Здесь, в Троицком, мы вновь закат встречаем, мы ветром родины наполним грудь свою. Мы здесь до боли в сердце понимаем: нет лучше счастья - жить в родном краю».
И ВРОДЕ УМНЫЕ, а порют глупости. Но глупости очень хитрые. Например, все трещат об очередной «великой лжи нашего времени». Трещат тогда, когда вдоволь нажились на этой лжи, ее исчерпали, она разоблачена, надо следующую.
Почему злоба на Россию? Она быстрее других распознает очередную ловушку. Конечно, с потерями, но выбирается из нее.
СОФИСТОВ АНТИЧНОСТИ сменяют схоласты Средневековья, их сменяют марксисты, тех большевики, большевиков коммунисты, коммунистов - «юристы», демократы. Где они все? И где будут демократы в обозримом будущем? Но ведь опять что-то где-то микитят на смену.
И что этим удручаться? Мы же в России живем. Евреи даже в Израиле упоительно поют: «Как упоительны в России вечера».
С ее автором Виктором Пеленягре знаком. Веселый, хитроватый. Выживает, желая всем добра. «После продажи оружия шоу-бизнес самый доходный вид деятельности. Я и пошел в него». Руководили вместе с ним семинарами. Он поэзии, я прозы. Он требовал от семинаристов читать только о любви. Сидел на сцене в цветной вельветовой кепке. «Много фотографируют, скрываюсь». Уже сам стал петь свои песни. И очень неплохо. Только диски оформлены очень пижонски. «Рынок такой».
О, КАК ЛЕГКО дурачить людей. Да интересно-то как! Провоцировать криками: «Развели бюрократов! Наплодили бумаг! К чиновникам без взятки не подступись! Засилье идеологии! Сплошной формализм! За что боролись? Требуем перемен! Что такое? Больше всех ископаемых, богаче всех и всех хуже живем! Долой! Долой!»
Прошли перемены. Бумаг и бюрократов стало больше, чиновники вообще считают свои рабочие места местом наживы, жить стало стократ тяжелее... Вот-вот раздадутся крики: «Так жить нельзя!»
СТАРЕЮ
Стремительно и безропотно старею. Покорно пью лекарства, приходится. От щитовидки не примешь - поплывешь. Не примешь от головы - закружит голову. От сердца - а оно «щемит и щемит у меня». А все бодрюсь, а все от людей слышу: как вы хорошо выглядите. Какой там хорошо - фасад. Передреев, помню, говорил: чем хуже твои дела, тем ты лучше должен выглядеть.
Есть шутка о зануде. Зануда тот, кто на вопрос, как ты живешь, начинает рассказывать, как он живет. Или женское: подруга подруге: «Что ж ты не спросишь, как я себя чувствую?» - «Как ты себя чувствуешь?» -«Ой, лучше не спрашивай».
Выработал я ответ на подобные вопросы: «Хвалиться нечем, а жаловаться не по-мужски. Так что терпимо». Да, терпимо. Славное, умное слово: терпимо.
Состарился даже с радостью. Все равно же не миновать, так давай поскорее. Лишь бы никому только не быть в тягость, это главное. Старик? Очень хорошо: никто не купит, зачем старика покупать, как использовать? Денег надо самую малость, одежды и обуви подкопилось, добрые люди из фонда преподобного Серафима Саровского одевают. И знаков отличия не надо, и премий, есть же Патриаршая, куда еще? Хватит уж, навыступался, находился на мероприятия, повыходил на аплодисменты, очень устаю от людей, рад одиночеству.
Очень благодарен тем, кто ускорял мое старение, мешал жить, изводил... Дай Бог им здоровья. Говорят: старость не радость. А почему она должна быть радостью? С чего? Радость в том, что к сединам не пристают соблазны. Нет, пристают, но не прилипают хотя бы. Бес в ребра мне сунется, а они у меня после поломки окрепчали.
И зачем мне надо, чтобы меня замечали, отличали? Господь видит меня во всякое время на всяком месте, куда еще больше?
НЕВЕРИЕ АПОСТОЛА Фомы - это не неверие, а доброе стремление к истине, это для нас. И мы, не видевшие, но уверовавшие, блаженны. Думаю: Фома вложил персты в раны тела Христова, но Спаситель уже был безтелесен, Он вошел сквозь запертые двери. Чудо Божие. Сказал: «Мир вам».
«ЖИДОВ РАЗБРОСАВ по болотцам, в Москве собирались не зря: Распутин, Крупин, Заболоцкий, три русских богатыря. И, брагу хмельную вкушая, почти выбиваясь из сил, к ним Гребнев, копьем потрясая, с ватагою вятской спешил».
- И ДУРАЧАТ НАС без меры, издеваются без смены модераторы и мэры, спикеры и обмудсмены.
«ОТЯЖЕЛЕВШИЕ ОТ книг, печаль разлук переживаем. Вновь проживая каждый миг, всесильный город покидаем. Но верь, мой брат, и ты, сестра, и ты, жена моя, подруга, придет желанная пора, мы вновь увидим здесь друг друга. И вновь заявимся в Саров: “Здрав буди, велий граф Орлов. То вновь мы, Божьи человеки. Корми, пои. Твои навеки”». (Саров -ядерная столица России, Орлов - большой начальник.)
Возвышен будет город Нижний, расширен будет рынок книжный.
БАТЮШКА: НАЧИНАЛ служить, думал, весь мир спасу. Потом: приход. Потом: хотя бы семью спасти. А теперь самому бы спастись.
Он же: «Мы у Господа вначале не хлеба просим, а возглашаем: “Да святится имя Твое!”, а уж потом: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”».
Он же дал молитву, как он сказал, молитву последнего времени. Вот она:
НИ В ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ нет того, что в русской. Это от своеобразия русской жизни. У нас все одушевлено, нет неживой природы, все живо.
У Гоголя рассуждают два кума, сколько груза может поместиться на возу. И один гениально говорит: «Я думаю (!) достаточное количество». И все. И все понятно.
У Тургенева в «Записках охотника». Едут, ось треснула, колесо вот-вот слетит, как-то очень странно вихляется. И когда оно (колесо) уже почти совсем отламывается, Ермолай злобно кричит на него (кричит на колесо!), и оно в ы р а в н и в а е т с я.
У Бунина мужик бежит, останавливается, глядит в небо, плачет: «Журавли улетели, барин!»
Кстати, о Тургеневе. Это совершенно жутко, что он пошел смотреть на казнь. Да еще и описал. А в «Записках охотника», лучшем из им написанного, автор очень много п о д с л у ш и в а е т . Купил крепостную девушку - и тут же ее в наложницы. Виардо русских терпеть не могла. Валяется же русский писатель у ног, что ж другие-то?
В Орле на съезде писателей Кожинов о Тургеневе - как об агенте охранки. Но вроде даже и похвалил: на Россию работал.
- МНОГО СНЕГУ навалило, нету сил перегрести. Погодите, не жените, дайте лапти доплести. Мы стояли у Совета и домой просилися: отпусти нас, сельсовет, - лапти износилися. Мы с товарищем работали на северных путях. Ничего не заработали, вернулися в лаптях. Ты гуляй, гуляй, онуча (портянка), гуляй, лаптева сестра. Ты гуляй хоть до полночи, хоть до самого утра. Дедка лапти ковырял, ковырялку потерял. Бабка стала избу месть - ковырялка тут и есть. Все-то лапти, все-то лапти, брат мне сплел калоши. Все смотрели, удивлялись - до чего хороши. Лапоть, лапоть, лапоток, мужичок мой с ноготок. Я иду, его не видно, до чего же мне обидно! Мне миленок сделал лапотки на легоньком ходу, чтобы маменька не слышала, когда домой иду. Висит лапоть на заборе, висит, не шевелится. Мне миленок изменяет, только мне не верится.
ОТЕЦ: «ОДИН сватался, уговаривает девушку, говорит, что богатый: “Есть и медная посуда - гвоздь да пуговица, есть и овощ в огороде - хрен да луковица”. И хозяйство показал: “Есть и стайка во ограде, да коровку Бог прибрал. Есть и много знакомчи, только рыло подомчи (то есть много родных и знакомых, накормят и напоят, только надо к ним приехать)”».
Знал таких присказенек отец множество. Мама недоумевала даже: «Откуда берет, куда кладет?»
ИВАН СЕМЕНОВИЧ, бывший политработник, стоит у ворот дома в галошах, поджидает меня. Очень любит поговорить. Всегда о том, как он заботился о солдатах. «Приезжаю в часть, собираю вначале офицеров. “Никто нас, кроме солдата, не спасет. Если вы ужинаете, сели за стол, а солдаты не накормлены - вы преступники”. Потом иду в любую казарму и вначале всегда в сушилку. Чтоб и обувь, даже и матрасы чтоб были просушены. Солдат любил как родных сыновей». Тут Иван Семенович всегда крестился.
- А как политзанятия?
- Это-то? Тут тоже все в норме. Стоим на страже Родины, защищаем народ! Чего еще? Признаки демократического централизма? Это муть. Не его защищаем - Родину!
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Избави мя от обольщения близ грядущего, богомерзкого и злохитрого антихриста и укрой мя от коварных сетей его и от всех козней его в сокровенной пустыне Твоего спасения. И подаждь ми, Господи, крепость и помощь благодатную, дабы не убояться мне страха диавольского паче страха Божия и дабы не отступить мне от исповедования имени Твоего святаго и от святой Твоей Церкви и не отречься от Тебя как Иуда. Но даждь мне, Господи, лучше пострадать и умереть за Тебя и за веру православную, но не изменить Тебе. Даждь мне, Господи, день и ночь плач и слезы о грехах моих и пощади мя, Господи, в час страшного Суда Твоего.
ВОТ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ Кавказа: (о надписи в «Мцыри») «...как удручен своим венцом, такой-то царь, в такой-то год вручал России свой народ. И Божья благодать сошла на Грузию! Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаяся врагов за гранью дружеских штыков».
«Вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания». Точно! Если нет родины, какое же изгнание?
Очень правильно цензура осуждала строки: «.за несколько минут. где я в ребячестве играл, я б рай и вечность променял».
«ОТТОПАЛИСЬ НОЖКИ, отпел голосок, остался на макушке один волосок». Или: «Отходили мои ноженьки, отпел мой голосок, а теперя темной ноченькой не сплю на волосок» (вариант: «Оттоптались мои ноженьки, отпел мой голосок.).
ОБОЖДИ! КУДА пошел, ты же в разных носках! - А я что, умнее стану, если пойду в одинаковых? - Есть же культура! - Носков? - Всего. И носков. - Ну, на все меня не хватит. Хватило бы на главное. - А что главное? - Для меня работа. И мне о носках некогда думать. - Ты и не думай, надень одинаковые. - Ты меня заездила своими носками, какая мне теперь работа?
ТЯГА К ОДИНОЧЕСТВУ - это не от гордыни, не эгоизм, это возраст и жаление времени. Нет сил на пустопорожние разговоры. Слышать анекдот и тужиться, вспоминая ответный. Нет, если в незнакомом городе есть возможность свернуть на тихую улицу и идти по ней в одиночестве - вот краткое счастье.
ГРОБ ДЛЯ ЖЕНЫ
Днем с Аркашей ходили в лес. Грибов не нашли, набрали шиповника. Может, оно и лучше, быстро высохнет, легче везти. Разговор у Аркаши всегда один, тема разговора: ревность жены. За последние годы я сто раз выслушивал его рассказы и уже не слушаю. Но сегодня новый: «Всегда умирала, всегда у нее все болит. И всегда просила сделать гроб. Я отговаривался. Она настаивает: “Я хочу быть как монашка, они так делают”. Где-то прочитала. “Хорошо, сделаю. И себе сделаю”. Доски купить дорого, лучше свои поискать. А купить готовый гроб - это халтура, уж я знаю, сам плотник. При ней доски настругал, но мерку с нее не снимал, мерял без нее, по кровати. Заметил, сколь у нее ступни до спинки не достают. Тут она напросилась в больницу на обследование. Денег мне не оставила, чтоб я не пил, но это мое дело, как я выпью. Осень, огороды, у меня лошадь, ты что! Чтоб я днем пару раз не выпил, а к вечеру особенно! Это надо себя не уважать, чтоб осенью трезвым ходить. Но про обещание помню. Себе уже не успевал сделать, ей сколотил. Игрушечка! Мог и застежки сделать, видел по телевизору, но украсть негде. Приезжает, я ей: “Твоя просьба выполнена”. - “Какая?” -Веду в сарай: “Вот тебе подарок”. Показываю. Она навзрыд и в слезы: “Ты смерти моей хочешь!” - “Ты же сама просила!” - “Я тебя проверяла” - Ладно. Затолкал на чердак. Она утром: “Я так спать не могу: чувствую над головой гроб”. Перенес обратно в сарай. Она опять: “Как это мне будет во двор выйти, в сарае гроб”. - “Хорошо, сожгу”. - “Ты говорил, доски дорогие”. - “Ладно, тогда расширю для себя”. С этим согласилась, с тем, чтоб гроб был для меня».
- Переделал?
- Да ты что, ек-макарек, хорошую вещь портить. В подпольи спрятал. Пригодится.
ДОЖИЛИ, ВСЯ РАБОТА Союза писателей: юбилеи и премии и борьба за имущество. Да еще похороны. Правительство само выращивает оппозицию. Ведь все же отобрано: оплата бюллетеней, пособия, Дома творчества, особенно поликлиники. То есть писатели понимают, что на правительство надеяться уже безполезно и постепенно начинают сердиться.
Так им и надо: сколько можно было воспевать всякие дикости: целину, кукурузу, торфо-перегнойные горшки, бригадный подряд, то есть все мероприятия партии и правительства писатели торопливо славили. Им, как добровольным наемникам, хорошо платили.
НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ в автомобиле. Старуха: «Какие-то все вилюш-ки». Молодая: «Да. Настоящая центрифуга».
Впереди машина, надпись сзади: «Сам такой».
- ТАКА МАЛЭСЕНЬКА цуценятка. Ее москальско призвище Муму. Муму. Герасим загадывал о корове... - Простите, молодой человек, - я розумию радяньску мову, но вы сдаете экзамены в русский вуз, сейчас экзамен по русской литературе. - Ото ж мии тато и мамо ночей не доспали, а я був такий щирый селянский хлопец, они проводили мэнэ на шлях край села. Пийшов я на хвилиночку в гай, тай ушов в цию жизняку, де и шукаю свою долю. - Товарищ абитуриент, вы сдаете русскую литературу. Русскую. - Будэ русска мова, будэ. Трохи чекайте. Письменик Мыкола Василич Гоголь нашкрябал, шо ридка птаха досягнет до середины Дни-пра. То он не ведал, шо Герасим догребет. Но я вопрошаю того письмени-ка Тургенева: за шо вы втопили таку гарну цуценяточку? То не Герасим топив, то Тургенев привесил ей на шеяку каменяку и. ой, не можу! О, де ж ширинка, высушить слезу? - Молодой человек, баста. Что дальше хотели сказать? За шеяку и на гиляку? - Ни. Он узяв ее, схапив и. и! Ой, не можу! Она разгорнула свои вочи и ему на русской мове: “А за что?”
«НА СВИДАНИЕ хожу к мужику Фаддею. Учит пить одеколон, я сижу, балдею».
ЖИЗНЬ УДИВИТЕЛЬНО проста, когда день свадьбы в дни поста.
ШЕЛ ВДОЛЬ ЗДАНИЯ - все в коростах памятных досок. Ощущение, что зданию очень хочется почесаться о что-то шершавое, чтобы соскрести с себя эти доски. Уж очень много тут значится тех, кто или прочно уже забыт, кого и помнить не хочется, кто совершенно случаен.
Собственно, время само по себе это и есть та шершавость, о которую стирается многое из прошедшего и осыпается в черные пропасти забвения.
ОТЕЦ О НАЧАЛЕ девяностых: «Коротко нас запрягли, крепко зауздали. Тронули шпорой под бока, а конь не полетел стрелою». - «Почему?» -«Кучер пьяный. О, лошади это чувствуют. Как собаки».
БОРОДА
Раз в месяц Костя начинает отращивать бороду. Я это вначале очень поощрял, говорил: «Мужчина без бороды все равно что женщина с бородой». Или (от имени женщин): «Поцелуй без бороды что яйцо без соли». Но вскоре Костя брался за бритву. «Костя! Такая уже у тебя была прекрасная юная седая борода, зачем опять голяком?»
Секрет прост: раз в месяц Костя получает пенсию. И запивает. И времени на бритье не остается. И не только. По пьянке руки трясутся, и он может порезаться. Обычно я помогаю ему в трудном процессе всплывания из пучины пьянства на поверхность моря житейского. Сидим. Костя задавлен глыбами твердого алкоголя. Молчит. Небрит и задумчив. Я пытаюсь даже запеть. «Дорогой, куда ты едешь?» - «Дорогая, на войну». - «Дорогой, возьми с собою». - «Дорогая, не возьму». Костя вдруг шевелится, оказывается, слушал. «Правильная песня. Нечего бабам на войне делать. Еще была песня “На позицию девушка провожала бойца”. Провожала, понял? Не с ним поехала. Темной ночью простилися... Простилися. На ступеньках. Но это не важно. А важно, что пели: “На позицию девушка, а с позиции мать, на позицию честная, а с позиции...”, сам понимаешь кто».
- О-ой, - кряхтит Костя, - скоро бриться.
УЗБЕКИ ЖИВУТ ВО много раз хуже русских, а рожают в четыре раза больше. Неужели у нас нет ощущения гибели богоизбранной нации? Сдались? Перед кем? Сатана доводит до самоубийства, а разве нежелание ребенка не есть убийство его? А страшнее того аборт. Для меня, как для русского мужчины, наитягчайший грех, в котором каялся в церкви и всенародно каюсь, в том, что были свершены убийства мною зачатых детей. Всю жизнь, всю жизнь я думаю: вот теперь моему сыну было бы вот столько уже лет. И представляю его, и плачу, и зову его Ванечкой. И вот был бы уже Ванечка старший брат моему теперешнему сыну и помогал бы ему, и дочке, и жили бы они дружно- дружно, и было бы мне радостно умереть.
Какие же, прости, Господи, собаки эти врачи - убийцы в белых халатах! Как вызывали, орали: «Вы хотите, чтобы ваша жена ослепла?» О, какой я был. кто? Дурак? Трус? Все вместе.
ЗЕМЛЯ - КАТЕГОРИЯ духовная, нравственная. Богатыри припадают к родной земле, она дает им силы. Зашивают земельку в ладанку, носят на груди. Землю привозят на могилы родных людей, которые похоронены не на родине. У нас женщина ездила в Венгрию на могилу мужа, увезла земельки, он ей потом явился во сне: «Ой, говорит, спасибо, такую тяжесть с груди сняла». В детстве, помню, друг мой из села уезжал, отца перевели. Я наскреб земельки у дороги, завернул в бумажку. Откуда это было во мне? Неужели это наивно для моих детей и внуков?
КРЕСТЬЯНСКИЙ БАНК был в России, безпроцентный. И был банк Общественного призрения. Где этот опыт? Да банкиры из-за двух процентов задавятся, а из-за трех мать родную придушат. Это же наркотик - деньги. Если, конечно, цель - обогащение, а не добрые дела.
В начале двадцатого века тогдашние либералы со злобой писали: «Церковь - самый крупный землевладелец в России». А это плохо? Разве монастырские земли кормили только монастыри?
В МАРШРУТКУ НАБИВАЮТСЯ китайцы. Много. Садятся друг другу на колени. Показывают, что вдвоем занимают одно место и платят за двоих как за одного. «Доказывать им безполезно», - говорит водитель.
И везет.
- СМЕЮТСЯ НАД ТОБОЙ, - говорила мама. - А ты громче их смейся. А про себя: «Дай им, Господи, здоровья, а нам терпения». Пределом ее осуждения кого-то было: «У него ни стыда, не совести, ни собачьей болести».
ПЕСНИ
Маленькая Светочка приходит к нам с бабушкой и со старшим братиком, уже школьником. «Песенки, Света, знаешь?» - «Знаю. Но надо под пианино. “Маленькой елочке холодно зимой”. - «Можно без пианино». - «Ой, правда?»
Поем все вместе. В гостях у нас поэт, да еще и с гармонью. Берет в руки. «Для молодого поколения!» Поем подряд, по куплету, чтоб больше вспомнить: «Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви», «Степь да степь кругом», «Севастопольский вальс помнят все моряки», «Ох недаром славится русская красавица», «Редко, друзья, нам встречаться приходится, но уж когда довелось», «Ты ли мне не дорог, край мой дорогой, на границе часто снится дом родной», «Когда весна придет, не знаю, пойдут дожди, сойдут снега», «На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы сидим и расстаться не можем на миг», «Когда после вахты гитару возьмешь и тронешь струну за струной», «Тяжелой матросской походкой иду я навстречу врагам, а завтра с победой геройской к родимым вернусь берегам», «На рейде морском легла тишина, и море окутал туман», «Споемте друзья, пусть нам подпоет седой боевой капитан», «Славное море, священный Байкал», «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы в селеньи одном любил я в ту пору девчонку», «Жила бы страна родная и нету других забот», «Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь», «Далека ты путь-дорога, выйди, милая моя, мы простимся с тобой у порога и, быть может, навсегда», «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит», «Далекодалеко, где кочуют туманы, где от легкого ветра колышется рожь», «По Муромской дороге стояли три сосны, со мной прощался милый до будущей весны», «Ой цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, не могу открыться, слов я не найду», «Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная!» «Юные нахимовцы тебе шлют привет», «Была девчонка я беспечная, от счастья глупая была, моя подруга безсердечная мою любовь подстерегла», «Ой ты рожь, золотая рожь, ты о чем поешь, золотая рожь», «А волны и стонут и плачут, и бьются о борт корабля», «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят», «Не теряй же минут дорогих, назначай поскорее свидание: ты учти, что немало других на меня обращают внимание», «Наверх вы, товарищи, все по местам...», «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит.»
Надя говорит: «Сто лет их не пела, а запели - все помню». Гармонист: «Ну, это мы вспомнили одну сотую». Светочка не знала ни одной, только строчку: «Стюардесса по имени Жанна». И братик ее тоже наших песен не знал. То есть каких же наших, это и его песни. А бабушка их? «Да я все забыла, жизнь-то какая у меня, не до песен, рот тесен».
Все это очень тяжело: уменьшается духовная сила России.
- Я ПЛЯСАЛА, плясала, себе в лапти налила. Сижу я и любуюся: во что теперь обуюся?
Эх, лапти вы мои, лапти, лапоточки, разносились, развились, стали как цветочки.
НОЧЕВАЛИ В ДЕРЕВЕНСКОЙ школе на полу, на огромной географической карте: «От Бреста и до Итурупа, обняв Россию изнутри, мы засыпали в позе трупа, храпели как богатыри».
ОСИНАЯ СЕМЬЯ: отец Ос, жена Осука, дочери Оска, Осячка, Осюч-ка, сын Осак, теща Осиха. Старшая дочь родила внучку Осинку. У них родня в Японии, в Осаке. А в вятской деревне, в Осиновке живет старая вредная тетка Осиниха.
БЫЛ ПОЭТ от счастья пьян, как красавец писаный. Шапки белые Саян примерял на лысину. (На Байкале, дни культуры «Сияние России».)
- НА ЧЕГО ЛОВИЛ? На короеда, на опарыша? - На жеваных червей. - Поверил: - А кто жевал? Сам? - Жену просил, плюется, а теща рыбу любит, так она. - Ведь противно. - А рыбу любишь? Я за утро десять кило заловил. Тут пожуешь. Есть у тебя теща? - Как не быть? Уж чего-чего, а тещи не миновать. - Ну вот, с ней и договаривайся.
СДАЕТ МОНЕТАМИ большую сумму: - Куда мне столько, карман оттянет? - Зато они не помнутся, не порвутся.
ЧТО-ТО СВЕРШАЕТСЯ в нас в дни, когда посещает какое-то томление, когда не работается. Ходишь из угла в угол, забываешь, зачем пошел во двор. Придумываешь дела. Вот снег огреб, вот увидел сломанный уголок у навеса над дровами. Дверь у террасы снимал, опиливал снизу, так как по весне террасу гнет, дверь заклинивает. Ходил, платил за соседский телефон, чтоб не стыдно было ходить к ним звонить. Трудно живут. Звонил детям. Хоть бы сказали: «Приезжай». Может, им без меня лучше. А мне плохо. Чего-то читал, чего-то ел. Как-то безразлично, что ем, что читаю. Стыдно - в церковь не пошел. Оправдываюсь тем, что делаю работу по благословению Патриарха. Не идет. Не идет, не бредет, не едет.
И все равно. Что все равно? Не знаю. Тяжелы такие дни.
НЕЗАБЫВАЕМОЕ КАЖДЕНИЕ митрополитом Питиримом. Бархатистые, звончатые, рассыпчатые звуки колокольцев. Владыка свершает кадилом стремительный полукруг, ослабляет натяжение цепочки, кадило летит вперед, как в свободном полете, и вдруг отдергивает его назад, будто стряхивает с него звуки, и будто вместе с ними отлетает ладанное облачко кадильного дыма.
АРКАША ПЛЯШЕТ: «Хороши, хороши деревенские гроши. Милый любит неохотно, ну и я не от души. Растяни гармонь пошире, ее нечего жалеть. Скоро ты не поиграешь, скоро я не буду петь. Ой, топнула я и гляжу на милово, как он носиком поводит, ягодка малинова».
РОССИЯ ПРИРАСТАЕТ небесами, Россия граничит с небесами. Конечно, Россия такая. Но кто ж это признает? Гораздо легче ее стащить с небес до своего понимания, то есть до такого, в котором не знают (знать не хотят) о Царстве Божием и о безсмертии. Нападения на Россию возросли при интернете. Сын родной порочит нашу жизнь: «Жили во лжи, кайтесь, Бандера хороший...» Называли нас совками, сейчас мы тюфяки, ватники, И в который раз все это надо перетерпеть. Да в какой это мы лжи жили? В нищете жили, да. Но бедность сильнее сохраняет душу, чем благополучие.
ЧТОБЫ ИЗМУЧИТЬ нервы всего за одну ночь, хватает двух комаров и одной мухи. И зудят, и жужжат, и неуловимы. «Ну в конце концов укуси, гад, да замолчи!»
- НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ совестью, как говорится, вышел. И что? И где жить? Весь оборвался. Как паспорт выправлять? И вид у меня -детей пугать. Жил в вагоне на свалке. В нем старик и бомжи. Он встает и - кашлять. Кашляет, кашляет, ставит чай. Полпачки на чайник. А бомжи рыбачили. Ротанов я не ел. И сикилявок не ел, они их марлей ловили. Наловят целый таз, не мыли, не чистили. Пропустят через мясорубку: «Сейчас такие котлеты будут!» Я - бежать. Не мог: рвотно. За нами приходили: давай пятерых на погрузку, деньги сразу. «Разгружайте в темпе вальса, чтоб машину не держать». А то не денег дадут, сунут пару пузырей водки. Ацетонной.
РОССИЙСКИЕ СМИ - антиопыт цивилизации.
- ПОЯСНИЦУ ТАК КРУТИТ, не передать. Врач говорит: «Надо змеиного яду. Сейчас рецепт выпишу». Говорю: не надо, лучше пойду к теще, пусть укусит. Та же змея.
ШАРМ ПО-ФРАНЦУЗСКИ - вроде как что-то завлекательное, а по-арабски - глубокая впадина, пропасть. Такой шарм. Такой Шарм аль-шейх.
А какие там рыбы в Красном море! Это елочные игрушки в синей воде, это аквариум редкостей. Их запрещают кормить, почему? Они же ж голодные же. Рано утром на пляже никаких запретителей, а рыбы меня ждут. А я с хлебушком. Все кипит вокруг брошенных в воду кусков. Съедят сколько угодно. Но вот съели, больше у меня ничего нет, но долго еще не уплывают, кружат, надеются, дармоеды. Наконец, нехотя ныряют в свой шарм.
МАХМУД: «Я ПО-ВАШЕМУ Юра. Я прихожу, меня уговаривают сесть. Потом уговаривают посидеть. Потом уговаривают встать. Еще скажу: покупайте в темных очках, продавцы читают по глазам. Минарет - это башиня с бальконами.
В Каире есть много ночных активностей. Место, где убили Анвара Са-дата. Сквозная пирамида. Смотреть каменные пушки. Памятник Рамзесу».
МЕНЯЮТСЯ И ПАЛОМНИКИ. Знакомая монахиня: «Становятся больше комфортными. Размещаешь раньше - всем довольны. Сейчас хочется условия получше. И капризы бывают: не туда везут, не так кормят. Рассказываешь, как было раньше, как ползли на коленях к Иерусалиму, на Голгофу, слушают, ахают, но на себя не примеряют».
О, ГОРНЯЯ! МАТУШКА Георгия узнала, посадила рядом с собой. На службе стоит с певчими. Уже ее в верхний храм везут на электромобиле. Помню, туда она нас привела в 99-м, все там было заросшим колючими травами, век стояли стены, возведенные еще до Первой мировой войны, и сегодня такое чудо.
И ВООБЩЕ, ОЖИВАНИЕ храмов - самое зримое и осязаемое возрождение России. А так: все плохо, все хуже, все мракобесней. Церковь спасает. И все. И еле-еле держится убиваемая школа и, конечно, армия, и еще чуть-чуть библиотеки.
ИНОГДА УЖЕ не верится, что жил, именно жил в Горней. И в Вифлееме, в Иерусалиме. А ночевал, молился всюду. Тивериада, Назарет, Хеврон, особенно Иерихон. Иордан во многих местах. Рамалла.
Да это только начни вспоминать. А Сирия, боль моя! Антиохия, Хомс, Пальмира, Маалюля. Дамаск. А Синай! Египет! Да вообще все Средиземноморье. Патмос любимый! И Кипр, и Крит, и Родос... Ночами выходил на палубу, молился по звездам на восток, к Святой земле, к северу по Полярной звезде. Я ли был это? Да. Вот этими, тогда еще не скрюченными пальцами делал торопливые записи. Вот, например: «Батюшка меня моложе в два раза, а по духовному возрасту старше».
ВЧЕРА, ЕЩЕ ДО шести вскочил, поехал в Сергиев Посад. По дороге акафист Преподобному. Потом Ученый совет. Сидели на нем восемь часов, доказывая, что у русских не только железные ноги.
Среда Акафиста. Без него не могу. Поют три хора. Вчера один, но тоже так благолепно.
Ночевал в своей преподавательской кельечке. Каникулы. С утра к Преподобному, потом в Предтеченский на исповедь. О. Мануил благословил. В Троицкий, к ранней. Темно, молитвенно. Сияют огни больших свечей и светятся столбики маленьких. И уже привычное (не покинь!) ощущение, что во время Херувимской Преподобный в серой рясочке вполоборота стоит у жертвенника.
Завтрак. Продолжение разговоров о канонизации царской семьи. Подарочки купил, домой! В электричке женщина почти насильно вручила сумму - пожертвование - ровно такую, какую положил вместе с запиской у монаха, дежурного у мощей.
Выскочил после Мытищ в Лоси, побежал на кольцевую, на автобус до Щелковского шоссе, там сразу на балашихинский и за час сорок от Лавры добрался до Никольского. Читаю весь день молитвы, еще долги за вчера. Солнце. Дров попилил. Тихо. Убираюсь. Постирал накидку на молитвенный столик. Окропил дом святой водой. Топится баня. Кормушку наполнил, чего-то не летят, отвыкли за четыре дня.
Ох, год был нынче: Святая земля, повесть написал, в Кильмези был, Крестным ходом прошел, переехал в Великорецком в другой дом, посадил сосенку у сосны, то есть у пня. Уже третью сажаю, две выдрали или затоптали. Ушел из журнала, это тоже назрело. В Самаре вышла книжка-малышка «Крестный ход», так радостно дарить.
Утром, после причастия, такое сияние солнца - золотое на золотых главах. Кресты сами, как солнышки. Снег сияет, лед изнутри светится. Как бы сохранить святость в сердце и мир в душе! Трудно. Через ум лукавый вползает. Как жить, чем жить? У детей все непросто, жена недомогает.
Дай Бог жизни во славу Твою! С Богом в последний год тысячелетия!
Смеркается.
ВСТАЕТ С БОКАЛОМ: «За нее! За единственную, спасительную, верную, предводительствующую, до дна! Как вы все поняли, пьем за мысль». Ему: «Ну, это еще прерафаэлиты знали».
- СОВЕСТЬ - ГЛАС Божий в человеке, так? Но если совести нет, говорят же «безсовестный человек», «сожженная совесть», тогда как? -Но хоть мини-совесть надо иметь.
ДА ЧТО Ж ОНИ все такие были бедные, горькие, безпощадные, голодные? (Это о псевдонимах, правда и полевые, и светлые были.)
КРОХОТНЫЙ ОСТАТОК луны, и так сильно светит. Море золотое. Рыбаки принесли, еле принесли, половину тунца. Вчера, оказывается, заходили за благословением на рыбную ловлю. И вот - заловили. Рассказывают: жарится курица, провяливается, половину цепляют на крюк, крюк привязан к очень крепкому шнуру. А метра через три от крюка привязывается пустая бочка. Заглотил ночью. Таскал лодку, бочку увлекал вниз метров на десять. Всплывал, опять рвался. Измучился.
Вспоминают общего знакомого. Не выдержал в монастыре, ушел к зилотам. Встретил монаха знакомого, гордится: «Меня вы в черном теле держали, а меня уже в схиму рекомендовали».
СТАРАЯ ЗАПИСКА. Никак не разберу одно слово: «Улетел круточек (?) во лесочек, сел круточек (?) на пруточек. Пруточек под ним подломился, круточек упал и разбился. Ой, не будет по России летати, христианскую кровь выпивати». Что за круточек?
На этой же записке: «Уж такая была вежливая, в решете к обедне езживала».
РЕБЕНКА ГОРАЗДО труднее научить писать от руки, чем тыкать в кнопки. Вот и секрет всеобщего поглупения. От руки или от кнопки?
Пишешь рукой - умнеешь, тычешь в кнопки - глупеешь.
Именно в этом разгадка потери вот уже второго поколения.
БЫВАЛА В ЖИЗНИ усталость. Обычно физическая. После долгой дороги, после работы. Такая усталость даже радостна, особенно если дело сделано, дорога пройдена, преодолена. Но сейчас усталость страшнее, она не телесная, нервная, головная. Душа устает от всего, что вижу в России. Еле иногда таскаю ноги. И знаю, что и это великая от Господа милость - живу.
Иногда искренне кажется, что умереть было бы хорошо. А жена? А дети-внуки? У Шекспира: «Я умер бы, одна печаль: тебя оставить в этом мире жаль». Апостол Павел пишет, что ему хочется «разрешиться от жизни и быть со Христом», но ему жаль тех, кто в него поверил и кому без него будет тяжело, как овцам без пастыря. И остался еще жить. То есть он мог распорядиться сам своей судьбой. В отличие от нас, смертных.
Да и он не мог. Уходил апостол из Рима. От казни. А Спаситель повернул обратно.
БОЯЛИСЬ ИУДЕЕВ. В Деяниях апостолов (24, 27): «Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах».
И чуть пониже (25, 9): «Фест, желая сделать угождение иудеям...»
ЛЕТИМ НАД Византийской империей. И чего им не жилось? Не голодали же! Захотели жить еще сытнее? Так что вот поэтому и, увы, летим над Турцией.
Батюшка рассказал о старце афонском Паисии. Когда он летел на самолете, то над Святой Землей, Палестиной, Сирией чувствовал благодать. Над Пакистаном (для него) похолодало.
ЦЫГАНСКАЯ СТОЛИЦА город Покров знаменит своим цыганским кладбищем. Там же и православное. Ездили на могилу поэта Николая Дмитриева. («Если правда, что жизнь - это песня, значит, детство - припев у нее».) Могилка скромна, ухоженна, цветы.
А по соседству цыганские. как назвать эти захоронения, над которыми высятся памятники - скульптуры захороненных. Ни у Мао Цзэдуна, ни у Ким Ир Сена нет подобных. Высятся выше деревьев. В три роста, с неимоверным подобием головы и фигуры. Будто гигантские слепки. И надписи соответственно: «Барону Мишке безутешная семья». Или: «Барону Яшке от семьи», «Барону Гришке от родственников».
Сколько же надо денег нацыганить на каждый такой памятник? Одна цыганка на улице, когда я попрекнул ее, что не перестает просить, ведь подал уже, совесть надо иметь, зарыдала вдруг: «Муж бьет меня, если приношу мало денег».
- А что вам, мало денег от продажи наркотиков?
- Ой-вэй, это мужчины-мужчины! Дай, золотой, дай еще бумажку, пожалей, пожалей. Давай за дом отойдем, я тебе следы от плетки покажу. Идем! Давай, давай!
И так страстно и зовуще глядела, будто в чертоги звала.
- Я ДАЖЕ ночью очки не снимаю, чтобы лучше сны видеть.
ПЛЕВОК НА ПАРКЕТЕ. Какой же молодец Победоносцев, и как неумен по отношению к нему Александр Блок («Победоносцев над Россией простер совиных два крыла...»). Такое ощущение, что выражение «плюнь и разотри», обозначающее небрежение к какой-то неприятности, произошло вначале от Петра, потом закреплено Победоносцевым. Он выступил с каким-то заявлением, которое было жестковато для либералов, и они закудахтали: «Ах, ах, Константин Петрович, а как же общественное мнение?» Он остановился, молча плюнул на паркет, растер плевок ногой и пошел дальше.
Вот что такое общественное мнение. Какой молодец!
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК знает, тем больше не знает. Это азбука. То есть тут приговор стремлению за знаниями. Приговор обжалованию не подлежит.
ЕСТЬ ТАКИЕ ДНИ в жизни, когда ты не нужен ни жене, ни детям. Жена устала от тебя, с тобой жить невозможно, у детей свои дела. Но у тебя есть полизбушки, берлога. Уползай в нее. Ты один, ты с Богом. Светит солнышко, а к ночи похолодело, топи печку. Спасибо добрым людям - ломают дом, строят новый, разрешили старье забирать. Вожу на тачке. От этих дров только пыль и гнилушки, да ведь даром. Тормозит машина: «Тебе дрова надо?» - «Дорого?» - «Даром, отходы с фабрики вожу». Ну, не даром, конечно, но плата такая нетяжкая, а дрова сосновые, опилок полкузова, выбракованные планки. Пущу их в баню под потолок по периметру - красота! Опилки на потолок - тоже дело.
Опилки под смородину, лучше перезимует и от паразитов: хвойно-смолистые. Помногу не таскай, не сокращай радость такого труда. Таскай и успокаивайся: дровяная проблема решена. И остальные никуда не денутся, разрешатся.
Да вот изжога схватила. Мучает всю жизнь и всегда внезапно. В армии заработал. Пепел с сигареты стряхивал на ладонь и слизывал. Проходило. И сейчас пройдет. Тем более надо же чем-то за радость платить.
ДОЛГО ЖИВУ
Просто удивительно. Кстати, раньше восклицательный знак назывался удивительным. Диво дивное, как я много видел, как много ездил. Давным-давно весь седой, а не вспомню, даже не заметил, когда поседел, как-то разом. Деточки помогли. Теперь уже и седина облетает. Множество эпох прожил: от средневековья, лучины, коптилки до айпетов, айфонов. Сегодня вообще доконало: сын показал новинку. Он говорит вслух, а на экране телефона идет текст, который произнесен. А я еще думал, что ничего меня уже не удивит. Но дальше что? Человек же как был сотворен, так и остается. Мужчина - Адам, женщина - Ева. («Вася, скушай яблочко».)
Хватило бы мне XX века. В нем все прокручивалось, все проваливалось, все предлагаемые формы жизни, устройства, системы, революции, культы, войны, власть и безвластие, идеологии... весь набор человеческой гордыни. Якобы за человека, а на деле против человека. В этом же веке Господь меня вывел на свет. И привел в век XXI. Если учесть, что я худобедно преподавал литературу, философию, педагогику еще дохристианского периода, а сейчас преподаю выше всех литератур в мире стоящую литературу древнерусскую, то какой вывод? Получается, что я жил всегда.
АРАБЫ, ЕВРЕИ, ПЕРСЫ, крестоносцы, дальше через запятую надо поставить: руины, кровь, пески, запустение, забвение, опять оживание. Бани, скачки, ристалища, амфитеатры.
Здесь золотом покупались оружие и власть, здесь оружием добывалось золото и низвергалась власть, здесь власть, купленная золотом или взятая
оружием, погибала от пороков или вытеснялась более сильным оружием или более увесистым золотом.
Но именно сюда, чтобы спасти мир, нас с вами, был послан Сын Божий, был предан, распят на Кресте, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу, севши на Престоле Славы одесную Его. И мы верим, что Он «приидет со славою судити живым и мертвым и Его же Царствию не будет конца».
НЕТ ТАКИХ СЛОВ, которые бы в минуту ярости побоялась бы сказать женщина кому угодно: мужу, начальнику, соседке, правительству.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. Два типа людей: заборщики и проходчики. Заборщики строят ограждения путей, заборы, а проходчики, пассажиры и прохожие, эти заборы проходят. Заботятся о заборщиках, чтобы те вновь заборы делали.
«МЫ - НЕ РАБЫ, рабы - не мы» - вот что первым делом возгласили большевики. Цитировали вождя всех народов: «Раб, не осознающий своего рабства - вдвойне раб». А я осознаю рабство и радуюсь. Как и братья мои во Христе. Мы рабы, рабы Божьи. Выше этого звания нет ничего на земле. Есть же иерархия в мире? Есть. Кто главный? Кто сотворил небо и землю? Господь. А дальше кто? А дальше Россия. А потом уже все в затылок. Господь главный. Как же не быть рабом Его?
Деление в мире одно: кто за Христа, кто против.
СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ с Володичкой: «Да это же не лужа, это целый океан. И вдоль по этой луже ходит капитан. Он долго-долго ходит, и песенки поет, и песни напевает, и яблоко грызет». «Вот снега нет совсем уже, но нет еще травы, и нет еще подснежников, их время не пришло».
ТУФЕЛЬКА
Василий Белов был необыкновенный отец. Свою Анюту (читай «Сказку для Анюты») любил сильно. Взрослея, она начинала этим пользоваться. Что с того, что дети - наши эксплуататоры, все равно любим. С ним и с Ва-дентином Распутиным я много ездил по заграницам, видел, что они только о детях и думают, чего бы им купить.
Мы раз вместе, семьями, летели из Пицунды. Они ночевали у нас. Улетали назавтра в Вологду из аэропорта Быково. Пришло такси, сели, едем. Вдруг Анечка в голос заплакала. Оказывается, нет туфельки у ее куклы. И что сделал бы любой отец на месте Белова? Он велел поворачивать такси. У нас дома мы, взрослые люди, ползаем по полу, ищем туфельку куклы. Нашли! Снова едем. Ясно, что опаздываем. Все равно едем. Может, еще рейс будет. Нет, успели на свой. Его почему-то задержали.
ДЕВУШКА В АРМИЮ послала мне стихи. Помню: «Мне май суровый душу распахнул. Я так хочу поговорить с тобою. Я помню нашу первую весну и первой встречи платье голубое... Опять весна. Пусть утро для меня срывает лютик с солнечных откосов. Я все цветы могла бы променять за дым твоей забытой папиросы». Курил, вот ведь глупость какая!
«Да. Ох, сколько нагрешил я, а все живу пока. За что меня любили, такого дурака?»
С ТЯЖКОГО ПОХМЕЛЬЯ лежит, встать не может. Еле глаза разлепил. Увидел мышь, просит: «Не топай». Еле садится. «Я сейчас ниже полета моли». Чихает. - «Чихай, чихай, с чиханием из головы выходит углекислый газ», - говорю я. - «Да он у меня там в сжиженном состоянии».
«ЛУЧШЕ ЗЪИСТЫ кирпичину, чем любить тую дивчину».
«Морда, морда, я кирпич, иду на сближение».
КНИГ СТАЛО больше, а читателей меньше. И театров стало тоже больше, но и зрителей больше. То есть читать все-таки труднее. Плюс выход в люди, повод для новой прически, встречи, давно не виделись. Но еще больше телезрителей. Эти вообще всеядны. У них мозги как желудки у ворон, все переварят.
И еще новая категория нового времени - слушатели определенной программы. Электронное пространство «Радонежа» - это братство, это не слушатели «эхов», серебряных дождей.
А еще - надо привыкать к слову - сайты. И есть очень толковые. РНЛ тут из первых.
Вообще это только представить, какое количество слов извергается в атмосферу и обволакивает умы. Тяжело разрывать эти «афинейские плетения». Только молитва, только.
СОВМЕСТНАЯ С КАТОЛИКАМИ конференция. Отец Николай выступил резко, наступательно. Начальство российской делегации конфузится: нетолерантен батюшка. В перерыве (называется кофе-брейк) католик ему: «Вы считаете, мы не спасемся?» - «Католики? Почему? Многие спасутся. Но их пастыри никогда!»
ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Обещали свободный, не дали. Возили и возили. Куда-то завозили, с кем-то знакомили. Я весь измучился. А Сергей - молодец. На остановках сразу от нас отскакивал, спрашивал, сколько стоим, убегал с альбомом. Вечером показывал наброски. «Ничего? Увожу с собой». - «Увозишь, у них и пейзажей не останется».
А мне и записать было нечего. Только на вопросы и отвечал. Главное: «Куда подевалось спасительное влияние России на страны Ближнего Востока?»
Кто бы знал, куда. Кому надо, знают. Оно и мне надо, да закрыто от меня.
ИЗРАИЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ - домики красно-коричневые, как ульи, из которых вылетают пчелы собирать дань с окружающего пространства.
КАК НИ ГОВОРИ, а классика оттягивала от чтения духовной литературы. Читать Данилевского все же труднее, чем Гончарова. Конечно, классика сохраняла духовность, лучше сказать, нравственность, но чаще действовала на чувства, чем на душу. А чувства просят внимания, а чувства разные. Да и не было духовной литературы. Уж какие там славянофилы? Все в спецхране. Сплошные Добролюбов, да Белинские, да Писаревы, да «к топору зовите Русь». Страдают «лишние люди», страдает «маленький человек», чего же они, не знают, что ли, где исцеление? Оно есть! И доступно. Нет, поплакала на холмике отцовской могилы и поехала опять с собачонкой и барчатами жить дальше. («Станционный смотритель».) И это еще хорошо. И не верю я, что заколотили Фирса в даче, он же все-таки не окончательно глухой, а тут вообще молотки гремят. Это его Чехов заколотил. Так же как Тургенев Му-Му утопил. Чего ее было топить? В деревню же уходил, а там-то кто бы ее тронул? (Шутка: почему Герасим назвал собачку Му-Му? Ответ: он мечтал о корове.)
ИЛИ НЕ ГИБЛИ империи, или не уходили в песок дожди и цивилизации? На что надеяться? Небеса совьются как свиток, железо сгорит как бумага, чего ждать? Наша борьба за Россию не просто мала, она ничтожна.
Нет, неправильно я написал, за других нельзя говорить, ты за себя отвечай, с себя спрашивай, так и говори: моя борьба за Россию не просто мала, она ничтожна.
А то есть критик: выходит на трибуну, задыхается, впадает в исступление: «Мы изолгались! Мы потеряли...». Так если ты изолгался, так и говори: «Я изолгался».
НЕДАВНО Я ДВАЖДЫ попал в неловкое положение. В дальней поездке меня разместили в двухместном номере, сказав, что второй может быть священником. В номере я не стал занимать никакую кровать, может священнику понравится не та, а эта.
Вскоре в дверь деликатно постучали. Мужчина в годах, с бородкой, но в штатском. Я не знал, руку ему протянуть для знакомства или под благословение подойти? Спросил: «Вы священник?» - «Да, - ответил он, - сейчас принесут».
Что принесут? Я не понял. Но он же сказал: да. Сложил руки: «Благословите пойти осмотреть местность».
Он растерялся: «Нет, нет, я не священник. Вы спросили, с вещами ли я. Я ответил: “Сейчас принесут”».
И в самом деле в дверь стукнулся служитель отеля, притащивший изрядный чемодан соседа.
В этом случае не поняли меня. А в другом я не понял. В автобусе мужчина спросил: «У вас есть брат Виталий?» - «Нет». - «А если подумать?» - «И думать нечего. У меня два брата, оба в России» - «А двоюродный?» - «Двоюродный? Ну, может, в смысле дружбы народов. Я бывал там, конечно, и застолья бывали, и братались». - «Бывали где?» -«В Италии. Вы спросили у меня, есть ли у меня брат в Италии?» - «Да, я спросил о Виталии».
Тут ему надо было выходить. Он встал: «А все-таки у вас есть брат Виталий, есть. Нехорошо отказываться от родни».
Когда автобус потащил меня дальше, я сообразил, что речь шла не о стране Италии, а о человеке Виталии. Ну да, есть у меня двоюродный брат Виталий. Я от него не отказываюсь. Только он не в Италии живет.
ЖЕРТВЕННАЯ КОРОВА капитала - это демократия. Любишь не любишь, ругать не смей. Эта корова давно топчется в России и по России. Вытоптала медицину, топчет школу, пыталась топтать оборону. А уж как культуру-то топчет. Пасется на русских землях, превращая их в пустыри, затаптывает целые поселения. Когда все вытопчет, уйдет, оставив на память о себе нашлепанные вонючие лепешки. Тогда и ругать ее разрешат.
Чем же страшна? Она все меряет на деньги, на недвижимость. Она создает такие миражи: ты будешь жить в достатке, если употребишь свои знания не для карьерного роста и своего благополучия. А конкуренция -это не сживание конкурентов со свету, а прогресс. А если они слабее, значит, мешают прогрессу. И должны осознавать.
Уйдет корова капитала, новое животное придет. Новый троянский конь. Введется в Россию в дымовой завесе критики демократии. Она была не та, не так понята, а сейчас будет все тип-топ.
То есть всегда болтовня о какой-то бы якобы заботе о народе, о сча-стьи на земле. То есть постоянное забвение Бога. Разве Он не говорил, что земная жизнь - это прохождение долины скорби? Что войти в Царство небесное можно только узкими вратами? Что нищий Лазарь всегда будет счастливее богатого благополучного богача?
И это дано понять всем. Но не все хотят это понять. Кто-то не может, а кто-то и не хочет. А не хотят, так что же и убеждать, время тратить.
РАДОСТИ, ПРЕПОДНОСИМЫЕ плотью, иногда могут и радовать душу, но в итоге все равно тащат ее в бездну. Только душевные радости: родные люди, работа, лес да небеса, да полевые цветы, да хорошие книги и, конечно, Божий храм - вот спасение.
Целый день стояла пасмурность, тряслись по грязной дороге, щетки на стеклах возили туда-сюда мутные потоки дождя, еле протащились по чернозему, около пруда остановились. «Тут он играл в индейцев, - сказал молодой строитель о прежнем хозяине этого места, который умер не в России. - Строить будем заново, на речном песке».
Стали служить молебен на закладку дома на прежнем основании. Молодой батюшка развел кадило и так сладко, так отрадно, так древне-вечно запахло ладаном, что ветер усмирился и солнышко вышло.
Что еще? Господи, слава Тебе!
ЭТО ВЧЕРА БЫЛО. Устал сильно. А позавчера еще страшней: безко-нечная дорога, давящие безполезные, обезсиливающие разговоры. Боюсь, и завтра не легче. Но сейчас Никольское, изба прогрелась, чай дымится, по радио Первая симфония Василия Калинникова. Скажут: чай и температура в избе - дела телесные. Не только: за окном воробьи отклевывают крошки от моего куска хлеба, ветер треплет целлофан на теплице и щелкает им. Выйду - крест на церкви летит сквозь облака, голове легко, сердце теплеет, можно жить. Можно. Значит, и нужно.
Бог пока смерти не дает, разрешает мучиться за грехи, искупать их исповедью и покаянием, и неповторением. Мучиться и за себя, и за отца, и за дедов, за Россию и радоваться. Самое трудное - радоваться мучениям, идущим от родных: жены и детей. Федор Абрамов спросил: «Ты знал, что будешь писателем?» - «Да, с раннего, можно сказать, детства». - «А зачем тогда женился? А если женился, зачем дети?» Хоть стой, хоть падай. Да как же мужчине не испытать всего, что выпадает человеку? И не перечувствовать все радости и муки людские.
И снова солнце. Уже ближе к закату. Плачет умирающий день. Я слышал, есть племя дикарей, которые считают, что каждый день солнце уходит навсегда. А ведь так оно и есть. Ночь. До восхода - вечность.
СТО БЕД - ОДИН ОТВЕТ
Кто развращал советских женщин? Ответ: советские начальники. Объясню. Во все времена Россия была первой прежде всего в нравственности, от которой и сила увеличивалась. И это всегда вызывало лютую злобу и зависть. Ненавистью к России двигалась мировая цивилизация.
Но теперь-то до чего мы дожили? Девицы курят, пьют, матерятся. И не видят в этом ничего особенного. Кто заразил Россию микробами разврата, кто подточил вековые устои целомудрия? Увы, советские женщины. Далеко не все. Вначале жены советских начальников. Тех, кто имел доступ к выездам за границу, к спецраспределителям. Для женщин вопрос моды - вопрос первейший.
Подумать только - Россия вышла в космос, имела ведущую в мире техническую мысль, лучшую литературу, спорт, балет, живопись и не могла наделать какой-то дряни: джинсов, колготок, цветных телевизоров, всякой упаковки, разных приспособлений для быта и кухни... всего-то! И безо всего этого можно было жить (большинство и жило), но змий зависти работал без устали. Начальники ездили в загранку, волокли оттуда барахло для жен, любовниц, дочерей, сапоги там всякие, лосины, туфли, все в ярких коробках, пакетах. Жены наряжались, выхвалялись перед подругами, сотрудницами, и тем что-то доставалось. «Красиво жить не запретишь». Мода расходилась кругами. Потом эти парики пошли. Начались по телевизору всякие конкурсы красоты, аэробики («Эта аэробика доведет до гробика» - очень точно предсказывали старухи), и что? И много-мало лет за двадцать обработали дамочек так, что им не стыдно стало держать в зубах сигарету, отращивать когти, заводить бой-френдов (модно же), не хотеть детей (по ночам плачут), сдавать родителей в дома престарелых и, наконец, считать, что Россия -отсталая страна. Еще добавить сюда закрытые просмотры зарубежных фильмов, всякой порнухи на дачах, опять же вначале начальства. В основном не сами начальники смотрели, их дети. И, изображая себя передовыми, убеждали и других, а потом и сами всерьез верили в то, что всякие битлы - это что-то очень-очень клевое. Это оттого, что восприятие мелодии и смысла было насильственно атрофировано и заменено децибелами и ритмом. Какая там «Ой да ты калинушка», когда уже браво пели даже в армии: «Как важно быть ни в чем не виноватым солдатом, солдатом. Иду себе, играю автоматом».
Противостоять всему этому могло единственное - женственность. А она не в косметике, не в фитнесе, не в диете, она в состоянии души. А состояние души - дело духовное. А духовность - это жертвенность.
ДОРОЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
В электричке мужчина: «Меня сватала Раиса, Рая. “Тебе со мной будет рай!”. Женился. А это оказалась не Рая, а целая Ада. Так-то, дорогой товарищ, как говорил дорогой Леонид Ильич. Да-а. Раньше у нас был сплошной рай. Рай-ком, рай-потребсоюз, рай-военкомат, рай-собес, рай-план, целые рай-оны. А сейчас все ад. Ад-министрация. Вот и поживи тут».
И другая встреча, тоже в электричке: «У меня все есть: доллары, машина, дача, дом. Но я сейчас запил. С горя по двум причинам: сын неудачно спрыгнул с парашютом, и у жены глубокий инсульт. Запил. Жить не могу: нет цели, нельзя. А в петлю лезть, в воду там утопиться, отрава какая - грех! Я что придумал - пусть убьют. У пивной ввяжусь в драку, треснут кирпичом по башке и - до свиданья!» - «Но это же не меньший грех». - «Думаешь?» - «Уверен. И ты подумай». - «Ладно, подумаю. А со мной выпьешь?»
По вагону проходит торговец: «Пригодится каждой хозяйке, каждой семье. Ножницы. Это не Китай, не Тайвань, не Корея, это наша оборонка. Ножницы! Прошу внимания: режут монеты как картон. Показываю. (Расщелкивает пополам гривенник). На кухне хозяйке разделать морскую рыбу, отрезать колючие плавники, искрошить мерзлую курицу, мясо из морозилки - труда не представляет».
Другой: «Выдающаяся книга. “Сплетни о знаменитостях”. Пятьдесят рублей. А что такое пятьдесят рублей? Даже не банка пива. Даже не пачка сигарет. Пиво уйдет через два часа, от сигарет только дым, а тут...» Пассажир: «Тут сплетни, как знаменитости курили и пили пиво?»
Третий с гитарой: «Мы живем и в пепле и в золе на суровой выжженной земле. Спят устало русские ребята. Не кукуй, кукушка, погоди: у солдата вечность впереди. Кто в их ранней смерти виноватый?»
Ножницы покупали, за песню монеты подавали, но сплетен о знаменитостях не купил никто.
ЖЕНЩИНА НАЧИНАЛА демонстрацию страданий. Но для демонстрации нужны зрители. Тут главное - не быть в их числе. А это трудно. Тут главное, как говорится, вовремя смыться.
ПРИШЕЛ ИЗ ЗОНЫ: «Я мужик - везде мужик. Пахал, срок тянул. Научился наколки делать. Иголки только щелкают. Рисовал неплохо. Была кельтская тематика. Кто “в законе”, у того крест и два ангела. Пацанам наколка на коленях: “Не встану на колени”. Потом также восточные мотивы, драконы в основном. А уже эти женские головки да надписи: “За измену не прощу” не заказывали. Но про матерей постоянно». - «“Не забуду мать родную”? - Загнал в могилу и “не забуду”?» - «У всех же по-разному. Много же по глупости залетело. А кто и вовсе безвинно». - «А у тебя самого есть наколки?» - «Что я, совсем?»
СЦЕПЛЯЛ ПАЛЬЦЫ рук. А большие пальцы крутил один вокруг другого, приговаривая: «На моей фабрике ни одной забастовки».
«ВСЕ МЫ ПОД СЛЕДСТВИЕМ и все мы на суд призваны. И повестки всеми получены. Только даты не проставлены. Куда идем? Кто куда, а мы на Страшный суд. Но не так сразу, еще три с половиной года власти антихриста надо будет выдержать. Паисий Святогорец говорит, что молитвой будем от антихриста защищаться. Молитва как облако скрывающее.
А последние времена? Они уже идут две тысячи лет. Началось последнее время от дня Вознесения Господа с Елеонской горы. “Дети! Последнее время! - сказал апостол Иоанн. - И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время... Итак, дети, пребывайте в Нем (в Господе), чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его”» (1 Ин. 2, 18, 28).
СОЗДАВАЛИСЬ ФОНДЫ, ассоциации, объединения, попечительские советы. Это 80-е. Стало модным приглашать батюшек для освящения офисов (так стали называться конторы), банков. А один предприниматель открывал бензоколонку, и его подчиненный сказал, что надо отслужить молебен. «А это надо?» - недовольно спросил начальник. -«Да сейчас вроде как модно». - «Ну, давайте, только короче. В темпе!» Отслужили в темпе. И бензоколонка вскоре сгорела. Тоже в темпе.
ШКОЛА - КРЕПОСТЬ, в нее нельзя пускать обезбоженные идеи. Пустили теорию эволюции, она до сих пор пасется в учебниках. А теория эволюции родила фашизм. Как? Обезьяна спрыгнула с дерева, встала на две лапы, разогнулась, пошагала, взяла палку сшибать бананы, заговорила междометиями, вот уже и Адама Смита читает, станок Гуттенберга запустила, куда же дальше пойдет? Ну как, куда дальше? Если дошла до человека, она же не остановится, пойдет от человека к сверхчеловеку. Но не все пойдут, заявили арийцы, унтерменши не потянут, им хватит табаку, водки и балалайки, дальше пойдем мы. Вот и фашизм.
ВСЯКИЕ БЫЛИ ДЕВИЗЫ: «Я знаю, что я ничего не знаю» или: «Знания умножают скорбь». Оба девиза честные, но лучше было бы говорить: «Я знаю, что я умру». Более того: «Я знаю, что я начал умирать с первым моим криком, когда вышел из материнского лона, и, в ужасе от предстоящей жизни, закричал».
А главный девиз: «Я знаю, что моя душа безсмертна, что я не умру, и это счастье». И тут же: «Я знаю, что отвечу за каждый день моей жизни».
ОЧЕНЬ ПОЛЮБИЛСЯ любителям умной болтовни сборник «Вехи», было о чем поговорить. Вроде все знали о близких катастрофах, знали даже, как их преодолеть. А жизнь опередила. «Ах, мы так не хотели, все надо было делать не так!». В 60-70-е «Вехи» вновь пришли в Россию. Очень читались. Поговорили, вроде поумнели. Но легкость, с которой разврат и похабщина завладели вскоре книжным рынком, была устрашающей. Вроде бы вслед за Лосским, Бердяевым, Франком, отцами Сергием Булгаковым и Павлом Флоренским выступили и Бахтин, и Лосев, и Кожинов, и Михайлов, Палиевский, Ланщиков, Семанов, Петелин, Селезнев и много теперешних современников. И очень-очень толковые, мне с ними не тягаться. Мысль в том, что они все несомненно любили Россию, но что же она так быстро рухнула? Ответ: были не воцерковлены, и это ослабило действие их сочинений. Хотя несомненно хорошо относились к православию. Умственно понимали его необходимость для России. Много же духовного чтения читали. Свидетельствую, вспоминая разговоры с ними.
Отпевали Кожинова рядом с его домом в церкви Симеона Столпника. Батюшка, надгробное слово: «Я всегда знал, что в приходе живет такой великий мыслитель. Но как жаль, что не сам он пришел в церковь, а его принесли».
ПОЭТ: «УЕЗЖАЮ, УЕЗЖАЮ и наказываю вам: не ругайте мою милочку последними словам. Чаю, чаю накачаю, кофею нагрохаю. Я отсюда уезжаю, даже и не взохаю».
Он же: «Весь мир хотел со мною выпить, но тем же миром весь я выпит».
СЛЫШАЛ В СУРГУТЕ: Переходили по льду. Женщина поскользнулась. Ребенок в свертке упал в расщелину. Чукча привязал свою собаку за хвост, опустил на веревке. Собака зубами ухватила сверток, и чукча ее вытащил обратно со спасенным ребенком.
РЕВОЛЮЦИЮ ГОТОВЯТ провокаторы, заражая общество недовольством к властям, мечтами о хорошей жизни, неприятием бедности. Честные, восприимчивые свершают революцию, искренне думая, что делают доброе дело. А плодами революции пользуются сволочи.
В ЯПОНИИ ОЧЕНЬ хотел побывать на могиле Акутагавы Рюноске. Оказалось, трудно. Помогла переводчица, влюбленная в Распутина (а есть ли хоть одна женщина, не влюбленная в него?), она со мною бегом-бегом отыскала аллею, по которой мы достигли могилы великого прозаика. Еще на том кладбище могила разведчика Рихарда Зорге.
ВСПОМИНАЮ ЯПОНИЮ
Холодная Фудзи в тумане, озеро Бива мерцает. Трехцветная кошка в Киото сидит у витрины, за которой в прозрачных кристаллах резвятся робото-рыбы. Они несъедобны, но как же прекрасны. И манекены - бывшие люди - шли мимо, да так и застыли, на рыб заглядевшись.
На рекламу шотландского виски уселась ворона и кричит возмущенно. Надо будет сюда через множество лет возвратиться, чтоб узнать, кто кого перекаркал.
Высоченные стены домов, и солнца не видно. Вот оно впереди, поспешу, обогреюсь. Подбежал - не оно, лишь его отраженье в огромном стекле небоскреба.
В парке бродят олени и бегают белки, и прекрасная девушка спит на скамейке у пруда. Ухожу и мечтаю, что девушке взгляд мой приснится.
Старый монах с диктофоном сказал мне: «Разве дверь разбирает, кто ею проходит, разве лифт различает, кому помогает подняться? Дверью стань, помогая пройти в свою душу, лифтом стань, помогая занять верхотуру».
Чай прекрасные руки Като разливают. Кроме русского знает Като остальные, но разве не внятен язык моих взглядов?
Наступает обряд любованья луною, я и так, с малых лет на нее любовался. Вот, желтея, выходит командовать небом. Неужели весь свет на востоке оставит? Неужели в России ненастье?
Кто о горе своем вам расскажет с улыбкой? Японец. Но рыданья Като нарушают традицию эту: «Русский, ты уезжаешь, останься!» - «О, Като, плохо жить без тебя, но мне без России не выжить».
Улетаю на запад, и то ли бегу от рассвета, то ли вместе с собою его увлекаю в Россию.
ИМЕННО ЕВРЕИ баловались переделкой известных строк, напоминая опять же о своей суровой доле. Но я, например, никогда не считал синонимами слова: «жид» и «еврей».
«Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне не живой ли жид?», или: «Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жид».
Это я в ЦДЛ слыхивал, эти хохмочки. Еще меня поражало, что писатели евреи (конечно, далеко не все) сильно и грязно матерились. Может быть, считали, что это очень народно?
РАССКАЗ «ВОЗВРАЩЕНИЕ родника» документален. Вода в роднике исчезла, когда батюшку арестовали и увели. И всем велели плевать на него. Но все встали перед ним на колени. Церковь закрыли, потом разрушили. А когда на месте ее начали строить часовню и стали раскапывать родник, вода в него вернулась. Я в этом деле участвовал и об этом написал. Это уже лет пять назад. Получилось, что выхвалился. Ведь у колодца, у родника надо жить! Надо брать из него воду, тогда и он будет жить. А без этого он заилился вновь, вновь надо было чистить.
Одна надежда - вернутся потомки здешних жителей. Или поселятся новые. Главное - родник есть.
ЗАПАДНЫЙ МИР возвышается за счет унижения России. Они все такие передовые, а мы такие отсталые. И нас надо учить жить по-ихнему. Не получается? Тогда надо наказать: а-та-та, а-та-та!
ПРОСНУЛСЯ - ПЛЕЧО болит. Вчера натрудил, спиливали и разделывали отжившую яблоню. Да и воды натаскался.
А яблоню очень жалко. Почти тридцать лет назад купили эти полдомика, и уже тогда хозяева говорили, что пора эту антоновку убирать. А она все годы давала урожаи. Иногда ведер по двадцать. А антоновка какая была!
Уже была. «Дедушка, - спрашивает внучка, - а что раньше было?» -«Раньше, внученька, все было». Такой грустный юмор.
Очень скромно она цвела, эта яблоня. А яблоки какие! Протягивала на длинной ветке прямо на веранду. Сейчас последнее привез.
ТАК ЛЮБИЛ юг, Крым, весь его исходил, изъездил. Только из-за него да из-за Тамани можно было жениться на Надечке. Особенно Керчь. Ми-тридат, Аршинцево, Осовино, Эльтиген, катакомбы, море, море...
Помню, назавтра уезжать. Надя накупает фрукты. «Зачем такую тяжесть? В Москве то же самое, по тем же ценам!» - «Да, но это з д е ш н е е».
И вот, убежал к морю. Сижу. Так хочется написать прощальный стих. Но никак нет рифмы Керчи. Наконец итальянцы помогли. Вспомнил песню о прощании с Римом, приспособил сюда. «Кончилось лето. Прощай, благодать! Скажем югу: “Ариведерчи!” Завтра поезд начнет километры считать на северо-запад от Керчи».
Больше ничего. Но вот же запомнилось.
И через сорок пять лет после этого звонок. Толя: «Записывай. “Мой друг, от радости кричи и тещу называй мамашей. Ведь теща родилась в Керчи, а Керчь, представь, отныне наша!”»
СТАРЫ НОЖНИЦЫ тупые, новы не отточены. Те бы матери молчали, у которых дочери.
Мы с миленочком гуляли и спугнули соловья. Те бы матери молчали, у которых сыновья.
Русу голову помазали, посыпали золой. Бригадиру заявили: нам сегодня выходной.
ТРИ РАССУЖДЕНИЯ
Не смотрю телевизор. Совсем. Он мой личный враг. Если и гляну, то только убедиться, что он становится все паскуднее, пошлее, лживее. И, по счастью, в интернете долго ничего не понимал.
А начал писать о Ближнем Востоке, о Палестине, поневоле стало нужно быть информированным. И вот, как говорит молодежь, я подсел на этот телевизор. И интернет. Итак, событие одно и то же освещается всегда по-разному. Взрывы, стычки, бои, стрельба. Все время жертвы. «Убиты семь солдат». Одна сторона говорит, что это было так. Другая: нет, было не так. И все упирается в этот спор. Но главное в нем тонет: люди-то убиты.
Но рассуждение не только в этом. Смотрел я в эти экраны и в теле, и в ноутбуке и заметил, что молитва моя хладеет, становится рассеянной, мысли бродят в новостях, сведениях. Там же не только то, что мне нужно, там сбоку и сверху лезут постоянно какие-то чубайсы-якунины-васильевы-гайдары-ангеле-бараки-нетаньяху... что-то все всплывает из прошлого, что найдены какие-то новые факты, что того-то не отравили, а сам умер, а этот не сам умер, а отравили. Зачем мне все это? Зачем этим мне набивают голову, просто втаптывают в нее, как солому в мешок, мусор фактов? А я с этой головой иду к иконам, читаю правило, молюсь. И какая же это молитва? Рассеянная, говорят святые отцы. То есть телевизор, захваченный бесами, успешно отвоевал еще одну молящуюся человекоединицу. Такой применим термин.
И только тем и спасаюсь, что надеюсь на милость Божию, на то, что когда ум мой выталкивается в склочное пространство мира, то сердце мое остается с Богом. О, не дай Бог иначе.
И рассуждение из этого же порядка. Оно о нападении на русскую литературу. Вот, пришли к нам в шестидесятые и далее книги и имена зарубежные. Они же действовали на писательскую и читательскую атмосферу. Тот же Хемингуэй. Ладно бы Фолкнер, Грэм Грин. Нет, радостно подражали не сути, а фразе. Еще бы: «Маятник отрубал головы секундам» (из «Приглашения на казнь»). Это Набоков. За ним Катаев, другие.
Легче взять форму, нежели содержание. Ананьев вообще строил фразы как левтолстовские, и что?
И тут опять же победа бесов: убивание главной составляющей русской литературы - духовности.
В ДИВЕЕВСКОМ ХРАМЕ так тихо, что, кажется, читаемая непонятно кем Псалтирь увеличивает тишину. Свечи потрескивают, будто тоже молятся. Потом канавка Божией Матери, сто пятьдесят «Богородиц». Свечки не гаснут.
Это уже в этот приезд, а в тот, в 90-м, матушка Фрося сурово сказала нам: «Пишут и пишут и думают, что работают». А ведь никто ей не мог сказать, что мы - люди пишущие. Насквозь видела. «Матушка, а какая настоящая работа?» - «Из церкви выгребите старую картошку, все побелите и читайте Неусыпаемую Псалтирь».
И вот - все возрождено, Псалтирь читается, но не нами возрождено и не нами читается. Но может быть хоть как-то и наши слова содействовали? Может быть. Хорошо бы.
В ИЛЬИН ДЕНЬ звучит высокая нота единения церкви, армии и народа. Именно с удара колоколов Ильинского храма началось освобождение Москвы от польско-литовских интервентов.
И поныне в Ильин день после литургии выносятся из храма фонарь, Крест, иконы, хоругви. Выносят их воины-десантники «войск дяди Васи», ВДВ, гремят победно колокола, стройно и ангельски, «едиными усты», поет хор певчих и единым сердцем возносятся наши молитвы о родном Отечестве. Крестный ход движется на Красную площадь и на ней служится торжественный молебен.
ОППОНЕНТ НА ЗАЩИТЕ: «Однако, тем не менее, к тому же, если бы кстати и вместе с тем, имеет место быть...».
ЛЮДИ ТЕПЕРЬ - копии от копии. Неслучайно много суеты вокруг клонирования, это от понимания собственной пустоты и механистичности.
Голосующая биомасса - вот самый желанный электорат теперешних правителей.
КОРНИ ПРЕСТУПНОСТИ не в так называемых «пережитках прошлого», а в настоящих мерзостях превращения жизни в служение потребностям живота и плоти, в освобождении от стыда и совести. Самое страшное, что могла сказать мама о ком-то нехорошем: «Ни стыда, ни совести, ни собачьей болести». Это, наряду со словами «Бога забыли, Бога не боятся», объясняло как раз эти самые корни преступности.
ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ сохраняет язык. На асфальте слово не рождается, не растет, на асфальте плесень жаргонов. Городские писатели в рассказах о детстве выделяют его главные, очень немногие радости, в поездках к бабушке-дедушке, на дачу или в лучшем случае рассказывают о дворниках, голубятнях, дворовых собаках, канарейках, птичьем рынке, то есть тянутся к живому.
А земля - это не место для каникул, то есть и тут городские выделены своей обособленностью от трудов на земле, а именно эти труды созидали характер и сохраняли язык.
ТЕЛЕГРАММА ПИСАТЕЛЮ, добивающемуся литературной премии: «Прими без прениев мое воззрение: живем в безвременьи, живи без премиев». Он ответил: «Ты не понимаешь, что такое - жить в провинции и не быть лауреатом».
К ПРЕСТУПНОСТИ ПОДВИГАЮТ девочки. Да. Хвалится перед подружками: «Я его на кафе выставлю. Чтоб всех нас повел». То есть использует то, что мальчик ею увлечен. А он сам не работает, просит (потом требует) у родителей. Дают, дают, но сколько же можно давать? Начинает подворовывать, ловчить. Как следствие - тюрьма. А все началось с девочки, с ее похвальбы перед подружками, что Саня (Петя, Витя, Сережа...) поведет их в кафе-мороженое.
ТАК ТОСКЛИВО жить без отца-матери, такое сиротство. Только и утешения, что встретимся.
НА ГОРНОЙ ТРАССЕ по серпантину. Пожилая пассажирка: «Ой, какие вилюшки». Молодая: «Да, прямо центрифуга».
О БЫТОВЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ: «Да они воду варят» (то есть болтают впустую).
«Спать хочу на счет “два”» (то есть раз-два и спит).
На машине сзади: «Сам такой».
«Миа талья» - мой размер.
Большой начальник (из бывших): «Ты что! Я был, был. Мне коня к трапу подавали. Не веришь? Тогда сразу дай по морде. То-то!»
«Не спрашивают, не сплясывай».
«На проезжей улице птица гнезда не совьет» (детдомовка).
«Баба села на забор, ноги свесила. Рядом миленький прошел, стало весело».
«Не важно, кто сам, важно, кто зам».
Из этой же серии: «Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак».
-А О ЧЕМ ГОВОРЯТ евреи, сойдясь в кружок? - Как о чем? Конечно, о будущем России.
ЗАЧЕМ ЖДАТЬ предсказания погоды на завтра, когда мы проснемся и ее увидим.
СЛАБ МОЙ ЯЗЫК описать восход. Да и чего описывать, когда сказано: «Да будет свет!». И, может быть, так Господь каждый день говорит.
МЯЧИКУ ОДИНОКО и страшно в темноте у крыльца. Дождь пошел. Он даже не просто мячик, а мячик-глобус. Прямо земной шарик. И с ним весь день играли, бросали, пинали. Он прыгал, веселил деточек. Даже через костер перекидывали. Наигрались и бросили.
У НЕЕ НИЧЕГО не было, кроме фигуры. Но этого ей хватало.
К ДИРЕКТОРУ ИНТЕРНАТА пришел новый русский. Принес материальную помощь, шутит: «Это вам от нашей мафии». Директор растерянно: «Так мало?» - «Ну, мы же не в Сицилии».
АПОСТОЛА МАТФЕЯ побили камнями по закону израильскому. Но из угоды отсекли ему голову, уже почившему. Как врагу кесаря.
БЕЛОВ СЕТУЕТ: «Машинистке отдал пятьсот страниц. Берет по двадцать копеек. Да потом еще раз придется перепечатывать». Распутин: «Пиши короче».
ЧИНОВНИКИ ДЕМОКРАТИИ не хамят, вежливо ведут под руки в могилу. По дороге обчистят.
МОЦАРТ. МИЗЕРЕРЕ, Пятидесятый псалом. У Моцарта три ребенка умерли. Моцарта всерьез первым заметил Гете. Да, Гете это очень не Гейне.
ВЫДРАЛИ ЗУБЫ, будто выдрали молодость. Я же этими зубами в голодные годы помогал телу выжить. Сейчас и протезов хватает.
МАМА, КОГДА отца не стало, всегда говорила о нем: «Когда сам-то еще был...», или: «Когда уже стала жить без хозяина...»
ЗАПИСКА ИЗ ЗАЛА: «О Боже, милости Твоей границ не вижу я, их нет. Грешу и каюсь я тебе. Уже не слышно сердца стук, полно все черными грехами. Когда же внемлю слову Твоему, чтобы сполна и чистым сердцем мне претерпеть страданья? Громотнов Антоний».
ХОЛОСТЯК. ЧТО это такое? Это несчастный человек. Он хочет жениться, и он никогда не женится. Боится женщин. Загоняешь его в угол, лепечет: «Они курят, ругаются они матом». - «Очень даже далеко не все». Но женить холостяка невозможно. Я пробовал. Друга Толю тридцать лет не мог женить. Но он так много работал, что этим и защищался. Когда появлялась очередная кандидатка, он тут же говорил мне: «Видишь, что творится? Вчера на нее два часа потратил». Самое смешное, что жениться он хотел искренне. Бедные кандидатки горели на том, что начинали наводить порядок в его квартире. Да еще что-то пробовали щебетать. Считали, что у него все разбросано и что надо его занимать. «У меня не разбросано, а все на своем месте. И со мной не надо разговаривать, я всегда занят».
РАСПЯВ ХРИСТА, иудеи вовсе не хотели преследовать христиан. Они думали: покончено со Христом и говорить не о чем. Но Петр и Иоанн исцелили хромого. «Серебра и золота нет у меня, - сказал Петр, - а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». Конечно, это сразу узналось. Апостолам запретили говорить об Иисусе. И все. И можете жить спокойно. Но Петр и Иоанн сказали в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (По Деяниям). Вот ключ к поведению христиан. Как слушать земные власти более, чем Господа? Надо все поверять Божией истиной.
- ДЕТИ, ДЕТИ, куда вас дети? - с любовью говорила нам мама. Помню, идем с лугов, с реки, а мама оставалась на хозяйстве, ждет, стоит на крыльце, и очень помню, с какой любовью говорит: «Наработались дите-нушки, шаляпают домой». Такое у ней было присловье.
Зимние вечера. Залезаем на полати, на печь, мама читает при свете коптилки. «Глаза вам берегла», - говорила она потом. Она душу нам берегла, сердца наши сохраняла. Читала книгу «Родные поэты», много читала. Читала «Овода», плакала. Сказки, былины, песни. Такой был толстенький старый-старый песенник. Я его и один читал и пел все песни на один мотив: «Ты прости, народ московский, ты прости-прощай Москва. Покатилась с плеч казацких удалая голова». А еще страшнее: «Я тебя породил, я тебя и убью». И: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» -«Слышу, сынку!»
Царапины, обиды, ссоры детства, недоедание, плохая одежонка, - все забылось, осталось всесветное сияние счастья жить на Божией земле.
Мамочка ты, мамочка ты моя!
ЧТОБЫ ПРОЗРЕТЬ, нужно созреть.
О национальном: какая польза в крови моей, когда все равно истлевать? (Из Псалтири).
ДЕНЬ ПРИЧАСТИЯ. В этот день бывает так хорошо, что не высказать. Так умиротворенно, если еще один. И ничего не страшно. Хоть камни с неба вались - причастился. До чего же только жаль, что родные не со мною. Да, бывают в храме, но в церковь надо ходить. Ходишь, и уже и не замечаешь ни тесноты, ни чьих-то разговоров. Когда долго не причащаешься, лицо темнеет.
Старуха Клавдия говорит: «Я иду в церковь, я прямо реву, что другие не идут. Кто и пьян, кто и вовсе с папиросой. А женщины накрашены. Я прямо реву - хоть бы они поняли, какая в церкви красота!»
ПТИЦЫ НАЧИНАЮТ вить гнезда, таскают у меня паклю из щелей бани. Тискали бы с краю, нет, все разлохматили. Застал сейчас воробья.
Забавный такой, клювик занял ниточками пакли. Ушмыгнул. Поймаю в следующий раз - выпорю.
На участке, сосчитал, уже двенадцать различных цветов цветет. Все Надя. У нее все растет. От работы не оттащишь. Грядки, клумбы -все идеально. Чаю попить приходится тащить насильно. Потом стонет: ой, поясница, ой, сердце! Выпалывает сорняки, окучивает растения, пересаживает, сажает, обрезает, удобряет. С апреля по конец октября все цветет.
Да я такой же. Сегодня как только не надорвался, перетаскивал и закапывал огромный бак литров на пятьсот. Под компост.
Девятое мая. Год назад приложился к мощам св. целителя Пантелеи-мона. На Афонском подворье. Очередища! Очень надеюсь побывать на Святой Горе.
- ВАМ СКОЛЬКО кусочков сахара положить? - Четыре. Но не размешивайте, я не люблю сладкий чай.
В ТОЛЬЯТТИ НА ВАЗе, говорят, были даже подземные ходы, по которым вытаскивали и запчасти и целые узлы. Больше разворовывали, чем выпускали.
- ВЫШЛА вся такая, на подвиг зовущая. - Да она играет в такую, я ее знаю. Подружка мне говорит: “Ляль, оказывается мода на хорошеньких и глупеньких прошла. Теперь, - говорит, - надо казаться умной. Но это, - говорит, - ващще обалденный эпатаж”».
РАССКАЗ ШОСТАКОВИЧА:
«Дни советской культуры в Англии. В день приезда туда нас собрали, и человек в штатском сказал: “Вы думаете, кто же тот человек, который к вам приставлен? Так вот, это я. И я отвечаю за вашу безопасность. Но вас много, поэтому я разбиваю вас на пятерки и назначаю старшего”. Мне зачитал пятерых по алфавиту, велел запомнить. “В любое время дня и ночи обязан знать, где кто из твоей пятерки”. Он всех “на ты” называл. У меня вскоре авторский вечер, приехала королева Англии, все прошло хорошо, аплодисменты. Выхожу на поклоны, а в голове одно: где моя пятерка, где моя пятерка? Меня зовут на прием к королеве, я говорю организаторам: “Вот эти, по списку, должны пойти со мной. Идут, довольны, там же столы накрыты”».
Шостакович нисколько не сердился на чекиста и вспоминал о нем с удовольствием. Чекист этот, когда понял, кто есть кто, командирство над пятеркой не отменил, но все-таки стал называть Шостаковича «на вы». «Куда вам когда надо, скажите. Я с вашей пятеркой побуду».
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ о евреях: «Они все солдаты и все в строю». Разговоры с ним я пытался незаметно записывать - безполезно. Он, хотя и плохо видел, сразу меня пресекал: «Не надо! Спрячьте блокнот». Но многое помню. Встречи со Сталиным, Ягода, Горький... И вот проходят годы и годы и, может быть, и прав был Леонид Максимович, потому что кому это надо: Сталин, Ягода, Горький? Ну, узнаем что-то и что? Истории личностей и личности в истории еще далеко не история. Что-то же свершается и помимо личностей. Если б не Гитлер, не Сталин, были б другие, тут главное - схлестывание света с тьмой, Христа с Велиаром.
ИЗРАИЛЬСКОЕ ПОСОЛЬСТВО. Приезжаем с Сергеем Харламовым за визами наверное раз пятый. Заранее приезжаем. И всегда оказываемся последними. Они идут и идут. «Как? - возмущаемся мы. Отвечают: -«Разве б ви не заняли очередь для мами?»
Две дамы. Одна с выбритыми усами, другая с ними. Обсуждают третью подругу, к которой ради здоровья ездят два раза в год, весной и осенью, когда в России плохая погода. Одна: «Она же уже просит сала. Ну и шо сказать - ездила на рынок». Другая: «Ну так! Она же ж в Киеве жила, привыкла. А уехала, там опять стала еврейкой. А от сала не отвыкнет. Я тоже везу». - «Сколько?» - «Та шматок приличный».
- ЛИТОГРАФИЯ, ЧТО ТАКОЕ? Слушай. - Владик делает большую паузу. - В Суриковке, учти, все камни были на учете. Почему? - Опять долго молчит. Поднимает палец: - Деньги на них печатали. То есть можно было печатать. Вот такой толщины (показывает), идеально отполированы. А линогравюра - дело проще. Вырезаю. То, что вырезаю, будет светлое, а то, что оставляю, темное. Но это, конечно, букварь, азбука, извини! Да! Все думают, что я умный, а на самом деле... (пауза) так оно и есть! Я наивный до примитива, да я и в самом деле примитив. Но для своих студентов я кое-что значу. Они же не знают, что я ничего не значу. Одна нашлась, стерва с ушами, натуральная полуобнаженка, пыталась отдаться, говорит на языке якобы графики. Это у нее диплом. Диплом! А такие претензии! Врать ей, как девушке, я могу, но в графике? Никогда! Линия! Глубина! Образ! Характер! Ты что! Фаворский, Кузьмин, Константинов! Ты веришь, что черно-белое может передавать цвет? Веришь? Отлично! Значит, еще не пропал.
ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ попутчика: «Не бери дурного в голову, а тяжелого в руки». Он вроде еще совсем не старый, а наколка на руке совсем ископаемая: «За измену не прощу». Еще бы надо: «Не забуду мать родную».
О, ЗИМНИЙ САД в лунную ночь! Золотой мед лунного света, серебро заснеженных ветвей, таинство синих теней на молодом нежном снегу. А утром? Утром еще лучше: рассвет розоватит белые букеты кустов и деревьев. Зеркальца снежинок посылают друг другу зайчиков.
От тоски по таким русским снегам можно заболеть в любой Калифорнии.
СОСЕДКА ЛИДИЯ Сергеевна очень любит свиней. Я ей сказал однажды, что слова «свинья» не было в русском языке, только «порося», «поросята», то есть бегущие по росе, да даже и по Руси, так как «роса - росс -русь» - близкие слова. Это Лидии Сергеевне очень понравилось. Как и ее мужу, Льву Николаевичу, который часто лежит на плоской крыше сарая, пребывает в отдохновении после вчерашних излишеств.
- Именно так! - восклицает он. - Какая же это свинья, если у нее сердце как у человека.
- То-то и лежишь как боров, - смеется Лидия Сергеевна.
ДИМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА
Идет тихий мокрый снег. С яблонь течет, стволы почернели. Костя затопил баню. Дрова - просмоленные шпалы - дают такой дым, что Костя называет баню «Линкор “Марат”».
Надо привыкать к себе и не ругать себя, а понимать, и не переделывать, а потихоньку доделывать. Радуюсь одиночеству. Тут я никого не обижаю, ни на кого не обижаюсь. Такое ощущение, что кто-то за меня пишет, ездит за границу, выступает, говорит по телефону, а я, настоящий, пишу записки-памятки в церкви. На себя, выступающего, пишущего, говорящего гляжу со стороны. Уже и не угрызаюсь, не оцениваю, не казнюсь убогостью мыслей, произношением, своим видом в двухмерном пространстве. Конечно, стал хуже. А как иначе - издергался и раздергался. И вижу прибой ненависти к себе и нелюбви. И уже и не переживаю. В юности был выскочкой, даже тщеславен был. Себя вроде в том уверял, что рвусь на трибуну бороться за счастье народное, а это было самолюбие.
Хорошо одному. Стыдно, что заехал в такое количество жизней и судеб. На моем месте другой и писал бы, и молился бы лучше, и был мужем, отцом, сыном лучшим, нежели я, примерным.
Надел телогрейку, резиновые сапоги, носки шерстяные. Красота! Грязища, холод, а мне тепло и сухо. Так бы и жить. Снег тяжелый, прямой. Но что-то уже в воздухе дрогнуло, пошло к замерзанию.
- Чего с этой стороны заходишь? - спрашивает Костя.
- В храме был, записки подавал. Суббота же Димитриевская.
- Я не верю, - говорит Костя. - Что свинья живет, что лошадь, что человек. Кто помрет, кто подохнет, кого убьют - все одно. Не приучали нас. Учили, что попы врут. А выросли, сами поняли, что и коммунисты врут. Пели: «По стенам полазили, всех богов замазали. Убирали лесенки, напевали песенки». Не верю никому!
- Но Богу-то надо верить!
- Да я чувствую, что что-то есть. Да что ж люди-то все как собаки? Злоба в них как муть в стакане. Пока муть на дне - вода вроде чистая, а чуть качни - все посерело.
- Прямо все как собаки? И ты?
- Да! Я же вчера с соседкой полаялся. И она оттявкивалась.
В АНКЕТАХ НА ВОПРОС: «Какими языками владеете?», честно писал: «Русским со словарем». Конечно, это самохвальство было. А когда стал добавлять: «со словарем Даля», то это очень правильно. Не Ожегова же.
Даль, третье издание.
К 200-летию Даля была отчеканена медаль, и мне позвонили, чтоб был на торжественном заседании. Вспоминаю безо всякой обиды, даже с улыбкой, и вот почему. Сочинил тогда же, на этом же заседании стих, даже и не записал его, на банкете прочел друзьям. Очень смеялись. «Медали Даля мне не дали, а дали всякой мелюзге, и я остался без медали. Скажу себе: не будь в тоске, ведь не остался ты без Даля, а он потяжелей медали». Так вот, что интересно: на эти строчки, и не записанные и не напечатанные, поэт Евгений Нефедов написал очень смешную пародию, которая называлась «Обездаленный». Я Женю понимаю, его обидело выражение «всякой мелюзге». Конечно, нельзя так обо всех. Да я ж под горячую руку. Писал о Дале статьи, на медаль надеялся. А сейчас смешно. И хорошо, что не дали: по большому счету, не заслужил. Да и много у меня этого железа.
БЫЛО: КОШКА и хозяйка в доме, собака и хозяин на улице. Стало: хозяйка и собака в доме, и обе считают хозяина за прислугу. Для одной ведро вынеси, другую на прогулки выведи.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ кричали: мы с преступностью боремся, а сами мы бедные, дайте нам достойную зарплату. Дали и сверхдостойную. Преступность, естественно, увеличилась.
КТО КАКИЕ делает поступки, тому такие сны снятся. А надеяться на сны пророческие смешно. Кто мы такие? Тут одно - просыпаешься и скорее забудь любой сон. А зациклишься на нем, он на тебя начнет действовать. По одно время я целую тетрадь (хорошо, сгорела) записал. Всего-всего там было. Сны обрадовались, что я их ценю, и снились без передышки. В постель шел как в театр. И царя видел, и Сталина, всякие катаклизмы и сюр-реализмы, и, конечно, куда денешься, вторую половину человечества, слабый пол. Слабый-то слабый, но так умеет скрутить, что потом не знаешь, как его из памяти изгнать.
ЖИВУ СИРОТОЙ, ни отца, ни матери. Друзья умирают, родня тоже. Друзей новых не будет, пополнения родни нет. Вокруг все новое, чужое. Для молодежи я уже как ископаемое, раскапывать которое им некогда. Да и неохота, собою заняты. Я ни о чем не прошу - одно меня гнетет: как же мало в них от нашего поколения. Мало чего? Любви к России! Понимания, что она ближе всех к Богу, оттого и такая злоба к нам.
КАК УКРОТИТЬ смелого писателя? Да дай ты ему дачу, премию, орден, - вот и приручен. Талант прямо пропорционален неудобствам, бедности и обратно пропорционален комфорту. То есть чем благополучнее писатель, тем хуже он пишет. Да, так. Что дала нам дворянская литература? Помогала готовить гибель России.
У меня дача появилась в шестьдесят лет. И что я на ней написал? А как писалось в ванной, в бане, на чердаке, иногда в Доме творчества. Что написалось, не мне судить. Продукция была.
КОГДА ПИСАТЕЛЬ думает угодить читателям, а не Богу, он пропал. Ну, угодил, ну, известен и что? Читатели же тоже люди, тоже старятся, а другие, если и подрастают, уже не твои, они другие, и им другой угодил. Почти семьдесят лет я читаю, а читаю я непрерывно, и понимаю, что и сотой части узнанных имен писательских не помню. Просто забыл. И это не вина моей памяти, вина писателей.
ОБЫЧНО РЕБЕНОК всегда чем-то занят, и ему, конечно, не хочется прерывать свое занятие. И вот его о чем-то просят. Один быстро оторвется, побежит выполнять просьбу или приказание, а другой только пообещает, что все сделает. Но потом не очень-то торопится выполнять. Да и просто забудет. У нас мама никогда не отдергивала от занятий, но всегда спрашивала: «А что ты мне обещал?» И добивалась того, чтобы сын выполнил обещание. «Ты обещал, понимаешь? А обещание - это же клятва».
КОЛОБОК И КОЗЛИК
Они герои очень поучительных историй. И тот и другой наказываются гибелью за непослушание. «Жил-был у бабушки серенький козлик» и вот «вздумалось козлику в лес погуляти. Вот как, вот как - в лес погуляти». И что? И много ли погулял? «Напали на козлика серые (не серенькие) волки, остались от козлика ножки да рожки».
Колобок, в отличие от козлика, погулял гораздо больше. Он самовольно сбежал от деда и бабы, сочинил хвалебную песенку: «Я колобок-колобок, по амбарам метен, по сусекам скребен, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» и припеваючи уходит и от зайца, и даже от волка. А от лисицы не уходит, перехитрила она его.
То есть очень полезное знание получает ребенок от этих историй: нельзя своевольничать, нельзя старших не слушаться.
А взрослые дяди и тети, переводя сказку о колобке в мультфильм, присочинили, что и от лисы он уходит. Нет, это даже нравственное преступление, так переделывать народную мудрость.
СОРОКАДНЕВНАЯ ГОРА. Всегда бывал тут, и всегда тут творилась давка невообразимая, уж какое там благоговение. Хотя все равно было хорошо. Но уж нынче, слава Тебе, Господи, такая благодать - никого. Тихо, спокойно. Иконы, камень, на котором Он сидел. За окном небо.
Но как быстро многое меняется. Смотрю сверху на Иерихон - как много новых, расширяющих его застроек. Кубики домов. Даже зачем-то фуникулер. Поднимался по старой дороге, вся в мусоре, завалы отходов, бутылки, пакеты, коробки. Вороны под ногами. Все-таки чего-то прибирают.
Где вы, трубы Иисуса Навина, трубы Иерихона? Глушат вас ревущие потоки машин, да уже и стен нет, нечего обрушивать. В асфальт закатаны ветхозаветные пространства.
Участок у дерева Закхея облагорожен. Оно ли, не оно ли, но напоминает, что нам, чтобы увидеть, услышать Христа, надо подняться над суетой, над толпой, над собой.
И еще - счастье - взошел вообще на вершину всей горы. Иерусалим виден, Средиземное море, Иордан, Заиорданье, Фавор. («Фавор и Ермон о Тебе возрадуются».)
В ОБЩЕЖИТИИ СТУДЕНТКИ под гитару: «А я пойду в аптеку, куплю там кислоты, соперницу-девчонку лишу неземной красоты».
Плакат, сталинские слова: «Кадры решают все!». Конечно, не в смысле ценности специалистов народного хозяйства, кадрами студентки называли особей мужского пола, варианты замужества. («Он ко мне кадрится».)
ПРОКУРОР: «В РУСЛЕ признания свершившихся фактов следует заметить немотивированный характер происшедшего инцидента. Потерпевший непроизвольно сам поставил себя в необходимость...». Обвиняемый: «Чего- чего? Да не хотел я его ударять!». Адвокат объясняет: «Но это же самое говорит обвинитель». - «Да нет, он чего-то не то боронит. Какое русло?»
УБИВАНИЕ РОССИИ
Освоение окраин всегда за счет центра. Метрополия слабнет. Не будь целины, не было б проблемы так называемой зоны Нечерноземья. Так много оттянули из России специалистов (молодых!), что некому стало сохранять ее. Тут и Заславская с проектами уничтожения деревень, то есть России, тут и укрупнение колхозов, тут и появление совхозов, то есть рабочих на земле, а не крестьян. Тут и переделка МТС (машинно-тракторных станций) в РТС (ремонтно-технические станции), потом и вовсе в «Сельхозтехнику». Тут и деление обкомов на промышленные и сельскохозяйственные, тут и полная ерундовина кукурузы, выше крыши было дури.
А почему рванули на целину? Паспорта давали, какие-то заработки. Не случайно название партии ВКП(б) расшифровывали как Второе Крепостное Право большевиков. За людей же не считали колхозников.
Но вот теперь давайте посмотрим с высоты прошедшего времени. А как бы мы создали такую мощную промышленность за такой короткий срок без крестьян? Как бы накормили армию и рабочих без колхозов? Да, фермерство, оно вроде и гуманнее и предпочтительнее, но на него нужно время, а времени нам история не дала.
Именно люди от земли, от сохи спасли Отечество. Крестьянская жизнь такова, что уже с детства приучает к ненормированным трудам, смекалке, выносливости. Владение топором, пилой, рубанком, отверткой, работа с деревом и металлом, безстрашные игры на быстроту реакции, смелость, привычка к дороге, короткому сну, скромной пище и одежде, тяга к учебе, взаимовыручка, - разве не эти качества идут к нам от предков, от Ломоносова? Люди на земле, наши кормильцы и поильцы - главные люди Отечества. О, я видывал такие руки слесарей, плотников, комбайнеров, трактористов, пастухов, доярок, такие окаменевшие мозоли, такие насовсем скрюченные пальцы, что мне стыдно, что я плохо и мало прославлял их. «В гости пришла, сижу, под скатертью руки прячу: стыдно, такие некрасивые».
И не сдавались! Помню бедные застолья и богатую при этом веселость. «Ой, на горе колхоз и под горой колхоз. Мне мой миленький задавал вопрос. Задавал вопрос и глядел в глаза: “Ты колхозница, тебя любить нельзя”. - “Я колхозница, не отпираюся, и любить тебя не собираюся”».
Теперешняя ликвидация малокомплектных школ, закрытие сельских библиотек - это продолжение убивания нашей родины.
НАМ ЧТО, МАЛО революций, войн, кровавых стычек? И что, не хочется жить просто по-человечески?
Хочется, конечно, но не получится. По-человечески это тогда, когда будем жить по-Божески.
Опять и опять разгорается наступление на все святое. На семью. Разорвать ее, перессорить родителей с детьми, развратить молодежь, опошлить отношения. Нападение на память. Обгадить прошлое страны. Переписать историю, извратить ее, обвинить во всех бедах русских. Нападение на достоинство мужчин - лишить их всех прав. На женщин - превратить их в мужиков. На природу - обокрасть, изуродовать. И особенно на школу -производить англоязычных недоумков.
Но что негодовать на развратителей, когда видишь, что им легко развращать. Нет сопротивления теле- и радиопошлости, никто, например, в суд не подал на режиссера фильма «Убить Билла», хотя он научил многих женщин и девушек убивать (Рязанская женская колония. Именно оттуда взято это утверждение).
ОЧЕНЬ ПРОСТО объясняла мама значение слов «мужчина» и «женщина». «Жен-ЩИ-на, - говорила она, - варит щи. А муж-ЧИНА имеет чин, чина».
У ШМЕЛЕВА СМЕШНОЙ рассказ «Как я ходил к Толстому». К Толстому он не попал, а услышал рассказ о банщике Ванюшке, который все «графа читал. Читал-читал, в башке-то у него и замутилось, он веники и поджег».
АВТОР «ГРАММАТИКИ» Мелетий Смотрицкий, первопечатник Иван Федоров - это все монахи. Университеты России созидает церковь. Да-да. Проверьте.
БУНИН ВЕТХОЗАВЕТЕН. Звериное брожение чувств, обоняние, осязание, плотскость. «Солнечный удар», что тут? Блуд и похоть. «Темные аллеи» действительно темные по смыслу. Даже «Чистый понедельник». Утром идти в монастырь, дай напоследок потешусь, будет что вспоминать. Он, страдая, «пил коньяк чайными чашками, надеясь, что разорвется сердце». Это любовь? «Захар Воробьев», зачем? И все так написано, что все видишь: цвет и свет, и все слышишь. Конечно, очень действует.
ЯЗВА ЖЕЛУДКА все-таки лечится, но язва либерализма живуча, от нее сплошная непрерывная изжога. Неужели она навсегда? То язва обостряется, то притихает, но жива. Наворовали и опять хотят воровать. Снова хотят управляемого хаоса. Царство зверя сформировано, но зла пока не накоплено для захвата полной власти над Россией.
И вся злоба мира опять на нас. Но «мы гонимы миром, но не оставлены Богом».
ДЬЯКОН С ТАКОЙ скоростью проходит по церкви с кадилом, что свечи гаснут. Он же за трапезой, вставая с бокалом, поет басом: «Много ли это, много ли это? Мно-о-о-го - ли э-э-то?»
Благочинный жалуется архиерею: «Мыши одолели». - «Да откуда же они?» - «Из пола эти деспоты».
АБРАМОВИЧ НЕДОВОЛЕН своей фамилией. Просит поменять. «Пожалуйста, но в фамилии должно быть прежнее число букв и такое же окончание» - «Пишите: “Рюрикович”».
ЖЕНЩИНА: «НЕ надо монетиризировать отношения с мужчинами. Чревато».
ВЫСТУПАЕТ ГЛАВА администрации. Я думал, чей-то охранник.
ПОДПИСАЛ ДОГОВОР с издательством. Параграф первый лишает меня всех прав, остальные угрожают мне штрафными санкциями.
КОНЬ И КОЗЕЛ
В журнале «Крокодил» была моя первая публикация в центральной прессе в 1962 году. Публикация не так себе, из жизни. Как получилось. Я уже был старшиной дивизиона, и на мне очень много всего висело, всякого имущества, и пирамиды с оружием, и кровати, и постели, и всякие щиты и тумбочки. А на тумбочках салфетки, на салфетках графины. Тазы,
ведра, щетки, шкафы с шинелями, а кроме того огромный набор для занятий спортом: мячи, ракетки для настольного тенниса, сетка для волейбола и корзины для баскетбола. Все было подотчетным. Были и спортивные снаряды покрупнее: трапеция, перекладина, «конь» и «козел». Через них прыгали. «Конь» был зело истрепан, «козел» еще держался, но просил ремонта. Я пошел к начальнику спортслужбы: «Товарищ майор, разрешите “коня” списать, а “козла” отремонтировать». - «Садись, пиши рапорт». Я сел и написал. Майор наложил резолюцию, которую я и послал в «Крокодил», в отдел «Нарочно не придумаешь». И напечатали! Еще бы, очень лихо звучала резолюция: «Разрешаю ободрать коня для ремонта козла».
ВНУК: «ПОУЧЕНИЕ младшей сестре (после прочтения «Поучения Владимира Мономаха»): Сестра моя, прочитав эту грамотку, не ленись и старайся выполнять все, что в ней написано, да трудись усердно.
В школу поутру пораньше собирайся, братика не задерживай, в школе учись прилежно, во всем слушайся учителя. После уроков дедушку, или еще родных кого, не задерживай, в столовую с подругами не ходи. В раздевалке одевайся быстро.
По приходу домой переоденься, да с молитвой за еду принимайся, ну а после еды за уроки с молитвой садись. А как сделаешь уроки - книжку полезную почитай. А потом ложись спать пораньше, чтобы утром встать было полегче.
Родных не обижай, слушайся старших, не упорствуй. Маму с папой во всем слушайся. И главное - не ленись.
Если будешь следовать этой грамотке, то все у тебя в жизни сложится и хорошо будет».
БАТЮШКА В ШКОЛЕ, тема «Шестоднев. Сотворение мира». День шестой. Сотворение человека по образу и подобию. С последней парты: «А папа сказал, что мы произошли от обезьяны». Батюшка: «Мы сейчас говорим об истории сотворении человека, а историей вашей семьи надо будет заняться отдельно».
ТАТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ: «В детстве нацменом меня называли, че-плашкой». - «Ты обижался?» - «Да зачем?»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА надгробных памятников. «Предварительные заказы, безплатная доставка, номер телефона...»
ПРОСИТЕЛИ. У МЕТРО, на вокзалах, на перекрестках. Стандартные картонные плакатики. Фломастером. В основном: «умирает мама», «собираю на операцию ребенку», «потерял проездные», «украли документы». Но есть и с выдумкой: «на озеленение Луны», «негде ночевать», «поссорился с тещей». Сегодня читаю у молодого парня: «Тупо на билет». То есть нет денег на дорогу. Куда денешься, хотя настоящих нищих гораздо меньше, чем «стрелков», надо подавать. Сидит на стульчике, в руках сотовый, тоже просит. Но вообще-то посиди-ка, постой-ка. Только надо обязательно говорить, за кого подаешь милостыню, за кого просишь молиться. Чтобы и ему спасаться: отрабатывает полученную сумму.
ГОВОРЮ ПЕВИЦЕ: «Какая ты красавица!» Она: «Работа такая».
ПЛОТНИК НЕСЕТ в мешке за спиной двуручную пилу. С ним жена. «Ты с женой?» - спрашивает знакомый. - «Да, за спиной сидит». - «Кто?» -«Моя жена, моя кормилица». - «Так, а это-то кто?» - показывает знакомый на жену. - «Эта-то? Это пила», - отвечает плотник.
- ПЬЕМ ЗА ВСЕХ, но за Иван Ваныча надо выпить отдельным пунктом. Иван Иваныч, за то, чтоб ты у внуков на свадьбах погулял золотых! Оп! И между первой и второй перерывчик небольшой, выпьем также за твой... гроб, который сделаем из дубовых досок, которые будут напилены из дуба, который вырастет вот из этого желудя. Оп! А в завершение троекратное ура: два коротких, третий с раскатом! Ура! Ура! Ур-а-а-а-а!
ДАВНИЙ ЗНАКОМЫЙ Богомолов, которого зову «Константиныч», как и он меня - «Николаич» - очень мне во всем помогает. Хромой, ездит на велосипеде. Держит коз, двадцать кур, хозяйство хлопотное. Дети грабят. Приучает внука к работе электрика. «Кабы не “просрочка”, как бы жил». Просрочка - это списанные просроченные продукты. Иногда очень впечатляющие. Окорок, колбасы. Он их отваривает. Конечно, выпивает, но не перебирает. Утром все равно очень себя ругает. Не опохмеляется. Но, как говорится, как ни бьешься, а к вечеру напьешься.
- Мыши спать не дают, зубы как у крыс.
- Заведи кошку.
- Пробовал. Ночью «мур-мур-мур, мур-мур-мур, а потом как прыгнет на грудь, я испугался, отшвырнул ее, да в лампу. Свет погас, короткое замыкание. Вставай, ремонтируй. Нет, не надо кошки и собаки не надо. Соседка Анна Петровна приходит: «Володя, возьми Волчка у моей сестры». - «Не возьму ни за что!» А она, оказывается, уже сестре пообещала, что я Волчка возьму, соврала, что ищу собаку и ее просил. И поставила себя в такое положение. Поехала к сестре, взяла Волчка, посадила в сумку. Сестра потом спрашивает: «Ну как мой Волчок, понравился соседу?» А Волчок уже колеса смазал.
- Как?
- Так. Его Анна Петровна высадила на платформе. И приходит, дура, и говорит: я так плачу, так плачу, жалко Волчка. А жалко, так зачем не привезла?
- Ты же отказывался.
- Отказывался. А если б привезла, куда б я делся? Кормил бы. Какие проблемы? Я этого Волчка и не видел совсем, а переживаю. Кто накормит, а кто и пнет. - Володя берет стакан. - Командир, ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. (Он служил на Сахалине.)
Неожиданно рассказывает про русского силача Лукина.
- Французы отбили у нас четыре пушки. Он схватил банник, это такая артиллерийская дубина, стал махаться. А бывало и солдата ихнего схватит и им машет, дорогу прокладывает. Только ядром смогли его убить.
«АНТИГОНА» СОФОКЛА, можно сказать, очень христианская трагедия. Она хоронит брата, хотя он объявлен государственным преступником и его запрещено предавать земле. Но она исполняет волю богов, а не приказы земного царя.
ВЕЛИКАЯ ТРИАДА античности: Сократ - Платон - Аристотель тоже предтечи христианства, ибо не были многобожниками, говорили о едином Боге. «Вы приговорили меня к смерти, а вас к смерти приговорил Бог».
И ОПЯТЬ ЖЕ триада, уже немецкая: Гердер - Гете - Шиллер. И русская: Ломоносов - Державин - Пушкин. Они спасали монархии, последние в Европе. И не спасли - много зла навалилось на наши страны со стороны и много грехов накопилось внутри стран. Нас перессорили, вот и сказке конец. Но мы все-таки выжили. Немцам тяжелей: протестанты.
«ОТЕЧЕСТВА И ДЫМ нам сладок и приятен» - строка Державина, которую взял эпиграфом Федор Глинка к стихотворению «Сон русского на чужбине». Оно длинное, интересное, а сердцевина его - это великая народная песня «Вот мчится тройка почтовая» (у Глинки: «И мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой, и колокольчик, дар Валдая, гудет, качаясь под дугой». В финале: «Зачем, о люди, люди злые, зачем разрознили сердца? Теперь я горький сиротина... И вдруг махнул по всем по трем. Но я расстался с сладким сном - и чужеземная картина сияла пышно предо мной: немецкий город, все красиво. но я в раздумье, молчаливо вздохнул по стороне родной»).
В застольи эту песню исполняли не по разу. Помню, что пели: «Зачем, зачем вы, люди, злые, зачем разрознили сердца?» То есть вопрос: почему вы, люди, злые?
«Сон русского на чужбине» напечатан в «Литературной газете» в № 49 за 1830 год. То есть Пушкин несомненно знал эти стихи. Но, думаю, запели их не сразу. А когда слушаю «упоительного Россини, Европы баловня, Орфея», то знаю, что Пушкин этим звукам внимал.
ВМЕСТЕ С МОРОЗАМИ никольскими окропление дождем водо-святного молебна. Думал, опоздаю на службу. До Никольского час езды.
Выскочил почти в полдевятого. Не успею. Но успел! Как? Необъяснимо! До метро минут 7-8, как ни спеши, в метро минут 25 (вниз-вверх), на маршрутку, на ней тоже не менее 20-25. И вот - успел. Летели как по пустоте, все на зеленый. Вхожу - «Благослови, Владыко!» - «Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа!»
После причастия и молебна в домик. Там чудо - лампада горит. А не был давно. В колодце вода есть - тоже счастье. Но вот топить баню безполезно, то есть не успеть за день. Часа два топил - лед в баке еле-еле оттаял. А ведро с водой, которое по разсеянности забыл в предбаннике, льдом порвало. Поеду домой. Слава Богу, нужен семье.
Жена лупит пьющего мужа: «Будешь еще?» - «Нет!» - «Будешь еще?» -«Нет!» - «Будешь еще?» - «Наливай!»
И ласковый вариант: «Ты же видишь, как тебе плохо. Обещай, что ты больше не будешь пить». - «Больше не буду. Но и меньше тоже».
ПИЛИ, ЧТОБ поговорить. Узнают чекисты, простят, мало ли что, по пьянке раздухарились. А трезвый разговор о том же - это заговор.
ДАНО: ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ женщина-математик выпила бутылку водки. Вопрос: На какой икс ей понадобилась целая бутылка?
ПОДРУГАМ ОТ МАЛОЛЕТКИ: «Девочки, не жуйте серу, я от серы умерла. Кабы серу не жевала, я б сейчас еще жила».
- МАРУСЯ ТЫ, МАРУСЯ, Маруся, открой глаза. Маруся отвечает: «Я умерла, нельзя».
ЧЕМ МЫ ЗАБИВАЛИ (то есть нам забивали) головы, на что гробили время? Борцами за мир, Раймондой Дьен (балет даже о ней был), Манолисом Глезосом, кто их сейчас помнит? Возвышали голос за темнокожих Нельсона Манделу, Поля Робсона и Анжелу Дэвис, Мартина Лютера Кинга... Тонны бумаги, тысячи и тысячи часов эфира, сотни собраний, кому это было нужно? Партии? Бесам это было нужно, чтобы оттянуть нас от проблем России. «Нельсон борется Мандела, чтоб жизнь негров посветлела. А у нас уж сколько лет негры есть - Манделы нет». Не должно нам быть дела до других. Верните нам времена железного занавеса! - «Как? - слышу возмущенный крик, - а всемирная отзывчивость русских, а речь Достоевского?» Да что мне с той отзывчивости? Рубаху из нее не сошьешь, я и так уже все последние отдал, и что? И хожу в клятых москалях. Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживешь. Свою надо было экономику и мощь крепить, а всякие идеологии сами отвалятся.
Не надо смотреть телевизор, не надо! Эти говорящие головы, эти сидячие и стоячие мешки, набитые мусором знаний. Они очень вредны. Все знают, во все лезут, везде суются, такими болтунами наполнены все средства информации. Раньше от вранья перегорали провода, горела Останкинская башня, сейчас электронное пространство вмещает его (вранья и пошлости) сколько угодно. В это цветное болото экрана не надо ступать - захлебнешься.
ПРИМЕРЫ ОХМУРЕНИЯ УМОВ
Пятый до нашей эры называют веком Перикла. До него возрастал авторитет разума, при нем появляются софисты. Выразитель их идей Протагор провозглашает человека мерой всех вещей. Но это путь к нигилизму и разобщенности. Люди неодинаково воспринимают окружающий мир. Истина у каждого своя. Начинает цениться тот, кто заставит других считать его точку зрения единственно правильной. Вот пример доказательства: Ученик договаривается с учителем о плате за то, что учитель выучит его побеждать в споре. Выучился. Не платит. Почему? - «Ты должен был выучить меня убеждать, вот я и убеждаю тебя, что я тебе ничего не должен». Но учитель отвечает: «Если ты меня убеждаешь, значит, ты выучился и должен платить, а если не убеждаешь, все равно должен, так как ты не убедил меня не брать с тебя деньги». Каково?
Или хрестоматийный пример - философ заявляет: «Все критяне лжецы». - «Но ведь и ты критянин, значит и ты лжец. А раз ты лжец, значит ты сказал неправду, то есть критяне не лжецы, а раз ты говоришь правду, но ты критянин, значит, ты лжец...»
Такие сказки про белого бычка владели умами.
Спасительным для античной мысли было явление Сократа. Аскет, смиренно терпящий визгливую жену Ксантиппу, он исследовал явления и теории, а не доказывал.
Софистов античности сменили схоласты средневековья. Вновь (Джон Локк) зазвучала тема чувств. И в самом деле, нет того в мире, чего бы мы не познавали с помощью чувств. Но опять же - одному в комнате жарко, другому холодно, одному кажется, что до города далеко, другому близко. Что же может повлиять на чувства, управлять ими? Конечно, разум (Кант). Но и тут не стыковывается, разум у всех неодинаковый. Что же и кто же управляет разумом? Воля. Вот слово Ницше, Шопенгауэра. Тут подоспел племянник английской королевы, произошедший от обезьяны, Чарльз Дарвин с теорией эволюции. Благодаря ему в мир пришел фашизм. Как? Но посудите сами: если человек произошел от одноклеточных, выполз на сушу, оброс шерстью, взял в руки палку, сшиб банан, начал ходить, дошел до печатного станка, он же не остановится, он же пойдет дальше. Куда? От обезьяны к человеку, а от человека - к сверхчеловеку. Не всем такое дано: арийцам дано, а славяне - это унтер-менши, низшая раса. Ломброзо стал измерять черепа. Чего только не вываливалось из обезбоженных умов на одураченные массы двуногих.
Какая там эволюция, чего болтать? Как был Адам, как была Ева, так и остается. Естественный отбор? А это не оправдание фашизма? Слабый? Уступи место сильному.
- ОЙ, СОВСЕМ-СОВСЕМ сна нет. Таблетки горстями пью. - А ты вечернее правило полностью читаешь? - Да ты что, да когда, я так много работаю, часов до двух, до трех. - Так откуда у тебя сон возьмется? Обязательно читай правило, да до полуночи ложись. - А работа? - Она сама сделается. Твое дело молиться.
ВЛАСТЬ ЗАХВАТЫВАЕТСЯ в основном обманом, враньем, также оружием и золотом. Как власть удерживается? Опять же враньем, опять же обещаниями и... поисками врагов. Никогда никакое предвыборное обещание не было выполнено. Ну, может что по мелочи. Дела идут плохо, а власть надо удержать, надо уберечь наворованное. Вызывается из небытия призрак врага. «Мы такие хорошие, но нам так мешают сделать вас счастливыми». - «Кто?» - «Да вот эти, что поносят нас на каждом углу». Отбились от них, откупились (жесткий вариант - посадили), а дела не улучшились. Тогда сообщается: это были явные враги, а есть еще тайные, замаскировались, гады. Этих убрали. И опять ничего не получается. Тогда нужна война. Талейран, переживший нескольких королей, приходил к очередному и говорил: «Ваше Величество, дела плохи, начинайте войну». Война списывает все, войны боятся, в войне дети начальников и мафиози не гибнут.
И все-таки, все-таки - есть правда и на земле - нечестными методами власть долго не удержать. Ибо есть в мире главная власть -власть Духа Святаго. Искать его, прибегать под Его милость - вот прибежище для тела и души. И тогда насколько мелкой и смешной покажется власть постоянных временщиков. Но и за них будем молиться: завещано святыми отцами. Тем более опыт истории (а он все-таки копится, этот опыт) говорит, что лучше пусть плохая власть, чем безвластие.
- ДА ОН ХУЖЕ ЕВРЕЯ: еврей всегда хоть какую выгоду ищет, а этому ничего не надо, лишь бы нагадить. Таких и описывать не надо, сто раз описаны. Тот же Опискин, Смердяков тот же.
НА ВЫСШИХ КОМАНДНЫХ курсах «Выстрел» сел за рычаги танка. И завел, и нажал педаль. И танк с такой готовностью, с такой легкостью пошел, так быстро набрал скорость, что резко захотелось ехать на нем, чтоб кого-то от кого-то защитить и освободить. Именно так. А не ехать, чтоб на кого-то напасть.
- ДЕВКИ УХ, БАБЫ УХ, - раскричался наш петух. - Надоели нам девчата, переходим на старух. Нам молока бы с булочкой да на полати с дурочкой.
- Бабы в кучу, девки в кучу: я вам чу-чу отчубучу. Девки все, бабы все: даму я нашел в овсе. Кудревата, без волос, сидит, жубринькает овес. Мы не будем зареветь, будем засмеяться. На горе-горе высокой, мы на горушке живем. Мы нигде не пропадали и нигде не пропадем.
ДЯТЕЛ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ опоре. Долбит. Да. Вижу такое впервые. То есть или он сошел с ума, или в железобетоне завелись личинки каких-то неведомых науке жучков. Рассказал о дятле жене. Она: «Его можно понять. А я вообще без передышки в стрессе».
В НАЧАЛЕ ДЕВЯНОСТЫХ русский из Америки говорит мне с тоской (идем по Охотному ряду около университета, напротив Манежа): «На фасаде церкви мученицы Татианы (показал) были слова: “Свет Христов просвещает всех”. Как их вернут - поверю в возрождение России».
И что? И вернули. Слава Богу. Но тут же и рядом и напротив на зданиях громадные щиты - реклама косметики. Красивые порочные лица. Тут же щиты - вывески, реклама банков, фондов недвижимости. Свет Христов никак их не просветил. В плену оказались слова.
ДВА ВИДА ЖЕНЩИН: Одна - это старуха из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Все знают, чем оканчивается ее ненасытные желания власти и богатства: сидит у прежней землянки и «перед нею разбитое корыто». Еще же у Пушкина было желание старухи «стать римскою папой».
А вот другая жена, это тоже из сказки, так эта жена самая желанная из всех жен. Пошел муж продавать корову, далее у него неудача за неудачей: выменял корову на жеребенка, жеребенка на теленка, теленка на поросенка, далее будут и гусь, и петух, и курица, цыплята, там и иголка. Возвращается, виновато во всем признается перед женой. А она рада иголке: что муженек ни сделает, все к лучшему.
Вот так вот. Причем такая жена быстрее воспитает мужа своей любовью, покорностью, нежели жена властная, вроде бы умная, а на самом деле дура дурой. Ну, как можно: муж только еще рот открыл, а она уже перечит. Что бы ни сказал, она перечит, что бы ни сделал, все не так.
ВОТ ЭПИТАФИЯ: «Умер я, ничтожнейший из людей, воспитанник монаха, воспитатель царей». Сия надпись долго восхищала меня, а теперь кажется, что и в ней проглядывает гордыня. Вот я ничтожнейший, а вот я такой наинужнейший.
МЕНЯ ДОПРАШИВАЮТ: «Алтай видел?» - «Да». - «И что?» - Он прекрасен. Но жить там я бы не смог». - «А Питер?» - «Да, удивительно, нужно, но жить там я бы не хотел». - «А Краснодар? Киев, Иркутск, Пермь, Оренбург, Камчатка?» - И все это замечательно, как и Вологда, Белгород, Минск, даже Рига, даже Кишинев, Ереван, что говорить, даже вся заграница, которая обращалась ко мне только лучшими сторонами. Неаполь, Капри, Палермо, еще бы! А Ближний Восток? Боже мой! Запахи его утренних улиц, запахи свежеиспеченного хлеба, кофе, корица, свежий миндаль в бумажных пакетиках. Палестинские лепешки Вифлеема - города хлеба! И много значит для моей души все Средиземноморье, Крым, северная Африка, Синай. Боже милостивый! А Монголия, Китай, Япония! Все это было открыто для ума и сердца, все полюблено навсегда. А ведь надо отблагодарить.
Но жить бы я смог только в Вятке. А в Москве живу вынужденно, временно. Временно? Уже пятьдесят пять лет? Да, и что?
СВЯТО МЕСТО не бывает пусто. Это о сердце. Царство Божие не создается вне сердца.
КАЗАЧИЙ ХОР. Почти с восторгом: «А наши казаки славные рубаки, они погибают за веру свою». И далее: «И волной польется горячая кровь». Все-таки, все-таки... не знаю даже, что и сказать. И представить волну горячей крови не могу.
Композитор, сидящий рядом: «Русские струнные и ударные уже сказали кое-что. Духовые, медные еще скажут».
ДАВАЙ НЕ ЗАКУРИМ
Сильно хвалимый поэт в залетном усердии писал потом часто цитируемые строки: «Не до ордена, была бы родина с ежедневными Бородино». Интересно, он знал, сколько наших воинов погибло в Бородинской битве? Знал? И желал, чтоб это свершалось ежедневно?
Или. Ахали над песней «Давай закурим». Курить вообще-то вредно. Но там еще и такое: «Вспомню я пехоту и восьмую роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить». Думаю, а вот если бы не дал закурить, так и не вспомнил бы? А ведь вроде вместе воевали, под бомбежками лежали, в атаку ходили, а вот не буду вспоминать: закурить не дал. Табаку не было? Курить бросил?
ИНТЕЛЛЕКТ - ПОПЫТКА заполнить пустоту сердца знаниями о накопленной культуре. И оправдываться словами: гармония, контекст, подтекст, надтекст, уходить в термины, что вроде бы и умно. А это путь в поглупение.
ПРИГЛАШАЮТ В ШКОЛУ выступить перед учениками. Никаких сил. Но духовник сказал: «Когда тебя куда позовут, то сам решай: идти -не идти. Но когда пригласят к детям, все бросай и иди».
ВЕЛИК ДЕРЖАВИН! «Восстал всевышних Бог, да судит земных богов во сонме их: Доколе, рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых... Ваш долг - спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать безсильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют! Видят - и не знают! Покрыты мздою очеса, злодействы землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари! Я мнил - вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны, и так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет! И вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет!
Воскресни, Боже! Боже правых! И их молению внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь Един царем земли»!
Да, впечатляет. Не внемлют, дряни, не читают, «покрыты мздою очеса». «Дряни» это я для размера поставил. Не дряни они, эти подголоски доллара, хуже. Вот, Гавриил Романович, до чего мы дожили. А после вас все пошло на спад. Еще Пушкин и Тютчев держались, а потом под горку. «К топору зовите Русь». У Некрасова «муза мести и печали». И эти сопли: «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». И совсем слабенько у Блока: «Не спят, не помнят, не торгуют».
У Николая Дмитриева сильно о демократах: «Не прощай им, Боже, ибо знают, ведают, собаки, что творят».
ПЕСНИ ВОЕННОГО и послевоенного времени, благодаря тогдашнему радио и кино, были известны повсеместно и моментально вся страна их пела. Это тоже очень сплачивало. По радио даже была ежедневная передача «Разучиваем песню». Диктовали слова. Думаю, простительны тут и шуточные переделки и доделки. Хотелось же тоже быть поэтом. «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, умирать нам рановато, есть у нас еще дома ... нет, не дела... жена, да не одна!»
«С неба звездочка упала на прямую линию, меня милый перевел на свою фамилию». «С неба звездочка упала прямо милому в сапог. Милый дрыгал-дрыгал-дрыгал, никак выдрыгнуть не мог!»
Это «выдрыгнуть» меня восхищает.
ПОЛВЕКА
Пятьдесят лет в Москве, уже больше - это как? То есть как выжить на асфальте человеку, пришедшему в город от земли, от реки, от леса, от просторных полей, от пения птиц, как? Все время стремился иметь хоть какое-то местечко за городом, куда можно было бы убегать из Москвы. Ведь в
Вятку далеко и дорого. И были варианты, и многие места облюбовал, даже и примерялся к покупке. Но не было никогда денег для покупки. А уже только к пятидесяти годам собралось так враз, что вышел двухтомник в «Молодой гвардии», и «Ленфильм» (или «Мосфильм» - забыл, неважно) ахнул (а киношники хорошо платили) большую денежку и - вот счастье, слава Тебе, Господи, хватило денег на покупку полдомика в Никольском. Это как раз та самая берлога, куда множество раз уползал зализывать раны. В шестьдесят получил в аренду дачу в Переделкино, но это совсем не то. По сравнению с остальными переделкинскими - конура собачья. И то спасибо. Но это не навсегда. Помру - родных моих оттуда быстро выкинут. Да и правильно, тут все крики и ссоры как раз из-за желания арендаторов вцепиться в дачу намертво. Не люблю Переделкино. Вот выходишь днем, а навстречу исторический романист, ужас! Кинулся от него в переулок, а там два поэта. Свернул в сторону - там поэтесса. Вот и попиши после этого. А самолеты Внукова все это и озвучивают и заглушают.
В Никольском писателей немного, то есть совсем мало, то есть совсем я один, помеченный роковой страстью писать о временах протекших и протекающих и начинающих протекать во времена грядущие. Тут можно прочесть гордыню, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, и радость, что не выбредет навстречу конкурент, но это не так. Человек, пишущий в Никольском, в Никольском вовсе неизвестен. Знает меня только батюшка, да несколько прихожан нашего храма, да и они уже прочно забыли, кто я и что я. В Никольском мне просто рады как односельчанину, смотрят на меня (мужская половина), как на дурака, но и как на нужного человека, у которого можно занять на поллитра и никогда не отдать. Ближайшие соседи, дочери и зятья умершего моего друга Кости, приняли на себя заботу обо мне, как эстафету от отца, и им абсолютно плевать на мои бумажные труды. С боязнью и трепетом отдавал я им на прочтение повесть о Косте «Прощай, Россия, встретимся в раю», и они, по-моему, ее не прочли. А ведь там они все упоминаются. А узнав, что писательство не только не кормит, а загоняет в могилу, что я давно и прочно сижу на шее жены, сказали: «Дурью маешься».
ТО, ЧТО Я СОБИРАЮСЬ предложить читателям, по идее, должно быть предлагаемо и читаемо после смерти автора. Но не хочу, чтоб в моих бумагах рылись, разбирая мои каракулизмы, рад даже двум московским пожарам, в которых горели и книги, и картины, и иконы, и рукописи. А рукописи горят, сообщаю я поклонникам Булгакова. И ваш Воланд близко не посмеет подойти к моим запискам: они не для хохмочек, а о поиске Бога.
Записки свои поневоле помещаю вразброс, как выпадают кости в игре. Всегда мне казались незначительными мои листочки, и я не помечал их ни датой, ни местом, в котором они сделаны, это или ясно из них, или нет, да это и неважно. Видимо, это было важно Розанову: на бричке, за разбором монет. Ни бричек у меня, ни нумизматики. Вот сейчас выходил: льет на террасе, льет на крыльце, ясно, что весна, ясно, что плохой хозяин. Насыпал утром крошек в кормушку, гляжу - нетронуто. Ну, конечно, сейчас корм для птичек вытаивает повсеместно. Правда, один снегирек сделал одолжение, потюкал клювиком мне в утешение, мол, не зря ты старался.
По радио «Орфей», Гендель, «Аллилуйя». Только финал и захватил. Что ж раньше не включал? Чистил картошку, было желание включить. Включу, думал, а пока руки мокрые. Но церковная музыка оттого и зовется церковной, что слушать ее надо в церкви. В последнее время незабываемы по силе и молитвенности три патриаршие службы: в Успенском соборе, в Никольской часовне у храма Христа Спасителя, где икона «Державная», и в Архангельском соборе Кремля. Великопостные поклоны свершал у гробницы Алексея Михайловича, а после службы студент из Академии провел в алтарь к захоронениями Иоанна Грозного и его сыновей. В Успенском отец Иосиф привел к раке святителя Петра. Именно на ней сама собой загорелась свеча, которую взял с собою митрополит Алексий, поехавший в Орду исцелять ханшу Тайдуллу. (В Ельце мне говорили, что эта Тайдулла - вдова елецкого дьякона.)
Иду подбрасывать дрова в баню. С приемничком иду, а то прокараулю еще что хорошее. Да, в утешение арии из оперной классики.
«Сила судьбы», опера Верди. Арию Альваро поет Бенджамино Джильи. Да и кто бы ни пел, мне и Марио Ланцу хорош и Лучано Поварот-ти, и Хворостовский, но мистика в том, что запись этой «Силы судьбы» была осенью 1941-го года, а уже война, время моего появления на свет. «Всех вас в бане купали, где еще, - говорит мама. - Маленьких в таз сажали, постарше в корыто. Который слабеньким родится, того чаще купали. Начнешь купать, он и ест лучше, и растет». - «А я слабеньким родился?» - «Ты? - мама думает. Мы сидим в сквере посреди Вятки, гудят машины. Мы выползли на воздух, ходили в сберкассу платить за квартиру. - Ты? Да нет, крепенький. А и с чего слабеньким-то быть. Хотя и война началась, но ведь корова, молоко, зелень своя. Картошка не на химии, овощи, на воздухе целыми днями. Работали. Вы от работы не бегали, из-под палки не работали, все сами. Работа есть жизнь. - Мама молчит, двигает костыликом желтый листок, поднимает лицо к небу. -Смотри, облака. Коля всегда, когда сенокос, особенно когда мечем, на небо поглядывает, замечает: “Это порожняк, - то есть туча не грозовая, легкая, пронесет, - а эта появилась грузовая, надо поспешать”».
ПОЗДНО ДО МЕНЯ дошло, что мои родители очень любили друг друга, очень. И если мама иногда (за дело) ругала отца, то он ей полслова не перечил. Ох, нам бы с женой и сыну, и дочери дотянуться до такой любви. Ведь как тяжело жили, ничего не нажили, дома своего не было, а детей всех в люди вывели. Да и за что мама ругала отца? Вот мы приехали, он на радостях выпил капельку, а уже слаб, немножко распьянел. Поговорить ему хочется, а мама гонит отдыхать. «Иди спать, не позорь меня перед городскими». А какой позор? Все мы свои.
Но он не засыпает, он знает, что сын придет, принесет «для возбуждения сна» рюмочку.
«ТРЕЛЕБУС»
Так говорил отец. Не «троллейбус», а «трелебус». Уверен, что он говорил так для внуков, которые хохотали и поправляли его. Но и они понимали, что дедушка шутит.
И вот ушел отец мой, мой дорогой, мой единственный, не дожил до позора августа 1991 года, а я, как ни еду на троллейбусе, все улыбнусь: трелебус. Еду мимо масонского английского клуба, музея Революции, теперь просто музея, и мне смешно: какие же демократы самохвалы, в зримых образах хотели воспеть свои «подвиги». А что зримого показать? Нечего показать. Так нет же, нашли чего. Притащили от Белого дома (им очень хотелось, чтобы у нас было как в Америке, чтоб и Белый дом, и спикеры, и инвесторы, и ипотеки: демократы - они задолизы капитала), притащили во двор музея троллейбус в доказательство своей победы. Написали «часть баррикады». Смешно. Карикатура. Но ведь года три-четыре торчал этот трелебус около бывшего масонского клуба. Около ленинского броневичка, якобы с него он и выступал. Ельцын Ленина переплюнул, вскарабкался (вернее, его втащили) на БТР и, хрипя с похмелья, сообщил восторженным дуракам, что демократия облапошила-таки Россию. Захомутала, задушила. Мужиковатая Новодворская в восторге. Жулики ожили, журналисты заплясали.
Победили демократы не коммунистов, они и без них бы пали, временно победили русскость. Пошли собачьи клички: префект, электорат, мэр, мониторинг, омбудсмен, модератор и особенно мерзкое полицейское слово «поселение» (У Гребнева: «Не народ, а население, не село, а поселение. И уходит население в небеса на поселение»).
А и как было не засыпать нас мусором этой словесной пыли, если многие господа интеллигенты с восторгом принимали любую кличку названий предметов и должностей, лишь бы не по-русски. Хотя русские слова точнее и внятнее. Это как хохлы - лишь бы не по-москальски.
Так что и у них свои «трелебусы».
ЧАЮ, ЧАЮ НАКАЧАЮ, кофею нагрохаю. Я отсюда уезжаю, даже и не взохаю. Мы с товарищем гуляли от зари и до зари. Что мы делали, товарищ, никому не говори. Я вам покорен, иль покорен? А чай заварен иль заварен?
ОПЯТЬ Я В НИКОЛЬСКОМ. Ни льда, ни снега, обнажилась земля. Какие слова! - обнажилась земля. Но обнаружились и отходы зимы, надо убирать, приводить в порядок красавицу земельку.
Такое тепло, так засияло солнце, когда зажигал лампаду, что... что? Что не усидеть дома. Тянет на землю. Тянет на землю - это ведь такой магнит! Господи Боже мой, слава Тебе, что я родился на земле, что жил в селе. Помню пастушеский рожок, он уже навсегда со мною, помню след босых ног на матовой холодной росе, - все это уже отлито в бронзе памяти. А купание в последний день учебы - это же Вятка, север, холод, но! - «Прощай, мама, не горюй, не грусти!» - кричим мы, хлопаясь в ледяную воду Поповского озера и героически, специально не спеша, выходим из него, шагая по шероховатому льду на дне. Выходим на берег, на землю. «Земля, - кричали моряки, измученные плаванием, - земля!»
И еще баня. Нет на планете чище народа, чем русские. Убивают парфюмерией запахи пота и тела французы, американцы, англичане, неохота перечислять. Русские моются в бане, парятся, скатывают с себя грехи. Называется: окатываться.
Затопил. Не так уж и плохо входить в баню, неся подмышкой симфонический оркестр, исполняющий увертюры Берлиоза. Может, и «Шествие на казнь» будет? Да, дождался. Да, звучит, да, прозвучало, прошло. Было «Шествие на казнь», а я на казнь не ходил, ходил в баню. Вот это и есть интеграл искусства и жизни.
СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ. Сжигаю мусор. Сотни раз сжигал. Сотни раз прилетали скворцы, выводили птенцов, становились ненужными птенцам. Помню, среди аккуратных дорог около прибалтийского Кенигсберга гнездо аиста. В нем голенастые аистята, а изгнанный ими отец (или мать) стоит внизу на одной ноге и все взглядывает на детей.
Да, ведь надо про троллейбус дописать. Хотел ту мысль выразить, что в троллейбусе меньше металлолома, чем в броневике, что броневичок переживет жестянку троллейбуса. Но что и броневичок тоже рано или поздно пойдет в переплавку, но это должно стать для нас безразличным.
Ходил в церковь за антидором. Вот это покрепче броневика. Думаю, что жизнь моя с того момента, когда я был в Иерусалиме, в храме Воскресения Господня, на схождении Благодатного огня, получила свое завершение, исчерпанность. Ее вершина, ее главное счастье. И уже можно было дальше не жить. Я, вятский мальчишка, бегавший босиком по России, пришел босыми ногами ко Гробу Господню. Это же со мною было. Дня, часа не бывало, чтобы я не улетал мыслями и душой в пределы Святой земли. Одиннадцать раз я ходил по ее пределам. Чего еще желать, о чем Бога просить? Только чтобы дожить, да чтобы не быть никому в тягость. Как мама говорила: «До старости дожила, дай Бог до смерти дожить».
Страшно подумать, а вдруг бы я не был православным. И что тогда? Ведь кто не за Христа, тот против Христа. Господи Боже мой, дай претерпеть до конца и спастись. Ох, как чувствую усиление злобы к себе от врагов спасения, но и защиту чувствую, и спокоен. Но ведь сатана, он же все равно старается укусить. Меня кусать боится: во мне Христос, я же причащаюсь, тогда нападает на тех, кто мне всего дороже, на детей и внуков. Это главное мое страдание.
МОНАХИНЯ В ГОРНЕЙ с кроликом на руках: «Зовут его Зайка. Вы куда?» - «Нам надо на кладбище и в медпункт». Монахиня: «Надо же наоборот, вначале в медпункт, потом на кладбище».
ВЕЧЕР, НАХЛЫНУЛИ и отхлынули жена и теща, и сын. Дружная работа, радость очищения участка от мусора. Целый день костер, дым. Бедные скворушки, и носа не высунули. Только сейчас выскочил папаша, жена, видно, прогнала, посидел на крыше скворечни, взъерошился, встряхнулся и в путь за продовольствием для семейства.
Днем в предбаннике достал старые записи. Одну, давнишнюю, показал Наде. Как мы еле-еле смогли послать ее в санаторий, оттуда она звонила каждый день, ходила на вокзал к московскому поезду, плакала. Я не выдержал, рванул к ней. Весна, жгли костерик в мокром лесу, стояли в церкви на вечерней службе. Я засобирался обратно, она со мною. «Я ни за что не останусь!»
Показал запись, спрашиваю: «Куда ее?» - «Никуда». - «Хорошо, заведем ящик, назовем его “В никуда”».
А в самом деле, все и уходит в никуда. И это даже хорошо.
Скоро запахнет, как всегда, тополиными почками, тонко ощутится запах сирени, нахлынет черемуха, придут черемуховые холода, запылают грядки тюльпанов, забелеют нарциссы, а там и мои любимы флоксы подоспеют. А флоксы - уже знак близкой осени. Их благоухание сродни ладанному.
КИЕВ, ХРАМ СВЯТОГО Великого Равноапостольного князя Владимира. Ну как я могу не пойти в этот храм? Сопровождающие очень даже не советуют: храм захвачен филаретовцами. «Но я же Владимир, как мне не поставить свечечку своему святому? Тем более в храме мощи святой великомученицы Варвары. У меня мама Варвара». - «Хорошо, - соглашаются они, - мы вас проводим до храма, сами в него не пойдем, а вы зайдете. Только свечек там не покупайте, возьмите наших с собой».
(Это еще только-только начинался раскол.)
- ДУРЬ ДА ИГРА не доводит до добра, - повторяла мама. «Дур», «дурь», «дуреть» - все означает «делаться дураком», все однокоренное. «Дурость», «дурачье», «дурнопьян», «дуралей», «дурында», «дурость», в общем сотни и сотни слов о ней.
Дураков не сеют, сами родятся. Снег не дурак, сам растает.
- КОГДА СОЛНЦЕ в окно, то я и нитку в иголку вдену, - говорит мама. И думаю я, а видел ли я ее хоть раз без дела? А встал ли хоть раз в жизни раньше, чем она? Уже и в старости она все делала, вязала носочки (их она тысячи связала), коврики плела. Телевизор, конечно, смотрела. Не так просто, а веря тому, что показывали. Раз приезжаю, она встречает очень расстроенная: «Ой, Володя, он такой подлец оказался, такой нечестный. Говорил: женюсь, женюсь, а сам за богатством погнался. И так безсовестно бросил! Совсем безсердечный! А она так верила! И уже ребенка ждет».
Еле я понял, что речь не о соседях, а о героях сериала. И она верила им. А мой Костя в Никольском так полюбил рабыню Изауру, что и на бутылку бы не променял просмотр серии. А если и выпивал, то только из-за переживания. Накануне была душераздирающая серия, в которой Изаура страдала, издевался над ней хозяин. И Костя утром говорил: «Я еле досмотрел, еле все это перенес, и от горя один бутылку устукал». Фильмы человечные были, без кровищи, без поклонения тельцу, жалели несчастных, сирот, вот и весь секрет.
Легко издеваться над низким вкусом, когда развращен голливудской кинятиной да высокоинтеллектуальной невнятиной.
МАЛЬЧИК ПРИШЕЛ из церкви, рассказывает сестре: «В церкви и ананас есть, только мне не хватило. И другим. Батюшке кричат: “А на нас? А на нас? Нам не хватило!” То есть священник окроплял освященной водой.
- ОН ПРОСИЛ НЕ ГОВОРИТЬ, кто он. - А кто он? - Писатель. - Да его и так никто не знает.
ИРКУТСК, БАМ, декабрь-январь с 73-го на 74-й. «Костер развести без бензина не умеют, а коэффициент требуют. А коэффициент два и один. “Жигуль” могу хоть сейчас купить, но надо “Москвич”. Сейчас вот буду полушубки распределять. Вот будет крику! Валенки получили, уже и это неладно, требуют унты».
В тайге апельсиновые корки. Анекдот: кошка родила котят, все втроем на БАМ хотят. Через два дня: кошка родила котят, двое их, на БАМ хотят. - Было же трое. - Один прозрел.
Сгоревший домик из бруса. В нем человек сгорел. Много кудели. Много собак на ней. Вертолет МИ-6, садится. Ветром от винтов разбрасывает нас как щенков. Вышел писатель, знакомый по Москве. Год не виделись. Резкие перемены. То совместно с евреями издавал книги, теперь: «У меня лозунг: найди еврея и убей его!» У него метод: сказать пятерым какую-то тайну и сказать: говорю только тебе. Потом у него право упрекать любого из них в ее разглашении. Недалек, труслив. «Жить в провинции и не жить в центре, ну это...» Брезгливо пожимает плечами. Уже на москвичке женат. Да Бог с ним.
ШКОЛЬНИК ТОВАРИЩУ: Дай сто рублей, а то отцу твоему скажу, что ты куришь. - Ты же тоже куришь. - Но я же не его сын.
КУРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА. - «А давно ли курящей могли губы вместе с папиросой оторвать».
- ПАУЧИХА ПАУКА убивает, когда он больше не нужен. Также и пчелы трутня выбрасывают. Пчелы в основном бабы. Такие великие труженицы. Я приезжаю на пасеку, кричу: «Здравствуйте, девочки». Они в улье не умирают, не грязнят его, из последних сил улетают. И комары -это сплошь женский пол. Кровь пьют.
Так что мужской пол почти совсем не нужен. Только вот это словечко «почти».
- ПОДАРИЛ СЫНУ «Конструктор». Стал сам собирать. Целый выходной собирал. А написано: детям 3-4 лет.
ИДЕТ С МЕШКОМ, устала. Отдохнула на скамье, резко встает, закидывает мешок за спину. Чуть не сшибла девушку. Та возмущенно кричит. Женщина хладнокровно пошла дальше, только и сказала: «Их еще и не задень».
АНЕКДОТЫ: МЕДВЕДИ, встречавшие людей, думают, что люди живут на деревьях.
Тревожное время России. Все евреи выехали из Питера, осталась только отважная Аврора Крейсер.
- Василий Иванович, вот ведь как холодно, даже Гольфстрим замерз. - А я говорил тебе, Петька, не принимай евреев в дивизию.
Подруге: - Знаешь, видела сон: иду совершенно голая, в шляпе с зеленым пером.И мне так стыдно! - Конечно, будет стыдно, ведь зеленое уже не носят.
ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НАМИ: Иван-дурак, Емеля-дурак, работать не хотят. Но помилуйте, сколько можно работать, когда-то надо и отдохнуть. Сильно ли устанет папа Карло, строгая полено? Много ли перетрудится портняжка, разводя мух, а потом убивая их полотенцем? Емеля велит ведрам самим идти в дом от проруби, велит печке везти его в город, почему? И ведер этих с реки в дом натаскался уже и пешком в город находился. Наработался выше крыши. Хоть немного барином побуду. Нашу бы зиму, наш климат да в Африку, мы б посмотрели, как они будут под бананом лежать и брюхо чесать. Когда лежать, когда чесать, когда дров на всю зиму надо, сено на корм корове, овцам надо, одежду теплую надо, надо утеплить хлев, печку подмазать, подполье упечатать... Да мы, русские, в непрерывных трудах, но ничего никогда никому не докажем. А что не докажем? А то, что мы лучше всех. Я так думаю.
Но в конце концов хай клевещут!
ЯСИР АРАФАТ приглашал меня к себе после публикации в журнале «Москва» материалов экспертизы независимой ассоциации европейских врачей об использованиями израильтянами химического оружия против палестинцев. Тема эта была совершенно закрыта в мировых СМИ.
Впечатление у меня от Ясира Арафата (я был у него дважды, и в Рамалле и в Тунисе) самое нормальное: умнейший человек, человек с юмором, спокойный в своей правоте. Шел пост - рамазан. Официальный прием закончился до захода солнца за минуту. Сели за столы. И застолье было обильным. Интересно, что прием был не в одном зале, а в нескольких. То есть когда мы поглощали еду с накрытых столов в одном зале, то прислуживающие нам палестинцы не убирали при нас использованные тарелки-вилки, а любезно провожали в следующий, уже накрытый, зал. Первые или вторые блюда - я уже не соображал. Спасало только обилие вопросов. Потом это я попытался описать в повести «Арабское застолье». Конечно, тут плюсом и Сирия, и Иран, и Египет, славное время запахов свежего хлеба, молотого кофе, улыбок встречных, постоянного солнца и безстрашия перед будущим.
Но они сами запутались. Шииты, сунниты, ваххабиты, братья-мусульмане... И все жестко уверены в своей правоте. И все ориентированы на Россию: она защитит, она рассудит. Вроде бы уже многократно посрамляли нас пред ними предательства наших правителей, вдобавок идут на Россию накат за накатом волны нескончаемой лжи, а верят.
И нельзя называть «исламским государством» террористическое объединение. Ислам в основе своей не агрессивен. Махаммад никогда не говорил о власти ислама над всем миром, он говорил, что ислам только для арабов.
- Я С ДЕТСТВА ВИДЕЛ эти травы, я рос всегда среди травы. Вы говорите: мы не правы, я отвечаю: мы правыЫ.
ЯПОНСКО-РУССКОЕ. Не сдаются: лягушка в горшке со сметаной, муха на стекле и русский писатель, в которого поверили жена и теща.
- ЧТО ТЫ ВЫБЕРЕШЬ: золото или ум? - Золото. - Ну, ты жадный, я выберу ум. - Каждый выбирает то, что ему не хватает.
НУ НИКАК НЕ хотят люди жить по мере отведенных им сил ума и возможностей. Чем плохо - жить негромко? Нет, надо пыжиться, изображать себя суперменом. Вот я писатель, ну и что? Господь так поставил, и чем мне хвалиться? Я обязан выполнить заданный урок. Выполняю далеко не на пятерку, но, может, хотя бы не двоечник. Счастье именно в скромности и смирении. Закон жизненный я открыл, отвечая на вопрос: как живешь? Ответ сложился не сразу. Был и такой, из анекдота: зануда тот, кто на вопрос, как живешь, начинает рассказывать, как живет. Или другой: подруга подруге: «Почему ты меня не спрашиваешь, как я живу?» - «Как ты живешь?» - «Ой, лучше не спрашивай».
И всех нас спрашивают, и мы спрашиваем. Но зачем же спрашивать, все же сразу видно духовными очами. И постепенно, а теперь уже и постоянно, отвечаю: терпимо. Да, живу терпимо. Очень православный ответ. Хвалиться грешно, жаловаться не по-мужски. Терпимо. А сказать: живу смиренно, - это уж очень нетерпимо.
ГОСПОДЬ ХОДИЛ по земле, а враг спасения ходит по головам, головы крутит.
БАБУШКА О ВНУЧКЕ: Это такая ли модница-сковородница, такая ли тряпочница! Еще титешницей была, кормят ее, она за пуговку кофты у матери ухватится и грудь бросает. Та кофточку переодела - хнычет, требует ляльку обратно. Где что ярконькое, веселенькое, только то и надо. Вот как. Сейчас в магазин приходим - сразу к платьям. А дома все материно надевает, все перемеряет. Накинет платок на плечи и - п-пашла, п-пашла, пальцы веером. И где ей будет такого богатого мужа найти?
- Да ты что! Именно таких-то с руками оторвут, модных-то. С лапочками.
- У ВАС НЕТ ТАКОГО деда, у нас есть такой дедок - ему семьдесят три года, девок любит как медок. Было милочки четыре, а остались только две: одна милочка на вилочке, другая на ноже.
- СВОИ ЖЕ РАСКУЛАЧИВАЛИ, с детства знались. Велят имущество на телеги грузить. Я не стал, отошел к дровам, сел. Сами таскают, сортируют. Я отвернулся. Скорей бы, думаю, милиция. А ее уже вызвали. Милиционеру потом говорю: «Надо было мне не собирать хозяйство, а пропивать, да в начальство идти». Не местный, молчит. С семи лет вкалывал, на сапоги зарабатывал, печничал, потом механизмы пошли. Любой трактор осваивал. Девушку любил. Говорит: «Я бы за тебя пошла, но очень бензином пахнет, не могу». То есть пробрезговала. А красивая. Да и недолго красовалась: приехал из области щелкопер, соблазнил. Потом приходила: возьми, глупая была. А как возьму, уже у ней сын от того, из области. Оно бы хорошо - парень, помощник, да понаблюдал: нет, не будет работник, весь в папашу. А ее всю жизнь жалко. - Задумался. - Теперь уж жалей не жалей, теперь главная жалость: крыса вставную челюсть стащила, где-то в подполье спрятала и по ночам грызет. Днем лазил - не могу найти. Ночь пришла - опять грызет. Вот какие нынче стоматологи - крысам не по зубам. Мне-то крепко протезы забабахали, а одной девушке так себе. Все равно не зря: хоть на свадьбе поулыбалась.
ЗАВСЕГДАТАЙ ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ Яша: - «Роман-с пишете? А? Поняли амбивалентность: романс для голоса с гитарой или роман сло-воерс? А нет там у вас такого изображения героя в родной палестине: он идет и лицом задевает плетень?»
Хохмочками кормился. Почему-то все считали обязанностью ему налить, поднести. «Я еврей, но пью как чеховский чиновник», «Вчера случайно прочел любопытную книжечку. Называется “Библия”».
ПЕРЕЛЕТ В БАРИ с приключениями, то есть с искушениями. Не выпускали. Стали молиться, выпустили. Уже подлетали к Италии, завернули: что-то с документами. Посадили. Отец Александр Шаргунов начал читать акафист святителю Николаю. Мы дружно присоединились. Очень согласно и духоподъемно пели. В последнее мгновение бежит служитель, машет листочком - разрешение на взлет. В самолете читал правило ко причащению. Опаздываем. В Бари сразу бегом на автобус и с молитвой, с полицейской сиреной, в храм.
Такая давка, такой напор (Никола Зимний!), что уже не надеялся не только причаститься, но и в храм хотя бы попасть. Два самолета из Киева, три из Москвы. Стою, молюсь, вспоминаю Великорецкий Никольский -Никольский же! - Крестный ход. Подходят две женщины: «Мужчина, вы не поможете?» Они привезли в Бари большую икону Святителя Николая, епархиальный архиерей благословил освятить ее на мощах. Одного мужчину, мы знакомимся, они уже нашли. Я возликовал! Святителю, отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим!
Конечно, с такой драгоценной ношей прошли мы сквозь толпу очень легко. Полиция помогала. Внесли в храм, спустились по ступеням к часовне с мощами. В ней теснота от множества архиереев. И наш митрополит тут. И отец Александр. Смиренно поставили мы икону у стены, перекрестились и попятились. И вдруг меня митрополит остановил и показал место рядом с собой. Слава Тебе, Господи! Еще и у мощей причастился. Вот как бывает по милости Божией.
ПЕРЕЖИВАНИЕ НАСТУПАЕТ после проживания. Вначале надо просто жить. Но что-то же опережает наши не только проживания, но и переживания. Как понять, что подняло меня в рань-раннюю в Севастополе, в гостинице над городом, далеко от моря, ч т о заставило радостно и поспешно проскочить мимо спящего швейцара и бежать все вниз и вниз, к морю. Тут и дороги не надо было выбирать, спрашивать, где море: море - вот оно! Море, в которое я вбегал в любую погоду, море, обнимавшее меня сильнее и внезапнее любых объятий.
Почему, всегда спрашиваю я себя, откуда в вятском мальчишке зародилась мучительная любовь к морю? Это, конечно, от наших лесов, идущих по горизонту и похожих на морские дали. Я сидел летом на пожарной вышке лесхоза, смотрел слева направо и справа налево на леса, взгляд мой качался на волнистой их линии, и все было очень похожим на море. И так и сбылось.
Я проживал, жил торопливой жизнью, но она не исчезала, а потом благодатно и медленно переживалась.
Это Господь, это Его милость. И моя только вина, что не мог иногда откреститься «от многих и лютых воспоминаний».
И В САМОМ ДЕЛЕ, как я, выросший под завывание метели, гудение хвойных лесов, к а к я полюбил море до того, что не могу без него совершенно. Вдали мечтаю о нем, вблизи млею и отдаюсь на его волю. Как изъяснить счастье - заплыть в синие воды, лечь на спину и замереть, ощущая ласковую вздымающую силу его волн. А лунные ночи! С ума сойти. Сидишь на носу корабля и говоришь себе, что надо пойти спать, что с утра тяжелая программа, всякие дела, но как, как уйти от этой золотой лунной дороги, которую корабль своим движением превращает в серебряную. Как оставить, осиротить звезды и созвездия, этот ветер, этих проносящихся из темноты в темноту ночных птиц, как перестать слушать эти непонятные звуки морской бездны?
Ведь это я не только сам по себе сижу, а стараюсь вспомнить побольше родных, близких, любимых, говорю им: это не только мое, но и ваше. Эта уходящая в бездну вечности ночь, она и ваша.
А ГОВОРИЛИ: ЦЕНЗУРЫ нет. «Вечерний клуб» - газета престижная. Приставали с просьбой дать интервью. Дурак, согласился. Но пришел такой культурный корр, так хорошо мои труды знающий, такие умные вопросы задающий. Интервью взял, унес, принес назавтра машинописный текст. Я вычитал, подписал. Все прилично. Но так долго не печатали, что я ждать перестал.
Звонят: напечатали, высылаем экземпляры. Заголовок «К счастью, наш народ мало читает». Я бы и не спорил, так я говорил, но только в отношении того, какие книги не читает. То есть это лаковое развратное дерьмо о жизни убийц, банкиров, проституток. Все это вырезано. Вырезано и то, что все больше появляется спасительного духовного чтения. Что спасает только любовь к Отечеству, Родине, Державе. Все убрано. Словом, спасибо, опозорили. К счастью, наш народ «Вечерний клуб» не читает.
Независимостью гордятся. А уж вот это полнейшая брехня, головы морочат. Все они, до одного, зависимы: от издателей, от совести, от Марьи Алексеевны, от денег, от мнения начальства, от всего. Вычеркнем из этого ряда совесть, которой у демократов нет, и получим зависимость полнейшую. А еще зависимость от все подавляющей трусости. Вот вам портрет демократического издания.
ВИДЕЛ ВО СНЕ с субботы на воскресенье отца. До этого был в церкви. Так ясно и так отчетливо, так спокойно. Но о чем говорили, не помню.
Потом перерыв во сне, выходил во двор, радовался сну, вернулся в дом, снова лег и увидел во сне уже не отца, но тоже умершего уже друга Васю, разбившегося на машине.
ПРАВДА БЕЗ ЛЮБВИ - жестокость. Это об Астафьеве.
ВНЕЗАПНО ПО РАДИО: - Кармело любит Канделос и уговаривает Люсию во время танца страха помочь ему бороться с призраком, прежним возлюбленным Канделос. («Лючия ди Ламмермур» Доницетти?)
ХРАМ СОЛОМОНОВ, золотой пол, достигнуто величие, мало вам? Счастлив народ? И давно ли страдания Иова? И что, снова доказывать сатане, что Бог поругаем не бывает?
ТАИНСТВЕННО, ОГРОМНО назначение человека. Ведь это только подумать - «сотворены по образу и подобию». И как низменно, растительно и безполезно пребывание на земле того, кто ведет свою родословную от инфузории да еще и от туфельки. От обезьяны! Ну, Дарвин! У многих еще, видно, хвосты не отпали.
ЖДАЛИ ХРУЩЕВА, поили свежими сливками поросят, клали для показухи початки кукурузы. Приехал в украинской вышиванке. Показывают ему розовых поросят: «Выращены на кукурузе». - Он: «Ну я же говорил!»
КОГДА ПРИЕЗЖАЛ к родителям и сидел за машинкой, отец переживал и говорил: «Владимир, не перетруждайся».
МНЕ ОДИН УЧЕНЫЙ: «Надо вас энергетически подкачать, человек задуман быть здоровым. Болезнь нарушает симфонию миров».
ВСЕХ ТРУСЛИВЕЕ, как всегда, интеллигенция. Она и есть мелкая буржуазия, с которой якобы борется. Самое смешное, что интеллигенция воображает, что движет историю извержениями своих словес. Эти извержения - экскременты словесного поноса. Еще и за собою зовет. Еще и обижается, что массы за ней не идут. Тут сбывается изречение: русских обманывать можно, но обмануть нельзя.
МАЛЬЧИК СЕРЕЖА
Он болел ножками, ходил с костыликами. Ребята над ним иногда подшучивали. Он, конечно, страдал, но отмалчивался. Однажды класс повели в музей. А экскурсовод Людмила Вячеславовна была верующей. Она узнала его имя и, когда они подошли к иконе Божией Матери, всех остановила и сказала: «Вы верите, что Господь может сотворить чудо? Вы умеете креститься? Показываю: три пальца, щепотку, ко лбу, на грудь и на плечи. Вы хотите, чтобы Сережа выздоровел? Ведь каждый из вас мог бы оказаться в его положении. Сейчас мы перекрестимся. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Я прочитаю молитву Божией Матери, а потом мы все, кто как может, будем молиться Ей. Кто не хочет, может не молиться».
Все посерьезнели. Людмила Вячеславовна обратилась к иконе, прочла «Богородице Дево, радуйся». Стояло молчание. У Сережи потекли слезы, он стискивал перекладинки костыликов. Прошло минуты четыре.
- Идемте дальше, - сказала Людмила Вячеславовна.
А еще через три месяца Сережа пришел в музей сам. Принес два букета. Один подарил Людмиле Вячеславовне, а другой положил у иконы.
РАЗЛИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ капли на двоих: «Тебе пол-овина и мне пол-овина».
- КАКАЯ РАЗНИЦА, какой сторож на башне: плохой, хороший, хромой, косой, главное - сообщает об опасности.
- ДАНИЛЕВСКИЙ, ЛЕОНТЬЕВ, Тихомиров, Ильин, Солоневич... Хватит уже нам о национальном. И об интернациональном хватит. Мы уже не только начитанные, мы переначитанные. Читайте, кто вослед идет, - полезно, а нам, умным, остается последняя крепость для спасения, обороны и вылазок - православие. На всю оставшуюся жизнь хватит. Наговорились, написались, наубеждались, к молчанию пора идти.
- ДЛЯ КОГО ЧТО В ЖИЗНИ основное? Кто говорит: для меня главное семья, другой: работа, третий: дом, дача, деньги там... Вроде все важное. Но это все второстепенное. Да-да, и семья, и дом и капиталы - все неважное. Главное - Господь. Господь, в руках у Него все наше достояние. Идите к Господу, и все у вас будет. Яхты не будет, дачи трехэтажной? Значит, оно вам и не надо. Душа будет! Ты для тела живешь? Оно сгниет. Видел черепа, скелеты видел? Твой такой же будет. Пощупай кожу на лбу, поерзай ею. Она отгниет, кость останется. Для костей жить?
ИСКУШЕНИЕ: ОБМАНЧИВАЯ возможность близкого, быстрого спасения. Какое близкое, оно за горизонтами горизонтов. Какое быстрое, глянь на Украину, когда какими молитвами спасется? Если Шевченку считают великим, а он сравнивал русскую церковь с прыщом, то эта болезнь отторжения от русских надолго.
У нас и свои Шевченки есть. Бродский сравнил церковь с графином. Что это?
РЕЛИГИЯ НЕ ЧАСТЬ культуры, религия - вера, облагораживающая культуру и определяющая ей сроки жизни.
НИКОЛАЙ РАЗУМОВ: - В сенокос на лугах так завыли волки, что не только бабы, мужики поползли из шалашей к костру. Это лаптенковский бригадир Гриша должен помнить. Лесники утащили волчат из гнезда, пришла в деревню их мать, порвала овец. Даже не ела, просто резала.
- НАКОРМИЛИ МЫ ВАС, за это будем оскотинивать. Чего же сами-то себя не прокормили? - Вы же не давали. - А вы хуже баб, покорились.
ПИСАТЬ О СВЯЩЕННОМ почти невозможно. Великий пост. Важны не внешние события, а то, что во мне. Писать, не перечувствовав, - как?
Это вымысел, вранье. А перечувствовав, чувствуешь, что перечувствовал неполно, не надо передавать неполный опыт. И всегда в любом храме есть кто-то, кто сильнее тебя, больше любит Бога, до слез переживает. А я вот дерзаю писать. Да не дерзаю, пишу. И такой грешный, еще и учу. Чуточку подбадривает Пушкин, когда у него крестьяне упрекают батюшку, что он не очень следует морали, он отвечает: «Как в церкви вас учу, вы так и поступайте, живите хорошо, а мне не подражайте».
И КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ - все топчутся на понятиях: образ, герой литературы. Конечно, чацкие, онегины, печорины, чичиковы, базаровы, арбенины, обломовы, рахметовы, корчагины, мелеховы, арсеньевы - все они, конечно, интересны, что-то выражают и что-то отображают, ну и что? И спасают Россию?
Нет, братья и сестры, спасут Россию не литературные герои, а Господь Бог. И никто кроме. И самый необходимейший для спасения России герой теперешней письменности - это человек, приходящий к Богу.
Это еще диво дивное, что не перестали люди читать книги. Все еще держит нас, писателей, инерция ожидания слова истины от печатного слова.
СЛОВА РОССИИ
Меня изумляют и трогают почти до слез читательские письма. Я был избалован ими в 70-80-е годы. Наивно полагал это естественным: я же всех люблю, я же такой хороший. А все вдруг оборвалось. У Распутина было много договоров на переводы на Востоке и Западе, все расторгли. Зачем нужны стали врагам России русские писатели, если Россия оккупирована чужебесным нашествием. А ведь мы им помогали: мы с болью писали о гибнущих деревнях, о старухах, о пьянстве, а на Западе нас переводили и злорадно печатали: вот она, Россия, она пропадет без нашей демократии. И, воспитав общественное мнение в любви к западным ценностям и обработав начальство страны, которое уже было воспитано в Англии и Штатах, легко заразили Россию измерением жизни на деньги. Потом все провалилось в серые дыры неопределенности.
И вот - всплывание интереса к русскому слову. Спасибо либералам - им нечего сказать русским. Вот вся телевизионная шатия выносит на прилавок экрана пищу нелюбви к России. «А пипл хавает!» - радостно говорят димы быковы. А зачем хавать? Зачем смотреть на их рожи? Вот я совсем не смотрю на этот сильно голубой экран, только иногда взглядываю, чтобы убедиться: враги России стали еще хамоватей. Не смотрю и не глупею от этого, напротив.
А этот соловей, соловьев, так смешно, так изысканно изображает нейтралитет, понимает, что год-два, и его смоет в черную дыру забвения. Другие соловьи придут, еще позаливистей. Жалко их, этих дроздов, кукушек, трикахамад.
Но все наши расчеты уже у престола Царя Небесного.
«ПЕТРОГРАДСКОЕ ЭХО», № 63, 1918 г. «ЦАРЬ ПУЗАН. Завтра, 9 мая, в зале Тенишевского училища будет поставлена пьеса для детей К. И. Чуковского “Царь Пузан”. Все артисты дети. Начало ровно в час. После спектакля танцы и песни. Билет от 2 р. до 10 р. Моховая, 33».
Подсуетился Корней. Меньше чем через три месяца царская семья будет расстреляна.
МАМА: ДОЯРКУ выбрали в Верховный Совет, и с ней была встреча. Конечно, интересно. Пошла неодетая. Прямо из-под коровы. Вдруг читают, кого в президиум. Меня? Да, повторили. Меня прямо вытолкали. Отсидела в третьем ряду. Вернулась, семья в сборе. Спрашивают, как она говорила. Ой, говорю, она по бумажке читала. Я бы лучше выступила, по бумажке не умею читать. Спрашивают: «А какая на лицо?» - «Не знаю, только с затылка видела». - «Как так?» - «Так я в президиуме сидела». Они грохнули хохотать. Мне так стало невперенос, убежала в хлев, обняла корову за шею, наревелась досыта. И никто не пришел. Вот моя главная обила. Неужели меня так низко ставили, что не верили, что я в президиуме была. Конечно, домашняя работа не в почет, а крутишься во много раз больше, чем на производстве.
Потом я их старалась оправдать, думаю, смешно им, что с затылка видела.
«ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ» - предупреждает Данилевский. Недовольны? Свергаете? Победили? И что? Признайтесь, что все стало еще хуже.
«ЗАПЕВАЙ, ТОВАРИЩ, песню. Запевай, какую хошь. Про любовь только не надо: больно слово нехорош. Ты прежде свою волю взвесь пред тем, как двинуться в Кильмезь. Ты лучше в душу мне не лезь: я все равно гряду в Кильмезь. Был здесь народ ко мне любезен, я стал немножечко «кильмезен». И хоть я был слегка нетрезвен, но для Кильмези был полезен. Живи реальностью, не грезь, мечтай опять попасть в Кильмезь».
«Стих из конверта. Чьи подошвы шаркали под окном твоим? Холодно ли, жарко ли было нам в груди? Молодая, глупая, чувства не таи. Ах, давно ли гладил я волосы твои? Я стоял над озером - видно далеко. Почему другому ты изменила мне? И твои манеры отдала другим. Купим мы фанеры и дальше улетим».
СТАРИК: «Я ведь старуху похоронил. Два месяца назад. Пятьдесят два года прожили». - «А с кем остался?» - «Один живу. Так-то дети есть». - «А как питаешься? Сам стряпаешь?» - «Ой, ничего пока не знаю. Глаза еще не просохли».
МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ: Может быть, люди - это материя в процессе эволюции? - Да нет же никакой эволюции. - Но как же, а энергия движения?
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 1999-го. Великорецкое. Написал рассказ «Зимние ступени» о Великорецком, а нынче ступеней нет. Ехал к источнику как суворовский солдат в Альпах. Темно. У источника никого.
Днем Саша Черных натопил баню. Он ее ругает, но баня у него это баня. Еще по пояс в снегу он сбродил за пихтовым веником. В добавление к березовому. В сугроб я, может быть, и не осмелился бы нырять, но Саша так поддал, что паром дверь не только вышибло, но и с петель сорвало, а меня вынесло. Очнулся под солнечным туманом в снежной перине.
А в Москве, в Никольском 31-го декабря сосед Сашка топил баню. Тоже мастак. Тоже я раздухарился и вышел на снег. Но не снег, наст, до того шли дожди, а к Новому году подмерзло, подтянуло. Покорствуя русскому обычаю создавать контрасты, лег на снег. Но это был наст, будто на наждак лег. Еще и на спину перевернулся. Подо мной таяло. Вернулся в баню, окатился. Батюшки, весь я в красных нитях царапин.
Но здесь баня не главное. Богослужение. Долгое, но быстрое. Вчера читали покаянный канон, акафист. Последний день поста. Вечер. Сочельник. Нет, звезды не видно. Но она же есть.
Сейчас я один, еще днем всех проводил. Топил печь, ходил за водой. Еще украшал божничку. Читал правило ко причащению. Имени монаха, который в Лавре, в Предтеченском надвратном храме, назначил мне читать покаянный канон, не помню.
Четыре места на белом свете, где живет моя душа и какие всегда крещу, читая вечерние молитвы: Лавра, преподавательская келья, Никольское, Великорецкое, Кильмезь. Конечно, московская квартира. В Вятке (Кирове) тяжело: мать страдает по милости младшей дочери, но ни к кому уходить не хочет. А когда-то и в Вятке работал. В Фаленках. Да только всегда то наскоком, то урывками. Кабинета у меня не бывало. Разве что редакторский с секретаршей при дверях. Так там не поработаешь.
Тихо. Свечка потрескивает, ровно сгорает. Так тихо, что лягу спать пораньше. И где тот Киров, и где та Москва? Тут даже Юрья, райцентр, так далеко, что кажется, и Юрьи-то нет. А только этот дом, теплая печь, огонечек у икон. И ожидание завтрашнего, даст Бог, причастия.
ПИСАТЬ О СВЯЩЕННОМ, святом, почти невозможно, и вот почему: един Бог без греха. Я грешный, я чувствую, знаю из книг, какой должна быть духовная жизнь настоящего православного, но далеко до нее не дотягиваю. А пишу. Что-то же от этого в моих писульках хромает.
Шел в Троицкий храм молиться, а вижу как тэвешники тянут провода, кабели, ставят свет, как ходят по амвону тетки в брюках. Они-то и вовсе без тени благоговения. Но их благословили делать передачу о Пасхе в Троицком храме у раки преподобного Сергия. И кто-то увидит передачу, и позавидует нам, тут стоящим. А я не молюсь, а сетую на этих теток.
ПИСАТЕЛЬСКАЯ БОЛЕЗНЬ
- Старичок, прочел твою повестушку, прочел. Сказать честно? Не обидишься? Хорошо, но боли нет. Нет боли! Надо заболеть: без боли нет литературы. У меня это главный показатель - боль! Читаю: нет боли - отбрасываю. Не обижайся, ты не один такой. Вот и Чехова взять - сын умер, ведь это какая тема! Это ж полжизни уходит, конец света! А он с юмором, ну, что это? Идет к лошади, рассказывает. Смешно? Стыдно! Ты согласен? - Так вещал прозаик Семен другу прозаику Евгению. - Согласен?
- Не знаю. То Чехов. Ему можно, - отвечал Евгений.
- Тогда этих возьми, ильфо-петровых: жена ушла, он мясо ночью жрет, смешно? Какая тут боль? - вопрошал Семен.
- Но его же секут, ему же больно.
- Старичок, боль-то в том, что жена ушла к Птибурдукову! А нам смешно.
Это же какая тема! Невспаханное поле - уход жены, это тебе не «шитье с невынутой иголкой».
- Но как - ушла жена, в квартире пусто, одиноко. Плачет даже втихомолку, - оправдывал предшественников Евгений.
- То есть тебя эта тема цепляет? Вот и возьмись, вот и опиши!
- Не смогу. От меня жена не уходила.
- Ты сказал, что уехала.
- В командировку.
- Командировка! Представь, что ушла совсем. Проникнись! Это же читателей за уши не оттащить - уход жены от мужа, нетленкой пахнет, а я буду с другого конца разрабатывать - уход мужа от жены. То есть я ушел от нее. У тебя буду жить. Вместе будем осваивать пласты проблемы.
Надо же крепить институт семьи. Ячейки общества гибнут, а мы - писатели - молчим. Вся надежда на тебя и меня. У тебя боль - жена ушла, а у моей жены боль - муж ушел. Боль на боль - это какие же искры можно из этого высечь! Одна боль - правда жизни, две боли - бестселлер. Но чтоб никакого юмора, никаких нестиранных рубашек, недожаренных котлет. Да и зачем их жарить, я сосисок принес. Боль до глобальности! Через наши страдания к всеобщему счастью. Пэр аспера ад астра. Латынь! Начинаем страдать. У меня с собой. - Семен встряхнул портфель, в котором призывно зазвякало. - Слышишь?
Утром они встали поздно. Пили воду, ею же мочили головы.
- Чувствуешь, какая боль? - кричал Семен.
- Еще бы! - отвечал Евгений.
- Усилим! На звонки не отвечай! Их и не будет, я провод оборвал. Все они, «бабы - трясогузки и канальи». Это Маяковский. Будем без них. Одиночество индивидиумов ведет к отторжению от коллектива, но для его же спасения. Запиши. Потом поймут, потом оценят. У нас не осталось там здоровье поправить?
- Найдем!
- О, слышу речь не мальчика, но мужа. Да чего ты стаканы моешь, чего их мыть? Надо облик терять, это же боль! И не умывайся. Страдай! Душа уже страдает, пусть и тело прочувствует. Надо вообще одичать. На пол кирпичей натаскаем, спать на них. И чтоб окурки бросать, пожара не бояться. Под голову полено. Нет полена?
- Нет, - отвечал Евгений.
- Старичок, да как же ты без полена живешь?
Еще через сутки Семен, сидя на полу, командовал:
- Пора описывать страдания! Не надо бумаги, пиши на обоях!
- Рука трясется.
- Молодец, Жека, прекрасная деталь! Диктую: «Измученные, страдающие, они не могли даже удержать в руках карандаш. Вот что наделала прекрасная половина человеков». Запомни на потом. Сейчас попробую встать и пойдем похмеляться. - Взялся за голову: - Какая боль, какая боль! Аргентина - Ямайка, пять ноль.
Выползли на площадку. Навстречу им кинулись рыдающие жены. А за ними стоял милиционер. Они вызвали его, потому что боялись входить в квартиру. Когда они объяснили, что это была не выпивка, а погружение в тему, милиционер им позавидовал.
- То есть это значит, что так просто стать писателем? Наливай да пей? Так, что ли? Так я так тоже смогу.
Милиционер ушел. За Семена и Евгения взялись жены. Вот тут-то началась боль.
ВЯТСКИЕ ВО МНЕ гены, счастье на свете есть. Хочется, как Диогену, в бочку скорее залезть.
Какое счастье - молодость прошла. О, сколько зла она мне принесла.
Пуще топайте, ботиночки, не я вас покупал, тятька в Кирове у жулика чистехонько украл. Не женитеся, ребята, не валяйте дурака: если что, бери с коровой, чтоб не жить без молока. Меня мамонька родила утром рано на мосту. Меня иньем прихватило, то и маленьким расту. Мы не здешние ребята, из села не этого, у нас дома-то гуляют веселее этого. Не от радости поются песенки веселыя, они поются от тоски, от тоски тяжелыя. У меня матаня есть, она селяночки не ест. Для нее все мужики распоследни дураки.
Любите только черноглазых, блондинок вам не обмануть, они упрямы как заразы, проводят вас в последний путь.
ВОТ НАСТАНЕТ осеннее утро, будет дождик слегка моросить. Ты услышишь протяжное пенье, когда будут меня хоронить. Из друзей моих верных наверно уж никто не придет провожать. Лишь одна ты, моя дорогая, будешь слезно над гробом рыдать, и в последний ты раз поцелуешь, когда крышкой закроют меня. И уста моя больше не скажут, что прощай, дорогая моя.
«Прощай, друзья, я умираю, бросаю жизнь в загробный свет, а вам на память оставляю горячий пламенный привет. Курите вы табак покрепче, и водка чтоб была всегда. Любите девушек хороших, будьте счастливы, как я».
ЕВРЕИ КАК БУДТО мстят миру за свои беды, в которые постоянно вляпываются по своей вине. Есть же правило: в своих несчастьях человек виноват прежде всего сам. И в других он видит недостатки, которыми страдает сам, но не признается.
ОТ КОГО-ТО СЛЫШАЛ: Странник подавал записку о поминовении, но за каждое имя просили пятьдесят левов. Таких денег у него не было. Не приняли. Он ушел. Его встретила Божия Матерь. «Вернись и напиши тысячу имен». Он вернулся, написал и за каждое имя уплатил.
ВРАГ РОССИИ: «Какая демократия, кого смешить? Наша великая победа над Россией в том, что мы создали административно-жвачную систему. Ее не прошибет никакой герой, она вызывает возмущение, ею недовольны, но чем заменить? Социализм легко сдался, коммунизм -болтовня. Монархия? Ее надо заслужить. Но и тут мы все пережуем. Чем хороша жвачка - она создает видимость насыщения».
СЛЫШАЛ ИЛИ ПРОЧИТАЛ: Хотим быть не только умными, но и мудрыми и премудрыми. Путь к этому один - путь к Богу. Иметь ум, мечтающий о мудрости, значит иметь разум подобный пустому облаку, носимому ветром тщеславия.
ЕСЛИ УЧИТЕЛЯ школы воцерковлены, то дело сделано. Вспомним, сколько систем образования диктовал Запад: Песталоцци, ланкастерская, рыцарская, Фребель владел умами, другие. Но что же всех их с легкостью победал сельский дьячок, научающий прежде всего страху Божию?
ГОВОРИЛА С ВЕЩАМИ и вообще со всем окружающим, как с живым: «Была в огороде, грядка требует: или удобрения дай или дай отдохнуть, а то не рожу. И яблоня нынче гулят». Все у нее живое: «Кружка упала, разбилась. Да она сама, никто не ронял, Что ж с ней так поступали - не мыли, вся в жиру, грязная. Решила: стыдно грязнулей жить, лучше помереть. На край да и на пол». «Селедки поела, да, видно, перелишила, теперь печень сердится». Комару: «Оди-ин, оди-ин! Не ври, не один ты».
В ВАГОНЕ ПОЮТ парни: «Ты моей маме соври, соври, о том, что я в Афгане, ей не говори!»
СТОЛЯР ДЕЛАЕТ полки, стеллажи. Сделает, пошатает, довольный: «Вешаться можно!» Сделает табуретку или стол, ударит кулаком: «Стоит как слон». Притешет планочку, прибьет, полюбуется, довольный: «Как у Аннушки!»
ВОСТОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК: «Нос плюский, глаз узкий - три раз не русский».
РУССКИЙ ЛЕС. В 18-м году Декрет о лесопользовании, а уже в 22-м -о продаже леса на валюту. Страшный 60-й, Постановление о соединении лесхозов и леспромхозов, то есть о подчинении лесхозов леспромхозам. Вот тут-то и пошла гибель леса окончательная. А в войну негласные распоряжения разрешали рубить лес даже в природоохранной зоне, по берегам рек. Оно легче для сплава и быстрее, но губительнее для земли, для обмельчания рек. Эти времена хорошо помню. Очень отец переживал. Он жалел лес и мог проводить в нем только санитарные рубки, а промышленные тяжко переносил.
60-е, 70-е страшны лозунгом Хрущева: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация. (Это ленинское, Хрущев добавил: плюс химизация)». И такая пошла отрава на леса и поля, и реки, и на наше здоровье. В небе было больше самолетов химической авиации, чем жаворонков. Так и называлось: химическая авиация. А страшное дело - мелиорация - осушение болот под видом расширения пахотных земель. Мелиораторы, кстати, не подчинялись местным властям. А снос, уничтожение кладбищ, опять же якобы для расширения пашни. И самое убийственное - снос «неперспективных деревень», а потом и вовсе присвоение им клички поселений. Милые русские люди, да как мы, все это перенесшие, не перенесем пустяков санкций? Плевое дело - подтянуть пояса.
ЧТО ВЕЧНОСТЬ канула в Лету, что Лета в вечности растворилась, -все слова, все красивости. Но вот у Державина «седая вечность» - это сказано.
НЕСКОЛЬКО РАЗ бывало чувство, что умру. После Крестного хода, после причастий, после усталостей. Сон, забытье. Не хочется возвращаться в эту жизнь. Молитва звучит во мне: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою во славе моей». Первый раз услышал ее в Кильмези в 1998 году, приехав после долгого перерыва. Служили в здании бывшего народного суда, а до этого тут была школа, ШКРМ, то есть школа рабоче-крестьянской молодежи, тут я учился в пятом классе. Это? Это 1952 год, еще Сталин жил. И из армии, был в отпуске, родители уже жили в Фаленках, но я все равно вырвался в Кильмезь (самолеты летали). И в вузе учился, каждое лето бывал. Потом - потом жили очень трудно, потом много ездил по миру, всяким начальником был, но родина была во мне непрестанно. И слезы меня на этой службе осенью 98-го прошибли, такие сладостные. И причастился. И, конечно, всегда молился быть похороненным на родине.
УХАЖИВАЯ ЗА ЖЕНЩИНОЙ, бьет на жалость: «Меня в детстве недотетешкали, меня корова бодала».
- КОМАР - ОН живность, а не зверь. Он лезет только через дверь. Своею мощною рукой окно открой, а дверь закрой. - Да со своим ли ты умом: комар проникнет и окном.
ПЕЧНИК: Я НЕ БЕЗПЕЧНЫЙ, я печный, печь - кормилица.
ПУШКИН О ВТОРОМ томе «Истории русского народа» Полевого: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы».
- ПИСАТЬ МНОГО не надо: жив, здоров, пришлите денег для поддержки штанов, спадают от худобы. И за столом много не говори: встал со стаканом - ну, давай: за тя, за мя, за них!
ПРОТЕСТАНТЫ ВЫБИРАЛИ религию удобную, умом выбирали, а мы обрели спасительную сердцем.
Спасение меж страхом и надеждой. Страшимся, что по грехам своим погибнем, но надеемся на милость Божию.
Мы любим Бога: Он отец, и мы Его боимся: Он - Бог.
Бога боюсь - никого не боюсь, а Бога не боюсь, всего и всех боюсь.
Строгость к себе, внимание к другим.
Хомяков и Чаадаев так спорили, что прибегали лакеи, думали - господа дерутся. А эти лакеи кто? Ходили в церковь, держали посты?
НА ОДНОЙ СКАМЬЕ в Афинах сидели будущие: Василий Великий (Василиус Мегасиус), Григорий Богослов (Григориус Теологиус) и Юлиан Отступник. Все учились на хорошо и отлично.
СНЫ: СТРУЖКА железная в целлофане проснулась, раскручивается. Кто-то: «Ой, надо “скорую”! Подошла, ощущаю - к пяткам очень горячая кровь.
- Сны бывают годовые, полугодовые, недельные. А праздничный сон до обеда. «Ляжешь спать до обеда, увидишь во сне бабку и деда».
С маленьким перерывом в три дня видел во сне и Солоухина и Астафьева. Солоухин был в очень потрепанном сером пальто. Небрит, прикасались друг ко другу щеками, я ощутил жесткую щетину. Ушел он вниз по широкой лестнице. О чем говорили, не помню.
Астафьева встретил на какой-то платформе, он с кем-то зашел в станционный буфет. Потом ищу его. Проводнику: «Сколько еще поезд будет стоять?» - «Да минут пятнадцать». - «Тут едет писатель?» - «Да». Иду в вагон. Плацкартный. Очень тесно, очень плохо освещено. Так и не увидел больше.
- Муж во сне пришел: «Я слышу, вы тут ругаетесь?» Баба Настя: «Покойники до году слышат. А Бориса, сына, видела веселого. Во сне плясал». - «Ничего не просил?» - «Нет. Веселый».
СДЕЛАЛ ЗАВАЛИНКУ Сразу стали ее разрывать курицы. Петух подолгу стоял. Кошка лежала на песочке. И щенок грелся. Так им всем тут нравилось. А я ее делал для тепла, чтоб зимой снизу не промерзало.
- НИЧЕГО НЕ ЧИТАЮТ? - Ничего. - Это хорошо. Значит, не читают не только хорошее, но и плохое.
КОНФЕРАНС ПЯТИДЕСЯТЫХ: «Дядя Сэм и дядя Смит поспешили, что Иван не лыком шит, позабыли». Далее Иван давал им «по мордам и по зубам», далее следовала мораль финала: «Дядя Сэм уже совсем, ну и Смит уже смердит».
СТАРУХА: МЫ МОРОЗОВ не боялись и зимой без штон ходили.
ОН ЕЕ ЖАЛЕЛ, с вилочки кормил. Конфетку развернет и подаст. А она с другим плелась.
У МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ договор с Министерством торговли: внушать полезность для здоровья тех продуктов, которые надо продать, так как лучших нет. Неужели же лучше маргарин, чем сливочное масло? А вот, доказывали. Еще был какой-то маргуселин. Тоже хвалили в журнале «Здоровье».
НАЧИТАННЫЙ В БИБЛИИ, гордится: «Мне хватает храма в душе, нам же сказано: “Божий храм - это вы”. Так что я сам хожу как храм». Считает, что это очень остроумно.
СОБИРАЛИ В ШКОЛУ! Денег ушло как на полсвадьбы.
НАРОДНОЕ ОТНОШЕНИЕ к официальным или общеизвестным текстам, их переделка: «Серп и молот - смерть и голод». «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь». «Пролетарии усих краин, гоп до кучи!». «В союз нерушимых, голодных и вшивых загнали навеки великую Русь». «Из мертвой главы гробовая змея, шипя, между тем выползала». «”О чем задумался, скотина»?” - седок приветливо спросил». «Я б хотел напиться и куснуть». «Рюмашки спрятались, поникли людики». «Мы идем, нас ведут, нам не хочется». «Мы с тобой два дерева, остальные - пни». «Недаром, едрит твою в дышло, напитан ты был коньяком». «Я б хотел напиться и куснуть».
«Мне все опостыло, такие дела: и жизнь мне не мила, мне Мила мила».
Народные выражения (к слову о доносах): Частушка 34-го: «Эх, Семеновна, юбка валяна, убили Кирова, убьют и Сталина». То есть знали заранее. И петь не боялись.
Сочинил и я в 91-м: «Твой миленок демократ - говорильный аппарат. Ну, а мой, хоть не речист, но зато гэкачепист»
ПРОШЛО, СЛАВА БОГУ, долго длившееся и приносившее страдания родным проклятие профессии - глядеть на жизнь как на материал для писательства. Это ужас - не испытывать чувств, а примерять их к какому-либо рассказу (повести), ужас. Теперь прошло, теперь просто живу. Иногда только, встретив чего-то, услышав, говорю (думаю): «Как жаль, что я не молодой писатель».
Доходит как до утки на седьмые сутки.
Солнце в луже светит ярче, потому что лужа ближе.
- Ну чего тебе желать? Пять гудков, и все с работы.
ГОЛОС
У этой девочки был необыкновенный голос. Талант такой, что слушать, как она поет: «Матушка, матушка, что во поле пыльно?», нельзя было без слез. Или «В низенькой светелке», или «Мне не жаль, что я тобой покинута, жаль, что люди много говорят». А уж как запоет, как ангел: «В горнице моей светло, это от ночной звезды», - это не высказать. Эх, какие мы, ничего даже не записали.
После одиннадцатого поехала в музыкальное училище. Никто ни на грамм не сомневался, что поступит. А на экзаменах провалилась. Почему? Ей даже и спеть не дали. А дело в том, что она в детстве зимой тонула в проруби, испуг получила на всю жизнь. И когда ее перебивали, начинала заикаться.
Ее спрашивают на экзамене: «Что споете»? - «Среди долины ров-ныя». - «Давайте». - Она уже и начала. - «Нет-нет, давайте что-нибудь повеселее». Все! Сбили. Стала заикаться, покраснела, расплакалась, выскочила в коридор.
Загубили великую певицу. Как потом ни уговаривали, никуда больше поступать не поехала. И больше в клубе не выступала. Только дома деточкам, их у нее трое, поет.
ДУХ ЗЛОБЫ гнездится в поднебесном пространстве. Тут нас ожидают мытарства Случайно или нет китайское государство называли Поднебесной империей.
- КЕША НЕ КУРИТ!
Так громко и разборчиво говорил попугайчик, который влетел к нам в форточку. Уж как он выбрал именно ее в двухсотквартирном доме, непонятно. Такая была к нам милость. Я сидел за столом, вдруг в комнате затрещал будто пропеллер и на плечо сел пестрый попугай. Я замер. Он стал небольно теребить за ухо. Мы были очень рады, назвали его Гавриком, приучали к имени, но он твердо заявил: «Смотрите на Кешу, Кеша хороший мальчик!»
Стали узнавать - может, кто его ищет. Но, честно говоря, он был такой забавный, что отдавать не хотелось. Стали узнавать, чем их кормят, а пока узнавали, поняли, что Кеша всеяден. Он клевал со сковородок на кухне, ощипывал цветы на окнах, всюду оставлял следы пребывания. Вроде бы такой был грязнуля, но нет, когда мы завели клетку, стали менять в ней подстилки, Кеша оказался очень аккуратным. Но как же он был влюблен в себя. «Посмотрите на Кешу!» - и надо было посмотреть. В клетке у него был даже колокольчик и зеркальце. Он дергал за шнурочек, колокольчик звенел, мы думали вначале, что нас веселит, - нет, это приходила пора подсыпать ему в кормушку специальные зерносмеси для попугаев. Жизнь у нас получила дополнительные заботы. Кеша не выносил, если в доме слушали кого-то, кроме него. Телевизор он возмущенно перекрикивал и добивался его выключения. Так же и радио.
А у нас был серебристый пуделечек Мартик, который тоже имел право голоса. Любил бегать за мячиком, прыгал, лаял. Но Кеша и этого не потерпел. В два счета научился подражать лаю Мартика. Да. И начинал очень похоже тявкать. Наш Мартик сходил с ума. Легко ли, над тобой издеваются. Кеша и над нами стал шутить: он наловчился передразнивать дверной звонок и звонок телефона. Вот представьте: ночь, в дверь звонят, что это? Ну конечно, кто-то из родни умер, принесли срочную телеграмму. Или телефон трещит еще до рассвета. Вскакиваешь, сердце бьется, только потом понимаешь, что это шуточки Кеши.
Талант он был несомненный. Видимо, он во многих домах побывал, ибо лексикон его был разноплановый. «Курица не птица, баба не человек». Каково это было слушать моей заботливой жене? «Как тебе, Кеша, не стыдно?». Но Кеша быстро зарабатывал прощение. Он садился ей на плечо и шептал на ухо: «Кеша красавец, Кеша хороший, спой Кеше песенку».
Пределом мечтаний Мартика было забраться на диван и просто полежать. Кеша и тут вредничал. Вот Мартик тихонько влез, вот убедился, что его не видели. Он вздыхает, сладко закрывает глаза, тут Кеша пикирует на спинку дивана и верещит: «Не хочу в школу, не хочу в школу, не хочу в школу!»
Вот какая нам загадка: глупый попугай умел говорить, хотя ничего не понимал, а умнейший песик, все понимающий, говорить не мог.
Улетел Кеша по причине того, что приехал наш товарищ. Он был курящий, курил у форточки. А до этого его очень насмешил Кеша, который сообщил, что: «Кеша не курит, курить плохо».
Да, шмыгнул «хороший мальчик» Кеша в форточку. И навсегда. Мы его долго искали, но зря. Очень мы его любили. Мы-то его ничему не научили.
Хотя учили: «Не обижай Мартика, Мартик хороший».
АНГЕЛЫ БОЖИИ служат нам, но как чисто и достойно надо жить, чтобы их ограждающий голос был слышен явно.
- ЭТОМУ КОЛЕ за его вранье на лоб плюнуть, в глаза само натечет.
В столовой плакатик: «Хоть ты зав, хоть ты зам, убери посуду сам».
- Сам я печку затоплю, самовар поставлю. Сербияночку мою работать не заставлю.
- Мама, купи мне калоши, я станцую танец хороший. Мама, купи мне ботинки, я станцую танец кабардинки.
- Сидел в тюмме, была ванна. - Что, в тюрьме ванна была? - Вонна, вонна. - А, война была? - Да, вонна была. В тюмме сидел.
- На камбузе нынче люди не те, на камбузе люди - плуты. Я б волком бы выгрыз все на плите за две, за четыре минуты.
ДУША НАРОДА - ВЕРА. Когда ее нет, народ - разлагающийся труп (св. Филарет Черниговский).
- С КУЛЬТУРНЫМ ЕВРОПЕЙЦЕМ рыбачил. Крючок вытаскиваю из пасти. «Ах, ах, нельзя, нельзя: вы причиняете ей боль». - «А как надо?» -«Надо лишить жизни, обездвижить. Трупу не больно». Я замахнулся камнем. «О, о! Не так, не так!» Достает специальный молоточек и тюк-тюк, убивает. Все культурно, а противно.
- КОЛУМБИЙСКИЙ КАРТЕЛЬ заказал афганских наркобаронов. Сунул деньги Америке, вот и весь сюжет. А талибы - это для телевидения.
МНОГО НЕ ДУМАЙ. Индюк думал-думал, да в суп попал. - А как же не думать? - Помни Амвросия Оптинского: «Знай себя и будет с тебя». А батюшка Серафим: «Спасись сам и около тебя спасутся». А то, гляжу, ты такой глобальный: «Когда будет конец света?..» Какая тебе разница? Ты как бабушка из детского анекдота. Ей внук говорит: «Бабушка, я тебе вчера неправильно сказал: солнце остынет не через миллион лет, а через миллиард». - «Ой, спасибо, внучек, а то я уже так напугалась». Так что конец света - это не твое дело, твое дело - конец твоего света. Раз ты родился, значит умрешь. К этому готовься. Каждый день. - Как? - Ты же каждый день умываешься? Это для тела. Как его ни умывай, оно что грязное, что чистое, все равно сгниет. А душа? Получил ее от Бога чистой, чистой и представь на Страшный суд. Каждый день ее умывай. -Как? Чем? - Живой водой молитвы.
В ЭЛЕКТРИЧКАХ В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ: «Родился безногий, родился безрукий, товарщицкий суд меня взял на поруки. Глухой и слепой, обратите вниманье, нет обонянья, нет осязанья, совсем осязания нет». Или такое лихое: «Вышла Дунька за ворота распьяным пьяна. Нажимай на все педали, да! Все равно война-а-а!»
СДАЛИ АНАЛИЗЫ. Я поехал в больницу, узнал, что операция назначена на вторник. Поехал к дочке, сказал. Она начала плакать. Как близок был вторник, и как далека среда.
- БУДЕТ РОССИЯ железом окована, проводами опутана. Простор останется, а жить будет некому. На каждом дому по вороне будет сидеть. Другие придут, но не приживутся и испугаются.
ХОР В КРЕМАТОРИИ: «Лучше нету того свету».
«НЕВАЖНО, ЧТО бумажно, лишь бы денежно». Выражение из времен замены металлических денег на бумажные. Их очень приветствовали: меньше теряются, основательные. («Давай бумажными, а то эти золотые десятки маленькие, гладкие, прыгают, как блохи».) На ассигнациях были портреты царей, потом («Когда Ленин заступил Николая») вождей. И всегда было пропечатано, что Государственный банк гарантирует золотое обеспечение купюр. Потом Россию залихорадило, трясло в передрягах. Менялись системы и деньги менялись. Народ постоянно обманывали, это уже в России стало традицией. Деньги обезценивались, но многие надеялись на их возвращение. Сколько же денежной массы ушло в горшки, крынки, банки. Сколько закопано в подвалах, лесах. Их находили, искали. Помню целые стопки «керенок», «катенек», даже их собирал. Все сгорели. И сгорали валюты без золотого обеспечения. Вот доллар - никакого обеспечения, держится одним хамством: крутится колесо - сыплется валюта, самая закабаляющая, самая безсовестная.
ПЕРВЫЙ РАЗ я был «папой, отцом семейства» лет в 6-7. Да, так. Маленькие девочки-соседки играли у ворот и подошли ко мне. «Пойдешь к нам играть?» - «А во что вы играете?» - «В домик. Я мама, это моя дочка, а ты будешь папой». Помню, это предложение очень меня взволновало. Что-то коснулось меня, какое-то чувство взрослости, ответственности.
- ПОДШУТИЛИ НАД ВАХТЕРШЕЙ. Она какая-то глупая была. Очень влюбчивая. Выдумала какого-то летчика. Будто бы он в нее влюблен. Сидим, она вскакивает: «Ой, Толя летит». Бежит на крыльцо, машет: «Толя, я ни в кого не влюблена, я с тетей Настей работаю. - А нам: -Ой, до чего люблю военных». Мы ей однажды: «Твой летчик приходил: где моя Марья Тимофеевна?» Подговорили милиционера знакомого, все-таки в форме. Научили, чего говорить. Он ей: «Все готово, все куплено, надо в загс». Ушел. Она: «Надо еще кровать купить и гардероб хороший». Поверила. Что делать? Я ей говорю: «Летчики очень ветреные, потому что летают по воздуху. Он другую полюбил. Уже в ресторан ходили. И гвоздики дарил». «Кто такая?» - «Да Шура Мамаева. У нее на огороде самолет стоял». И она пошла к Шуре стекла бить. Мы ее перехватили. «Брось о нем думать, тебя другой полюбил». Опять поверила. Мы-то, конечно, дуры. Так стыдно. Но она сама такая. В общем-то жалко ее.
ЗОВЕТ ЖЕНУ бабкой. «Бабка жалела земли под табак. Сама огурцы посадила на постной земле, даже не взошло. Я посадил у забора. Такие листья вымахали, как у хрена. Как лопухи. Но возни с ним! Поливай, каждую неделю цвет ощипывать, иначе весь сок в цветки уйдет. Но и до конца нельзя, иначе такой будет крепкий, что курнешь и задохнешься.
Самогон гнал, за день три литра выгнал и все отдубасил. Бабка вечером пришла, принесла бутылку. Еще стакан выпил, тогда повалился.
- ПО ДЕРЕВНЮШКЕ ПРОЙДЕМ, доброй девки не найдем: то брюхата, то с родин, то кривая, глаз один. Наша хромка заиграла, двадцать пять на двадцать пять. Выходи, ребята, драться, наша вынесет опять. Как я вспомню о Кильмези, так на сердце сразу рези. И мне кричит река Кильмезь: давай, скорей в меня залезь!
МЕНЯ ЛЮБИЛИ всегда очень романтичные девушки. А разве понимал? Всегда только и думал о литературе. Но ведь помню же (имя забыл), как мы шли с ней летом, и она сказала: «Знаешь, так хочется, чтобы сейчас падал тихий снег, и на нем бы оставались наши следы». И позднее СМС от женщины: «Прошу вас покинуть мои сны».
Но и, к слову о романтике, вспоминаю свой зимний цветок. Еще начинал только дружить с Надей и приехал в Люблино. Утром мороз, все в инее. И меня восхитил репейник, прямо весь в сверкающих алмазах куст. Но как сохранить, как принести? И ножа нет. Но додумался - обтоптал сугроб вокруг стебля, лег, подполз и зубами его перегрыз. Тихонько грыз, боялся, чтоб не осыпался иней. Взял обеими руками: тяжелый. И принес в подъезд. Позвонил у дверей. Дальнейшее прошу представить. Да еще стих подарил: «Ой ты, Люблино, ой ты, Люблино, - день и ночь повторяю одно. - Ой полюблено, ой полюблено, тополиное Люблино. Приголублено в этом Люблино шторой забранное окно. Поправляешь меня: да не Люблино, - говори, как все, ЛюблинО. А мне хочется, чтобы Люблино, пусть кому-то это чудно. Ой полюблено, ой, полюблено тополиное Люблино».
Его (стих) композитор Манвелян песней сделал, и ее даже по радио исполняли. И еще пели песню с моими словами, но начало не мое. Шел по Арбату, случайно услышал: «А кто же эта девушка и где она живет? А может она курит, может она пьет». Досочинил: «Но как же мне осмелиться, как к ней подойти? А вдруг она заявит: нам не по пути. И все же я осмелился и к ней я подошел. И в ней подругу верную, надежную нашел. И вот мы с этой девушкой уж десять лет живем, и оба мы не курим, и оба мы не пьем. Я, парни, вам советую решительнее быть, и к девушкам на улице смелее подходить. И с ними вы наладите семейный свой уют: не все же они курят, не все же они пьют».
ОТЕЦ: НА ПАСХУ служили молебны по домам. В одном доме священник перечисляет имена о здравии. «А как жену зовут?». - «Парань-ка». - «Нет такого имени». - «Как нет? - и кричит жене, она на кухне, - Парань, Парань, как тебя зовут?» Она выскакивает из-за занавески, кланяется: «Параскева, батюшка».
ЮНОШЕСКИЕ СТРОФЫ: «Выпуская в свет “Гулливера”, автор думал: окончится зло: в сотню дней от такого примера воцарится в мире добро. Трудно жить, когда знаешь наверно, что умрешь без того, за что гиб. Но во мне все же крепкая вера: человечество будет другим».
«Сегодня ты стала другой, потому что ушла с другим. Назвать тебя дорогой, согреть дыханьем своим, больше мне не смочь. Просится в окна ночь... Завтра я встану другим».
УЖЕ СОВЕРШЕННО задыхаясь, сорвался я с последней кручи перед морем и тут же сразу понял всю свою дурость: я выскочил на асфальт. По которому я смог бы, как белый человек, дойти до берега. И вот стоял весь перецарапанный, с ушибленным коленом, с болящей в запястье рукой и говорил себе: да, это только ты умеешь находить приключения на свою голову и на остальное. Дошел до моря. И залез. И, конечно, еще и другим коленом ударился о подводные камни. А впереди был путь в гору и в гору, к отелю «Аристотель».
Это Уранополис. Утром пораньше за визами и на Афон. Там буду хромать. Но на Афоне и хромать хорошо.
ПЕСНИ ГРАЖДАНСКОЙ войны: «Мы смело в бой пойдем...» - «И ми за вами». - «Мы, как один, умрем». - «А ми нимношка подождем».
Свиридов: Революция не имела своей музыки, все переделки. «Мы смело в бой пойдем за Русь святую, и, как один, прольем кровь молодую». Так пели в Первую мировую. В гражданскую переделали: «Мы смело в бой пойдем за власть советов, и, как один, умрем в борьбе за это». Полная чушь собачья: за что «за это»? Но пели же.
- Я СУДЬБУ СВОЮ, тело и душу - все отдам за улыбку твою. Не любить невозможно Надюшу, потому я Надюшу люблю.
- Конечно, все мужья - невежды, но не у всех жена Надежда. Добра, красива и умна. А кто она? Моя жена. И ей известны педнауки и у нее чудесны внуки. И так же точно, всем известно, у ней красивая невестка, друзья и мама, и к тому ж у ней красивый, умный. сын. И сын тот в этом не один, поскольку есть еще и муж.
С УТРА, НАЛИВ нектар в стакан, читал поэтов. И изменил Диане Кан с землячкой Светой (Сырневой).
В КОМИТЕТЕ ПО ПЕЧАТИ сотрудник рассказывает: «Было совещание главредов московских изданий. Жалуются: вы отняли у нас проституток, оставьте нам хотя бы магию, экстрасенсов, колдунов. Нам же совсем не на что жить» (то есть деньги от рекламы бесовщины и разврата).
- УТОПИТЬ ГОРЕ в вине невозможно: горе прекрасно плавает (брат Михаил). Я уже не подхожу к семидесяти, а отхожу (он же).
- Я ГУЛЯЮ КАК собака, только без ошейника. Не любите вы меня, экого мошенника. Ой ты, милая моя, не бойся пьяного меня. Чем пьянее, тем милее буду, милка, для тебя.
Балалайка, балалайка, балалайка лакова. До чего любовь доводит -села и заплакала. Балалайка, балалайка, балалайка синяя. Брось играть, пойдем гулять: тоска невыносимая.
Коля, Коля, ты отколе? Коля из-за острова. До чего любовь доводит, до ножа до вострова.
- ШЛИ В ТАЛЛИНЕ нацисты в черном, со свастиками. А старик с гармошкой заиграл «Прощание славянки». И они стали маршировать под этот марш (рассказала Татьяна Петрова).
«Я ЛЮБИЛ ЕЕ эвристически, а теперь люблю эклектически. Друг смеялся надо мной саркастически, а потом вообще сардонически».
МНОГО ЧЕГО открылось для меня в литературной Москве. Разве мог я предполагать, что в ней никто меня не ждет. Вот я такой хороший, так всех люблю, так хочу послужить Отечеству и его словесности. Но надо ж за стол со всеми присесть. Но увидел, что садятся за него москвичи и локти пошире раздвигают, чтоб рядом никто не сел.
А уж словес - словес! Особенно склоняли цеховое братство. Но я быстро заметил, что произносят это слово они так: «бьядство». Картавили сильно. Такое вот московское бьядство.
НА ДНЯХ ЛИТЕРАТУРЫ в Волгограде дарили писателям бочоночки с медом. Всем одинаковые, а Георгию Маркову побольше. Павел Нилин спросил вслух: «А почему так? Разве я хуже писатель, чем Георгий Мокеевич»? Но, к чести Маркова, он тут же передал свой бочонок Нилину, сказав: «Спасибо вам, мне легче будет тащить чемодан». Хотя, конечно, разве он сам таскал чемодан?
Хотя человек он был порядочный. И при нем Союз писателей полнился писателями из Сибири, России. Я был на его родине. Он отдавал свои премии на строительство библиотек.
В НОВОРОССИЙСКЕ МЕНЯ повезли в горы. Оттуда обзор на всю Малую землю, залив. Именно его пересекал много раз катерок начальника политотдела 18-й дивизии Брежнева. Под огнем. Это к тому, что много иронизировали остряки в Доме литераторов по поводу книг генсека. А он в общем-то был поприличнее того, кто был до него и тех, кто был после.
Мне показали остатки пожарища большого здания. «Это был ресторан, который назывался “Вдали от любимых жен”. Был очень популярным. И его подожгли... да, именно “любимые жены”. Они и не скрывали, что это они. Ничего им не было: борьба за нравственность».
Поздняя осень, берег пуст. У памятника Новороссийскому десанту женщина с сумкой. Около нее и утки, и чайки, и голуби. Смеется: «Меня птичницей зовут. В кафе мне собирают пищевые отходы, приношу сюда. Тут и лебеди есть. Что-то сегодня нет. Я занималась орнитологией. Тут и шептуны и крикуны. Да вот же они, летят, увидели кормилицу».
И в самом деле принеслись два черных, небольших по размеру, лебедя. С размаху сели на воду, но не близко, поодаль.
- Ничего, приплывут.
Я отошел, чтоб не боялись. Ветерок, небольшой с утра, разгуливался. Волны усиливались и выносили на берег разный мусор. Будто море само вызвало ветер, чтоб он помог очиститься. Прошел подальше, еще больше мусора. Показалось даже, что море просто тошнит от омерзения, и оно отхаркивается, отплевывается от заразы.
ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. Женщины как евреи, им надо, чтобы о них все время думали и говорили.
Женской души много в песнях о женской судьбе. Признается: «Мне -ненавидеть тебя надо, а я, безумная, люблю». - «Вот она любовь, окаянная». - «Мне не жаль, что я тобой покинута, жаль, что люди много говорят». - «Если я тебя таким придумала, стань таким, как я хочу». - «Я тебя слепила из того, что было, а чего слепила, то и полюбила». - «И скажет: немало я книг прочитала, но нет еще в книжках про нашу любовь». - «Смотри же, вот ножик булатный, его я недаром взяла». - «Та же удаль, тот же блеск в его глазах, только много седины в его висках. И опять-то я всю ночку не спала...» - «Он клялся и божился со мной одною быть, на дальней на сторонке меня не разлюбить». - «Ох недаром славится русская красавица». - «Пойдем же, пойдем, мой сыночек, пойдем же в наш курень родной, жена там по мужу скучает, детишки там плачут гурьбой». - «Каким ты был, таким ты и остался, но ты и дорог мне такой (пели: но ты мне дорог и такой)». - «Дочка домой под утро пришла, полный подол серебра принесла». - «Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать судьба такая - век одной качаться».
«Ой Семеновна, какая бойкая, наверно, выпила поллитру горького, поллитру горького, да и зеленого, смотрите, девушки, я измененная».
- АНГЕЛЫ НЕБЕСНЫЕ пусть хранят ваш дом, пусть любовь взаимная вечно будет в нем! Сердце пусть наполнится светом и теплом, поздравляем с праздником - светлым Рождеством!
СЕЙЧАС ВОСПИТЫВАЕТСЯ человек на уровне разумного животного. Инстинкты, стадность, выполнение приказов. Культура, как культ света (ур - свет), требует ухода. Грядка сама себя не прополет, картошка сама не окучивается. Теперешние доходы (бизнес по-демократически) основаны на безнравственности. Рэп, рок, хэви-метал - все для дебилизации. И развитие чудовищной самоуверенности. Нет, встряска нужна.
Музыка - дело государственное. Если в стране менее шестидесяти процентов национальной музыки, нация гибнет безо всякого военного вмешательства. Что поем, такие мы и есть. Музыка родины - иммунитет против нравственной заразы. Демократия клинически глуха к национальной культуре, а часто прямо враждебна ей.
ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЕ шмели на красных маках. Гудят, довольные, будто поют.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИКТОРА Шумихина о книге в жизни вятских жителей. Вывод: Наиболее читаемые книги в порядке убывания: религиозные, повести и рассказы, исторические, по сельскому хозяйству, по ремеслам.
Беллетристику многие называют «скукоразвлекательной». «Романы мы желаем от нас уничтожить, а взамен их принять из Божьего закона. А романы нам читать времени нет (Сарапульский уезд)». Просят книг, «которые могут пользу приносить в настоящей и будущей жизни».
Да, Виктор Георгиевич, Витя, Господь мне тебя послал в семидесятые годы, и это так было для меня благотворно. И дружны были до твоего ухода. И всегда, когда к папе-маме иду, к тебе захожу.
ПРИМЕРНО ЛЕТ ДВАДЦАТЬ подряд на выходе из метро «Щелковская» зазывалы кричали всегда: «До Иванова! До Иванова! До Иванова!» И так без конца. И иногда присоединяли Кинешму («На Ярославском-то, эх-ма! Встречаю поезд Кинешма»). Чаще кричали однотонно, то есть просто информационно: «До Иванова, до Иванова!» Но иногда зазывалы были и повеселее, и с выдумкой: «А вот с ветерком до города невест! А вот комфортабельно!»
Так и кричали. Годами. И если я, поднимаясь из метро, их не слышал, то вроде и не на «Щелковскую» приехал.
И чего это я вдруг записал? И у Павелецкой кричат: «До Липецка! До Ельца!» Но Иваново всех давнее.
А сегодня вышел - нет, не зовут в Иваново, не кричат. Будто и Иванова уже на карте нет. Нет, есть.
Иваново - город, куда я в армии сорвался в самоволку.
А ЧТОБЫ НОГИ не потели, давай-ка дернем «Ркацители», хоть либералы нас отпели. С судьбой поэта не шали, прими для здравия шабли. Желудка голосу внемли, иль внемли, прими мензурочку шабли, не медли!
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ХОР. Какой у тебя голос, таким и пой. Но не громче других, других - не глуши, но и не тише - никто тебя не услышит.
ЗАЧЕМ УЧИТЬ ложные религиозные учения, если ты знаешь главное подлинное православие. И, зная его, всегда упасешься от обольщения сектантством, протестантизмом, папством.
Да и простая житейская семейная привычка тоже спасает. Маму мою тянула в баптисты ее дочь (увы, сестра моя). Приводила даже их старосту или наставника. «Я не поняла, кто он. Но сильно уговаривал. Я говорю: не надо, не уговаривайте. Я родилась и умру православной».
Роль Рима возвысили варвары. Римские епископы возомнили, что именно они руководят всем христианским миром. Но апостол Петр не поручал им своей роли. Папа Стефан (VIII век) пишет: «Я - Петр апостол, по воле Божественного милосердия званный Христом, Сыном Бога Живаго, поставлен Его властью быть просветителем всего мира». Но все-таки эти «просветители мира» не разделяли Церковь, пока с XI века Рим не стал говорить о папе, как наместнике Христа, о непогрешимости папы в делах веры. Папство становится и светской властью. Папа Бонифаций объявил папу главой всей Церкви. Мало того, в 1917-м году папа Бенедикт: «Римский первосвященник имеет высшую и полную юридическую власть над всей Церковью». Все это в общем-то можно назвать самозахватом. Взяли и заявили, что обладают высшей властью. А кто разрешил? Да никто: им откровение во сне было. То есть приснилось?
В XVI веке в Германии возник протестантизм - протест против индульгенций, то есть о прощении грехов за деньги. Захотел жене изменить -вначале заплати, купи индульгенцию. Постепенно протестанты распались на множество течений, сект, учений. И все самонадеянны, всех их даже и не узнаешь. И знать не надо.
Одно знать - спасение во Христе, в Святой Троице, в Божией Матери.
ПИШУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ все-таки умнее говорящих. Хоть и те, и эти - циники, но говорящие более тщеславны, им еще и покрасоваться надо.
ИНТЕРНЕТ КАК СПРАВКА - дело хорошее, но ум он делает ленивее, а человека самоувереннее. В родном селе моем интернет есть, а воду из реки пить нельзя. Вопрос: зачем мне интернет? Погоня за знаниями убьет ученость.
В МИНСКЕ ДЕВЧУШКИ студентки говорили, что завидуют московским студентам: «У вас дискотека всю ночь. А у нас только до одиннадцати». - «Так это же хорошо, - отвечал я. - Вспомните поэта: “Ты, девушка, должна природе подражать: луна, пока юна, уходит рано спать”. Спать ночью надо, а не беситься».
ЮНОШЕСКОЕ В РАЗЛУКЕ с родиной, после педпрактики в Евпатории: «Когда я о море с грустью писал, то вспомнил невольно о вятских лесах: они, как море, простором полны, для птиц их вершины как гребень волны. Там тоже, как в море, дышать легко, но то и другое сейчас далеко. И неотрывно в сердце всегда: туда непрерывно идут поезда... Старый-престарый грустный сюжет: там хорошо лишь, где меня нет. Но если он стар этот старый сюжет, то, может быть, плохо там, где нас нет».
ДИСТАНЦИОННАЯ ЖИЗНЬ. Очень легко живется молодым людям нового времени в России. А если в чем-то и нелегко, то им демократы внушили: это все совки, ваши родители, все никак не помрут. Молодые ни за что не отвечают, сели на шею своим родителям, совкам и ватникам, и считают это очень правильным. «Вы жили всю жизнь во лжи, значит кормите нас. И наших детей тоже».
Один такой молодой уже и детей имеет, а вроде еще и сам не взрослый: ума своего нет. В голове сплошной интернет. Очень он на него подсел. Ни покурить, ни в туалет сходить без айфона не может. И все знает. И знает, что народу все врут. Очень он переживает за русский народ, желает ему походить на американский, продвинутый. Желает также, чтобы и сын его продвинулся. Чтобы от всей этой здешней жизни подальше был. Тут же что? Тут же полицейский режим, тут и сказать ничего нельзя. А того не подумает, что и сказать ему совершенно нечего, кроме того, что здесь народу все врут.
В школе у сына неспокойно: мальчишки курят, матерятся, все меряют на деньги. Надо сына от этого отодвинуть подальше. Есть же новые технологии дистанционного обучения.
Вот и поселился он с сыном на плоту среди воды. Там у них всякая оргтехника, там получают задания, выполняют, отсылают, получают новые. Дистанционно сдают экзамены, переходят в следующий класс. Дистанционно заканчивают школу, поступают дистанционно в колледж и далее.
Работа тоже дистанционна. И где там эта Россия, где там эти старики-совки, какая разница. Деньги бы переводили, и хватит с них.
Вернулись однажды в Россию, а в ней все другое. Обратно в Америку, а кому они там нужны.
«МАЛЕНЬКИЙ МУК»
Так я прозвал электрический чайник - даже не литровый, меньше. Прозвал, потому что маленький и очень быстро кипятился. В большом семействе батюшки отдыхать ему было некогда. И своя семья большая, и очень много гостей. Я предложил батюшке: давайте я вам куплю большой, а этот возьму себе. Получился такой обмен.
Чайник очень мне нравился: горбатенький такой, быстрый. Его еще можно было назвать и коньком-горбунком, но раз назвал Маленький Мук, так и продолжал называть.
Да. А когда был пожар, и мой дом сгорел, то и чайник сильно пострадал. Весь стал черный, как парижский трубочист. Я его для опыта налил водой, включил, но ничего не получилось: течет, не греется. А выбрасывать было жалко. Отчистил. В белый цвет он не вернулся, но от черного отошел, стал промежуточным, как желтая раса.
Привез в Москву. И еще попытался включить. Нет, безполезно. Ладно. Поставил в шкафу. А когда на старом месте сгоревшего построил новый дом, решил вернуть чайник на родину. Как память. Привез. И вот - есть свидетели - налил воды, включил в розетку, и Маленький Мук моментально закипел, заговорил, как бы докладывая, что прибежал и свое дело исполняет. Так торопился, так радовался, что я радуюсь.
И работает до сих пор.
Все-таки есть что-то такое в предметах, нас окружающих. Пусть не душа, но что-то. В тех, которые к нам привязываются. Тяжело же было Маленькому Муку в день согреваться раз по двадцать-тридцать. Я пожалел, мне хватало раза три. Он и отблагодарил. Еще и то ему понравилось, что не на чужбине пришлось жить. И тут не родина, из Германии приехал, но обрусел.
Вспомнил, как отец привез из леса ежика. Мы дверь закрыли, выпустили его на пол. Он убежал под печку и молчал всю ночь, а утром «обрусел». Так сказал отец. То есть ежик осмелел, подошел к блюдечку с молоком и очень шумно стал лакать. Потом мы его даже тихонько гладили по колючкам. Потом выпустили. В лес отнесли. А жалко было выпускать. Даже и через почти семьдесят лет думаю, как он там тогда выжил. Ни молока, ни блюдечка.
ЦИРК. ШЕСТОВИК. Это должен быть очень сильный артист: он держит шест, по которому поднимаются артисты, иногда даже и трое. Обычно девушка гимнастка. Обычно такой номер, как многие номера в цирке, семейный. И вот пара такая: он внизу, она под потолком, на вершине шеста.
Очень смелая, работает без лонжи, то есть без страховки. Хотя это и запрещено, но она, ловко поднявшись, картинно отстегивает лонжу от пояса и бросает ее. Выделывает всякие умопомрачительные трюки. Успех у них всегда превосходный.
И вот - они ненавидят друг друга и постоянно дерутся. И сковородкой она может запустить, и исцарапать ему лицо до крови (потом гримерам много работы). И он ее тоже не милует. Ему советуют: «Есть же способ, чтоб ее убить: ты споткнись у всех на виду, она хлопнется и разобьется. И никакое следствие не подкопается. Все чисто».
Но нет, такого себе позволить он не может. Ему не позволяет сделать это профессиональная гордость. Как это так - лучший шестовик страны, да вдруг шест уронит. Нет.
«Но ты же ее ненавидишь». - «Да. Но когда я работаю, я в эти минуты ее люблю. И она мной гордится».
Так что у них десять минут любви в день, остальное ненависть.
- ДА, ЕСТЬ У НАС один грешок - мечтанья русского Ивана: проснулся он - вокруг цветы, а рядом скатерть самобранна.
НА ОСТАНОВКЕ ОН и она, оба в подпитии. Она его провожает. Мужчина пытается шутить:
- Я все взорву, всю планету взорву, а твою Балашиху оставлю. Останется Балашиха. Это моя ипостась.
В автобусе он утомляет кондукторшу шутками. Она отмалчивается. И он умолкает. Но перед выходом заявляет:
- Верните мне половину денег за билет: автобус шел в два раза медленнее.
- Я верну, но тебе все равно на штраф не хватит.
- За что?
- За проезд в нетрезвом виде.
- Я? В нетрезвом? Ин-те-рес-но. Кто вам сказал?
- И говорить нечего: от тебя запах такой, что дышать нечем.
- Это мужские духи.
- Были б такие духи, все бы женщины в противогазах ходили.
- О! - восклицает мужчина, выходя, - вот этого и будем добиваться.
ВСЕ ЦИТИРУЮТ частушку тридцатых про «Сталин Кирова убил в коридорчике». Но многие ли знают, что была тогда же частушка на мотив «Семеновны»: «Эх, Семеновна, юбка валяна, убили Кирова, убьют и Сталина». Народное чутье было безошибочным. Не убивал Сталин Кирова.
И Кирова, и Сталина убивали одни и те же. Ни Кирова, ни Сталина мне не жаль, Бог им судья, но даже и они, обагренные кровью, были ненавистны врагам России. Большевики как могли укрепляли ее. Диким образом, безбожным, насильным (все теперь взрывается) созидали СССР Но как бы мы без СССР свалили Гитлера? «Сидит Гитлер на березе, а береза гнется. Посмотри, товарищ Сталин, как он навернется». Это же не Агитпроп сочинил, это опять же народное.
ЭНЕРГИЯ - ДАР БОЖИЙ
Народный академик Фатей Яковлевич Шипунов много и, к величайшему сожалению, безполезно доказывал в Академии наук и, как говорилось, в вышестоящих инстанциях необходимость замены источников энергии на природные. Затопление земель при строительстве гидростанций никогда не окупится энергией. Это поля и леса, пастбища, рыбная ловля. Что говорить о тепловых станциях - сжигание нефти, угля, дров. И уж тем более расщепление ядра - атомные станции.
- А чем же это все можно заменить?
- Ветер, - отвечал он. - Наша страна обладает самыми большими запасами ветра. «Ветер, ветер, ты могуч», ты можешь не только гонять стаи туч, но и приводить в действие ветродвигатели.
Фатей неоспоримо доказывал великую, спасающую ценность ветроэнергетики.
- Как бы мы ни ругали большевиков, но в смысле хозяйствования они были поумнее коммунистов. Восемнадцатый съезд ВКП(б) принял решение о массовом производстве ветроэлектростанций.
Так прямо и говорил коммунистам. Рассказывал, что в 30-е годы был создан и работал Институт ветроэнергетики. И выпускались ветроагрегаты, «ветряки», начиная со стокиловаттных.
Кстати, тут и мое свидетельство. Наша ремонтно-техническая станция монтировала для села такие ветряки. Бригада три человека. Собирали ветряк дня за три-четыре. Тянул ветряк и фермы для коров и свиней и давал свет в деревню. Работали ветряки прекрасно. Да и просто красивы были: ажурные фермы, серебряные лопасти. Ухода требовали мало. Они же не просили ни нефти, ни газа, ни угля, ни дров, сами - из ничего! -давали энергию.
Думаю, что горло ветроэнергии пережала опять же жадность и злоба. Жадность нефтяных и угольных королей (как же так, обойдутся без них) и злоба к России (как же так - прекратится уничтожение сел и деревень, да и городов, как же так - не удастся прерывать течение рек плотинами, создавать хранилища с мертвой водой): как же это позволить России самой заботиться о себе?
Вывод один: все время второй половины XX века никто и никогда не думал о народе.
И тем более сейчас. Народ просто мешает правительству. Ему нужна только серая скотинка для обслуживания шахт, нефтяных вышек. У этой скотинки желудок, переваривающий любую химию, и егэ-голова. И два глаза для смотрения на диктующий условия жизни телеэкран, и два уха для выслушивания брехни политиков и для лапши.
Ветер бывает не просто могуч, он бывает сокрушителен. Ураганы и смерчи - это же не природные явления, это гнев Божий.
Что ж, давайте дожидаться его справедливого прихода.
Пушкин пишет в «Капитанской дочке»: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным». А так оно и есть -ветер одушевленный. «Не хотели по-хорошему использовать мои силы, так получайте по-плохому за грехи ваши. Сила у меня скопилась, девать некуда».
ГЕРЦЕН ТЕПЛО вспоминал Вятку. В «Былом и думах» о вятских знакомых: «Подснежные друзья мои». Но то до него не доходило, что зараза даже не революции, а безнравственности шла от поляков на его любимую Вятку. Отец очень хорошо помнил, как сосланные в Уржум поляки жили с прислугой, учили молодежь, особенно девушек, пить, курить, стричь волосы.
«Головы-то сильно повертывали». И вятский архиерей, отмечая молитвенность вятчан, крепкие семейные устои, говорит (по памяти): «Лишь волны ссыльных поляков мутили чистые воды вятской благонамеренности». И формирование ума Сережи Кострикова произошло с участием поляков.
Вообще несчастные люди поляки. Славяне, а католики. Вот и вся причина. Как же славянину без православия?
Но уже подтачивается и обрушивается берег славянского братства. И нет житейского счастья славянам Европы, только страх: лишь бы выжить.
НА МЫСЛЕННОЙ ТВЕРДИ, как на небе, блещут звезды страдальцев. (Откуда это? И что это - мысленная твердь?)
РАБЫ БОЖИИ - это воины Христовы, это не наемники.
У МЕТРО слепой собирает пятьдесят тысяч рублей, чтобы поехать на съезд инвалидов в Австралию.
ОБЪЯВЛЕНИЕ: «Прекрасный актер, жду приглашения. Играю только подлецов, порядочных не предлагать: не хочу вживаться в образ».
ВОТ ТОЧНЫЕ ФОРМУЛЫ власти по отношению к народу: БОЛЬШЕВИКИ: «НЕ СОГЛАСЕН - к стенке! КОММУНИСТЫ: «Не смей болтать, все равно будет по-нашему». ДЕМОКРАТЫ: «Болтай, что хочешь, все равно будет по-нашему». Такие формулы.
ЭТОТ КАНДИДАТ слишком порядочен, чтобы победить.
ПАСТОР ШУЛЛЕР в 90-м, в декабре, по ТВ: «Вы пока не умеете играть на рояле, который называется “свобода”. Мы вам подарим такой рояль, и вы научитесь».
Думаю, их рояль только для музыки душевно отсталых народов.
Замечал по писателям, долго жившим в Европе. Вернулись, все тамошнее хвалят, а сами уже сдвинутые. Это не Европа, это психушка.
Вернулась дама из Англии. Без нее и 91-й и 93-й годы. «Как, меня здесь опять начнут дрессировать? Меня раньше дрессировали так, чтоб и под одеялом не смела думать ни о чем, кроме марксизма-ленинизма, а сейчас дрессируют, чтобы верила в Бога? Но я-то уже понимаю, что к чему».
То есть открытие храмов, Тысячелетие Крещения - это дрессировка? А Европа приучила ее обходиться и без Маркса и без Бога.
«Я БРОДИЛ СРЕДИ скал, я поллитру искал. Огонек, огонек, ты помог ее мне найти» (пародия на надоевшую песню).
«Недаром, едрит твою в дышло, напитан ты был коньяком» (Яша, завсегдатай ЦДЛ).
О, СКОЛЬКО журналистов спилось на фуршетах. Они, кстати, и не шли освещать те мероприятия, на которых их не поили. Организаторы мероприятий это хорошо знали.
ДОЖИЛИ ДО термина ПДК - предельно допустимые концентрации отравы в продуктах. То есть отрава есть, но допустимая. И нормы постоянно отодвигаются. И эти ГМО.
И вообще, прекрасные слова: «вода», «воздух», «пища» слились со словами «загрязнение», «отравление», «заражение».
ГРУЗИЯ, 81-Й. Дома, даже простенькие, по миллиону. А на севере по цене дров, а то и просто брошены. И возмущаться не смей. А сколько в Грузии Героев Соцтруда - сборщиков чая. Осень, прохлада, солнце, чистый воздух. А у нас сборщики картофеля: осень, грязь, холод, тяжести. И работа стемна дотемна. И кто герой?
ГОД РУССКОГО языка, начатый барабанным боем, закончился сокращением часов на преподавание языка. Год культуры закончился сокращением числа сельских библиотек. Чем закончится год литературы, легко представить, судя по открытию. Оно убогое и по текстам и по подбору имен. Для очистки совести пять-шесть классиков, да и те из прошлого, остальные - массовка.
Открытие года русской литературы лучше назвать продолжением пропаганды русскоязычной литературы. Как будто нет в литературе ни Рубцова, ни Распутина, ни Белова. Абрамова, Лихоносова, Горбовского
не вспомнили. Одни Исаевичи да Бродские. По экрану ползут сплошь русскоязычные фамилии или псевдонимы. Русские помельче шрифтом. А, ладно. Это и от злобы к нам, и от внутреннего понимания нашего превосходства. Ну какой писатель Гранин? Смешно.
Куняев, которого не могли не пригласить - все-таки главный редактор самого тиражного толстого журнала: «Я сбежал, не вытерпел». Скворцов: «Меня так посадили, что сбежать не получилось, высидел всю мататату». Меня, слава Богу, не звали, да я бы и не пошел.
Из интереса посмотрел немного прямой эфир. Кто это, эти лица? Никого не знаю, а ведь я больше сорока лет в членах СП. Назойливо показывали какую-то тетку. Кто это? Жена: «Устинова» - «А кто она?» - «Писатель» - А что пишет?» - «Детективы». А-а, детективы, вот что. То есть она-то тетка здоровая, еще поживет, а детективы ее уже умерли, умрут и те, что еще не написаны. «Зачем ты так говоришь?» - «Это не я говорю, а история литературы».
- Я ШЕЛ ЧЕРЕЗ людный базар. Осень была на износе. Вдруг бросилось мне в глаза, что дворник метет, как косит. Разом вспомнилось: в вятских лугах я сено мечу в стога, в летнем хвойном лесу лукошко с малиной несу. И вот я, совсем мальчуган, строгаю из щепки наган. Бегу босиком по стерне, считаю круги на пне... Нам нужно совсем немного, чтоб вспомнить о многом за миг. Дороги, дороги, дороги. Мальчик, мужчина, старик.
КРЕСТНИКУ: - Не покидай отца в печали, за мя, за грешного молись. Ты вспомни, как мы сожигали дни жизни. Это была жизнь. Но жизнь земная. Жизнь у Бога еще нам надо заслужить. Пора начать нам: у порога уже не по-земному жить.
- Среди тревог, среди покоя, необъяснимо нелегка меня хватает за живое по морю синему тоска. Внезапно вспомню: прилив - отлив. Залив уходит, шумит пролив. Забытой пластинки забитый мотив: настанет прилив и вернется залив. Забытой картинки избитый сюжет: отливы -приливы, но там меня нет.
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ спросил меня (мы сидели в буфете ЦДЛ): «Ты когда-нибудь купал женщину в шампанском?» - «Нет». - «А чего? С гонорара, если тираж массовый, можно. Всего-то на ванну ящика три. - Поэт помолчал: - Вообще-то это что-то страшное: голову замочит - волосы мыть, косметика потечет. И шампанское после нее неохота пить». - «Оставь пару бутылок, все не выливай». - «Шик не тот. Тут, брат, туфелькой надо из ванны черпать». Еще помолчал: «А сколько гусарили! Эта же процедура после того как разгорячатся, то есть все потные, туфля с ноги грязная, у! А дураки поэтам подражают - думают, поэзия. - Юра поднял глаза. - Все обезьяны: и поэты и читатели... и бабы».
ВЕСЬ УЧАСТОК уже был без снега. Уже и кормушку убрал. Но оказалось - рано. Снег зарядил еще на четыре дня. Такой чистый, нежный, что не утерпел и еще в нем повалялся. Специально баню топил. Полная луна. Еще и комета такая огромная стояла, что ждали все чего-то плохого. А я любовался: и ее Бог послал.
Утром в воскресенье причастился. Проповедь о монашестве. Прежний испуг от нашествия мира в лукавствиях мыслей. И прежняя молитва: «Господи, если ум мой уклоняется в лукавствие мира, то сердце мое да не отойдет от Тебя».
Птичкам голодно - опять подвесил кормушку, обильно насыпал - выщелкали, даже не видел когда.
Да, вернулась на немножко зима. Еще, значит, не нагляделся на снег под луной, на деревья в куржаке. Давно не обмерзала борода. Давно не плакал тающими на ресницах тонкими льдинками.
Я ПИЛ МАССАНДРУ на мансарде, быв визави с мадамой Сандрой, забыв про мужа Александра. А он имел ручную панду. Он приобрел ее приватно, стажером был когда в Уганде. Держал ее он за ротондой. Вот взял ее он на цугундер, вдобавок прихватил эспандер. Так что ж, выходит - мне кирдык? Попасть на острый панды клык? Ведь эта панда зверо-вата, привыкла жрать с утра до ночи. Я не ее электората. И мне предстать пред панды очи? За что же эти мне напасти - во цвете лет исчезнуть в пасти? И за кого? За эту Сандру? Хотя она и красовата, но черезмерно полновата и неприлично толстовата, и как-то очень мешковата, к тому же даже глуповата. Да, вот я вляпался, ребята. Уж не писать мне палиндромы, не любоваться палисандром, не управлять машиной хондой, и не бывать мне в гастрономе, где только днем купил массандру.
Но - тихо! - перемена темы: в зубах у панды хризантемы и смех в зубах у Александра. Кричит: «Хоть ты не толерантен и не страдаешь плюрализмом, и очень не политкорректен, приватизируй мою Сандру, а я в турне спешу, в круизо - вершить валютное авизо». Я закричал: «Нет, лучше панда!»
- «КТО ВЫДУМАЛ коммунизм: ученые или коммунисты?» -«Коммунисты». - «Я так и думал. Ученые вначале бы на собаках испытали» (уже давнее).
МАМА: «СЕЙЧАС полы мыть за шутку: крашеные, а раньше скребли, терли, два раза споласкивали и насухо чистыми тряпками протирали».
О своей маме: «Не фотографировалась, считала за грех. Были б в колхозе паспорта, на паспорт бы пришлось сняться». «Я читаю книжку, она спрашивает мужа: “Коля, ладно ли она читает?” Темные были, своим детям не верили».
ДОСТОЕВСКИЙ: «НЕ В жидовском золоте дело. У нас и милостыни просить не стыдно. Чувство солидарности. Стыдятся - застреливаются». (ПСС в 30 т. Т. 15. Стр.250).
СПОСОБЫ УБИВАНИЯ. Русские - наивные люди. Не верят, что их давно и целенаправленно убивают. Никак не смогли покорить, споить, развратить, осталось у врагов России одно, последнее - убить нас физически. Отравить, заразить, сократить рождаемость, сделать дебилами посредством массовой (слово-то какое!) информации (это не лучше).
- ВСЯКО НАС ОТ БОГА отучали, - вспоминает мама. - Милиционера ставили, чтоб от всенощной отгоняли. На Пасху мы пошли к ночи.
Идем, семь километров, сколько-то не дошли. И остановились как вкопанные - стая волков. Мы в друг друга вцепились. Потом дай Бог ножки! В церковь. И милиционер уже ушел. Волки нас задержали, а то бы записал. В церкви как раз успели к «Христос Воскресе!». Все справили: исповедь и причастие. Батюшка спрашивает: «Не гуляешь с пареньками?» Я вся вскинулась: «Ой нет, батюшка!». А до того, как мама учила, отвечала: «Грешна, грешна». Яйца освященные утром съели, скорлупу в карман - в грядки закопать.
Мы сидим, хлебаем уху - любимое блюдо отца. Да и мое тоже. Отец икает:
- Ой, хорошо: кто-то сытого помянул. Эх, уха без перца, что женщина без сердца. А помнишь, мамочка, постановку ставили. «Любовь моряка». Я же тогда тебя разглядел.
- Тогда? Надо же. Как не помнить? Первый и последний раз на сцене играла. Играла его невесту. Он возвращается, и они должны поцеловаться. Я ни в какую: убейте, не буду! Так завклуб: это же понарошку. Склонитесь просто и все. Я и отвернулась даже. А не знала, что тятя пришел и смотрел. Дома говорит: «Больше, чтоб в клуб ни ногой! Вот вы зачем туда ходите». - «Тятя, тятя, дак мы ведь только вид делаем». Все равно не разрешил больше.
- А я, - говорит отец, - сказал отцу: так и так, мне очень Варя Смышляева нравится. Он сразу: надо посмотреть. Взяли хорошего вина, пошли. А ты уперлась и даже и не вышла.
- А ты что думал: прямо вся и выставлюсь. У нас строго. Когда сваты приходили, нас с Енькой в подвал прятали, чтоб Нюрку взяли, она старшая. А когда Еню в Аргыж сватали, я тоже к соседям убежала.
- Обратно идем, мне отец: «Видно, что семья трудовая, надо брать».
- ДО ТОГО КОШКИ умные, прямо дивно. У нас одна жила, имя не помню. А вспомнила недавно, стали снимки кошек в газетах печатать, одна до того на нее очень похожая, может как по родне. Таскала котят, приходилось топить, куда их? Раньше это за грех не считали, если слепыми утопить. Конечно, она переживала. И вот родила, но не в доме, а на сарае. Вижу, не стало ее дома. Прибежит, поест и убежит. Ясно, к ним. Но тут зима. Она, видно, забоялась, что замерзнут, и стала таскать в дом. Я на крыльце стою, она с котенком. Дверь ей открыла, она его под печку и опять летит на сарай. Тащит второго. Снова под печку. Да и третьего. Да ведь опять побежала. И несет четвертого. Но этого уже под печку не сунула, оставила у порога. То ли он ей не нужен, то ли мне отдает, думает: пускай хоть одного утопят, остальных пожалеют. А как топить, когда они уже глядят, глаза открылись, все разглядывают. Нет, тут я не смогу. А жили на дворе лесхоза. Сидят мужики. Я к ним: «Не возьмет ли кто?» Один говорит: «Возьму. У нас кошки нет, а у вас кошка очень красивая». И взял. Сколько-то времени прошло, очень благодарил. Такая, говорит, хорошая выросла. Ловистая...
- Какая, какая?
- Ловистая. Хорошо мышей ловит. И поет громко, дети радехоньки. Да у меня и остальных трех разобрали. Так моя-то их мать сколь была радостна, сколь благодарна. Все поет, поет, о ноги трется.
И ОПЯТЬ ПЕРСИЯ. Замечали, что в так лелеемом патриотами слове «имперская» корень какой? Перс. Македонский, воспитанник Аристотеля, пил с любовницей во дворце столице Персии Персеполисе. Из истории заметно, что политикой занимаются именно развратные женщины, а не порядочные. Вино лилось, факелы пылали. Тут то ли любовница, то ли сам Александр захотел сильных ощущений и швырнул факел во что-то легковоспламеняемое. Пламя понравилось подчиненным, стали поджигать и они. Персеполис сгорел. Ну не дурость?
Сохранилась стела - изображение как цари всего мира идут на поклон к царю персидскому.
Развалины. Дом дервиша. Имя неизвестно, но музей ему стоит. Каково?
Музей Саади. На куполе надгробия голубь. Думал, из мрамора. Нет, живой. Бассейны. В них священные рыбы Саади коричнево-кофейного цвета. Избавляют от болезней.
Все цветет: кусты, клумбы. Много рабочих. Все на государственной службе. Дно бассейнов забросано монетами и даже бумажными ассигнациями. Девушки в черном (Переводчик: «Они в трауре по пророку Али») поворачиваются спиной к воде, бросают монетки через плечо («Говорят при этом желание»).
Здесь Мекка поэзии. Далее в машину. Несемся к могиле Хафиза. Превысили скорость. Оштрафовали на один доллар.
ЖАЛЬ, МАЛО изучается наследие митрополита Платона (Левшина). У Пушкина: «Школы Левшина птенцы». Умнейший воспитатель великого императора Павла (тоже, кстати, замалчиваемого), очень русский, человек огромной учености, великий строитель церковных зданий, организатор училищ, семинарий, преподаватель академий, называемый при жизни «вторым Златоустом и московским апостолом», он оставил в наследие образцы отношения к иноверным. Ему было предписано явиться к императору с поздравлениями при короновании в одно время с римо-католиками. Митрополит попросил доложить императору, что «несовместимо иноверному духовенству представляться благочестивейшему Государю вместе со Св. Синодом и православным духовенством». Павел принял католиков в другое время.
Когда Дидро гордился, что говорит: «Нет Бога», то Платон пристыдил его, сказав, что еще царь Давид сказал о таковых: «“Рече безумен в сердце своем: несть Бог”, - а ты, сказал он французу, - устами таковое произносишь». Пристыженный Дидро вскоре был вынужден удалиться обратно в свою Францию.
Учения Вольтера, Дидро, Аламбера, этих «энциклопедистов» Платон называл «умственной заразой». Их безбожие дорого обошлось Европе. Реки крови, революции, искалеченные государства, - все следствие этой заразы.
ПО РОЗАНОВУ: Вся литература (теперь) захватана евреями. Им мало кошелька: они пришли по душу русскую.
Евреи «делают успех» в литературе. И через это стали ее «шефами». Писать они не умеют, но при таланте «быть шефами» им и не надо уметь писать. За них все напишут русские, - чего евреи хотят и что им нужно.
Паук один, а десять мух у него в паутине. А были у них крылья, полет. Он же только ползает. Но они мертвы, а он жив. Вот русские и евреи.
Спросим: разве не так и доныне? Так, и больше, чем так. Убивается классика, тем самым уничтожается верное восприятие литературы, театра. Убивается изобразительная сила русской живописи (тем, что не выставляется, не изучается), выползает на стены залов мразь формализма, выдрючивания, искажения облика человека.
ВИДИМО, БОЛЬШЕВИКИ так воспитали пишущих, что те обязаны были говорить мерзости о церкви, славить евреев, говорить гадости о русских. Это в довоенный период. Кого ни возьми. Даже и Паустовский. У Гайдара: «Она теперь по-иному понимала... горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.
Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.
Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец. У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками. Натка спросила у них дорогу» («Военная тайна»).
- ПИСАТЕЛИ ОБ лЮдях пишут. - Об ком? - Не об ком, а об людях.
- Да-да, они накапливают потенциал позитивных перемен, я понял, да.
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК у нас - Пасха. У католиков - Рождество. У нас обязанности, у них права. У них венец всего - нравственность, у нас -безграничность достижения святости. Через покаяние, посты, молитву. У нас Глава церкви - Христос, у них - папа Ватиканский.
И - если бы Святой Дух исходил от Отца и от Сына, зачем бы приходить Сыну Божию на землю? Схождением этим Он соединил человека с небесами, уничтожил смерть, дал надежду на спасение.
У АКУТАГАВЫ рассказ о Толстом и Тургеневе. Они на охоте. Толстой: - «Иван Сергеевич, нельзя убивать птичку». Вернулись. «Софья Андреевна раздвинула тростниковые (бамбуковые) занавески и, стуча деревянными гэта, прошла и села на татами».
Вообще Акутагава - великий писатель.
ПУСТОЕ, ЗРЯШНОЕ дело - возмущаться неустройством жизни, полная глупость - заниматься ее улучшением, полный идиотизм - надеяться на хорошие власти. Уже все ясно. Что ясно? Ясно то, что революции, да и любые перевороты, готовят подлецы, вовлекают в нее идейных и самоотверженных (то есть задуренных), а плодами революции пользуются опять же сволочи, а сама революция продолжается насилием. Что касается демократии, этой системы издевательства над народом, то она переходит в тиранию. Это, конечно, не законы, не правило, это из наблюдений над историей человечества. Вся трепотня о правах человека - это такая хренота, это для дураков. Их количество прибавляется надеждой на улучшение жизни. А в чем улучшение? Дали хлеба - давай и масло. Дали и масло - давай зрелищ. То есть как же не считать таких людей за быдло?
Но народ все-таки есть! И надо бы дать ему главное право - право запрета. Запрет разврата, рекламы, всяких добавок в пищу, делающих человека двуногой скотиной. Никто, конечно, такого права не даст. То есть никто из властей людей за людей не считает. Электорат, биомасса, население, пушечное мясо - вот наши наименования.
И какой отсюда вывод? Такой: надеяться надо только на Бога. Он нас сотворил, Он дал нам свободу выбора, и Он нас не оставит. Но надо же сказать ему, что погибаем без Него. А если не просим, то Он и думает, что нам хорошо со своей свободой.
Какая там свобода? Я раб Твой, Господи! Раб! И это осознание - главное счастье моей жизни.
БОЯТЬСЯ НЕ НАДО ничего, даже Страшного Суда. Как? Очень просто - обезопасить себя от страха, воздвигнуть вокруг себя заслугами праведной жизни «стены иерусалимские». Страшный Суд - это же встреча с Господом. Мы же всю жизнь чаем встречи с Ним. Пусть страшатся те, кто вносил в мир мерзость грехов: насильники, педерасты, лесбиянки, развратники, обжоры, процентщики, лгуны массовой информации, убийцы стариков и детей, пьяницы, завистники, матерщинники, ворюги, лентяи, курильщики, непочетники родителей, - все, кто знал, что Бог есть, но не верил в Него и от этого жил, не боясь Страшного, неизбежного Суда. И, надо добавить, еще те, кто мог и не сделал доброго дела, не помог голодному, не одел страждущего. Вот они-то будут «издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою многою» (Мф. 21, 26).
Так что увидим. Увидим Господа, для встречи с которым единственно живем. (Сретение. После причастия.)
Очень меня утешает апостол, говорящий: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе... судия же мне Господь» (Кор.4, 3-4).
Когда на литургии слышу Блаженства, особенно вот это: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как безчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах», - то я всегда не только себя к этим словам примеряю, а вообще Россию. Смотрите, сколько злобы, напраслины льется на нашу Родину. Великая награда ждет нас. Есть и еще одно изречение: «Не оклеветанные не спасутся», а уж кого более оклеветали, чем Россию? Так что спасемся.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА захватывает умы, ввергает человека в идеологическое рабство. Именно на этой войне мы теряли славянское единство. Украину захватывали, а мы все анекдотики про украинские сникерсы (сало в шоколаде) рассказывали. Чахлики невмерущие захватили малороссов. Чего ж теперь, только на Бога надеяться.
Малороссы подобно евреям жили всегда меж многих огней, привыкли (пришлось) изворачиваться. Кричит с холма: «Кум, яка ныне влада?», то есть кто у власти, чей портрет вешать: Ленина или Петлюры, Сталина или Бандеры? Да уж, где хохол пройдет, там трем евреям делать нечего.
Самая спокойная, самая устойчивая нация - русские. Да, всякие бывают, но всякие - это реакция на отношение к нам.
ЛУННЫЙ ШЛЯХ, луна на полморя. Заманивает корабль золотым сверканием. Корабль отфыркивается пеной, рождаемой от встречи форштевня с волнами, упрямо шлепает своей дорогой. Но вот не выдерживает, сворачивает и идет по серебряной позолоченной красоте, украшая ее пенными кружевами.
Как же так - ни звезд, ни самолетов, ни чаек, кто же видит сверху такую красоту?
Рассветное солнце растворило луну в голубых небесах, высветило берега слева и острова справа. Да, все на все похоже. Вода прозрачна, как байкальская. И берега будто оттуда. А вот скалы как североморские. А вечером, на закате, казалось, что придвинулись к Средиземноморью малиновые Саяны. Потом пошли пологие горы, округлые сопки, совсем как Уральские меж Европой и Азией.
Будто все в мире собралось именно сюда, образуя берега этой купели христианства.
ДВЕ ФРАЗЫ. Поразившие меня, услышанные уже очень давно. Первая: человек начинает умирать с момента своего рождения. И вторая: за первые пять лет своей жизни человек познает мир на девяносто восемь процентов, а в остальное время жизни он познает оставшиеся два процента.
Гляжу снизу, из темноты, на освещенный солнцем купол церкви и думаю: а что же я познал в этих двух процентах? Мир видимый и невидимый? Его власть надо мной и подобными мне?
ДАВНО СОБИРАЛАСЬ придти к нам гроза, издалека посверкивала и погромыхивала и вот - подошла. Но уже ослабевшая. Наступает с запада на восток. С нею тащится дождь, скупой и холодный. Гром скитается под небесным куполом, ищет выхода из него. Гром подхлестывают плетки молний. Но не находит, умолкает, собирает силы. Опять начинает греметь и ходить по небу, все ищет место для выхода в потустороннее пространство. Которое и непонятно и неотвратимо.
Нет, двух процентов нам маловато. Но, опять же, умираем без передышки.
МИР ВО ЗЛЕ лежит. Вот тоже привычная фраза. Да кто ж его клал в это зло? Сам, как свинья в лужу, улегся и хрюкает. Я бы и такого любил, если б он понимал, что надо вставать. Нет, доволен, хрюкает.
Любить не могу пока, но уже все-таки жалею. Нам же тяжелее, чем первым христианам: в аду живем. А они не причащались, пока не было видимых знаков схождения Святаго Духа на Дары.
ПЕРВЫЙ МИР И ВТОРОЙ МИР, Первый мир, допотопный, вышел из воды и потоплен водою. Омыт от грехов. Второй мир, послепотоп-ный, накопил и свои грехи. Хотя Господь дал послепотопным людям возможность в Крещении освобождаться от первородного греха. Более того, послал Сына Своего на Крест за грехи мира. И что дальше? А дальше люди использовали данную им свободу воли для движения в ад. За это мир тоже мог бы быть потоплен, но Господь сохраняет его на День Суда. На огонь. Все в нашем мире сгорит, останется золото и серебро. Увидят люди блеск серебра, подумают: вода, кинутся. А это серебро. И будут издыхать от жажды. Увидят желтое, подумают - хлеб, а это золото. Иди, отгрызи от него.
Будут искать смерти, а смерти у Бога нет. Будут просить горы: падите на нас, а смерти не будет.
А на что мы надеемся? На все про все вопросы бытия отвечено.
Кто виноват? Мы сами. И порядочный человек так и думает.
Что делать? Спасать душу. То, что делали те, кто спасли ее. Мы же уверены, что погибшие за Христа, за Отечество спасены.
А как думать иначе? Если небо совьется, как свиток, в трубочку, если железо будет гореть как бумага, то разве уцелеет в таком пламени дача, дом, рукопись, норковая шуба, айфон, персональный самолет?
Ведь так и будет. Говорил же Лот содомлянам, предупреждал. Говорил же Ной перед потопом, строя ковчег. Кто послушался? Ну и получили должное.
ДАЖЕ И НЕ ЗНАЛ, что Герцен сказал, что в Америку стремятся те, кто не любит свою страну. А Пушкин четко определил Америку как страну совершенно неблагодарную. А вот и американка Айседора Дункан: «Америка - страна бандитов. Американцы сделают что угодно за деньги. Они продадут свои души, своих матерей и своих отцов. Америка больше не моя родина».
КОЛХОЗ «КОММУНАР» был передовым в районе. Стариков и старух брал на содержание, обеспечивал продуктами, дровами, ремонтировал жилье. Обучал в вузах выпускников школ, платил им стипендию. Имел свои мастерские для ремонта тракторов и комбайнов. Урожаи зерновых, картофеля, надои, привесы, - все было образцовым.
И вот - нахлынула на Русь гибель демократии. И вот - болтовня о фермерстве, и вот - вздорожание горючего и запчастей. И вот - пустая касса. Люди стали (а куда денешься) разъезжаться. Председатель слег. И долго болел, чуть ли не два года. Вернулся. Попросил, чтоб его провезли по полям. А они уже все были брошены, зарастали. Он глядел, держался за сердце. Попросил остановить машину. Ему помогли выйти. Он вышел, постоял, что-то хотел сказать, судорожно вдыхал воздух. Зашатался. Его подхватили. А он уже был неживой. Умер от разрыва сердца.
В это время в Кремле восторженно хрипел Ельцын, чмокал Гайдар, а им под команды Новодворской и Тэтчер подвякивали всякие бурбулисы, чубайсы, козыревы, хакамады и немцовы. Под их руководством Россия вымирала по миллиону человек в год. Стаи журналистов, отожравшихся на западные подачки, издевались над «совками» и «ватниками». Европа валила нам за наше золото всю свою заваль, окраины «глотали суверенитет» и изгоняли русских... но что повторять известное. Погибала Россия.
И посреди ее на брошенном русском поле лежал убитый демократами председатель.
Навсегда сказал святой Иоанн Кронштадтский: «Демократия в аду». Истинно так.
В ЦЕРКВИ МАМА И ДОЧКА лет трех, может чуть больше. Мама худенькая, но сильная. Легко ее поднимает, чтобы и она прикладывалась к иконам. Дочка носит с собою куклу и прикасается ею к иконам. Около иконы Божией Матери большие букеты цветов. Крупные белые и красные розы. Дочка притыкает личико куклы к каждому бутону. Но ко всем не успевает, мама отдергивает. Идет служба. Перед причастием мама решительно берет у дочки куклу и прячет в кармане. Обе причащаются. Потом дочка возвращает себе куклу и прикладывает ее к тем розам, к которым до этого не успела приложить.
ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ, что успел узнать и восточный и западный тип человека. Конечно, были они интересны. Еще бы, после стольких лет раздельного бытия. Ну вот, узнал. И стали эти типы мне неинтересны. По отношению к русским что тот, что другой одинаковы: что бы еще такое получить с России. Так что новый вид железного занавеса я бы приветствовал. Чему мы, особенно у Запада, научились? Рекламе, борьбе с перхотью, отравляющим добавкам, разврату, гордыне? Я искренне рад санкциям против нас. Ничего, потерпим. Зато свое производство должно заработать.
АЛЕШИНО МЕСТО
В нашей церкви долгие годы прислуживал батюшке Алеша, одинокий и, как казалось, несчастный горбун. Ему на войне повредило позвоночник, его лечили, но не вылечили. Так он и остался согнутым. Еще и одного глаза у него не было. Ходил он круглый год в валенках, жил один недалеко от церкви, в боковушке, то есть в пристройке с отдельным входом.
Он знал наизусть все церковные службы: литургию, отпевание, венчание, крещение, был незаменим при водоосвящении, всегда точно и вовремя подавал кадило, кропило, выносил свечу, нес перед батюшкой чашу с освященной водой - одним словом, был незаменим. Питался он раз в сутки, вместе с певчими в церковной сторожке. Казалось, что он был нелюдим, но я свидетель тому, как при крещении деточек озарялось радостью его лицо, как он улыбался венчающимся и как внимательно и серьезно смотрел на отпеваемых.
Я еще помнил то время, когда Алеша ходил бодро, выдвигая вперед правое плечо, и казалось, что всегда неутомим и бодр, будет служить, но нет, во всем Господь положил предел, Он милостив к нам и дает отдохновение: Алеша заболел, совсем занемог, даже ходить ему стало трудно, не то что служить, и он поневоле перестал помогать батюшке.
Никакой пенсии Алеша не получал, даже и не пытался оформить ее. Деньги ему были совсем не нужны. Он не пил, не курил, носил одну и ту же одежду и растоптанную обувь. Никакие отделы социального обеспечения о нем и не вспомнили. А вот военкомат не забыл. К праздникам и к Дню Победы в храм приходили открытки, в которых Алешу поздравляли и напоминали, что ему надо явиться за получением наград. Присылали талоны на льготы на все виды транспорта. Но Алеша никуда не ходил и ничем не пользовался. Кто его видел впервые, дивился на его странную, нарушающую, казалось, порядок фигуру, но мы, кто знал его давно, любили Алешу, жалели, пытались заговорить с ним. Он отмалчивался, благодарил за деньги, которые ему давали, и отходил. А деньги, не вникая в их количество, тут же опускал в церковную кружку.
Мы видели, как тяжело он переживал свою немощь. С утра с помощью двух костылей притаскивал себя в храм, тяжело переступал через порог, хромал к скамье в правом притворе и садился на нее. Место его было напротив Распятия. Алеша сидел во время чтения часов, литургии, крещения, венчания и отпевания, если они бывали в тот день, а потом уже уползал домой. Певчие жалели его и просили батюшку, чтобы Алеша обедал с ними. Конечно, батюшка разрешил. Да и много ли Алеша ел: две-три ложки супа, полкотлеты, стакан компоту, а в постный день обходился овсяной кашей и кусочком хлеба. Иногда немного жареной рыбки, вот и все.
Во время службы Алеша шептал вслед за певчими, дьяконом и батюшкой слова литургии, вставал, когда выносили Евангелие, причастную чашу, когда поминали живых и усопших. Стоя на службе, я иногда взглядывал на Алешу. Его, будто траву ветром, качало словами распева молитв: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия», Заповедей Блаженств, Херувимской, и, конечно, он вместе со всеми, держась за стену, вставал и пел «Символ веры» и «Отче наш». Я невольно видел, как он страдал, что не может встать на колени при выносе чаши со Святыми Дарами, при начале причащения.
Когда кончалась служба, батюшка подходил после всех к Алеше и благословлял его крестом.
А еще у нас в храме была такая бойкая старуха тетя Маша. Очень она была непоседлива. Но и очень богомольна. Объехала много святых мест и продолжала их объезжать.
- Да разве это у нас вынос плащаницы? - говорила она. - Вот в По-чаевской лавре - там это вынос, а у нас как-то обычно. А что такое у нас чтение Андрея Критского? Пришли четыре раза, постояли, разошлись. Нет, вот в Дивеево, вот там это - да, там так продирает, там стоишь и рыдаешь. А уж Пасху надо встречать в Пюхтице. Так и возносит, так и возносит. А уж на Вознесение надо в Оптину. Вот где благодать. Там же и в Троицу надо быть. Сена накосят - запахи!
Когда Алеша был в состоянии сам ездить, она его упрекала, что он не посетил никаких святых мест, а мог бы - у него, фронтовика, льготы на все виды транспорта. Алеша только улыбался и отмалчивался. Думаю, что он никак не мог оставить службу в храме. А она у него была ежедневной. Даже в те дни, когда не было литургии, Алеша хлопотал в церковной ограде, помогал сторожу убирать двор, ходил за могилками у паперти. Тогда Маша, решив, чтоб зря не пропадали Алешины льготы, стала брать у него проездные документы. Поэтому, конечно, она так много и объехала. А уж когда Алеша совсем занемог, Маша окончательно взяла его проездные себе.
И вот Алеша умер. И как-то так тихо, так умиротворенно, что мы и восприняли очень спокойно его кончину. Я пропустил два воскресенья, уезжал в командировку, потом пришел в храм, и мне сказали, что Алеша умер, уже похоронили. Я постоял над свежим золотистым холмиком его могилы, помолился и пошел поставить свечку за его поминовение.
Пришел в храм, а на месте Алеши сидела Маша.
- Наездилась, - сказала она мне. - Буду на Алешином месте сидеть. Теперь уж моя очередь.
Потом какое-то время я долго не был в храме, опять уезжал. А когда вернулся и пришел на службу, на Алешином месте сидела новая старуха, не Маша. Оказывается, и Машу уже схоронили. И Алешино место освободилось для этой старухи.
- С Алешиного места - прямо в рай, - сказала она.
Часто я вспоминаю Алешу. Так и кажется иногда, что вот он выйдет со свечой, предваряя вынос Евангелия, или сейчас поднесет кадило батюшке, будет стоять, серьезный и сгорбленный, при отпевании, и как же озарится его измученное, сморщенное лицо, когда закричит окунаемый в святую купель крещаемый младенец.
АЛМАЗНАЯ ГОРА
Николо-Перервинский монастырь необыкновенной красоты и благолепия. Службы в нем, конечно, длятся больше, чем в обычной церкви, но они такие молитвенные и благодатные. Усталость проходит, а радость остается. Все церкви монастыря: Иверской иконы Божией Матери, Никольская, Сергиевская, Успенская - все разные и все притягательные. Каждую можно описывать отдельно, но всякое описание слабее личного впечатления.
Лучше я расскажу об одной встрече в этом монастыре, в надвратной церкви иконы Божией Матери Толгской.
Я пришел задолго до литургии. Думал, что ранняя литургия начнется в шесть, а она была в этот день в семь. Но вообще православные знают, как хорошо приходить пораньше, все успеваешь: и памятки написать, и свечи поставить, и к иконам приложиться.
В церкви нас было трое: мужчина среднего возраста, худой и бородатый, женщина в годах да еще внутри в алтаре хлопотал молодой монашек. Женщина неподвижно стояла перед праздничной иконой, мужчина энергично ходил по храму. Вот в алтарь прошел батюшка, по пути нас благословил. Я тихонько спросил у женщины, как зовут батюшку.
Она охотно ответила:
- Его святое имя отец Александр. А есть еще отец, тот тоже Александр. У нас два Александра.
Вдруг мужчина остановился и насмешливо, так мне показалось,
сказал:
- Они знают, как батюшек зовут. Они и матушек всех знают. Они только грехов своих не знают. Им не два, им тридцать два отца Александра не помогут.
Женщина совершенно смиренно кивала головой. Я не знал, что сказать. Но мужчина сам продолжил. Вроде бы он говорил для нее, но получалось, что как бы и для меня.
- Мучения грешников ждут, мучения. Вечные будут мучения, -чуть ли не торжественно возгласил мужчина и разлохматил свою и так лохматую бороду. - Вот есть на том свете, а может и на этом, то мне пока не открыто, алмазная гора. Гора. И к этой горе раз в год прилетает птичка и чистит свой носик. Раз в год. Почистит и улетит, а через год опять прилетит, почистит и улетит. Раз в год. Так вот, - мужчина вознес даже не палец, а перст, - вот эта гора в конце концов сотрется, а мучения грешников не прекратятся. Вечные мучения! Вечные.
Признаться, я даже содрогнулся. Клювиком птички стереть алмазную гору. Вот что такое вечность. Это даже было сильнее юношеского впечатления от прочитанного когда-то выражения «седая вечность». То есть даже вечность поседела, а время не кончилось.
- Или еще есть такая гора песка, - продолжал мужчина. - Тоже гора. И из нее раз в году берут по песчинке. Так вот, когда-то и эту гору перенесут, а мучения грешников не прекратятся.
В церкви начали появляться прихожане. У икон загорались свечи, в церкви становилось светлее.
Из алтаря вышел отец Александр и, проходя к свечному ящику, спросил мужчину:
- Вразумляешь, Алексей?
- Надо, - сурово ответил мужчина. - Нужна профилактика, очень нужна.
ДВЕ ДОЛИ
С обеда зарядил дождь, сенокос остановился. Мой дядя, тракторист, не терпящий безделья, придумал сходить «забрести» пару раз бреднем. Напарником он кликнул соседа Федю. Я попросился с ними.
- Возьмем, - прохрипел сосед Федя, - ведерко таскать. Все, глядишь, рыбка лишняя в хозяйство.
Но дядя сказал, что я иду от нехрен делать, что и без рыбки буду хорош.
Жена дяди, тетя Еня, вынесла из чулана груду рванья.
- Живет бурлачить-то. А ты-то куда?
- Интересно.
- Ну сходи, сбей охотку.
Мы оделись и, как три каторжника (собаки отскакивали), пошли деревней, потом огородами к реке.
Нести бредень пришлось мне. Я радостно тащил его на плече. Перед глазами болтались куски осокоревой коры - поплавки.
С обрыва увидели внизу, на заливных лугах, озера. Спустились пока еще твердой глинистой тропинкой. Шли вдоль берега. Вода в реке лежала неподвижно, легкие дождинки не тревожили ее.
- Дождь с полден на двенадцать ден, - хрипел сосед Федя. - Перебьет тебе, Василий, весь заработок.
Река свернула в сторону - мы пошли прямо и у первого же озера раскрутили бредень, размотали мотню.
- Не боишься ты, Вась, ласкушки сколь заузил, - одобрил сосед Федя. - Мальчика в воду пошлем?
- Какой он мальчик, парень.
Мне было поручено идти сзади бредня, приподнимать мотню, чтоб не тащилась по дну и не порвалась. Так что я оказался необходимым. Я полез в воду.
- Сердце не замочи! - закричал дядя. - Выше сердца в воду не заходи, замерзнешь.
Но «замочить сердце» пришлось: там, где дяде было по грудь, мне по плечи.
- Ничего, молодой, - сказал сосед Федя. Он шел от берега, по колено.
Ноги вязли в иле. Со дна поднималась и расходилась белесая муть. Вода, теплая к вечеру, мягко поддавалась движению.
Дождь перестал, комары вылезли из своих укрытий и набросились на нас. Мы мотали головами, как запряженные лошади.
Видно было, как рыбки охотятся: маленькие рыбки за комарами, большие рыбы - за маленькими. То тут, то там всплескивала вода, и от всплеска в разные стороны стрекала рыбья мелочь. Мы поворачивались на плеск и сильнее налегали на палки.
- Есть, - говорил дядя, - должна быть рыбка.
- Чирей те на язык, - суеверно хрипел сосед Федя. - Господи благослови, должна быть.
Верхняя веревка с поплавками выгнулась полукругом. Перед ней вздрагивали и исчезали кувшинки, как будто их заглатывали. Траву и кувшинки у корня сгибала донная веревка с грузилами.
Мотня набивалась грязью, травой, головками кувшинок. Скользкий раздувшийся пузырь мотни стал даже в воде неподъемно тяжелым, как будто мы чистили дно, а не ловили рыбу.
Однако в выволоченном на пологий берег бредне местами поблескивало. Мы стали разгребать грязь, набрали из мотни несколько сопливых карасиков.
- Сглазил, Васька, - хрипел сосед Федя. - Одну грязь и кокоры чего волокчи? На уху не набурлачим.
Азарт охоты не пропал во мне. Я хватал тугих карасиков, обмывал их у берега, резал пальцы о прямые серпы осоки. Мелочь отпускал, глядя, как брошенная рыбешка шлепалась на воду, переворачивалась и уплывала.
Комары прокусывали одежду. Дядя предложил пробрести маленькое озерцо неподалеку. Надежда на него была плохая, но оно было чистое, без коряг.
Двенадцать метров бредня как раз хватило, чтоб боковым идти по берегам. Я опять шел посередине, два раза всплыл, чуть не бросил палку с привязанной мотней.
Уже стали сводить концы бредня, как мотня ожила, будто ее схватили и трясли изнутри.
- Есть! - крикнул я.
Они и сами поняли, что есть.
- Нижнюю выводи! - орал дядя на соседа.
Сосед Федя орал на меня, я тоже чего-то орал.
Они бросили палки и тянули, перехватывая, сгибаясь до земли, нижнюю веревку, обмотанную черной скользкой травой. Я толкал мотню сзади, боясь, что щука цапнет и отхватит руку.
Это действительно оказалась щука. Бредень она прорвала уже на берегу, когда дядя бил ее снятым сапогом. Федя колотил камнем, который, как он потом говорил, неизвестно откуда взялся.
Я ничего не нашел лучшего, как брякнуться на щуку животом. То ли спасая ее, то ли убивая. Дядя не сдержал замаха и треснул меня сапогом по спине. Федя замах сдержал, но, когда щука меня сбросила, ударил точно.
- Здорова, - заметил дядя. - Не столь длинна, сколь толста. - Он обувался. - Отожралась на карасях.
Федя издал испуганный крик - из порванной мотни вываливались, шлепая хвостами, круглые караси. Мы кинулись и за минуту наполнили ведро. Мелочь, какую брали при первом заходе, сейчас отшвыривали. Я подбирал и бросал в воду мальков.
- Плюнь, - сказал дядя, - все равно подохнут.
- Почему?
- Это озеро высохнет.
- Я в большое перенесу.
- Там своей мелочи пузатой хватает.
- На что она надеялась? - хрипел Федя. - Видно, с реки зашла, карасей лопала, а обратно - шиш. Значит, думала хоть пожрать вдоволь.
- А чего не жрать? - отозвался дядя. Он стягивал дыру в мотне. -Жри: кто знает, что завтра будет.
- Караси до чего жирны! - похвалил Федя. Он крутил рукой в ведре, как будто месил тесто. - А они-то что едят?
- Находят.
- Траву едят, - сказал я.
- Ишь, - захохотал Федя, - посади-ко нас на траву, друг друга жрать начнем.
- Сидели и не жрали, - сказал ему дядя. Встал. - Ну, давай! Еще бы такое озерко, и шабаш.
Такое озерко нашли. Их было много, высыхающих. Меня пожалели, я шел боковым. Сосед Федя, идущий на моем месте, жулил, не помогал волочь бредень, просто шел сзади. Он ждал щуку, вглядывался в толстое, сквозное тело мотни, процеживающее зеленую воду. Шли тихо. Зудели комары, да изредка стукала головой умирающая щука.
Задирая склоненную над водой траву, вытянули бредень. Карасей и на этот раз было много. Федя снял рубаху, завязал рукавом ворот, получился мешок. Я ходил по берегу и пинал мелочь в воду. Многие рыбки уже не перевертывались, уснули. На белые пятна их животов слетались комары. Снизу комаров хватали пока не попавшие в сеть рыбы.
- Полпуда, ей-богу, не меньше, - хрипел Федя. Он выдернул из своих брюк ремень, завязал мешок.
- Зажрут! - не выдержал дядя. Он чистил бредень, вскочил, яростно охлопывая шею и лицо ладонями.
- Ты их не яри, - посоветовал Федя, - отгоняй. Кровь почуют, разъярятся. Спутники запускаем, а комаров, мать-перемать (его тоже кусали), уничтожить не можем.
- А птицы чем будут питаться? - спросил я.
- Травой! - решил Федя.
- Пусть пьют, - сказал дядя, - лишнюю кровь отсосут.
- И то! - сказал Федя. - Пиявок я брезгую.
Я вспомнил, как они били щуку, и сказал:
- А привязать человека к дереву - до смерти искусают. Вот попробуйте. Вот хоть этим бреднем.
- Сам пробуй, - сказал Федя.
Еще забрели.
Темнело. Я окунал шею и лицо, спасаясь от комаров, а заодно греясь: в воздухе похолодало.
Бредень пришел пустой, если не считать мелочи, которую мы вытряхнули и оставили на берегу.
- А ну еще! - задоря нас, крикнул Федя.
- Да хватит вам! - не выдержал я. - Совсем уж обжадовели.
- В сам-деле, - согласился дядя, - набурлачились. Да и куда ее складывать, если еще.
- Рубахи снимем.
- Я не сниму, - злобно решил я.
- Тогда я штаны сниму, - решил Федя. - Что мне, в темноте-то по деревне и без штанов просквожу.
- Уходим, - сказал дядя, - Бог через раз улыбается.
Мы смотали на палки тяжелый бредень, понесли его: дядя спереди, я сзади. Кроме того, дядя нес ведро, я - щуку. Федя нес только мешок, потому что свободной рукой поддерживал штаны.
Дядя был выше меня, и с бредня мне текло на плечо. Я замерз.
- Сердце-то замочил, - упрекнул дядя, - дрожишь.
Как будто я был виноват. Он ускорил шаг.
Мы поднялись на обрыв. Сзади, на лугах остались высыхающие озера, полные рыбы. Тяжело шаркала сохнущая на ветру одежда. Комары отступились.
В деревне, в домах готовили ужин. Огонь под таганами давал отблеск на окна, как бы задернутые красными дрожащими занавесками. На дальнем конце деревни сухо и отчетливо щелкала колотушка ночного сторожа.
Пришли.
Хотели развесить сушить бредень, но Федя посоветовал оставить до утра.
Тетя Еня вынесла керосиновую лампу.
Стали, не переодеваясь в сухое, делить. Федя ногой потрогал щуку. Она слабо ущемила сапог.
- Неохота подыхать, - сказал Федя.
Дядя, хакнув, махнул топором.
- Отвернись, - сказал он. Я отвернулся. - Кому?
- Феде.
Феде достался хвост. Дядя отбросил голову в другую сторону, опрокинул ведро на траву. Рыба растеклась небольшим толстым пятном. Федя развязал рубаху. Дядя примерился и разделил кучу надвое. Рыба без-шумно и гладко подавалась под его рукой. Посмотрел, перекинул пару карасей слева направо, потом обратно.
- Смотри, Федь.
- Чего смотреть. Одно к одному.
- Отвернись.
Я отвернулся. Федя сказал:
- На парня-то надо. Слышь, Вася, парень-то лазил.
- В один дом, - сказал Вася.
Тетя Еня поддержала мужа. А мне и не нужна была рыба, я жил у них в гостях, но какая-то обида вдруг резанула меня.
- Ничего мне не надо! - крикнул я и убежал.
БОЧКА
Вспоминаю и жалею дубовую бочку. Она могла бы еще служить и служить, но стали жить лучше, и бочка стала не нужна. А тогда, когда она появилась, мы въехали не только в кооператив, но и в долги. Жили бедно. Готовясь к зиме, решили насолить капусты, а хранить на балконе. Нам помогли купить (и очень недорого) бочку для засолки. Большую. И десять лет подряд мы насаливали по целой бочке капусты.
Ежегодно осенью были хорошие дни засолки. Накануне мы с женой завозили кочаны, мыли и терли морковь, доставали перец-горошек, крупную серую соль. Приходила теща. Дети помогали. К вечеру бочка была полной, а уже под утро начинала довольно урчать и выделять сок. Сок мы счерпывали, а потом, когда капуста учреждалась, лили обратно. Капусту протыкали специальной ореховой палочкой. Через три-четыре дня бочка переставала ворчать, ее тащили на балкон. Там укрывали стегаными чехлами, сшитыми бабушкой жены Надеждой Карповной, мир ее праху, закрывали крышкой, пригнетали специальным большим камнем. И капуста прекрасно сохранялась. Зимой это было первое кушанье. Очень ее нам хвалили. В первые годы капуста кончалась к женскому дню, потом дно заскребали позднее, в апреле. Стали охотно дарить капусту родным и близким. Потом как-то капуста дожила до первой зелени, до тепла, и хотя сохранилась, но перестала хрустеть. Потом, на следующий год, остатки ее закисли.
Лето бочка переживала с трудом, рассыхалась, обручи ржавели, дно трескалось. Но молодец она была! Осенью за неделю до засолки притащишь ее в ванную, чуть ли не по частям, подколотишь обручи и ставишь размокать. А щели меж клепками - по пальцу, и кажется, никогда не восстановится бочка. Нет, проходили сутки, бочка крепла, оживала. Ее ошпаривали кипятком, мыли с полынью, сушили, потом клали мяту или эвкалиптовых листьев и снова заливали кипятком. Плотно закрывали. Потом запах дубовых красных плашек и свежести долго стоял в доме.
Последние два года капуста и вовсе почти пропала, и не от плохого засола, засол у нас исключительный, но не елась она как-то, дарить стало некому, питание вроде улучшилось, на рынке стали бывать...
Следующей осенью и вовсе не засолили. Оправдали себя тем, что кто-то болел, а кто-то был в командировке. Потом не засолили сознательно, кому ее есть, наелись. Все равно пропадет. Да и решили, что бочка пропала. У нее и клепки рассыпались. Но я подумал, вдруг оживет. Собрал бочку, подколотил обручи, поставил под воду. Трое суток оживала бочка, и ожила. Мы спрашивали знакомых, нужна, может, кому. Ведь дубовая, еще сто лет прослужит.
Бочка ждала нового хозяина на балконе. Осень была теплая, бочка вновь рассохлась. Чего она стоит, только место занимает, решили мы, и я вынес бочку на улицу. Поставил ее, но не к мусорным бакам, а отдельно, показывая тем самым, что бочка вынесена не на выброс, что еще хорошая. Из окна потом видел, что к бочке подходили, смотрели, но почему-то не брали. Потом бочку разбили мальчишки, сделав из нее ограду для крепости. Так и окончила жизнь наша кормилица. На балконе теперь пусто и печально.
ПЛАТОН И ГАЛАКТИОН
Жили-были два моих предка, мои пра-пра-пра и так далее дедушки. Платон и Галактион. Без них бы и меня не было, и детей бы моих, и детей моих детей тоже бы не было. А при каком царе они жили, а, скорее, при царице, до того я не докопался. Да это и не суть важно. Знаю, что дед Платон был православный, а дед Галактион - старовер. Но в семейных преданиях об их разногласиях в вопросах веры не говорится. Вот только говорили, что Галактион иногда задавался, что получше Платона знает Священное Писание, ну как же - старовер, а староверы - большие начет-ники. У них знанию Писания учиться надо. Но были прапрадедушки мои соседями, жили дружно и от души христосовались в светлый праздник Пасхи. Но вот что касается обстоятельств самой жизни, тут разногласия были существенные.
Они не сходились в том, каким образом надо укреплять жизненную силу. Вопрос для любого человека важный, но для крестьянина наиважнейший. Трудности крестьянской жизни может вынести сильный и обязательно здоровый человек. Болезнь для крестьянина хуже смерти. Мертвого кормить не надо, только поминай, а за больным уход нужен. Деды мои славились здоровьем, носили на плечах не только баранов, но и телят, и жеребят, пахали по десятине, по полторы десятины выкашивали, по два стога в день сметывали. Если читателям это ничего не говорит, скажу, что десятина больше гектара. Да что говорить, вскопайте без отдыха хотя бы три-четыре десятиметровых грядки, притащите домой враз десять арбузов или мешок картошки. А жеребенок потяжелей и того и другого. Однажды, говорит семейное предание, они на себе принесли для мельницы два каменных жернова. А жернова были пудов по двадцать. То есть больше трех центнеров. Центнер - сто килограммов. Да, дожил русский писатель до необходимости пояснять читателям, что такое десятина, верста, пуд, сажень, грош, золотник, семитка, гривенник. Неужели булькнут в черные дыры забвения и хомуты, и чересседельники, и подпруги, снопы, серпы... все, что связано с трудом на пашне-кормилице? Что говорить, не живать уже нам той могучей, спокойной, размеренной русской жизнью, гостившей многие века на русской земле. Но хотя бы свершим благодарный ей поклон.
Попытаемся представить тех былинных богатырей, которыми были наши предки. Да, богатыри, но одновременно и обычные люди. Как мои дедушки. Да, богатыри - не мы.
Конечно, Платон и Галактион, во-первых, дышали не нынешним воздухом, искалеченным не только отходами всяких производств, химией, выхлопами машин, но и забитым радио- и электро-, и эсэмэсволнами. Во-вторых, питание. Не нынешние добавки да суррогаты, да вода, убитая хлоркой, а продукт был все естественный: вода из родника, молоко от своей коровы, мед, мясо, овощи, - все свое. И носили не импортную дрянь-синтетику, а лен. А зимой шубы из овчины, которую сами выделывали.
Так в чем же у моих дедов были разногласия? Именно в вопросе поддержания здоровья. Платон закалял его баней, а Галактион - купанием в проруби. А если наступали такие морозы, что даже и проруби перемерзали, то просто выходил на снег. Снегом и натирался. А когда мороз за сорок и под пятьдесят, то снег как крупный песок. Им Галактион себя так надраивал, таким наждаком, такой теркой, что издали казался факелом на снегу. Так пламенела кожа. Шел домой, отдыхал и выпивал в одиночку полуведерный самовар. Конечно, потом ему гнуть дубовые полозья для саней было в леготку.
Но ведь не менее размалинивался от банного жара и Платон. До того натапливал свою баню-каменку, что войти в нее было страшно - уши горели, хотелось присесть. А когда плескал полным ковшом на камни, вода мгновенно превращалась в пар, и так взрывалась, что отдирало примерзшую дверь. Перерывов Платон не делал, парился и поддавал без передышки. И обливался чуть ли не кипятком. Прибредал домой, долго лежал на лавке, потом, как и Галактион, выпивал в одиночку такой же полуведерный самовар. Вместе покупали. И наутро ворочал в кузнице раскаленное железо.
Так вот, они всегда спорили, чья система лучше: ледяная, Галактиона, или жаровая, Платона. Получалось, что обе хороши. Ведь и у того и у другого силы были, как говорится, колесные. У того и другого, несмотря на то, что им за пятьдесят, рождались детишки. Да и детишки все крепенькие. Уже галактионовы выбегали в одних порточках с отцом на снег, а платоновы смело, хотя пока и ненадолго, заскакивали в баню.
Вот они сидят и дебатируют. Если это лето, на завалинке, если зима -за самоваром у того или у другого.
- Я только зимой и живу, - говорит Галактион, - чаю мне не наливай, только кипяточку да варенье. Очень я маюсь в жару , кое да как лето пережидаю. Ну, хожу к роднику, в него залезаю, хоть отдышусь. Сижу в ледяной воде, чую - холод к сердцу идет. Вот идет, вот холодит, во-от оно! Вылезу и дальше живу. А после обеда подремать хожу в погреб.
- Это мне не понять, - отвечает Платон. - Клин клином вышибают, жару жарой. Как ни кипятись солнышко, мою каменку ему не догнать. Так баню раскочегарю, так разогреюсь, что мне потом никакая Африка нипочем. Тебе, брат, в тундре надо жить.
- Оно бы и неплохо. А тебе в пустыне бегать без штанов. Эх, брат, наживешь ты себе с этой баней хворь. Вся тварь в тепле размножается, а в холоде перемерзает. Заразы в холоде нет. К примеру, как с тараканами покончить? Картошку в подпольи закроешь старыми тулупами и - двери настежь. И все! Чисто. Ты ж тоже этим способом пользуешься. А потеплеет и - поползли простуды, змеи и холеры и всякие мокрицы. А уж я не закисну. Разве я против жара? Но у меня жар рождается от холода. Изнутри. Разница? А ты себя греешь сверху, а что внутри?
- Насквозь пробирает. Как железо в горне.
- Платон, тебе же не засов из себя ковать. - Галактион вставал и задавал свой всегдашний вопрос: - Како чтеши Писание? «Оснежатся вершины в Селмоне»! А о Спасителе? «Были ризы Его блещахуся, яко снег». Яко снег! А Исайя? «Будут грехи ваши багряны, как снег убелю». Вот! В жарких странах жил, а снег знал. Духом провидел. Вот где разумение! А псалмопевец Давид? Вникни! «Господь дает снег, яко волну».
Платону и возразить нечего. Нет в Писании защиты его бани. Ни до чего не доспорятся, разойдутся. Зимой галактионовы дети и уже и внуки лед на речке колют, запасают, а летом Платоновы наследники веники ломают. Отцы их и деды могучей своей работой людей изумляют. А по субботам взрывы пара, удары веников и довольные крики несутся из бани Платона, а по утрам, и в снег, и в мороз, и в метель идет босой Галактион на завьюженный огород и погружается в снежные перины. А за ним сыплются полуголые наследнички. Он их тешил тем, что брал подмышки и бросал. Кого вдаль, кого вверх. Тот, кто летел по горизонтали, хвалился расстоянием, на которое был заброшен, а тот, кого Галактион подкидывал, хвалился продолжительностью времени в полете. Такие потехи были безопасны, ибо приземлялись они на снежную перину. Снега в вятских пределах были щедрыми, избы заносило по верхние наличники, как говорили, «по самые брови».
И кто же в сей истории оказался прав? А никто. А как? А так: Платон был в городе и купил там книгу. После ужина семейство уселось слушать чтение. Платон, перекрестясь, прочел название: «Описание трудов и подвигов святого Первозванного Всехвального апостола Андрея». Очень трогательно было описано, почему святой апостол назван Первозванным, и как он шел с именем Христа в северные, то есть в наши, земли. Прошел Херсонес, в коем впоследствии окрестился великий князь Киевский Владимир. Водрузил апостол на кручах днепровских крест. Был и в Новгороде. При этом известии дед Платон от себя сообщил, что предки наши пришли в Вятку именно из новгородских пределов.
- Так что от кого мы получили крещение? А? От ученика Самого Христа, Господа Бога нашего!
Добрался дед Платон до описания апостолом славянских обычаев. И до того места, как тот был изумлен банями. Тут дед Платон вскочил и побежал к соседу.
Галактион пригласил гостя к столу, но тот, вздымая книгу, объявил, что прочтет, что говорил апостол Андрей, брат первоверховного апостола Петра, о славянах.
- Ну-ко, ну-ко, возгласи.
Платон, разогнув книгу и найдя нужное место, возвысил голос:
- «... И зело раскалив бани, они бьют себя прутьями до умертвия и лежат безгласно». А? Галактион! Слушай апостола, слушай!
Галактион убедился в точности прочитанного, но прочел и дальше:
- «Потом же обольют себя ледяною водою и тако оживут». Тако оживут! - возгласил он. - Платоша! Тако оживут! От ледяной воды! Тако!
- Но вначале же баня! Како чтеши? Как же ты без бани? Как же не слушать предков наших и апостола? Галактион! В баню!
- Платон - в снег! - воскликнул Галактион.
Они ударили по рукам в том, что повторят виденное апостолом жаровое и ледяное омовение славян, и вот - в ближайшую субботу свершилось великое событие: Галактион вошел в баню. От температуры и пара хотел выскочить обратно. Но было же рукобитье, он превозмог себя и выдержал. Платон его крепко отхлестал. Но пришла пора страхования и для Платона. Галактион повел его в снега огорода и повалил в сугроб. Закидал снежочком. Платон героически вытерпел насильственное охлаждение, потом вскочил и велел Галактиону вернуться в баню. Сам бежал туда вприпрыжку. И так поддал на радостях, что Галактион запросил пощады. Залег на пол, решив отлежаться, но Платон требовал, чтобы тот лез на полок. И опять брался за веник, в коем березовые ветви были перемежаемы пихтовыми. Хлестал неистово. Галактион просил пощады, но Платон кричал:
- Я не до умертвия. Мы выполняем благословение апостола. Терпи!
Затем же, когда настала очередь снежной купели, Галактион опять
отыгрался. С наслаждением катал соседа по снегу, будто снежную бабу лепил. Тот начинал привыкать к перепадам температуры, а они были градусов в сто, не меньше, но все-таки вырвался и вновь кинулся в свою обожаемую баню. Куда велел снова идти и Галактиону. И таковое действо они свершили еще раз, то есть троекратно. Чувствовали себя после бани превосходно, выпили по два самовара.
- Вот оно! - возглашал Галактион, - вот: будь ты холоден или горяч, но не тепел! Крайности закаляют! Платон! Руку!
А далее? Далее было строительство новой бани. Фундамент - огромные валуны, а на сруб не пожалели лиственницы, никогда не гниющей. Да, строили на века. А печь в бане не клали из кирпичей, а били из глины с примесью песка и опилок. Это такая технология, которую надо долго объяснять, скажу одно: это не печь, а монолит, в ней металл можно плавить. Поставили баню, а уж белый снег Господь даром посылал. И печь в бане, и сама баня дожили до наполеонова нашествия, до Крымской войны, до революции, перетерпели войну Отечественную и добрались до перестройки. Разве можно было вынести и пережить русским людям такие нападки на матушку Русь без такой бани? Безсчетное количество людей в ней здоровье поправили.
И я в той бане был, и в бане той парился. И на снег под звезды выходил, и в сугробы погружался. И снег от моего раскаленного тела до самой земли проседал, и вновь входил я под жаркие своды платоновско-галактионовского чуда. Но как происходило сие, об этом пусть мои пра-пра и так далее внуки своим пра-пра рассказывают.
Спасибо великое святому апостолу Андрею, Всехвальному, Первозванному. И за баню, и за дедушек, и за внуков, и за Русь Святую.
* * *
Послесловие к рассказу - спор стариков, не вошедший в рассказ:
- Галактион, - вразумлял Платон, - зачем это у вас такое слово в пасхальном тропаре - «гробные»? Лучше же «сущим во гробех». Сущие они, не умершие у Бога, а «гробные» - это мертвецы во гробе.
- Спорить с тобой безполезно, - отвечал Галактион. - Что с вас взять -двоеперстие отвергли, противу солнца идете на Крестном ходу.
- А оторвет тебе пальцы, что, креститься не будешь? Да ты хоть и одним крестись. Два пальца - две сути Христа, три - Троица. И не противу мы солнца идем, а навстречу ему. Да и что тебе солнце - Господь Бог?
КРЕСТОХОДЦЫ
Нашу бригаду, или артель, как угодно, сдружил и сплотил Велико-рецкий Крестный ход - это главное чудо Вятской земли. Да разве только Вятской. Уже идет этим ходом вся Россия, все Зарубежье. Ходу свыше шестисот лет. Наши предки дали обет каждый год носить чудотворную икону святителя Николая из Вятки на реку Великую, туда, где она была обретена.
Выполняя этот обет, мы вместе с другими ходим с иконой много лет. Помним, как шло нас человек двести, все друг друга знали, а сейчас идет по пятьдесят и больше тысяч человек. Кто откуда. Вятских, в сравнении с другими, мало. Но вятские выполнили главное дело - сохранили Крестный ход. Вот и наша бригада вся вятская. Все по происхождению сельские, то есть умеющие все делать: и копать, и пилить, и стены класть, и круглое катить, и плоское таскать. И на земле спать, и клещей не бояться.
Нашу бригаду уже давно батюшки благословили уходить заранее вперед, готовить встречу Крестного хода в Горохове. Там, на третий день пути, большая остановка с акафистом святителю Николаю, с двумя молебнами, с погружением в купели, с общим обедом. Но ведь и купели, и обед надо кому-то приготовить. В церкви, пусть она еще без куполов, тоже прибраться.
Горохово было огромным селом: сельсовет, средняя школа, больница, но большевики и сменившие их коммунисты, ненавидя православие, уничтожили его. В прямом смысле. Как фашисты. Жители были насильно изгнаны, переселены, а все избы, все постройки, сожгли. Сгребли бульдозерами в одно место и подожгли. Дым, как крик о помощи, восходил к небесам. И услышал Господь. Увидел наши малые труды и дал сил на дальнейшие. Диву сами даемся, что было и что постепенно становится. В прошлом году разбирали фундамент школы, поражаясь его размерам. Разбирали, потому что нужен кирпич для возрождения церкви. Ее тоже взрывали, но взорвать до конца не смогли.
Пришли мы к костру сегодня раньше обычного. У повара еще и обед не готов. Но дождь остановил работу на плотине, и у нас получился отдых. Мы знаем, что бригадир Анатолий, которого мы в шутку называем вождем, все равно что-нибудь да заставит делать, что-то придумает, но пока он молчит. Усердно, залюбуешься, режет стельки из картонного ящика. Делает он это как любое дело с упреком в наш адрес - вот он не умеет сидеть без работы, а мы умеем. Но мы и молчать умеем, а он все равно молчать долго не будет. И - точно:
- Работу надо видеть, - изрекает он. - Нас послали не на пейзажи пялиться, не чаи распивать. Дрова всегда нужны. Топоры надо подтачивать. Так же и лопаты. А пила! А ножовки! У колуна топорище рас-
шатано. В домик нужно на двери занавеску, на окна сетки. Или вас комары не жрут?
- Есть же препараты, - говорим мы.
- Это химия, это убийство легких. Вы раз в году бываете неделю в лесу, и эту неделю тоже хотите дышать химией, а? Отвечайте. Вы хотите дышать химией? Я лично не хочу, я буду спать на улице. Из принципа.
- Ну и спи, - хладнокровно говорим мы.
- А стыдно не будет?
- С каких коврижек?
- Вы в доме, а человек на улице.
- Ты не человек, ты бригадир, - говорит поэт Толя. - Ты вообще даже вождь. Парни, давайте проголосуем за параграф: вождь, как папа римский, всегда прав. Есть предложение. Нет возражений? Все, командуй.
Такая наша голосовка устраивает бригадира. И он сразу находит, в чем нас сделать виноватыми перед ним и окружающим миром.
- Ваша химия убивает не только вас, но и комаров. А?
- И что?
- Младшие братья, вот что. Питание для птиц. А птицы уничтожают вредителей леса. Также комары и мошки - корм для рыб.
- А рыб уничтожаем мы.
- Прошу без этих ваших поддевок.
- Поддевка - это из разряда одежды.
- Опять! На вашем бы месте я б разделся, хотя б до пояса, и выставил бы себя...
- На обозрение? Или на оборзение?
- На произвол кровососущих. Надо чаще помнить подвиги святых. Мы не святые, - назидает вождь, - но помнить надо. - После паузы он встает и просвещает нас на случай встречи с клещом. - Клещи сидят на краях веток у дороги, на самых кончиках листьев и держат передние лапки вытянутыми и готовыми для захвата. Вот так.
Вождь полуприсел, выдвинул вперед крепкие руки с растопыренными, полусогнутыми пальцами, и очень талантливо изобразил как клещ ждет добычу.
-А я изображу жертву, - говорит Толя. - Буду проходить мимо, цепляйся. - Он в самом деле проходит перед вождем. - Почему не вцепился? Братья! Величие вождя я вижу даже в лекции о поведении клещей. Я шел как на параде, как мимо трибуны. Но на ней стоял не клещ, а вождь в виде клеща. В виде, сечете? То есть голограмма клеща никак не могла наложиться на реального вождя.
- Ну, ребенки, опять ваша демагогия.
- За стол, - зовет повар.
* * *
В этот раз доехали только до поворота. Свернули, сразу сели. Еле вытащили. Еще одну машину на трассе тормознули, перегрузили вещи и... тоже сели. И ее вытащили. Тогда все навьючили на себя - и еду, и питье, и инструменты и потащились знакомой дорогой. Двенадцать километров. Грязища. Идем опять мы, как и ходили все эти годы: бригадир наш крановщик Анатолий и Толя, поэт, идут работяги, два Александра, один с бородой, другой без, идет, опять же поэт, Леша, а с ним впервые идет сыночек семилеток Ваня, инженер Володя, иду и я, аз многогрешный. Год мы не виделись. Год, а как его и не было, этого года. Ибо главное в нашей жизни -Великорецкий Крестный ход. А мы его авангард.
Но надо же отметить радость встречи. Как без этого? Русские же люди!
- Бригадир! Вождь! - взываем мы. - Год не виделись! Ведь мы же фактически еще и не встретились!
- А где присесть? - резонно отвечает он. - Мокрота же. Не отмечать же на ходу.
- А что особенного, - говорит Толя-поэт, - Хемингуэй работал стоя и никогда не знал простоя. Вон лесок впереди. Под елочкой-то как хорошо.
Анатолий назидает, уводя в сторону:
- Маргаритушка прошла семьдесят раз, у меня посоха для зарубок не хватит. - У Анатолия на посохе пока четыре зарубки. - Вот Ванечка сможет пройти много раз. Хорошо, что ты с этих лет пошел. Да, Иван?
Ваня пока стесняется говорить, жмется к отцу. Тот называет его мудрено:
- Дружище, отвечай: к тебе глаголют. Мы входили в веру через терния и потери, через сомнения, а ты можешь войти органически, через радость.
- Леша, от сына отстань, - советует Толя и говорит Ване: - Скажи папаше резко, Вань: «В такую грязь, в такую рань меня, папаша, не бол-вань». Ведь верно, Вань?
- Ой, ребенки, - смеется Анатолий.
- Толя! - вскрикивает Саша. Подскакивает к Толе и достает у него из под ног пестрого шмеля. - Шмелик какой хорошенький, красивый, мирное какое животное. Лапками умывается. Полетел!
На возвышенном месте посуше, идти полегче. Анатолий назидает:
- Кто без покаяния умирает, а паче того без отпевания, двадцать мытарств проходит. Весь мир будет их проходить. Что видим в мире? Безпредел, ужас! Что видим: воровство, пьянка, разврат! - Он останавливается. - Ребенки, мы так не дойдем. Надо акафист святителю Николаю читать. Крестный-то ход Никольский.
Останавливаемся, снимаем с плеч груз. Читаем акафист. Пытаемся даже петь, но врем в распеве и ударениях.
- Ничего. В прошлом годе так же, не сразу спелись. А вы, ребенки, за зиму сколько хоть раз акафист читали?
- Чего с интеллигентов спрашивать? - вопрошает Толя. - Пойду солому поджигать.
Толя вообще поджигатель и разжигатель костров. Вскоре от оставленных груд соломы начинает идти густой серо-белый дым. Его ветром несет на нас. Задыхаемся, сердимся на поэта, он хладнокровно объясняет:
- Это дымовая завеса, я вас маскирую, скрываю. С самолета чтоб не видно.
- От Бога ты нигде не скроешься, - наставляет Анатолий.
- Смотрите! - Толя весь озаряется. - Впервые такое вижу! Целое поле анютиных глазок. Да-а. Где бодрый серп гулял и красовался колос, теперь... - запинается.
- Теперь простор везде и российские поля рождают быстрых разумом Платонов, - привычно поддевает Леша.
- Вот у этого затона я прочел всего Платона, - отбивается Толя.
Оба Александра и Ваня рвут цветы. К иконе Казанской Божией Матери. Образ Ее сохранился в Горохове на стене колокольни.
Саша оцарапал палец. Толя, он врач, перевязывает:
- Тут операция нужна, тут надо обработать спиртом. Ты понял, бригадир? Тебе нужны здоровые работники, или как? Я хирург. А хирург - это взбесившийся терапевт. - И снова подговаривается к выпивке: - Сжег я средь поля сырые снопы и только за стопку сойду со стопы. Нам не для пьянки, а чтоб форму не потерять.
- Лучше сойди со стопы и сядь, в ногах правды нет, - уклоняется Анатолий, - вся правда в Евангелии.
Идем дальше. Дождя уже нет. Ветерок обдувает, сушит. Тяжело, но уже увиделась вдали гороховская колокольня. Поем «Царю Небесный». Идти повеселее. Пригорок, низина, кладбище, снова вверх. Дошли. Бригадир выдержал характер, не дал расслабиться.
В Горохово «обходим владенья свои». Купели, конечно, сметены, смыты водополицей. Ничего, наладим, на то и посланы. У родника сделаны три трубы. Из двух льются хорошие струйки, из крайней к лесу чуть-чуть. С радостью пьем, умываемся, благодать! Вершинки леса осветились, это солнышко старается пробиться к нам сквозь тучи. У Саши прямо сияющее лицо.
- Толя, помнишь, в прошлый год ты не хотел погружаться в источник?
Саша напоминает случай из нашей жизни в прошлый Крестный ход. Мы оборудовали купели и погружались по очереди. А Толя потерял образок святителя Николая и сказал, что это ему знак - запрещение. «Без него не пойду». Мы все осмотрели, обыскали - нет образочка. А вечером вернулись - глядим - да вот же он, над источником! Чудо!
- Да, - кряхтит Толя, - не очень-то я был рад этому чуду, боялся холода. Но! Пришлось! Зато доселе жив! Перезимовал.
Соображаем, чем займемся в первую очередь, чем во вторую.
* * *
Сидим у костра счастливые. «Милка сшила мне рубашку из крапивного мешка, чтобы тело не болело и не тумкала башка», - сообщает Толя скорее всего сочиненную им самим частушку. - Очень вятское выражение: «не тумкала башка», в каких еще странах и континентах до этого дотумкались?
Начинается турнир поэтов.
- Пятистопный ямб, - объявляет Толя. - Как поздно я, мой друг, на родину приехал, как дорого себе свободу я купил. Хожу-брожу в лугах, и нет ни в чем утехи, пустеет на полях: «октябрь уж наступил».
- Я знаю, чем отвечу, - говорит Анатолий. - Обращение апостола Иоанна к семи церквям. «Ангелу Лаодикийской церкви...»
- Прочтешь в церкви, когда пойдем на вечернее правило, - невежливо перебивает Толя. Встает. Он в тельняшке: - По колокольной гулкой сини, по ржанью троечных коней, как я тоскую по России, как горько плачу я по ней».
- А почему не четверочных, не пятерочных? - ехидно замечает Леша. Ване это очень нравится. Он увлеченно перерубает ветки. Смотрит на отца восхищенно. Отец читает о монахе. - Это пока не на бумаге, пока в голове.
- Так нельзя, - укоряет Анатолий. - Нельзя надеяться на память, она ненадежна. Душа, конечно, помнит, но она не пишет. Монах может и согрешить, но украсть не может, убить не может, не завидует, к экстрасенсу не пойдет. Это все отсекается.
Громко кричит коростель. Пасмурный закат. Анатолий:
- Ох, я в детстве убил коростеля, вот грех. С тех пор как услышу.
- Это его праправнук, он тебе отомстит за предка, - предсказывает Леша.
- Чего ж, заслужил. Он упал, я подобрал и заплакал: какая красивая птица была. Да-а.
- Сейчас-то не плачь, не надо, лучше наливай, да помянем твоего коростеля, пухом стала ему земля, - говорит Толя. - А вятское название коростеля - дергач, и ты, бригадир, не плачь.
- Песню знал, забыл, знаете, вот такие слова: «Наискосок, пулей в висок», не знаете? - спрашивает Анатолий.
- И закопают в песок? - спрашивает Толя. - А мне дай стакан и съестного кусок. И вообще, я хочу напиться и куснуть, а потом уснуть.
- Под темным дубом, которые здесь не растут? - спрашивает повар.
Толя находится:
- А вы-то на что? Так что склоняйтесь и шумите надо мной, темные дубы.
Леша уводит Ваню в домик спать. Закат краснеет. Идем в храм, в котором уже есть и крыша, и закрыты щитами окна. Свечи гасятся сквозняком. Читаем и правило и акафист святителю Николаю. Картонные иконочки укрепляем на бывшей школьной парте. Около них Саша успел уже положить букетики анютиных глазок. Пламя на свечках мечется от сквозняков. Заходим в колокольню, читаем молитвы у сохранившейся на стене фреске трем святителям: Иоанну Златоустому, Василию Великому, Григорию Богослову. Вспоминаем, как тут по два лета ночевали. То-то намерзлись.
Возвращаемся к костру. Закат перемещается к востоку встречать восход. Щедрый к ночи бригадир разливает, говорит Толе: «Пей первым, ты больше видел горя».
Ночью изжога, безсонница. Выходил. Так хорошо дышится. Светлая прохлада. Комары молчат. Скрипит коростель. Под утро оживил костер, поставил чайник. Захожу в избушку с романсом: «Утро туманное, утро холодное, вставай, бригада, вставай, голодная». Толя, просыпаясь: «Меня остаканьте, чтоб не думать о Канте. Я храпел?» - «Храпели все, кроме тебя».
Идем к роднику. Роса, холод. Шли только умыться. Но пришли, стали работать. «Нам денег не надо, работу давай», - это бравый бригадир. Меня гонит делать завтрак.
- Чай будешь заваривать, - наставляет он, - воду не прокарауль. До кипения не доводи. Слушай шум. Зашумит как пчелиный улей, заваривай. Смородины добавь.
Иду через густо-зеленый луг с полянками золотых купавок, с ароматной белизной черемух. Поднимешь глаза - лес, ели как остроконечные шлемы древнего воинства. О, как весь год рвалось сюда сердце и так хочется вновь надышаться еще на год.
Завтрак тороплив, некогда чаи распивать, хоть и смородиновые: работы много.
За год купель истратилась, приходится заново восстанавливать. В нее лезут те, кто в сапогах, Леша и Саша. Мы на подхвате. Ваня оказывается незаменимым. Бегает то за тем, то за этим к домику, помогает и мне. Моет посуду, да так, что за ним перемывать не надо.
У купели делаем бревенчатый настил на топком месте, ступени на склоне, перила к ним. Изготовили и устанавливаем арку при подходе к источнику. Над ней крест. Кто ходил на Крестный ход, обрадуется новым свершениям, кто пойдет впервые, будет думать, что так оно и было. А пойдет неисчислимое море людей, и все будут погружаться в купель, набирать воду после водосвятного молебна.
Горбатимся, копаем, идет синяя глина, целебная, лечебная, но такая тяжеленная. Еще ходим за осинами, спиливаем, притаскиваем, разделываем по размеру. Не рассчитали, приходится опиливать. Но опилыши, чурбачки идут в дело - выкладываем ими подходы к источнику.
Дерево осина чем хороша, не гниет. И вообще дерево замечательное, она же не виновата, что на ней Иуда повесился. И когда осина трепещет листочками, даже в ясную погоду, без малейшего ветерка, почему говорят, что она трясется от ужаса, она жизни радуется. Осина неженка, осенью первая желтеет, краснеет, оранжевеет и так оживляет лес, опушки, что даже не страшно думать о близкой зиме.
Дно купели выстилаем ровными, тонкими осинками. Прижимаем их сверху срубом. Другая часть бригады прочищает дорогу к роднику. И в прошлых годах вначале прорубали, потом расширяли тропу, но людей идет все больше, нужна уже не тропа, дорога, улица в лесу. Ваня полюбил топор, очищает стволы осинок от сучьев.
- Дружище, - говорит отец Леша, - ты осторожней.
- Давайте все усыновим Ваню, все будем наставниками, - предлагает бородатый Саша.
Ваня уже освоился и смеется громче всех:
- Дядя Толя, вы правда сегодня не храпели?
- Нет, дружище, как глаголил бы твой папаша, это не я храпел, это просто ты крепко спал, - отвечает Толя.
* * *
Да, как радостно, что мы здесь, тут мы молодеем, освежаемся телом и духом. И, как говорили древние, возгреваем православные чувства.
Готовлю обед, но решаю, чтоб сэкономить свое время для работ на источнике, заодно сготовить ужин. Кастрюль хватает, натащили их за эти годы. Разошелся, начистил ведро картошки. И спохватился: кончилась картошечка, много на себе не притащишь. А ведро за обед и ужин скушаем. Еще бы, при такой-то работе на свежем воздухе какой у всех аппетит. Ничего, завтра перейдем на каши. Я уж знаю, кто какую любит. Крупы много.
Раскочегарили с Ваней печурку, крышки кастрюлек дребезжат. В самой большой закипает вода. Завариваем, как велено, смородиновым листом. И, конечно, еще и пачку листового.
- Ваня, ты и костровым был, и посудомойщиком, а теперь, ноги в руки, будешь посыльным. Аллюр три креста за работниками!
- То есть быстро бежать?
- Нет, надо еще быстро стоять и долго спрашивать.
Ваня помчался. А я тарелки, кружки, ложки на артельном столе приготовил. Хлеб нарезал. Идут, мои братики. Саша сияет:
- Все цветет, все благоухает! А птицы! Рай! Рай! Ванечка, запомни!
- Осенью будешь писать сочинение «Как я провел лето», напишешь: я был в раю, там меня жрали комары и клещи, а в речке плавали лещи, -советует Толя.
- Стоп! - восклицает бригадир. - Раздеваемся! Немедленно! Надо это было сделать перед сном.
Бригадир совершенно прав, ибо клещи похожи на радиацию, их не видно, не слышно, но они есть. И вот - у Саши на шее, под бородой, клещ. Хорошо, рано хватились. Смазываем укус растительным маслом. Бригадир ниточкой обвязывает клеща и начинает потихоньку как бы выкручивать его из тела против часовой стрелки. Не дай Бог, оборвется. Но все, слава Богу, обошлось. «Надо в баночку и на экспертизу», - говорит Саша без бороды. «Много клещу чести. Экспертиза! Клещ и слова такого не знает, - говорит Толя. - Он уже не жилец, развяжите и отпустите».
Я стучу ложкой по кастрюле и возглашаю: «Отче наш...»
После обеда, перед новыми трудами, читаем акафист святителю Николаю. Поем все лучше. Умилительны наши молитвы. Саша всегда плачет и оправдывается: «У меня слезы сами текут и текут». Он старается всегда выбрать время, чтобы убираться в храме, выносить мусор, подметать пол. Пол, которого пока нет, утоптанная земля. А что было-то! Все было завалено мусором, горами удобрений. Голыми руками выгребали. А запах какой шел от удобрений, молодым женщинам становилось плохо - аммиак. Но вятские старухи и тут не сдавались. Помню, меня поразило то, что я собирал кучи битого стекла, ссыпал в старое ведро, и тоже голыми руками, и ни одной даже царапинки.
Молимся всемером, а будет так, что и места в храме не будет. Говорим о том, что Крестный ход двинулся из Вятки. Знаем даже по часам, где они теперь. «К Бобино подходят». - «Нет, еще часа через два». У нас, в Горохово, будут послезавтра, часам к девяти утра. Выйдут из Мона-стырщины в три часа ночи.
Ставим Крест между источником и купелью. Воду из источника хочется пить все время. Чуть больше суток здесь, а кажется, живем тут давно.
Работаем, и комаров замечать некогда. А их тучи.
- Еще, Ваня, - советует Толя, - напиши в сочинении: «На Крестном ходу меня удивляло то, что комары совсем не кусали старух, а кусали меня и девочек. Дядя Толя объяснил: старухи железные, а девочки живые, а это разная степень вкусности». И сообщи граду и миру, что одна девочка тащила с собой целый пакет всяких антикомаринов, дезодорантов, и ее все равно жрали круглосуточно. Запомнишь?
Бригадир, как всегда авторитетно, просвещает:
- Комаров создал Бог для питания птиц и для обновления крови. Убавляется крови, начинают работать кроветворные органы.
- Комарихи любят пьяных мужичков, - в тон ему продолжает Толя. -Я же сам таков. Алкоголь входит в кровь, которую комары пьют. Балдеют, сами становятся алкоголиками, начинают на всех нападать, кусают даже машины и трактора. Ваня, запиши.
Опять мы промерились с длиной жердей для настила. Переделываем.
- Ничего, - утешает бригадир, - трудов напрасных нет.
- Есть безполезная работа, сказал поэт, трудясь до пота. - Это Леша.
- Может, когда сюда и Патриарх приедет, - мечтает Саша.
- Вначале архиерей, - решает Анатолий. - А я, братья, видел архиерея. Лично. Возил документы от храма на подпись. Батюшка говорит: меня могут не пустить, ты пройдешь. Прошел. Попросил благословения, подал прошение. И не забыть подпись его: одна треть страницы - это прошение, а две трети - его подпись. А вот вы, умники, скажите, почему, меня спросили в приходе, у Патриарха охрана, он ведь человек Божий, его Бог охраняет, почему?
- Да если б не было охраны, я бы первый стал его охранять, - заявляет Саша. - Столько сейчас психов, ненормальных, сектантов.
- Это не ответ. Его же Бог бережет.
- Так вот Бог и поставил охрану.
- Да, - восклицает Анатолий, - так мне и надо было ответить.
Ваня неожиданно спрашивает:
- А почему кружки после чая не надо мыть?
- Как так?
- Да, не надо, это я распорядился, - говорит вождь. - В немытой кружке вкус нарастает. И вообще, в закопченной сверху и черной внутри кружке есть что-то партизанское, фронтовое.
Приходится соглашаться.
Выстилаем коротенькими бревешками ступеньки к источнику. Решаем сделать и другой ряд ступенек. Чтобы по одному ряду спускались, а по другому поднимались, не мешая друг другу.
Как пролетел день, не заметили. И не присели ни на минуту, только то и посидели, что за обедом. Очень много надо сделать, и чем больше мы делаем, тем еще больше остается. Надо заборчики у купели. И разделяющие мужчин и женщин, и укрывающие от любопытных. Надо вешалочки, какие-то крючки для одежды, надо полочки, все надо. Молчаливый Саша устраивает вешалки гениально просто: это сучья сосны с большим количеством сучков. Отчистил, приколотил, залюбуешься. Такие бы в городскую квартиру.
Бригадир пишет номера на щепочках, переворачивает, предлагает брать. Это очередность погружения в купель. Ему достается первый номер. Тут, по ходу работ, после жеребьевки, начинаются словесные упражнения на тему номеров и «остолбенели мужики». Это Толя рассказал стихи, которые были к столетию вождя. Как не могли мужики расколоть чурку, и как подошел к ним невысокий лысоватый человек. «Развалил он чурку на поленья лишь одним движением руки. Мужики спросили: “Кто ты?” - “Ленин”. - И остолбенели мужики».
- За бревно схватились первый с пятым, и остолбенели мужики, -это Леша.
- Под бревно попали первый с третьим, и остолбенели мужики, -это Володя.
- Хлопнулся в источник номер первый, и остолбенели мужики, -Это повар.
Толя, элегически:
- В разгоне любви коростельной, в цветущем во лесе густом, коростелька осталась нестельной, первый номер повинен в том.
- Размер неважен в конце, - критикует Леша.
- Именно так! Неважен! А первый номер отважен, - Толя разошелся, говорит без остановки сплошь экспромтами: - Чай пили вечером прекрасным, а птички пели за горой, за бригадиров седовласых, за первый номер и второй.
- Ой, ребенки, - смеется бригадир, - умора с вами.
- Слово, речь - это словесная пища, - сообщает Толя, - мы ею питаемся и сами ее производим. Русская словесная пища требует приправ: анекдотов, юмора, острого словца, она одна такая. Почему мы победили -спасибо «Теркину», почему бойцов ждали жены и невесты - потому что «Катюшу» пели. И гвардейский миномет тоже «катюша». Неизвестно еще, какая Катюша сильнее била фашистов. Высокопарно я сказал, наверно...
- Но верно, - одобряет Леша.
Я спохватываюсь: ведь вечер, надо бежать к костру, разогревать ужин. Хорошо, много рыбных консервов. Но и их надо вскрыть и разогреть, смешав с остатками картофеля и каши.
За ужином бригадир вспоминает: «У нас есть палатка, можно в домике не задыхаться от духоты. Ставьте!»
Но до того неохота нам, уставшим, возиться с ее установкой, что мы с удовольствием внимаем экспромту поэта:
- Палатка - это не яранга, нам души горечью свело, но мы вернемся бумерангом сюда, в Горохово село. Раскинем мы свои постели под крик все той же коростели. И будет пухом нам земля под крик того коростеля. - И подкалывает бригадира: - Мятежный дух у нас не помер: бежит за птичкой первый номер.
Тут и Леша воспрянул:
- Вот номер первый сгоряча швыряет дротики с плеча. И племя зрит ему во след: добыча будет или нет?
- Ой, ребенки, - привычно смеется бригадир.
Но сегодня назревает нечто. Толя просит внимания:
- Нет ни еврея, ни арапа, ни грома с молнией, дождя, страшнее нет, ребята, храпа вчера поддавшего вождя. Пока он всю округу мает таким звучанием своим, все племя грозно понимает: переворот неотвратим. И будет новая эпоха, другой устав, другой закон и что уже царем Горохом в Горохове не будет он.
- А кто вождь? - спрашиваем все мы. - Бригадир?
- Пока не знаю, - отвечает Толя, - но излагаю точку зрения: что такое бригадир? Говоря по-рабоче-крестьянски, бугор, шишка на ровном месте, говоря по-уголовному, пахан, говоря по-демократически, авторитет. Все это хило, не мило, уныло. Нужна яркость в названии. Кто он, наш любимый, все понимающий, во все вникающий, единственный, безальтернативный, ведущий за собой? Как, как его назвать? Главарь, атаман, закоперщик, вдохновитель и организатор всех наших побед? Как? - Толя делает мхатовскую паузу. Мы молчим. - Имя ему я уже провозгласил в стихах. Цитирую из себя: «вчера поддавшего вождя». Имя ему как?.. Вождь!
Мы и так давно считаем его вождем, но не было же общих демократических выборов. Пока он нелегитимен.
- Ну, ребенки, - стесняется бригадир.
- А ты решил, что ты уже вождь? - вопрошает Толя. - По менталитету ты тянешь, а по харизме? Выбирать надо вождя, выбирать, а ты самопровозглашаешься. Самоидентифицируешься. Рановато презенти-руешься. Преждевременно себя вождем позиционируешь.
Бородатый Саша рассуждает:
- У нас бригадир больше как вроде завхоз. А вождь понятие ранне- и средневековое плюс Ленин-Сталин. И как совместить?
- Сейчас надо не умничать, а раздеваться и осматриваться от клещей, - сурово говорит Анатолий. - Клещ ползает два часа перед тем, как впиться. Два часа дано на его обнаружение. Надо слушать зуд.
- Племя в груду, слушай зуду, - тут же возглашает Толя. - Главный труд - слушать зуд. О, дождь, на плешь нам не плещи, по нам скитаются клещи.
И в самом деле накрапывает дождик. Дождинки, падая на костер, как бы вспыхивают, вздыхают коротко.
Клещей на телах не обнаружено. Идем в храм на вечернее правило. Ваня не хочет идти спать, тоже идет с нами. Леша доволен сыном, сообщает:
- И души и тела чисты, шагаем в церковь я и ты.
Толя:
- Я плакал около березы, и гас костер, приемля слезы.
Володя подсобляет свергать бригадира:
- Кто первым был, тот стал последним, но сохраняет нервы средний.
Зажигаем свечки. Кажется, только что читали вечернее правило, а
сутки пролетели. То есть они были длинными, не как в городе, здесь время протяжнее, но все равно летящее. Еще три дня, и пойдем со всеми дальше, в Великорецкое. Завтра они выходят из Вятки.
Перед сном ходил за водой для утреннего чая. В лесу, наедине с собой, громко, не стесняясь своего плохого голоса, запел. Птицы смолкли. То ли испугались, то ли заслушались. «Настало время мое».
* * *
Под холоднющим дождем пришлось идти в другой раз. Думали, машина довезет. Как и в тот раз, забуксовала. Вытаскивали. Еще попытались ехать, вообще сели. Вытаскивали. Все в глине. Дождь хлещет. Вещи разобрали, надо идти.
- Господь труды любит, - говорит вождь. - А вы комфорта хотели. Крестоходцы это не крестоедцы.
Никто иначе и не думает. Не идем, а ползем. Не до разговоров. Усталость полезна. Молитва усиливается. Отдых под деревом. Знаем, в вещах не только продовольствие, топоры, лопаты, пила и гвозди, но и лекарство от простуды. Молчим. А как вождь? Молчит. Спасает поэт: «Глас вопиющих из-под ели вождь слышал. Только еле-еле».
Вождь, выдержав мхатовскую паузу, отмеряет по полпорции. Читаем «Отче наш». Малостью подношения не оскорбляемся. Это только начать. И поэт вскоре: «Таким людям нельзя не восхищаться, когда с им^м я вынужден общаться». Вождь ценит поэзию, наливает. Да и нести будет полегче, груз уменьшается.
В Горохово пришли измученные. Сразу видно, тут после зимы снова все заилилось, ступени к источникам размыты, подходы к купели заросли. И это за один год. А когда пятнадцать лет назад, после пятидесятилетнего запустения, тут прорубались, пропиливались, каково было? Нет, нынче все фруктово. Хотя пришли, конечно, уставшие. Может, ради первого дня посидим у костра? Да где там, с нашим вождем...
Костер, конечно, запылал - моя работа, они пошли начинать что-то делать к источнику. Праздничный обед - салат, картофель с тушенкой, гречка, чай-чаек-чаище с медом - обеспечу за два часа. Тушенку надо съесть сегодня, так как завтра начинаем поститься перед причастием.
Завтра вдобавок будет парадная гороховица в Горохове. Леня каждый год приносит мешочек отборного крупного гороха. Замачиваю в котелке.
Все! Кастрюли, большая и маленькая, в горячей золе, огромный чайник закипел и чай заварен, тарелки, ложки, вилки разложены, кружки расставлены, где народ? Иду за народом. А народ разработался. Включаюсь и я. Но мне же хочется, чтобы братья горяченького поели. «Отец Анатолий, благослови на сегодня шабашить».
Разгибается: «Запиши: тот зря прожил жизнь, кто не был на Велико-рецком Крестном ходе».
Идем к костру. Радуга над храмом, он под ней как картина на выставке в полукруглой раме. И вдруг - глаголы небесные - долгий тихий гром.
Да, все мы, все будем с тоской и радостью вспоминать праздник Ве-ликорецкого Крестного хода. Да, праздник. Он, как и пасхальная Светлая седмица, недельный.
- Братья! Мы знаем, что такое рай: мы каждый год неделю живем в раю.
* * *
Каждый год много надо делать. Особенно нынче: перетаскать штабеля старых кирпичей. Мы же в прошлые годы их выкапывали из фундаментов бывших зданий, село же было. Сложили, погордились, а вот, оказывается, штабеля не на том месте. Стали перетаскивать. Кирпичи старинные, большие, сырые. Друг друга осаживаем: «Не бери враз больше четырех». Идешь - руки оттягивает. Тогда умная чья-то голова: «Давайте в цепочку встанем». Встали. Передаем из рук в руки. Дело пошло! Да еще молитвы запели. И ожили. И когда меня стали гнать, чтоб я шел, еду готовил, мне из цепочки уходить не хотелось.
* * *
- Мы идем! Куда идем? Как куда? Вы не поняли, что ли? Идем в Царство Небесное, в Русь Святую! - Это возглашает вождь.
Лежим на берегу Грядовицы. Привал перед большим переходом. Силы в организмах осталось только у языков. Леня встает, перешагивает через нас. Леша тут же: «Гениальная нога: три поэта - три шага». Толя сразу: «Любая рифма просто гнида пред совершенством Леонида». Боря: «Перешагнуть поэтов просто, когда лежат они по росту». Коля: «Труп комара застрял над бровью. Он сдох, моей упившись кровью». Толя: «Скажу вам покамест, пока я не стар: хороший комар - убитый комар». Повар: «Я не мечтаю ни о ком, когда иду я босиком». Коля: «Ботинки выбросил писатель, он был стопей своих спасатель». Леша вернулся: «Впереди Медян-ский бор, - раздается грустный хор». - «А который сейчас час?» - «Двадцать пять минут доходит двенадцатого».
Встаем. Чуть ли не хором, сокрушенно: «Много болтаем, каемся, братцы. Очень пора нам уже исправляться».
Поднимают иконы, хоругви. Встаем. Краткий молебен. Пошли.
* * *
- С народом будто бы братаясь, наш трезвый вождь ходил шатаясь, -поддевает Толя.
Вождь первый смеется. Сел на чурбак. Толя: «О, мы испытываем дрожь при виде царственного трона. Внемли - сидит вчерашний вождь. И где теперь его корона?» Вождь пересел на доску. Толя тут же: «Во взгляде мудрых глаз тоска, опять творим себе кумира. Сиденье -жесткая доска. Вот так проходит слава мира». Повар добавляет: «“Сик транзит глориа мунди”, что значит: слава позади! О, нет! Нас, слава, не покинь: уже поет вождя латынь». - Накрывает чурбак лопухом: «Не садиться! Для таблички пригодится: “Седалище вождя не боится дождя”».
Толя:
- И на ее открытии выпьем, а все, что мешает, выпнем.
- А ч-чего жд-дать от-крытия? - заикается Леонид.
Коля элегически:
- Собьет росу идущий впереди. У лидеров особая порода. Но даже и великие вожди мельчают без великого народа.
Толя гнет свое:
- Спивался быстро коллектив, он требовал аперитив. Вы поняли? Спивался это как спевался. Не выпивка, а спевка.
То есть надежда по полпорции еще до ужина. Имеем право - день пахали под дождем не разгибаясь. Вождь, якобы не слыша Толю, поет: «Климат, мама, северный, холодный, а я хожу в дырявых сапогах». И в самом деле снимает сапог, переворачивает, выливает желтую воду. Работали в низине у родника. Сушим мокрые рубахи.
Леша: «И я демонстратирую!» - показывает совершенно измочаленные кроссовки.
- Братья, не занимайтесь бытом, - пресекает их жалобы Толя. - Наш вождь не тот, кто пляшет польку, а тот, кто сбегал в монопольку. А? Легче стало деду - перестал дышать. Где тут кафедра еды? Как бы мне попасть туды. А где кафедра питья, там завкафедрою я.
Саша рассказывает, как выносили спирт, как прятали в плафонах-светильниках.
- Вынести трудно, тогда в конце смены хлесь стаканище и бегом на проходную, пока не распьянел, успеть пройти. На одного собака кинулась, он ее сапогом в челюсть. Завизжала. Увидели, что пьяный, стали таскать в милицию. Таскали-то зачем? Все же ясно. И дотаскали. Он взял две бутылки красного, выпил полбутылки, пошел на яму за гаражи и повесился.
- Самоубийство - тяжкий грех, - говорит вождь. - На завтра... - он начинает долго и занудно говорить о работе на завтра. Мы и так знаем: копать, таскать, пилить, прибивать, делать, переделывать.
Толя терпеливо слушает:
- Ты меня этой разнарядкой довел до того, что я опускаюсь до глагольных рифм: «Копать, катать, колоть, таскать. С плотиной, глиной, млатом знаться? Когда же пьянку воспевать, когда же ею заниматься?»
- А знаешь, Толя, - спрашивает Саша, - как геологи в тундре выпивку ищут? Спрашивают пастуха оленей, где взять? Он спрашивает, какой сегодня день недели? Среда? Вот так пойдете все прямо и прямо, а в субботу свернете налево.
- Итак! - переждав вставку в свою речь, продолжает Толя. - Свергаем вождя! Нам же не нужен вождь в виде безконечности, умноженной на ноль. Я буду вождем для народа. Никакой обязаловки! Хочешь - иди копай, тюкай топориком. Для аппетита. А лучше - без передышки отдыхать. Я так вижу: мой народ лежит на пригорке среди цветов. Солнце, обильная еда. Повар! Начинай генеральную репетицию! Никаких муляжей, фанеры, все подлинное: обильная еда, питье. Кстати, где питье? Питье рекой! Пусть наши танки идут на банки, а нам полбанки да плюс вакханки...
- Стоп! - сурово обрезает вождь. - Ты где находишься? Эпитимьи захотел? Женатому человеку стыдно произносить такие слова.
- Оставь ему хотя бы вакхические песни, - просит Коля. - Толь, еще вспомни гурий и валькирий.
- А это еще грешней, - упрямо говорит вождь. - Нам должно быть дорого другое.
- Все, что нам дорого, припоминается и пропивается, песня звучит веселей, - успевает вставить Толя. - Не уходите от выборов вождя, то есть меня. Моя система в системе законов, не имеющих обратного хода. Я за самовыражение. Хочешь выпить - вот оно - на столе. Хочешь спать -вот нары, хочешь поработать - вот топор и лопата, и гвозди, и молоток. Мы - русские. Русский попьет-попьет, поспит-поспит, да как работнет! И Транссиб готов.
- Это точно, это да, - опять перебивает Саша. - Русскому что надо? Пила, топор и лес. И все! Дом готов!
- Дом готов! - хохмит Леша.
- Итак, - гнет свое Толя, - приготовили верхние конечности. Голосуем за меня! Моя совесть чиста, как перчатки хирурга.
- Залитые кровью демиурга, - поддевает Леша.
- Мне хватит туманов Петербурга, - отбивается Толя. - Но об этом в другой раз, об этом чуть ниже. А пока выборы. Меня! Чур, не Меня.
- Подожди, Толя, тут нужен консенсус, - Леша останавливает порывы Толи во власть. - И не только, еще нужно промониторить прения сторон. А, кстати, какой у тебя рейтинг?
- Это как кворум решит, - отвечает Толя.
- А по какой квоте?
- Ну, демагоги! - восхищаются Александры.
- Нет, не демагоги, это была сценка-пародия на язык демократов, -отвечают кандидаты в вожди.
- Если на кого за час не сядет ни один комар, того и выберем, - решает пока еще действующий вождь.
- Лень, ты у нас народ. Как трактуешь? - спрашивает Толя.
- Б-безразлично, - заикается Леня.
- Наломай черемухи, отгоняй комаров от моей личности. Заметь, я при наличности. Час потрудишься. Всего. Зато море счастья впереди.
- Еще не п-проголосовали.
Вождь ехидно:
- Тебя еще до голого сованья сожрут.
Леша ласково и задушевно вождю:
- Сердце мое разрывается, вождь, видеть не могу, как ты надрываешься, чувствуешь однокоренные слова: разрыв и надрыв? Это я взвалю на себя твое тяжкое бремя. Ты будешь, по твоему выбору, референтом по культуре или консультантом по строительству...
- С-с-советником п-по т-телесным н-наказаниям, - рекомендует Леня.
- А посуду кто будет мыть? - спрашивает повар. - Вы же знаете мой девиз: «У меня не худеют». Вождь, мы тебя не обсуждаем, тебя не осуждаем, мы рассуждаем: у тебя место выборное или наследственное?
Вождь кряхтит и идет к своему рюкзаку.
Да, о рюкзаках. Самый устрашающий по размерам и по весу рюкзак у Володи. Рюкзак он называет «смерть туриста» и «счастье паломника». Спросите, чего у него нет, если даже есть походная складная плита, пассатижи (?), набор приправ, всякие тяжеленные банки консервов. Мы свои банки стараемся поскорее выложить на общий стол при каждом привале, а Володя не успевает освобождаться от тяжестей, ему же надо распрячься от своей поклажи, расстегнуть всякие пряжки на всяких ремнях. Так что тащит бедняга свой груз дальше. Прямо как добровольные вериги. Жалея его, забираем у него по паре банок.
Конечно, это было эффектно, когда он в первый раз на привале в пять минут на своей плите согрел чай в литровой кружке. Кружка из тонкой стали с припаянной ручкой, которая совсем не греется. Это же такая роскошь - сидеть на поляне среди леса, и подставить под струйку кипятка свою кружку, и сыпануть в нее щепотку опять же володиного целебного чая.
* * *
Мы виноваты сами, что захотели вождя. Мы заметили, что он, в общем-то, и сам был не прочь побыть вождем. А нам что, пожалуйста. Но вождь так просто не хотел трона, он, это ему было на будущее важно, сказал, что надо выдвинуть две-три альтернативные фигуры. И что каждая фигура в одной фразе выскажет свою программу. «Пожалуйста, - сказал Толя, - я - самовыдвиженец, как и все мы. Вот фраза: “Со мною будет интересно, пусть и недолго”». - «Почему недолго?» - «Так мы же все быстро пропьем». - «Так. Теперь ты, Леша». - «Труд и молитва!» - «Леня!» - «Я н-нн-арод, - заикается Леня, - меня в-в-выберут. Н-но я не п-пойду!» - «Почему?» - «Р-р-работать люблю». - «Повар, ты?» - спрашивает вождь. - «У меня будете сыты». - « А если продуктов не выдам?» - «Так ты уже чувствуешь себя вождем? Будь!» - «Нет, я не хотел быть вождем». - «А чего ж не говорил, что не хочешь?» - «Я молча не хотел».
- А почему же ты говоришь о пользе спанья на жестком, а сам спал на двух матрасах?
- Чтоб они оба не простаивали. А вы спали, а я земные поклоны делал. Кто видел? Господь видел. Меня посетили мысли о своей греховности и своем самочинии, и я встал.
- А потом опять спать? И почему ты всегда недоволен нами, особенно с утра?
- Потому что я встал, а чай не готов. А вчерашний чай - это змеиный яд.
- А сам чего не заваришь?
- Кто же за вас будет молиться?
- А почему же ты видишь только недостатки?
- А кто тогда их увидит? Ну, ребенки, поиграли в демократию, а работать кто будет?
Встаем. Разбираем инструменты.
* * *
Приснилась Маруся Распутина. Веселая, красивая: «Говорю папе: я стихи сочинила, вот какие, - и читает: - Мы вышли из леса на поле пшеницы».
Вспомнил, так как идем Крестным ходом и как раз вышли из леса на бывшее поле, но пшеницы или ржи, или гречихи, уже не понять.
Женщина идет рядом: «В городе живешь, в городе воздух в горле стоит, а здесь так вольно, так грудь наполнена. Но так тяжело: идешь -идешь, так грустно, так пусто, нет деревень, а раньше-то как! Столы выносили, ведерные самовары, квасу наварят, плюшки-ватрушки. И их отсюда выжимали, налогами душили, сажали, на целину угоняли со своей целины».
Поле кончается, снова входим в лес.
* * *
- На Крестном ходе, если идешь и молишься, то идти легче. А когда какие всякие разговоры, то и устанешь скорее, и толку от такого хода мало.
- Да и то все равно прошибет. Много не поболтаешь. Идешь когда каждый день часов по шестнадцать, то усталость очень полезна.
- А вот, братья, я ходил на Царский Крестный ход в Екатеринбурге, так то совсем иначе, чем на Великорецком. У нас неделя, там один день. Как и Курский Коренной. А на Урале никогда не забыть - пошел первый раз, говорят, что идти около двадцати километров. Ну, я опытный кре-стоходец, так считаю, думаю: значит, это три привала, дойдем часов за пять. С вечера служба, потом литургия, причастились - чаш, наверное, десять выносили, море же людей. Пошли. Идем. Владыка Викентий впереди. Идем, идем. А там же не как в Вятке, там вся дорога - это асфальт. А я еще именно в тот год шел, когда огромная эстакада над железной дорогой, железобетонная, зашаталась. В резонанс вошла. Это да. Под ногами ходят тысячи тонн бетона. Страшно. Если б не Крестный ход, что бы тут было? Крики, визги, истерики, паника. А тут молитвы зазвучали, и все громче и громче. Все были уверены, что Господь и Царственные страстотерпцы беды не попустят. И успокоилась эстакада. А она метров пятьсот. Да, но что надо сказать. По сравнению с нашими там женщины идут нарядные, они же свои сарафаны в болоте, в луже не запачкают, в лесу не изорвут. Модницы там прямо исключительные. Но наши лучше. Да, так я же о чем. Идем и идем. Ну, думаю, наверное только две остановки. Опять идем и идем. Иисусову молитву поочередно поем. Вначале братья, потом сестры. И опять братья, и опять сестры. Идти легко. Архиерей впереди. Думаю: ну, уральцы! Значит, только один привал. И вот, когда уже вышли к железной дороге, увидел указатель «К Ганиной яме, к монастырю Царственных страстотерпцев», понял, что вообще не будет отдыха. Вот Владыка!
- Так многие с того хода и на наш приезжают.
- Да. Стальными становятся. Это гвардия православная куется в таких походах.
Как-то мелькнул в Горохово, но запомнился такой Виктор. Капитально бородатый, идет один. Вождь сурово допрашивает:
- Ты взял благословение идти одному?
- Мне так Бог сказал: иди один.
- А еда есть у тебя?
- Я Святым Духом питаюсь. Главное у меня борьба с плотью, с самим собой. Есть надо то, что не разжигает плоть.
- А семья у тебя есть?
- Семья мне мешала спасаться.
- И ты решил ее загубить?
- Как?
- Кормить же детей надо.
- Большие уже.
- То есть как у цыгана - маленькие были, грудь сосали, подросли, воровать научились? Садись давай с нами, окрошкой плоть не разожжешь.
Виктор садится к столу, перекрестясь перед тем на храм. Сел на пенек.
- Я из смирения на скамью не сяду.
Поел окрошки.
- Вот тебе еще каша овсянка. Тоже не разжигает.
Поели, попили, прочитали молитвы. После вечернего правила вождь наказывает Виктору:
- С утра вымоешь хотя бы один котел. Вон крайний.
Размеры котла, видимо, ужаснули Виктора.
- Я на северах на океанских судах ходил. Там движки в пятьдесят тысяч лошадок. В цилиндр как в этот котел можно было залезть.
- Вот и залезай.
Но утром, еще до нашего пробуждения, Виктор ушел. Спасаться пошел, бороться с плотью, или не захотел котел мыть, не знаем.
* * *
В конце первого дня Крестного хода подошел ко мне мальчик, сказал, что он Володя, и попросился идти вместе со мной. Он остался один. Они шли с товарищем, а родители товарища догнали их и увезли сына обратно. А Володя с ними не поехал. «Я дальше пойду, я хочу весь ход пройти».
Да, нагрузочка, думал я, намучаюсь. А оказался Володя таким славным, был он не только не в тягость, а в радость. Всегда молчал, шел рядом, на остановках приносил или травы кисленки, или травы, корни которой мы называли репой и ели. Также ели мы с ним сосновую и еловую кашку, молодые побеги, будущие шишечки.
Никогда Володя не заговаривал первым. Только всего и было, когда открылся с горы далекий зеленый горизонт: «Лес-то какой большой! -потом, подумав: - На запад идем. Ой, нет! На юг: солнце недавно взошло». И еще: «Чайкам-то, видно, негде на реке жить, обмелела, сюда прилетели. Будут как вороны».
Володя всегда шел рядышком. Прямо как любимый внучек шел. Никогда ничего не просил, не жаловался, всегда старался в чем-то услужить. Ноги натер в резиновых сапогах, даже не сказал. «А тебя не будут искать?» - «Нет, я с бабушкой живу, она отпустила. Она раньше и сама на Великую ходила. Говорит: принеси мне травы батюшки Серафима». -«Сныти?» - «Да. Сейчас не буду собирать, завянет. Уж ближе к концу».
Именно к Володе привязался большой рыжий пес. Бежал с нами от Великорецкого. Его любили, и он не голодал. Но всегда возвращался к Володе. Володя ему очень радовался, дал имя Пират и считал своим. «Бабушка ругать не будет, он хороший».
Но покинул нас Пират. Видно, не хотелось ему возвращаться, но что делать - служба. Подпрыгнул перед Володей, положил лапы на плечи и помчался обратно. Ночевали в Мурыгино. Постелили нам на полу. Я лег с краю, быстро уснул. Сплю я безпокойно, одеяло всегда сползает, и я слышал, как Володя все время поправляет его.
А назавтра Володечка ушел. Уже начались окраины Вятки. Он увидел автобус: «Ой, мой номер. - И жалобно добавил: - Я ведь поехал, дядя Вова». - И убежал.
Очень мне стало без него грустно. Ничего не знаю о нем, неловко было расспрашивать. С бабушкой живет, траву-сныть батюшки Серафима ей понес. Рада будет.
* * *
Резиновый сапог на что годится? Недалеко от переправы через Грядо-вицу есть родник. Старухам к нему не подобраться. Молодой парень говорит: «Сейчас Медянский бор, большой будет переход, пить захочется, пойду воды наберу. Кому принести?» Старухи обрадовались, тянут ему бутылочки. По литру, по полтора. Он покрутил головой: «Ладно, чего-нибудь придумаем». Ушел с другом. Минут через двадцать возвращаются, тащат в руках каждый по резиновому сапогу. Видно, что тащат с усилием - еще
бы, в каждом сапоге литров по десять родниковой воды. «С песком промыли, ополоснули пять раз. Подходи, получай фронтовые сто грамм». Разливают воду в бутылочки. К каждому очередь.
Разговоры на привале
Женщина показывает фотографии: «Вот с какими бесами работаю, специально взяла показать». - «Дальше не неси, закопай. Или сожги, или утопи. Конечно, и за них молись».
Другая: «А у меня! Соседка читает мне про секту, специально приходит. От церкви отговаривает. Мол, у них лучше. Лечат болезни. Делают испускание ключей на восток. Я прямо плюнула: всегда на запад надо делать испускание».
Старик: «На фронте, на марше, сколь пить захотел, увидел огромную лужу, выскочил из строя, упал к краю лужи и внападку стал пить. Вдруг на меня гуси. Испугался сколь. А как пить не захочешь, когда на голове рама пулемета, на плечах колеса. Да я еще катки потерял, пришлось вернуться. Нашел. Присел, лучше б не сидеть, а то сразу кинуло в сон. Очнулся от пальбы. Догонять! Догнал. Там не поймешь, чего было, кто стрелял. Темно уже. Окопались, пристреливаемся. Они кричат: “Не стреляйте, сдаемся!” - Выходят, сдаются. Я так курить хотел - уши пухнут. “Раухен”, - немцу говорю. Он угощает. И сам курит. Я и автомат забыл - курю... Да-а. Меня два раза в звании повышали, два раза разжаловали. Раз опять послали с термосом за ужином. Навьючился на кухне, возвращаюсь - заблудился. Пришел. к немцам. Слышу: гыр-гыр-гыр. Под самый нос пришел. Потихоньку, потихоньку в сторону. Тут наши как хватили по этому месту, ударили. Думаю - все! Сел на землю, достал ложку из сапога, хоть перед смертью поем. Каша не больно горяча, съел с котелок. Поел и обстрел перестал. Пришел. “Так это мы по тебе стреляли? Дак как ты жив?” Мне бы признаться, что кашу ел, а стыдно, вроде как украдкой поел. Говорю: “В воронке пролежал”. Тут возчик капусту гнилую везет, вся расползается, а пленные у него хватают с воза и в штаны прячут, штаны мокрые. Их кормили. Один дорвался, ведро киселя выпил, живот схватило. После ранений я фронты менял: Третий Белорусский, Первый Прибалтийский, Второй Прибалтийский. В хуторах подземелья, из домов подземные ходы. Когда успели нарыть? Значит, знали, что придем».
С нами идет бледная, красивая Катя. Не ест ничего совершенно. И ни с кем ни слова. Зоя ей говорит: «У тебя сапожки рваные, а у меня запасные есть, возьми, пожалуйста». Катя надменно: «Вы все сказали? Я могу уйти?» И ушла. «Да она блаженная». - «Не блаженная, блажная. Если даже батюшку не слушает. Она же “святая”, где нам до нее». - «Ой, не осуждай». - «Прости, не буду».
- Летом с ребятишками одни тревоги. Иду на работу, знаю, что все равно на речку убегут. Прошу: вернитесь хоть пораньше, чтоб я видела, что вы не утонули. На работе все сердце изорвется.
- А вот вроде как шутят, когда наказывают: утонешь - домой не приходи. А ведь утопленники чаще всех других покойников приходят. И у Пушкина то же, у Гоголя.
- Старик плел лапти. Да какие! Воду не пропускали. Двадцать шесть пар наплел, конфисковали, увезли в передовой колхоз «Красный октябрь». А старик какой был знаменитый: и гончар, и печник. Горшки у него были, сейчас они вообще на вес золота. А печи клал! Уже изба вся разрушилась, сгнила, а его печь стоит под всеми дождями-снегами, подходи, затапливай! Когда лапти отобрали, он сказал: «Все, больше на дядю не работаю». И слег. И не встал.
- А я еще ходила, когда нас гоняли. Уже у Великорецкого сцапали и в машину покидали, в кузов. У меня сумочку из рук вырвали. Там туфлешки да кофтешка. И ведь отобрали. Завезли в лес: «Вылезайте». Мы вылезли, уже темно. «А куда идти, где дорога?» - «Пусть вам Бог дорогу укажет», -и уехали. А так и вышло: мы нисколько не заблудились, а у них машина заглохла. Их комары всю ночь шпиговали, они ж городские, непривычные.
Нам же и жаловались. Говорят: нас заставляли. А сами? Да. Вот я заметила по жизни: кто строил дома на месте кладбищ, в тюрьмы пошли, а кто безвинных сажал, те спивались и с ума сходили. На хлыновском кладбище постройки. Священник из собора Александра Невского сколь был против строительства. Посадили. Татьяну, дочь его, я старухой помню, рассказывала мне, что ее носили на руках на свидание. Он ей все пальчики перецеловал. Больше не видела.
- У мамы был сарафан из ненашего шелка, подарил ухажер. А ее-то мать, моя бабушка, спряла сама и выткала льняное полотно и из него сарафан сшила. Все ахнули, вот какой сарафан. «Носи, дочка». Так мама больше разу не надела тот, иностранный.
- Ухажеру вернула?
- Не знаю, врать не хочу.
- Ты говоришь, милиция гоняла. Так она какая ни есть, а своя. А вот иностранные фотографы - эти страшней. Чем? Идем через лес, много валежника было, тогда еще не расчищали. Еле прокарабкиваемся. И вот эти бесы, прости, Господи, с фотоаппаратами заходят вперед и подстерегают, когда женщина или там девушка будет через дерево перешагивать. Когда ногу поднимет, а? До какого сраму эта Европа дошла! На Крестном ходе им только одно интересно. И в Горохове погружались, они тоже снимали, в кустах прятались. Хорошо теперь, сделали ограждения.
- Они русских как туземцев снимают. У них и Пасхи-то нет, что с них взять, несчастные. Надо читать за них акафист «Умягчение злых сердец».
- Новый надо акафист написать: «О просвещении глупых европейских умов».
- Да и свой-то просветить.
- Неверующему говорит батюшка: - «У тебя пять детей, один слепой. Кого больше всего жалко? Слепого? Конечно! Так и тебя больше всего жалко. Скажи, как без Бога жить, как тыкаться в потемках и умереть в обидах? Говоришь - пробовала молиться, и ничего в жизни лучше не становится? Да ты молись, чтоб хотя бы хуже не было!»
- Осипов, знаете? Алексей Ильич говорит, что жизнь земная не курорт, а больница. Я вот тоже думаю, что грехи надо не грехами называть, а болезнями. Только вот он зря вроде как успокаивает, что ада нет. Есть. Я за одно объядение попаду. Удержаться не могу, ем многовато. Вроде и постное, а все же еда. Конечно, болезнь. Думаю, какие бы таблетки.
- Голод придет, быстро вылечишься.
- Без храма не спастись. Тело моют в бане, душу моют в храме. И молиться всегда. Стол без молитвы - это стойло для скота. И работать без молитвы - это в робота превращаться.
В Медянах позвали за стол. С нам батюшка отец Анатолий. Торопится поесть и встать. Зоя:
- Ты чего, батюшка, из-за стола рвешься? Ты сиди, разъедайся, солидность наращивай. С нами поговори. Вот почему свечки такие дорогие?
Батюшка отвечает:
- Может, это восковые. Конечно, они дороже. Горят аккуратно, неслышно, тихо, запах медовый, а химические трещат, воздух травят. Свиной жир в них добавляют. Нет, я поросятину в церкви жечь не дам.
- А вот, батюшка, у нас отец благочинный, прости, Господи, все всем разрешает: и самоубийцу отпевать разрешает, и давленых, и травленых, и топленых.
- Этого я не знаю, не видел, не слышал и обсуждать это не буду, и вам не советую. Нравится священник - молись за него, не нравится - тем более молись.
- Эдак, эдак, - поддерживают старухи.
- А вот, батюшка, говорят: для глаз очень полезно при вставании солнца на него смотреть.
- Пойдем завтра до солнышка и проверим, - подходит к окну: - Луна еще, видите? В ореоле. Жарища будет, а если зимой так - к морозу. На природу мы обращаем внимание, и от этого к Богу приближаемся, мы же ею, Божиим творением, дивимся.
- Да, да, идем по природе, молимся, а от этого и в церквях легче молиться.
- А вот чего это, батюшка, нынче чересчур очень много говорят о деньгах. Нам-то что говорить, при наших-то капиталах.
- Чего вы бедности стесняетесь? - говорит отец Анатолий. - Все вашими жертвами только и держится. Какой богатый для показухи отстегнет и чванится. Так это разово. А прихожане - копеечки, пусть маленькие, но на каждой службе. Это надежнее.
- А вот, батюшка, скажу: хорошо, что вы по улице в облачении ходите. А то встретила отца, имя не буду говорить, встретила, а как благословение просить, он в пиджаке, вроде чиновник.
- Не осуждать! - сурово говорит отец Анатолий. - Идешь в рясе -больше искушений. Ко мне тут парень подскочил: «А у вас борода не бутафорская? Можно подергать?» - Дергай», - говорю. Все-таки постеснялся.
Мужчина (до того молчавший):
- Менты гонят на «Вольво», прут на красный. Гляжу - ни за кем не гонятся, а прут. Я их машину перекрестил, и машина у них заглохла.
* * *
Обгоняет машина, свирепо газует, прямо напирает. От нее шарахаются. Шофер еще и резко сигналит.
- Ну, этот прямо в ад поехал».
- Этот-то еще, может, очнется, а вот новые эти, говорят, - новые русские, - эти в огонь, в огонь! И никакие это не русские. На какие это деньги они новыми стали? Как в новых перекрестились, кто крестил? Эти - в ад! Никуда не денутся. Каждого барана повесят за свои рога.
- Да пожалей ты их!
* * *
Дождь, утро, у нас новый начальник, который сверг и вождя нашего и нас ни во что не ставит - Андрей. Имеет право: мы-то раз в году приходим в Горохово, а он еще тут будет и лето и всю осень. Но очень, к сожалению, груб. И - что очень досадно - не любит, когда мы становимся на молитвы. Время теряем, по его мнению. «Трудом молитесь, трудом!» Зовет нас рахитами. Толя сочинил: «У нас инфаркты и бронхиты, туберкулез и простатит. А он кричит: “Вперед, рахиты! Вперед! И пусть вас Бог простит!”»
Андрей еще и начетчик: «Безплатно работаете, значит, надо работать в полную силу». - «Не безплатно, - поправляет вождь, а безденежно. Мы денег не получим, а плату от Бога получим».
Дожди. Обедаем стоя, из одного котелка. Надо штабель досок перетаскать. Штабель такой огромный, что лучше на него не смотреть.
Таскаем. Саша облегчает усилия рассказами о медведях и кабанах:
- Медведи умные, не тронут, лишь бы не медведица с медвежатами, а кабаны - это безпредельщики, прут и прут. От медведицы не скрыться, а от кабана только на дереве.
Спасибо Андрею: нынче уже и баня. Сан Саныч натопил. Радуемся, ибо намерзлись, да и ночь впереди трудная: матрасы после холодной весны влажные. Негде было просушить. Хвалим Сан Саныча. Он: «Я люблю, когда меня хвалят». Плохо видит. Толя подковыривает: «А как же ты женщин различаешь?» - «Я наощупь», - отшучивается Сан Саныч. «Это что такое, такие разговорчики!» - кричит вождь.
Баня крохотная, но троих вмещает. Первая партия пошла. Толя садится на чурбак: «Я в кресле, даже под дождем, себя восчувствовал вождем».
Оба они, Толя и Саша, прыгали с парашютом, есть что вспомнить. Саша:
- Не спал я всю ночь, перенервничал. Прыгнул. Вслед кричат: «Красная строка!» Я все забыл. Учили говорить: «Пятьсот один - два - пятьсот три». Дергать кольцо. А страшно: вдруг не раскроется. А земля на меня несется, дернул от страха - парашют раскрылся. До этого прыгали на пятки. Со стола. Стол на стол и еще стул.
- Парашют сам собираешь, - рассказывает Толя. - Пишешь расписку: за мою безопасность никто не отвечает. Ничего себе думаю - неминучая приходит. Расписку написал, насторожился. И все кажется, что парашют не так собрал. Нам говорят: бросят против ветра, это красиво. А прыжки уже идут, одного уже закрутило, хлопнуло. И уже кричат нас. Говорю другу: «Юр, мы же неправильно собрали». Кричат еще раз: «Гребнев, Сафронов!» Пошли. А Сафронов тяжелее меня на пятнадцать килограммов, первый должен прыгать, чтоб меня потом не погасил. Самолет АН-2. Летчица - баба, курит «беломор», глядит презрительно. Мгновенно заволокла в высоту. Юра сел у люка, спустил ноги, глядит жалобно. Баба папиросу сплевывает, кричит: «Прыгай!» Он молчит. А самолет крохотный, люк рядом с летчицей. Она Юрку ногой выпихивает. Рассердилась на него, надо же делать еще круг, керосин тратить. Юра нырнул. Теперь я. Ноги свесил, их ветром так сгибает, кажется, что в колене сломит. Боюсь. Но ведь все равно выпинает. Полетел, стропы дергаю, ничего не запомнил, велели ноги вытягивать, я вроде вытянул, но сел не на две точки, а на одну, сидячую. Язык до крови прокусил. Подбегают: как? Мычу, встать не могу, кровью плююсь.
Пора и нашей смене в баню. Толя в предбаннике:
- И при дожде и без дождя спешит помыться друг вождя. - Лезет на полок. - Сашка, «друг елецкий иль смоленский, дай гвардейскую»! Еще! Не жалей, вода не куплена! «Отдыхай, теперь оно!» Эх, жить хочется, забодай тебя кальмар!
Баня ах как хороша! Вот это русское «оно», оно из «Василия Теркина», не по зубам для переводчиков. То есть достигнуто искомое температурное состояние, когда тело в истоме, когда кожа стонет от счастья и просит веника. А веники у нас двухсоставные: пихта и береза.
Одеваемся. Саша: «Меня бабушка учила: “Ходи баско, говори бастень-ко, не оммыляйся”». Другой Саша: «А у меня бабушка ни копейки за так не давала. Прошу пять копеек на кино. Она: вот возьми поленья в сенях и принеси к печке. И пятак дает уже как заработанный».
Как хорошо после бани в мокром лесу. У избушки разводим костер. Вождь у нас Анатолий, несмотря на Андрея, по-прежнему зовем вождем Анатолия.
- Дуйте, дуйте! - кричит вождь, падая на колени перед костром.
- Уроды, - кричит, пробегая Андрей-диктатор. - До сих пор котлы не вымыты! Рахиты!
- Ад себе готовит, - говорит вождь. - Молитесь за него. Нельзя же, грех, называть человека уродом. Слабо знает Писание. Не знает, что ему грозит.
В четырех огромных, литров по пятьсот, котлах готовим кашу, кисель. В один из котлов натаскиваем воды для кипятка, для чая. Но Андрею все кажется, что мы мало задействованы.
- Главное, - учит повар, - увидя Андрея, хватайте лопату или топор, или изображайте, что куда-то торопитесь. А то запряжет.
Ночь прошла почти безсонная. И почему бы не поспать, есть же дежурные. Но Андрею надо всех взбулгачить. Спать не давал, гонял. То надо палатки для торговли свечами оборудовать, то еще и еще дров подколоть. Темноты в природе не было совсем - июнь. «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».
Мы все приготовили, вымыли, крупу засыпали, костры под котлами горят. Но Андрей всегда будет всем недоволен. Бежит, орет: «Мешайте, мешайте!» Пробежал. Толя подхватывает: «А кто мешает, того бьют». Андрей бежит обратно: «Двое в “уазик”!»
Уазик Андрея Володя назвал «рахитовоз». Уазик без глушителей, чтобы усилить его проходимость. Он так ревет, что здешняя благостная тишина в испуге спряталась на кладбище.
Сан Саныч с Володей уезжают встречать колокола. Усиливаем обкладку котлов поленьями, вчера кололи весь день. Мешаем кашу огромными деревянными лопатками. Льем, не жалеем, растительное масло. Вроде соли мало. А мне кажется, в самый раз. А Леня говорит, что даже и многовато соли.
- Вот вам наглядная иллюстрация к теории Джона Локка о чувствах. Они обманчивы, - это повар философствует. - А кто управляет чувствами?
Разум? Это Кант. Да и разум может врать. А им кто управляет? Правильно, дети, воля, тут Ницше и Шопенгауэр. А рядом уже фашизм. Ибо появился племянник английской королевы Дарвин. Он спрыгнул с дерева, он развился от инфузории-туфельки, встал на ноги, изобрел станок Гуттенберга, и что? Надо же дальше, надо же от человека идти к сверхчеловеку. А это, дети, как мог бы сказать Заратустра, фашизм.
- И как это женщины всю жизнь у плиты, с ума сойти, я бы повесился, - рассуждает Саша. - А вообще вот что скажу: все говорят: жены декабристов, жены декабристов. Да любая русская женщина, которая с алкоголиком живет и не бросает и вытягивает его, выше любой декабристки. Если б не русская женщина, полстраны бы умерло под забором.
- А как эта пословица: какие девушки хорошие, откуда же злые жены? - спрашивает Леша.
Толя прекращает разговоры частушками:
- Ой, подружка дорогая, до чего ты хороша: ведь природные румяна и открытая душа. И: наша Вятка серебриста, на песочке камешки. Наши девушки гуляют, не ругайте, мамушки. И: хороши, хороши в нашей реченьке ерши. Парни любят понарошку, ну и мы не от души
- Вот еще, пока не начали работать, случай расскажу, - говорит Саша. - Едут русский, чукча, грузин, хохол. Скучно ехать. Давай играть. А как? Карт нет. «Давай так, - говорит грузин и ставит бутылку коньяку, -дама». Хохол шлепает шмат сала: «Король!» Чукча хлопает балык: «Туз!» Русский говорит: «Мне крыть нечем. Снимаю». И все сгреб.
- Что это? - вопрошает Леша. - Москальская шутка или великодержавный шовинизм?
- Какой там шовинизм, - возмущается повар. - Вспомни пословицу: не вспоивши, не вскормивши, врага не наживешь. «Москаль зъил твое сало». Много ты его у них съел?
- А на Крестный ход много приезжает из Украины и Беларуси. - говорит Саша. - Из Риги целый вагон. В прошлом году с ними шел.
Много уже прибежало помощников из Крестного хода. Вряд ли их благословили обгонять Крестный ход. Покаются. Говорят, что нынче идти тяжело. Еще бы - глина, грязь внизу, дождь сверху. Но это всегда так. Испытывает Господь. Не бывает Крестных ходов курортных. Дождь, град, снег бывал в эти годы. А уж дожди всегда. А то и жара-жарища. Холод, кстати, лучше, чем жара: комаров меньше. И вообще, Крестный ход - это трудности. А мы все удобства всякие изобретаем.
Пришли! Колокола! Море людей, море дождя. Море горящих свечей. Акафист в храме. Люди радостные, уставшие, шатаются даже, мокрые. Горы записок на столах, которые мы утром поставили, протерли. Толя знакомой женщине, Наташе: «Услышав колокола звуки и не во сне, а наяву, я вытер трудовые руки о восходящую траву». Ее, что совершенно понятно ценителям поэзии, восхищают слова «о восходящую траву», тут и рост травы, и весна, и стремление ввысь, и чистота: трава мокрая, моет руки.
У источника полчища людей. Нашей бригаде немного грустно - уходим отсюда. Выслушиваем слова благодарности за оборудованные купели. Вождь вещает:
- Нам благодарность в погибель. Вся слава Богу. Мы много живой природы загубили, проход прорубали.
- Зато как стало хорошо-то проходить, - благодарят те, кто помнит прежние годы. - Ведь с чего начинали!
* * *
От комаров не спастись, лучше смириться. Просыпаемся - брезентовые стенки и потолок палатки в россыпях красных ягод, это капельки нашей крови просвечивают сквозь брюшки комаров.
Холодно. Толя вылезает:
- Ой, у меня родовые схватки, ой, слово рожаю. Глагол рожаю. «Тре-морить». Меня это утро треморит. Трясучка у меня.
- Я тоже слово рожаю, - говорит от костра повар. - Я обезсучиваю осину, сучки обрубаю. Да, Толя, весь ты в своей крови.
Толя тут же:
- Приглядись к человеческой драме: слез кровавых река пролилась. Всю-то ночку война с комарами с переменным успехом велась.
Делаем длинный стол для молебна, чтоб класть на него записки-памятки. Расставляем тяжелые железные корыта на ножках. Заполняем их песком. Это подсвечники. Вдоль стен. Целая лента огней вскоре
запылает.
Задуманное коллективное погружение не состоится: много работы. Еще приготовить место для стоянки знакомых паломников, натаскать дров для костра и, опять же, побольше воды. Бегу к источнику, придумав уважительную причину - набрать воды для последнего здесь в этом году чаепития. И торопливо ахаю в купель. Троекратно. Чувствительно. Освежающе. Укрепляюще. Ободряюще. Заряжающе.
Уже идут паломники - самовольщики, убежали вперед. Молодежь, все надо быстрее. А староверы уже прошли. Никак не хотят ходить с нами.
Разговор о них. Выстоят, если в православие обратятся. А они считают, что мы должны вернуться в их веру. Но какая вера - считают, что только они правы. Но так и любые сектанты считают. Поговори поди с баптистами, адвентистами, всяким свидетелями Иеговы, - так только они и правы. Но староверы - наши! Наши братья.
Разговоры на привале
- Ловить рыбу на нытье. Как? Червяка насадить на крючок, закинуть и начинать ныть: «Вчера ты рыба не клевала, с утра не клевала, скоро обед, а ты все не клюешь». И все равно клюнет.
- У нас Арсенька так-то ловит на нытье. - замечает паломница.
Да, уж этот Арсенька. Видно, и он послан нам для терпения. Он именно ноет: как ему тяжело жить, как на работе над ним издеваются, не платят, нечем за свет заплатить, еды нет, только картошку ест, да кильку. Конечно, куда денешься от русской жалости, подают ему. Все равно ноет. Когда кто-то не выдерживает, особенно мужчины, бывшие военные, и внушают ему, что недостойно для мужчины побираться, Арсенька тут же обороняется: «Все вы тут Чапаевы да Буденные, один я рядовой. Не учите жить, помогите деньгами».
- У матери деточки ушли за ягодами. День прошел - нет и нет. И вечер уже. Побежала в церковь - закрыто. Тогда и на паперти, и у алтаря молилась. Пришли, рассказывают, что заблудились, а встретили старичка, дедушка такой седенький, он им дорогу показал. Святитель Николай, некому больше.
- Град-то в прошлом годе был, помните, конечно? Перед Велико-рецким. Как лупило, о-о! И целлофан на всех теплицах изорвало. А мы шли с соседкой Наташей. Идем мокрые, голову прикрываем. Ну, думаем, пропали наши теплицы. Вернулись. Так - поверите - наши только теплицы и уцелели. А Дуся, тоже участок рядом, говорит: да как же это, этакое чудо - будто кто заворожил ваши участки, у всех все грядки выбило, у вас уже у огурцов по два цветка. Пойду, говорит, с вами на будущий год. Дак чего-то не вижу, пошла или нет.
- Из Макарья женщина пошла, забыла дом закрыть. Спохватилась к концу дня. А, не буду возвращаться, как Бог даст. Вернулась, в доме парень небритый, кидается к ней в ноги: «Все верну, что поел из холодильника, только выпусти». «Иди, кто тебя держит?» - «Старичок держит. Я иду к дверям, он встанет на пороге, я боюсь». Все батюшка наш!
- Самоубийцы прямой наводкой идут в ад. А солдаты убитые в рай. Идут в рай без мытарств.
- А вот, женщины, как рассудить? Сменщик у меня был. В церковь ходил. Не часто, но ходил. Правда, пил. А как началась эта горбачевщина, стало все горбатиться, как стали народ спаивать, убивать этими спиртами, «рояли» всякие, мужиков еще «роялистами» обзывали. И я ему говорю: не бери в киоске, это гибель. А он взял, налил сто, выпил и сидит с открытыми глазами. Я чего-то говорю, он молчит. «Ты что молчишь?» Взял за плечо, он и повалился. Готов. Так это самоубийство или его убили?
- Европа убила. Ее и судить.
- А вот я бы американского президента спросила: «Зачем тебе везде надо свою власть? Деточка, ты же лопнешь».
- Говорят, трудно ли рыбачить? А что там трудного? Наливай да пей. И трудно ли в Крестный ход идти? А чего там трудного - бери с собой ложку и иди, и ешь. Кормят же везде. И в Великорецком, и в Медя-нах, и в Мурыгино, и в Г ирсово.
- Шутка шуткой, а сколько идет очень бедных людей, они рады хотя бы неделю поесть.
«Марьяна - юбка портяна». Так в шутку назвали совсем юную студентку Марию. Красавица. Тряслась над своей красотой, боялась комаров до смешного. Тащила полсумки всяких препаратов от кровососущих насекомых. На привалах намазывалась. Но ведь жарища, от этих мазей тем более лицо потеет. Становилась некрасивой, страдала. На привале салфетками снимала остатки препаратов, заново оштукатуривалась. Клавдия все подшучивала. «Ох, Марьяна - юбка портяна». И вот - исцеление. Сама, сама! Мария вышвырнула всю косметику в кусты и сообщила, что дарит ее лисе-моднице. И пошагала! Да еще так похорошела. И никакие комары не смели к такой красоте подступиться.
Толя заражает рифмами:
- Мы любим вятскую природу. В ней от сумы и до тюрьмы вождь соответствует народу. Свергать вождя не будем мы.
После затаскивания строительного материала для лесов внутрь храма, мы сели передохнуть. Умаялись все, но только не талант поэта. Толя зациклился на теме вождя. Переходит на элегические размеры:
- Вождь много не говорит. На полях, в лесах или в поле ты. Слово его огнем горит, оно равнозначимо золоту! - Как?
- А какое именно слово равнозначимо золоту? - спрашиваем мы.
- Вождь, на подвиги нас возбудя, но о нас не заботясь нимало, утомленная сила вождя нас на подвиги поднимала.
- Это на троечку, - честно оцениваем мы.
Поэт вздыхает:
- Мне хорошо, ребята, с вами поговорить и помолчать. Такой сегодня вышел саммит: и вам и мне неплохо, чать.
Кто-то рифмует: администратор и дозатор. Толя тут же:
- У пирса ты стоял, у мола я. Твоя поэзия комолая. - Он не терпит конкурентов. - Повар, помнишь крестоходца - китайца, скажи: на ужин будут яйца? Не будь к страданиям жесток, белок нам нужен и желток.
Да, помним, был такой китаец. Пока вспоминаем, вождь выдает совершенно неожиданно для всех:
- Какой тебе еще белок: сегодня пятница, милок. Поешь картошечки с елеем: святые наши это ели.
Да, это очень не комоло. Толя сражен, мы восхищены. Вождь командует идти к источнику, выкладывать дерном топкие места.
- Отцы, у леса вырубаем куски дерна и несем. Не халявничать! Не халтурить! Примерно пятьдесят на пятьдесят.
- Халтуру я не потерплю, поскольку я труды люблю, - уныло, от имени вождя сочиняет Толя. Видно, он переживает рифму вождя «елеем - ели».
- Делать капитально и красиво! - командует вождь.
Толя тут же:
- Он ехал на кобыле сивой, но делал он всегда красиво. - Да, Толя первенство не упустит. Вскоре он сидит на скамье у источника и вещает:
- Когда скамью соделал вождь, то сей сидень всегда хорош. Мои крестьянские привычки: чтоб надо мною пели птички.
Вождь гонит «шалунью рифму» переходит на суровую прозу, вразумляет:
- «Всякое дыхание да хвалит Господа». Всякое. Но не ваше. А ваше не хвалит, поняли? Выпили вчера?
- К-к-каплю, - заикается Леня.
- Каплю! Капля океан освящает и капля душу может загубить.
Еще и еще вырубаем квадраты дерна. Поднатужась, таскаем. У источника зеленеет, хорошеет. Все довольны. Обедать! Идем. Вождь нагибается по дороге и поднимает тяжелую доску.
- Оставь. Крестоходцы сядут.
- И на земле посидят, - учит вождь, - земля силы дает. А доска пригодится. Вот я поднял доску, а все вы делаете холостые пробеги.
- Мы все с тоской, а ты с доской, - это, конечно, Толя.
Вождя уже не остановить:
- Богу нужны не ваши молитвы, рассеянные они у вас, а добрые дела. Все ваши свечи - все зря. Как вы могли пройти мимо хорошей доски? Для храма Господня, как?
- Воздаст тебе Господь по делам твоим, - желает Леша.
- Мне-то воздастся, а вам? Никто доску не взял, а? Только я. Пример давал.
Пример надо было подхватить.
Видно, что вождю нелегко: доска не маленькая. Но мы, наверное из вредности, ее не подхватываем.
У костра обед и опять же рифмовка, которой неизлечимо болен Толя. Он и нас вовлекает:
- Хоть во пшенице, хоть в овсе, рифмуйте все, рифмуйте все! Хоть в васильках, хоть в ячмене, пущайте рифмы вы в мене. - И, беря реванш за сочиненный вождем стих о пятнице: - Привык наш вождь тогда блистать, когда заставил нас устать. Повар! - стучит ложкой по пустой чашке, прося добавки. - От кисленки и щавеля, едва ногами шевеля, народ терпел свою нужду, когда вождь лопал лебеду.
- Да, - подтверждает вождь, - не лопал, а ею питался. И оттого мы непобедимы! Санкции - это такая мелочь.
- Да, скажу вам, ребята, я: санкции - мелочь пузатая. Поскольку суровые зимы, постольку мы Богом хранимы.
- Толя, это ж такая зараза - рифмование. - замечает повар. - Есть же уровень повыше - проза.
- Приведи пример. Из нашей жизни.
- Пожалуйста: «Иногда вождь выходил на природу, внимательно ее озирал, но не всегда бывал доволен ею». Плохо, что ли?
Саша делает знак: внимание.
- Иволга! - Оказывается, Саша может подражать голосам птиц. А мы и не знали. Саша проводит мастер-класс. Подражает пению птиц, свистит на все лады. И птицы то слушают, замирая, то подчирикивают. - Соловей. - Объясняет колена, свистит разнообразно. - Кряковая утка. Коростель. - Ну, его-то мы знаем. - Сорока! - Стрекочет. - Ворона.
- Не надо.
- Ворон?
- Давай.
И как только Саша смог воспроизвести этот пугающий, даже какой-то деревянный, звук карканья, непонятно. Даже жутко.
- По триста лет живут.
- Шел я бором, коркал ворон на кудрявой, на сосне. Кудреватая миле-ночка приснилася во сне.
- Что такое? - обрывает вождь. Встает, читает благодарственную молитву и, не давая передышки, гонит на труды.
Все-таки Толя на десерт читает стихи, привязанные к географическим точкам остановок Крестного хода:
- Не по Корану, не по Торе учились мы с тобою жить. И дай нам, Боже, «Сальваторе» в Медянах еще раз испить. Это вино такое. Можете себе представить - испанцы в Медянах. И: хорошо тебе было в Мурыгино, ну а мне не совсем хорошо: там поклонницы нас замурыжили, и мурыжить нас будут ишшо.
- Толя, - сурово говорит вождь, указуя путь к источнику.
- Иду, - соглашается Толя. - А знаешь, как народ обзывает начальство: шишкарня, шишка, значит, бугор. Дожил я до послепенсионности, а для тебя все как школьник. Мы идем, мы поем, мы проходим по лесам и по полям. И Москва улыбается нам.
- А как же вятским не улыбаться. Обязаны москвичи, - поддерживает повар. - Спасские ворота Кремля названы по обретенной в Вятке иконе Всемилостивого Спаса. До того они были Константино-Еленинскими. А в соборе Василия Блаженного есть церковь Святителя нашего Николая Ве-ликорецкого. И вообще собор восемьдесят лет назывался Никольским.
- И вообще Москва стоит на земле вятичей. Однозначно! То есть, если кто ее начинает наводнять без приглашения, то вятичи имеют право сказать ему: «Куда прешь, холоп?»
- Ну-ну-ну! - осаживает вождь.
- А что ну-ну? Вот ты нукаешь, вот все мы такие скромняшки, а часовня деревянная в Слободском на сто лет старше знаменитых Кижей, и она же - самое древнее русское крепостное сооружение. Вот и ну-ну. «Гордиться славой предков не только нужно, но и должно», товарищ вождь!
* * *
Идем к источнику для последней проверки его готовности к приходу паломников. До этого говорили о сроках.
- Бояться ничего не надо, даже Страшного Суда, - заявляет повар. -Как? Конечно, он Страшный, но можно обезопасить себя от страха, воздвигнуть вокруг себя «стены иерусалимские». Страшный Суд - это же встреча с Господом. Мы же всю жизнь чаем встречи с Ним. Пусть страшатся те, кто вносил в мир мерзость грехов: насильники, педерасты, лесбиянки, развратники, обжоры, процентщики, лгуны массовой информации, убийцы стариков и детей, пьяницы, завистники, матерщинники, ворюги, лентяи, непочетники родителей, все, кто знал, что Бог есть, но не верил в Него и от этого жил, не боясь Страшного, неизбежного Суда. Вот они-то будут «издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою многою». Это у апостола Матфея. Так что увидим Господа, для встречи с которым единственно живем.
- Может, курящих пожалеет, - мечтает Толя.
Женщин тут нет в округе самое малое двенадцати километров, так что самый подходящий костюм для омовения - костюм Адамов. Даже забыли, что тащили жребий очередности погружения. Прочли «Символ веры», «Отче наш», «Богородице Дево», тропарь святителю Николаю и с Богом! Троекратно, паки и паки заново крестясь, во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Совсем не зябко, а радостно ощутить светлую холодную воду.
Прощай, милый источник, прощай, животворящая купель, прощай, по крайней мере, на год. А уж потом как Бог даст.
Тихонько идем обратно. Конечно, все наши разговоры о единственной нашей, любимой России. Опять повар:
- Когда на литургии слышу блаженства, особенно вот это: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как безчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах», то я всегда не только себя к этим словам примеряю, а вообще Россию. Смотрите, сколько злобы, напраслины льется на нашу Родину. Великая награда ждет нас. Есть и еще одно изречение: «Не оклеветанные не спасутся», а уж кого более оклеветали, чем Россию? Так что спасемся.
* * *
- Солдаты в походе - вот что такое Крестный ход. А молитвы в церкви - солдаты в казарме, готовящиеся к боям за свою душу, за Отечество. «Мы идем - ад трепещет, - в который раз говорит отец Матфей. -И никаких таких знаков не надо искать. Мироточения эти. Да, знак. Но знак чего? Почему вы думаете, что к радости? Может, это предупреждение об испытаниях. Или пришли женщины: “Батюшка, мы на горелой сосне видели образ Божией Матери”. На горелой! Да если вглядеться, то везде можно любое увидеть. Образ им явился! Да кто мы такие, чтоб нам Образ явился?
Солнце встало - вот нам образ! Скворцы прилетели! Картошка взошла, что еще? Дождя долго нет - наказание, дождь пошел - награда за молитвы, за добрые дела. В детстве в мороз увидел кольцо вокруг солнца, прибежал в избу: мама, мама, мама, посмотри. Она: “Сыночек, солнышку сегодня тоже холодно, и ему Боженька рукавичку послал”. И всю жизнь помню. Вот какое чудо мама открыла. Чудес хотят. Вот чудо - черемуха цветет! Благодарить надо за все это, благодарить! А мы просим и просим, клянчим и клянчим. А благодарить - один из десяти. Своими ногами идешь - слава Богу! С костылями идешь - слава Богу! На четвереньках ползешь - лишь бы к Богу ползти. И не думать, что Бог не простит, не примет. Разбойнику на Кресте, а он за дело был приговорен, два часа хватило первому в рай войти. Но это же надо великую глубину покаяния и сокрушения. Учитесь сейчас и каждый день - жить в мире и умирать для мира. Все время себя проверять: как жил, как живу, как надо жить.
Жить, как жили до нас крестоходцы. Помните же старух, которые уже не ходят. Упали, как солдаты в бою. Нам эстафету передали. Никто за нас не пойдет, надо самим. Идти и за собой тащить. Сим победиши!»
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОДНИКА
Что говорить о том, что жизнь коротка? Она не просто коротка, она мгновенна. Вчера вот тут, у этих двух лиственниц, стояли палатки районного пионерского лагеря, и я, юноша восемнадцати лет, уходящий вскоре в армию, был тут начальником. Вчера. А сегодня те же лиственницы, то же небо, та же река. Ничего не изменилось, только пятьдесят лет прошло.
Тогда еще было живым опустевшее здание церкви. По стареющим ступеням мы поднимались на колокольню и глядели во все стороны света. Леса, леса, безкрайние леса. А среди них уходящая от восхода на закат наша любимая река.
Для приготовления пищи, для питья нужна была вода. А с ней-то была проблема. Из реки уже тогда не рекомендовали пить, но не из-за нынешней химии - из-за многочисленных стад коров и лошадей, пасущихся по берегам. Троицкие жители говорили, что под горой, под бывшей церковью, был родник. Мы спускались с крутого обрыва, искали, ковырялись лопатой, но родника не нашли. Носили воду из деревенских колодцев.
Во все годы разлуки с родиной, когда я возвращался, я всегда приезжал в Троицкое, выходил на обрыв. Уже и церкви окончательно не было, уже и село было на последнем издыхании, но сохранил Господь здешние пределы, такие, что восторг охватывал душу, когда раскрепощенный взгляд улетал в заречные дали.
Нынешний отец Александр, восстановив храм в районном центре, взялся за строительство часовни и в Троицком. Начали с расчистки задичавшей, заросшей местности, валили необхватные старые березы.
И - главное - установили на месте бывшего алтаря поклонный Крест. От шоссейной дороги несли на руках. Построили сарай для дров, сторожку. Уже было где чайку попить.
И тогда я узнал, как окончилась жизнь последнего настоятеля храма. Во время службы ворвались в алтарь бесы, чекисты, сорвали с батюшки облачение, вывели, повели. И велели всем плевать на него.
Но никто не плюнул, а все встали на колени. Отец Александр шел босой, в одном нательном белье и благословлял всех. Уходил на смерть и в безсмертие.
И вот спустились на следующий день к роднику, а... воды в нем нет. Ушла. За батюшкой ушла, как сказала одна старуха. А две лиственницы, посаженные священником, назвали повыше - Батюшкой, пониже -
Матушкой.
И в теперешнее время всегда была трудность с водой. Нужно было привозить ее с собой, экономить. Посуду вымыть - тоже на реку не пойдешь: далеко отошло ее русло за эти годы. Фляга на сорок литров быстро иссякала.
С отцом Александром мы искали родник. Нет и нет. Но то, что он был, вновь подтверждали многие. Никто из него не пил, но вспоминали воспоминания отцов и дедов. Бывшая здешняя жительница Любовь Трофимовна тоже утверждала: «Внизу, напротив алтаря».
Прошлой осенью плотник Андрей, возрождающий часовню, копал на указанном месте. Да, в яме стояла вода, ну и что? Родник ли это? Тут такое болото, везде вода. Место низкое, топкое. Грунтовые воды, верховодка. Я стал копать повыше - сухо.
И опять время прошло. А уже часовня, пока без креста, высилась, озаряя солнечной желтизной окрестность.
Нынче мы приехали сюда с братом Михаилом, а он взял с собой внука Георгия. Батюшка благословил Михаила выкосить высоченные травы вокруг часовни и домика, а я вновь взялся за поиски родника.
Георгий мог выбирать, с кем ему быть, с дедом или со мной. Но у деда была такая сильно ревущая бензокосилка, с такими мерзкими выхлопами, что он пошел со мной вниз, под обрыв. До этого дед вымазал всего Георгия антикомариными кремами, вдобавок опрыскал дезодорантами, и Георгий шел смело. Идти напрямую, по такой крутизне, мы не решились, пошли в обход.
Пойма реки, то есть место, затапливаемое весной, была уже выкошена, и поваленные травы сладко пахли, возвращая своими запахами детство и отрочество. Ведь тогда сенокос был главным событием каждого лета.
Мы будто сквозь джунгли продирались: болотистое место, крапива выше человека, ольха, ива, осока. Хорошо, я был в сапогах, шел впереди. И Георгий смело лупил палкой крапиву.
- Смелый воин Георгий, - хвалил я, - крапивы не боишься! Читал, как твой небесный покровитель великомученик Георгий змея победил? Закаляйся. Как знать, какие змеи тебе в будущем встретятся. Да и внукам моим. Жаль, нет их. Господи, помоги раскопать родник! Чтоб и они приехали, напились из него. И облились бы, и окрепли бы!
Ну, Господи, благослови! Я стал расширять и углублять прежнюю яму. В ней была вода. Но тут кругом стояла вода. Я наивно надеялся, что взбурлит вдруг под лопатой подземная струя, выходящая на поверхность. Ведь столько я видел изведенных из земли, из скал родников в монастырях, на Афоне. Конечно, кто я по сравнению с монахам, но ведь такую же молитву Иисусову, какую сейчас читаю, читали и они. Да, видимо, не как я, помолитвенней.
Конечно, копать было тяжело, не молоденький уже. Но и усталости не чувствовал. Вокруг летало и гудело крапивное комариное царство. Это для меня было симфонией детства, но для Георгия это была музыка ужаса. Но сильнее хора этих кровопийц слышалась бензокосилка брата.
- Радуйся, Георгий, что тут комары, слепни, оводы, строка, все тут. Значит, мы здесь в чистой атмосфере, комаров же нет в городе.
- А что такое строка? - говорил Георгий, пока еще защищенный дезодорантами.
- Это кровопийца редчайшая. Маленькая, на осу похожа. Оска такая. Комар вначале еще погудит-погудит, овод еще попугает, даже клещ вначале поползает, а строка кусает в то мгновение, в которое на тебя садится. А мошка! Еще тебя не кусанула? Мошка - это мельчайшая дрянь.
И в глаза заползает, и в уши. - Я просвещал, а скорее запугивал Георгия, а сам копал и копал, выворачивал из мутной воды тяжеленные комья речного ила, глины, вырывал корни, выколупывал гнилушки.
- А раньше были комары? - спросил Георгий
- Еще бы! Воздух же чище был.
- А дезодоранты были?
- Нет.
- А как? - потрясенно спросил Георгий.
- Да так: когда работаем - некогда замечать, а когда наработаемся, уснем от усталости - и тут хоть кусай, хоть закусай.
Бензокосилка наверху смолкла, и Георгий смотрел на меня вопросительно. Конечно, ему хотелось к своему деду.
- Да он не утерпит, сам сюда придет, подождем.
Но вскоре вновь послышался рев мотора. Значит, заправил бачок бензином и опять косит. Косилка выла прямо отчаянно, будто скашивала не только травы, но вообще всю растительность.
- Да, - вспоминал я, - в колхозе брали на покос специального мальчишку, отрока, подростка, это не нынешние фанаты, не тинейджеры, им бы не выдержать. Целый день попробуй отгонять от лошадей этот весь гнус. Их тучи, лезут под живот, грызут, кусают. Вопьется овод лошади в спину, ударишь по нему - ладонь в крови. Напился. Лошади бесятся. И писали в нарядах полтрудодня. Знаешь, как назывался этот труд? «Опахивал мух». Раз меня лошадь лягнула, я отлетел, но взрослым не сказал - боялся, что завтра не возьмут. Вот как. На работу рвались.
Жарища была такова, что пот с меня лился ручьями. Насекомых уже и не отгонял. Начну с ними бороться - копать перестану. А как же монахи? Выставляли себя на ночь этим кровопийцам.
Георгий начал страдать. Так вскрикивал от укусов, что пора было его пожалеть. Видимо, действие химической защиты кончилось. Но и к деду, к шуму бензокосилки, он не рвался. Да и как он пойдет один через такие заросли крапивы? А мне хотелось еще покопать.
- Георгий, не мучайся и на кремы не надейся. Наломай веник, вон ольха, вон береза, вооружайся и воюй. Это поможет. Как раньше, провожаешь девочку и ветками черемухи обмахиваешь. Опахиваешь. Эх! - Я разогнул спину. - Была жизнь, была, сердце замирало!
Снова и снова вонзался лопатой в заиленное пространство, где-то на дне зачаливал песок и глину и вытаскивал. А Георгий вовсю махал веником, хлопал себя по шее, по спине, по ногам, будто парился. Всех комаров распугал. И их уже не боялся.
Ну ладно, все! Напоследок перегородил плотинкой из земли и глины пространство между родником и болотцем. Я рассуждал так: если тут родник, то воды в нем за ночь прибудет. О, дай-то Бог.
Не было сил вновь пробиваться сквозь крапивное пространство, и мы полезли напрямую. Измученный копанием, я еле полз, хватаясь за сучья, стволы и корни. Георгию-то хоть бы что с его пятерками по физкультуре. А мои пятерки отстали от меня в середине прошлого века. В одном месте склона сучок под ногой хрустнул, и я полетел спиной назад под обрыв. И ничего, встал, отдышался и опять покарабкался.
Вверху показалось еще раскаленнее, но вдруг отрадно и целительно протянуло ветерком. Брат увидел нас, выключил мотор и крикнул:
- Оглох! Ну у батюшки и техника - трижды заправлял, работает. Говорю ей: дай отдохнуть - нет, не дает.
Мы поглядели друг на друга и весело рассмеялись: брат был весь, с ног до головы, облеплен красно-бело-зеленым крошевом скошенных трав и цветов, а я весь грязнущий. То-то в конце уже не замечал укусов, грязь им было не прокусить.
- На солнце сорок, в тени тридцать семь, - сказал брат.
В домике напились чаю из привезенной воды и решили сходить на реку. И опять пробивались через ивняк, крапиву и осоку. Георгий не расставался с веником.
- Ты Георгия всего опрыскал, а его все равно зажирали комары, а как вооружился родной березой, и жив, и счастлив. Так и Россия. Надеется, что спасется всякой химией да заграницей. Нет, ребята, вооружайтесь да от гнуса отмахивайтесь.
На реке никого не было. Георгий весело бегал по мелким горячим заливам, пугал мальков. Мы с братом даже сплавали на ту сторону. Вышли на берег, оглянулись. По течению уплывали наши следы на воде. Еще нас удивили ивовые рогульки рыбаков, они вовсю зеленели. Вернулись. Георгий показал нам восхитившую его крепость из песка. На стенах пушки. Роль пушек играли пивные бутылки. Нас такая крепость опечалила.
- Освятит батюшка родник, из него же вода идет в реку и реку будет освящать. Такие крепости перестанут строить, - мечтательно говорил я.
- Ну, ты романтик.
После вечерней молитвы, как благословил батюшка, обошли Крестным ходом часовню и домик. Георгий шел впереди со свечой, я с крестом, брат с иконой Божией Матери. Пели по очереди: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Георгий радовался и гордился, что свеча у него не погасла.
Перед сном дедушка вновь опрыскивал любимого внука. А я сразу уснул, как засыпал в детстве. Сразу и без снов.
Да-а, надо ли говорить, что утром шел на место вчерашних раскопок со страхом и надеждой. Пролетели над головой, снижаясь к реке, два аиста. Как раз над двумя лиственницами.
Сердце мое билось: что сейчас увижу? А увидел я чистейшую воду в полнехоньком роднике. Встал перед ним на колени, умылся из него, напился! Родник, милый родник, ты вернулся!
Руками разгреб запруду и с радостью увидел, как струйка воды потекла из родника. Помчался вверх. Они еще спали. Георгия я пожалел, а брата растолкал и крикнул шепотом:
- Родник!
Очень хотелось скорее обрадовать батюшку, позвонить ему. Но мы были вне зоны связи. Придется терпеть до вечера, обещал приехать. Но это как раз хорошо, решили мы. Радовать так радовать! И целый день занимались родником. Брат наверху делал двухметровый Крест, я прокладывал дорогу к роднику. Прорубался сквозь ивняк, крапиву, валил старые деревья, большие оттаскивал в сторону, маленькими выстилал подходы. Георгий, сегодня осмелевший, бегал от меня к деду и помогал нам. Мне приносил доски, деду подавал инструменты и гвозди. Одну тяжелую доску, метров семи, принесли вместе с братом. Положили ее на подстилку из ветвей, получился мостик к роднику. Для него сделали квадратный сруб из досок и напиленных бревнышек. Притащили с реки три ведра песка, высыпали в родник. Вода замутилось, но часа через два снова хрустально светилась. Вкопали чурбаки, сверху приколотили доску, получилась скамья. Захотелось сесть на нее, и сидеть, и смотреть на родник.
Еще расчищали пространство. Вокруг родника светлело и веселело. Сегодня вновь жарило, но ничего уже не было страшно - родник спасал. Попьешь из него, умоешься и хорошо тебе, и комары отступаются. Принесли кружку, для нее воткнули в землю ивовый прутик.
Торжественно несли Крест. Поставили, утрамбовали вокруг него землю и камни. И вдруг услышали голоса. Это были люди, человек шесть. Женщины, один мужчина. Приехали грести сено, метать стог и нас разглядели. Радость у них была великой.
- Сколько лет здесь косим и всегда воду с собой берем, - говорили они. - Так ведь и рыбаки даже тоже воду с собой везут, из реки же нельзя пить.
- Ой, женщины, а ведь я вот что скажу, - оживилась старшая из них, - ведь уже год, как тут аисты поселились. Парочка. Неспроста же.
Вечером приехал батюшка. Мы условились ничего ему не говорить. Он хвалил, что кругом выкошено и дорога к часовне сейчас просторная, а не узкая тропинка.
- Устал, полежу, - сказал он. Прилег и тут же встал. - Я же вам еды привез. И воды. Перелейте во флягу. И ехать мне уже надо.
- Батюшка, - попросили мы, - ну хотя бы на реку, хотя бы на полчасика сходим?
Он согласился:
- Да, дойдем. Хоть разуюсь, хоть по воде похожу. Ноги отдохнут. Сегодня три молебна, отпевание, еще крестил. Еще с рабочими за кирпичом ездил.
Мы пошли. Он впереди и так быстро, что мы еле поспевали.
- Какие молодцы, уже какую дорожку протоптали, - похвалил он.
Внизу я попросил:
- Батюшка, давайте сейчас свернем направо.
- Зачем?
И тут Георгий не выдержал и закричал:
- Сюрприз! Сюрприз!
И батюшка сразу все понял. Уже и Крест показался среди расчищенного пространства. Батюшка прошел по доске, вначале приложился ко Кресту и запел:
- Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим! - потом перекрестил родник, зачерпнул, напился, умылся. И все радовался: - Как милостив Господь, как милостив! Стали строить часовню, стали возрождать село, и родник открылся. Именно поэтому.
А назавтра батюшка приехал со всем необходимым для освящения. Привез и икону Святой Троицы. В домике развел кадило, и Георгий гордо нес его впереди. Пели молитвы. Пришли к роднику. Батюшка укрепил икону на Кресте.
- Здесь Троицкое, и родник, конечно, Троицкий.
Гребцы сегодня вновь работали, уже метали второй стог. Они, бросив вилы и грабли, пришли к нам. Почти все крестились.
Служили водосвятный молебен. С молитвою троекратно погружал батюшка серебряный крест в родник. Потом окропил всех освященной водой, сделав кропило из молодой осоки:
- Подходи под благословение.
Кто не умел, тому батюшка повертывал ладони, правая сверху, крестил, касался склоненных голов.
- Ну что, - весело спросил он, - вот придут антихристовы времена, сорвут с меня облачение, поведут на расстрел, а вам прикажут на меня плевать. Будете плевать?
- Да вы что, да как это так? - заговорили они. - Да мы разве не люди?
В этот день батюшка долго не уезжал. Мы еще раз сходили с ним к роднику. Уже с ведром. Зачерпывали из родника, и «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» батюшка троекратно окатывал нас ледяной водой. И никакая жара не чувствовалась, и никакие комары даже Георгия не кусали.
- Ну что? - весело спрашивал батюшка. - Жить захотелось? А?
- Захотелось, - отвечали мы.
А когда мы провожали батюшку и подошли к часовне, над нами пролетели два аиста.
ГОРА ФАВОР - ГОРА СВЯТАЯ
Метанойя
И вот пятый раз я на святой Фаворской горе. За что мне, такому грешному, такая Божия милость? А нынче и вовсе полное счастье - быть на Фаворе в ночь Преображения Господня. Господи, Боже мой, помоги мне взойти на святую гору своими ногами. Не жалко мне ни шекелей, ни долларов на такси, но только дай, Господи, почувствовать усталость и счастье восхождения на Фавор.
Ведь все-все в мире свершается преображением. Преображается яйцо в птенца, семечко в травинку, облако - в дождь, тропинка - в дорогу, надежда - в свершение, мальчик - в мужчину, жизнь земная - в жизнь вечную... - все преображается и приближается ко престолу Божию. И как было бы славно, думал я, чтобы тысячи обветшавших ступеней Фавора, его серпантинное шоссе, помогли мне постигнуть это великое слово -преображение, по-гречески - метанойя!
Увы, увы, увы! У нас было время, чтобы пойти на гору Фавор пешим ходом, было. И наш водитель, молчаливый палестинец, забыл его имя, обещал остановиться внизу, чтобы нас выгрузить. Но вот гляжу, мы едем и едем, уже внизу огни Иерихона, а далеко огни Заиорданья.
- Матушка! - взмолился я. - Тех, кому трудно, пусть везут, но кто в силах, оставьте. На вершине встретимся.
Везущая нас матушка Ирина адресовалась к водителю, тот воздел к небесам руки, оторвав их от руля (автобус в эти секунды сам управлялся с поворотами), и что-то сказал. Матушка перевела:
- Он сказал: зачем же мучить ноги, когда еще полиция не перекрыла въезд?
Так что и пятый раз, возносясь на Фавор, я не мучил ноги. Но мучил сознание. Вот, думал я, вспоминая предыдущие посещения Фавора, сейчас умотают на серпантинах, вывалят у ворот в монастырь, скажут: на все двадцать минут. И обратно. И вдруг ликующая мысль охватила меня: сегодня же служба Преображения Господня, август, шестое число. По-современному - девятнадцатое. Я не говорю: по новому и по старому стилю, благодарный одной старухе-паломнице. Когда я сказал именно эти слова: «По старому стилю сегодня шестое августа», она сурово поправила: «Не по старому, а по Божескому».
Итак, палестинец завез нас почти на вершину Фавора. Остановленные полицейскими, мы вышли из автобуса. Матушка предупредила, что далее будет такая давка, что мы непременно «растеряемся», но чтобы мы помнили, что в пять утра собираемся у автобуса, запомните номер и облик, а если кто желает спуститься с горы сам, то в полшестого внизу.
Я остался один. Но странно сказать - один, когда вокруг было столпотворение. Я продирался сквозь разноязыкое нашествие, вспоминал предыдущие приезды. Они всегда были малолюдными. Успевал отойти ото всех, побыть в одиночестве, подышать запахами сухой травы и перегретой земли. Сейчас главным запахом был запах жареного мяса. Пылали, особенно справа от дороги, костры, гремели гитары, звякало стекло винных и пивных емкостей. Сзади и спереди наезжали машины, пикали и бибикали. Как они тут продирались? Здесь и всегда-то узко, а тут еще по две стороны были припаркованы всякие иномарки. И еще ползли и ползли большие и маленькие транспорты на резиновых колесах.
Я пробился к площадке перед входом в монастырь. Где то место, где мы выпили за Святую Русь вина из Каны Галилейской? Под этой сосной? У этого ограждения? Но тогда мы были одни, а сейчас здесь целый город торговли и удовольствий. Крики, запах костров и еды. Но над всем этим из репродукторов лилось: «Кирие, елейсон!» То есть служба праздника Преображения началась. Я заторопился, шел к храму и подпевал: «Агиос
Офеос, Агиос Исхирос, Агиос Афонатос!», то есть: «Святый Боже, Свя-тый Крепкий, Святый Безсмертный».
Сей есть Сын Мой возлюбленный
Служба передавалась через репродукторы, но даже и усиленный техникой звук молитвы не мог заглушить криков толпы. Радоваться пришли, оправдывал я их. Надо найти место поближе к храму и стоять. Вот и все. И ждать схождения облака, из которого, из такого же, когда-то проглаголал Господь: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем же Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав это, пали на лица свои святые апостолы Петр, Иаков, Иоанн. А Спаситель запретил им говорить о виденном, «доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Рядом с Учителем видели ученики ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые пришли из невидимого безплотного мира, но были зримы, как люди во плоти. Это были самые авторитетные праведники библейских сказаний. Фаворский свет, облиставший Христа, в котором и сам Христос был Светом, так поразил учеников, что они возопили к Своему Учителю: «Хорошо нам здесь быти, и сотворим кровы три: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии». Евангелие от Марка приписывает эти слова апостолу Петру, но «он не знал, что сказал, ибо они были в страхе».
И это напоминание того места, которое в тропаре обозначено словами: «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху». То есть показал славу, насколько они могли ее вместить и выдержать. После этого они уже не сомневались, что Иисус Христос - Сын Божий. Далее тропарь гласит: «Да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Све-тодавче, слава Тебе!»
Да, помоги, Господи, чтобы и нам, грешным, сиял свет Твой. Податель света, спаси нас!
Да, к храму было не пробиться. И уже никого из нашей группы не было рядом. Отошел подальше в темноту, вспоминая, где же то место, на которое я упал, вдыхая сухие запахи сгоревших на солнце трав и родной запах земли, напоминавший запах прибрежного летнего песка из моего вятского детства.
Открылись звезды. И по привычке я стал отыскивать созвездие Большой Медведицы, которое всегда ищу, уезжая из России в дальние страны. С ней сразу как-то становится спокойнее, она с детства своя. Указывает на Полярную звезду, на север, на родину. Да, вот нашел! Вот ее ковш, накренившийся и выливающий прохладу севера на здешнюю жару. И ведь уже вечер был, а было все еще душно.
Далеко на юге мерцали огни иорданского побережья, Иерихон, За-иорданье. Уже побывавший там, я легко представил монастырь святого Герасима Иорданского, Сорокадневную гору искушений, дерево, на котором был Закхей, воззвавший ко Господу. Так и нам надо подниматься над суетой жизни, чтобы Господь заметил нас. То есть Он всегда нас видит, но чтобы видел наше усердие в молитве.
Все-таки я решил пробиваться к храму. Слава Богу, мы накануне прошли исповедь и были допущены к причащению. Но это море людей, бьющееся своими волнами к паперти, ведь все они тоже хотят причаститься. Служили на паперти, вот что обрадовало. Видимо, священники поняли, что такое количество людей не сможет поместиться в храм, и вышли к народу. В толпе, над головами, проносили стулья, сдавали в аренду.
Шла долгая монастырская служба. Времени палестинского одиннадцать, в Москве полночь.
Ловкие смуглые юноши протягивали над толпой гирлянды треугольных флажков, изображавших флаги разных христианских стран и религий. К радости своей я различил среди священников и наших, отца Елисея и отца Феофана. Красивая, долгая служба. «Петро, Иоанне, Иакове... метаморфозе», - слышалось среди греческого языка. И уже не чувствовалось того, что было рядом - еды и торговли, музыки и криков. Правда, очень мешали непрерывные вспышки фотоаппаратов, свет кинокамер. Казалось, что их, этих запечатлевающих миги истории приспособлений, было больше, чем людей.
Выносится Евангелие. Священник зычно, протяжно читает, как поет: «Фавор и Ермон о имени Господа возрадуются». То есть исполнилось пророчество псалмопевца Давида. Уже, к прискорбию, заметил, что и на паперти, новосозданном алтаре, ходят операторы и фотографы, снимая. Что же делать, где-то же будут смотреть их работу и завидовать нам, участникам ночной службы Преображения Господня.
В Москве три часа ночи, здесь два. Крепкие помощники священников прокладывают дорогу для выноса двух чаш. Возглашение и поминание Иерусалимского Патриарха и нашего святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия. «Символ веры». Взлетание и опускание белого покрывала - воздуха над чашами, призывание Святого Духа на нас, грешных.
Небо совсем потемнело, звезды исчезли. Молящиеся все чаще поднимают головы, глядят вверх, ждут схождения облака.
- Мир всем, - раздается по-русски.
- И духови Твоему, - отвечает хор монахинь из Горненского монастыря.
И вот уже: «Благодарим Господа», и вот уже: «Святая Святым». Но нет никакой возможности упасть в земном поклоне. Но надо. Да, вот они, запахи земли, травы и особенно полыни.
Началось на виду у всех причащение священников. Их более тридцати. Пробиваются через людей матери и отцы со спящими на руках младенцами. Продираются интернациональные простоволосые женщины и женщины в шляпах. Конечно же, и я пробиваюсь. На меня так сильно давят сзади, что я невольно напираю на впереди идущих. Женщина в брюках поворачивает ко мне гневное лицо и кричит: «Пиано, пиано!» Видимо, итальянка, видимо, требует, чтобы я сдерживал напор толпы. Но где же наши белые платочки, наши паломницы? Стараюсь попасть к своему батюшке.
Выносятся чаши, не менее десяти. К микрофону выходит женщина-гречанка в черном платье и сильным, красивым голосом поет молитву: «Мария, Матерь Божия». К ней присоединяется мужчина. Люди, многие, подпевают. Все то и дело смотрят в небо, вздымают к нему руки. В руках иконы, кресты. Это ожидание облака. Зажигаются свечи.
Слава Богу, причащаюсь. Отдаюсь на волю толпы. Меня выносит к хоругвям и большим иконам, у которых жестяные ящики для горящих свечей. Зажигаю и я свою, белую, от Гроба Господня. Другую держу в руках. Пламя бьется на ветру, но не гаснет. Замечаю, что напряжение ожидания усилилось. Тут много тех, кто не первый раз на ночной службе Преображения на Фаворе. Смотрят не совсем на восток, а примерно на северо-восток. Небо совсем черное, ни одной звездочки. Показалось, что разглядел одну, но она исчезла, потом снова появилась. Потом появилась над храмом. Я подумал - самолет мигает, но, скорее, это были звездочки, закрываемые высоко бегущими облаками. Еще увидел блестки света, но решил, что это вспышки фотографов.
Люди закричали вдруг, вздымая руки, полетели в воздух платки и шляпы. Я почувствовал свежесть и прохладу. Но тут вот что надо объяснить. Ведь я сельский уроженец, много раз мальчишкой встречал рассвет на реке, на лугах, в ночном. И, конечно, под утро всегда становилось свежее и холоднее. Так и тут я подумал, что это утренняя прохлада. Но здесь же был не север, это же Палестина, тут жарко даже ночью, тем более в августе, когда Преображение. А это и было облако, сошедшее на Фавор.
Запахи ладана и жасмина
Начался Крестный ход вокруг храма. Обошли трижды, поспевая за хоругвями и иконами. Я шел с нашими паломниками с общей молитвой: «Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Бозе, Спасе Моем». Также пели «Честнейшую Херувим». И, конечно: «Царице моя Преблагая, надеждо моя Богородице...» Девочка, закутанная матерью в одеяло, семенила рядом и спрашивала: «А Боженька придет?»
Открыли храм. Люди кинулись к чудотворной иконе. Около нее разливали освященное масло. В большой чаше по поверхности масла плавала коробочка, в которой горел тоненький фитилек. Запахи ладана и жасмина.
Я немного расстроился от того, что прозевал схождение облака, но вскоре общее состояние радости и молитвенности воскресило мой дух, да еще тем более монахиня, наливавшая масло и заметившая, что у меня нет никакой посудины, дала мне целую бутылочку, спросив: «Русский?»
Могу сказать, что я несомненно видел благотворные перемены в людях. Пусть малое, но преображение свершилось. Я видел, как люди, самые разные, улыбались друг другу, старались сказать что-то приятное. Не случайно же я встретил вдруг итальянку, которая в толпе поворачивала ко мне гневное лицо и кричала: «Пиано, пиано!» Мы разулыбались друг другу как самые родные.
- Но пиано, форте, синьора, форте! - сказал я, израсходовав треть своих запасов итальянского языка.
Она отлично поняла, засмеялась:
- Си, си, форте, грацие, синьор! Форте! Аллегро!
Уже слышно было, как взревывали моторы машин и автобусов, как высоко и нервно раздавались писки сигналов заднего хода. Стремительно пустело. Я еще обошел вокруг храма. У алтарной его части не было прожекторов, и открылись звезды. Вот ты где, Большая Медведица! Что ж ты проспала всю ночь, а тут у нас такой был праздник. Вот и Полярная звезда. Глядел на нее и от нее чуть вправо - по направлению к Москве, к России. Конечно, в Сибири уже идет служба, уже горят свечи в алтарях, уже батюшки на проскомидии читают записочки о здравии и упокоении и вынимают частицы из просфор, готовясь к литургии. Солнце, идущее с востока, помогает освещать землю, но ведь главный свет - это свет Божий в душе. Он всем дается при крещении, и мы сами его затмеваем в себе. Но вот видел же я сегодня, как много его таится во всех нас и как его открывает молитва. Только бы постоянно помнить о Господе! Вот как постоянна в небе очень русская Полярная звезда. Все прочие крутятся, а она недвижима. И во времена апостолов так же прочно держала она небесный свод.
И тут, будто подтверждая мои мысли, воссияла во все небо молния и прогремел гром. И, что важно сказать, такое грозное явление никого не испугало, а вызвало общую радость.
- Холидей, холидей! - кричала женщина, вскидывая к небу руки. Широкие черные рукава падали к плечам. - Холидей!
И еще увидел, как беззвучно, уже без грома, вдоль кипариса метнулось широкое оранжевое пламя. Группа украинских паломников дружно запела: «Спаси, Христе Боже».
Посмотрев на часы, я понял, что еще могу успеть спуститься с Фавора пешком. Дойду же за два часа. Вниз все-таки. Как раз встретил знакомую паломницу из группы. Поздравили друг друга с причастием, с Преображением.
- Матушка сказала, что можно быть внизу даже к шести. Едем в Назарет, а там церковь Благовещения откроют в семь. Это же рядом.
Во всей своей утренней красе
Да, впереди у нас была радостная, счастливая поездка: в Назарет, на Иордан, в Тивериаду, на ее русский участок, монастырь святой Марии Магдалины-мироносицы. И вот, казалось бы, прошла ночь без сна и накануне был тяжелый день, а усталости как не бывало. Я сказал паломнице, что пойду сам, чтоб не тревожились.
А еще многие паломники оставались на утреннюю службу, их было много, спящих на теплой земле. Выбрался за ограду. И где эти сотни машин, которые гигантским железным стадом паслись на трассе? Где они сейчас несутся по рассветным дорогам, везя радостную весть о схождении на Фавор светлого облака и Божественного огня?
Я все продолжал размышлять про то, как же велика Божия милость к нам, если каждое утро над нашими полями и лугами, в наших лесах, на просторных полянах появляется утренний туман. Есть неизъяснимое волнение, когда его белизна укрывает землю, и есть ликование, когда первые лучи солнца румянят это покрывало и потихоньку снимают его. И этот восторг, когда босыми ногами бежишь по светлой росе, по этой влаге, пришедшей с небес. Падали звезды. В детстве у нас было поверье, что если успеть загадать желание, пока падает звезда, то оно исполнится. Я никогда не успевал проговорить желание, только успевал сказать одно слово: «Люблю». Но и его хватило на всю жизнь.
Долго-долго шагал я, стараясь идти не по асфальту, а по земле. Далеко, к Иордану и за него, светились огни деревень и городов. Они были как драгоценности на черном бархате. И их все прибавлялось. Наступало утро, люди просыпались. Запели петухи. Так громко, будто пели рядом. Закричал муэдзин. Петухи потрясенно замолчали. Потом, переждав крики муэдзина, снова заголосили.
Шел, дышал горным воздухом Фавора и вспоминал прочитанное о нем в дореволюционном издании: о равноапостольной царице Елене, построившей здесь три церкви: во славу Спасителя и пророков Моисея и Илии. Вспоминал о том, что нашествие крестоносцев отдало Фавор католикам, а нашествие сарацин превратило церкви в развалины. Вспоминал о великом подвиге старца Иринарха, до пострижения монаха Леонида. Ведь это он, фактически один, воздвиг православный храм Преображения. А сколько было препятствий! Даже, Бог ему простит, от Иерусалимского Патриарха. Но так велик был старец, так дивны его чудотворения, что он все преодолел. Иринарх был ученик знаменитого старца Паисия Величковского и, в свою очередь, воспитал из своего ученика Нестора также высочайшего подвижника. Вспоминал и начальника Русской миссии архимандрита Антонина (Капустина), много свершившего для Фавора. Вспоминал пожертвования русских великих князей и царей. Также надо сохранить для истории имя русской женщины Ольги Кокиной, на средства которой была создана колокольня.
Также читал и о том, что раньше буйство веселья было поэнергичней. Разогретые ликерами и водкой-ракией приехавшие устраивали стрельбу, танцы, пляски, пение и как следствие - драки. Так что сегодняшняя ночь была очень спокойной.
Уже совсем засиял день. Я поднял голову, оглянувшись на Фавор. Гора стояла во всей своей утренней красе. Русские паломники сравнивали Фавор со стогом, только не из сена сметанным, а созданным Господом на мраморе и граните, укрытым зеленью и цветами, осененным дубами и кипарисами. И многими плодовыми кустами и деревьями. Ведь праздник Преображения - это еще и освящение плодов земных. Приносится виноград, который, преобразованный в вино, затем преобразуется в таинстве Евхаристии в Кровь Христову. Священник возглашает: «Благослови, Господи, этот новый плод лозы, который Ты благоволил благорастворением воздуха, каплями дождя и тишиною времени достигнуть зрелости. Да послужит вкушение этих плодов в веселие нам. И удостой нас приносить их Тебе, как дар очищения грехов, вместе с священным Телом Христа Твоего».
На Фаворе Господь явил нам свою Божию сущность в силе и славе. Явил свет просвещающий и спасающий. И это «якоже можаху», то есть сколько могли, вместили ученики. И им так уже не хотелось в дольний мир горя и слез. Но Спаситель пошагал к людям.
До входа в Иерусалим, до Распятия оставалось сорок дней.
ОЧИ - ГОРЕ, СЕРДЦЕ - ГОРНЕЙ
Монастырские колокола
Будильник в монастыре не нужен: разбудит колокол. А колокола как люди - разные. Колокола Оптиной и Троице-Сергиевой Лавры строгие, суровые, а колокол здешней, Горненской обители, материнский, добрый, ласковый. Он будит к утренней службе, как мать будит своих любимых деточек: в церковь пора.
В первое утро в Горней я ощутил ее воздух именно благодаря колокольному звону. Казалось, прохладный воздух, натекший за ночь в обитель с горного склона, отвердел, чтобы четче и явственней передать чистоту звучания. Звон такой, что воздух дрожит и отдается во всех уголках кельи. У пола, у потолка пронизывает всего тебя, входит в сердце и настраивает на молитву. Я накануне был на колокольне и представляю, как на нее восходить. Вначале идут спиральным веером каменные ступени, потом, после первой площадки, ступени более мелкие и более закрученные, железные, как на корабле. Они часто и быстро обвиваются вокруг центрального столба, и когда вращаешься вместе с ними и перебираешь железные перильца, то кажется, что держишься за штурвал и ощущаешь себя на мостике корабля.
Византийское время монастыря
В Иерусалиме разница во времени с Москвой на час, но и у Гроба Господня, и в Горней время свое. Оно исторически византийское, оно идет из тех времен, когда во времена раннего христианства все храмы городов империи начинали одновременно свою литургическую службу.
В монастыре пять утра. Колокол умолк. Вновь он заговорит в начале службы. А сейчас читается утреннее правило. В храме, около камня, с которого святой Иоанн Предтеча произнес свою первую проповедь, зажигаются свечи. Светлые облака на востоке уже тревожатся подсветкой пока не видного солнца. На крест храма села голубка, горлинка, и, радуясь рассвету, громко воркует.
Окончилось правило. Начинаются часы и акафист. В алтаре батюшка, священноархимандрит Феофан, служит проскомидию.
Вновь звучит колокол. Звон его внутри храма другой, более объемный, он усиливается согласным звучанием иконостаса, окладами икон, люстрами паникадил. Солнце впереди и слева. Отец Феофан свершает каждение. Кадильный дым, который святые отцы сравнивают с нашими молитвами, восходящими к небесному Престолу, освещается солнцем и растворяется в воздухе, оставляя после себя дивное благоухание, которым никогда не надышаться.
Приближение к литургии - главной службе Православной Церкви. Вот чтица произносит: «Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земли...», а вскоре отец Феофан возглашает:
- Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа всегда, ныне и присно и во веки веков!
- Аминь! - подтверждает хор певчих, которые давно стоят на клиросе. И мать игумения Георгия поет вместе с ними.
Молитва. Приближение к причастию. Сегодня причащаются схимонахини. Лица их я видел только во время елеопомазания накануне, на вечерней службе. Они всегда на службе. Сидят справа, недалеко от чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Все время вычитывают безконечные списки имен, листая свои ветхие тетради. Встают при выносе Евангелия, при чтении его, при каждении, при пении Херувимской, «Достойно», и, как все, падают ниц при появлении чаши со Святыми Дарами.
Солнце расписывает храм в золотые и серебряные краски. Идет свет по иконам, по белым стенам, храм на глазах становится легче и уже совсем не дивны предсказания, что в последние времена храмы с молящимися будут возноситься к Царю Небесному. Сияние солнца провеивает храм, замирает в нем, благоговея перед молитвами, а лучи солнца все движутся по стенам, и кажется, что это не солнце идет в небе, не планета кружится, а сама церковь разворачивается и плывет в мироздании и следует небесным, одному Богу ведомым курсом. Открываются Царские врата, солнце одушевляет зеленые окна алтаря и голубые ступени лампад семисвечия над Престолом. И такое согласие Небес с землею, что вспоминается из акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, в нерукот-воренный храм природы сошедшая».
Школа молитвы
Храм Божий - место нашего спасения, а монастырь - школа молитвы. Мы стоим на службе в Горненском женском монастыре. Великое, судьбоносное место, место встречи двух Матерей: Иоанна Предтечи и Спасителя нашего Иисуса Христа.
«Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве Ея; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» Как раз эти слова праведной Елисаветы составляют вторую часть Богородичной молитвы. Первую принес от Престола Господня архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Ма-рие, Господь с Тобою!» (Лк. 1, 28, 41-42).
Для любой православной женщины великое счастье побывать в Горней, потрудиться здесь, а, даст Бог, и остаться. Разные пути в монастырь: от горя, от одиночества или, наоборот, от счастливой благочестивой семьи - кто как, но движимы эти пути одним - спасти душу в молитве и труде. А что такое высший труд, самый трудный? Молитва. И когда говорят о послушании, у кого какое: в саду, на кухне, на уборке территории или паломнических гостиниц, то это видимая часть жизни монахинь. Невидимая и главная - это молитва. Утренняя служба - четыре часа, вечерняя тоже близко к этому, плюс келейное монашеское правило. У каждой свое, по силам. Поклоны, бдения, чтение кафизм Псалтири. Поочередно, по два часа. За два часа читается по пять-шесть кафизм. Всего их двадцать. Каждая делится на три так называемые «Славы». После каждой «Славы» чтение записок о здравии и о упокоении. Записки эти все прибавляются, потому что их добавляют паломники и письма со всего света с просьбами о молитвах.
Много я видел монастырских служб, и все они благодатны и целебны, но в Горней особенно чувствуется молитвенное прошение перед Господом о судьбах родных и близких и вовсе незнакомых людей, о упокоении душ усопших. «В Горней молитва сильная», - такое я давно слышал от старых паломниц.
Школа молитвы в Горней не имеет каникул. Научение молитве как средству спасения здесь практическое, ежедневное. Молитва не может прийти сразу, вдруг. Молитвенности неистово сопротивляется враг нашего спасения: молитва - огонь, отгоняющий нечистого от души. Поэтому враг старается потушить пламя, уводит мысли от молитвы. И нужно усилие, чтобы вернуться от лукавствия мира в мир спасения. Святые Отцы называют три вида искушений: от мира, от плоти, от диа-вола. Послушницы, инокини, монашенки, ушедшие от прелестей мира, победившие страсти плоти, тем более начинают испытывать нападения от диавола. Молитва их остерегает, просвещает, возвышает ум, укрепляет сердце, закаляет волю. Молитва воздвигает вокруг человека «стены Иерусалимские», ибо она является броней, непробиваемой для диавольских стрел.
Ожидать милости от Бога и нужно и можно, но ожидать не бездеятельно. За что помогать лентяю, бездельнику, пьянице, за что давать здоровье тем, кто его прокуривает, прогуливает. Но, по милости Божией, человеку, начавшему путь спасения с осознания своих грехов, с покаяния, подается помощь свыше.
Здесь, в Горней, особенно ощущаешь восхождение к молитве: от принуждения себя к ней, далее к необходимости ее, и, как награда, невозможность жить без молитвы, радость от нее, награждающая молитвенные труды, и, как венец, - растворение в молитве, непрестанное пребывание в Господе.
Конечно, нам, грешным, далеко до таких вершин, но монастырь дает нам образцы, пример для подражания.
Инокини, монахини - такие же люди, как все мы. Так же болеют, так же расстраиваются, огорчаются. На первый взгляд. Но они знают, что все болезни посылаются за грехи, и поэтому воспринимают болезни как лекарство от грехов, с терпением! В огорчениях они всегда винят не кого-то, а себя. Они живут Святым Духом, в этом все дело. Жить стоит только ради Духа Святаго, иначе жизнь становится безсмысленной.
Много деточек причащается в Горней. Кто уже здешний, хотя и русский. Привела бабушка. Говорит: «Отож я с Украйны, а дочка сюда замуж, а мене выписала в няньки». Многие дети - дети работников по найму и трудников. Когда устают, садятся на маленькие скамеечки. Вихрастый мальчишка у ящика с надписью «На ремонт храма». Достал пригоршню монеток и по одной опускает. Маленькие - сразу, а большие вначале рассматривает на прощание. Вот ладошка чистая. Лезет ею снова в карман и его выскребает. Очень доволен. Оглядывается на маму, та улыбается и крестится. Около храма после службы девочка Даша показывает другим девочкам птичку из теста. Другая девочка, глядя на птичку, говорит: «Зато у меня книжка про Георгия Победоносца есть».
- Откуда ты?
Девочка глядит на взрослого, бородатого дядю. Он удивляет: как это дядя может не знать, откуда она.
- Я из России приехала.
Трудники
Кто такие трудники? Это переходная ступень от паломника к иночеству. Конечно, не у всех. Да и не все могут принять на себя звание ушедших из мира, слишком многое держит их в этом мире. Но уже и простого паломничества им мало, им хочется как можно долее быть в обители, более помолиться, укрепить силы душевные и духовные и хоть чем-то помочь монастырю своими трудами.
И в самом деле, паломник все равно не успеет многого увидеть -программа паломничества плотная, расписанная по часам, иногда по минутам. Паломники не успевают подробно ознакомиться с обителью, часто не успевают, по времени, спуститься к источнику Божией Матери, откуда Она приносила воду вместе с праведной Елисаветой, живя здесь три месяца. Тем более паломники не могут, по труднодоступности, пойти пешком в пустыньку святого Иоанна Предтечи, к его источнику и гробнице праведной Елисаветы. А трудники и у источника побывают, и в пустыньке. И с паломниками навестят святые места Тивериады, Вифлеема, Иерусалима, Иерихона, Сорокадневной горы, горы Преображения. Может быть, даже не раз, а два и три побывают на ночной службе у Гроба Господня.
Трудники - это не работники по найму, это безкорыстные труженики во славу Божию. Быть трудником нелегко: попробуй поработай целый день, неделю, две, три на такой жаре. А дисциплина в монастыре строжайшая, и трудники ей подчинены как и монахини. Ничего нельзя без благословения. Ничего. Это трудно понять мирским людям. Как, и за ограду нельзя выйти? Нельзя. Без благословения нельзя. Плод со смоковницы нельзя сорвать без благословения. На тебя и прикрикнуть могут, и епитимью (наказание) наложить. Все так. Но лица трудников светятся счастьем.
Трудница Лариса уже несла послушание. В Иерихоне. Готовила пищу рабочим, возрождающим обитель. Она - реставратор и иконописец.
- Я давно любила образ преподобного Герасима Иорданского. Не знаю, отчего. И писала его образ. С большим добрым львом. Дарила знакомым. И вот - в Святой земле первый монастырь, куда нас повезли, был монастырь святого Герасима.
После завтрака мать Елена распределяет трудников по рабочим
местам.
- На подметаловку! - командует она Ларисе и ее подругам Ольге и Ирине.
Подметаловки в монастыре очень много. Раскаленные солнцем асфальтовые дороги, каменные и мраморные лестницы, вымощенные булыжником тропинки - все это тщательно соблюдается в идеальной чистоте. А вчера эти три женщины корчевали деревья в саду, освобождали маслины от зарослей паразитов. А назавтра они на кухне. Внезапно приезжают паломники из Украины, надо встретить, накормить. И обязательно все они стремятся на церковные службы. Поездка по святым местам им как награда.
Поездки
Кто бы ни сопровождал паломническую группу: матушка Магдалина, или Елена, или Ирина, да, в общем, любая из монахинь, - это не гид и это не экскурсовод. Это - сестра во Христе, молитвенница. Монахини обладают огромными познаниями по истории святых мест Израиля и Палестины. Свободно, что изумляет, говорят на греческом, иврите, арабском, английском, французском. Потрясенный член группы, бывший полковник, спрашивает:
- Матушка, как же это так вы по-ихнему рубите?
- Но как же иначе, - улыбается монахиня, - с греками мы служим, арабы и евреи здесь живут, много туристов англичан и французов, приезжают к нам и немцы, и испанцы. Надо же общаться. Так что приходится, как вы говорите, «рубить».
Сопровождение групп, которые живут в Горней - а жить там стремятся все паломники во Святую землю - одно из главных в монастырском служении. Жаль, последние события, столкновения израильтян и палестинцев, между которыми оказались христиане, резко сократили число приезжающих. Хотя надо сказать, что бизнес на туризме приносит доход и евреям и арабам, и те и другие делают все, чтобы с туристами и паломниками ничего не случилось. По крайней мере, до сих пор посещение Святой земли было безопасным. Да и кто мы такие, грешные, чтоб окончить свою земную жизнь в таком святом пространстве?
Благоухание Горней
Вторым благовещением называют в Горней празднование пришествия Богоотроковицы в Эйн-Карем, в место, где жили святые праведные Захария и Елисавета, родители святого Иоанна Крестителя. Это празднование через неделю после Благовещения. Установлено Святейшим Синодом в 1883 году по ходатайству архимандрита Антонина (Капустина) 12 апреля нового стиля. В далекой России снег, здесь - сияние и благоухание весны. Это надо только представить ту евангельскую весну, когда Пресвятая Дева услышала у источника в Назарете благую весть, принесенную вместе с белой лилией архангелом Гавриилом. Он возвестил о рождении Сына Божия Девой Марией. Он сказал, что и родственница Ея Елисавета, несмотря на преклонные годы, ожидает ребенка. Святая Дева решила пойти к Елисавете. Она никому не сказала о том, что возвестил Ей архангел. Нужна была причина пойти в Эйн-Карем, и она была. Дева Мария трудилась для Иерусалимского храма, вышивала покровцы, вязала четки. Обычно Она просто передавала свою работу с кем-то, а тут попросилась пойти Сама. Тем более приближалась Пасха. Святой Иосиф Обручник, убедясь, что в Иерусалим Она идет не одна, отпустил Ее.
«Вставши же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Ели-савету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ея, и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа ко мне?.. Пробыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом Свой».
Мы не знаем, дождалась ли Святая Дева рождения Иоанна, подержала ли его на Своих святых руках, но по времени получается: Рождество святого Иоанна - 7 июля нового стиля. Когда думаешь о его жизни, поражаешься его мужеству, молитвенности, вообще образ его так велик, что вмещается только в сердце и недоступен разуму. Ведь он остался совсем сироткой в самые малые годы. Убили отца, и они с матерью бежали от Ирода, скрывались в пещере. Вскоре умерла и святая Елисавета. Горная косуля вскармливала младенца, ангелы убаюкивали его, учили грамоте, Священному Писанию.
- Как же такой крошка жил один? - спрашивает неведомо кого паломница, стоя с другими у пещерки святого. - Без мамы, без отца. - И сама же отвечает: - Но это лучше, чем без ангелов.
Пресвятая Дева ходила за водой к источнику, который так и называется - источник Девы Марии. Сейчас источник под кровлей, рядом стоянка машин, и очень трудно представить, как приходила сюда за водою Пресвятая Дева, хранившая в сердце Своем, вырвавшиеся из него слова: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасе Моем, что призрел Он на смирение рабы Своей...» (Лк. 1, 47-48).
Икона Благовещения привозится из Троицкого собора Русской миссии к источнику. Здесь служится первый молебен. Начинают звонить колокола. Икону несут на руках, вначале игумения с кем-то из сестер, затем, поочередно, сестры. Идут по ковру из цветов. Колокола не смолкают.
Икона вносится в храм, ставится в центре на специальном постаменте. Над иконой бело-голубой небесный покров. Около иконы игуменский жезл. С этого дня, входя в храм, сестры вначале берут благословение у Божией Матери, потом у игумении. Так три месяца. Это символ тех трех месяцев, которые жила здесь Пресвятая Дева.
Будем молиться за монахинь
Жизнь в Горней очень нелегкая. Ночами воют шакалы, и безстраст-ная ночная хозяйка монастыря Найда гоняет их. Заползают змеи. Случаются тарантулы. По сеткам, закрывающим окна, бегают ящерки. Часто дует хамсин, горный ветер, приносящий тончайшую пыль, вредную для легких. Зима - это влажность, вызывающая простудные заболевания. И постоянная работа, несмотря ни на что.
Будем поминать матушку Георгию с сестрами. Дай Бог, чтобы от наших молитв им становилось бы немножко легче. Но когда начинаешь сочувствовать сестрам, они дружно возражают:
- Что вы! Здесь так хорошо. Здесь всегда что-то цветет.
- А что?
- Почти всегда бугенвиллия, бордовая, белая и розовая. А в феврале цветет бело-розовыми цветками миндаль... Это незабываемый аромат! Оливы цветут скромно и запах скромный, а приглядишься - такая красота. В апреле-мае цветут кактусы - цветы у них огромные, листья колючие и толстые, как лопухи. А уж когда зацветают олеандры!.. Ой, анемоны забыла, это же почти зимой, в церкви на Прощеное воскресенье обязательно анемоны. А в марте - маки. Крупные, сантиметров двадцать в диаметре. Летом жарко, цветения меньше, но травы, когда сохнут, так дивно пахнут. солнцем, горами, небом.
- А смоковница как цветет?
- Очень незаметно. А поглядишь - уже и плоды. Наши смоковницы не обманывают, плодоносят.
- А вы давно здесь? - спрашиваю одну из монахинь.
- Ой, - говорит одна из них, - по земному-то, может, и давно, а у Бога хоть бы один денек.
Кирие, элейсон!
Наши совместные службы с православными греками постоянны на Святой земле. Монахини Горней знают многие греческие песнопения и, конечно, всю литургию. Но уже и греки, взятые в плен красотой церковно-русского языка, понимают наши службы. Молитвенный припев: «Кирие, элейсон» - «Господи, помилуй» - на литургии оглашенных и литургии верных сменяется благословением греческого епископа, которое он возглашает по-русски: «Мир всем!» И монахини отвечают также по-русски: «И духови твоему!»
Горненское пение - оно не какое-то особенное, оно - молитвенное, растворенное в молитве. Безыскусно, без каких-либо ухищрений, модуляций, прямо из сердца льется ручеек молитвы. Очень нежно, трогательно, ангельски. Часто кажется, что с монахинями поют дети. Нет, это подпевают ангелы.
Последний раз паломники слышат монашеское пение после последней трапезы, в трапезной. По традиции монахини поют для паломников давний стих «Прощание с Иерусалимом»:
Надо ли говорить, что слезы льются из глаз и паломников, и монахинь. Невелик срок - десять или двенадцать дней, но как все сроднились, стали навсегда близкими душевно и сердечно.
Место спасения души
Диавол властвует в мире. Деньги, похоть, гордыня. Чрево вытесняет душу. Музыку Небес глушит грохот преисподней. Но Господь не оставил любящих Его. Такие места, как Горняя, - это места нашего спасения. Надо помогать Горней. Как? Как получится. Но главное - молиться за нее.
Небесный ангел-хранитель монастыря, конечно, святой Иоанн Креститель. Он являлся уже не одной игумении монастыря, благословляя на труды и дни. А еще монастырь незримо хранят усопшие здесь и преданные здешней сухой земле монахини. Особенно почитается могилка двух монахинь, матери и дочери, Вероники и Варвары. На могилке их всегда горит золотистая лампадочка. Это мученицы уже нашего времени. Совсем недавно они были зверски убиты. Кем? Слугами сатаны. Которые не пойманы доселе. Да и вряд ли кто их и ловит.
В храме идет вечерняя служба. Подъезжает опоздавший мужчина. Он русский, женился несколько лет назад на еврейке. Уже дети.
- Конечно, тоскую по Родине, - говорит он. - А куда денешься, по любви женился. Езжу раз в два года. А сегодня опоздал, потому что жену на шабат отвозил. Я ж водила. Что в Союзе был, что тут. Но тут на дорогах больше хамства.
Да. Сегодня пятница, канун иудейской субботы. Это значит, что из еврейского селения, что за источником Пресвятой Девы, будет всю ночь доноситься гром и грохот децибелов музыки шабата.
- Так и живут, - весело говорит мужчина. - Тут один поэт еще из Союза приехал, сочинил фразу, теперь все повторяют: «От шабата до шабата брат обманывает брата». Я же здесь, если бы не монастырь, волком бы завыл.
Перед сном игумения благословляет одну из монахинь обойти монастырь по всему периметру. Монахиня идет с иконой Божией Матери. Встречные благоговейно прикладываются к святому образу.
В храме читается Псалтирь. Монахини расходятся по кельям. Легкий ветерок летит сквозь колокольню, ему еле слышно откликаются колокола. И только, может быть, голубочки слышат эти тихие звуки. Да ангелы.
ДВА СНАЙПЕРА
В поезде Москва - Одесса я ехал в Приднестровье, в Тирасполь. Со мною в купе, тоже до Тирасполя, ехал снайпер-доброволец, а мужчина с молодой девушкой ехали в Одессу.
Снайпер был немного выпивши, возбужден, выпоил мужчине, который назвался новым русским, девушке и себе бутылку с чем-то и ушел добавлять. Я залез на верхнюю полку и то дремал, то пытался чего-то читать. Мужчина внизу непрерывно и сердито шептался с девушкой. О чем, я и не прислушивался.
Девушка вдруг вскочила, оттолкнула мужчину, громко сказала: «На первой же остановке!» - и вышла из купе. Я зашевелился, обнаруживая свое желание спуститься.
Совершенно неожиданно мужчина, новый русский, стал говорить, что вот эту девушку он нанял - он даже сказал, что купил - ехать с ним в заграничный круиз.
- Греция, понимаете, Кипр, Израиль. А она - видели? - заявляет, что хочет обратно, мамы боится. Мамы! Мы так не договаривались.
- А как договаривались?
- Чтоб без проблем. Путевка, потом еще особая плата и - до свиданья. Мама! Лучше б я ее маму взял. Мне не трудно ее обратно отправить, женщину я и в Одессе куплю, но опасно. Почему? У меня дружок купил, а домой, жене, заразу привез.
Девушка вернулась в купе, достала огромный специальный ящичек для косметики и принялась демонстративно наводить красоту на свое и без того хорошенькое личико. Мужчина опять стал ее уговаривать. Чтоб им не шептаться, я вышел в коридор. Сосед-снайпер вовсю дымил еще с одним мужчиной, который оказался... тоже снайпером. Они курили и говорили, что это не дело, когда девчонки идут в снайперы. Вон в Бендерах были «стрелочницы» из Прибалтики, это не их дело, это дело мужское. Видно было, мужчинам не терпелось пострелять.
Из нашего купе вышли мужчина с девушкой. Проходя мимо, новый русский мне, как посвященному в его дела, доложил торопливо и вполголоса: «В ресторан уговорил!»
Я вернулся в купе, завалился на полку и не просыпался до утра, до самой украинской таможни. В вагон вошли такие гарные хлопцы, такие дуже здоровые парубки, что если бы они не паспорта проверяли, а землю пахали, Украина завалила бы всех пшеницей. В Канаду бы продавала. Хлопцы были в форме, похожей на запорожскую, были все с усами, говорили подчеркнуто на украинском. Нам было предложено «гэть из купе», чтоб они обыскали и купе, и вещи. Мужчина успел радостно сообщить, что девушка обещала подумать, что он увеличил ей плату. «Мне ж это дешевле, но даже и не деньги, но чтоб с другой не вязаться, к этой все ж таки привык».
Таможенники «прикопались» только ко мне. Зачем я еду?
- Мне же интересно видеть самостийную, незалежню, незаможню Украину.
- Шутковать нэ трэба, - сказал мне усатый таможенник. - Вы письменник?
- Да, радяньский письменник. Царапаю на ридной русской мове.
- Нэ шутковать.
- Какие шутки. Можете записать, что я украинский письменник, пишущий на русском диалекте.
- На яком диалекте?
- На русском. Это следствие, рецидив, так сказать, имперского мышления.
Слово «имперское» могло погубить, но, на мое счастье, таможенника отозвал офицер.
Потом была молдавская таможня, потом приднестровская. Я уж решил лучше молчать. Снайпер тяжело приходил в себя. Он встряхивал головой, поводил мутными, плохо прицеливающимися глазами, наконец попросил меня выйти и посмотреть, есть ли в коридоре тот снайпер.
Я посмотрел - никого. Тогда он соскочил с полки, сбегал умылся, сел напротив и сказал:
- Все очень серьезно. - Он закрыл купе изнутри. Соседи наши уже ушли в ресторан завтракать.
- Что серьезно?
- Того снайпера видел вчера?
- Ну.
- Он не к нам едет. Он к румынам едет, понял? Он с той стороны будет стрелять. Он, гад, за деньги нанялся, я-то из патриотизма... ну, гад! А мы вчера разговорились, а он-то думал, что я тоже нанятый. Ты, говорит, за сколько и на сколько контракт подписал. Тут-то и открылось. Ну, брат, дела. Он дальше поедет, до Кишинева, я до Тирасполя. - Снайпер покрутил головой. - Чего делать?
- А чего ты сделаешь? Вы как договорились - друг в друга не стрелять? Или ты его свалишь, вот и деньги некому получать.
- Семье заплатят - он сказал, семья у него в Москве. Да ему, гаду, все равно, он и за нас стал бы стрелять, но тут не платят. Так и говорит: мне все равно, лишь бы бабки. Этим девкам из Прибалтики много платили. Но они, сучки, даже по детям стреляли. Это-то он не одобряет. - Снайпер опять покрутил головой: - Достань чего-нибудь, не дай помереть.
Тут с завтрака вернулись соседи. И наудачу новый русский прихватил какого-то заморского пойла и щедро стал угощать резко ожившего снайпера. Девица снова углубилась в работу над своей мордашкой. Она решила в Тирасполе выйти, подышать, погулять по перрону. Мужчина ткнул меня сзади в спину и подмигнул: мол, все в порядке, больше не капризит.
И еще раз пришли какие-то пограничники, а может быть, еще какие таможенники, я уж в них запутался. Нас снова, но теперь на русском языке, попросили выйти. Вышли и из других купе. Мы теснились в проходе. Вышел и тот, едущий до Кишинева снайпер. Тоже явно с головной болью. Снайперы обменялись взглядами. Наш, уже опохмелившийся, глядел побойчей.
Поезд стал тормозить. Я думал, нам еще долго ехать, а оказывается, мы уже приехали.
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Восьмидесятые. Павелецкий вокзал. Уличная пивная. Подошел молодой мужчина в телогрейке. Озирается:
- Тут можно постоять?
- А почему нельзя?
- Кто знает. Боюсь. Я, между нами говоря, неделю только, как со срока. Оттянул три года. Три года за ведро яблок.- Оглянулся пугливо, достал четвертинку:- Будете? Нет? Не самопальная. - Отпил, глубоко вздохнул и закурил. - Хоть отдохну.
- Как же так, за ведро яблок?
- Как? Да так. Я сам с Липецкой области. Как пошел этот бардак, как стали коммунисты задницу доллару лизать, все захирело, сады побросали, дичают. Мы с парнями прошли по полосе, собрали паданцев, вынесли на дорогу, хоть на бутылку продадим. Тут «бобик» милицейский, зондеркоманда. «Откуда яблоки?» - Мы, по дурости, честно: «С полосы». - «Залезай, садись».
И опять, дураки, сели. И чего сели? Привезли. «Ну, всех оформлять не будем, бери кто-нибудь на себя». Я и высунулся: «Пишите на меня». Записали, отпустили. Через месяц повестка: суд. Ни хрена себе заявочка. Это ж паданцы, яблоки-то, полоса ничейная. Там и адвокат. «Что ж мне шьют-то?» Он, будто и никто, пришел посидеть, морда утюгом, в зубах ковыряется. «Принеси справку, что яблоки ничьи». А кто мне такую справку даст? Уже ни сельсовета, ни колхоза. Так и заткнули на три года. Будто опять в армии отслужил. Только кормежка хуже. Сечка и картошка. У кого родственники, легче. Передачу притаранят, охранники сумки перетрясут, что получше - себе, но что-то же и оставят. Еще кому-то нужным сунут, тому-другому, отряднику, конечно, и живут. А туберкулез там гуляет! Я на вас кашлять не буду. - Он опять немного отпил. - Выпустили, а куда идти? Кантуюсь тут. Прошу денег, но на билет же все равно не собрать, хоть на пузырек нацыганю, и то. Да и к кому я туда приеду? Родители умерли, дом заняли чужие, меня выписали. Иди докажи. А что зэк докажет? Мне сейчас главное - к ночи напиться, меня и заберут в ментовку. Хоть отосплюсь. Напинают, конечно. Да ничего, дело привычное. Обшарят, а чего у меня красть? Боюсь, что и забирать не будут. Вывезут на свалку и пристрелят.
- Да ты что?
- А ты не знал? Ну, наивняк. - Мужчина еще отпил. - Так-то я даже и рисовал, и в художественное хотел поступать. Нет бумажки?
Бумажка нашлась. Мужчина ловко извлек из телогрейки карандаш и быстро начертал довольно сложный узор.
- Не понял, чего?
- Орнамент какой?
- Кельтская тематика. Для татуировки. Этим и зарабатывал. Может, и тут кого найду, ты не знаешь мастеров?
- Но это же дикость, это ж для дикарей, для уголовников.
- Я и есть уголовник. А дикарей среди пацанвы через одного.
- Что, и у тебя есть татуировка? - Я посмотрел на его руки - чистые, без следов иглы.
- Немножко. Показать? - Он снял телогрейку с одного плеча, закатал клетчатую рубаху. У локтя открылась татуировка - красивая девичья головка. - Я ж любил одну. Вот.
- И поезжай к ней.
Мужчина засунул руку в рукав.
- Нет. - Он тяжко вздохнул.- Тут не проханже, шансов нет.
- Замуж вышла?
- Да хоть и не вышла. Я ж не гад какой человека делать несчастным. Я ж пью.
Тут и я вздохнул.
- Иди в церковь. В сторожа. Двор подметать.
- Думал уже, думал. У нас и батюшка в зону приходил. Утешал. Верили, молились. Молились, а как же, на свободу рвались. Бог помог, вышли -и про Бога забыли. Ну пойду я в сторожа, а как выпью да что сворую?
- Тебя как зовут?
- Дима. Кликуха Димон.
- Чего тебе советовать? Крещеный?
- А ты как думал? Я же русский. В том и дело, что русский, а нас за людей не считают.
- Но ты сам-то себя считаешь человеком?
- Я-то считаю, а всякая сволота на нас тянет.
- Что тебе до них? И не Димон ты, а Митя.
Он достал извнутри телогрейки пузырек, взболтнул.
- Ну чего, давай прощаться. - Я протянул руку.
- Спасибо, хоть поговорили,- сказал он. - Может, когда и встренемся?
- Может, и встретимся.
- Анекдот хочешь на прощанье? Как мента хоронили?
- Как?
- Три раза на бис.
Нет, не встретились мы больше. И никакой сюжетной закругленности не получается. Да тут и никакая не литература. Пропал ты, Митя? Жив? Убило тебя государство.
МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
Есть такая замечательная, трогательная картина Поленова «Московский дворик». Сейчас таких двориков не осталось. Все застроено, все стеснено, все залито асфальтом.
В одном из таких бывших двориков сидят трое мужчин: один совсем старик, другой тоже старик, лысый, но еще крепкий, третий - молодой и высокий Серега. Раннее утро. Они сбрелись по случаю поправки здоровья. Вчера они гульнули, здоровье подсадили. И деньги просадили. У них сейчас тема разговора одна, где взять средства. То, что они наскребли по карманам, очень недостаточно.
- А Сеньки-то что нет? Он же платежеспособен, - спрашивает молодой лысый старик.
- Так ты что, не помнишь? Значит, хорош был, - говорит Серега. - Он же при всех сказал, все слышали: прямо ультиматум какой, целый меморандум вывесил: не буду больше пить. Не именно в этот раз, а вообще, говорит, не буду. Жену, говорит, жалко. Больная, говорит. Вспомнили?
- А, да, - вспомнил лысый.
- Чего их жалеть, они живучие как кошки, - говорит Серега. - Они такие все больные, и так всегда преподносят, что из-за мужей только и больные. Больные, а мужей именно они все равно закопают. И дальше пойдут болеть.
- Но есть же вдовцы, - хрипит старик.
- Так это выставочные экземпляры. Вроде тебя. Вдовцов-то быстро бабы подбирают.
- Меня хоть бы кто подобрал.
- Живи один и радуйся! А то придет и: че это ты опять носки разбросал, где это рубаху порвал? Причина в том, - назидательно объясняет Серега, - что жены боятся, что муж один без нее не останется, и загоняют его в могилу. А вдова кому нужна, особенно если без капитала, да и квартиру на детей оформила, а у самой только радикулит.
- Подожди, - останавливает его лысый, - чего ты про баб? Они не опохмелят. Он же вроде вчера взнос платил?
- Кто, Сенька? Платил.
- И не выпил?
- Нет.
- Все равно пусть и сегодня платит. Мало ли - не пьет. И дурак может не пить. Не пьешь - плати!
- Двойную цену! - поддерживает Серега. - У нас башка трещит, а он в библиотеку пошел. Пусть откупается. За него же будем страдать. Я позвоню.
- Закуски пусть тащит, - просит старик. - Хоть поедим. У него жена здорово стряпает.
- Вот они и держат нас за желудок.
- Да я вообще рукавом утрусь, и сыт, - говорит лысый.
- Звонить не надо, - решает вдруг Серега, - чтоб на нее не нарваться. Надо живьем идти. Вроде как насчет чего дельного. Вроде как мне пассатижи нужны. А зачем мне пассатижи, чего придумать?
- Скажи: проводку менять, - советует лысый. - Иди, иди. Причешись. Ты ему расскажи про Петьку, припугни. Тот тоже резко тормознул. Не пил, не пил, да потом так загудел! Обои со стен содрал, продал и пропил.
Сергей встал было, но опять присел.
- Это дело надо перекурить.
Закурили. Курят. Томительное молчание прерывает опять же Серега. Он вспоминает вчерашнее веселье:
- Вчера рассказывал вам, как меня в военкомат таскали?
- С чего бы мы помнили, - отвечает лысый. - Ладно хоть дома ночевали. А чего тебя таскали?
- Девять повесток. Одна за одной. На десятую пошел. Обследование. У меня же, говорю, глаз стеклянный, ум деревянный. Пишут: годен ограниченно к нестроевой хозяйственной. В обоз. Забрали на три месяца. Конституция! Присматривать за погрузкой на платформе. Мне что, присматриваю. С одним-то глазом. С одной стороны грузят, с другой воруют. А чего не воровать, уже всю Россию растаскали.
- А, это ты рассказывал, - вспоминает лысый. - Это как вы там запчасти толкали? Рассказывал. Еще что-то про француженок было. Не помнишь?
- О-о! Это нечто. Сидят две француженки на Елисейских полях. Нет, на Эйфелевой башне. Смешнее. Одна говорит: «Опять мой паразит нажрется как свинья, на ушах приползет». Другая ей: «Ну все-таки сам придет. А мне еще своего гада искать придется. Же ву при, се ля ви». Это разговор француженок. Я это вообще-то сам почти придумал. Нужны же положительные эмоции.
- Чего это нам, подыхать, что ли? - спрашивает старик.
- Иду, иду. Ну! - Серега решительно встает и чеканит первые три шага. Старики, старый и молодой, молчат. Молчать тяжело. Старый долго
кашляет.
- Кашляю, аж башка трясется, чего-то соседку, в коммуналке была, вспомнил. Бабка старая-старая, мохом обросла. Меня воспитывала. И всегда: «У меня внук майором работает». А я ей: «Как ты посмела до Октябрьской революции родиться?»
- И чего ее внук? - интересуется лысый.
- Внук? Какой внук? А-а. Да я его и не видел.
И опять курят и напряженно молчат.
Серега возвращается и докладывает:
- Прямо сюда взносы притащит. Говорит: принесу, но пить все равно не буду.
- И пусть не пьет, нам больше! - говорит лысый.
- Да куда он денется, - хладнокровно говорит старший.
Начинается интересный спор: будет Сенька пить или не будет. Спорят, конечно, на бутылку.
Замечают среднеазиатского дворника, который все это время подметает двор, делая сидение кампании более комфортным. Мужики, ожидая Сеньку, это тоже обсуждают.
- Мети, мети, - говорит лысый. - Чурки гнали нас из республик, гнали русских, и что? При Мишке и Борьке, вспомните. Гнали, глотали суверенитет. Наглотались, теперь отрыжка пошла, в Россию просятся. Вон, вишь, за метлу уцепился. И боится, чтоб не отняли. Казах, что ли? Узбек, наверное. Туркмены, таджики - те дома больше сидят.
- Сюда Кавказ прет, - говорит Серега. - Грузины мимозу возили да гвоздики, сейчас криминал. Татар в Москве полно, Молдавия. А уж азе-ры эти все рынки захватили. Украина наловчилась других доить. Если что, они и армянок на хохлушек переделают. Где хохол прошел, там двум евреям делать нечего. Евреи вообще нас задушили.
- Да не евреи, жиды. Евреев уже не остается, - говорит лысый. -Москва им медом намазана. Всегда в нее ползут.
- Ползали раньше за невестами, - вставляет Серега. - У Пушкина вон помещица Ларина повезла Татьяну Ларину в Москву, «на ярмарку невест». И генерала отхватила.
- Да мы-то что, выдержим, - продолжает лысый, - не впервой последнюю рубаху отдавать. А вот в Европу Азия пошла как саранча. И главное - молодежь прет. Думаю, это же от армии, это же дезертиры. Родина у них в опасности, а они в Европу.
Старик поднимает голову. Видно, что он мучается сильнее других:
- Вы или в самом деле дураки, или притворяетесь. Это же готовится третья мировая война против России. А с востока идет желтая демография.
- Чувство родины убито, - объясняет лысый. - Это главное и даже в украинском вопросе. Бросить родину - срам! Если родине плохо, почему мне должно быть хорошо? Но Россию не одолеть. Если что с Россией случится, то всем остальным будет еще хуже.
- Да где этот Семен? - вопрошает старик. - Дайте еще сигаретку.
Руки у него трясутся, долго прикуривает. Жадно затягивается:
- А если вот так пить будем, так и русских не останется.
- Куда ж мы денемся?
- Как куда, туда! - Старик тычет рукой, показывая вниз, на усыпанный окурками асфальт.
- И что такого? - спрашивает лысый. - Там еще лучше. Уж где-где, а в Царстве Небесном только русским и рады. А жизнь, между прочим, безконечна.
- А про детей не думаешь? Про внуков? Что, и им жить в такой Москве? Нет, ребята, господа-друзья-товарищи, надо, надо нам в Нижний!
- С чего в нижний? Давай уж в верхний.
- Какой верхний? Я говорю, в Нижний Новгород! Оттуда пошло ополчение. Россию спасали от иностранщины. Вся надежда на Нижний. У меня предок в ополчении был. Моя прапра какая-то бабка все драгоценности отдала.
- Все равно бы ты пропил, - поддевает Серега. - Ваше поколение слиняет, совковое, жизнь наладится.
- Не гони седых, - говорит старик, - придут рыжие.
- Пьем, да не больше некоторых! - Лысый хочет договорить. - Не те, конечно, нынче нижегородцы, их горьковчане подпортили. Надо знаете что? Надо восстановить гордость русского человека. Надо напомнить, что все в мире создано гением русского ума.
- Тебя еще не звали на трибуне выступать? - насмешливо говорит Се-рега. - Ты и Жириновского переговоришь. Надо нам эту власть валить. Майдануть ее. Коррупционную.
- Тьфу, - плюется старик, - дурак ты и не лечишься. Болотник ты, больше никто. Валить ее для кого? Для окончательного ворья? Для жи-довни? Вы что, не видите, что все, кроме русских, с ума сошли? Да на эту нынешнюю власть молиться надо!
- Именно! - восклицает лысый. - Я хоть в церковь не хожу, но священников слушаю. Не политиков же слушать. Священник говорит: вы молитесь, чтоб вам лучше стало? Да вы молитесь, чтоб хуже не было!
Появляется Сенька. Издалека победно вздымает сумку. Подходит дворник, показывает, что надо тут подмести.
- Успеешь. Вначале выпей.
- Не могу, нельзя, - отговаривается дворник.
- Как это нельзя? Ты же в России! Ты куда заявился? Ты почему неподготовленным приехал?
Но выпьет ли дворник, выпьет ли Сенька и кто выиграет пари, мы не знаем. Компания оживилась, ей сейчас хорошо, ей сейчас не до России.
РАССТРЕЛ
Бесовщина в том и состоит, чтобы прикидываться святостью. На праздник Рождества Богородицы, ни раньше, ни позже, началось противостояние, логически рассчитанное на переход в братоубийство. Дни противостояния вспоминаю как фильм ужасов: русские избивали русских. То-то было счастья бесам, сидящим у телевизоров, наблюдать бойню. ОМОН был особенно жесток, некоторые надевали черные тряпки на лица, но в основном лупили в открытую.
Думаю, что я нагляделся на всю жизнь. Вот женщина, ее волокут за ноги по булыжнику Красной Пресни, вот мужчина, седой, старый: «Сынки, сынки, я ж воевал, сынки!» И его бьют «сынки». Тут и заграничные прозрачные щиты, тут и запах «черемухи»... Вот уже и кровь -мужчине щитом рассекли лицо.
Где вы, фонды и партии, ассоциации и движения, куда делись? Где ваши громокипящие программы и уставы, где гром оваций ваших съездов и конференций? Все было болтовней и трепом сытых амбиций. Чего ж вы склоняли имя России на все лады, где теперь те щели, куда вы забились? Да выползете небось к выборам, тут вам, при вашем честолюбии, не устоять. И оппозиция у нас будет на диво. Скажет один федеральный думец: «Президент - хороший реформатор», но тут же выскочит оппозиционер и смело заявит: «Я категорически не согласен: президент не просто хороший, он очень хороший!» Вот какая будет оппозиция.
Русские стояли против русских. Русские оскорбляли русских. Из-за политиков?
Да. Чугунными лбами уперлись политики, разделяя людей.
Ночь перед расстрелом Дома Советов была ознаменована приходом демократов на защиту Моссовета. Этот Моссовет сами же они разгонят через два дня, а пока создавали кукольные баррикады, одолеть которые мог бы молоковоз. Жители близлежащих домов радостно валили с балконов ненужное старье, также волокли мусорные контейнеры на колесиках, стаскивали елочки и липы в деревянных кадках, но в основном пили и закусывали. Утром пустая заграничная тара гремела и звенела под ногами. Но тщетно старухи пытались отыскать бутылки на сдачу, нет, кооператоры поили нестандартным пойлом. Очень гуманитарно помогал Запад тем, кто калечил Россию. На улицу вывели динамики, визжало радио «Эхо Москвы». Дураки слушали.
Утром по этому радио сказали, что шесть военно-полевых кухонь повезли завтрак защитникам Красной площади. Я пошел посмотреть. Нет, кухонь не было, как и защитников. Баррикады, опять же игрушечные, топорщились у Исторического музея и у собора Василия Блаженного. От «Белого дома», который вскоре почернеет, слышались выстрелы. Знатоки говорили: «БМП... А это БТР». У мавзолея сменился караул. Но не примаршировала смена от Спасских ворот, а вышла из-за мавзолея, от бюстов Сталина и Калинина. Вышла без карабинов, взяла их у тех, кто отстоял, и встала на их места.
Как-то все в Москве сразу запаршивело и опаскудилось: мусор никто не вывозил, транспорт в центре лихорадило. Люди шли пешком.
Думаю, что пропускали к Дому Советов специально, чтобы одно из двух: или увеличить число убитых, или загородить храбрую технику, обстреливающую прямой наводкой здание. Приученная демократическим телевидением к непрерывным зрелищам убийства толпа как-то не воспринимала, что убийство идет не в кино, а всерьез. Когда стали бить тяжелые орудия танков, вот тут многие поняли: в сегодняшней России может быть все что угодно, в ней нет закона, есть сила; нет права, есть оружие. Пулеметные и автоматные очереди сливались в небывалый барабанный бой, близкий свист шальных пуль заставлял приседать даже отчаянных. Когда тащили раненых, а может, убитых, к ним особенно прытко неслись телеоператоры.
Потом, назавтра, я сходил к тому месту, где стоял в день обстрела, около трансформаторной будки. Уже мальчишки искали гильзы, уже туристы покупали их две за доллар, уже мир, ближний и дальний, насмотрелся на братоубийство в прямом эфире. Помню отчетливо, что иногда, когда пули сухо и звонко обозначались вблизи или чиркали по асфальту, охватывало чувство: «А! И пусть убьют! Так и надо! Чем я лучше любого из тех, кого убивают?»
Разве же дело в Ельцине? В своре грабителей, ринувшихся за ним?
Дело же в России. Как ей жить, куда ее тащат, на какое всемирное позорище, какие упыри и вурдалаки присосались к ее артериям, за что нам такое издевательство? Когда это было, чтобы желтый телец правил бал в России, чтобы ползали на брюхе перед заезжей валютой и называли это вхождением в мировой рынок? Чтобы все застарелое барахло, всю питьевую и продовольственную залежь валили к нам, как в дыру, а?! Доллар только на сутки испугался и отполз немного, а вскоре опять воспрянул.
...Били прямой наводкой страшными снарядами, визжали пули, толпа стояла. Нет, не все, как две сучки недалеко от моста, радовались попаданиям - в основном молчали. Полковник, стоявший рядом, стал говорить, что вот если бы пойти всем к танкам, то танки бы не стали стрелять, что можно плащом закрыть смотровые щели. «Идемте!» - сказал я. Полковник отказался - он в форме, неудобно. И только подвыпивший парень все ходил за мной и все говорил: «Батяня, пошли на танки!» Только он.
Демократы любят Карамзина за его ответ на вопрос «Что делают в России?» - «Воруют». А что же сейчас делают в России? - Трусят. Начиная с меня.
Но после драки кулаками не машут. А если б до драки не махали, то и драки бы не было. Паки и паки повторим, что главная вина в случившемся - на демократической интеллигенции. Ведь даже воевавшие писатели Анашкин, Баклажкин, Офигенов и примкнувший к ним сибиряк-самородок требовали и требуют жестокости. До каких низин преисподней надо было опуститься, чтобы назвать (да кого угодно!) «тупыми негодяями, которые понимают только силу»?
Махали кулаками, скандировали: «Са-вет-ский-са-юз»! Какой там союз - Россия, только Россия. И это совершенно идиотское шаманство с преклонением красных знамен у мавзолея, не дикость ли? Конечно, жалко людей, у которых ничего в жизни и не осталось, кроме Ильича, но Россия - не Ленин. Знамена того Октября обагрены кровью, отяжелели от нее, тлетворный запах гниения идет от них - как можно идти под ними?
Но вообще-то все эти крики о знаменах (триколор - это власовское знамя, внушали «Секунды», цитировали из зарубежной поэзии:«Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг»; одна толпа требовала убрать «матрас» - так прозвали трехцветные полосы; другая толпа внедряла другие знамена, вот и шло время). О, эта пятая колонна наловчилась умело направлять выбросы энергии на что угодно, но не на спасение России: на защиту природы, памятников старины (сколько же жизней в прямом смысле положено в борьбе против поворота северных рек и тому подобное), - где те крики о доме Фамусова и где тот дом? Очень, очень радостно бесам такое использование творческой энергии. Зачем бесам природа, памятники культуры, старины - смешно! Бесам нужны власть и деньги - все! Они этого блистательно добились и никуда от нас не собираются. А сколько с того же балкона «Белого дома» кричали о самолетах, которые стоят на аэродроме в готовности и ждут, что на них демократы улетят из России. Не улетели. Не улетят. Тут им пока климат. Зачем лететь, столько дураков их поддерживает.
А еще на следующее утро разбирали баррикады, уже старуха тряпкой, сделанной из сарафана, промывала стекло рекламы американских сигарет, уже уходили хмурые войска, видя кукиши сограждан, уже вновь сияли витрины колониальных товаров, уже герои-победители начинали разборки, кто больше заслужил почестей, уже хохмач Хасанов, выступавший в баррикадную ночь с балкона Моссовета и в этом стоянии на балконе повторивший Ленина, отбыл в свою запасную страну, все поехало своим путем-дорогой, солнце сияло, и будто ничего не случилось. И вот это было и есть самое страшное - будто ничего не произошло. Произошла национальная трагедия, космический сдвиг, нельзя же теперь делать вид, что ничего не было.
Да что там космический - с каждым произошло. Я занимался психиатрией, там много примеров, как крохотное событие навсегда калечит психику. Солдату, ударившему старика, видевшему его хотя бы долю секунды, этот старик будет являться во сне и наяву, и сопьется солдат. Офицер, отдававший приказы теснить и бить людей, сойдет с ума. Омоновец, пьяный и в маске, получавший за владение щитом и дубинкой валюту, - конченый человек, не будет у него семьи, а если будет, не будет в ней счастья. Могилы зарастут крапивой у тех, кто бил братьев и стрелял в братьев. Только блохастые собаки будут грызть кость, отобранную у вороны, на их могилах...
И если бы даже события остановились перед убийствами, то все равно было бы страшно за Россию. «Убитых нет», - бодро лепетали журналисты, говоря о событиях у «Белого дома» до октябрьских дней. Но как не было? А убитые души, сердца, надежды? А вера в то, что армия защитит народ? Армия так защитила, что долго не отмоется во мнении народном. Не дивно ли - обгаженная демократами, пошла их защищать. Убивали с в о и х.
Нам не на кого ставить, не из кого выбирать. Россия заслужила то правительство, которое имеет, и нечего рыпаться. Долгие, долгие годы познания и прозрения впереди. Но если мы и сейчас ничего не поняли -нам конец.
Октябрь 1993
От автора (2015): Это я случайно обнаружил в бумагах
С НАСТУПАЮЩИМ!
- Ну, с наступающим, - говорит Коля, поднимая рюмку и наступая мне на ногу.
- Чего-то я не помню, какой завтра праздник, - говорю я.
- Как какой? - радостно объясняет Коля. - Ты приехал, встретились, уже причина. А завтра с утра все равно выпью, а кто выпил с утра - весь день свободен. За свободу! - Выпивает, встряхивается: - Эх, косим, что кошено, носим, что ношено, любим, что брошено, и пьем все, что горит. -Потом находит на столе закуску и комментирует находку: - Вот позвала хозяйка гостей: «Кушайте, гости, кушайте, вот салатик остренький», - а один цепляет вилкой кусман сала и говорит: «Сало тоже не тупое». Да! Ну ты молоток! Не зря у меня все приметы были.
- Кошка гостей замывала?
- Какая кошка? А, примета? Ну, в такие я не верю. Я верю в конкретность. Коля, говорят, стопори машину, всякого привезли. Да! Чего-то не завязывается. Давай для завязки.
- Не буду больше, - отвечаю я.
- Но меня не обсуждай. - Он именно так и произносит: не обсуждай.
- Когда я тебя осуждал? Или обсуждал?
- И еще бы! - Он медленно полнит рюмку. - Двадцать капель лечебных, двадцать капель служебных, а в конце последняя капля до-о-олгая. Я тебе про аптекаршу рассказывал, нет? Ну, обожди. Ну! Кто празднику рад, тот до свету пьян. - Выпивает, закусывает, а под закуску рассказывает о некой жене, которая говорила мужу перед приходом гостей: «Давай пей, а то гости придут, а ты трезвый».
Главный Колин тост такой: «За нас с вами и за хрен с ними», - но для него он пока не созрел. Вот обретет градусы, перестанет закусывать, будет только пить и курить, тогда только это и будет. А вначале он старается разнообразить беседу. Он доволен, что мы, по его выражению, сегодня не скоро обсохнем, то есть затарились изрядно. Он колупает пробку ножом в опасной близости от лица и комментирует:
- Вот сорвется - и по горлу, хорошо будет. У нас так-то один чуть не до смерти, даже бюллетень не оплатили. Он потом жалел, что не до смерти. У него, вишь, жена пила, он сберкнижку на сына завел. Она сына подговорила снять и все с ним пропраздновала. Он с горя полоскать. Ну, за генеральские погоны!
Это у Коли такая штука о жизни: жизнь как генеральский погон, ни одного просвета. А у Коли, обычно гордится он, погоны чистые и совесть чистая, не выслуживался.
Но и про наступающий он не забывает и давит мне ногу под столом. Закуривает. Кроме армейских рассказов, которые я не люблю, у Коли есть еще рассказы о его любовных победах. Сейчас они начнутся.
- Я про аптекаршу не буду рассказывать, я уже поссорился. В Киров со мной не езди, за компанию убьют. У меня там на каждой улице было событие. Были в основном одноразки. Я их сам всех бросал. Чтоб кого-то не покорил! Мне надо было от силы день, много два. На аптекаршу неделю извел, так она того стоит: царица фей, о, будь моею! Она меня вначале гнала, отбивалась. А я смеюсь ей в лицо: «Это ты меня так покоряешь» -и не отступаюсь. Говорит: «Видеть тебя не могу». - «А чего, - говорю, -меня видеть, сейчас день, давай ночью на ощупь встречаться». - Коля закуривает, смотрит на бутылку: - Эх, я опять, мальчишка, запил, я опять запировал, посреди широкой улицы галоши потерял. Гармошки нет? Ничего! Как еще приедешь - будет. Эх, понеслась, посыпалась погода сыроватая. Девчонка белого лица любила черноватого... А знаешь чем уничтожила чувства?
- Аптекарша?
- Нет, другая, вдова. Эх, по дорожке столбовой катился яблок садовой, после милочки красивой я связался со вдовой. Жить не давала, все тащила на кладбище.
- Зачем?
- На могилу мужа! Ухаживать за могилой таскала. Я в этой фирме «Земля и люди» заскребся бывать. Ограду заказывал. Тому дай, этому налей, с этим выпей. Машину клянчи. Да еще наконечники на углы дали не те, ездил менять. Чугунные, с графин, потаскай-ко. Ну, я думаю, ты уж кого-нибудь-то все равно хоронил, сам знаешь, как они над нами издеваются, эти фирмачи. Да ладно, давай за нас с вами и за хрен с ними!.. Ну вот. Наконечники-то ладно, ограду не так вкопал, надо вдоль ряда, я поперек. Бежит начальник кладбища Ахмет: «Переделывай!» Она-то жадна, сунула бы ему копейку: нет, давай, Коля, упрись рогом! Это ж заново три ямы рыть. Три! - Коля рисует схему ограды. - Я копаю, реву и плачу, пот с меня течет, Ахмет над душой, а она потом: «Зачем это я стала бы Ахмету деньги давать, когда ты в силе возможности, а я тебе лучше коньяку куплю». За краской погнала, стол, скамейку стал делать. Чтоб ей на скамейку сесть и горе изобразить. Какое горе - с ней же и выпили на этом столике. Эх, у нас было б два разка, да больно лавочка узка. Представь себе: кладбище, темнеет, я смотрю на его фотографию, я же и вмазывал, на цемент сажал, смотрю на него и говорю мысленно: «Что, брат, уж на меня не сердись, оградой заработал». Она встала, платочком его фотографию обтерла и мне говорит: «Это была последняя встреча».
- Коль, мне надо ужин готовить.
Коля идет за мной на кухню.
- Давай я тебя научу стряпать. Суп умеешь варить? - спрашивает он. - Я научу. Поставь воду, она закипит, а дальше я сам не знаю.
Я чищу картошку, а Коля делает любимое дело - разыгрывает меня. Он выходит потихоньку на крыльцо, потом громко хлопает дверью, заходит:
- За тобой пришли.
Я покупаюсь:
- Кто?
- Два друга в кожаных пальто.
Из разряда таких шуток у него есть еще, например: он сообщает, что меня ищут. Я думаю, кто это меня ищет? Коля отвечает: «Два попа да нищий».
Варится картошка. Коля изучает программу телепередач, ничего достойного внимания не находит, но телевизор на всякий случай включает.
Картошка сварилась. Коля поет:
- Спрячь за решетку бутылку с закуской, выкраду вместе с решеткой. Это, знашь, раньше пели: «Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором». Но бутылку лучше: выкрал, выпил, выкинул, а с девчонкой возиться.
- У тебя есть юмор, не связанный с выпивкой?
- Есть. Дура девка, не дала, баба б новая была.
- А такой юмор, чтобы не связанный ни с выпивкой, ни с женским вопросом?
- Есть. Карбюратор засорился, свечи не работают, в клапанах большой зазор, и цилиндры хлопают. Но в этом-то что интересного? Или... -Он думает. - Шоферов дерет резина, трактористов магнето, шнеки, деки комбайнеров, а электриков никто. Но про работу неинтересно. Я работаю, да еще про работу говорить, когда жить? Мы на пилораме часами сидим, и вся баланда про баб и выпивку, ну, может, еще начальство поматерим, да «Из зала суда» почитаем. Везде же так. Ну, с наступающим!
Я отдергиваю ногу, Коля промахивается, но тут же находится:
- Опять от меня сбежала последняя баба по шпалам.
- От тебя?
- Это стихи. А так, чтоб от меня сбежала, ты что!
- Положить тебе картошки?
- Никогда! - восклицает Коля и добавляет: - Не откажусь.
Но не ест. Все курит и курит. Я гоняю его к форточке.
- Жену надо бить, - говорит он, - я у Лескова читал. Один немец на русской женился и не бил. Она думала, что он не любит, если не бьет. Ну, он ударил, потом у нее же в ногах валялся. Прочти для пользы дела.
А у меня так: удар глухой по тыкве волосатой - травинка в черепе сквозь дырку прорастет.
- Я не верю, чтоб ты мог кого-то ударить.
- Кабы не доводили. А уж если доведут! - Смотрит в окно. - Вроде дождь должен собраться, хорошо бы, сырое не пилим, день сактируют. А ты чего на пилораму не приходишь? Где карандаш? Бумаги нет? Да я на газете нарисую. Тут школа, шэ буква, сельсовет, дальше направо, а дальше не рисую, там услышишь. А как на территории искать, нарисую. Тут помельче надо, сам рисуй. Рисуй квадрат. Пиши: торцовочник, веди от него линию к лесу, рисуй квадрат, пиши: склад пиломатериалов. Дальше линии не надо, делай прямоугольник, пиши: бревнотаска, тут дай я сам, тут пилорама, тут цех - два, тут пилим брус и лафет.
- Что такое лафет?
- Это только с двух сторон, очень невыгодно. Вчера пять бревен пропустили, на карачках уползли. Меня в магазин гоняли, специально хожу в мазаном, чтобы очередь расступалась.
На очереди песня.
- «Как часто балдея средь ясного дня, я брел наугад...», слышь, брел наугад по каким-то протокам. «И родина щедро поила меня», - тут Коля себя обрывает, с упреком говоря: - Как же «щедро поила», не больно-то!
Мысли Коли скачут. Он будто и сам чувствует, что вот-вот сломается, и торопится сказать, спеть побольше.
- Чего-то хотел тебе еще рассказать. Чего-то запел и Тасю вспомнил. А Тасю зачем?! А! Тася беззубая к нам приходила, говорит, в Барановщине глухая Сима картошку копала. Бригадир мимо шел, говорит: «Здравствуй, Сима». Та говорит: «Да вот картошку копаю». «Замуж тебя, Сима, надо». Она отвечает: «Надо, надо, пока не замерзло». Мы до уржачки хохотали. «Я ухожу, - запевает опять Коля, - сказал мальчишка ей сквозь грусть, ты жди меня, я обязательно вернусь. Ушел совсем, не сделав в жизни первый шаг, домой вернулся в цинковом гробу. Рыдает мать, как тень стоит отец, ведь ты же был для них еще юнец, совсем юнец. А сколько их, не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах».
- Может, тебе постелить?
- Ты что? Мне до сна как до лампочки. Я все могу, могу паять, варить, клепать, вообще могу командовать парадом. У меня мастер был нервомотатель, он провел меня по вредной сетке и гонит алюмишку варить. И все меня допрашивал, а я допросов не терплю. «Пил вчера?» Отвечаю: «И завтра буду». Это один вариант ответа. А у меня есть второй, на все случаи жизни, сейчас научу, налей. - И поет: «Из полей доносится: “Налей”». Хватит, на ночь оставь. Ну, за нас с вами и за хрен с ними! У меня мотоцикл был «Урал». И я на нем бывал, и он на мне бывал, а все живу. Он меня от гангрены спас. Строгал на фуговочном, палец отдернуло. Хватились отвезти - бензина нет. Так я же еще свой «Урал» и завел. Приехали в больницу, говорю доктору: «Палец вам на холодец привез». Он заматерился, говорит: «Ты дошутишься». А я говорю: «Я и не стараюсь долго прожить».
- Коль, а что это за ответ на все случаи жизни?
- Это из трех слов?
- Ты еще про мастера рассказывал. Как ему отвечал.
- А как еще ему отвечать? - Коля передразнивает мастера. - «Скажи, Николай, как ты мог убить человека?» Отвечаю: «От того и пью». Вообще надо отвечать: не пью и не тянет. Не пьют многие, а не тянет далеко не каждого. А-а, - радуется Коля, - из трех слов! Например, спроси меня что угодно. Спроси, спроси. Ну, например: «Зачем ты, Коля, ночью по крыше ходишь?» Я не хожу, но спросить-то можно. Спроси!
- Зачем ты, Коля, ночью по крыше ходишь?
- Так надо, - отвечает Коля и кричит: - Два слова-то, два! Не три, два! Три, три, и дыра будет. Давай еще спроси. Ты ответ заучил?
- Так надо?
- Да! Давай спрашивай.
- Зачем ты, Коля, пьешь?
- Так надо. Еще! Спроси: зачем ты, например, Коля, на дерево полез или, например, спроси: зачем ты, Коля, на дерево не полез, и какой ответ? Так надо! И все! И все отскакивают. И в душу не лезут. Например, чего я в баню хожу или чего не хожу, как будешь отвечать, заучи на практике.
- Так надо, - заучиваю я.
- А теперь, ответь, тебе нужен стакан с двойным дном?
- Зачем? - спрашиваю я.
- Так надо, - говорит Коля и объясняет, что он выиграл. - Тут еще надо хитро спросить. Теперь твоя очередь.
- Ты ведь врешь, что тебя все женщины любят, врешь?
- Кому я нужен? - сердится Коля. Он потерял интерес к игре. Берет со стола и расколупывает яйцо. - Витамин це, яйце, сальце, мясце. Нет, не так: витамин це, чтоб не было морщин на лице. Витамин ю, чтоб не было морщин... - не дочистив, кладет яйцо обратно. - Я полежу или тебе это не в кайф?
- Ложись. Я стакан с водой поставлю и таблетку. Ты ночью проснешься, ее прими и водой запей.
- Вода не утоляет жажды, я, помню, пил ее однажды. - Коля все еще пытается шутить. - Загулял, так не воротишь, горькая рябинушка, наливай стакан полнее, тетка Акулинушка.
Я снимаю с него сапоги, он сопротивляется, но я говорю, что так надо, и он засыпает.
Знаю, что впереди у меня невеселая ночь. Но еще совсем не ночь, хотя на улице темно. Осень. По телевизору программа «Время». Первое вставание Коли я выдерживаю, еще не ложась спать. Коля встает, всматривается в экран. Показывают сидячую демонстрацию.
- У нас вчера лежачая была. Народу-то сколь у них, как грязи, а мы обезлюдели. Убей меня!
«Убей меня» на Колином языке означает: «Налей мне, и я усну».
Выпив, он бормочет:
- В нашей Вятскоей губерньи стало больше волоков, сколь наделал непорядков нам товарищ Щелоков. Все - спать! Лошадь в овсе не пасется, орел мух не ловит!
Он ложится и тяжело дышит. Ресницы иногда поднимаются, видна мутная полоска глаза.
Второе его пробуждение мучительно для меня, так как я уже заснул. Но Коле страшно одному, без света. Он будит меня, ему показалось (по-карзилось), что с ним рядом была бесовка.
- Как ты понял, что бесовка?
- Иди, говорит, ко мне. Ты добрый, ты хороший, тебя никто не ценит. Тебя, говорит, только я пожалею. Волосы у нее огромные, много волос, мне в рот лезут, я весь исплевался. А лицо, лицо! Смотрит! Лежит в портрете волос, зовет! Я к ней, она - раз ко мне спиной и хвостом меня по морде! Хвост у нее! Хвост! Потоньше коровьего.
Коля вытирает пот со лба, садится и плачет. Закуривает. Слезы текут на стол, в них и тушит Коля сигарету, вновь прося убить его.
- Меня одна из тещ, я же за ней горшки выносил, найди еще такого зятя, лежит и лает, и лает, и лает. Выносил, выносил, говорю: «Теща, тебе ведь скоро на том свете отчет держать». Она говорит: «Ничего, мне есть что про тебя рассказать». Я говорю: «При чем тут я, за меня с других спросят».
- Прими таблетку.
- Да приму, приму. Я их горстями пью, ты не волнуйся, приму. Я спать пока боюсь, пусть она подальше улетит. Ну хвостище! У меня еще другое было - так же вот сижу, передо мной, как сейчас, стакан. А по краю он бегает, на меня остреньким пальцем показывает и кричит: «Пьяница, пьяница!» Я стакан к себе поднимаю, он бульк в него, там буль-буль - и в стакане пусто. Меня же ругает, сам пьет. - Коля поднимает глаза к потолку. - А с потолка песни поют. Тут два этажа?
- Один.
- Ну да, это ж ты приехал, мы же у тебя встретились. Я про тебя никому не рассказываю, но кому ни скажу, все сразу: это человек. У меня мастер был, сейчас не помню, как звали, но тогда знал точно - Павел Елизарыч, ох, от него я наслушался всякой сулемы. Говорит, что погода стала дырявая от горячих тел в облаках, облака к ним липнут. Но бабка моя точнее говорит: «Что от погоды, говорит, ждать, когда все небо самолетами перемесили».
- Спи.
- Сплю, - послушно отвечает Коля. - Сейчас еще стакан бутерма-ги барабну.
Но уже не может пить, клонит голову в тарелки, дремлет, но только хочу перетащить его на диван, как вскакивает и кричит:
- Овчарка с автобус!
Веду Колю на кухню, клоню его голову над ведром и лью на затылок холодную воду. Даю полотенце. Он утирается и совершенно осмысленно говорит:
- Пить я больше не буду. И курить не буду. Я ж понимаю, я в массах с пеленок. У тебя какое служебное положение? А умственное?
Покорно принимает снотворное. Больше двух таблеток боюсь дать. Коля лежит и тихонько поет:
- «Восемь лет, они прошли в тумане, с той поры как начал я страдать. Многим я писал, но только маме, только маме не успел я написать».
Задремывает.
Я оставляю включенной настольную лампу и крадусь мимо Коли к своей кровати. Голова тяжелая, уже далеко за полночь. И опять только задремываю, как Коля кричит:
- Ты еще увидишь горящие танки! - и падает с дивана на пол.
И опять закуривает и долго, не ощущая пламени, держит над спичкой ладонь. Опять тащу его на диван, отнимаю горящую сигарету.
И еще он многократно встает, бродит, рассказывает разные случаи. У меня уже нет сил их запомнить. Только один запоминаю, про цветной телевизор. Как жена просила цветной телевизор. Пристала к мужу, а тому где взять, хоть воруй. Он схватил банку с краской, размахнулся и выплеснул на черно-белый экран: «На тебе цветной». А сам загужевал с Колей. У него был только боярышник, настойка, из аптеки. Но для зажигания хватило и его. Потом нашли чего посадистее. Тут я переспрашиваю:
- Какое? - Мне послышалось - игристое.
- Садистее. На спирту. Три дня керосинили.
И Коля вновь поет:
- «Качается вагон, кончается перрон, и первая бутылка открывается...» - Потом спрашивает, правда ли, что в Японии милиция дышит сквозь маску, как же она тогда преступников ловит, и так далее. Называет меня дядей. - Дядя, не спи, меня утащат. А я, дядя, люблю культуру.
Утро. Коля спит на полу в кухне. Вся упаковка снотворного опустошена. В полную мощь вдруг начинаются позывные радио. Коля вскакивает, объясняет, что это он ночью включил, чтоб не проспать на работу. Он идет умываться, я начинаю кипятить чай. Коля даже не присаживается. Он стоя пьет сэкономленное.
- С наступающим! - говорит он, наступая мне на ногу и мне веля наступить ему на ногу, чтоб не поссориться.
И отправляется на работу.
Я выключаю радио и падаю.
До армии Коля не пил. Служил за границей в составе контингента ограниченных российских войск.
ЗАПИСОЧКИ
Пачечка записок со встреч с читателями. Жаль их выбрасывать. Как на них отвечал, легко сообразить.
«Фольклор - это не культура сарафана и не культура балалайки. А что это?»
Да. Образ фольклора сложился от недостаточной его изученности. Образ этот далек от реальности. Сумеем подивиться тому, что фольклор существует тысячи лет и не умирает, а, как плодородный слой земли, питает настоящую русскую культуру. Хотелось бы, чтобы об этом и говорилось сегодня. О силе необыкновенной народного слова, его неистребимости и жизнеустойчивости.
А пока на нем спекулируют, им кормятся. Но не преподносят его так, что он выше сочиняемого искусства.
«Кого из нынешних руководителей нашей страны Вы считаете способным поднять Россию с колен? Народ народом, но руководитель-то нужен».
Нужен. Но с чего вдруг многие говорят про какие-то колени? Никогда Россия на коленях ни перед кем не стояла. Молиться надо. А в молитве -тут да, тут на коленях надо перед Богом стоять. Кто бы ни властвовал, Россия всех переживет. Лишь бы не анархия. Нравится руководитель - молись и за него, не нравится - тем более молись, чтобы Господь вразумил.
«Когда Вы поняли, что можете писать для людей?»
Думаю, что стихотворение в школьной стенгазете, оно уже для людей. Пишется же для прочтения. Есть такое писательское кокетство: пишу для себя. Тогда и помалкивай, и не пузырься от собственной значительности.
«Считаете ли Вы себя великим писателем?»
Ну, ребята, мы же в России, а в России писателю вначале надо умереть да подождать лет хотя пятнадцать, тогда и будет понятно, чего он стоил.
«Среди глобальной целенаправленной разрухи, предательства в чем Вы видите спасение для человека простого, “мизинного”?»
Знаю, что ответ не понравится, но скажу: терпеть надо. «Поясок потуже! Держись, браток, бывало хуже». Я такие пределы нищеты и бедности испытывал вместе с людьми, что нынешнее состояние кажется изобильным. Хлеб есть, вода есть, чего еще? Да соль, да картошечки. Масла растительного. Жить можно. И нужно.
«Что такое смысл жизни?»
Спасение души. Не живот же спасать, сгниет же все равно.
«Что такое счастливая жизнь?»
Спокойная совесть. И чтобы был доволен малым в вещах и в еде.
«Как Вы представляете жизнь после смерти?»
После смерти жизнь только и начинается. А при земной жизни надо ее заслужить. То есть она все равно будет, но какая?
«Что такое любовь?»
Постоянное состояние заботы о любимом.
«Сейчас в изучении языка аналитическая структура выходит на первый план, а смысловая преподносится как иллюстрация правила. Не опасно ли это?»
Конечно, опасно. Вообще алгебра убивает гармонию. В изучении слова нужно идти от этимологии слова. Обязательно знакомить учеников с «Корнесловом» адмирала Шишкова. И Даль не случайно строит свой словарь гнездами слов. Любо-дорого: род, родник, родина, народ, сибирское родо-ва, порода. А взять древнерусского певца Бояна, Баяна. «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити...» Зря разве музыкальный инструмент назван баяном? «Играй, мой баян, расскажи всем друзьям.» А парень может быть обаятельным. И он может обаять, обаять, оболтать, просто говоря, доверчивую девушку. Такие начнет «байки» рассказывать.
«Что Вас побудило написать первый рассказ?»
Не знаю. Может быть желание напечататься? Это же лет в тринадцать-четырнадцать было. Или желание, чтобы узнали о моем селе. Писал же в газеты, областную и районную.
«Вы бы хотели, чтобы Ваши внуки были писателями?»
Ни да, ни нет. Как Бог управит. Одно скажу: и раньше это было тяжело, а сейчас и вовсе. Мне легко именно от того было, что вырастал без телевизора, без всей этой оглушающей, подчиняющей, зомбирующей машины, диктующей образ мыслей и поведения. Внуки мои, конечно, как и любые внуки, самые лучшие, одаренные. Так ведь и дети были всех лучше. Однако ж не пишут.
«Расскажите о проблемах, трудностях Вашей работы».
Никаких ни проблем, ни трудностей. Одно нелегко - дождаться состояния, при котором можно спокойно сесть за стол. То сам болен, то жена, то теща, то дети-внуки. То еще что. А писать легче легкого. Какие там «муки слова». Не пишется - не пиши. Может, от того так говорю, что с детства слыхал выражение: «Мы - вятские, как говорим, так и пишем». Кстати, это и критики замечали, что читаешь его (мою) прозу, и кажется, что он сам рядом и тебе рассказывает. Достоинство или недостаток, не знаю.
«Достаточно ли таланта, чтоб стать писателем?»
Достаточно, конечно. Талант есть - уже не графоман. Но каким писателем? Русским писателем становятся тогда, когда взваливают на себя ответственность за все происходящее в России. Когда чувствуют вину перед ней. Еще помню встречи с читателями в восьмидесятые годы. Записки из зала: плохо дело с охраной природы, отстаем в производстве электротехники, низки удои, колорадский жук поедает картофель и тому подобное. И вопрос: «Куда смотрят писатели?» То есть русский писатель виноват во всех бедах. И это правильно. Так что дал тебе Господь талант - надо его отработать. Никто же тебя не хуже, но ты способен больше сказать.
«Вот Вы сказали, что куклы Барби, Синди несут пошлость, что они приучают не к материнству, а к разврату. Как же так? Их же делают люди».
Именно. Сами взрослые несут детям привычку только к удовольствиям, как молодежь говорит, к «развлекухе». Делается все специально. Покемоны всякие, игры со стрельбой и трупами, игры в «Монополию». Как с этим бороться? Трудно, конечно. А как вы хотели - детей без борьбы за них спасти?
«Спасут ли реформы Россию?»
Нет. У нас давно зациклились на этом слове. Реорганизация, реформы... Где реформа, там усиление того, против чего задумана реформа. Реформа, чтоб уменьшить число чиновников, число их увеличивает. Объявляется Год русского языка - и количество часов на его преподавание сокращается. Россию спасет любовь к ней. Потерпевших поражение в Мировой войне Японию и Германию спас патриотизм. И там и там я бывал. Конечно, наши потери, наши разрушения были гораздо страшнее, но разруха и их посетила. А поднялись быстро. А у нас все нищета да нищета. У русских. Почему? Другим последнюю рубаху отдавали. Вот за это другие и наплевали на нас. «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживешь» - такая пословица. Когда-то же надо было и о себе подумать. Троцкий с Лениным бросали русских как хворост в мировой пожар, нынешние отдают Русь на разграбление. Какие тут реформы? Одна болтовня для дураков.
«Как Вы относитесь к именам Вован, Толян, Колян?»
Конечно, не так, как Толян и Колян. Но им, видимо, нравятся такие кликухи. Видимо, они из новой породы полулюдей. Называются «чуваки». У их детей отчества получаются очень красивые: Анжела Вовановна.
«Хотели бы Вы быть президентом России?»
Уж спросили бы: хотите ли быть царем? А то президентом. «Президент как резидент всего нерусского в России», - сказал поэт. Нет, не смогу: слишком жалостлив. Но, по большому счету, и президент может быть русским. Как Александр III.
«Как Вы считаете, имеет ли сейчас Церковь влияние в нашей жизни?»
Имеет, и решающее. Перестройка убила оборону, экономику, идеологию, а Россия жива. Кто спас? Церковь. Другого ответа нет.
«Реальные ли события в Ваших повестях “Живая вода”, “Великорецкая купель”, “Арабское застолье”, “Повестка”, других?»
А как иначе? Если там что-то убавлено, прибавлено, так это не очерки. Пожалуй, только повесть «Сороковой день» полностью привязана к фактам. Но она по жанру - повесть в письмах. Преимущество прозы в том, что она освобождает от привязанности к документу, ей важно выразить дух времени. Не то, как произошло событие, а почему оно произошло, и более этого. Скажем так: радио говорит, что произошло, телевидение показывает, как произошло, газета-журнал объясняют, почему произошло. Но как объясняют? Объясняют, как приказано объяснить. Писатель обязан объяснить событие с единственно правильной точки зрения - народной, то есть православной. «И неподкупный голос мой был эхо русского народа», - вот этого бы достичь.
«Совесть - Бог русского человека. Как Вы понимаете это выражение, которое у меня на слуху со школьных пор, а мне уже пятьдесят?»
Нет, все-таки надо говорить, как учат святые отцы, что совесть - это голос Божий в человеке. Нам отчего-то же иногда стыдно, иногда радостно. Не просто же так. Голос Божий. Всегда подскажет, верно ли поступаем. Только надо его слышать и не глушить грехами. Есть же и безсовестные.
«Вы сказали, что “одноглазое дьявольское бельмо” телевизора ничему не учит, только борьбе с перхотью, а как же исторические и научные фильмы?»
Их же можно дома смотреть. Покупать их, купить плеер. Хотя бы будете без рекламы смотреть. Да и в выборе фильмов надо быть бдительными. Должно выработать в себе такое собачье чутье: какой фильм душу спасает, какой гонит в бездну. Уныние от просмотра или желание жить и любить?
«Работаете ли Вы в данный момент над каким-либо произведением? Если да, когда оно будет закончено?»
В данный момент работаю над прочтением Вашей записки. Но вообще, конечно, работа постоянна. Если и не за столом, то все равно все мысли о ней, о работе. Идешь с женой, она: «Да ты же меня не слушаешь!» И она права: не слушаю, и я не виноват, что не слышал: меня же всецело мучит то, над чем работаю. А когда закончу, Бог весть.
«Как Вы вдохновляетесь, чтобы написать произведение искусства?»
Прямо сплошные высокопарности. Это к поэтам. Вдохновения у меня не бывало. То есть, может, и бывало, но я не понял. А вот слово «надо» у меня постоянно. Пишу рассказ, звонят: надо предисловие, надо рекомендацию, надо на заседание, надо поехать, надо, надо. Все надо, а рассказ, не родившись, умирает. А что умерло - произведение искусства или случай из жизни - уже не понять.
ПОЭТЕССА
Молодому редактору дали для редактирования рукопись стихов поэтессы. А он уже видел ее публикации в периодике. Не столько даже на публикации обратил внимание, сколько на фотографию авторши этой -такая красавица!
Позвонил, она рада, щебечет, она сама, оказывается, просила, чтобы именно он был ее редактором. Он написал редзаключение. Конечно, рекомендовал рукопись к печати, но какие-то, как же без них, замечания сделал.
Она звонит: «Ах, я так благодарна, вы так внимательны. Еще никто так не проникся моими стихами. Знаете что, я сегодня семью провожаю на юг, а сама еще остаюсь на два дня, освобождаю время полностью для вас, и никто нам не помешает поработать над рукописью. Приезжайте. Очень жду».
Бедный парень, чего только ни нафантазировал. Цветов решил не покупать, все-таки он в данном случае лицо официальное, издательское. Но шампанским портфель загрузил. Еще стихи проштудировал с карандашом. Там, где стихи были о любви, прочел как бы к нему обращенные.
Он у дверей. Он звонит. Ему открывает почтенная женщина. Очень похожая на поэтессу.
«Видимо, мать ее, не уехала», - решил редактор и загрустил.
- Я по поводу рукописи...
- Да, конечно, да! Проходите.
Он прошел в комнату, присел. Женщина заглянула:
- Я быстренько в магазин. Не скучайте. Полюбуйтесь на поэтессу, -и показала на стены, на потолок. - Везде можете смотреть.
Ого, подумал редактор, как у нее отлажено. Матери велено уйти. Стал любоваться. А у поэтессы муж был художник, и он рисовал жену во всех видах и на всех местах квартиры. На стене - она, на потолок поглядел -опять она. И везде такая красивая и молодая. На двери в ванную она же, но уже в одном купальнике. Хотелось даже от волнения выпить. «Но уж ладно, с ней. Чего-то долго причесывается».
Долго ли, коротко ли, возвращается «мама», весело спрашивает:
- Не заскучали? Что ж, поговорим о моей рукописи.
Да, товарищи, это была никакая не мама, а сама поэтесса. Поэтессы, знаете ли, любят помещать в журналы и книги свои фотографии двадцатилетней давности.
Что ж делать. Стали обсуждать рукопись. Поэтесса оказалась такой жадной на свои строки, что не позволяла ничего исправлять и выбрасывать.
- Ради меня, - говорила она, кладя свою ладонь на его руку.
Молодой редактор ее возненавидел.
- Хорошо, хорошо, оставим все как есть. - Шампанское решил не извлекать.
- Музыкальная пауза, - кокетливо сказала она. Вышла, вернулась в халате. - Финиш работе, старт отдыху, да?
Но он, посмотрев на часы, воскликнул:
- Как? Уже?! Ужас! У нас же планерка!
И бежал в прямом смысле. В подъезде сорвал фольгу с горлышка бутылки, крутанул пробку. Пробка выстрелила, и струя пены, как след от ракеты гаснущего салюта, озарила стены. Прямо из горла высосал всю бутылку. Потом долго икал.
НОЧЬ С АКТРИСОЙ
На репетиции актриса говорит автору пьесы: «Муж уехал, сегодня все у меня, я же рядом живу. Идемте», - предлагает она и уверена - автор не откажется. Она же чувствует, что нравится ему. И труппа это видит.
Она, например, может капризно сказать: «Милый драматург, у меня вот это место ну никак не проговаривается, а? Подумайте, милый». Он наутро приносит ей два-три варианта этого места.
После репетиции все вваливаются к ней. Стены в шаржах, в росписях. Картины сюрреалистические. Среди них одинокая икона. Столы сдвинуты. Стульев не хватает. Сидят и на подоконниках, и на полу. Телефон трещит. После вечерних спектаклей начинают приезжать из других театров. Тащат с собою еду и выпивку и цветы от поклонников. Много известностей. Автору тут не очень ловко. Актриса просит его помочь ей на кухне. Там, резко переходя «на ты», говорит: «Давай без церемоний. Они скоро отчалят, а мы останемся». Говорит как решенное. Скрепляет слова французским поцелуем.
Квартира заполнена звоном стекла, звяканьем посуды, музыкой. Кто-то уже и напился. Кто-то, надорвавшись в трудах на сцене, отдыхает, положив на стол голову. Крики, анекдоты. «Илюха сидит между выходами, голову зажал и по системе Станиславского пребывает в образе: “Я комиссар, я комиссар”. - Я говорю: “Еврей ты, а не комиссар”. А он: “Это одно и то же”».
Всем хорошо.
Кроме автора. Скоро полночь. Надо ехать. Ох, надо. Жена никогда не уснет, пока его нет. Автор видит, что веселье еще только начинается. Телефон не умолкает. Известие о пирушке радует московских актеров, и в застолье вскоре ожидаются пополнения. И людские, и пищевые, и питьевые. Автор потихоньку уходит.
Самое интересное, что на дневной репетиции, проходя около него, актриса наклоняется к его уху и интимно спрашивает: «Тебе было хорошо со мной? Да? Я от тебя в восторге!» Идет дальше.
Потрясенный автор даже не успевает, да и не смеет сказать ей, что он же ушел вчера, ушел. Но она уверена, что он ночевал именно у нее и именно с ней. И об этом, кстати, знает вся труппа. Режиссер сидит рядом, поворачивается и одобрительно показывает большой палец: «Орел!»
Актриса играет мизансцену, глядит в текст, зевает:
- Ой, как тут длинно, ой, мне это не выучить. Это надо сократить.
В АКТЕРСКОМ БУФЕТЕ
Сидит в буфете за кулисами еще не старый, очень знаменитый актер. С ним за столиком четыре женщины: первая жена, вторая, та, с которой сейчас живет, и четвертая, любовница, с которой сегодня ночевал. И все жены эту любовницу допрашивают. Спал он с ней, не спал, это никого не интересует, всех их (а они все Леню любят) волнует его здоровье. Ему плохо. Держится за сердце, за желудок, за печень, за голову. Виновато поглядывает на первую жену. Первая и вторая жена поглядывают на третью мстительно и насмешливо: увела мужа, получай то же. Им главное: что ели, что пили, поспал ли он, это важно: у него сегодня съемка, озвучивание, вечером спектакль. «Небось коньяком поила?» Любовница признается - был и коньяк. Ей впору заплакать, но это напрасно: все они актрисы, все знают, как пустить в ход слезоточивые железы. «Небось и уксус в салат лила? И перчила? Остренького ему всегда хотелось, - говорит первая и горько и нежно упрекает его: - Тебе же нельзя. Что же ты, решил в четвертый заход, а? Не надоело?» - «Четвертый брак не регистрируют», - замечает третья. Она больше всех ненавидит любовницу.
Вторая жена совершенно безразлична к любовнице, но она не только бывшая жена, но и председатель месткома театра, говорит, что талант не жене принадлежит, не любовницам, а народу. «Да, так! А ты его спаиваешь! Жениться обещал? Первый раз спали? Или уже было? На гастролях?»
Бедная любовница, блондинка, вся судьба которой в руках бывших жен, не смеет даже устремить на артиста свой взор, думает: «Милый, скажи этим стервам, как ты о них мне ночью говорил!»
«Да уходи он хоть сейчас! - надменно говорит третья жена. - Барахло свое, все имущество он в предыдущих квартирах (она выделяет это) оставил. Да я и не гонюсь за барахлом. Я его спасала».
«От кого? - взвивается вторая. - От чего? А справку он тебе принес, что сифилис не подцепил?»
«Может, у нее что помоднее? А, милочка? - сурово спрашивает первая. -Закуривает. - Дадим тебе поиграть “кушать подано”. На будущее запомни: спать нужно не со знаменитостью, видишь, у него уже язва, а с нужным мужиком. Под режиссера тебе уже не лечь, он импотент, а в кино, я знаю, ты пробуешься, там режиссер педераст, так что сиди и не дергайся. Леня, пей кефир».
Актеру пора на озвучивание. Его эскортирует первая жена. Он садится в престижную иномарку. Из окна вестибюля смотрит любовница. Ах, как они мчались на этом автомобиле ночью, как рассекали пространство. К ней, на родительскую дачу, как почтителен был офицер ГАИ, остановивший знаменитость, ах, что теперь!
Первая жена сует ему сердечные и желудочные лекарства.
«Леничка, ты вышел в люди, - говорит она, - зачем тебе теперь еврейка? Тебе нужна русская жена. Она и мать и нянька, она все вынесет».
У служебного подъезда театра, на ветру, на холоде умирают от ожидания счастья увидеть своего кумира молоденькие дурочки. Бедные пташки. В актерском обиходе их называют «телки». Актер коротко взглядывает на них, замечает: есть очень хорошенькие. Но говорит себе: «Не торопись, вначале выздоровей».
РАЗГОВОРЫ В ОЧЕРЕДИ
В поликлинике к врачу очередь для ветеранов, значит, очень медленная. Врачи с ними не церемонятся. Сидят ветераны часами.
- Чего теперь скулить? - говорит старик в кителе, - нет страны. Страны нет, а вы еще за нее, за пустоту цепляетесь. Мы нужны сейчас для того, чтобы с нас последнюю шкуру драть. Я в своем - в своем! -доме три бревна нижних сменил, те уже пропали, приходят: кто разрешил? Я сам. Ах, сам! А где проектная документация, где подписи, согласования? Все процедуры пройдите, иначе штраф. А проект - заплати двадцать тысяч, согласование еще десять. А штраф пятьдесят. А ты иди, пройди эти процедуры, свихнешься.
- Да кому мы вообще нужны? - поддерживает старуха. - Хоть тут посидим среди своих. А придешь к ним, рот не успеешь открыть, сразу: а чего вы хотите, возраст. Мол, чего до сих не в яме?
У старух, старик тут один, трудового стажа лет по пятьдесят-шестьдесят, пенсии у всех ничтожны. Их же еще и внуки грабят. Но старухи как раз для внуков все готовы отдать, и на жизнь не жалуются. Но они ошарашены переменами в том смысле: как же это - жили-жили, оказывается, надо все свергнуть, все осмеять, все оплевать, обозвать их совками и выкинуть на свалку. То есть государство убивает тех, кто его созидал, защищал. И как в насмешку делают льготным образом зубные протезы. Ставят на очередь вперед на три-четыре года. Попробуй доживи. Это длинная песня. И сам процесс замены своих, пропавших зубов на искусственные у иных по полгода, по году. Залечить плохие, удалить безнадежные, подождать, потом слепки, потом всякие примерки. Кто уже и умер без зубов.
- Опять обещают прибавку. И прибавка будет. А идешь в магазин, на эту прибавку там своя прибавка. Цены все прибавки сжирают. И опять нищий. Да еще благодари за нищенство.
- Они же, бедные, день не спят, ночь не едят, убиваются прямо, о нас пекутся.
- Да войны бы лишь не было.
- Вот, - подытоживает старик в кителе, - этим все и кончается: лишь бы не было войны. А что война? Ну и что, что убили? Убили, и в рай попал. А тут сколько еще намучаемся, сколько еще нагрешим, сколько еще дармоедов прокормим.
Тут его вызывают.
ВСЕМ ТРУБА
Совсем-совсем невесело жить: скандалы в семье, раздражение, крики жены, усталость на работе, одиночество. Год не писал. На бумаге.
А «умственно» пишу постоянно. Особенно, когда занят не умственной работой. Косте помогаю строить баню. Роемся во дворе, в завалах дерева, железа, бочек, разных швеллеров, обрезков жести, кирпича. Ищем трубу на крышу. Трубы есть, но или коротки, или тонки. Такой, какая нужна, нет. Придется идти на «французскую» свалку. Там были французские могилы. Тут и конница Мюрата была. И партизанка Василиса. Сейчас свалка.
Думаю: этот серый день, влажная ржавая трава, собаки и кошки под ногами, раствор глины в двух корытах, сделанных из разрезанной вдоль бочки, дым из трубы старой бани, подкладывание в печку мусора, - все это интересно мне и все это и есть жизнь, а не та, в которой ко мне пристают с рукописями, которые почему-то не первый экземпляр, которые, не читая, вижу насквозь, но о которых надо говорить.
С Костей интересней. Радио выведено на улицу, но его болтовня как серая муть. «И поэтому наши инвестиции...» У Кости не так:
- Блохи и вши бывают белые и черные. Белых бить легче. Лучше всего гимнастерку положить в муравейник, потом месяца три не селятся. А черные прыгают, не поймать. Но ветра боятся. Подуешь, она прижмется, тут ее и лови. Отстань! - отпихивает он Муську. - Сегодня по радио: «Выставка кошек». С ума сошли - пятьсот рублей котенок. Тьфу! - Он запузыривает матом и от возмущения ценой на котят прерывает работу. Начерпывает внутри кисета табак в трубку, прессует пальцем. - Были выставки лошадей, коров, овец, свиней, сейчас кошек. Чего от этого ждать? Ничего, жрать кошек начнут, опомнятся.
Идем за трубой. На свалке, прямо сказать, музей эпохи. Выброшенные чемоданы, патефоны, примусы, телевизоры, плиты, холодильники, крысы живые и мертвые, дрова, доски, шифер, россыпь патефонных пластинок. Нашли две трубы. Не очень, но приспособим. Еще Костя зачем-то тащит тяжеленный обрезок стальной рельсы.
Обратно идем через аккуратного Федю. У него даже на задворках подметено.
- Трубу искали? - спрашивает Федя. - Сейчас всем труба. Пока вроде не садят. До войны один жестянщик кричит на базаре: «Кому труба?
Всем труба! Колхознику труба, рабочему труба!» К нему тут же Очумелов, участковый: «А, всем труба? Пройдемте!» Тот говорит: «Конечно, всем. И самовар без трубы не живет, чай не поставишь. И на буржуйку труба». Отступился. Только велел конкретно кричать: «Труба для буржуйки, труба для самовара!». Чего, долго вам еще созидать? До морозов надо шабашить.
- Эх, - крякает он внезапно. - Уходит в сарайку, возвращается с трубой. Да и с какой? Из нержавейки. - Агроном варил, колено вот приварено, дымник. Дарю!
Костя потрясен, но сдерживается. «Будет за мной!» Торопится уходить. И те, две трубы и рельс, мы тоже не бросаем. Еле дотащили.
Кошки и собаки обнюхивают новые вещи. Несъедобны. По радио «Ночь в Мадриде» и «Арагонская хота». В конце ведущая ляпнула: «Вот подошел к концу наш музыкальный круиз». Не сердись, Михаил Иванович, что с них взять, с «перестроенных»? Ты испанцев лучше их самих, понял, а мы и сами себя скоро забудем.
ХАРИ-ХАРИ
Увлечение другими учениями совершенно нормально. Хорошо, если только в молодости. О. Серафим (Роуз) не только умозрительно, опытно исследовал многие вероисповедания. И вывел: в с е они несравнимы с православием, единственно верным путем к Богу.
Помню очень короткое время не увлечения даже, а интереса к Индии, от романа Германа Гессе «Будда Готама», немного от картин и стихов Рериха, от тогдашнего (60-80-е гг.) вторжения в Россию возгласов: «Харе-рама, харе-рама, харе-рама, харе-Крищна!» Еще и в начале 90-х они маршировали в белых балахонах по Арбату, за ними семенили женщины в белом, босиком. Они как дети Арбата ночевали даже там (сейчас дети Арбата - это торговцы матрешками для иностранцев). Это я очень и очень помню, ибо к этому времени я уже, слава Богу, причащался и был для их реинкарнаций неуязвим. Для них я был прямой враг. И вот почему: в журнале «Москва», редакция как раз на Арбате, печатались работы Валентина Сидорова, хорошего русского поэта, который увлекся Индией и восторженно о ней писал. Гималаи, позы лотоса, древность традиций, стойкость и выносливость... все описывалось им увлекательно. Даже тираж журнала подскочил. Собирались (и уже начали) печатать «Агни-йогу». А я воспротивился. И тираж у нас упал, и мне это ставили на вид. Ибо подписчики наши кормили весь коллектив издательства «Художественная литература», где мы печатались.
Они (люди в белом) приходили под окна и очень подолгу барабанили и возглашали свою «Харе-раму». Даже явились в редакцию. «Вы учите добру и терпению, - сказал я, - почему же вы так агрессивны? Если ваше учение такое правильное, такое главное, оно не пропадет и без публикации о нем в журнале». Выстоял. Узнали домашний телефон, звонили даже в полночь. Перетерпел. Еще же им и Блаватская очень помогала. Потом я узнал, что при всей своей оккультности она была патриоткой России. Но вот «рерихнулась». Да и мне какое-то время Рерих нравился, например цикл «Мальчику». «Мальчик мой милый, не медли, скорее в путь соберемся».
В защиту учения Будды Готамы (Шакья Муни, как стали его звать, когда он слез с коня и срезал мечом свои длинные волосы, знак царского достоинства) говорят, что оно похоже на христианское. Ограничения в пище, молитвы, терпение, все так, но даже с первых шагов Готамы видно, что это совсем не русское. Собрался уйти из дворца, тут у него рождается сын. «Узнав об этом, сказал: “Это новые оковы; мне надо их разбить”. Рождение сына не удержало его» (П. Лебедев. Будда и его учение. 1903). Ни йоги, ни истязатели плоти, ни созерцатели не освободили его от сомнений. Ушел от них и жил в посте и размышлении. Упал от истощения, чуть не умер. Перестал поститься, чтобы жить.
Никто не мог искусить его, даже сам Мара (злой дух, смерть по Бунину). Утром ему открылась истина. Он нашел путь избавления от страданий. «Есть две крайности, их должен избегать человек. Одна крайность - жизнь полная наслаждений, жизнь похоти. Другая - жизнь добровольных страданий. Надо выбирать средний путь - покоя и просвещения».
Но как это «избавление от страданий»? Вот я избавился, а у меня друг умер. «Не убивай живого существа. Даже шелковая ткань через убийство червячка». Но червячок не умирает, а сам превращается в бабочку, которая все тут сожрет. И если я комара не прихлопну, за меня его съест ласточка. «Должен быть беден, как птица, которая не несет с собой ничего, кроме крыльев». А детей надо кормить?
Конечно, совсем не нужно мне разбирать тонкости их учения. Доселе на улицах и станциях метро ученики брахманов навязывают литературу Кришны: «Бхагават-гита как она есть», «Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади- и Адхья-лила», «Сознание Кришны - высшая система йоги», многих других.
Поневоле знакомишься. Вот и обобщающая книга об авторе этих трудов, о «человеке святой жизни», о «Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами, впоследствии известном как Шри Прабхупада». Читать ее (для меня) трудно. Шрила Бхактиведанта считал, что счастье человечества только в следовании учению Кришны. Он и в Америке проповедовал, и с Индирой Ганди встречался. Лично сам был аскетом. Сам себе готовил пищу. Возил с собой медную кастрюлю, «разделенную на секции для одновременного приготовления на пару риса, овощей и хлеба». Но так как его книги и книга о нем очень доступна и с ней легко познакомиться, то закончу тем, что кришнаитское вероучение России не подходит.
А один кришнаит убеждал меня, что Иисус Христос до выхода на проповедь был в обучении у кришнаитов. И он верил в это. И верил в то, что хорошая собака в следующем воплощении будет человеком, а плохой человек превратится в собаку. Но потом собака может стать хорошей и стать человеком. А плохой человек станет собакой. А будет плохой собакой, станет деревом, а будет хорошим деревом - вернется в собаку. И так далее.
Увлечение браманизмом, индуизмом было сильным в начале XX века. Русский корабль причалил к Калькутте. Офицер, поклонник браманизма, повел матросов к знаменитому факиру, брахману. Тот ходил по горячим углям, заклинал змей, при молитве поднимался над землей. Пришли. Индус показывал свои достижения, но все как-то косо поглядывал на одного из моряков. И ничего у него не стало получаться. Наконец, факир зашипел и, изрыгая проклятья и показывая пальцем на моряка, повалился набок. Они вернулись на корабль, и офицер спрашивал моряка: почему именно его отметил заклинатель? «Не знаю, - чистосердечно, - ответил матрос. - Мне тоже интересно было. А я же всегда про себя читаю Иисусову молитву, может, он это почувствовал. Ему, видно, это не по губе».
ИНЖЕНЕРЫ СЕМИДЕСЯТЫХ
Молодые специалисты НИИ Грибин и Курков тащили вешалку, присели за ней. «Тут спокойно. Давай дорешаем этот узел. Вот тут ставим добавочное усиление, здесь...». «Инженеры! - закричали на них, - вы что филоните? Мы что, за вас должны мебель таскать?» - «Вася, вечером дорешаем».
Вечером сели на лавочке. Петя стал чертить палочкой на песке. «Вася, если узел вчерне рассчитан, то надо что? Надо его параметры привести во взаимодействие с другими, так?» - «Петь, ты голова». - «За такое дежурство надо наказывать рублем и законом! - закричал вдруг на них появившийся лейтенант милиции. - Где ваши повязки?» Инженеры извинились, встали. «Ладно, Вась, идем патрулировать».
Назавтра они вновь уединились и стали рисовать одним им понятные схемы. «Вот вы где спрятались! - вскоре закричали на них. - Сидят, понимаешь ли, на овощной базе и не работают!»
«Ладно, Вась, хватай мешок. После базы ко мне поедем. Ночь не поспим! Не впервой.»
Наутро они с гордостью положили на стол начальнику КБ свои расчеты. И только он в них углубился и только показал два своих больших пальца, как ворвалась в кабинет крупная дама, предместкома: «Вот вы где! Николай Иванович! Что это такое? Ваши инженеры ленились таскать мебель, плохо работали на овощной базе, плохо дежурили в милиции. Требую лишить их тринадцатой зарплаты!»
Умный Николай Иванович скромно сказал: «Это их изобретение экономит тысячу тринадцатых зарплат. Неужели мы из тысячи две не выделим?»
«Не надо нам тринадцатой зарплаты! - закричали Вася и Петя. - Дайте нам возможность работать.»
«А кто же за вас на картошку поедет?» - тоже закричала предместкома.
ЯГОДНИЦЫ
Читал, читал и незаметно уснул. Днем. И этим нарушил сон ночной. Зато читал ночью «Добротолюбие» и «Лествицу». Ну, мне до них как до звезд. Утром начались визиты. В основном женщины. В основном с похмелья. Им, видимо, тоже не спалось, они с рассветом ходили за ягодами. Людмила принесла соленые грузди и рыжики. Просит на бутылку. «Я к тебе как-нибудь зайду и расскажу про свою жизнь. Запишешь. Читать будут, не оторвутся». «Пиши сама» - «Сама! Я детям десять лет письмо написать не могу собраться». У Людмилы высшее медицинское образование. Давно надо оформлять пенсию, но все утеряно: паспорт, трудовая книжка. Собирать справки о трудовом стаже - это куда-то ехать. «На что? Я же лопаю».
Ягодницы помоложе: «Дядь Вов, некому спасти, - говорит Наташа, - бери ведро брусники за две бутылки». - «Так задешево?» - «Больше не надо, сопьемся».
Уходят. Но всего часа на три. «Дядь Вов, кабы мы одни пили, нам бы хватило. Эти же набежали!» Принесли еще ведро брусники. Отдают за бутылку. «Не возьму, это грабеж». - «Тогда дай взаймы, дай ровно на бутылку». - «У меня нет ровно на бутылку. На, принесешь сдачу». Наташа думает: «А ты не можешь с нами пойти? Вишь, я выпила, могу не удержаться, на всю бумажку набрать. Я же еще зерно успела поперебирать, видишь, вся грязная. Да мы тебя не опозорим, сзади, отступя, пойдем. За зерно деньгами обещали, потом говорят: берите зерном. Я же кур не держу. Зачем мне?» - «Зря, Наташ, возьми. Зима долгая. Или смелешь, или так будешь замачивать и распаривать». - «Возьму».
Идем в магазин. «Дядь Вов, а ты между прочим хороший человек». -«На бутылку дал?» - «Это тоже, но не только. Идешь, говоришь с нами. Все же гонят. А я, дядь Вов, не лахудра какая. Что что бомжиха? Если кто пристает, я сразу по морде. У меня мать дояркой была. Вот красавица! Отца в леспромхозе деревом задавило, какая там техника безопасности. Объявили, что сам же виноват, что инструктаж проходил. Следователю показывают подпись его. А она подделана. Закон - тайга, медведь хозяин. Кому там чего надо, всем до себя. Мама жила одна, была верна папе до смерти. Красавица-а. Пе-ела! Кто подкатывался, получал по морде. Я ее жалела: “Мам, построй свое счастье”. “Доча, - говорит, - это кобели, кабы серьезно, а то ведь только поматросить и бросить...” Дядь Вов, ты не обидишься, о чем я тебя попрошу? Не обидишься? Купи, если можно, пачку сигарет».
В магазин они со мной не идут. Набираю пряников, конфет, сигарет, конечно, бутылку. Продавщица очень подозрительно смотрит: «Приехал что ли кто к вам?» - «Жду», - уклончиво отвечаю я. - «А этих вы не поощряйте». - «Ягоды купил. Это же очень трудно набрать ведро брусники. Честный заработок» - «Знаю, сама хожу. А они этот заработок тут же пропивают».
К ужасу моему совсем к вечеру Наташа приводит новых ягодниц. Уже не с брусникой, с клюквой. Ходили на болота. Света и Вера. «Гости дорогие, - говорю я, - вы меня превращаете в купчишку, который у туземцев за безделушки или за огненную воду забирает собольи меха. Грабить вас не хочу». «Возьми, дядь Вов. Это мы грабители, лес ограбили». - «Не ограбили, а собрали Божий дар. А Людмила где?» - «Да она уже в отрубе».
Им неловко сразу уходить. Замечают молитвослов. Наташа: «Можно посмотреть?» Раскрывает, смотрит: «Здорово!» - «Что?» - «Господи, помилуй, сорок раз». - «Вот и читайте». - «Сорок раз? А что? Как раз до магазина дойдем». - «Да он уже закрыт». - «К Глушихиной придется за самогоном». - «А туда дальше идти?» - «В два раза». - «Тогда два раза и прочтите».
Обещают прочесть. Господи, помилуй!
ЭВОЛЮЦИИ НЕТ
Каким был человек при сотворении, таким и остался: мужчина это Адам, женщина - это Ева. «Милый, давай съедим яблок, будем как боги».
Заманчива эволюция. Будь она, куда бы мы шагнули, как бы развили, например, ту же поэзию! Пушкин, бедняга, на метро не ездил, на самолете не летал, по телевизору не выступал, даже и айфона у него не было, несчастный! Но почему же я, все это имеющий, пишу хуже Пушкина? И достижения науки свершаются постольку, поскольку Господь открывает просветиться нашему разуму. Ну да, сотовый - это очень хорошо. Хотя постоянный тревожный звонок от жены: «Ты сейчас где?» - иногда не радует. Но в духовном смысле и сотовый ничто, нуль, по сравнению с общением духовно просвещенных предков. «Братия, - говорит на Афоне настоятель монахам, - спешите на пристань, брат Савва просит о помощи». И хрестоматийный пример, когда преподобный Стефан Пермский спешит в Москву, проезжает Троице-Сергиев монастырь за три версты от него, обращается к преподобному Сергию и говорит: «Брат Сергий, сейчас не могу заехать, но на обратном пути обязательно заеду». В монастыре преподобный Сергий встает за трапезой, кланяется в его сторону и отвечает: «Хорошо, брат Стефан, будем ждать». Это-то проверенный факт. А когда идет Куликовская битва и братия монастыря стоит на молебне, то игумен Сергий называет имена тех воинов, ополченцев, кто погиб в эту минуту.
Спросим: как обычный человек, бывший мальчишка, пасший лошадей и коров достигает такого всеведения? Скажут: был Богоизбранный. Да, конечно. Но ведь любой из нас, если он выпущен в Божий мир, выпущен как один из тысячи вариантов (зародышей), тоже именно Богоизбран. Но остальное зависит от него самого. Образ жизни, молитва, терпение, смирение, - это не падает сверху, это не награда, это достигается усердием и трудами самого человека.
Велики наши знания, а что толку от них, если они как свет луны, освещающей, но не греющей? И что толку их увеличивать? Чем больше знаешь, тем больше не знаешь. И из этой формулы не выскочишь. Зачем знания, если не просветился светом Христовым, не причащался, не исповедовался? Какие это знания, если они обезбожены? Звания, книги, награды - «все суета сует и томление духа». Идут защиты всяких степеней, уверения, что открыты средства борьбы со всеми болезнями, что доказано самостоятельное явление живой клетки, то есть все делается, чтобы вытеснить Бога из мира, доказать, что человек чего-то стоит. Да ни копейки он не стоит. Ну, нагреб миллионы, все равно ж в гробу лежит. Вот Березовский. И жил грешно, и умер смешно.
Выдаются за знания совершенно шарлатанские заявления. Вот энциклопедист Руссо, вот циник Вольтер, вот надменный Дидро, вот всезнайка Аламбер. Свежесть их чтения в России (сама императрица в переписке!) вербовала их сторонников. Они, как опытные охмурялы, прельщали новизной. Руссо особенно вредил. Свернул мозги Толстому, тот даже образок его на шее вместо креста носил. А чему учил Руссо? Человек без нравственных убеждений, он искалечил нравственность французов. Пример приживалы при богатеньких любовницах. Эпатировал, утверждал, что наука родилась из пороков, породила роскошь, испортила души, а кончил тем, что все воспитание ребенка надо свести к воспитанию одной привычки - не иметь никаких привычек. Тянет ребенок руку к пламени свечки, не мешай, пусть обожжется, будет знать. Он же свободен совершать поступки.
Как же они все, эти протестанты, были обезбожены. И до сих пор это длится, длится их самоуверенность в своей правоте. Свобода обезбожен-ного человека делает его животным.
Не сердись, милая Европа, множество раз бывал я в тебе. И хотелось мне одного - скорее из тебя уехать. Живи без меня, без русского, живи. Ты с легкостью без меня обходишься. Так ведь и я без тебя. Но так вас жалко.
Сидим с переводчиком на берегу Сены. Собор Парижской Богоматери. Гюго, Стендаль, Мопассан, Роллан, - все тут бывали-живали. И русских много. Но переводчик говорит не о них: «Тут, рядом, улица путан». - «Это проститутки?» - «Вам интересно? Идемте».
ПРОЩАЙТЕ, ДОМА ТВОРЧЕСТВА!
Зимняя Малеевка, летние Пицунда и Коктебель, осенние Ялта и Ду-булты. Комарово. Еще и Голицыно. В Голицыно (76-й) я пережил «зарез» цензурой целой книги. В Комарово просто заехал с Глебом Горышиным, в Дубултах вместе с Потаниным руководил семинаром молодых, а Ялта, Пицунда, Малеевка и Коктебель - это было счастьем работы.
И вот - все обрушилось.
Комарово мне нечем вспомнить, только поездкой с Глебом Горышиным после встречи с читателями в областной партийной школе (78-й). Там я отличился тем, что ляпнул фразу: «Между вами и народом всегда будет стоять милиционер». Может, от того был смел, что до встречи мы с Глебом приняли по грамульке. И Глеб предложил рвануть в Комарово. Еще с нами ехала Белла Ахмадулина. По-моему, она была влюблена в Горышина (они вместе снимались у Шукшина и это тепло вспоминали), и когда он останавливал такси у каждого придорожного кафе, она говорила: «Глебушка, может быть, тебе хватит? - И, наклоняясь ко мне, - Больше ему не наливайте». Но хотел бы я видеть того, кто мог бы споить Глеба.
Заполночь в Комарово я упал на литфондовскую кровать и, отдохнувши на ней, нашел в себе силы встать, пройти вдоль утреннего моря, ожить и отчалить.
Малеевка всегда зимняя. Зимние каникулы. Дочка со мной. Дичится первые два дня, сидит в номере, читает, потом гоняет по коридорам, готовят с подружками и друзьями самодеятельность. Заскакивает в комнату: «Папа, у тебя прибавляется?» Позднее и сын любил Малеевку. И жена.
Обычно декабрь в Малеевке. Долго темно. Уходил далеко по дорогам, по которым везли с полей солому. Однажды даже и придремал у подножия скирды. И проснулся от хрюканья свиней. Хорошо, что ветер был не от меня к ним, а от них ко мне. Свиной запах я учуял, но какого размера свиньи! Это было стадо кабанов. Впереди, как мини-мамонт, огромный секач, далее шли по рангу размеров, в конце бежали, подпрыгивая, дергая хвостиками, полосатенькие кабанчики. Замыкал шествие, как старшина в армии, тоже кабан. Поменьше первого. Минуты две, а это вечность, про-хрюкивали, уходя к лесу. И скрылись в нем.
И что говорить о Коктебеле! Ходили в горы, был знакомый ученый из заповедника. У него было целое хозяйство. Два огромных пса. Один для охраны хозяйства, другой для прогулок. Поднимались к верхней точке, подползали к краю склона. Именно подползали. Ученый боялся за нас. «Тут стоять опасно: голова может закружиться, здесь отрицательная стена». То есть под нами обрыв уходил под нас. Страшно. Казалось - весь он хлопнется в море. Ведь мы его утяжеляли. Ездили в Старый Крым, в Феодосию (Кафу), конечно, в Судак. Видели планеристов, дельта и парапланеристов, лазили по Генуэзской крепости. Сюда бежали наемники Мамая, оставшиеся в живых после Куликовской битвы.
Очень меня выручала привычка к ранним вставаниям. Задолго до завтрака бегал к морю, когда на берегу было пусто, а еще раз приходил вечером, когда от него все уходили. То есть хорошо для работы.
В Коктебеле пережили 19 августа 1991 года. С Василием Беловым сразу рванули в Симферополь. Но у аэропорта уже стояли войска, и меня не пустили. А Белова, он был депутатом Верховного Совета, отправили самолетом. Но это было промыслительно - накануне вечером жена поскользнулась в ванной на кафеле и упала затылком. Была все в крови. Так я запомнил гибель империи.
В Пицунде бывали семьями. Раз сыночек мой оседлал меня и ехал вдоль прибоя. Аня Белова увидела это и вскарабкалась на плечи отцу. Сынок мой подпрыгивал и кричал: «А мой-то папа выше, а мой-то папа выше!» - Аня ему нравилась. У меня даже ноги ослабли, как это можно быть выше Василия Белова?
Еще раньше, в той же Пицунде, дочка прибежала ко мне и таинственно сказала: «Хочешь, я покажу тебе маленького ребенка, который уже знает иностранный язык?» И в самом деле показала смугленького мальчишечку-армянина, который бойко лопотал по-своему.
В этой же Пицунде мы ходили с Гребневым на море каждый день поутру, делая заплывы. Один раз был шторм, но что сделаешь с твердо-лобостью вятского характера, все равно пошли. Коридорная Лейла, абхазка, воздевала руки: «У вас ума есть?» - «Пятьдесят лет дошел - назад ума пошел», - отвечал ей Толя.
Прибой ревел, накатывался далеко за пляжные навесы. Мы еле вошли в волны. В высоту больше двух метров. Надо было бежать им навстречу и в них вныривать. Потом волны возносили и низвергали. Восторг и страх: но надо же было как-то вернуться на сушу. А уж как выходили, как нас швыряло - это, сказал бы отец, была целая эпопия. Могло и вообще в море утянуть. Надо было, пока тебя тащит волной, катиться на ней и сильнее грести, и стараться выброситься на берег и успеть уползти подальше от волны. Но волокло шумящей водой обратно в пучину. Получилось выбраться раз на третий. А уж какие там были ушибы и царапины, что считать? Живы, главное. «Кричал мне вслед с опаской горец: “Нет, нам с тобой не по пути! Не лезь себе на горе в море, с волною, слушай, не шути!”»
А еще раз поздно вечером поплыли, заговорились и... спутали береговые огни с огнями судов на рейде, и к ним поплыли. Хватились, когда поняли, что корабли на воде - это не дома на суше. Еле-еле душа в теле выплыли.
В горы ходили.
Да, было, было. И работалось, и жилось как пелось.
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ
Их по-всякому считают: кто по три года, кто по семь, кто вообще по двенадцать. Я всяко примерялся - не подхожу. В начале у меня был главный период, определивший всю жизнь, - это младенчество, детство и отрочество. Здесь основание всего: характера, привычек, убеждений. Это счастье семьи, верность дружбе, безкорыстие, это родители, школа, книги, братья и сестры, друзья. И главное ощущение в период атеизма - мама: «Чтобы я о Боге ничего плохого не слышала! О Боге плохо говорить нельзя!» Это радость Пасхи! Солнце, тепло! Чистые рубашки, крашеные яйца!
Земной поклон могилке отца и мамы.
Когда нас после 56-го года стали закармливать словесами о культе, о Гулаге, о нищете, безправии, о безгласности, всеобщей запуганности, я думал: а я-то где жил, в какой стране? Почему у меня все было хорошо, даже очень? Ну да, бедно жили, но так жили все (откуда я знал, что не все), с голода не умирали, в семье царила любовь, и радостны были наши бедные застолья и вечера при трех, а потом при пяти-семилинейке. Потом и электричество, пусть только до одиннадцати. Сенокос, заготовка дров, грядки, прополка и окучивание картошки, чистка хлева, выхлопы-вание половиков, натаскивание воды из колодца для дома, для скотины, для поливки - разве это в тягость? Школьная «тимирязевка», теплицы. Постоянные кружки в школе: и тракторный, и театральный, детская, школьная и районная библиотеки, зимние соревнования и летние походы (о, наша река! наши луга и леса!), работа в лесопитомниках, дежурство на лесхозовской пожарной вышке, работа на кирпичном заводе... Какое еще счастье нужно человеку для счастья?
А дальше следует юность. Но ощущение, что у меня юности почти и не было: я был моложе одноклассников на два года, кончил школу в пятнадцать лет, а в шестнадцать уже работал на взрослой должности литсотрудника районной газеты. Через два года слесарь по ремонту, потом трехлетний период службы в армии, где тут юность? По-моему, я же и писал: «Как тяжело, когда душа в шинели, а юность перетянута ремнем».
Юность настигла меня в институте, уже в московской жизни. Да, без Москвы вряд ли бы что из меня вышло. Ее музеи, выставки, библиотеки, наш любимый вуз, его аудитории, прекрасные преподаватели, вечера, радостные осенние выезды на картошку, летом в пионерские лагеря. Концерты для детдомовцев, литобъединение «Родник», стихи и влюбленности. Еще же параллельно многотиражка на мясокомбинате, тоже особая страница.
И - отдельной строкой - женитьба на самой красивой, самой умной девушке Наде.
Потом... ну потом телевидение, знаменитая 4-я программа с осени 67-го. Был редактором дискуссионного клуба. О предварительной записи понятия не имели, всегда шли в прямой эфир. Мои симпатии уже не колебались, еще в вузе ездил на конференции в ИМЛИ. Вначале по просьбе ученого инвалида Ю. А. Филипьева, которого на коляске выкатывал на прогулку по аллеям Воробьевых гор (книга «Сигналы эстетической информации»), потом и сам стремился слушать умных людей. Приглашал Вадима Кожинова, Петра Палиевского. С другой стороны были Данин, Рунин, Пекелис. Других забыл.
Очень много писал пьес и сценариев, зарабатывал на кооператив, так как жили в крохотной комнатке с родителями жены. Писал круглосуточно. Помногу сидел в исторической библиотеке в Старосадском переулке. Это тоже было писательством, к сожалению, провалившимся в черную дыру телеэкрана. Потом попытка уйти на вольные хлеба. Не получилось - бедность, непечатание. Потом, четыре года, издательство «Современник». Первая книга. Уход (снова в бедность) из штата на шесть лет до назначения главным редактором журнала. Журнал испортил зрение, измочалил, но что-то же и сделать в нем удалось. Потом, ни с того, ни сего всякие посты, которых никогда не желал: секретарство, и в Московской писательской организации и вообще - олимпийская высота - в СП СССР. Вначале оно, может, и тешило, но потом взыскивало платы здоровьем, бедностью. Желал известности? А что она? Это арифметика. Я знаю сто человек, а меня знает тысяча, вот и все.
Это были даже не периоды, как-то не вспоминаются они. Может быть, больше давали друзья, поездки по стране и на родину, книги и, конечно, работа, работа, работа. над чужими рукописями. В журнале я понял грустное правило: ты автору друг до его публикации и ты враг навсегда, если рукопись отклоняешь. А отклонять приходилось девять рукописей из десяти.
Особый раздел жизни - поездки. «Благослови, Господи, вхождения и исхождения», отъезды и приезды, вылеты и прилеты, отплытия и при-плытия. Посчитал как-то, что я больше трех лет прожил в поездах, не менее полугода в самолетах, так же и на кораблях. Да и пешком топал и топал. Если во время Великорецкого Крестного хода идешь каждый день часов шестнадцать, то и идешь непрерывно трое суток. За десять лет тридцать, за двадцать шестьдесят. «Ваше любимое занятие?» - спрашивали модные в 50-60-е годы анкеты. Я честно отвечал: «Ходить пешком». И не хотелось бы запеть невеселую частушку: «Отходили (оттоп-тались) мои ноженьки, отпел мой голосок, а теперя темной ноченькой не сплю на волосок».
Мысленно озираю карты, и страны СССР и мира. Карты географические, политические, не игральные. Любимое было занятие - их рассматривать. Играли в страны, города, реки, моря, озера, рвались сердчишками в дальние пределы, где знойные пустыни, вулканы, горы под снежными вершинами, чудовище озера Лох-Несс, джунгли, Арктика и Антарктида. Писал задачи на жизнь лет в 10-12: «Побывать на Северном и Южном полюсе», а вот не побывал, обманул ожидания отрочества. Но поездил, Боже мой, сколько же ездил. Весь Союз: от Кенигсберга до Камчатки, от Североморска до Крыма (весь исходил), Урал, Сибирь, вся Европейская Россия...нет сил перечислять все города и веси, где вольно или невольно бывал, живал, вспоминал потом.
Выделяю для себя три главные части жизни, которые даже были одновременны, они очень много дали для спасения души, для трудов, это: двадцать лет участия в Великорецком Крестном ходе, одиннадцать поездок на Святую землю, поездки на Синай, вообще на Ближний Восток, Сирия, Иран, Иордания, Египет, Тунис. Изъездил и всю Европу, но она дала мне гораздо меньше, чем Ближний Восток. А вот Монголия и Япония - это страны, у которых надо многому учиться.
Счастлив сбывшейся, опять же детской, мечте - стать моряком. Да, это было со мной - пятикратно стоял под ветрами и звездами на верхней палубе и приближался к Святой земле. День и ночь охраняли дельфины.
Особо выделю преподавание в Духовной академии. Не я что-то давал студентам, а они мне. И незабвенная библиотека Академии. Красавицы Лидия Ивановна и Вера Николаевна.
И пеший ход в Лавру после октябрьского расстрела Верховного Совета.
АЛЕКСЕЙ ВАНИН
Актер Алексей Ванин по сути никогда не был актером, занимался вольной борьбой. По всем статьям подходил. Большущий, сплошные мускулы и одновременно веселый, общительный, начитанный. Завоевал звание чемпиона мира по вольной борьбе. И о нем написали сценарий «Чемпион мира». И его снимали в роли чемпиона мира. И он, получается, играл самого себя. То есть не играл, повторял прожитое. Он говорил: «Я когда увидел себя на экране, я так хохотал! Мне казалось, что это не я».
Фильм Шукшина (оба алтайцы) «Калина красная» держится в нравственном смысле образом Петра, брата Любы Байкаловой. Роль играет Алексей Ванин. Не бывший зек Егор Прокудин, никак не решающийся встретиться с матерью, а именно герой Ванина, сильный, спокойный в своей народной правоте, держит уровень русской жизни. Именно он сметает с причала на своем грузовике эту нечисть, эту шпану, убивающую человека, решившего жить нормальной жизнью. Выныривает, садится на кабину затонувшей среди реки машины, и видно, что уверен: он свершил нужное дело, а уж как к этому отнесутся всякие власти - это дело десятое. Кинооператор картины Анатолий Заболоцкий рассказывал, что актер заныривал в кабину утонувшей машины и по команде (дергали за леску) выныривал оттуда несколько раз.
Мы были дружны с Лешей с 1979-го года, года пятидесятилетия (всего-навсего!) Шукшина. Выступали на Пикете, в колонии, где снимались кадры «Калины красной», купались и в Бие и в Катуни. В одном месте подъехали к берегу, а в воде торчат бетонные сваи. А ехать в другое место неохота, да и жарища. Леша разделся, говорит: «Я тогда почувствую, что постарел, когда испугаюсь прыгнуть с обрыва в незнакомом месте».
И прыгнул!
И никогда он не постарел. Ему было уже девяносто лет, а он занимался с мальчишками вольной борьбой, проводил чемпионаты России. Находились добрые люди, помогавшие ему. Особенно предприниматель Левашов Юрий Александрович. Помню один такой чемпионат в Подольске. Я ничего не понимаю ни в вольной, ни в невольной борьбе, но мне было так интересно и полезно смотреть эти поединки, в которых побеждали сила и ловкость, но никогда не хитрость. За этим, за честностью борьбы Ванин очень следил.
Наградили победителей, пошли на банкет. Тут надо сказать, что на Лешу всю жизнь вешались женщины. Что называется, было на кого. Он - человек открытый, доверчивый, шел навстречу чувствам. В застольи жена (забыл имя) приревновала к девушке, которая явно набивалась во временные подруги. Леша иронично воспринимал знаки внимания, шутил. А жена взвилась: «Немедленно едем!» - «Зачем? Надо же посидеть с людьми, оказать уважение: чемпионат какой провели». - «Ну и сиди, а я уезжаю. Навсегда! Никогда не вернусь!» И так далее, словом, обычные слова обычной ревнивой жены». «Уезжай», - хладнокровно ответил Леша.
Он посидел еще часик для приличия и засобирался. Пристающей красавице сказал: «Девочка, у тебя и без меня все впереди», - и поехал домой. Дома принял душ, лег в кровать.
Назавтра рассказывал: «Я же алтаец, таежник, охотник: и слух обострен, и чувства. Чую - кто-то есть. Затаился. Жду. Точно! - выползает. Хватаю - она! Вот дура из дур: заревновала до того, что приехала домой и залезла под кровать, чтоб меня подстеречь».
Да, вспоминаю Алексея Ванина - богатырь во всех смыслах! Девяносто лет, а красавец! Статный, крепкий, в полном сознании. Это Алтай, это Россия.
КОРФУ
Холод в номере уличный. Я вернулся с долгой прогулки по городу. Темнеет рано, но город празднично освещен: скоро европейское Рождество. Дома, деревья, изгороди, парапеты мостовой, - все в веселых мигающих лентах огоньков. Ветер и зелень. Длинная безконечная улица. С одной стороны море, с другой залив. Не сезон, пусто. Брошенные тенты, ветер хлопает дверцами кабинок. Берег покрыт толстым слоем морской травы. Волны прессуют его. Вроде бы и тоскливо. Но запахи моря, но простор воды, но осознание, что иду по освобожденной русскими земле, освежали и взбадривали. От восторга, да и от всегдашнего своего мальчишества, залез в море. Еще и поскользнулся на гладких камнях. Идти не смог, выползал на четвереньках. Ни полотенца, ни головного убора. А ветрище! О чем думаю седой головой? Поднимался по мокрым ступеням. Справа и слева висящие и мигающие гирлянды огней. Декабрь, а всюду зелень. Даже и фонарики бугенвиллей.
Группа моя у отеля. Надо было просквозить в номер, но неловко, и так от них убегал. Стоял, мерз, слушал. Гид: «Турки отрезали головы у французов и продавали русским. Русские передавали их родственникам для захоронения... Семьдесят процентов русских имен взято у греков. Но мое имя Панайотис в Россию пока не пришло».
Новость: нас не кормят. Надо самим соображать. «Ахи да охи, дела наши плохи, - шутит Саша Богатырев. - Пойдем за едой. Кто в Монрепо, а мы в сельпо. - Рассказывает, что пытались ему навязать якобы подлинную икону. - Говорят: полный адекванс. Гляжу - фальшак».
Я на скрипящей раскладушке. Боюсь пошевелиться, чтоб не разбудить соседей. Они всю ночь храпели, я сильно кашлял, надеясь, что их храп заглушает для них мой кашель. Встали затемно. Читали утреннее правило. Ехали по ночному городу. Справа темное, белеющее вершинками волн, море, слева, вверху, худющая луна и ковш Белой Медведицы. Полярная звезда успокаивает.
Службу вели приехавшие с нами митрополит и архиепископы, а еще много священников. Поминали и греческих иерархов, и своих. Храм высокий, росписи, иконы. Скамьи. Мощи святителя Спиридона справа от алтаря и от входа. Молитву ко причащению при выносе Святых Даров читали вслед за архиепископом Евлонием всей церковью.
Слава Богу, причастился.
Потом молебен с акафистом. Пошли к мощам. Для нас их открыли. Приложились. Ощущение - отец родной прилег отдохнуть. И слушает просьбы.
На улице ветер. Опять оторвался от группы. Время есть, сам дойду, без автобуса. Пошагал. Куда ни заверни - ветер. В лицо, в спину. Особенно сильно у моря. Но если удается поймать затишное место - сразу тепло и хорошо.
Конечно, заблудился. Никто не знает, где отель «Елинос». Это и не удивительно, это не отель, а в лучшем случае фабричное общежитие. А говорили: три звездочки. Да Бог с ними, не в этом дело. Мы у святого Спиридона, остальное неважно. А ему каково бывало? За ночь я окончательно простыл. И еще и сегодня ночь до перелета в Бари.
Наконец мужчина в годах стал объяснять мне дорогу на всех языках, кроме русского. Я понял, что очень далеко, и понял, что давно иду не к отелю, а от него. Он показал мне на пальцах: пять километров. Направление на солнце. Отличный получился марш-бросок. Заскакивал сходу в магазины и лавочки, чуть не сшибая с ног выскакивающих встречать продавцов. Вскоре заскакивать перестал, так как убедился, что европейские цены сильно обогнали мои карманы, и просто быстро шагал. Купил, правда, за евро булочку, да и ту скормил голубям.
В номере прежняя холодища. Кормить нас никто не собирается. Положенный завтрак мы сами пропустили, гостиничную обслугу не волнует, что русские до причастия ничего не кушают. Им это нравится, на нас экономят.
В номере прежняя холодища. Но у Саши кипятильник и кружка. Согрелся кипяточком, в котором растворил дольку шоколада.
Читал благодарственные молитвы.
Какая пропасть между паломниками и туристами! Перед ними все шестерят, а нам сообщают: «У вас же пост», то есть можно нас не кормить.
Но мы счастливы! Мы причастились у святителя Спиридона. И уже много его кожаных сапожков пришло в русские церкви.
ДВУХСКАТНАЯ КРЫША
На севере Вятского края, там, где водораздел северных и южных рек, то есть рек, которые несут свои воды или к Ледовитому океану или к южным морям, стоял дом с двухскатной крышей. В доме жил мальчик семиклассник Миша. Был хорошим помощником маме и папе, надежным товарищем. Учился хорошо, особенно интересовался географией. Это заметил учитель Павел Иванович. Давал Мише интересные книги о других странах, о природных явлениях.
- Ты уже знаешь, Миша, что наше село стоит как раз на водоразделе рек. А знаешь ли ты, что именно твой дом, он же на пригорке, именно он может быть указателем раздела. Я вообще думаю сделать табличку, чтобы люди знали это природное явление.
- И на нашем доме прибить?
- Именно так.
- Здорово!
В этот день Миша, вернувшись из школы, остановился перед своим домом и как будто впервые его увидел. Дом стоит окнами к востоку, к восходу, и у него двухскатная крыша. Одна сторона крыши обращена на юг, другая на север. Заходят они в дом с запада. У них в доме солнце весь день. С утра приходит в восточное окно, будит, потом идет по часовой стрелке и вначале, до середины дня, нагревает южную сторону. Вот на ней уже и снега почти нет. После обеда солнце переходит на западную сторону, а северную и вовсе не греет. Вон какие сугробы с этой стороны на крыше.
Было не холодно в этот день. Солнышко светило. Шел мелкий-мелкий снежок, снежинки вспыхивали на солнце, будто крохотные легкие зеркальца.
Миша всегда любовался на увеличенные фотографии снежинок. Такие чудесные! Ни за что никому не сделать такие узоры. Только кружевницы как-то успевали запомнить их красоту и создать такие узоры. В районном музее они видели кружева северных мастериц. Особенно восхищенно любовались ими девочки. Может, и они смогут потом вязать кружева.
Миша глядел на крышу своего дома и видел, как снежинки садились на нее. Вот это да, думал он. Две снежинки летели вместе, а упали на разные стороны крыши, и дальше судьба их разделяется навсегда. Одна растает, побежит вместе с ручейком к реке Лузе, а там к Северной Двине и в Белое море, Ледовитый океан. А другая к реке Вятке, Вятка к Каме, Кама к Волге, а Волга впадает в теплое Каспийское море.
Конечно, рассуждал Миша, есть круговорот воды в природе. Вода испаряется, поднимается, замерзает, кристаллизируется, ее носит ветром, и она опять падает на землю.
К ним в школу приходил батюшка и говорил о воде, как о Божием чуде.
- Трудно понять, что такое Святая Троица. Но когда это объяснить на примере из природы, то легко. Вот солнце - Бог Отец, круг. От него идут лучи, как посланники на землю, это Бог Сын. А от них тепло и светло - это Бог Дух Святый. Также и вода нам поможет. Вода - кровь земли. Колодец, родник, река, озеро - все вода. И вот зима, вода замерзает, но что такое лед? Это все та же вода в другом виде. А если воду закипятить, от нее поднимается пар. И это тоже вода, водяной пар. Он легко превращается в воду, вода легко замерзает и так далее.
А раз в году вода, на Богоявление, освящается везде, даже в водопроводе. И стоит в сосудах, не портясь долгое время. Но только если налита с молитвой и чистой совестью. Да, вспомнил Миша, бабушка также говорила. У нее такая банка есть со святой водой, и она из нее Мише наливала в кружечку.
Назавтра Миша с отцом сбрасывали снег с крыши, с северной стороны. За ночь он отвердел, его легко было резать на большие куски. Они с шуршанием ехали вниз и падали, разбиваясь на землю. Некоторые куски Миша специально перебрасывал на южную сторону. Чтобы таяли скорее и текли на юг. Интересно было: снег, составленный из снежинок, умрет, превратится в воду и никогда не вернется?
- Вернется, - весело говорил отец. - Ему наша крыша понравилась. Побудет водой, испарится, поднимется в холод, превратится в снег, и айда по розе ветров на север. Как нам без снега? Не в Африке же ему быть. Почему у нас, Миша, реки чистые? Они по полгода подо льдом очищаются. А представь реки Африки, Индии, да иди, попей из них. Не вернешься.
Они разговаривали о водоразделе.
- Вот повезло нам, пап, да? И табличку Павел Иванович сделает. Что тут раздел вод.
- И что тут живет Миша, который не выучил алгебру. А давай-ка мы новый скворечник соорудим. И старый подремонтируем.
С крыши было далеко видно. Да еще и дом стоял на высоком месте. Далеко на севере синел лес, на юге тоже. А вверху шли облака. Шли, куда повелевал ветер. А ветру кто повелевал? Роза ветров? А розу кто вырастил?
ПУТИ ВОСПИТАНИЯ
Они начинались не по велению государства. При своих небольших знаниях не припомню примера симфонии государства и человека. Государство и общество, государство и партия - куда ни шло. Но человек для государства или помеха, или рабочая (вариант: военная) скотинка. Таким оно его и выращивает. Особенно это видно в теперешние егэ-времена.
Пути воспитания шли так: Семья. Семья и церковь. Семья, церковь и государство. Церковь, семья и государство. Государство и остальное прикладное для него.
Ребенка обучала семья, потом семья и церковь. А государству было выгодно оттянуть детей и от храма и от семьи на свои нужды. Когда ему было воспитывать человека, который «держит сердце высоко, а голову низко»? Легче же быть у власти, когда у подчиненных пустая голова и сытый желудок (вспомним средневековый Китай), когда человека можно дергать за ниточки материальной привязанности к земным заботам. А вот когда церковь выращивала человека безразличного к земным благам, такой человек был земным властям страшен. Сейчас властям нужен человек всеядный в духовной ориентации.
Воспитанием решается участь человека. К чему он приклонится, что будет считать плохим, что хорошим, до какой степени будет управляем или будет мыслящим, легко ли его будет купить, перепродать, кем он будет по характеру: рабом, наемником или сыном по отношению к своим обязанностям. Все это решало воспитание.
Мудрость Божия видна во всем. Вот скворчики: скворец воспитывает справедливость - отталкивает прожорливого птенца и сует червячка слабому. Видел, как кошка не пускала к блюдечку шустрого своего сыночка, пока его пушистая сестричка медленно лакала молоко крохотным розовым язычком. Или: из детства. Приехал к дедушке, помогал плотничать. Садимся обедать. Много братенников, то есть двоюродных братьев. На столе общее блюдо. Я взял ложку и тут же полез ею зачерпнуть. Бра-тенники переглянулись, дедушка кашлянул. Я проглотил ложку и снова полез в блюдо. Дедушка вздохнул, и как ни любил меня, хлопнул своей деревянной ложкой по моему лбу. Не больно, но чувствительно. Урок на всю жизнь - не считай себя лучше других, другие тоже есть хотят, тоже едят заработанное, ты других не лучше.
Русь держалась семейными традициями. Сравним со Спартой, где государство определяло судьбу ребенка. И что было? Культ силы, дух соперничества, порождающий в одних превосходство, в других зависть. В русских семьях старшие заботились о младших. Равенство обеспечивалось равными наделами на пашню, рыбные ловли, сенокосные угодья. Посягательство на собственность каралось.
Христианство на Руси не унизило роль семьи, а возвысило. Семейнокровные отношения сменились религиозно-нравственными. Христианство возвысило женщину, оставив власть мужчине. Любовь внутрисемейная осветилась и укрепилась любовью во Христе.
Образование пришло от священников. Авторитет их был недосягаемо высок. Стоило преподобному Феодосию упрекнуть князя Святослава за веселый пир, как всегда потом при приближении старца застолье стихало.
Книги были только духовными. Они же были и учебными. Евангелие, Часослов, Апостол, Послания. Конечно, обучение грамоте, чтению, письму двигалось медленно, но недостаток ли это? Чтение Псалтири -это и грамотность, и наука жизни, и постижение Божественных начал. «Летопись» Нестора, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона можно назвать мостиком от книг духовных к светским. Но ведь и светские пронизаны христианскими истинами. «Пчела», «Измарагд», «Луг духовный», «Домострой».
Потом, со временем, как-то все заторопилось, засуетилось. Языки надо учить, манеры. Где эти вундеркинды, которые в три-четыре года читали, писали, сочиняли? Сломаны их жизни, эти поддержки раннего чириканья просто повредили. И детям и обществу.
Лучшая педагогика («Поучение Владимира Мономаха») - пример личной жизни. Как иконы в красном углу дома, так и пример поведения в красном углу воспитания. Вставать раньше солнышка, молиться, заботиться о нищих, уповать на Господа. Младшие безусловно подчинялись старшим, но не слепо, сознательно, любовь питалась своей главной энергией - заботой друг о друге. Разве могло быть такое, чтобы не оставили еды для тех, кто не успел к столу?
Всегда было противоречие меж исполнением побуждений совести и страстями жизни. Совесть - духовный голос Божий в человеке - забивалась тягой к материальным благам мира.
Мнение Льва Гумилева о благотворности татаро-монгольского ига для Руси в корне неверно. Какая благотворность, когда ордынцы - хитрейшие восточные люди - ссорили русских князей. В одном княжестве звонят колокола, в соседнем запрещены. В «Слове о погибели земли Русской» говорится о «красно украшенной» храмами Руси. То есть обилие храмов, А значит - икон, книг. Где это? И много ли домонгольских храмов? Спас на Нередице, Покрова на Нерли, Софии, Новгородская и Киевская, Успенский собор во Владимире...
И матерщина у нас от того времени. Стояли тогдашние монголы у церквей, надсмехались над православными: «Идите к своей Матери!»
Да, во все века злоба к России, к русским, как к стране и людям, стоящим у престола Божия. Это самое верное объяснение всех нашествий - ордынских, польско-литовских, наполеоновских, гитлеровских, теперешних.
Знакомый старик, боевой моряк, сказал о новых нападках на нас: «Давно по морде не получали».
То есть, начав разговор о воспитании, закончу этим грубоватым, но точным замечанием моряка. Да ведь и оно от русского воспитания, от любви к родине и от сознания своей силы. Осознание это подкреплено верой в Божие заступничество за православную Россию.
Еще бы молиться нам покрепче да почаще.
КОРАБЛЬ
Вот уже и паспорта отштамповали, и вещи просветили, а на корабль не пускают. Держат в нагретом за день помещении морвокзала. Нам объяснили, что корабль досматривает бригада таможенников. Раньше таких строгостей не было. Ждать тяжело: сидеть почти не на чем, вдобавок жарища. Да еще и курят многие вовсю. С нами группа журналистов, а с них что взять? Хозяева жизни. В группе преимущественно женщины в брюках, и среди этих женщин некурящих нет.
Прямо виски ломит от этого дыма. Подошел к охраннику и попросил его, прямо взмолился, выпустить хотя бы у выхода постоять, а не в помещении.
- А потерпеть не можете? - спросил он. - Скоро уже отшмонают. Уже ваши угощение таможенникам понесли.
- Не могу, голова болит.
Он посторонился, и я вышел в южную майскую ночь. Стоял у решетки ограждения перед водой, видел в ней отражения зеленых, желтых и красных огней, слышал ее хлюпанье о причал и очень хотел поскорее оказаться в своей каюте, бросить сумку и отдраить иллюминатор, в который обязательно польется свежий морской воздух. И услышать команды отчаливания, начало дальней дороги.
Потом, когда отшумит провожающий буксир, когда утомленные расставанием с землей паломники и пассажиры тоже затихнут, выйти на палубу, быть на ней одному, ощущать подошвами большое, умное тело корабля и знать, что и луна и морские глубины соединились для того, чтобы сказать тебе: смотри, смотри, эта красота и мощь земного мира пройдут, старайся запомнить их.
И стоять на носу, слышать, как ударяются о форштевень и раздваиваются волны, как распускаются белые крылья пены, вздымающие корабль. Дышать, дышать простором, глядеть на небо, находить по звездам север, крестить родных и близких и Россию. И обращаться к югу, креститься на него, вспоминая Святую землю, и замирать и надеяться на новую с ней встречу. И радоваться, что она начинает приближаться.
Но как еще далеко и долго. Но не пешком же. Даже не под парусами. И хорошо, что далеко, хорошо, что долго. Будут идти дни и ночи, солнце станет жарче, а луна крупнее. В Черном море будут прыгать дельфины, а в Средиземном заштормит. Далекие острова будут проплывать у горизонта, как во сне. Звезды каждый вечер будут менять расположения, Большая Медведица снизится, Полярная звезда отдалится, и однажды утром покажется, что ты всегда живешь на этом корабле.
* * *
Через две недели. Уже за кормой Святая земля. Корабль уходит в закат. Слева возникает широкая лунная дорога. Сидел на носу, глядел на мощные покатые волны. В памяти слышалось: «Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих». И: «Вся высоты Твоя и волны Твоя на мне проидоша».
На воде голубые стрелы света. Зеленое и золотое холмистых берегов. Не хочется уходить в каюту. Приходит, появляется звездное небо, будто меняется покров над миром. Шум моторов, шум разрезаемой воды, как колыбельная. Но почему-то вдруг глубоко и сокрушенно вздыхаешь.
ТАМАНЬ, ТАМАНЬ
А, может быть, и в самом деле не надо больше ездить в Тамань. Может, и права Надя: «Я не хочу в Тамань, я там буду все время плакать». Может, и мне пора только плакать.
Тамань - самая освещенная в литературе и самая неосвещенная в жизни станица. Во тьме Таманской я искал дом, где меня ждал Виктор Лихоносов. Меня облаяли все таманские собаки, да вдобавок чуть не укусили, да я еще и чуть не выломал чей-то близкий к ветхости забор, зацепившись в темноте обо что-то. Полетел вниз и почуял, что упал на что-то живое, которое шевельнулось и спросило: «Мабуть, Микола?» Мы оба встали. Я разглядел усатого дядьку и спросил, где такой-то дом на такой-то улице? Казак был прост как дитя природы: «Пойдешь от так и от так, трохи так, и зараз утуточки». Давши такую директиву, казак рухнул в темноту на свое прежнее место и исчез. Для семьи до утра, для меня навеки.
А я-то, наивный, считал, что знаю Тамань. Я тыкался и от так и от так, и бормотал строчку из лихоносовской повести: «Теперь Тамань уже не та». То вспоминал студенческие стихи первого года женитьбы: «Табань! Весла суши! Тамань - кругом ни души. “Хочу вас услышать, поэт”. - Кричу. Только эхо в ответ. К другим гребу берегам, к родным, дорогим крестам. Нигде не откликнитесь вы, к звезде не поднять головы. Не новь к отошедшим любовь, но вновь на ладонях кровь».
Тамань, Тамань, как ты велика в моей судьбе, как высоко твое древнее небо! Ничто не сравнимо с тобою. Вот литература! Разве хуже другие берега полуострова, разве не наряднее другие станицы, разве нет в них контрабандистов, да вот только не побывал в них поручик Тенгинского полка.
Ах вы, рабы Божии, Михаил и Виктор, за что ж вы перебежали мне дорогу? Разве не больше у меня прав писать о Тамани? У меня же и жена и теща таманские, а вы - птицы залетные. Один написал, другой влюбился в написанное, да и сам написал. Да и так оба написали, что после вас и не сунешься. Классики - это захватчики. Был в Риме. И что написал? Ничего. Почему? Потому что до меня побывал Гоголь.
Но спасибо Лермонтову: Тамань для меня не тема для литературы, место рождения нашей семьи.
ВЕНИК ЖЕНСКОГО РОДА
А ведь правда, веник похож на маленькую худенькую женщину в платье с широким подолом. Говорят же: подолом подметает. Вон какой сверкающий паркет в залах дворцов, в которых проводились балы. Танцевали и подолами глянец наводили.
Думаю так, вернувшись в Никольское и отыскивая веник. А до того был в Северной Африке. Иду по ней - здрасьте! Наш, никольский скворец прыгает по ней, пасется на солнышке.
- Ах ты, - говорю, - вот ты где ты. Ты тут не загостился? Ты почему к нам весну не несешь? Ты давай, лети в Россию, тащи туда солнышко, а то там без тебя ничего не зацветет.
- А сам-то ты чего здесь? - спрашивает скворчик. - За мной что ли прилетел? Ладно, возвращайся, скажи воробьям, чтоб скворечник освобождали.
Я даже подивился, откуда скворец знает, что у меня зимой в скворечнике воробьи живут.
Ну вот, я вернулся. Прилетел на самолете, крыльев у меня нет. Сразу в Никольское. Все, конечно, запущено. Колодец в снегу, сарай протекает, баня внутри в ледяной плесени. Герань в доме вся пожелтела. И веника никак не найду. Ладно, начну с бани. Неужели сухих дров совсем нет? Нашел, нашел. А топор где? О, этот топор такой лодырь, похлеще веника... Конечно, под лавкой. Рублю дрова. Зря его обзывал лодырем, очень он ухватистый, сноровистый. И меня любит. Пила опять куда-то ускочила.
Нашел за поленницей. Ну вот, украсились золотинками ржавчины. Специально что ли в сырости лежала? Ничего, вот это бревнышко перетрем, прочистишься.
А печь-то как простужена, только что не кашляет. Затопил. Дым в трубу не хочет идти, меня хочет удушить. Глаза от него дерет. Ничего, поплакать полезно. Печка про меня думает: «Поплачь, поплачь, сколько я тут без тебя плакала».
Ну, вроде горит. Аж потрескивает. Дым вытянуло. Пар поднимается от плиты.
Теперь колодец. Конечно, шланг перемерз. Да не на конце, а в середине, где соединение шлангов разного диаметра. Кипячу воду в чайнике, лью кипяток в шланг. И внутрь, и сверху поливаю. Еще вскипятил, еще размораживаю. Вот побежала водичка. Накачиваю воды в бак на лавке и в бак на плите. Воздух в бане чувствительно греется.
Пора и домом заняться. Ну и где ты веник, лучше сказать: метелка, - где ты, вертихвостка? Именно женский у тебя характер. Забился куда-то и смеешься надо мной. Думаешь: «Пусть твоя хозяйка сама надевает русский сарафан, да и метет своим подолом». Нашел! Еще же и совок нужен. А этот совок, прошу прощения, такое нечто. Да, в «совковое» время такой дряни не делали. Были и дешевле и лучше. А этот штамповка пластмассовая, - конечно, уже с трещинами.
Пришел соседский кот. Старый, как и я. Налил ему молочка. То ли кот сытый, то ли молоко совсем не молоко, не ест. Ну ладно, пойдем Ральфа навестим. Тоже старичок. Выполз из будки, мотает тяжелым хвостом. Я им рассказываю, что видел скворца. «Ты, Бусик, только посмей к скворечнику полезть! Только посмей! - Жмурится, мигает, изображает невинного, будто и не лазил к скворечнику. - Я тебе помигаю!»
На кормушке сидит воробей. Всем им рассказываю:
- Вы знаете, как скворцу долго и трудно лететь. Он же мог и в Африке жить остаться, гнездо свить. Нет, нас любит, к нам летит. А мы как встретим? Один лает, другой за скворчатами охотится. А ему как далеко добираться. Два моря, Украина, Белоруссия, по середине Днепра полетит, нигде не остановится, именно к нам стремится. Скворчиху тут найдет. И ты, воробей, перезимовал в скворечнике и честь знай, хозяину место освобождай. Ты же у меня из бани паклю таскаешь. Пожалуйста, не жалко. Со скворцом больше не дерись, правда на его стороне.
Топится баня. В доме чисто. Лампадка горит в красном углу, иконы освещает. Слава Богу, нечисть в дом не заползет. Зеленеет на окне герань. Смирно стоит у порога веник, рядом совок. Топор молодецки воткнулся в пень, готов к новым трудам. Блестит пила, отчищенная работой.
Будем дальше жить. Все вы у меня хорошие, вещи и птицы, и собака, и кот. Просто вы тоскуете без меня, вот для начала после разлуки немного капризничаете. Этоя виноват - уезжал. Но пока не получается не уезжать. А как бы хорошо, сидел бы в валенках на крыльце да кормил бы всех вас.
ДУНАЙСКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Север Болгарии, Силистра, набережная Дуная, осень. Я сижу у стоящего на постаменте танка Т-34 и страдаю. Накануне был торжественный вечер, перешедший в еще более торжественную ночь. Здравиц пять или больше я сказал о русско-болгарской дружбе, мне отвечали тем же. Мои сопровождающие переводчики Ваня и Петя курили и хлопали кофе, делать им было нечего, в Болгарии все, по крайней мере тогда (это было в 1985 году), понимали по-русски. Конечно, пели: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок», конечно, клялись в любви до гроба. Под утро я упал в своем номере, но вскоре вскочил. Меня подняла мысль: я еще не умылся из Дуная.
До чего же я любил Болгарию! Все в ней незабываемо, все такое прекрасное, женственное: и юг, и побережье, и горы. В ушах стояло птичье разноголосие Среберны, в памяти зрения навсегда запечатлелись скальные монастыри, Купрившиц, Сливен, Пловдив, Русе, Жеравна, Велико Тырново, Варна. Теперь вот Силистра, Дунай. Но до Дуная еще надо было пройти метров сто. Я решил посидеть у танка, все-таки свой, уральский, может, даст сил. Дал. Я немножко заправился из посудины под названием «Каберне», вздохнул и огляделся. Осень. Ну, осень - она везде осень. Листья падают под ноги деревьям, шуршат. Хорошо, тихо.
Ощущение счастья охватило меня. Никого не обидел, никому не должен, ни перед кем не виноват. Все проблемы потом, в России, а пока счастье: дружба, братство, любовь и взаимопонимание. Тем более до обеда свобода, безпривязное содержание. Искать не будут, я оставил записку Ване и Пете. Да, ведь Ваня и Петя - это не мужчины Иван и Петр, это женщины, это имена такие женские в Болгарии - Ваня и Петя. Переводчицы мне достались непьющие, но зато непрерывно курящие. Едем с ними - курят без передышки, я погибаю. Вот остановили машину, вышли. «Ваня, кури, пока стоим, Петя». - «На воздухе неинтересно, - отвечают Ваня и Петя, - надо же иногда и подышать». Садимся в машину, они начинают смолить. Да еще обе пьют страшное количество чашек кофе. А так как я кофе совсем не пью, то это для Вани и Пети очень подходит. Они на меня заказывают сразу четыре чашки, а потом эти чашки у меня утаскивают. А заказать чай, по которому тоскую, вроде уже неудобно, поневоле хлещу сухие болгарские вина.
Увы, вчера были не только они. Но сегодня, решаю я, только сухое. Вон его сколько в номере, надарили, целая батарея. Хотя бы до обеда только его. На обеде, а тем более вечером, все равно пить и говорить здравицы о дружбе. Не тосты, именно здравицы. Тосты - слово, нам навязанное. Тем более болгары, поднимая бокалы, говорят: «Наздрав!»
Ну, наздрав, говорил я себе, все более оживляясь от солнечной виноградной лозы. Наздрав! Наздрав-то наздрав, а одному становилось тоскливо. Да, умыться же из Дуная. Я прихватил начатую бутылку и еще одну и быстро пришагал к берегу. Спустился к воде. Недалеко рыбак возился у лодки.
- Доброе утро, брат! - крикнул я.
- Добро утро! - откликнулся он.
Вот с кем выпью. А пока умоюсь. Есть же славянская примета: умыться за год из двенадцати рек - и помолодеешь. А Дунай надо считать за три реки, не меньше: по всему же славянскому миру течет.
- Эй, эй! - услышал я крик. - Не можно, не можно! Химия, химия!
- Что делать, везде экология, - сказал я, подходя к рыбаку.
Мы поздоровались. Рука у него была могучая. Но и я не поддался, тоже крепко тиснул.
- Нож у тебя есть? А то я первую открывал, палец чуть не сломал.
У него были и нож, и штопор, и стаканы. Правда, не граненые, пластмасса. Звуку от чоканья не было, но выпили от души. И допили от души.
- Слушай, - сказал я, - у меня еще одна есть. Но знаешь чего, давай ее выпьем в Румынии. Я везде был, а в Румынии не был. Или пристрелят? А?
- То можно, - сказал рыбак.
Мы столкали лодку на воду, сели. Мотор взревел, мы понеслись к румынскому берегу.
- Вот тут, - кричал я, - наш Святослав, киевский князь - слышал? -сказал: скорее камни со дна Дуная всплывут, скорее хмель утонет, нежели прервется русско-болгарская дружба! Вот тут, именно тут.
- То так! - кричал и кивал головой рыбак.
Обдуваемый ветром, обдаваемый брызгами, я чувствовал себя превосходно. И продолжал просвещать рыбака:
- Отсюда - именно отсюда, понял? - от Суворова ушла депеша, донесение Екатерине, императрице, - слышал? Депеша: «Слава Богу, слава нам, Туртукай взят, и я там». Турок гнал отсюда. А Святослав печенегов изгонял. Его предали, Святослава.
- Предал кто?
- Кто! Свои, кто! Славяне. А в эту войну наши гнали отсюда фашистов, вот! А теперь мы с тобой тут собрались.
Лодка ощутимо ткнулась в отмель, я даже со скамьи слетел. Вытащили лодку на берег. Не успели изъять пробку, как подошли трое румын. Но не пограничники, тоже, может быть, рыбаки. Они по-русски не говорили, рыбак им объяснил, что я из Москвы. Восторг был превосходительный. Но что такое бутылка сухого на пятерых, это несерьезно.
- Гагарин, - кричали румыны, - спутник, дружба! - И все примеряли на меня свои цыганские меховые шапки.
Дружба, оказывается, была не румыно-советская, а нефтепровод «Дружба», спасающий страны Варшавского договора.
Дружба дружбой, а одними словами ее не укрепишь. Мужики смотрели на меня как на старшего брата в социалистическом содружестве, как на представителя сверхдержавы, защищавшей их от нападок империализма, да и просто как на человека, экономически способного оплатить продолжение радости.
- Выдержит твоя лодка пятерых? - спросил я рыбака. - У меня только болгарские левы.
- Хо! - отвечал рыбак. - Левы они любят. Лишнего не давай.
Самый молодой румын умчался и примчался мгновенно. Принес
какое-то «Романешти». Оно было хуже болгарского, но крепче. Очень интернационально мы выпили. И еще этот румын сбегал. И еще.
- Парни, - сказал я, - меня эта песня про Дунай заколебала. Давайте споем, а то она из меня не выветрится. Диктую: «Вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду венок. Утренней Венгрии дар принимая, дальше помчался цветок. Этот цветок увидали словаки...» Я, правда, не понимаю, как мадьярка бросила венок, а дальше поплыл цветок, но неважно. Давайте разом. Три-четыре!
- Мадьяры - тьфу! - сказал один румын.
- Тьфу мадьяры, тьфу, - поддержали его два других.
- И словаки - тьфу! - сказал румын.
- Хватит тьфу, - сказал я как старший брат. - Давай еще беги.
Вскоре мы дружно ругали и Николае Чаушеску, и Тодора Живкова, и особенно крепко Брежнева. Оказалось, что все мы монархисты. Это сблизило окончательно. Правда, румын время от времени плевался и сообщал, что и поляки - тьфу, и чехи - тем более тьфу, а уж немцы - это очень большое тьфу, такая мать. Румын ругался по-русски.
- И сербы, и албанцы...
- Сербы не, - возразил мой рыбак. - Албанцы - то да, сербы - не.
Время летело. Начали обниматься, прощаться, меняться часами и
адресами, В знак признательности румыны забежали в воду, провожая нашу лодку. С меня содрали оброк за то, что уезжаю.
Лодка наша петляла по межгосударственному водному пространству, будто мы сдавали экзамен на фигурное вождение. Румыны нам махали своими шапками.
На берегу... на берегу меня ждали Ваня и Петя. Конечно, меня легко было вычислить - русских тянет к воде. Я закричал им по-болгарски:
- На дружбата на вечната на времената! Ура, товарищи! Каждой по пять чашек кофе, и немедленно. Я был в Румынии, чего и вам желаю. Там я вам нашел по кандидату в мужья. Мне же вас надо отучить от сигарет и кофе и выдать замуж к концу визита. Милко, жаль, ты женат, пошли с нами. Или грузим Ваню и Петю - и в Румынию!
- Румыны - тьфу, - сказали Ваня и Петя.
- Тьфу румыны, - подтвердил мой рыбак.
- Да что вы, японский бог, - сказал я, - Варшавский же договор. Так на кого же тогда не тьфу? Чур, на Россию не сметь. СССР - одно, а Россия, Россия - это очень даже одно. Вот! - воздел я руки к небу в подтверждение своих слов - по небу проносился сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ.
- О, только без самолетов, - сказала Ваня или Петя, я их путал.
- Хорошо. Допустим. А допустить турок, вас истребляющих? А пляски печенегов и питье из черепа славян, а? Было же. Так само и буде, так?
- Вы, русские, сильно всех учите, вот в чем наша претензия, - сказали переводчицы.
- То так, - поддакнул им мой рыбак.
- Теленка, - отвечал я, - тоже тащат насильно к вымени, а не подтащишь, умрет. Да, диктуем, тащим, значит, спасаем. Значит, перестрадали больше всех, испытали больше. Но и у вас учимся. Я ваши скальные монастыри навсегда запомню. Только почему они у вас уже не монастыри, а музеи?
- Вопрос из области диктата.
- Какой диктат - пожелание воскрешения церковной жизни. У меня диктат один - чтоб вы не курили, вы же черные уже внутри.
Мы уже сидели в прибрежном кафе. Петя и Ваня молча и оскорбленно пили кофе и курили.
- Хорошо, - нарушил я молчание, - все плохи, одни болгары да русские хороши. Но ведь это тоже гадательно. Мы для вас диктаторы. А мы, между прочим, вас любим, что доказывали. Вот тут Святослав, древнерусский князь...
- Ой, не повторяй, - сказали Ваня и Петя, - ты вчера это произносил. И про Суворова произносил. И про танк...
Она дернула плечом в сторону Т-34.
- И мне произносил, - настучал на меня пьяный рыбак.
- Тогда немного филологии, - повернул я тему. - Вы - русистки, слушайте. И следите за ходом рассуждения. Вот я, вы же помните, во всех монастырях, церквях, куда мы заезжали и заходили, я же там читал все надписи совершенно свободно, особенно домонгольские. Да даже и ближе. Так же и в Чехословакии, и у чехов, и у словаков. Но современный болгарский для меня непонятен. То есть? То есть я к тому, что мы раньше были едины и по языку, и по судьбе. А судьба - это суд Божий. Потом, может быть, со времен Святослава, может, позже, мы стали отдаляться. То есть своеобразное славянское вавилонское столпотворение. Мы стали расходиться, перестали понимать друг друга. Так?
- То так, - подтвердил пьяный рыбак.
- И что же должно произойти, чтобы мы стали вновь сближаться, что? - вопросил я. - Какое потрясение, какой, так сказать, катаклизм?
Неужели дойдет до такого сраму, что кого-то будут из славян убивать, а остальные будут на это взирать? А?
Ваня и Петя прикончили кофе, докурили. Утопили окурки в чашках из-под кофе и объявили, что мне пора на званый обед.
Так что приходилось идти пить за дружбу. Между славянами.
С ВОСТОКА СВЕТ
Уж, казалось бы, за шесть тысячелетий человечество опытным путем исследовало все пути жизни человеческой. И индивидуальной и общественной. Но почему же ни человек, ни общество никак не становятся умнее? Ведь только дураки могут позволить надеть себе на голову узду так называемого мирового порядка, а на шею - хомут так называемых общечеловеческих ценностей.
Там, где этот порядок, как правило, насильно внедряется, льется кровь, ломается устоявшийся быт, рушится национальная культура, отчаяние и безысходность овладевают душами людей.
В самой главной войне истории человеческой цивилизации, Великой Отечественной, был побежден фашизм. Казалось, навсегда. Но вот он опять являет свой звериный лик, сопровождая и охраняя шествие по миру «мирового порядка».
Так кто же или что же остановит нашествие фашизма новых времен? Без этого миру спокойно не жить. Такие времена настали, что никто даже и не заикается о светлом будущем. Какое светлое? Какое будущее? Мы же постоянно видим, что человек становится не лучше, а хуже. Где эта хваленая эволюция?
Нет эволюции. Если и есть, то только со знаком минус. Какой позор для просвещения России, что в школе доселе преподается происхождение жизни от одноклеточных! Это явный признак того, что учебники биологии писали одноклеточные. Ведь человек не от обезьяны, его Господь Бог сотворил.
Но откуда же взялся фашизм? И неужели кто-то еще думает, что его можно остановить дипломатией, экономикой, деньгами, оружием? Все перепробовано, и все не помогло. Его остановит единственное - обращение западного мира к Иисусу Христу.
Так откуда же взялся фашизм? Где его корни?
Распятие и Воскресение Христа - это не история, это непреходящий центр мировой жизни. У Бога нет времени, он вечен и безконечен, всегда был и всегда будет. Он любит нас, дал нам свободу выбора. А на что ее тратит человечество? Мы, православные, живем для соединения с Богом, это главное наше отличие от теперешних наших недоброжелателей.
А остальной мир? В этом мире уже не стыдно, а почетно быть гомосексуалистом. А отчего погибли города Содом и Гоморра, Помпея, разрушен Карфаген? Именно из-за Божьего гнева к этой мерзости. И что, Богу трудно еще пару раз тряхнуть землю под нечестивцами?
Времена раннего христианства. Гонения на христиан. Кровь, пытки, костры, казни, звери разрывают верующих... и что? Учение Христа только усиливается. Ибо люди видят великую награду для мучеников -жизнь безконечную.
Иудеи - враги Христа - видят безполезность физических гонений на христиан и идут по пути хитрому, иезуитскому - изгоняют из Священного Писания его христологичекую основу. Убирают из Ветхого Завета книги Маккавеев, Пророка Исаии, других, говоривших о приходе в мир Сына Божия, уродуют сердце Ветхого Завета - Псалтирь, изгоняя из нее все, что говорит о спасении. Оказывается, Бог не воскрес, а «проснулся». Делают так называемый масоретский перевод Библии, который стал основой для латинского его варианта - Вульгаты.
Мы, слава силе Твоей, Господи, получили перевод Писания, выполненный семьюдесятью толковниками, так называемую Септуагинту, сохранившую чистоту первоначальных источников священных книг.
Итак, западный мир стал жить без Христа, а что из этого получилось, мы видим воочию. Держат его на плаву только доллар, дубинка и наглость.
Вообще думающие люди Запада, а они и там были, где-то к средним векам стали соображать, что что-то неладно: Писание есть, а миропорядок рушится. Стали с тоской вспоминать античность и ее возрождать, и время это доселе слывет как время Возрождения. Но какое там возрождение? Возрождалось дикое язычество. Ну да, Парфенон, Фидий, фаюм-ский портрет, олимпиады, театр... Но ведь все это без центра, без Единого Бога. Богов на Олимпе много, да нет симфонии: Геба ветрена, Гефест хромает, Посейдон мокрый, Афина на охоте, Афродита у зеркала...
Не получилось у Запада никакого возрождения: продолжались войны, грабежи, работорговля, золотишко заехало в красный угол. Спастись бы от этого молитвой, но кто будет молиться, у кого она сильна? В монастырях разврат. Дошло до того, что от греха стало можно (и модно) откупиться. Купи индульгенцию, получи квитанцию и иди, греши. Кстати, Лютер восстал как раз против индульгенций. Протест честного человека. Но потом он поставил в основание протестантизма не Восточную Церковь, а понятие прихода - и что? И стали протестанты плодиться без передышки. У всех своя платформа, свои вожди, и все, конечно, по-своему правы. А это как раз признак сектантства.
Энциклопедисты выбивались из сил, доказывая, что можно прожить без Бога. Особенно сатанист Вольтер. Да и Руссо, и Дидро. Руссо: «Главная привычка - не иметь никаких привычек», - искалечил «зеркало русской революции». Лев Толстой даже образок с изображением Руссо на шее вместо крестика носил. Увы, сильны бесы, слушали больше их, а не здравые умы Гете, Ломоносова, Державина, Пушкина, святых. И позднее - хорошо ли читали Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, Леонтьева, Ильина? А Данилевского?
Вернемся в XVIII-XIX века. Думали, думали западные умы, что же спасет мир. Додумались - чувства, воспитание чувств! Джон Локк доказывал, и это вроде правильно, ведь именно чувствами мы познаем мир. Но одному холодно, другому в это же время жарко, одному недосолено, другому пересолено. Одному верста коротка, другому и аршин длинен. Словом, как в присказке, один говорит: стрижено, другой: брито.
Кант, Гегель - эти взялись за разум. И тоже верно: кто управляет чувствами? Разум. Но и с разумом незадачка, он же разный у всех. Опять перессорились.
Далее замаячили Шопенгауэр, Ницше. Эти ребята посерьезнее. У них есть железное слово: воля. Воля, она разгуляться ни чувствам, ни разуму воли не даст. И вот как раз тут-то диавол и высовывает на свет теорию происхождения видов Дарвина. О, какое ликование было в стане безбожников! Не Бог нас сотворил, не Бог, от обезьяны мы. Кстати говоря, ведь они это о себе говорили: доселе эти потомки шерстяных тварей цепляются за всякие черепа неандертальцев, за коллайдеры. Что угодно, лишь бы без Бога обойтись.
Без Бога хотели дойти до образа сверхчеловека. Как иначе: от инфузории-туфельки дошли до человека, надо дальше идти. Отсюда и фашизм, он от обезбоженности. Шли к человеку, дошли до озверения.
Не спасали конституции: где конституция, там безправие. Не спасали банки: где банки, там нищета; не спасали партии: где партии, там интриги, склоки, вранье и т.п. Миром правила и правит жадность: к власти, к богатству, к пространствам, к славе. От Бога установленная система монархической власти была свергнута революциями, и если где она еще осталась, то в картонном, декоративном виде, а не в настоящем, когда царь - единовластный хозяин и отец нации.
Неужели еще кто-то из простаков верит, что демократия создана для людей? Создана для их безправия, унижения, ограбления. Царствует при ней, особенно в России, диктатура воровства. А что нас жалеть, сами же в нее верили. Кому верили? Чикагским мальчикам, Горбачеву? Пьяному руководителю с лицом ресторанного вышибалы? Почему же не верили, не вняли святому Иоанну Кронштадтскому, сказавшему на все времена: «Демократия в аду». В аду и живем. Так нам и надо.
В сверхчеловеки славян не пустят: черепа (по теории Ломброзо) не подойдут. В сверхчеловеки нам, славянам, нельзя, мы недочеловеки, ун-терменши, нам хватит водки, табака и балалайки. Да еще егэобразного обезьяньего образования. При котором так и не научишься читать и писать, а только будешь тыкать в кнопки, утыкаться в большие и маленькие экраны, любоваться развратом, ржать над пошлостью и мерзостью «камеди-клабов», поглощать синтетику и отраву современной пищи, пить, курить и колоться. И верить, что Россия способна развязать войну. И что фашистов победила Америка. И что педерасты - это хорошо, а целомудрие - плохо.
В мире одно противостояние: кто за Христа, кто против. Все остальное прикладное.
Фашизм не победить, пока Запад не обратится ко Христу. Это единственное условие. Все другое от лукавого.
И не надеяться, что мы скоро его победим.
Молиться надо! Спаси, Господи, Россию, Дом Пресвятой Богородицы!
ДАР СВЯТОЙ ГОРЕ
Благочестивые благотворители, рабы Божии Александр Борисович, Димитрий Гаврильевич, Николай Николаевич, Валерий Михайлович по благословению священноначалия заказали большую по размеру икону -«Всех святых в земле Российской просиявших» и в почетном и молитвенном сопровождении священников: отцов Геннадия, Георгия, Евгения, Петра, Сергия привезли ее в дар Афонской Святой горе. И, опять же по благословению, икона была доставлена в скит Ксилургу, скит Пресвятой Богородицы.
Почему в Ксилургу? Именно здесь было первое поселение русских монахов на Афоне. А скоро исполняется тысячелетие со времени начала этого пребывания. Слово «ксилургу» в переводе с греческого означает «древоделы». Это объяснимо - русские, приходящие из лесов матушки Руси, были искусными древоделами, плотниками, столярами. Много иконостасов, стоящих в храмах Святой горы, сработано русскими умельцами.
Здесь самый древний из сохранившихся православных храмов. Здесь кажется - рядом с тобою стоят все те, чьи останки сохранились в скитской костнице.
Но надо рассказать все по порядку.
* * *
В четыре утра собрались в Домодедово. Были уже там и иконы - в огромных, из толстой фанеры, футлярах. Одна, «Всех святых», в дар, вторую - образ святителя Николая Зарайского-Корсунского, везли, чтобы приложить к святыням Афона и повезти дальше, на Корфу и даже в Бари, в Италию, к мощам самого святого.
Познакомились, пошли оформляться. Аэропорт - такое огромное, растянутое пространство, что мы очень долго преодолевали его, будто шли пешком в Грецию. Потом процедуры досмотра, то есть просвечивание, обыскивание, проверка паспортов. Дело привычное, но с нами такой груз и такое количество священников, что внимание к себе мы, конечно, привлекали. Наконец, попали в помещение перед выходом на поле, названное жутким летным словом: накопитель. Накопились, погрузились в огромный автобус. Автобус так долго ехал, будто уже в нем, а не пешком мы двинулись на Балканы.
Рядом с самолетом наш автобус показался крошечным. Да, теперь уже все в этом мире подчеркивает малость человека. Но человек же сам сделал такую махину, которая заглатывает три сотни человек, еще многие тонны груза, и легко взлетает и несется выше облаков.
А в самолете мы огляделись и ахнули: а где Валерий Михайлович, а где Миша? Кинулись к старшей стюардессе. Успокоила - сейчас будут. И точно - входят. А оказалось у них все очень непросто. И искушение было, на грани срыва всего нашего путешествия. Дело в том, что Миша участвовал в работе поисковых отрядов на Кольском полуострове, на месте боев. Они свершали великое и скорбное дело - предавали земле останки бойцов. Но там же находили не только стреляные гильзы, но и целые патроны, гранаты, снаряды. Минеры обеззараживают снаряды, мины и гранаты, а на россыпи патронов и внимания не обращают. А Миша - обыкновенный мальчишка, взял на память пулеметный патрон. Все мы были мальчишками и этот поступок Миши мы все очень понимаем. И патрон этот Миша, как память о боях, всегда носил с собой. Тоже понятно. А на контроле аппараты запищали. Что это? Ручка? Сувенир? Патрон? Тут прапорщик-таможенник обрадовался случаю проявить бдительность. Да это же хранение и провоз огнестрельного оружия, да это же до восьми лет лишения свободы! Несовершеннолетний сын? Родитель сядет.
«Стою, молюсь, - рассказывал Валерий Михайлович, - молюсь святителю Николаю. Появляется офицер. Ему прапорщик: так и так. Он смотрит на Мишу, спрашивает: сколько лет. “Кругом марш! На посадку!” Это были такие минуты, такие! Вот когда чувствуешь силу молитвы».
* * *
Слава Богу, полетели. Рассвет в небе наступает быстрее, чем на земле. Безсонная московская ночь и усталость сморили, и очнулись мы уже в Г ре-ции. Но сразу никуда не могли уехать и были в аэропорту, в таможне, еще пять часов. Придирались к необычному грузу, ко всему, к печатям и бумагам. И ходили по пространству таможни очень не спеша, им-то было некуда спешить. Нам же, на удушающей жаре, без воды и еды, было прискорбно. Но мы - люди православные, любое препятствие воспринимаем как заслуженное искушение, и оттого нам всех легче переносить страдания.
В конце тягостных процедур был еще момент. Уже продели в края футляра проволочки, уже запломбировали, уже понесли. И одна проволочка оторвалась. Но хорошо, что при таможенниках оторвалась. Сменили, понесли к автобусу.
Водитель говорил по-русски:
- Меня в Москве считали грузином, в Грузии я - грек, а в Греции -русский.
- А сам ты кем себя ощущаешь?
Он, бросив руль, развел руками. Наверное, цыган - настолько он беззаботен был к управлению, приучив автобус к самостоятельности, как верного коня. Мы лихо неслись сквозь золотое и зеленое пространство. Девушка-гид щебетала о Греции. Конечно, у них, гидов, уклон всегда в античность. Олимп, Зевс, Гефест, Афродиты всякие, Ариадны да Пенелопы. Прометей. Направо, через залив, горы Олимпа. Вспомнил юношескую строчку: «Мои кастальские ключи текут из-под сосны». Начитанный был, мечтал напиться из кастальских ключей, которые где-то здесь. Да, чуть подальше и налево - родина Аристотеля. Вспомнил я, как ночевал в отеле «Аристотель» в Уранополисе и на ночь глядя вздумал пойти искупаться. Море сверху казалось так близко, но на деле оказалось далеко, да еще для сокращения пути продирался напрямик. Стемнело быстро, как темнеет на юге. Упал и исцарапался, но до воды добрался. И влез. И добавочно поранил ногу, и все эти царапины и ушибы свидетельствовали об одном - пошел к морю без благословения.
Надеялся я и сейчас свершить омовение у причала. Батюшки благословляли и сами собирались сделать заплыв. В Уранополисе около причала, у древней сторожевой башни, есть крохотный пляжик. Тем более мы уже все равно опоздали на паром, и время для купания было. Но наши благодетели, измученные таможней, более не захотели ждать и наняли два быстроходных катера. Мы внесли на них иконы.
Катера понеслись. Так рвануло ветром, так резко упал дождь, что мы забились в крохотные каютки. Катера перегнали величественный паром «Достойно есть» и тряслись по волнам, как будто на телеге по булыжной мостовой. Снизу поддавало, по крыше колотило, и вдруг даже и забарабанило. Что такое? Оказалось - град. Море вокруг кипело. А я-то хотел братьям показать причалы Констамонита и Зографа, монастыри Дохиар и Ксенофонт. Где там! Только в водяном тумане, в брызгах от волн пронесся слева родной каждому православному сердцу русский Пантелеимонов монастырь. И совсем вскоре - главный причал Афона - Дафни. Тут и солнце засияло, и наступила благословенная тишь. И жара смягчилась последождевой прохладой. И таможня причала не стала придираться, а просто шлепнула свои добавочные печати на наши заштемпелеванные бумаги.
- Здесь таможня украинская, - шутит отец Геннадий из Херсоне-са. - Таможня - та можно.
Тут и монах знакомый, тут и машины, встречающие нас, тут и недальняя дорога к месту жительства, в келлию святого мученика Модеста Иерусалимского. Внесли иконы, открыли, поставили в приемной, она же библиотека, напротив входа в храм. Подходят монахи, крестятся, любуются, спрашивают, освящены ли иконы.
- Да, - Валерий Михайлович рассказывает об освящении икон в храме на Бутовском полигоне. - Это специально, по благословению афонских монахов. Икона «Всех святых в земле Российской просиявших» и храм на полигоне тоже «Всех святых». Там захоронения более трехсот святых новомучеников. А на нашей иконе пятьсот девятнадцать ликов святых. В том числе много святых нового времени, двадцатого века.
- Вот участь женщины - иконописца, - говорит Валерий Михайлович, - написала икону для Афона и больше никогда ее не увидит.
Икону рассматривают, прикладываются к ней и единодушно одобряют.
- Кому вы ее подарите?
- Святой горе.
- А именно?
- Как настоятель благословит.
Настоятель, отец Авраамий, будет завтра. А у нас начинается монастырская жизнь.
Для начала необходимо сказать о святом Модесте, чьей памяти посвящена келлия. Он жил в тяжелое время нашествия персов на Палестину. Начало VII века. В Палестину вторгается персидский царь Хозрой, топчет земли христиан. Иудеи вступают с ним в союз, выкупают у персов пленных христиан, но не для освобождения, а для того, чтобы убивать. Именно тогда были уничтожены почти все монахи Лавры Саввы Освященного. Патриарх Иерусалимский Захария был уведен в плен. А святой Модест был тогда настоятелем монастыря святого Феодосия. Это недалеко от Лавры.
Модест безбоязненно вошел в Лавру, в которой еще дымилась кровь жертв. Он собирал тела убиенных, и предавал их земле. Доныне паломники поклоняются усыпальницам Модеста. Не опасаясь злобы иудеев, святой Модест восстанавливал Голгофский и Вифлеемский храмы. Был фактически местоблюстителем Патриаршего престола. Патриарх Захария посылал ему из персидского плена письма. Через четырнадцать лет византийский император Ираклий победил царя Хозроя и Захария вернулся из плена и был еще какое-то время на патриаршем престоле. А по его кончине Иерусалимским Патриархом стал святой Модест. Он прожил почти сто лет и оставил по себе благодарную память своим богоугодным жительством.
Мы размещаемся по келлиям, идем в храм на молебен с акафистом. Потом ужин, повечерие. Все такое знакомое и такое радостное. Только и боишься, что не хватит сил выстоять. Но, слава Богу, ноги пока держат. Устают, конечно, но есть для облегчения их участи стасидия - кресло с высокими подлокотниками, в нем и стоять можно, и сидеть, и полусидеть.
Монашеские молитвы незабываемы. Они понятнее и четче. Основательнее. Может, так кажется, но то, что они неспешны, вдумчивы - несомненно. Наверное, и скорее всего, так оттого, что для нас, светских, храм -место временное, где мы молимся, причащаемся и бежим в свою жизнь. А для монаха храм - его дом, молитва - его жизнь.
На службе впервые ощутил, как сошлись удары сердца и повторение сорок раз молитвы «Господи, помилуй». Так благодатно. А ведь у монахов Иисусова молитва неусыпаема. И другие молитвы просто добавляют ее. И как мне, грешному, приучить себя к непрерывности взывания к Господу? Конечно, трудно. А вот здесь - легко. Здесь «время благоприятное, здесь время спасения». Счастье молитвы - душевное взросление, отрешение. Хорошо бы, если бы такое было «иже на всякое время, на всякий час», как читается во всех часах молебнов.
* * *
Ночь в маленьком храме. Весь его объем заполнен звуками молитв, чтением и пением. Чтение доходчивое, пение согласное. Лампады, свечи.
Окно чернеет. Вдруг, очнувшись, вижу, что окно светлеет и в нем тихо колышутся ветви кипарисов. «Всю настоящего жития нощь прейти».
Всю ночь слышен колыбельный шум моря. Не утерпел, хоть и грешно, на минутку вышел под звезды. Они всегда здесь яркие и крупные. Смотрел в сторону России. Так был рад, что вновь на Святой горе, и старался не думать, что это не надолго.
Но как сказать об этой жизни тем, кто ее не понимает, не поймет? Тогда, может быть, вот так сказать: « Понимаешь ли ты, что твоя жизнь полностью зависит от молитв монахов? Полностью!» Да, так. Мы сразу пропадем, если монахи перестанут молить Бога за грешный мир.
Святые отцы постоянно напоминали, особенно мирянам, светским, то есть нам, о необходимости «возгревать» святость в душе, а где, как не в монастыре, она возгревается? Для того и надо ездить, ходить в монастыри хотя бы ненадолго. Здесь мы облекаемся «во оружие света» и отсюда, вооруженные, опять уходим во враждебную тьму современности.
Тяжелеет голова, затекают ноги, дремлется. Надо встряхнуться, надо взять себя за шиворот. Прогоняют дремоту поклоны, особенно земные. «Не спи, душа, конец приближается!» Сколько тебе осталось? Год, два? Десять? Все равно все это мгновение. Успей спастись! Молись, но не воображай, что спасешься. Но и не унывай: Бог милостив. Помни преподобного Си-луана, он ходил этими дорогами. «Держи ум во аде», бойся Бога. Молись! Это же лучшие часы твоей жизни - такие молитвенные ночи Афона.
* * *
Свежее утро. «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». И согласное незабываемое славословие, к которому присоединились и наши батюшки: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим...»
Рассвет. Изумрудная чистота моря.
Во дворе монастыря много кошек, не сосчитать, далеко за двадцать. Они охраняют от змей. Кошки пасутся около кухни. Некоторые сильно раскормлены и явно не змеиным мясом, а добротой поваров. Тут же доброжелательный к нам, но суровый к кошачьему стаду пес Мухтар. Он прыгает на парапет, у которого мы любуемся на море, и нас приветствует. Ходит по парапету на уровне голов и усердно машет хвостом, как веером. Тут кругом война в животном мире. Шакалы не прочь покушать кошек, как и лисы. Мыши давно съедены. Ястребы тоже убавляют кошачье потомство. Но, сказали монахи, когда пес с кошками, ястребы не пикируют. Интересно, что взрослые кошки боятся Мухтара, а котята вовсю на него шипят и машут лапкой.
Завтрак. Чтение житий на сей день. Два отрока завтракают с нами: Вася из Ярославля и Олег из Питера. Ученики школы Афониады. Трудно, но держатся. Греческий, латынь, английский. «Английский-то зачем?» Мы уже вышли из трапезной, стоим под утренним солнышком афонского сентября. Только замечаем, что отроки как-то переминаются и явно куда-то стремятся. Оказывается, получили благословение на рыбную ловлю. «И ловите?» - «О, большущих!» Убегают.
В группе четыре человека собираются пойти на вершину Афона. Отец Геннадий, не отговаривая их, рассказывает, как в прошлом году он поднимался, и уже поднялись на полторы тысячи метров, как гора «завыла», вой стал нарастать все сильнее и вдруг лопнул, как струна, и стало тихо.
- Что это было?
- Не знаю, - отвечает отец Геннадий.
Но отцы отец Петр и отец Сергий настроены решительно.
- Пойдем, послушаем.
* * *
Нам поданы два микроавтобуса. Один из келлии святого Модеста, другой за деньги. Начинаются наши поездки-посещения афонских монастырей. Водитель нам попался опять интернационального склада. Знает языков пять-шесть. Ну как знает, постольку поскольку требует работа. «Здесь такой-то монастырь, до него ехать столько-то, это стоит такую-то сумму в евро, а в долларах столько». Но русских паломников больше всего на Святой Горе, поэтому и знание русского у водителя (его зовут Николай) лучше. Видимо, он молдаванин. То ли из Липецка... Его не поймешь.
- Бежали в двухтысячном из Молдавии. Сорок три человека. Шли три недели, скрывались в лесах. Шли ночами, шли горными тропами гуськом. Никого не потеряли. Ели копченое сало, я его с тех пор ненавижу. Проводникам отдали по две тысячи.
- Рублей?
- Если бы. Был я и в Португалии, везде. Колено пухло, лекарства очень дорогие, не помогли, думал, что ногу отнимать. Приехал сюда, молился, воду пил, за полтора месяца прошло.
Дороги Афона, конечно, сильно улучшаются. Хорошо это или плохо, тут два мнения. Конечно, непрерывно везутся по ним строительные материалы, туда-сюда ездят рабочие, послушники. Но нарушается молитвенная тишина. Рев «камаза» - это не тихое цоканье копыт ослика по камням. Только опять же - строиться-то надо. Ведь века и века проходят, строения ветшают, жизнь продолжается, надо думать о будущих насельниках. Не оставлять же им разрушенные обители. Так что и дороги нужны.
Но так хочется молитвенной тишины. Ее ищут, к ней уходят. Два знакомых моих монаха, о которых спросил, оказывается, ушли по благословению в уединенные каливки. Конечно, их не найти. И зачем? И что им скажешь, когда они скажут: «Оставайся».
Водитель очень досадует на привычку русских что-то обязательно приобрести на память.
- Эти лавки все время забирают. И что в них? Приехал, зашел, приложился, и дальше. И больше объедем.
Но у нас главное не лавки. Мы еще не только сами прикладываемся к святыням монастырей, но и вносим в них икону святителя Николая. Монахи - греки, и те, кто в это время находятся в монастыре, благоговейно прикладываются, произнося новое для некоторых слово: Зарайский - Корсунский.
* * *
Когда потом вспоминаешь афонские монастыри, тем более те, в которых был всего раз или два, то впечатления накладываются друг на друга, и путаешься: это в каком монастыре весь двор не мощеный, а весь зеленый от ковра густой крепкой травы? А в каком дорожки краснокоричневые, как коврики, и по краям пунктирами цветные камешки? А где монах вынес складной столик и на него поставил длинный ящик с частицами мощей, вначале сам их облобызав? Где? Да по большому счету это и неважно. Важно, что были, что молились, что прикладывались, что в это время тем, за кого молились, становилось легче. А крепче всего наши молитвы за любимое Отечество. Главное - мы на Афоне, в центре вселенской молитвы ко Господу и Божией Матери.
Конечно, особо помнятся Ильинский и Андреевский, бывшие, а даст Бог и будущие, русские скиты. В них же все совершенно русское - архитектура, колокола, иконы. В Ильинском скиту, во весь простенок, икона батюшки нашего любимого Серафима Саровского, вся в драгоценном окладе. «Дар надворного советника Константина Андреевича Патина. 27 окт. 1913 г.». Иконостас из Одессы. Монах: «Иконы писаны в Киеве. Все ваше. Мы храним». Хранить помогают и мощные кованые двери. Недалеко от них - источник животворной воды. И ковшик из белого металла. Из таких, только уменьшенных, запивают причастие.
Источники везде. И везде пьем и умываемся. И никак не напьемся. Даже дивно.
В Андреевском скиту размещена школа Афониада. Баскетбольные и волейбольные площадки. Во дворе стало гораздо чище, прибранней. Ухожена и могилка первого строителя архимандрита Виссариона (Толмачева)
* * *
День проходит. Русскоговорящий шофер оказался весьма коварным. Утром просил по двадцать евро с человека, а привез - говорит: платите по тридцать. Но он не виноват: это не сам он такой жадный, это у него хозяин такой.
- Говорите с ним. Я что, я человек маленький, у меня одно - баранка круглая. Расчеты с ним. Он только по-русски не понимает, по-английски говорит.
Но и у нас такие знатоки есть. Димитрий Гаврилович поговорил. Потом, улыбаясь, перевел:
- У него присказка: друг мой, друг мой. Я говорю: если я друг, что ж ты друга грабишь?
Вновь стоим на молитве. Меня и Валерия Михайловича ставят читать часы. Моя торопливость во всем меня подводит. Так волновался и торопился при чтении, что больше не доверяли. Думаю, это неизлечимо. Я уже анализировал свою торопливость при выступлениях. Видимо, от той простой мысли, что что я такого скажу, чего бы кто-то не знал. Скорее протараторить, скорее замолчать. Лучше других слушать. Но молитва не выступление.
Стоять уже легче. Помню, в один из первых приездов стоял на повечерии, и, казалось, так долго стоял, так измучился, сил не было, решил -Бог простит - уйти. Вспомнил это сейчас с улыбкой: «Бог простит», как же, какой смелый, за Бога решил, простит. И потихоньку пошел. В храме как раз гасили свечи, получилось, что я уходил под покровом темноты, украдкой. И вдруг из этой самой темноты раздался голос: «Да вы что? Да вы куда? Сейчас же шестопсалмие!» И вернулся устыженный, и дальше стоял и молился. Господь дал сил. Так и не знаю, чей это вразумляющий голос прозвучал тогда.
Причастился. Как и собратья. Теплоту здесь наливают сами. Может, и нехорошо, но запил раз и не удержался, еще наполнил крохотную чашечку.
* * *
Наступивший так радостно второй день так же радостно и продолжился. Вновь выехали. Главное событие - Ксилургу. Старые знакомые - отец Симон, отец Павлин, отец Евлогий. Костница приведена в порядок. Чисто меж храмами, в храмах тоже выметено. Чудотворная икона «Глюкофилусса» («Сладкое лобзание»). И вот, такое ощущение, что будто бы и не уезжал, но, с другой стороны, возрождение скита идет без моего участия.
Ксилургу, повторю, первый русский монастырь на Афоне. Впервые упоминается в акте 1030 года, то есть скоро великая дата - тысячелетие пребывания русских монахов на Афоне. Позднее в описи имущества монастыря перечисляются сорок девять русских книг («Библиа русика»), также названы «русская золотая епитрахиль... русский плат (энхирий)... русский сосуд. русская шапка.» В акте 1169 года Ксилургу прямо называется «обителью русских». Этот акт очень важно упомянуть оттого, что именно этим актом «русской монашеской общине Ксилургу по просьбе ее настоятеля Лаврентия был передан на все последующие времена пришедший в упадок м-рь Солунянина, возникший в конце десятого века и освященный во имя вмч. Пантелеимона», и получивший наименование «обитель руссов», то есть нынешний русский монастырь на берегу моря. Выписки я сделал из четвертого тома Православной энциклопедии, из раздела «Русские иноки на Афоне в XI-XII веках».
Также есть основательный труд приснопамятного архимандрита Иннокентия (Просвирнина), могила которого в Новоспасском монастыре, труд «Афон и Русская Церковь». В нем не извлечения из документов, а документы целиком. Читать их целебно и для ума и для души. Вот, например, описывается несчастное состояние обители Фессалоникийской (то есть нынешнего Пантелеимонова монастыря), далее цитата: «распадение ее стен и жилищ. Да и то, что еще в ней кажется стоящим, предвещает совершенное падение и исчезновение. Поелику же в таком положении мы нашли ее, хорошо и Богоугодно присудили отдать ее сказанному честнейшему монаху господину Лаврентию, кафигумену обители Руссов, и его монахам с тем, чтобы она возстановлена была ими, обстроена наподобие крепости, возблестела и украсилась, и населилась немалым числом людей, работающим Богу и молящихся о державней-шем Святом царе нашем, скажу просто, - чтобы стала опять, как была сначала, и - лучше того». А о покушающихся на собственность русских сказано, что «жребий их да будет с предателем Иудой и с вопиявшими: возьми, возьми, распни Сына Божия!» Крепко сказано. Русские монахи и в самом деле подняли монастырь из руин, свершили его твердыней духа и он, как сказано, «возблестел и украсился» И об обители Ксилургу в том же акте заявлено Лаврентию: «Будь же и ее господином и владыкой, монах Лаврентий, и поступай с нею, как захочешь, никем не тревожимый и безпокоимый. Тот же, кто, сомневаясь в чем-нибудь, захотел бы причинить безпокойство или убыток, или хищение, да будет повинен выше-писанным клятвам и отлучен от Святыя и Единосущныя Троицы». Акт скреплен подписями настоятелей всех афонских монастырей. То есть с XII века оба монастыря навеки закреплены за посланцами Святой Русской Православной Церкви. Плюс к этому обитель «нагорный Руссик». А Устав Святой горы не знает «земной давности».
По документам не счесть сведений о том, что славяне, сербы, болгары, русские были насельниками также и многих греческих обителей: преподобного Григория, Кастамонита, Кутлумуша, Филофея, преподобного Ксенофонта, Ксиропотаме и других.
Да и есть ли нужда доказывать всегдашнее русское присутствие на Святой горе, когда само название Ксилургу говорит о том, что тут подвизались «древоделы», то есть искусные мастера плотницкого и столярного ремесел. Деревянное узорочье царских врат, иконостасов, окладов икон в храмах Святой горы свидетельствует о присутствии здесь русских мастеровых лучше летописей.
* * *
День этот был прямо-таки подарен нам. И вершина Святой горы была к нам любезна, не скрывалась за облаками, а светилась золотой вершиной на голубом небе. А еще этот день был днем благословения - передать икону «Всех святых в земле Российской просиявших» в дар не просто Святой горе, а именно в Ксилургу. Это символично - русские святые приходят к русским монахам.
Видел я, как собратья возрадовались такому благословению, настолько всем по душе пришелся скит. Какое же здесь богоданное место, монахи какие.
И вот - свершается дарение иконы, прибытие ее на постоянное место присутствия на Святой горе. Кажется, даже и машина, чувствуя торжественность миссии, едет аккуратно и бережно.
Вдруг в машине женский голос. Надо же. Но это очень к месту, так как это православные песнопения. Пронзительные, как раз пришедшиеся к моменту:
Так, молча, и ехали. Думаю, каждый молился. Приехали. С пением тропарей вносим икону в храм. Место для нее будто было предусмотрено специально - справа от входа. Рядом иконы «Спаситель», «Успение» точно такого размера, будто ждали радостного соседства с посланницей из России.
Игумен отец Симон облачается, выносит мощевики. Зажигаются высокие свечи. Разжигается кадило.
- Зовите братию!
А братии всего ничего. Собрались.
- Молимся, отцы!
До слез трогательно свершается молебен. Наши батюшки один другого лучше: голоса чистые, чтение вразумительное. И как спасительно и обнадеживающе звучит повтор: «Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во имя Господне!» От ладанного дыма, от бликов света свечей, от молитв и пения ожило пространство храма, он на глазах раздвинулся, полегчал, посветлел. В конце молебна мощное, единоустное, единодушное возглашение многолетия и благоденствия и во всем благого поспе-шения земле Российской, народу православному.
Как же хорошо, что отныне в этом месте, где были первые русские монахи на Афоне, будет икона русских святых. Она вся светящаяся, глаз не оторвешь. Пятьсот девятнадцать ликов изображено на ней, и все узнаваемы.
Не хочется уезжать. Выходим на солнышко, идем в костницу, поем в ней «Вечную память», читаем вразумляющую умы надпись: «Мы были такими, как вы, вы будете такими, как все мы». Видимо, эта надпись и произошла на Афоне и разошлась потом по всем российским кладбищам. Но вот не очень-то вразумляемся. А ведь будем - недолго ждать - как все умершие.
Потом посещаем храм, освященный во славу святого Иоанна Рыль-ского, и поднимаемся в верхний, первоучителей словенских Кирилла и Мефодия. Конечно, здания ждут рабочих рук. Дай Бог, чтобы появление иконы ускорило их возрождение.
Составляем надпись, которую благодетели обещают вырезать на медной пластинке:
Сия икона принесена в дар скиту Ксилургу в ознаменование 1000-летия русского монашества на Святой горе Афон от благодарных паломников земли Российской.
Рождество Пресвятой Богородицы. 2009 год от Боговоплощения
К морю! Древним путем, который тысячекратно проделывали русские монахи - от Ксилургу к теперешнему Пантелеимонову монастырю.
Только мы-то не пешком идем, а сидим-посиживаем в машине да валимся друг на друга на крутых поворотах. Шофер новый, языков не знает.
Грустно заехать на час туда, где жил и был счастлив неделю. Все то же, тот же датчанин Георгий в архондарике (приемном помещении), так же приветлив, так же медленно и с акцентом говорит. Димитрий Гаври-льевич общается с ним на английском, помогает готовить чай и кофе. Пересказывает нам:
- Я спросил, можно ли спросить, почему он здесь? Он говорит: конечно. Он и там, на родине, был верующим. Но говорит: католики и протестанты, они тут - показал на голову - а православие здесь -показал на сердце.
Тихо. Часы отдыха. Накануне всю ночь служба. Но есть и знакомые. Отец Кирион и, конечно, неутомимый отец Исидор, открывающий просторы монастырской лавки, и тот же отец Алимпий, предлагающий подать записки с поминовением родных и близких и в награду открывающий святая святых монастыря - комнату с мощами ветхозаветных и новозаветных святых. Их имена легко прочесть в описаниях монастыря, достаточно заметить, что эта комната вверху, она большая, светлая и в ней вдоль трех стен застекленные ящики, в которых мощи. Пророки, апостолы, великомученики, священномученики... Медленно, благоговейно проходим, прикладываемся. Ощущение, что пришли к высшему начальству Вселенной, к полководцам воинства Христова, а уж для них-то души наши как на стеклышке. И будто отчитываемся пред ними, и получаем новые задания, и наполняемся новых сил для их свершения.
Во дворе скиталец из Тобольска, Валера. Денег не просит, пришел за хлебом. Отец Георгий дает ему заранее приготовленный пакет с едой.
Вообще на Святой горе, куда бы ни заехал, так отрадно и молитвенно, что не хочется уезжать. Из любого монастыря, скита, келлии. Да даже любое место магнитно. Вот, например, просто вышли на минутку из машины, на наше счастье что-то застучало в моторе, и шоферу надо заглянуть под капот, вышли и замерли. И что объяснять - это Афон, это Святая гора. А это вид на Ильинский скит. Вид настолько хрестоматийный, вошедший во все книги и издания об Афоне, что без него Афон непредставим. Да, кстати, и без любого места. И без этой природы, подаренной Господом, и без этих рукосотворенных строений, увенчанных православными крестами.
Машины ждут нас у причала (арсаны) монастыря. Там, за стрелами агавы, источник. Это был первый мой афонский источник, потом были десятки. В монастыре, напротив архондарика, был и есть родник. Только он тогда просто вытекал, а сейчас облагорожен мрамором и освящен крестом.
До Ксенофонта дотряслись на машине. А в нем все закрыто. Ждать? Нет, решаем пока посетить монастырь Дохиар. Он не так далеко, тоже на берегу. Если ехать, это очень кругом, дольше будет, решаем пешком. Решили и уговариваем Николая Николаевича остаться. Он сильно хромает, попадал в аварию. «Ждите в Ксенофонте». Нет, Николай Николаевич решительно отвергает уговоры, и наши отцы его благословляют на пешее странствие.
А оно и не для хромых весьма нелегкое. Тропа будто испытывает нас на прочность: то кинется в гору, то заставляет продираться сквозь заросли, то резко падает под обрыв. Под ногами то крупные камни, то острые осколки, то мелкий галешник. О змеях уже и не думаешь, хотя невольно вспоминаются рассказы о них. Недавно, например, отец Кенсо-рин спускался по лестнице, а параллельно по перилам сползала шестиметровая гадина. Хорошо, отец Кенсорин легок на ногу.
Когда тропа, сама уставшая от своих выкрутасов, отдыхает и нам дает отдохнуть, то сердце открывается для музыки прибрежных близких волн, для золота и изумруда горных склонов, для взгляда на морские дали, когда невольно расправляются плечи и легкие требуют глубокого вдоха.
В Дохиаре привратник - пес размером с нашего Мухтара, но с характером явно не мухтарским. Надо его к нам на выучку. Внутри отрадно, прохладно. Стены монастыря все в зелени, а еще среди зелени развешены клетки певчих птиц. Канарейки поют, приветствуют, будто извиняются за облаявшего нас пса.
Святыня монастыря - икона «Скоропослушница», вся в золоте. «Русская икона», - объясняет монах. Показывает образ святой и праведной
Анны: «Бабушка Христа». Валерий Михайлович дарит ему, как и везде по нашему пути, образочек преподобного Серафима Саровского. Монах благоговейно целует его.
Обратный путь. Николай Николаевич задает темп. В грудах листьев груды грецких орехов.
* * *
Понимаем, что после такого долгого дня вернемся очень поздно, и, так как целый день без еды, то заезжаем в Карею, берем что-то на ужин. А, оказывается, нас не забыли, ждали и зовут перед ночной службой на ужин. Монашеская трапеза, чай, заваренный травами Афона, и монашеский горький коричневый мед возвращают силы.
Снова молитвенное стояние в стасидиях. После краткий сон, утренние молитвы и новая поездка. А до этого прощание с братьями, которые идут на вершину Афона. Отец Авраамий благословил и как следует снарядил экспедицию. Спальные мешки, термоса, сухие пайки. Вначале отец Петр не собирался, но отец Сергий решительно заявил, что пойдет, и отец Петр весело сказал: «Как же так, я же благочинный, как же я не пойду?» Идет и Андрей Васильевич, глава администрации Зарайска. Мне немного стыдно, что я не с ними. Но успокаиваю себя, что, даст Бог, в следующий раз. Да и обуви нет, а обувь - главное в восхождении. Да и впереди поездки по северо-восточному берегу Афона, а там я не бывал.
Тем более прямо с утра едем в Великую Лавру святого Афанасия. Дорога радостная, звучат в машине песнопения, даже и не заметили, как быстро доехали. Размеры Лавры меня поразили. Я считал наш Пантелеи-монов монастырь самым крупным на полуострове, но с Лаврой не сравнишь. Действительно, Великая. Из нее особенно хорошо видно вершину Афона. Вот куда будут взбираться два дня наши товарищи.
Огромная чаша во дворе под кипарисом святого Афанасия. Чашу эту облюбовал султан турецкий и велел привезти ее в Константинополь, то есть уже в Стамбул. Султан возжелал принимать в ней ванны. Один монах, желая предотвратить такое кощунство, решил лучше разбить чашу кувалдой. Не разбил, но трещина получилась. Султан повесил монаха на кипарисе, но чаша была спасена. Ее охраняет трогательный мраморный львеночек.
Храм X века. Много святынь. Икона «Экономисса» в память о спасении монахов от голода Божией Матерью. Редчайшие иконы. «Иконописец - святая Феодора, - объясняет монах. - Феодора - это как ваш Андрей Рублев».
Мощи святого Афанасия хотели раскопать, как и положено на Афоне, через три года, но из могилы вышел огонь. Значит, нельзя трогать. Надгробие над ними в прямом смысле завалено золотом: кольцами, часами. Еще и в 1700 году патриарх Сильвестр хотел взять частицу мощей, но вновь вышел огонь.
Святой Афанасий - хранитель Афона, основатели Ватопеда, Ивера - его ученики.
На обратном пути заехали на источник святого Афанасия. Он там, где уходящего из монастыря святого Афанасия встретила Царица Небесная. А уходил он просто от отчаяния: нечем стало жить, братия роптала. Божия Матерь повелела ударить в скалу посохом. Хлынула мощная струя воды и льется доныне уже тысячу лет.
* * *
Северо-восточный берег более обдуваемый ветрами, море здесь безпокойное, но красота все та же, афонская, то есть неописуемая. За день побывали мы еще в четырех монастырях. Вечером вспоминали, и даже самим не верилось: в четырех. Будто время растянулось. Вроде и не спешили. Все вспоминалось: и то, как в Каракале угощали крупными сладкими сливами, как в Филофее все, у кого были фотопринадлежности, схватились за них: дивная, прямо-таки тропическая цветущая зелень возвышалась над изумрудным ковром, застелившим весь монастырский двор. Пышные кусты роз по метру и более украшали двор. И каждый куст был на одном стебле. А запахи! Только, думаю, высоким специалистам парфюмерии было бы под силу различить их благоухающие букеты. Лаванду, магнолию, медуницу и чабрец я различил. Стояли мы совершенно замершие. Интересно, что, если и была у кого усталость, то она прошла от этой красоты и этого благоухания. Вдобавок негромко и мелодично заговорили колокола. Прошел монах со сверкающими и гремящими кадилами и золотым блюдом и скрылся в розово-красном храме. Повеяло ладаном.
При выходе растут мощные смоковницы, но плоды высоко, не достать. Хорошо птичкам. Порхают стада бабочек.
И вот - место, где на берег Афона вышла Божия Матерь. Иверский монастырь. Надкладезная часовня на берегу, уровень воды в ней на полтора метра ниже уровня моря, и диво - вода пресная, даже сладкая.
Мы везде возили с собой, вносили в храмы икону святителя Николая Зарайского. Трепетно, тихо прикоснулись мы им к иконе Иверской Божией Матери - Вратарнице. Список с нее, исполненный на Святой горе, можно видеть в Иверской часовне при входе на Красную площадь. И представить, что часовни не было семьдесят лет, невозможно. Она была всегда. И всегда был Афон. И его благословляющие знаки внимания к России.
В монастырской лавке монах говорит: «Псков, Печоры - браво, прима!» Он был там. Ловко торгует, ведет счет. Вдруг звуки колотушки в деревянное било. Монах решительно говорит: «Аут, аут! Баста! Финиш!» И прекращает торговлю. Идет на молебен. Хотя и ненадолго, идем и мы.
* * *
Путь в Ставроникиту, монастырь Святого Креста. Вдоль дороги к главным воротам длинные каменные колоды с водой, в которой золотые рыбки. Их тут на сотни сказок о рыбаке и рыбке. Хорошо, что у моря не сидят старухи у разбитых корыт, не гоняют туда-сюда стариков.
У источника умылся, напился, сел под иконой «Живоносный источник» и показалось, что гудит в голове. И немудрено, решил я, такой нескончаемый день, под солнцем, в тесной машине. Гудит в голове и гудит. А потом гляжу, да это же пчелы! Не одни мы пить хотим. И так их много! Вот вы где - авторши знаменитого монашеского каштанового горького меда! Да, этот мед незабываем. Он стоит на столах в трапезной в келлии, так сказать, на открытом доступе, но много его не съешь. И не могу объяснить, отчего. Пчелы и по мне обильно ползали, только какой с меня взяток? Но хоть не кусали.
Знаменитая икона монастыря - «Никола с ракушкой». Икона пролежала на дне моря пятьсот лет. Достали рыбаки, принесли в монастырь. Стали отдирать от иконы раковину и полилась из-под нее кровь. Из раковины византийский Патриарх сделал панагию и подарил ее русскому Патриарху Иову, тому, кого в Смутное время сменил священномуче-ник Ермоген.
* * *
«Наступил уже час пробудиться нам от сна». Это из Писания. Сказал к тому, что тексты из Писания, из богослужебных книг, благодаря молитвам, поселились в нас, в душе, в памяти, но молчат, задавленные хлопотами дня. А здесь, когда молишься, прикладываешься к святыням, спасительные тексты возникают из памяти слуха и зрения. «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны... в усердии не ослабевайте». Это и есть то самое «возгревание» молитвенного состояния души. «Духа не угашайте». То есть слова, «сложенные в сердца», должны в нас не просто жить, но и влиять на мысли и поступки. А пока «бедный я человек. не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И все равно - «ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Афонского света.
О, как трудно «не угашать» духа. Жизнь там, в России, продолжается. Дела наши без нас не делаются, родным там без нас трудно. В непрерывной связи с Москвой отрок Михаил, сын Валерия Михайловича. И у взрослых сотовые телефоны звенят и пищат постоянно. Сотоварищи мои - люди деловые, они продолжают кем-то и чем-то руководить. Впервые вижу не просто новых русских, а православных русских деловых людей. Искренность их в молитве изумительна, тяга к святыням сердечная, вера просто детская, то есть самая крепкая.
И уже вот-вот все полетит в прошлое: и это солнечное сияние, и эти тихие теплые благостные дни. Они были счастьем, которое потом надо будет оправдать.
Когда едешь, летишь, идешь по морю на Афон, то не надо говорить: поехал, например, на пять дней, нет, ты едешь не на дни, а на дни и ночи Афона. Здесь другое время. Дни - труды, ночи - молитвы.
* * *
Вернулись наши паломники. Измучились, с трудом шагают, загорелые, радостные. «Ну, выла гора?» - «Выла. Но не гора, а шакалы». Служили на вершине литургию. Рассвет встречали. Весь Афон виден. Шутят: «Вас сверху видели. Ползаете как муравьи». Отец Сергий одаривает драгоценным подарком - камешками мрамора с самой вершины от самого древнего Креста у храма Преображения.
Еще говорят, что видели близкий к Афону греческий остров Лемнос. Это очень скорбное и значительное место для русских. Лагерь русских беженцев Галлиполи, который напротив Константинополя, все-таки известен, а Лемнос, на котором тысячи русских могил, в том числе и женщин, и детей, никто почти не знает. На нем жили и умирали беженцы из России. Цивилизованные французы и англичане делали все, чтобы русские умирали быстрее. Бог всем судья.
* * *
Читаем правило ко причастию. Завтра уезжать, надо увезти главное благословение Афона - причастие Крови и Тела Христовых в афонском храме.
Но вначале вечерняя, переходящая в ночь, молитва. С пяти утра ранняя.
Причащаемся. Братство во Христе выше любого другого. Роднее людей не бывает.
Провожает братия монастыря. Послушник Валерий отдает насовсем оттиск из редкой книги позапрошлого века о змеях на Афоне. Тайком выношу кусочки сыра и кормлю вначале Мухтара, потом кошек. Есть нахальные, есть и забитые. Не лезут, наоборот отходят, надеясь, что и до них долетит лакомый продукт.
* * *
Все мгновенно проносится - дорога до Дафни, каждый поворот которой знаком, обилечивание, суета встречи прибывшего парома «Пантократор», вот и нам пора. Крестимся - дай Бог не последний раз на земле Афона - и входим на палубу. Вот и поплыли назад берега, вот там, вверху, монастырь Ксиропотам, а вот и наш родной Пантелеимонов, мелькнула знакомая дорога к Старому Русику, к мельнице преподобного Силуана, пошла дальше к Ксенофонту, к Дохиару. Да, тут мы отважно продирались через кручи, как то там канарейки, подобрел ли пес-охранник?
И вот вроде сюда мы принеслись моментально на быстроходном катере, а кажется, что паром утаскивает нас к Уранополису еще быстрее катера. Дельфины дают концерты, усиливая будущую тоску по святым берегам, чайки внаглую пикируют, осматривая пассажиров, что ж они не обратят внимания? А нам не до них, мы до слез в глазах, таясь друг от друга, вглядываемся в вершину Святой горы, прощаемся со счастьем Богом данной недели. И звучит в душе и сердце: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни». (Рим. 14, 8).
Как-то там, в Ксилургу, наша икона, наши святые, в земле Российской просиявшие? Сияют и на Афоне.
Встреча с Пенелопами
Можно владеть домами, землей, машинами, банками, чем угодно, но никакое земное богатство не сравнится с богатством душевным. Душа моя владеет такой движимостью и недвижимостью, такими ценностями, что богаче меня только Царь Небесный. Я владею Россией, Святой землей, Ближним Востоком, Египтом... Как так? А так. Захват новых пространств очень прост - надо их полюбить, и они уже навсегда твои. Вот теперь и Греция и Италия навсегда мои. Я их видел, прошел, полюбил, спрятал в сердце. А сердце - это такой сейф, который никто не вскроет, который я с собой ношу и унесу в вечность.
Так устроен православный человек: полюбив кого-то или чего-то, он уже считает себя обязанным отблагодарить за вызванную любовь, любовь не безответную, а взаимную. Ведь главное в любви наших народов друг к другу, а что там политики - Бог с ними. Помню, в один из приездов нас сопровождала худенькая порывистая гречанка Александра. А тогда только что Греция вступила в блок НАТО. Свидетельствую, что видел множество самодельных плакатов, надписей на стенах, которые все протестовали против этого вступления. Александра тысячу раз извинялась за свое правительство. «Русские и греки - это, это... - она крепко сплетала пальцы рук и крестилась этим сплетением. - Вот! - кричала она радостно, вот, - показывая на очередные надписи: «НАТО - убийца!», «НАТО - долой из Греции!»
Примерно так думалось и вспоминалось, когда автобус повлек нас из Уранополиса в Салоники. Неслись зеленые обочины, деревья с плодами, черепичные крыши греческих домов, храмы, вдали плыли силуэты гор и предгорий. Мелькали памятники погибшим в виде крохотных часовенок, иногда с горящей лампадкой внутри, иногда обветшавшие, сиротливые, как опустевший скворечник.
А в Салониках нас, как странствующих Одиссеев, ждали верные Пенелопы. Дружным хором сообщили они, что все мы очень и очень просветленные, что они за нас молились, сэмэски наши читали друг другу по телефону. Как не спали всю ночь в аэропорту. Как уже вместе обедали, были и по магазинам. Все очень дорого. Они уже были размещены в паломнической гостинице вблизи собора великомученика Димитрия Со-лунского, куда повели и нас. Всем мужьям пришлось расстаться со своими скромными одеяниями и переодеться в новые, привезенные женами. И на ужине в прибрежном ресторане, недалеко от памятника Аристотелю, мы все были очень нарядны и торжественны. Мужья рассказывали о Святой горе, о том, как они помнили и Россию, и свои семьи, как были на ночных службах. Жены слушали, охали и ахали, ловя каждое слово о том месте планеты, на которое им никогда не ступить. Особенно мы старались порадовать Елену Александровну, иконописицу, рассказывая про скит Ксилургу, где отныне стала находиться икона «Всех святых в земле Российстей просиявших».
- Вернемся в Москву, сделаем увеличенный фотоснимок иконы, обрамим и вам подарим, - утешал Валерий Михайлович.
Другая половина разговоров была о предстоящем и очень непростом паломничестве по святым местам Греции. В Москве, когда мы собирались у карты Балканского полуострова и следили за указкой отца Геннадия, путешествие представлялось простым, сейчас же, когда оно завтра начиналось, казалось весьма сложным. Мы же еще дерзали достичь и Корфу и Игуменицы, и переехать на пароме в Италию, а там в Бари. Страшиться было чего: называлась цифра - две с половиной тысячи километров по Восточной, Южной и Центральной Греции до западного побережья. Представить это под силу было только отцу Геннадию, священнику из Херсонеса. Он и бывал, и живал здесь, владел греческим. Но и он, водя рукой по карте, иногда задумывался. Но тут же взбадривался:
- От чего-то и откажемся.
- Нет-нет, - говорили мы хором, - не надо ни от чего отказываться.
Сейчас отец Геннадий, используя паузы между греческим салатом,
греческими маслинами, которые орошали греческим вином, сообщал необходимые для паломников сведения:
- В Греции девяносто восемь процентов населения греки. Православие исповедует девяносто пять процентов. Это данные свежей переписи. Атеистами заявили себя две десятых доли процента. Греция теперь -малая часть той Византии, что была до разделения церквей. Первым апостолом с проповедью христианства здесь был, именно здесь, - отец Геннадий широко повел рукой, включая в размах и сушу, и море, и береговые огни, - был апостол Павел. Известны его три посещения Фессалоники. Проповедовал он и в Афинах, вспомните Дионисия Ареопагита, также в Коринфе, Филиппах. Апостол Андрей Первозванный закончил жизнь мученической смертью в Патрах. В Греции, если можно так выразиться, самое большое число монастырей на единицу площади. Знаменитые Метеоры, Эвбея, Халкидики, гора Стагмата, пещера Мегас Спилео, монастырь главного святого Греции Иоанна Русского, - все мы должны посетить.
Возвращались по вечернему городу, шли мимо раскопок, крестились на ярко освещенные храмы. Умилялись выставленным в часовенках иконам и горящим около них лампадам. Видели, как молятся у них или торопливо ставят свечу прохожие.
- Видите, - указывал отец Геннадий, - как много молодежи.
- У нас тоже все больше и больше, - защищали мы Россию. - У них же не было насильственного отлучения от церкви.
У церкви великого святого Григория Паламы сделали остановку. Целая неделя Великого поста посвящена его памяти. Совсем отроком увлек он в православие и мать, и братьев, и сестер. Рассказать о всех его трудах, подвигах, страданиях просто невозможно. Интересно, что совсем молодым он уже был славен в Константинополе своей ученостью и даже делал при дворе императора Андроника доклад об Аристотеле. Афонский инок, церковный писатель, Фессалоникийский архиепископ, победитель ереси Варлаама (она заключалась в отрицании нетварного Фаворского света, в хуле на Иисуса Христа), много перестрадавший, он был и остается примером преданности всей жизни служению Христу и людям. Он даже фруктовым деревьям возвращал плодовитость, исцелял неисцельно больных, возвращал зрение. И всегда бежал от почестей. Любимое его проживание было в тесных кельях, в затворе. Однажды решил совсем удалиться от мира. И вот, после долгой молитвы представилось ему, что в руках у него чистейшее питье - молоко, которое превращается в благоуханное вино. И светозарный юноша предстал перед ним: «Почему ты не передаешь это питье другим? Ведь это неиссякающий дар Божий» - «Но кому я передам его?» - «Иди в мир». От святого осталось более семидесяти сочинений. В день памяти святителя Иоанна Златоустаго Григорий Палама сказал (было ему 63 года): «Друг мой призывает меня». И скончался со словами: «В горняя, в горняя!»
У гостиницы пожелали друг другу спокойной ночи.
- С Димитрием Гаврильевичем, - сказал отец Геннадий, - он владеет английским - берем утром напрокат два джипа и вперед, и с песней.
- С молитвой, - добавил самый старший из священников отец Сергий.
Утро
Греция называется колыбелью культуры человечества. Но колыбелей полно в этом мире. Колыбель восточной культуры - Китай. А Египет чем не колыбель? И Индия. Это Соединенные штаты не колыбель, а интернат, созданный авантюристами Европы, которым культура только мешала наживаться. А наша Россия - величайшая колыбель нравственности. Разве не справедливо считать нравственную чистоту культурой? Да даже и чистота физическая. Например, славяне античности знали бани. Конечно, не римские, не турецкие термы, а зачем? Баня для чистоты, а не для разврата, не для подготовки заговора о свержении власти. Славянские мужчины и женщины могли мыться и вместе, ибо для мужчины женщиной была только единственная, жена, остальные сестры. Как и для женщины, единственный на всю жизнь мужчина был только муж. Умирал или погибал он, вдова и не помышляла о другом замужестве.
Такой неожиданный краткий разговор вспыхнул, когда мы выкарабкались из городских коридоров, все время затыкаемых скоплениями машин, на широкое, вольное шоссе и когда отец Геннадий, сидящий за рулем, расправил плечи и обратил наше и без того уже восхищенное внимание на просторы за окнами. Озаглавил их так:
- Эллада! Колыбель европейской цивилизации.
Женщины схватились за фотоаппараты.
Итак, мы едем. На юг, на остров Эвбея, к его святыням. Выехали позднее предполагаемого времени, но зато утром побывали у мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Паломничество к другим святым отложили на возвращение. Помолились на дорогу, поставили свечи. Едет нас много: пять священников и три супружеских пары, одна с сыном Мишей. То есть получается вроде бы двенадцать, но отец Петр едет с матушкой Галиной, уже тринадцать, и еще Елена Александровна, иконописица, всего четырнадцать. Числа все библейские: двенадцать апостолов, а тринадцать - это Иисус Христос и ученики, четырнадцать -это четырнадцать колен Израилевых. То есть в дороге во всем хочется видеть добрые знаки. Самый же добрый то, что в передней машине помещена икона святителя Николая Зарайского. А мы при ней. Святитель Николай - любимый святой православной Руси. Помню, сказал одной старухе, что святитель Николай - грек, она рассердилась даже:
- Да ты что? Он же из Можайска.
- Нет, - могла бы тут же возразить другая, - он из Зарайска.
Я же, как вятский уроженец, вполне бы претендовал на то, что святой Николай родом из села Великорецкого, есть и образ такой, Никола Велико-рецкий. И к месту обретения этого образа вот уже шестьсот тридцать лет каждый год свершается знаменитый Великорецкий Крестный ход. Год от года он все полноводнее, течет как река по вятским просторам в начале июня. Святитель разный на иконах - и летний, лик в обрамлении седых волос, и зимний, в шапочке. Пишется с домиком, и с церковью в руках, и с мечом, ограждающим от зла. Зарайский - назидающий и просвещающий. Правой рукой святитель благословляет, в левой держит Священное Писание. Одеяние белое с крестами, золотой омофор.
Тут к месту будет сказать о том, что в Коломне, соседней с Зарайском, есть храм Николая Гостиного, имя которому дал Зарайский образ. Есть два предания: одно - «Повесть о Николе Заразском», другое - благочестивая легенда, записанная в начале XIX века. Оба предания сходятся в главном: опасностям Зарайск подвергался много раз. Жители, спасая святой образ от набега крымских татар, унесли его в Коломну в 1512 году. Там он и был как бы в гостях. От него происходили многие чудеса. Когда образ вернули в Зарайск, оставили в Коломне список иконы, а храм получил название Николы Гостиного.
Другое предание относится ко временам Смутного времени. Вот выписка из сочинения краеведа Н. Иванчина-Писарева: «Вот изъяснение названия храма Николы Гостиного: всем русским известны подвиги князя Пожарского и избежание его от ножа убийцы, подосланного Заруцким, но не все знают, что он приписывал и успех, и спасение свое заступлению святителя Николая
Через его чудотворную икону Зарайскую. Усердие его к этой древней корсунской иконе еще во время его воеводства заставило его пещись о сохранении ее от огня и меча литовцев и мятежников, и он препроводил ее в Коломну, где она гостила внутри крепости. Когда буря мятежной брани затихла, тогда икона была возвращена Зарайску, а в Коломне остался список».
В нашей машине едут сразу три батюшки: отец Сергий, отец Георгий и, за рулем, отец Геннадий. Впереди, рядом с ним, как штурман, Александр Борисович. Он и в самом деле с картой. Бодро говорит на поворотах: «Справа и сзади чисто, впереди и слева туман». Кроме того, Александр Борисович с какой-то сверхдорогой фототехникой. Он без жены, поэтому свободен в выборе кадров. Сзади сидим мы втроем: Елена, Надежда и аз многогрешный. Конечно, тесновато, но разве это искушение, просто малое неудобство. Тем более быстро привыкаем и едем, как будто так и надо. В передней машине, она побольше, тоже семеро: три супружеские пары: отец Петр с матушкой, Димитрий Гаврильевич с Галиной Георгиевной, Валерий Михайлович с Ириной Александровной и, как уже замечено, с сыном Мишей. Он едет совершенно счастливым, ему мама привезла ноутбук, и Греция сейчас летит мимо него, ибо его внимание нырнуло в переписку. «Плохо без тебя», - пишут ему одноклассницы.
Несемся постоянно по сто сорок - сто пятьдесят километров в час, иногда идем под двести. Машина не мчится, а плывет.
- Не туман впереди и слева, а Олимп, - сообщает отец Геннадий. -Олимп подо мною, стою в вышине.
- Один, совсем один, - поддерживает отец Георгий.
Олимп! Гора поэтических мечтаний юности! Жадно читал о ней, мечтал напиться из кастальских родников, текущих у ее подножия. Сказать ли батюшкам отроческую строчку: «Мои кастальские ключи текут из-под сосны»? Промолчу. Да, благодаря Олимпу, даже и не мечтая, что увижу его, и, утешая себя, писал: «Наш северный лотос - кувшинка, наш виноград - рябина, наши моря - озера, наша пальма - сосна». Вспомнились лекции по «античке», ссоры и склоки богов Олимпа, войны из-за того, что кто-то кому-то, но не тому-то, подарил яблоко. В нем, может быть, отголосок яблока из райского сада. От соблазна к ссорам и войнам. Но вообще уже знаю, что таких Олимпов античность наплодила множество. Всем же хотелось, чтоб боги жили у них. А гор тут хватает. Напротив Константинополя, в Малой Азии, тоже есть Олимп.
Чаще всего в машине воцаряется молчание, идет внутренняя молитва. Елена вычитывает свои длиннейшие правила, Надежда - пяточис-ленные молитвы. Перебирает четки отец Сергий. Но, видно, плоховато ему, температурит, простыл на Афоне, на горе Преображения. Несет свои страдания мужественно, старается, чтобы о нем не заботились. Но разве утаишь недомогание от внимания женщин? На совместной остановке в небольшом городке Галина Георгиевна и Ирина Александровна сразу понимают его состояние и решительно гонят своих мужей в аптеку, приказывая набрать и таблеток и сиропов. Мужья возвращаются с лекарствами, потрясенные ценами на них. Отец Сергий начинает лечиться. Из солидарности к нему и от того, что появились средства исцеления, и мой организм решает напомнить о себе, дает сбои, я тоже начинаю кашлять и прикладываюсь к пузырьку.
День
Ни одно место под солнцем не забыто Господом, уж тем более Греция. Да так можно о любом месте сказать. Доказательство: везде, где бывал я, слышал такую притчу, которую рассказывали сербы, болгары, грузины, осетины, буряты, молдаване, монголы... в общем все. Вот она: Господь делил землю, раздавал ее народам, а болгарин (чех, поляк, молдаванин, бурят.) опоздал. Варианты опоздания: заработался, проспал, заблудился. Приходит к Господу, просит прощения. «Что с тобой делать, - говорит Господь, - хороший ты человек, вот тебе земля, бери, для Себя оставлял».
Во всем здесь Божие присутствие: неустающий от восторгов взгляд следит, как плавно переходят равнины в предгория, как украшают их дела рук человеческих: плантации винограда, фруктовых деревьев, орошаемые зеленые поля овощных культур, и всюду, несмотря на осень, цветение трав и кустарников. Далее светло-серые и коричневые склоны гор, исцарапанные мелкими и глубокими ложбинами. Можно себе представить, как несутся по ним весенние потоки с вершин оттаивающих гор, как рокочут растревоженные камни, подобно шуму мельничных жерновов.
Да, Греция. Греческие священники крестили Русь, слава Богу. Именно их призвал в Киев святой равноапостольный князь Владимир. Именно от них приняла веру православную его бабка, святая равноапостольная Ольга. И всегда Россия благодатно окормлялась, так сказать, кадрами Второго Рима. При Екатерине были призваны греки для заселения южнорусских степей, и тогда многие греческие фамилии обрусели и стали нам родными. Келлия святого Патриарха Иерусалимского Модеста выпустила книгу об архиепископе Чебоксарском и Чувашском Николае. Его фамилия Феодо-сьев, а это от грека Феодосиса, священника, его предка.
* * *
Рынок надгробий. Странное ощущение испытываешь, когда ходишь по нему. Вроде и не по аллеям кладбища идешь, но уж, конечно, и не среди парковых скульптур. Еще где-то живут люди, которым уже вот этот ангелочек из белого мрамора готов обозначать место упокоения. «Покойся, милый прах, до утренней звезды» напишут на постаменте. Или проще, от имени усопшего: «Я дома, вы еще в гостях».
Последнее очень нам подходит, мы тут дважды в гостях: и на земле у Господа и в Греции, у греков.
Переправа
И машины летят, и день летит, и пространство пролетает, часов пять в пути, и вот мы уже у паромной переправы. Стоит у причала гигантский паром с начертанной по борту надписью «Эвбея. Агиос Иоанн Русский». Агиос - святой. Обогнавшие нас на последних перед переправой километрах сотоварищи сообщают, что есть еще целый час до отхода парома. Час при наших темпах - это подарок. Решаем нырнуть в Эгейское море. Повезет, так дня через три нырнем в Ионическое.
Немного отъезжаем и находим: пляж не пляж, но песочек, деревца, все очень прилично. Чьи-то палатки. Море чистейшее. В нем булькают-ся несколько семейств. Все подрумяненные, подкопченные солнышком. Взирают на нас, бледнолицых северян, с любопытством. Но северяне отважно и мощно заплывают дальше всех. Взирают теперь уже с уважением. Так-то. Не всегда загар - знак мужества, мужество наше в наших ледяных крещенских купелях, в долгих зимах, в сшибающих с ног снежных вихрях.
Но уже пора на паром.
* * *
Паром. Сколько же он тащит? Состава два, наверное, товарных поездов. Глядим сверху на грузовую палубу и не можем определить, где наши джипы? Такими они нам казались большими, а тут, среди многотонных, длинных и высоких рефрижераторов, фур, самосвалов крошечки легковушек и точки мотоциклов.
Неутомимые отцы Петр и Евгений пошли в капитанскую рубку управлять паромом. Остальной коллектив на безпривязном содержании. Кто пьет кофе, кто переводит «на цифру» виды берегов и морских далей, кто, как я, ходит по необъятному пространству палубы.
Боже ж ты мой, как же курят греки. И увы, увы, и гречанки. А как хлещут кофе! А как хохочут! Ни одного печального лица. Нет проблем? Или так друг перед другом, оставив на время поездки все проблемы?
Трещит от порывов ветра шелковая ткань греческого красивого флага. Выстраданный, цвета морской волны, греческий крест царствует на Средиземноморье.
О, великая, многострадальная Греция! Кто только не зарился на твои красоты, кто только не посягал на твою веру православную! Тысяча четыреста островов в Греции, и нет ни одного, не орошенного кровью мучеников. Море, здесь везде море. И отсюда эти дивные слова о поминовении всех «и сущих в море далече». И отсюда эта здравица: «За тех, кто в море!», вошедшая во все застолья с участием моряков и рыбаков. Она вторая по счету перед тостом за женщин. Греки вообще, в отличие от других, делят людей не только на живых и усопших, а еще и на тех, кто в море.
Знавала Греция и счастливые эпохи. Нет, не античность, а времена после раннего христианства. Что античность! Да, Акрополь, Афины, театр, ристалища, олимпиады. Но в эту античность не поместилось христианство, и среди мраморных статуй живыми сжигали христиан, а на аренах амфитеатров специально изморенные голодом хищники терзали на потеху публике мужчин и женщин, стариков и детей, души которых возносились ко Христу. Славянское язычество оказалось более приветливым к единобожию. Духи лесов и болот не посмели войти в церковь и не сопротивлялись ей, остались жить, так сказать, у себя, а затем спокойно вошли в сказки, дали сюжеты фильмам и мультфильмам и стали даже очень симпатичными лешими, бабами-ягами, русалками.
Счастливые века, завоеванные страданиями первых христиан, продолжались вплоть до времен иконоборчества. Оно возникло во время греческого императора Михаила в начале IX века. Благочестивый император и не помышлял о том, что один из его патрициев, Лев, прозванный Армянином, займет его место. Не только займет, но и возглавит гонения иконоборцев на христиан.
Коротко сказать, было так: болгары через земли греков всегда рвались к Средиземному морю. Выхода к Черному им не хватало. В одной из схваток преимущество греческих войск было очевидным. Но кто мог знать, что подкупленные Львом Армянином военачальники внезапно дадут приказ отходить. Болгары думали, что это какой-то маневр, военная хитрость, потом осмелели, начали преследовать греков и поражать их. И войско, и народ сочли царя трусливым, малодушным. Этому способствовал Лев, который распускал такие слухи. Уже прямо в народе называли Михаила изменником. Войско отказалось исполнять приказы Михаила и провозгласило императором Льва. Ну все как у нас перед Гражданской войной. Благочестивый император, несмотря на уговоры приближенных, не захотел противодействовать Льву, заявляя, что не желает, чтобы была пролита хоть капля христианской крови. Более того, он послал Льву царскую корону и порфиру - царствуй. И что? С пышностью воссел Лев на византийский трон, тут же заточил Михаила и его супругу в тюрьму, а их сыновей приказал оскопить, то есть чтобы и речи не шло о наследственной власти. А дальше - дальше годы и годы гонений на христиан, названные эпохой иконоборчества. Иконы Лев Армянин ненавидел как нынешние баптисты, доселе устраивающие их сожжения.
Восстановила иконопочитание в середине IX века благочестивая царица Феодора. Гречанка.
Римляне, турки, венецианцы, болгары, самозванцы Европы - каталонцы, все топтали сапогами и копытами Грецию. Византия то усиливала на Балканах свое командное присутствие, то оно ослабевало. Что говорить, даже норманны отметились, завидуя византийской шелковой монополии. Делая набеги с подвластной им Сицилии, норманны грабили греческие побережья. Византийцы изгнали их в конце XII века, но жадная Европа поняла, что берега Балкан уязвимы, и вскоре началось нашествие крестоносцев и торговых городов. Богатеи Венеции, в основном еврейские купцы, нанимали войска, любящие пограбить, и захватывали греческие пространства. В 1204 году пал Константинополь, на его месте создалась Латинская империя. А дальше? Королевства сменяли королевства, острова переходили из рук в руки, как и морские порты крупных островов. Особенно страдала Церковь Православная. Облагаемая со всех сторон данью, она иногда и рада была откупиться, но захватчикам и этого было мало, особенно католикам и османам, они посягали и на православную душу греков. Михаил 8-й Палеолог изгнал латинян из Константинополя (1261), но уже впереди маячило турецкое иго. И если бы Русь не задержала нашествие татаро-монголов, то что бы осталось от Греции?
И что говорить об Эвбее, когда все кровавые волны захватчиков прокатились по нему. От тех времен на острове осталась и сохранилась доныне главная святыня Г реции - мощи святого Иоанна Русского.
Уроки на палубе
Вернулись наши рулевые. Довольные. Поуправляли этой громадиной. Смеются: «Чуть на мель не посадили».
Отец Геннадий занимается с нами греческим:
- Евхаристо - спасибо, отсюда наше евхаристия - благодарение. Каламара - доброе утро, паракало - пожалуйста, библио - книга, охи-охи -это не вздохи, а отрицание: нет-нет, а вот интересное слово: мера. Это по-гречески день. День - мера, а малая его часть - лепто, это минута, вспомните евангельскую лепту. Микро - мало, макро - много. Дека - десять. Отсюда декада. Это про нас. Декада паломничества по святым местам.
Рассказывает, как греки спасали мощи святого Иоанна Русского. Они были с ними в Малой Азии, нынешней Турции. Возвращали мощи святого тайно. Поместили в ящик, сверху закрыли разными вещами, опустили ящик в трюм. А по небрежности перевернули, да и торопились: ночь. Святой оказался лицом вниз. И корабль не может отойти. И понять ничего никто не может, что случилось? Стали молиться, уже светает. А ящик-то перевернут. Вынесли на палубу, отслужили молебен, и корабль сам пошел.
Вообще в Греции такой сонм святых, что только, может быть, Святая земля да Россия сравнимы с Грецией. Именно сюда устремлялись апостолы, здесь лилась их проповедь на благодатную почву греческих сердец, здесь души страдальцев за веру Христову возносились к престолу Божию. Имена же их Ты, Господи, знаешь. А нам уже не узнать всех, не посетить все места их подвигов. Но утешение в том, что они - наши, записаны в наших святцах, мы их поминаем в ежедневных молитвах.
Слово «Эллада» сразу приводит на память Луку Элладского, святого, рожденного на острове Эгина, а Эгина - это еще и святой нашего времени Нектарий Эгинский. У нас его знают, выходят книги его поучений, вышел именной календарь. А Лука Элладский известен мало. Избранный Богом, он с детства служил Ему. Не ел мяса. Родители сварили рыбу вместе с мясом и дали ему. Он отказался от такой рыбы. Работал в поле, все отдавал нищим. Шел сеять пшеницу, отдал ее почти всю. А урожай у него вырос больше, чем у других. Оживил однажды убитого охотниками оленя. Когда встретил на берегу моря двух старцев, идущих в Иерусалим, и ему нечем было угостить их, то по его молитве на берег выпрыгнули две большие рыбы. Однажды его ужалила в ногу ядовитая ехидна. Он взял ее в руки: «Мы - создания единого Бога, и ты мне не вреди, и я тебе не буду вредить, пойдем каждый своей дорогой». Исцелял больных, обличал нечестивых. Это я извлек из его жития, но где его мощи, там не указано. Может, оттого, что он завещал его не хоронить, а отнести его тело в лесную чащу и выбросить. Вот и кажется, что где-то ночами стоит над этим местом светящийся столп от земли до неба.
Греческая церковь, оповещает нас отец Геннадий, была в составе Константинопольского патриархата, но после восстания против турецкого ига в 1821 году объявила себя независимой, но в обществе было недовольство таким решением иерархов. Поэтому после революции 1843 года начались переговоры с Константинопольским Патриархом и, по общему согласию, Греческой Церковью стал управлять Постоянный синод. Долгое время она сильно зависела от государства, и ею более управлял министр религий, нежели епископат. Сейчас отношения, так сказать, паритетные. Об этом нам можно и не знать, наше дело - хотя бы немного обогатиться тем богатством, которое и в Греции и у нас называется святостью.
Эвбея
Уже Эвбея. На берега не наглядеться - к ним жмутся нарядные суденышки, на берегах аккуратные домики, часовенки меж ними как часовые. Доносит ароматным запахом какой-то лечебной сгоревшей травы. Будто было какое жертвоприношение. Сверху видим, как Димитрий Гаврильевич машет нам с нижней палубы, велит спускаться. Уже ошвартовались, уже ревут дизеля тяжелых машин.
Движемся к монастырю Давида Эвбейского. Едем и едем. Немыслимые повороты, зигзаги. То слева скалы, справа пропасть, то наоборот. То туман, то облака. Виды какие, какие виды! Леса на склонах гор. Неожиданным кажется обилие сосен. Ну как тут прицелиться, как снять все ближнее и дальнее? Водители созваниваются. Остановка для съемки.
- Не разгуливаться! - сурово замечает отец Геннадий.
Отец Сергий не выходит, старается, пока спокойно, подремать. А такие кругом запахи, такие кругом фруктовые деревья. И чьи они? Никаких селений и близко нет. Решаем, что фрукты Божьи, а так как и мы - Божье достояние, то фрукты можем попробовать. Огромные сливы, но на вкус травянистые, а вот персики мелкие, но до чего сочны и сладки! Слабый ветерок приносит ароматы кадильного дыма. Неужели монастырь, уже доехали? Нет, это ладанный запах смолистых деревьев.
Приказ: по коням! Мчимся далее. Шоссе как картинка. Обочины побелены и четкими линиями зовут в перспективу пространства. Деревья по обочинам обведены белыми кружочками. И - никого. Лисы, что ли, шоссе подметают. Вон, мелькнула одна.
Влево, вверх, повороты, повороты, все! Стоянка. Тяжелые древние монастырские надежные врата. Пятнадцатый век. Два раза монастырь уничтожался. Первый раз турки, второй - землетрясение. Во дворе источник. Благословляющая бронзовая длань, льющаяся светлая вода. Оставленные у источника костыли.
Давид Эвбейский совсем малышом разговаривал с Иоанном Крестителем. Поздно вечером родители услышали голоса из комнаты сына. Вошли. Сын, показывая на икону святого, сказал, что он говорил с Иоанном и что тот ушел в икону. Никакой другой жизни, кроме монашеской, Давид не представлял. Его называли старцем... в двадцатилетнем возрасте. Уйдя в горы в поисках уединения, Давид молился Богу, чтобы узнать, где остановиться. И однажды, когда он стоял на молитве, из скалы забил источник. Как раз тот, который осеняет сейчас бронзовая рука. Тут и остановился. Светильник Давида не остался под спудом, стали к нему притекать ищущие спасения. Стали строиться. В поисках средств Давид ходил по Румынии, Молдавии и, что радостно сказать, по России. То есть русские пожертвования лежат в основе монастыря.
Здороваемся. Монах сурово кивает в ответ на наше «каломера». Оказывается, поздновато приехали. Но видит батюшек:
- А, русские? Русские? Снимать можно, только без вспышек.
В храме у мощей святого Давида Эвбейского глубокое блюдо с маслом. Рядом ложечка. И вот - диво дивное: только что была дорога, скорость, разговоры, а в тишине храма все замерло, все благолепно. Обходим иконы, прикладываемся, сдаем записки.
- Понимаем русский, понимаем, пишите русскими буквами, - говорит монах.
Уходит, возвращается, приносит бутылочки. Батюшек, им всегда привилегия, вводит в алтарь. Служим краткий молебен. Паломники греки подтягиваются на звуки молитвы, останавливаются. Серьезны и внимательны. И как-то уже приходится мириться с тем, что женщины у них сплошь простоволосые.
У монаха еще подарок, он раздает ватки, которые пропитало миро от мощей, и ловко эти ватки заворачивает в кусочки фольги. И, окончательно нас полюбив, открывает мощи святого Давида, к которым мы благоговейно прикладываемся.
Выходим в тенистый двор. Никто не решается прервать это тихое состояние душевной радости. Идем вновь к источнику, к его благословляющей руке.
Вновь дорога. Когда целый день в машине, и когда понимаешь, что еще, самое малое, неделю будешь жить в ней, то уже и в нее садишься как на рабочее место. Хорошо ехать в молитвенном состоянии. Оно было с утра, было и днем, но посещение монастыря это состояние, как говорят святые отцы, «возгрело». Да, именно так, надо возгревать свой внутренний настрой на молитву. Враг спасения ввергает в разговоры, в рассеянность, отвлекает красотами, а когда сердце полно впечатлениями от жития святого, то и голова очищается от суеты. Тревожно за отца Сергия, но он уверяет, что ему после монастыря гораздо лучше.
Как хорошо, особенно в дороге, когда все за тебя решают, а ты живешь в послушании. Тут главное не высказывать никаких своих желаний.
Хочется тебе есть? Мало ли чего тебе хочется. Придет время - накормят. Придет время - спать уложат.
К великому святому
Конечно, все проголодались, ведь с утра только слабый чаек в Салониках, но надо двигаться к монастырю святого Иоанна Русского, надо успеть до закрытия. Ну, может, по дороге еще встретим фруктовые деревья, поедим. Но как их заметить - летим, просто летим. И время не замечаем, и вдруг - огромный образ святого. Иоанн Русский! Прекрасный храм, много людей. Площадь кипит торговлей и застольями. Запахи жареного и пареного. Водителям, как всегда, труднее нас, им надо припарковаться, а это сейчас во всем мире проблема. Тем более в таких местах. Нас высаживают, мы идем в храм. Вначале кажется темно и шумновато, но вот - прорезаются в полумраке многочисленные подсвечники с кострами горящих свечей на каждом, а небольшой шум это не шум, а молитвы. Очередь к открытым мощам. Они немного пострадали в пожаре, может от этого лик святого немного скрыт золотой полумаской.
Русский солдат. Раненым в битве с турками попал в плен. Куплен хозяином-мусульманином, который требовал у Иоанна перехода в ислам. Иоанн отвечал: «Я пленник твой, я работаю на тебя, но вере христианской не изменю, это вера моих отцов и дедов». Все вынес страдалец - побои, истязания, голод и холод. Жил в конюшне. Работал старательно, и хозяин стал замечать, что его кони, его домашний скот не знает падежа, плодовит, урожаи на его полях обильнее любых других, и понимает, что тут все дело в русском пленнике. Перестает угнетать его, даже предлагает улучшить жилье, но Иоанн отказывается. В каморке при конюшне никто не мешает ему молиться. К нему приходят с просьбами помолиться за родных и близких, он никому не отказывает. Мулла недоволен авторитетом Иоанна, но хозяин за него заступается. Происходит случай, небывалый доселе в тех местах. Хозяин свершал хадж - паломничество мусульман в Мекку и Медину, а жена его позвала гостей, приготовила вкусный плов и сказала: «Такой плов очень любит мой муж. Как бы он рад был покушать его». Иоанн прислуживал за столом и сказал: «С вашего позволения я передам это блюдо с пловом хозяину». Гости засмеялись. Иоанн взял блюдо, вышел с ним, помолился и блюдо, исчезнув из его рук, в тот же миг оказалось в Мекке, в руках хозяина. Хозяин узнал его, ибо на блюде было семейное клеймо. Он вернул его домой, где понял, что Бог пленника Иоанна всемогущ.
После прикладывания к мощам разошлись по пространству храма. Вновь собрались на паперти, храня в душе благодарное состояние прикосновения к святыне.
Вечер, утро, новый день
У отца Геннадия везде или все знакомые или все ему везде знакомо. Так как сегодня не пост, не среда, не пятница, он говорит о каких-то необыкновенных шашлыках из крохотных кубиков мяса. Да, в его знакомом ресторане, на веранде с видом на храм, есть такое блюдо. Ждать обед приятно. Несут воду, несут, конечно, греческие салаты и соусы, и хлеб, греческий хлеб. Им одним можно вдоволь наобедаться. Уже и наужинаться, ибо пора и о ночлеге думать. Отец Геннадий волюнтаристски решает, что после застолья надо еще проехать энное количество километров, чтобы ночевать в городе Фивы, оттуда ближе к Халкиде, к переправе на материк. Оказывается, он уже позвонил в Фивы, заказал гостиницу. Но эти Фивы, конечно, не египетские Фивы, просто совпадение. Там Фиваида, здесь Эвбея. И Халкида не та, где был Халкидонский собор.
В сумерках, сквозь редкие огни придорожных таверен, добираемся до ночлега. Здесь размещают мужчин и женщин порознь. Так удобнее для оплаты. Мне даже хорошо, ибо кашляю сильно, и жена и сама бы не спала и меня бы лечила. А тут все-таки засыпаю на дополнительно внесенной в номер кровати. Перед этим, конечно, чокнувшись с отцом Сергием пузырьками с сиропом. Вспоминаем монаха, который лечился только тем, что говорил своей хвори: «Ну, смотри, вот возьму и умру, кого ты будешь мучить? У трупа болезней нет». И хворь отступала. Так что, успокоя себя тем, что труп не кашляет, спим. А так как кашляем и во сне, значит, живые. Между нами поместили отца Евгения, который слышит нашу перекличку.
Утро. Стерильные улицы, вымытые плиты перед магазинами, зеркала витрин, красотки и красавцы на рекламных щитах. Здесь рекламы все-таки поменьше, чем у нас, и не так она хамовато назойлива.
На завтраке говорю Наде о монашеском отношении к организму.
- Не знаю, как у монахов, но тебе организм кашлем дает понять, что так относиться к Божьему творению нельзя.
Наш путь на самую верхотуру Эвбея. На гору Сагмата, это в переводе седло: со стороны глядя, она походит на седло, на ней горный монастырь Преображения Господня. Дорога вверх трудная, асфальт старый, по краям дороги никаких ограждений. Как бы мы ехали по ней вчера вечером, как задумывалось ранее? Вдобавок вчера и настоятеля, отца Нектария, не было. О нем мы наслышаны, хочется увидеть. Говорят, он так носится по этим дорогам, что машина на гололедице крутится как в цирке на триста шестьдесят градусов.
Какие просторы во все стороны света, какие дивные цветы и кустарники вокруг. Женщины ахают: какие дивные крокусы всюду, лиловые, белые, голубые. Маленькие елочки. На гранатовых деревцах уже нет листьев, но большущие гранаты. Поодаль, еще выше, новый храм. А в главном идет служба. Тихонько входим, долго тихонько стоим, тихонько выходим.
В начале создания обители пришел сюда монах Климент, называемый ныне Климентом Сагматинским. В 1106 году император Алексей Комнин даровал обители Крест с мощами трехсот (!) святых. Было братии сто человек. Сейчас два. Да еще наши студенты: Володя, Семен, Григорий. Учатся в Афинах, а так они из России. Володя из Севастополя. Приезжать сюда любят, помогают и по хозяйству, и в службе. И сейчас быстро успевают приготовить кому чай, кому кофе, угощают и фруктами. Рассказывают о богословском факультете, на котором учатся. «К нам меньше желающих, чем на юридический и медицинский». - «Ну да, там доходнее. Учением довольны?» - «Хорошо, дают знания, и латынь, и греческий, но сильна светскость в вузе, обмирщенность. Курят даже. Не все все-таки». - «А вас гречанки не захороводили?» Смеются: «Нет, наши лучше». Какие тут трудности? Да никаких. Вот вода привозная, да зимой заметает, снег метра два толщиной.
А вот и сам хозяин. Оказывается, он вернулся под утро, прилег, его не хотели будить, но сам встал и пришел к нам. Так ласково и приветливо обнимает каждого, так от души благословляет, что мы все веселеем и чувствуем себя давно с ним знакомыми. Это оттого еще, что отец Нектарий очень любит Россию, много раз у нас бывал. И бывал не просто, а шел по следам святителя Луки Войно-Ясенецкого Крымского. И Сибирь, и Архангельск, и Соловки, и Симферополь. И Средняя Азия. Даже по Енисею прошел от Красноярска до Норильска. Отметает наши восхищенные возгласы. «Я же не под конвоем, какая тут трудность. Не на “черном вороне”, на нормальных машинах. С молитвой. Помощь святителя везде ощущал». С большой благодарностью вспоминает встречи на Русской земле. Ведет в созданный им мемориальный музей Крымского святителя. Музеем и не назовешь, это храм молитвы и памяти. Да, такого у нас нет, это нам даже и в упрек. Здесь частица мощей, гроба, часть святительской рясы. Также подлинные вещи святителя, редкие фотографии, описание фронтовых ранений, рисунки - руководства по хирургии. «Много бывает у нас паломников, ведем сюда. Люди поражаются, что столько выдержал человек. Была правнучка Татьяна».
Отец Нектарий выносит для поклонения главную святыню, которой награждена обитель - Крест императора с мощами. Крест весь в сиянии драгоценных камней. Но это сияние говорит не о драгоценности украшения, а о святости. Триста святых. Это в голове не укладывается. Но дай Бог, чтоб уложилось в душе.
Говорим о Керчи. В ней, в древнейшем храме Крыма, Предтеченском, крестили святителя Луку. Ныне там строится храм с престолом в его честь.
Идем в новый, трехсвятительский храм. Престол во имя святых Серафима, Иоанна и Климента. Батюшки, сами постоянные строители новых храмов и реставраторы разрушенных, знакомятся со стройкой с полным знанием дела.
Тут так хорошо, что вот было бы так, чтобы время остановилось и дало нам еще и еще отрадного здесь пребывания. Но нет средь нас Иисуса Навина, некому остановить солнце. А оно уже очень высоко.
На прощание отец Нектарий дарит нам свою книгу «Возвращение». Она на русском языке. Ну, как ни грустно, надо ехать.
И опять отдаемся опасному движению, молясь и уповая на мастерство водителей. Сияет солнце, сверкает внизу, отражая его, озеро пресной воды. Путь в Афины, в столицу античности, на материк. Ждем, что скоро опять паром. Мы же на Эвбею прибыли на пароме. Но нет никакого парома. Несемся и несемся. Длинная эстакада, по бокам канаты. Мелькнула внизу вода. Отец Геннадий сообщает
- Вот вам и паром, не будет парома, проспали чудо строительства. Это же один из самых длинных мостов в мире. Тут были такие споры, конкурсы, чей проект взять? По-моему, французы победили.
И снова дорога, и снова молитвы. Ну и, конечно, не можем наговориться о монастыре отца Нектария.
Нас сопровождает Володя. Его благословил отец Нектарий. И это очень спасительно для нас, ибо Володя ездил тут многократно и знает, где лучше проехать, чтобы быстрее доехать.
Афины
При въезде в Афины вывеска «Русико пирожки». Так и написано русскими буквами. Чуть дальше - «Галушки». Не хватает белорусской бульбы, и было б полное представительство братьев-славян. Володя указывает еще на одну смешную рекламу: дюжий парубок в расшитой косоворотке с банковской карточкой в руке. Надпись: «Чи можу я отримати за свои гроши? Доллар чи гривна?»
Начались такие пробки, каких не было в Салониках, нет и в Москве. По бокам улицы тесные тротуары, потоки людей. Поджав ноги, на ступеньках магазинов нищие, как детали архитектуры. Среди тысяч машин толпы людей и тысячи мотоциклов, от огромных тяжеловесов с закрытыми колясками до несерьезных мопедов. Машины сигналят, люди чего-то кричат - и друг другу и в мобильники. Женщина в годах, глядя в зеркальце, на ходу наводит красоту, подкрашивается, ее крепко прижали, она хоть бы что, встряхнулась и опять красится, опять видит только себя. Впереди долго мешается, так сказать, под ногами, красный «ягуар», за рулем в «ягуаре» бабушка, а на заднем стекле надпись на английском языке: «Я тоже еду».
Впереди виден Парфенон, Акрополь. Елена вспоминает студенчество:
- Отмывала, - это такой термин, то есть пространственное, объемное изображение, - Парфенон. Строгий такой, интересно. А по русской тематике деревянное зодчество Каргополя.
Дальше - пешеходные места. Еле-еле находим местечко машине. Другое местечко находим на другой улице. Эту местечковость просят крепко запомнить наши водители. Тут мы обязательно растеряемся. То есть не растеряемся, мы люди смелые, но потеряться можем, так что чтоб вернулись к стоянке. Прощаемся с Володей. Завтра он вернется к отцу Нектарию, счастливый.
Бог мне судья, не люблю Афин. Сразу вспоминаются страницы, читанные о них. Афины, замечает Константин Леонтьев, погубила демагогия. То есть проболтали государство. А Спарта, завоевав Афины, ибо была спартанской и зрелищ особо не любила, заразилась болезнями Афин и тоже провалилась в черные дыры истории. Тут издевались над христианами. Тут же ставили прославленную классику античной драмы. И там и там были зрители. А драмы были соответственные: полюбила любовника, а дети мешают любить его, детей убила. Старый стал отец, давай выгоним. Нужен престол, давай царя отравим. Драматург Сенека, кстати, был наставником... Нерона. Очень многому интеллигент античности научил монарха античности. Тот, например, обедал при свете живых факелов. Живые факелы - это заживо сжигаемые привязанные к столбам меж пиршественных столов христиане.
Конечно, были и Сократ, и Платон, и Аристотель. Они могут быть даже названы светскими предтечами христианства, ибо исповедовали единобожие. Может быть, они даже и пророка Исаию читали. Аристотель, кстати, был наставником Александра Македонского. Да ведь и Македонский окончил жизнь безславно. Хотя то, что все Средиземноморье к началу новой эры говорило на греческом, это, конечно, его заслуга.
Новые времена начинались Дионисием Ареопагитом и проповедями апостола Павла, потом и других. Именно Дионисий почувствовал момент Крестного подвига Христа, когда содрогнулся мир во время Распятия. Здесь рушились идолы язычества. То, что в музеях выставлены безносые и безрукие скульптуры, вовсе не говорит о варварстве древних жителей. Ценили прекрасное, но не такое. Эта античная эротика будила не лучшие чувства. Когда Петр заполнил Летний сад антиками, весь Петербург недовольно гудел, и пришлось ставить в саду специальную охрану. Христиане разбивали статуи богов, и правильно делали. Эти «боги» и сами рушились, устрашаясь молитв святых.
Знаменитую афинскую безбожную философию, эти «афинейские плетения» посрамили святые. Но и то надо сказать, что посрамленные, например, великомученицей Екатериной, философы начинали веровать во Христа и за это бывали убиваемы.
Аналогия России и погибшей Византии, которой сейчас многие увлечены, справедлива в двух случаях: в денежном вопросе и в отношении зрелищ. Да и то: русский не еврей, не араб, не турок, не грек. Накопив, он может и наплевать на богатство, он не венецианский купец, в нем все равно, в глубинах сердца, есть понимание ничтожности богатства перед спасением души. А вот зрелища, особенно комические, даже страшнее жадности, они изнуряют умственное и нервное состояние, низводят человека до биоробота с инстинктами. И все равно Россия - не Византия, зрелища и деньги нас не погубят, лишь бы от Бога не отступиться, а остальное переживем.
По обочинам тротуаров сидят веселые негры, теперь их надо называть афроевропейцы. Им хорошо на солнце, предки у них жили на экваторе, а нам тяжело. Кричат: «Земляк, камрад!» - и схватывают с доски перед собой комочек какой-то массы и шлепают его на свободное место доски. Комочек вдруг из лепешки быстро превращается в какую-то фигурку. Это превращение изумляет детей и они тормозят родителей около негров.
- Чем бы дитя не тешилось, - говорит один из нас, а другой заканчивает:
- Лишь бы не вешалось.
Мост над наземной линией метро. То и дело гремит предупреждающий колокол и проносится короткий поезд.
Неохота мне идти по этой безбожной античности, бывал я тут, знаю все. Вон храм императора Адриана, потом его переделали в христианский храм, сейчас, наверное, демократический музей. Тут еще слева вверху тоже музеище, а там как пойдут всякие Дианы, да Афродиты, да Минервы. Одно отрадно - кондиционеры, вентиляция. Продвигаемся. Народу все гуще. Кто-то ушел вперед, кто-то отстал. Я зазевался, где жена? Нет жены. Да, хорошо для воспоминаний: потерял жену на пути к Акрополю. Меня окликает Димитрий Гаврильевич. Он дарит мне такой нарядный блокнот и такую при нем богатую авторучку, что нет сил отказаться. Загружаю Димитрия Гаврильевича просьбой, увидев мою жену, сказать ей, что я ее ищу. То же самое, в отношении своей жены, Галины Георгиевны, просит и он. Говорю ему, что если посмотреть с вершины холма на юг, то можно увидеть остров Эгину, где подвизался великий святой нового времени Нектарий Эгинский.
Нахожу тень, сочиняю афоризм, что лучше плохо быть в тени, чем хорошо на солнце, раскрываю сверкнувшие белые страницы блокнота, и... и напарываюсь на невеселое событие. Из-за угла на приличном мотоцикле выезжает парень и притормаживает около голосующего ему другого парня. Третий парень выскакивает сзади, сшибает мотоциклиста с седла, прыгает в седло, напарник пристраивается сзади и они уносятся, оставив на земле упавшего хозяина, лишенного своей движимости. Интересно, что у него сразу находятся свидетели и кто-то уже телефонит в полицию.
Встречаю жену, идем искать стоянку. Узнаю стоимость билета на посещение остатков античности.
- Сколько? Двенадцать евро? С делегации? С человека?! За зрелище развалин и статуй с отбитыми носами? Ну, господа-товарищи!
- Но едут же. Ты же видишь, какой наплыв.
- Это безбожные язычники нового времени.
Интересный разговор прерывает событие, которое происходит от нас в десяти метрах. Несколько подростков нападают на негра, бьют его, он отмахивается, ему бегут помочь другие негры, но и к парням спешит под-
крепление. Свистки полиции, три полицейских с дубинками. Лупят и тех и других. Негров лупят сильнее. Парни убегают. Полицейские хватают негра, защелкивают наручники. Но тут мужчина в годах вмешивается и горячо отстаивает негра. Он готов идти в полицию, он оборачивается, он призывает в свидетели тех, кто видел, что первые начали драку не негры. Полицейские снимают наручники с негра и, погрозив ему дубинкой, идут далее. К мужчине подходят женщины и начинается дискуссия.
За что, спрошу, любить Афины? Отвечаю: за Дионисия Ареопагита. Да, пожалуй, и только.
В Великую Лавру
Выдираемся из духоты и тесноты Афин долго, и отец Геннадий, занимая время с пользой, кратко рассказывает о знамении Креста над Афинами в 1925 году. Именно тогда Греческая Церковь с подачи Патриарха Мелетия (Метаксакиса) перешла на новый стиль. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский не поддержали Мелетия. Русского Патриарха тогда не было, был Местоблюститель, но, к чести русских иерархов, они также не поддержали Мелетия. Хотя на них давили большевики. Первое давление выдержал Патриах священномуче-ник Тихон, от следующих отбился будущий Патриарх Сергий (Страго-родский). Так вот, 14-го сентября, в церковное новолетие, верующие в огромном количестве собрались у церкви Иоанна Богослова в Афинах и протестовали против нововведения. Стояли стеной, не расходились. Их оцепила полиция. Молящиеся защищали священников, которых хотели арестовать. Внезапно в небе засиял огромный восьмиконечный Крест, который осветил и церковь, и молящихся. Есть множество снимков этого Креста. Люди упали на колени: «Господи, помилуй!». Объятые страхом полицейские не смели войти в храм. Мало того - трое из полицейских потом приняли монашество. Явление Креста было невозможно объявить выдумкой, и Мелетий в своем обращении пытался объяснить явление тем, что Крест был послан для мирного урегулирования отношений меж полицией и старостильниками. Но всем было ясно, что Господь четко дал понять, на чьей Он стороне. Афонские монахи, собравшись в монастыре Ватопед, резко осудили новостильников.
Заправка. Наш внедорожник рад любому бензину, но заправщица, дородная тетка в широких цветных брюках, льет самый дорогой и льет под горлышко. Прямо насильно, не спрашивая, каким заправить. Оказалось -болгарка. Мало того, она самовольно проверила давление в шинах и настырно набросилась на протирку стекол.
- Смиримся, - хладнокровно произносит Александр Борисович и достает бумажник.
Коринф по дороге, и опять столько можно сказать о Коринфе, начиная с посланий к коринфянам, и, конечно, хорошо их вспомнить на местах, где их зачитывали первым христианам. Может быть, вот эти камни помнят великие слова апостола о любви? Открываю Новый Завет, читаю из Первого послания коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я - ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею - нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... Достигайте любви» (1 Кор. 13, 4-8).
- Еще зачитайте оттуда же, - советует батюшка, - очень впечатляет, это назидание помню наизусть: «Разве не знаете, что вы - храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм - вы». Глава три, стих шестнадцать - семнадцать. Можете проверить. Да, вот тут, тут зачитывали это послание, передавали из рук в руки, читали вслух. Назидались и исполняли, и шли за Христа на мучения.
Батюшка замолкает. Тут мы ныряем в тоннель, затем ненадолго выехав на солнышко, ныряем в следующий. Только и увидели по дороге прямо и левее гору Коринф, похожую на Фавор. Вообще, утешая, говорю, что от того Коринфа ничего не осталось, только коринфские колонны. Да и их немного. Я был в Коринфе. А колонны, они везде колонны. Спешим в Патры, к ночлегу. Очень сильно нас тормознули Афины. На остановке Димитрий Гаврильевич дарит нам диск: мужской монашеский хор исполняет русские народные песни. И вот - до боли сердечной откликается в душе песня: «Ой ты, степь широкая, степь раздольная». Будто вся Россия с нами едет по Греции.
Коринф. В горы
В Коринфе была замучена малоизвестная нам святая Еликонида. Она родом из Салоник. Во времена гонений на христиан публично заявила о исповедовании Христа. Ее заставляли принести жертвы языческим богам, объявляли волшебницей. Уговаривали: «Ты такая молодая, красивая, богатая, образованная». Она сказала, что принесет жертвы, просила оставить ее одну в храме. И пока язычники ликовали, она разбила статуи Аполлона, Венеры, Минервы, разбила и Асклепия, языческого покровителя врачевания. Еликониду бросали и в раскаленную печь, и травили голодными львами, но и пламя угасало, и львы лизали ей ноги. Ее приговорили к усекновению мечем. Она радостно говорила, когда ее вели на казнь, что счастлива присоединиться к Пречистой Приснодеве Марии, к святым Марфе и Марии, Марии Египетской, к святой Елисавете, к первомученице Фекле, ко всем женам и девам, служившим Христу. Когда ее усекли, из раны вместо крови вытекло молоко, что было знамением чистоты святой мученицы Еликониды.
Все придорожные склоны в рекламных щитах, закрывающих перспективу. Это даже может быть символом времени - взгляды специально натыкаются на близкую выгоду и не простираются вдаль.
Еще надо заметить, что едем мы по древнему Ахейскому княжеству. Ахейцы также упоминаются в древних источниках, например, в «Илиаде», и в религиозных. Едем мы по полуострову Пелопонесс. Сразу вспоминается почти тридцатилетняя Пелопонесская война, в которой победила Спарта.
А вообще Эллада в древнем и раннехристианском мире звалась Ил-лириком. В Писании говорится о распространении христианской веры «от Иерусалима до Иллирика».
Наш путь в горы. Поднимаемся так быстро, будто взлетаем. Ощутимо закладывает уши. По сторонам страшное зрелище обгоревшего леса. Видимо, был пожар, подгорело снизу, потом почернели стволы, умерли ветви. Из второй машины звонят - потек тосол, надо останавливаться. Как раз таверна, отцы благословляют обедать. Обсуждаем, что заказать. Пятница. Значит, рыба. Отец Геннадий толкует с хозяйкой. Для нее такой большой заезд - целое событие. В день три-четыре человека, тут прямо свадьба. Придется подождать. Ну, хотя бы очнемся от тесноты и движения.
Тихо. Вдруг в тишине колокольчики. Да такие разные. И резкие, и мелодичные. Это пасутся козы. Впереди, на той стороне ущелья, над горами огромный Крест. Туда и едем. Мегалос Лавра, Великая Лавра. Официально: Мегас Спилео.
Обед спокойный, тихий. Вроде и отцу Сергию полегче. Хвалит женщин за выдержку и терпение, за мужественное перенесение дорожных тягот. «Вот на Афоне не слышно ни ссор, ни шумных разговоров, почему? Женщин там нет. Отсюда вывод: в делегации у женщин афонский характер».
Наши мастера справились с утечкой и приглашают рассаживаться по местам. Опять начались зигзаги. Резко вниз и резко вверх. Отвлекая от напряжения, отец Геннадий рассказывает о занятиях по вождению в грузинской школе:
- Инструктор говорит ученику: Едешь по горной дороге. Слева скалы, справа пропасть, впереди на дороге старуха и девушка. Кого будешь давить? - Старуху. - Почему? - Старуха уже пожила, хватит, а девушка молодая. - Тормоз надо давить, тормоз.
На нашей дороге и пропасти, и скалы, но навстречу ни девушек, ни старух, поэтому отец Геннадий давит в основном на газ. Скоро ли доберемся?
Да, если мы по проделанной в горах дороге так долго и трудно добираемся, как же тогда монахи? Умели они уходить от мира. Еще же надо было и отстоять у нечистой силы место проживания. Слово «мегалос» -великая - относится не только к лавре, но и к пещере, с которой и началась Лавра. Огромная пещера, в которой жил огромный змей. В пещеру безстрашно вошли два монаха, Феодор и Симеон, и с ними святая Ефросиния. На иконе она пишется с козочкой. Они несли с собою икону Божией Матери. Змей вышел навстречу, а от иконы засиял такой невиданный на земле свет, что змей сразу погиб.
Над пещерой выстроены церкви, но вначале идем в пещеру. При входе источник, в него льется струя и как-то очень музыкально поет, падая в водоем. Рядом кованая кружка на серебряной цепочке. После такой дороги пьем воду и никак не напьемся. Рассматриваем объемную панораму происшедшего тогда события - огромного змея, монахов, Ефросинию и сияющую икону Божией Матери. Белая козочка испуганно жмется к ногам Ефросинии. Змей разинул зубастую пасть. Тут даже изображение его, его размеры устрашают, а каково было им тогда? И какую духовную силу надо было иметь, чтобы пойти на битву, имея одно оружие - веру православную!
Поднимаемся в верхние храмы, а там все, как всегда - молимся, батюшки служат. Ставим свечки, оставляем записки. Выходим на паперть. А она здесь так вознесена над пространством, что прямо летишь вслед за взглядом, которому не во что упереться, он тает в небе. И представляется, как выходили монахи на рассвете после ночной службы, как им легко и радостно вздыхалось в этом приближенном к Богу месте. Кто-то вздыхал и вспоминал родных, которые там, внизу, кто-то уже отрешенно молился о последнем часе на этой земле. Да, нельзя, нельзя, говорят святые отцы слишком любить земные красоты. Они все равно многократно меньше того, что приготовил Господь любящим Его.
Надо ехать. Надо, хотя не хочется уезжать. Так душевно, так спокойно. Спускаемся к машинам. Внизу еще один источник. И вот интересно, вроде бы уже пили и пили из первого источника, но и из этого пьем и не напьемся. Идем вдоль склона горы, на вершине которой Крест. Хочется назвать склон стеной, до того он вертикален и выглажен дождями и ветрами. И как только там устанавливали Крест? Он так вознесен над пространством, так прочно царствует над ним, что становится спокойно.
По-прежнему в ущельи, хорошо слышные, звякают колокольчики. Будто козочки нас приветствуют и желают доброй дороги. Машины заводятся, колокольчики умолкают. То есть для нас умолкают, глохнут в шуме моторов.
Патры
Дождь приветствует паломников в богоспасаемом граде святого Первозванного апостола Андрея. Я бывал в Патрах, но приезжали сразу в храм и сразу уезжали, а сейчас поздно, едем на ночлег, и я изумляюсь громадности города. Длинная набережная, широкие улицы. На площади многолюдный митинг, много красных знамен, гремят усиленные звукотехникой речи ораторов. Наш отель где-то тут, но движение перекрыто. Диву даешься, как наши водители с их штурманами ориентируются в незнакомых местах. Крутимся вокруг митинга, решаем вначале самое трудное - парковку, потом ищем отель. Он рядом. К нашей радости, на улице святителя Николая.
- Это нас святитель Никола Зарайский всюду ведет, - радостно замечает Валерий Михайлович.
На ночь мы не оставляем икону святителя в машине, приносим с собой.
Отель скромный, но чистенький, уютный. Крики чем-то недовольных, чего-то от кого-то требующих слышны и здесь. Пока крутились на машине, я заметил церковь, она рядом, и когда разместились, в нее сходил. В храме никого. Хотя идет служба. Две женщины сидят на стульях. И сюда доносятся шум митингующих. Да, их там явно побольше, чем молящихся.
Да это и у нас так: приучили демократы требовать улучшения условий жизни от партий и правительств, а не просить у Бога. Ну тогда и митингуйте.
Море за решеткой
Раннее утро. Темно. И вверху темно. О, где вы, чистые звезды Афона? Пойду умыться к морю. Да, до моря дошел, а не умоешься. Огромные , в три метра, не меньше, ограждения. Это против иммигрантов. Когда отправляются паромы в Италию, пакистанцы и другие несчастные осаждают их, прячутся в трюмах, на палубе. Их отлавливают, они стараются проникнуть на следующий. Отсюда и эти стальные изгороди. Шел и шел вдоль них. Ну не весь же берег окован. Да, нашел проход. Ворота охраняемые, но охранник махнул - можно. Встал на колени уже перед Ионическим морем, умылся. Радостно плеснула вдруг волна, а вроде было совсем тихо. И так легко дышится! Это и от вчерашнего дождя, и от морского воздуха, и от того, что никто не кричит.
Вернулся. По-прежнему рано, но машины уже снуют по узким улочкам, как кровяные тельца по сосудам. Угловой ресторанчик с гордым названием «Эверест» вершиной упирается в рекламу мужского одеколона, а подножие завалено мусором, «Эверест» как бы вырастает из него и стремится ввысь, где гордые запахи побритого мужчины. В мусоре копошится бездомный, а рядом, обнявшись, покачиваются в танце парень и девушка.
Вдруг обнаруживаю, что заблудился. Я же долго шел вдоль забора, значит, надо обратно к морю и обратно вдоль забора до нашей улицы. Хожу, хожу, опять вышел к «Эвересту». Мусора и бездомного уже нет, а парочка спит на скамье.
Святой, Первозванный
Храм святого Первозванного апостола Андрея - один из самых больших в Греции. И построен уже в наше время. Вокруг него просторно, но машинам все равно некуда приткнуться. Ездим вокруг, обзор храма со всех сторон. Удары колокола зовут к службе. Но опять же, и священники на месте, и свечи продают, и записки принимают, но молящихся нет. А около церкви есть. И много. Это цыгане, то есть цыганки с цыганятами. Кстати, и одеты очень хорошо, и явно не изможденные, но требуют нахраписто. Наши сердобольные женщины все им готовы отдать. Матушка Галина даже разворачивает припасенные на обед в дороге пакеты и цыганята летят к ней как голуби на брошенную горсть зерна. Идет священник, гонит цыганят, они подскакивают к нему, складывают ладошки, просят благословения. Поневоле он благословляет. Они и думают, что благословил продолжать требовать... Тут я задумался. Что они требуют? Подаяние? Но подаяние не требуют, это даяние, его дают, и милостыню тоже не требуют, милостыню ждут. Между тем наши отцы благословляют наших женщин перестать общение с этим требовательным племенем.
- Аут! Финиш! Баста! Гоу ту скул! - сурово говорим мы.
Вспоминаю, как лет десять назад был здесь с Фондом святого Андрея и как мы совместно с греками служили у мощей святого. Акафист пели по очереди. Незабываемое. Думаю, что тогдашние голоса остались здесь и поселились под этим, похожим на небо, куполом.
А вот источник закрыт. Подходит мужчина, обещает достать ключ, но это будет стоить, называет сумму. Нет, не надо. И не из-за денег - оттого, что всюду, во всем православном мире источники безплатны. Они Божии, они истекают по Его воле, по молитвам святых.
К святому Спиридону
Елена постоянно молится или негромко поет духовные песнопения. Просим петь громче. Очень впечатляет, когда машина, как пуля сквозь ствол, летит внутри округлого тоннеля. Вместе поем «Царица моя Преблагая», «О, Всепетая Мати». Как-то при молитвах пролетаемое пространство пролетает еще быстрее. Часто, как канарейка, чирикает мобильник отца Геннадия. Да, достается ему. Как и отцу Петру. И хотя в любое время их готовы сменить за рулем Александр Борисович и Дмитрий Гаврильевич, основная нагрузка на них. Они в постоянных переговорах.
Так как торопимся, то около рукотворного чуда - Коринфского канала - нет остановки. Это, конечно, дивно - в граните и мраморе просеченный для прохода кораблей канал, который сделал Пелопонесс не полуостровом, а островом.
В тринадцать тридцать на паром в Игуменице, и в пятнадцать ноль-ноль уже на Корфу. Вот скорости нынешних паломников.
При подходе к острову поражаемся видами доселе неприступной мощной крепости. Как ее брали русские чудо-богатыри под командованием ныне причисленного к лику святых адмирала Ушакова, не представить. Да, такие богатыри, закаленные еще незадолго до этого штурмом Измаила, легко могли взять и Константинополь. И очень понимаешь теперь и Леонтьева, и Тютчева, и Достоевского, очень желавших вернуть православие на Босфор. И тот и другой полководцы, не знавшие поражений, были совсем рядом со Стамбулом и очень надеялись водрузить Крест над Софией. Тогдашние придворные либералы помешали. Да, было бы в мире две православные империи, не сошел бы мир с ума.
У святого Спиридона
Машины наши втискиваются в две щели на стоянке у моря. Выходим. Берем с собой икону и движемся всей группой по улицам Корфу. Идем к храму святого Спиридона, епископа Тримифунтского. На пароме кто-то сказал, что здесь на улице скажи громко: «Спиридон», - и мужчины, и юноши, и мальчики откликнутся. Это как у нас в Сибири Иннокентии, крещеные по имени святителя Иннокентия. Мы вызываем у кого любопытство, у кого уважительное внимание. Две жизнерадостные итальянки: «Русо? Браво, русо, брависсимо! Браво, русо пилигримы!»
Ближе к храму русо пилигримов останавливают, много желающих приложиться к иконе святителя Николая. Думаю, все знают о дружбе этих святителей и об их совместном стоянии против ереси Ария на Первом Вселенском соборе.
В храме проносим икону, устанавливаем у царских врат. Священник говорит, что откроют мощи для доступа через полчаса. Пока покупаем иконочки, маслице. Слабая, в чем душа, старушка спрашивает: «Русски человек? Русски ортодокс? - показывает на себя: - Ортодокс грек! - И тут же с гордостью: - Македония! Кирие елейсон!»
Открыли!
Святой Спиридон Тримифунтский неустанно ходит по всему миру. Его башмаки изнашиваются и их меняют на новые, а изношенные отдают, как великую святыню, в какую-либо епархию. За ними огромная очередь. Есть обувь святителя и у нас, в храме Святых отцев семи Вселенских соборов в Свято-Даниловом монастыре. Чудеса святого неисчислимы. Вместе со святителем Николаем он воевал за веру православную, помогал бедным, спасал в несчастьях. Простой пастух, он посрамлял измышления философов. Объяснял сим высокоумным мужам троичность Бога просто: брал сухую глину. Чтобы ее превратить в горшок, нужны еще две части - вода и огонь для обжига. Без их единства ничего не будет. Но и сами по себе они действенны. Или солнце: круглое, как без-конечность, от него идут лучи, они несут свет и тепло. То есть тут три ипостаси, а все это одно солнце. Или вода. Испаряется в пар - это вода, замерзает в лед - это тоже вода. То есть она и разная, но одна.
Конечно, благодаря нашей иконе для нас открывают мощи святителя. Голова его немного повернута. Это священники объясняют тем, что святого Спиридона при входе во дворец, где был собор, грубо остановил охранник, тогдашний омоновец, даже ударил по щеке. Святой смиренно подставил для удара другую.
Есть рассказ о подлинном случае, происшедшем здесь. Рассказ этот повторяет Гоголь: один англичанин не поверил, что это нетленные мощи и что они сохраняют температуру человеческого тела, сказал, что это восковая фигура. Святитель повернулся к англичанину спиной.
Прикладываемся к расшитым башмакам святого Спиридона. Для нас нет сомнений, что он ходит по дорогам России.
Мы собираемся уходить. Взяли свою икону, стоим с нею перед алтарем, перед мощами святителя, и запели величание. Вначале святому Спиридону, потом святителю Николаю. С этим пением выходим и спускаемся по ступеням. Очень много желающих приложиться к иконе. Группа наших туристов. Увы, почти все женщины в брюках. Но ведь прикладываются, ведь что-то же испытывают.
Вспоминаю свой приезд сюда лет десять назад. Причащался у мощей. Как же милостив ко мне Господь, что вновь привел к святому Спиридону. Дай Бог доброго здравия нашим благодетелям!
Еще идем в храм святой Феодоры, царицы, как раз она вернула иконопочитание в мирскую и церковную жизнь. В храме сегодня будет венчание.
Подготовка к нему заметна во всем: выстилают ступени полотнищами, по сторонам этой белой дороги расставляют букеты цветов, в храме на амвоне столики, под ними что-то возвышенное, укрытое легкой газовой тканью. В храме столы, на них графины, бокалы, в хрустальных вазах фрукты.
Возникла проблема
Относим икону в машину. Оказывается, проблема с билетами в Италию. Нам же надо обязательно в Бари, к мощам Святителя Николая.
Наши отцы и наши благодетели начинают думать, нам дают время пройтись по ущелью улочек, по торговым рядам. Но все очень дорого даже в сравнении с Афинами. Садимся за столики уличного ресторана на площади, читаем меню, правую его сторону. Ого! Ну и цены, тут любой аппетит пропадет. Мужественные женщины говорят, что надо просто хлеба купить и воды, и все. Другое решение: выехать за город. Побеждает третье: раз уж сели, вставать не будем. Да и встать нет сил.
Вся площадь в звуках вынесенных из кафе и ресторанов телевизоров. Идет футбол. Мужчина за крайним столиком так жадно смотрит, что не замечает, что перед ним в тарелке и что он так судорожно поглощает. К мужчине торопливо подбегает официант, спрашивает, прилипает секунды на три-четыре к экрану и опять бежит к посетителям. Ему удивительна наша индифферентность к происходящему на экране. Из кухни по временам выскакивает полная курящая женщина в футболке. И она -яростный болельщик. Тушит сигарету в пепельнице на нашем столике, смотрит за матчем, восклицает горестно или радостно, снова закуривает и убегает к котлам.
Принесли кальмары. Да уж, не с моими зубами есть туловища этих чудовищ. Вспоминаю Сицилию, ведь там, в морском ресторане, такие морепродукты сырыми ел. Жизнь идет.
К чаю женщина в футболке приготовила сладкие блинчики: она в свежие блины, закрученные вороночкой, налила жидкого шоколада. Вот попробуй такую сладость скушать культурно. Не буду. Откинулся на спинку.
На небе первые звездочки, вокруг праздное движение, магнитно управляемое экраном. Вот образ мира - рядом с храмом великого святого футбол, и нет ничего важнее для всей оживленной площади.
Закончили обед. Как не хватает настоятельского колокольчика, чтобы встать для благодарственной молитвы. Нам еще предлагают посмотреть витрины и просят продвигаться к машинам. Мы и не замечаем, что исчезают отец Геннадий, Димитрий Гаврильевич и Александр Борисович. Но чуем, что с ними не пропадем, Валерий Михайлович уверенно говорит, что мы со святителем, он нас ведет, и положимся на его заступничество. Елена предлагает петь «Кресту Твоему покланяемся, Владыко!» Поем. Вышли к морю. Кланяемся и крестимся у памятника святому праведному воину Феодору Ушакову, освободившему остров Керкиру от турок.
Бегут к нам от машин наши мужчины. Они свершили невероятное -взяли билеты на паром до Игуменицы - раз, от Игуменицы до Бари - два, и от Бари обратно в Игуменицы - три, и четыре: оформили визы в Италию. Но паром уходит через две минуты, вот что! Ждать не будут, хотя Димитрий Гаврильевич, непонятно как узнавший телефон охраны порта, что-то им говорит в мобильник. Прыгаем в машины как десантники, машины несутся, отец Геннадий впереди и отец Петр, верный ведомый, чуть сзади. Идем крыло в крыло. Крестимся.
Как мы успели, непонятно. Только с Божьей помощью. Внеслись на территорию порта, промчались вдоль причалов к своему парому. Полицейские, вот новость - аплодируют нам, ждали нас - показывают на пальцах - только одну минуту.
От святителя к святителю
На палубе отец Геннадий садится на стул, просит кофе, за ним побежали, принесли, но отец Геннадий уже уснул. Кофе выпивает отец Петр. Димитрий Гаврильевич рассказывает, что им и самим не верилось в то, что удастся сегодня пойти в Италию:
- И компьютер у них зависал, и порт отказывал: регистрация кончилась, но вот - мы здесь.
- Иначе быть не могло, - говорит Валерий Михайлович, - нас ведет святитель Николай Зарайский.
Да, нашим поводырям такие достаются нагрузки, что удивительно, как они их выносят, да еще остаются веселыми, приветливыми. Такая сегодня была гонка, и уже такие версты позади!
Темно на верхней палубе. Уходят вдаль огни Корфу-Керкиры. Помогите нам, святые Спиридоне и Феодора, жить дальше, бороться с кощунниками нового времени, с новыми иконоборцами.
Луна, зарождение которой мы видели на Афоне, уже вовсю сияет, окрепла, расширилась, разгулялась над водной гладью. Серебрится под луной белая пена волн, зародившихся от быстрого движения парома. Паром-то паром, но здесь они носятся как торпедные катера.
Жена, решив, что прохлада и ветер позднего вечера не полезны мне, уводит с палубы. Да мы уже и прибыли. В Игуменицу, в порт, откуда уходили на Корфу. А сейчас нам надо сверхсрочно перебираться в международный морской порт, это примерно как из Быково в Шереметьево.
И опять резкая гонка, опять молимся за водителей. Как отец Геннадий ориентируется в поворотах и разворотах, въездах и выездах, нам никогда не понять. Отец Петр не отстает ни на метр. Диво дивное. Причалы. Как отец Геннадий несется именно к нашему, опять же не понять. Порт огромен, здесь и грузовые машины огромнее. Целый город фургонов, фур, рефрижераторов, двухэтажных автобусов. Все заглатывает ненасытное чрево паромов.
А наш уже наглотался, опять мы последние.
- Последние будут первыми, - говорит Миша.
- Да, - подтверждает отец Евгений, - утром, при выезде.
Но рано радовались: нет на бумагах с визами каких-то штампов. Отец Геннадий говорит охранникам что-то по-гречески, Димирий Гав-рильевич говорит таможенникам что-то по-английски. Их начальник выхватывает из его рук наши паспорта и они скрываются внутри.
- Поем: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!» - решительно говорит Елена.
Стоим и не на суше и не на пароме - на широченных стальных сходнях - и поем. Поем тропари и величания святым Николаю и Спиридону. На паром прорывается возбужденный мужчина с двумя сумками, держит в зубах какие-то бумаги, мычит. Здоровенный охранник хладнокровно смотрит на бумаги и хладнокровно выталкивает мужчину обратно на причал.
Гудок. Портовые рабочие сгоняют нас со сходен. Неужели остаемся?
- Русские? - спрашивает вдруг здоровенный охранник.
- Да! - хором отвечаем мы. - Да!
Он делает широкий приглашающий жест. Машины наши с места в карьер, на большой скорости, влетают внутрь парома, за ними сыплемся мы. Навстречу Димитрий Гаврильевич, который, как победным флагом, машет каким-то документом.
Еще одно испытание - у нас нет места в каютах, только палубные билеты. Что же делать: таких палубных здесь многие сотни, чем мы лучше? Находим два столика, три-четыре стула - ничего, жить можно. Отец Сергий садится, достает пузырек с лекарством, поднимает его, приветствует нас, произносит: «За Италию!» - и выпивает.
- Вива Италия! - поддерживаем мы.
Напряжение спало, нервная разрядка наступила. Мы с отцом Евгением отчего-то говорим о демагогах и софистах античности. Видимо, зазвучали в нас отголоски Афин. Софисты потом стали схоластами средневековья, а потом юристами.
- Один сын крестьян учился в школе софистов, приехал домой. Родители рады, приготовили куриц. Он важничает: «Хотите, я вам докажу, что здесь не две курицы, а три?» - «Докажи». Он с помощью демагогии доказывает. Отец говорит: «Да, сынок, ты доказал нам, что здесь три курицы. Мы с матерью возьмем двух первых, а ты свою третью».
Это рассказывает отец Евгений. Я поддерживаю его рассказом тоже о софистах, когда один критянин сказал, что все критяне лжецы. Но если он сам критянин, значит, и он лжец. То есть он сказал неправду, значит, критяне не лжецы. А если они не лжецы, то получается, что этот критянин сказал правду, то есть то, что все критяне лжецы. Но устали уже слушатели, и разбирать такую софистику мудрено.
Появляются Димитрий Гаврильевич и Александр Борисович. Конечно, мы уже не сомневаемся в их способностях - через пять минут мы размещены в каютах. Без окон, без дверей, но тут все такие. Димитрий Гаврильевич по-моряцки учит выстукивать сигнал СОС.
- Нет, - говорят женщины, - не запомним: если что, мы просто закричим.
Италия
- «Покрывало ночи поднято, и воссиял свет Божий над тварью; явление утра пробуждает спящих. Свет Твой, Господи, да озарит сердца наши!» - торжественно произносит отец Сергий.
Рассвет, Италия. Сотовые пищат, на экранчиках в них почему-то позывные Албании. Проверка паспортов. Опять же и тут отношение к нам самое доброжелательное. Грацие, сеньоры.
Ехать сто километров. Тут больше ограничений на дорогах. По сторонам ни одной церкви. То ли дело Греция, там постоянно они тебя встречают, постоянно крестишься.
Долго ли, коротко ли, въезжаем в Бари. Я-то был тут только у храма, привезли из аэропорта и увезли в аэропорт, а оказывается, город большущий. Заплутали. Вокзал. Отец Геннадий как-то объясняется с итальянским таксистом, тот велит ехать за ним. Но на повороте машет нам ехать прямо, сам увиливает влево. Едем, едем, а куда едем? Полицейские. И они не понимают, чего мы хотим. Мы хотим приехать в представительство Русской Православной Церкви в Бари.
Едем дальше. Надо же - опять тот же вокзал. Мужчины скрываются внутри, нам разрешено выйти. Сквер у вокзала. Женщина в красных брюках ведет огромного пса. Пес вдруг резко садится и молча смотрит на нас. Женщина дергает его за поводок, командует встать. Псу хоть бы что. Подергав и покричав, женщина садится на скамью рядом с ним и закуривает.
Нашим поводырям внутри сделали ксерокопию с карты города и указали стрелками, куда ехать.
Снова успели
Опять же, Бог милостив, сколь ни плутали, а не опоздали к началу службы в русском Никольском храме при представительстве Русской Православной Церкви. Храм большой, красивый. Архитектура храма, роспись, иконы делают это место очень русским. Скульптура святителя Николая. Автор Вячеслав Клыков. В Бари есть и другая скульптура святителя, автор Зураб Церетели. Она там, где мощи. Скульптуры очень разные. Обсуждаем. Клыковская нравится нам больше. Перед нею рука невольно поднимается для крестного знамения.
Несем икону. Во дворе много русских. Прикладываются к иконе. Стоим с иконой у скульптуры. Встретились Можайский и Зарайский образы. Мужчина-итальянец спрашивает, не надо ли нам в чем «помоччи».
В храме читаются часы, идет исповедь. Наши батюшки включаются в церковное служение. Часы читает женщина. По-русски, но с заметным акцентом. Очередь выстраивается к отцу Петру. Еще бы - такой высокий, такой красивый, а исповедницы все итальянки да грузинки. За ящиком на выбор много разнообразных и разноцветных свечей. Много нарядных деточек. «Мама, вот эту купи». Грузинка Лали в расшитой узорами шапочке: «Тоскую по родине, но как вернуться, там такое сейчас».
Каждение. Храм наполняется запахом ладана, очень напоминающим афонский. Позвякивают колокольцы кадила.
Оказывается, есть проблема - сегодня у мощей служат католики, нас не пустят.
- Прорвемся, - говорит Валерий Михайлович.
- Будет скандалли, а надо дипломатти, - замечает на это итальянец.
Литургия. Малый вход. В открытых царских вратах, в алтаре, видна
наша икона. Стоит у престола. Кадят и в алтаре. Икона - будто парящая в голубых облаках ладанного дыма. Выносится Евангелие. Его чтение слушают стоя на коленях. Звучит русский язык, затем греческий, затем итальянский, затем латынь. Женщина носит по храму малыша в кружевных пеленках, прикладывает подряд ко всем иконам. За ними ходит муж и отец, старательно их снимает на кинокамеру. Малыш весело прыгает, поворачивается во все стороны. Хотя он и отвлекает от службы, но все им любуются. Еще одно дите, девочка, неутомимо бегает по всему пространству храма, дергает даже некоторых за одежду. Но дети нисколько не мешают ходу службы. Более того, уставшие и задремавшие взбадриваются.
Высокая итальянка в сиреневой кофточке следит за литургией по книжечке, иногда старается подпевать. Видимо, по переводу с русского. Раба Божия Надежда, вспомнив свой московский храм и труды в нем, и тут пригодилась, ухаживает за подсвечниками. Здесь свечкам дают догорать до конца, до самого корешка. Юноша и девушка, сразу понятно, что жених и невеста, так они нежны друг ко другу, враз ставят у иконы Божией Матери тоненькие свечки и глядят, какая сгорит раньше. То одна опережает, то другая. Догорают враз.
Ко Кресту. Благословляет молодой батюшка, выпускник Московской духовной академии. Благословляет ехать с нами послушника Игоря, чтоб нам больше не плутать.
К мощам!
Игорь за рулем. Это то же самое, что отец Геннадий. Несемся, Игорь рассказывает о храме, о себе, ведет репортаж о дороге:
- Тут прямо, тут еще прямо, тут маленький нюанс, налево, на круг, на набережную, тут близко.
У входа во двор храма наяривает на гармошке мужчина в годах. Мелодия родной «Катюши» очень подходит к воскресному дню. Уже солнце высоко, тепло. Много нарядных людей.
Спешим к мощам. Вверху служат католики. Сидя слушают громко читаемые в микрофон тексты. Спускаемся со своей иконой.
Но тут то, чего и опасались, - пускают за стальную решетку только священников с иконой, да матушку, да Валерия Михайловича. Что ж, горько, обидно, но все же мы не где-то, а рядом с мощами. Батюшки выходят, начинаем читать акафист святителю Николаю. Сверху слышна громкая католическая служба.
Да, разом вспомнилось, как в первый приезд просто чудом попал к святителю. Тогда вообще был огромный наплыв молящихся - из Москвы два самолета, из Киева один, мы, человек сто, прилетели из Корфу, да и туристов, и зевак богато - Никола Зимний. Еще вдобавок мы и опоздали. Самолету не дали сесть в Бари, развернули, велели лететь обратно на аэродром в Корфу. К чему-то придрались в визах. Стали читать акафисты святым Спиридону и Николаю. И когда дочитали, именно в эту минуту пришло разрешение на взлет. Опять в воздух, опять в Бари. Бегом на автобус, ехали с молитвой. Автобус некуда было поставить, добирались по набережной пешком. Даже и двор весь был запружен людьми. Давка - не подойти. А мы готовились к причастию, не ели ничего, прошли исповедь. Но смирились, что ж делать.
И вот смиренно стоял я у храма, и вдруг женщина в черном платье и белом платке именно меня попросила помочь им внести в храм икону. Оказывается, они привезли икону из Почаева, чтобы освятить ее на мощах Чудотворца. А мужчин среди них нет, они уже нашли одного, и вот избрали еще меня. Сердце мое возликовало: слава Богу, не до конца прогневался Господь на меня за мои грехи, допускает к святому. Конечно, с иконой пропустили. Мы ее внесли даже в алтарь, поставили у стальной решетки. И я уже, перекрестясь, стал уходить, как митрополит Герман велел стоять возле него. Так что я даже и причастился в алтаре и приложился к мощам. То есть мне ли сейчас сетовать на то, что сейчас не попал.
Сейчас, именно на девятом икосе, в котором говорится о невозможности говорящих и пишущих выразить Божие величие, загремели над храмом колокола. Они лучше нас знают, как славить Бога и служителей Его.
Выбрали ресторан с комплексным обедом, то есть чтобы и побыстрее и подешевле. Туда нас привез Игорь. Но обедать с нами не садится, прощается. Спрашивает официантку:
- Говорите по-русски?
- Си, сеньор. Ложка, вилка, мьясо, риба, тарьелка, мидии, чай, кофе, щет, русски говорю?
- Этого хватит. - Игорь уходит, спокойный за нас.
Меж столиков бродит смуглый азиат и как-то уж очень назойливо навязывает розы. Скромные, на коротком стебле, три евро штука. Отец Петр не выдерживает, покупает у него розы по числу женщин и вручает их.
А все-таки грустно. Подбадривая, отцы говорят, что устроят нам пляж, и мы едем на него. Вход свободен, купающихся нет, холодно в конце сентября для итальянцев. А для нас в самый раз. Находим и место. Много черных водорослей на берегу. Вода теплая, но в воду не тянет. Мы же в Бари, мы же скоро уедем, может, больше и не побывать.
А! Да какое сейчас нам купание? Общее решение: давайте в храм вернемся. И весело бежим в машины. И все получается замечательно. Нас - всех! - пропускают к мощам, мы прикладываемся, выходим, становимся у решетки и служим молебен. И снова акафист, но уже не читаем, поем. И в храме прибывает и прибывает людей. И русские, и грузинка Лали с подругами, и греки - их-то уже сразу узнаем - и наш добрый итальянец. Так вдохновенно служат батюшки, что не хочется, чтобы молебен заканчивался. У многих слезы на глазах. Святитель отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим!
Дежурный католик торопливо зажигает лампады. Отрадные, умилительные минуты. При выходе слева икона как панно - братание монахов, надпись внизу. Даже есть и по-русски: «С Крестом, Евангелием и плугом сотворили Европу христианскую». Но кто монахи, кого представляют, не понимаю, а спросить уже некого, все пошли наверх.
Свободное время. Разбрелись. Жена уселась на скамье у берега, я пошел бродить по каменным коридорам улочек, читая таблички, например: «Санта Тереза дела дона». Хорошо знать латинские буквы. Но тут и русские есть: вывеска: «Трактиръ». Но не стал заходить, не утерпел, побежал в храм, к мощам. Во дворе многие встречные суют в руки фотоизображения папы. При выходе увидел целый ворох таких изображений на ступенях.
У мощей никого.
Опять на паром
Ждать долго до парома, три часа. Приехали на причал. Томимся в машинах. Спасает хор Сретенского монастыря. Над шумом погрузки и выгрузки, в сумерках: «Ой, загрустил казак по дому...», «Ой, златая рожь, ой, кудрявый лен, расскажи, как я в Россию влюблен», и «Не для меня цветут цветы, не для меня Дон разольется», но тут мы не согласны с тем, что «не для меня придет Пасха», да и ударение смещено. Пасха будет для всех.
Наши женщины получили наконец-то доступ к своим вещам. Все чего-то разворачивают и сворачивают, укладывают и выкладывают. Молнии на сумках то трещат, то заедают. Михаил и отсюда наладил связь с Москвой.
Отхожу подальше от огней причалов. Луна так полна, так сияет, что не верится, что она так же сияет сейчас и в России. Неужели ее света хватает на столько пространства!
Паром приходит с опозданием. В Москве полночь, тут два часа новых суток. Но разве это мучения? Все перекрывает радость дня.
А у нас-то только входные билеты, посадочные, без мест. Что ж, с одной стороны, дело привычное, с другой - очень надеемся на средства и таланты наших заботников. А пока зрим на эмигрантов и иммигрантов. Мексиканцы, пакистанцы, арабы, всех много, все смуглые, все веселые, все с детьми. Таборы тут и там. Еда, курение, хохот. Посматривают на нас. Женщинам нашим жутковато. Ходил по палубе. Теснота. Люди в креслах и у кресел. И спят и не спят, кто как. Храпит негр, ему подхрапывает негритенок. По телевизору за ночь крутят серий сорок какого-то фильма. Пассажирки смотрят с интересом, это про них. Посмотрел немного. Красавица-смуглянка из одной из азиатских стран ищет работу в одной из европейских. Вот она в судомойке, вот хозяин заметил, знаки внимания, но она - нет, я не такая, вот она на улице, вот моет машины, вот ей улыбнулся проезжий корнет.
В буфете спросил чаю, говорю: спасибо, мне буфетчица отвечает по-русски: пожалуйста. Прошу салфетки, молчит. Повторяю просьбу, отворачивается. И неожиданно и зло говорит вдруг:
- Салфетки? Это у вас там салфетки. А здесь надо греческие слова знать! Привыкли командовать! - И тут же, хотя я и не спрашиваю: -Украинка я, вот кто я.
- Очень приятно познакомиться, - отвечаю, - а я москаль незалежний, незаможний, самостийный.
Оставляю невыпитый чай и ухожу. Ругаю себя, надо было мягче. Но и обидно же: все бывшие в Союзе народы, кроме, может, белорусов, терпят лишения, страдания, и все им кляты москали жить не дают. Да уж, не вспоивши, не вскормивши, врага не наживешь.
Есть в жизни счастье - мы в каютах. Ни окон, ни дверей, переборки - фанера, но все же каюты на четверых. А в других человек по десять-двадцать, хотя они тоже на четверых.
Залезаю на второй ярус, зацепляю ногой лестницу, она падает со страшным грохотом. Утром женщины говорили, что подумали, вдруг авария.
Хочется выйти на палубу, полюбоваться морем и луной над ним, но сил нет. Надеюсь, что луна может осветить и сон, спешу в него. Бормочу молитвы: «Неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем?»
Горная Греция
Здравствуй, Греция дорогая, давно не виделись! При подходе остров, похожий на ежика, и большая землечерпалка - значит, неглубоко. Удачно и быстро покидаем паром и сразу покидаем и Игуменицу. Понеслись на восток, через горную Грецию. Впереди ее сердцевина - Метеоры.
А что такое горная Греция? Горная Греция - это туннели. Туннели по два, по пять, по десять и больше километров. Но как они просторны, как освещены, как чисто в них. Пролетаем их как снаряды в пушечном стволе.
Туннели сменяют автобаны, вокруг красоты гор. Но, странное дело, и от красот можно устать. Или уже наступает какой-то момент исчерпанности сил внимания? Но нет же, нельзя так, ведь все это будет вспоминаться, ведь радость - это парение в горних высях.
А вот тут у нас искушение. И отец Сергий объясняет его тем, что мы на верном пути. Проще говоря, у нас кончился бензин, запасов нет. Александр Борисович сверяется с картой - заправка километрах в пятнадцати. Шоссе пустынно. Батюшки-водители созвонились, решают - мы ждем, а они едут за горючим.
Вышли на обочину. Ограждение такое серьезное, что по травке не погуляешь. Слышно, как отец Геннадий говорит по телефону и... смеется. Оказывается, и в той машине бензин кончился. Тоже встали, тоже заглохли. Весело. А еще веселей, что связь прекратилась. Мимо с ревом, просекая воздух, летят торпеды трайлеров. От удара воздушных струй даже и машину покачивает. Но если отец Петр как-то заправится, то как он развернется, тут же нет разворота, автобан разделен пополам высокими перилами.
Стоим, молимся. Молитва ведет нас. Говорим, что икона Святителя в той машине, Святитель не оставит. И верим в это, и вера наша вскоре оправдывается. Долго ли, коротко ли, видим впереди машину, которая несется к нам. задним ходом. Да, это они, это отец Петр с малой канистрой. Много мы видывали чудес, но то, что они рассказали, добавляет веры во всемогущество Божие. У них кончился бензин, когда дорога почти незаметно пошла под уклон, и они километров десять до заправки ехали с неработающим мотором. А потом - разворота нет - неслись задним ходом.
Но это еще не все. Отец Петр привез не тот бензин. То есть совсем не бензин, а дизельное топливо. Будет нас буксировать? Троса нет. Связать ремни? Порвутся. Он вскакивает в кабину, как ковбой на горячего коня, и мгновенно исчезает в сиянии наступившего дня. Отец Геннадий ставит диск и прибавляет громкость. «Утро туманное, утро седое. Нивы печальные, снегом покрытые.» - конечно, тут у всех в душе возникает образ России.
Появляется и увеличивается в размерах джип отца Петра. И вот мы уже заправлены, и вот мы уже едем. Сижу и думаю, что это из-за меня такое искушение, я же не очень хотел в Метеоры. И бывал, и думал: ну что мы приехали глазеть, под ногами у монахов мешаться. Ну, скалы, ну, дивно, конечно, но есть же и фотографии. Тем более, когда Метеоры стали объектом туризма, многие монахи ушли оттуда. Это как и из Каппадокии тоже многие ушли. Чудо природы смотреть? Да не природное это, а Божие чудо - эти вознесенные непонятно какой силой скалы, эти труды по созиданию подоблачных церквей. Как сказал поэт: «Тут пятьсот метров до земли и пятьдесят до неба». То есть я каюсь в своих мыслях.
Едем. В туннелях нет связи. В Норвегии, сказал Димитрий Гаврильевич, они еще длинней.
Выезжаем из них, вздымаемся в горы. Красота во все стороны, виды дивные. Но вот интересно, глядишь кругом, но нет же такой мысли - домик бы здесь купить, жить бы тут. А в России постоянно - едешь по Вятке - Костроме - Вологде: вот лес, вот озеро - ах, тут бы жить!
Метеоры
Метеоры. Служба. Что ж делать, ходим по скалам, торгуемся с продавцами якобы старинных монет, якобы подлинных старинных вещей, в том числе колокольчиков. Хотя звук у них напоминает, пожалуй, колокольцы пасущихся коз из ущелья Мегас Спилео. Надо купить. Как хорошо будет среди зимы взять его в руки, качнуть и услышать звук, воскрешающий этот день, этот простор. Продавец - его кто-то, видимо в шутку, научил говорить - кричит:
- Сумасшедшая цена, бешеная!
- Ты еще добавь, что она нереальная и дикая, - учим мы.
Продавец записывает новые слова.
- Только ты говори это весело, чтоб понимали, что ты шутишь. А серьезно говори, что цены соответствуют мировым стандартам продажи фальшивых музейных ценностей. Кричи: «Хороший фальшак! Хороший фальшак!» Честно торгуй.
Идем по крутой и живописной лестнице в храм. Хочется же подать записочки, чтоб прочитали имена родных и близких монахи именно этого заоблачного монастыря. Вроде и закрыто, но опять же великое слово «русские» открывает тяжелые двери. У края площадки бухта тонкой прочной веревки, вверху блоки ворот. Не было же этой лестницы, она для туризма, а были вот эти корзины, эти сетки, в которых поднимали и еду, и строительные материалы, и самих монахов.
И опять дороги, которые только ночью можно проехать без страха. Таверна «Оазис». У веранды красивая, чистенькая собака. Машет хвостом всем, но для поклонения выбирает Галину Георгиевну. Умильно смотрит в глаза, ложится у ног. Такая преданность собачки вскоре вознаграждена. Но не только еда была ей нужна. Мы это понимаем, когда торопимся после краткого застолья в машины. Бедная собачка даже подскуливает, прощаясь.
Вперед, в Салоники. Уже как в дом родной. Ночные огни, городки, деревни все чаще. Врывается запах очагов, готовящегося ужина.
Конечно, тяжело, конечно, немеют спины и ноги затекают. Но спасает молитва. Тот сильней, кто духовней.
Салоники
Салоники. Вся улица в отелях. Сплошь «Рэдиссоны», «Империалы», наш - «Олимпия». Вся улица Игнатиос сплошь в потоках людей с чемоданами на колесиках. Будто какие-то богатые беженцы. Меж ними лавируют мотоциклисты. Туристы, особенно туристки, испуганно прижимают к груди сумки. Да, друзья, в Афинах вам будет пострашнее. Наш багаж по сравнению с ихним крохотен. Устраиваемся. Говорят, что недалеко до храма святого Димитрия Солунского.
Отец Сергий опять раскашлялся, да и я за компанию. Ищем аптеку. Находим. Цены такие, что я решаю кашлять дальше. Но входит Димитрий Гаврильевич, и мы с лекарством.
Все-таки, не утерпев, идем с женой в город, спрашиваем направление к храму. Спросили троих, и все греки, и все говорят по-русски. Я думал, улица Игнасисос в честь графа Игнатьева, так много сделавшего для Балкан, - нет, в русском переводе улица Центральная. Идем и еще успеваем до закрытия. В полумраке храм внутри кажется огромным. У мощей на коленях женщина. Видно сразу - горе у нее. Помоги ей, святой великомученик!
И нам есть о чем попросить.
Возвращаемся. Немного даже заплутали. Но так хорошо в прохладе теплого вечера быть в этом православном городе. Вот только бы еще поменьше сигналов машин да трескотни мотоциклов. Вот и «Олимпия», а вот и кафе, за стеклом которого семейство Шафиковых. Мама и папа вывели в свет Михаила. Удивительно - он без ноутбука. Заходим, и нам понятно, почему так - стол у них заставлен соками и сластями. Добавляем и мы своих. Такой пир будет вспоминаться. Но надо иногда и поизбыточествовать, как говаривал святитель Тихон Задонский.
Прощальное утро
Последний раз выносим и помещаем в машину икону святителя Николая, последний раз сумки и рюкзачки утрамбовываются в багажники машин.
Стоим маленькой стайкой на перекрестке улиц. Отец Николай уже успел где-то узнать, кто-то ему рассказал о решении Европейского суда по правам человека в Страсбурге о том, что он постановил убрать Распятия из классных комнат в школах, якобы их наличие нарушает право ребенка на свободу вероисповедания.
- А фотографии звезд поп-музыки, футболистов тоже убирают?
Да, что говорить, сатанизм, сменивший атеизм, более агрессивен. Греция и так получает постоянные удары по православию. У них лет тридцать назад была развязана хамская компания, призванная опорочить звание священников, и она во многом была успешной для врагов нашего спасения. Церкви пустели. Это и нам угрожает. У нас то и дело поднимаются крики о моральном облике иерархов, священников, чаще всего надуманные. Как в анекдоте: «У такого-то дочь - проститутка». -«Да нет у него дочери». - «А мне главное - сказать, пусть так думают». А легковерных полно.
Ладно, не будем о грустном. Сегодня посещаем храмы и монастыри великие: и Димитрия Солунского, и святых братьев солунских, равноапостольных Кирилла и Мефодия, монастырь Анастасии Узорешительницы и учителя Церкви Григория Паламы, и, конечно, женский монастырь Суроти, где могила старца Паисия Святогорца.
Да, такие огромные планы. Но с молитвой успеваем везде.
У места казни святого великомученика Димитрия Солунского под алтарем храма молимся, поем величание святому. Очень впечатляющая большая икона - сцена казни. Вверху покупаем образочки, святое масло от мироточивых мощей, у выхода оглядываемся и вздыхаем. Всегда, конечно, будет помнится этот замечательный просторный храм - прибежище Духа Святаго, и этот великий подвиг юноши Димитрия во имя Христа.
Едем. Всюду по обочинам дорог, на всяких, как нынче называют огромную рекламу, баннерах, на растяжках, на заборах и стенах зданий портреты кандидата в президенты. Он двух видов: первый - углублен в тяжкие мысли о судьбах страны, и второй - взгляд его устремлен вдаль - он ясно видит светлое будущее страны. Иногда его портреты вытесняют всякие афиши со всякими гастролерами, но он вновь их решительно теснит. Еще видим два митинга. Знамена зеленые, желтые, красные. Приходилось их объезжать и петлять по тесным переулкам. В одном месте отец Геннадий что-то нарушил. Велено ему выходить для объяснения с полицией. Ждем, переживаем. Отец Геннадий возвращается очень довольный:
- На козлов напал, с ними легче договориться. - Смеется и объясняет: - Полиция и милиция двух типов - козлы и бараны. Баран перед камнем упрется и стоит, а козел через него перепрыгивает.
Движемся дальше. Реклама гастролей нашей «Березки», она уже в России не растет, все по заграницам.
У храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия очень талантливо сделанный им памятник - в виде старинной книги с цветными заставками церковнославянских буквиц.
Особенно впечатляет могилка старца Паисия в Суроти, в женском монастыре Иоанна Богослова. Монастырь вознесен над пространством, видны и море и Салоники. А могила Паисия, этого греческого Серафима Саровского, прямо золотая от золотого песка, который сюда привозят и который отсюда разбирают. Монахиня подходит: «Калимера!», дает листочки плотной бумаги и ловко сворачивает их в воронки. Батюшки служат краткую литию. Поем: «Со святыми упокой!» Монахиня прямо прослезилась. Вообще промыслительно, что старец упокоился не на Святой горе, а в доступном для всех месте. Особенно много идет к нему женщин и детей.
В дороге, наугад открывая «Алфавит духовный» старца Паисия, читали его слова о покаянии, о скорбях, что без того и другого нет спасения. Нет скорбей у человека - Христос оставил его. Тяжело тебе, а ты подумай, что брату твоему еще тяжелее. Главное: люди страдают тем больше, чем дальше отходят от Бога. Смотрели вокруг. Вот эти дали видел он, и этот дом, а вот этот уже новодел, построен после.
К Узорешительнице Анастасии
И опять выезжаем в зной и пыль современных дорог. Выхлопные газы, шум. Но сегодня это недолго. Вот мы и в монастыре Анастасии Узорешительницы. Основан в 1113 году. Красота и прохлада во дворе, вдоль стен свисают цветущие ветви, на клумбах розы и флоксы. Внутри прохлада и спасительный запах ладана. Великая святая. Много Настенек в России, да не очень много Анастасий, думающих о заключенных в тюрьмах. А ведь сколько из-за несовершеннства и продажности судопроизводства сидит безвинно. Их навещать, о них молиться.
Сколько же она, великая страдалица, выдержала. Богатая, выдали замуж за язычника. Но сохранила девство, ссылаясь на болезни. Ходила в тюрьмы. Муж понял, что она христианка, решил завладеть ее богатством. Но вскоре утонул. Она тратила деньги на еду и одежду для заключенных. Однажды пришла и узнала, что ее знакомых казнили. Она зарыдала и тем самым выдала себя. Схватили, уговаривали, пытали. Палач ослеп, когда пытался прикоснуться к ней. Вывезли с другими заключенными на корабле, в днище которого были отверстия. Но корабль чудесным образом пристал к берегу. Все спасенные приняли крещение и были казнены. Святая Анастасия была сожжена.
У источника очередь. Монахиня, приехавшая на маленьком грузовичке, наполняет очень много больших, литров по сорок, фляг. Легко их поднимает и попытки помочь ей отсекает.
- Не мешайте другим нести свой Крест, - назидает нас один из наших батюшек.
Тихо, хорошо. Струя льется во фляги очень музыкально. Вначале громко, потом, по мере наполнения, потише. Цветут золотые цветы на бордовых стеблях.
- Отцы, отцы! - торопит отец Сергий, - отстаете.
- Любите нас - будете ждать, - говорит Александр Борисович. Ему достается больше всех. Он же еще и снимает всю дорогу.
Опять едем. Час окончания занятий в школе. По улицам бегут и идут школьники. Бедняги, как у них ноги не подкашиваются под тяжестью рюкзаков. Такие тут школьные ранцы! Явно больше, чем у наших. Так что нет предела давлению образования. Или, может, они сразу таскают враз все учебники за все классы?
Прощальный обед, прощальный взгляд на Салоники. Мы на берегу. Можно и выкупаться. Но тоже все бегом-бегом. Да, вспоминаем мы московские мечтания об отдыхе на пляжах Греции. Фактически мы не купались ни разу. Ведь это только представить - две с половиной тысячи километров проехать, десятки святых мест посетить.
Опять таможня, опять все неладно
Итак, мы в том же месте, на той же таможне, где нас в первый день мучили пять часов. Но сейчас-то? Увы, пусть не мучения, но переживания ждут нас и сегодня. Предчувствуя их, мы приехали сильно заранее. И правильно. Конечно, делегация томится, но понимает, что без иконы нам вернуться в Россию нельзя. Хотя таможенники разводят руками, придираются к любой мелочи и обещают, что все будет в порядке, что отправят грузовым рейсом, там нас известят и так далее.
Нет, все-таки отвоевываем обещание отправить икону нашим рейсом. Но заставляют сдать в багаж. Негабарит. Но это наш, российский, рейс. «Мы договоримся с экипажем». Сидят, уткнувшись в экраны, отмалчиваются. Но нельзя икону в багаж. Не можем мы с этим согласиться. Спрашиваем напрямую:
- Вы православные?
- Да, православные, но инструкция...
Димитрий Гаврильевич интересуется:
- За какое время вы оформите бумаги? Время же идет. Будет нас ждать самолет? Сколько еще будете нас держать?
- Ха, - отвечает таможенник, - разве можно спрашивать у доктора, за сколько родится ребенок.
Это диалог, переведенный нам с английского. Он нас не утешает, как и не утешает зрелище девушек в форменной одежде за барьером. Они пьют кофе, болтают по телефонам, явно неслужебно. А-ля-ля, о-ля-ля, у-ля-ля. Все как везде. День у них идет, и зарплата им идет, что им до нас. Но день и у нас идет.
- Православная же страна! - восклицаем мы.
Интересно, что все нам сочувствуют, но никто не помогает решить проблему. Кто может решить? Ищем его. Находим по телефону. Да, он решает, но ему не разрешает инструкция. Димитрий Гаврильевич предлагает купить для иконы отдельное место в самолете, и они уже соглашаются, и он уже дергается идти облегчать свои карманы, но я вспоминаю, что слышал, как пассажиры говорили, что уже не могут взять билета на этот рейс, все места проданы.
Изнутри выходит чиновник и ляпает на футляр иконы наклейки: «В багаж». Это нам как клеймо. Это же не то, что желательный штамп «В кабину».
Таможенник, понимающий по-русски, встает, уходит. Мы решаем, что он специально оставляет нас одних и хладнокровно отлепляем наклейки. Он возвращается с отверткой и пломбиром, якобы ничего не замечает и начинает развинчивать шурупы. Оказывается, надо еще проверить «вложения». Икона осмотрена. Таможенник, спасибо ему, даже перекрестился. Подбежали посмотреть и девчушки. Ставит обратно крышку, завинчивает, натягивает проволочки, пломбирует. Взяли и понесли. Тут я опять отличаюсь. С моей стороны лопается проволочка. Ну что же она такая слабенькая? Пока я угрызаюсь, таможенник в две минуты меняет проволочку.
Димитрий Гаврильевич и другой таможенник уходят, мы с Валерием Михайловичем несем вахту у иконы.
- Вот, - говорим мы, - то Греция нас не очень-то впускала, а теперь не выпускает.
Так мы объясняем свое положение. Солнце между тем ощутимо сдвинулось, ему безразличны наши дела, ему свое - напоследок перед зимой жарит асфальт и все, что по нему передвигается. Ждем, говорим, что хорошо и потерпеть. Но как же там наши жены? Молятся, конечно.
Но время уже так жмет, что надо что-то решать. Читаем «Правило веры и образ кротости». По радио вдруг говорят, в том числе и по-русски, что рейс задерживается на час. Вот именно этот час нам и нужен.
Жены наши, как мы потом узнали, не только молились, но и твердо решили: без нас не улетать.
Далее происходит вот что: час пролетает мгновенно, по радио объявляют, что посадка на рейс в Москву заканчивается. Что ж, значит, остаемся. Переделаем билеты, доплатим, не будем унывать. Но вот к нам медленно, как судьба, шагает, как статуя, как Родина-мать, огромная женщина в полицейской форме. Мы понимаем, что наступило решение нашей проблемы. Следуйте за мной, делает она знак, и шагает впереди. Да она еще и молодая, да еще и красавица. А ведь время-то уже вышло. Она невозмутимо шагает, не торопится. Но зато проводит нас сквозь все очереди. Мы идем за ней, как солдаты за танком. Интересно бы на ее мужа посмотреть. А может и мужа нет. Спросишь, а она скажет: вот ты и будешь. И не отвертишься. Возьмет, как котенка за шиворот, и на вытянутой руке отнесет в свою квартиру. А там что делать?
Ее бы, мечтаю я, сделать моделью для статуи Греции. Она прекрасна и гораздо внушительнее американской статуи свободы. Тем более та с факелом, поджигатель войны, наша будет с крестом.
Она доводит нас - нет, вначале еще не до нашего контроля, а до рентгеновской камеры для негабаритных предметов. Еле-еле, впритирочку, проходит футляр с иконой в аппарат. Проходит! Далее наша миловидная великанша степенно ведет нас уже к нашему контролю, останавливается, ослепительно улыбается, делает под козырек и уходит. Неужели сразу забудет? А мы ее успели полюбить.
Говоря о любви к ней, мы лихорадочно разуваемся, вытаскиваем ремни из брюк, сваливаем их, часы, мобильники в пластмассовую корзину, и бегом-бегом через электронный хомут. Дальше хватаем все подмышку, поднимаем икону и бегом в самолет. Тут и жены, рады, будто век не виделись. И размеров они нормальных. А в самолете, хоть и пугали нас таможенники-греки, никаких проблем. И место иконе находится, и стюардесса имеет имя Анастасия. Валерий Михайлович дарит ей образок ее небесной покровительницы.
Все! «Пристегнуть ремни, командир и экипаж приветствуют вас на борту...» и так далее. Рейс для некурящих. Очень правильно. Я так измучился, что нет сил слушать рассказ о страданиях переживавшей за меня жены. Она обижается. Ну, раз обижается, значит, все в порядке. Отключаюсь и просыпаюсь от предложения поднебесного обеда. Оказывается, я самолетный-то ремень застегнул, а свой забыл.
Обедаем, смотрим на экранчиках фотоаппаратов снимки пройденных пространств. И ведь все это мы прошли и проехали, даже не верится.
На самолетном телевизоре маршрут. Обозначилась и европейская часть России. На ней вдруг читаем: Загорск, хотя уже лет пятнадцать Сергиев Посад. Все еще прошлое цепляется за нас.
В Домодедово икону встречает зарайская машина, присланная главой города. Он не смог быть с нами в поездке по Греции и Италии, но в первой ее части был на Афоне и поднимался на вершину Святой горы.
Милые наши батюшки, будем за вас молиться, но и ваших молитв просим. Как грустно прощаться. Боже, как все пронеслось - эти почти две недели. Но как ярко они помнятся. Это именно то спрессованное время, которое потом будет разжиматься и превращаться в ленту, на которой будут светиться дороги, монастыри, города, моря, острова, встречи и, главное, то, ради чего мы и ездили, - наши молитвы за родных и близких, за себя, за Россию, за Грецию.
ЕГИПЕТ
Спаситель выходит на проповедь, на Крестный путь спасения погибающих в тридцать земных лет. Но это возраст с начала земного Боговоплощения. А так Господь был всегда. Авраама, Моисея, Исаака еще не было, Он был.
И не переставал быть Богом - и до земного воплощения и в возрастании Богомладенцем, и в бегстве Святого семейства в Египет от царя Ирода. В избиении вифлеемских деточек ясно проявляется знание Ирода о Царе Иудейском. Все в ветхозаветном мире было полно ожиданием Мессии. Волхвы - это не какие-то языческие звездочеты, это виднейшие ученые и правители своих стран. Ведь они задолго до Рождества Христова пошли, ведомые звездой, на поклонение Господу.
Все было предсказано, и все сбылось. Ветхий Завет для нас только тем и ценен, что говорит о приходе Христа - этой последней милости Господа к гибнущему человечеству.
Остатки Ветхого Завета, идолы, кумиры, жертвоприношения, - все это было в Египте, когда туда пришло Святое семейство. Рушились идолы, свергались кумиры там, где шел Богомладенец, Божия Матерь, Об-ручник Иосиф и сын его Иаков. Объяснение того, что в Египте, особенно в Каире, очень много мест пребывания Святого семейства (еще и доселе не все места известны) в том, что египтяне боялись и прежних богов, и страшились Неведомого Бога, и старались поскорее расстаться с гостями из Палестины.
Так думаю, начиная вести торопливые дорожные записи египетских странствий.
В Каире есть все, даже четыре миллиона бездомных, живущих на каирском кладбище в центре столицы, в Каире нет одного - тишины.
Грязища, пылища. Дохлая лошадь на берегу. Сбило машиной голубя. Пирамиды, верблюды, ослы. Крики и приставания продавцов. И надо всем этим небо удивительной сильной голубизны.
Копты-христиане. Нил. Подземный ход. И тут было Святое семейство. Музей. Открывал Гамаль Абдель Насер.
Русское кладбище. Мария Михайловна Волконская, боярин Старицкий.
Митрофорный протоиерей о. Симон Неделька, 1864-1939. Христианский квартал окружен репродукторами, которые вдруг дружно закричали.
Тут русский архитектор выстроил два одинаковых храма, свв. Варвары и Сергия. Мусульмане приказали: уничтожить один. Архитектор ходил от одного храма к другому и умер между ними от разрыва сердца. Правитель Каира узнал и велел оставить оба.
Здесь Муса (Моисей), что означает «взятый из воды». Именно тут? Ну а где же? Так и кажется - раздвигаются камыши, и лежит на воде круглая обмазанная глиной корзина, а в ней прекраснейшее дитя, которое выйдет в соправители Египта и выведет евреев из рабства.
У коптов все враз: и церковь, и клуб, и комнаты для детей. Дети берут фильмы, сами ставят, смотрят, спорят, что смотреть.
Знакомство с реставраторами из России.
-Делаем в церкви святого Георгия придел Иоанна Крестителя. Поляки, итальянцы капризны, требуют больше нашего. На выходные возят их в отель на Красном море. Наши делают лучше, и хозяевам дешевле.
- На море не возят?
- Сами не ездим. Торопимся скорее закончить, чтоб скорее домой вернуться.
Мечеть Тулуниды, IX век. Вавилонская башня. Приглашают подняться на семь витков, всего девять. Круто, балкончиков, ограждений нет. Можно кричать во весь голос. Но кричать можно только одно: «Аллах велик! Аллах акбар!»
На крыше гостиницы кафе. Столпились туристы, ждут включения освещения пирамид. Включают. И в самом деле красиво. И гостиница тем более называется «Пирамида».
Ужин с бывшими студентами из СССР. Почти все заказывают кальяны. Некоторые, что смешит остальных, еще и свои сигареты курят при этом.
«Мы ехали в Союз как носители египетской культуры, а вернулись как носители русской культуры».
«Арабская культура - пример Европе для подражания. Европа мертва».
«Но разве иммигранты несут культуру?»
Вдруг смеются. Оказывается, кто-то забыл название подушки и просит еще одну бабушку. «Может, тебе еще одну девушку?»
Песня. Вольный перевод: «Меня полюбила такая нежная, такая красивая. Эти ласковые глаза, они так вопросительно и поощрительно смотрят на меня. Это румянец на щеках, эти ямочки, о! И все это мне?»
О женах. Мечта: жена-пигмейка. Маленькая, ест мало, не спит, работает двадцать четыре часа в сутки. Здесь муж сидит под пальмой, продает поштучно десяток авокадо, жена с детьми, у плиты, в поле, везде она. То есть пословица европейцев «баба она и в Африке баба» сюда не подходит, здесь она не командир.
В монастыре святого Симеона (X-XI) история о натравливании христиан на мусульман через иудеев. То есть иудеи говорили мусульманам: пусть христиане сдвинут своими молитвами с места вот эту гору. Но сейчас нам достоверно известно о старце Нитрийской горы, к которому пришел ученик, и старец спросил (он был в затворе больше полувека): есть ли сейчас в мире такие молитвенники, по слову которых двигаются горы? Ученик этого не знал. И вдруг гора под ними заколебалась и двинулась. Старец строго сказал ей: «Не шевелись, я не тебе говорю».
Церковь практически вырвана из горы направленным взрывом динамита. И Господь помог, и саперы были молодцы. Огромнейшая рукотворная пещера обнаружилась в склоне горы Мукат. Остальное доделывали добровольцы, вырубая в скалах очертания храма, высекая на граните и мраморе библейские сцены.
Известная Мусорная деревня, опять же чуть ли не в центре Каира. Сюда свозят отовсюду мусор, здесь его сортируют и этим живут. Постоянны угрозы строительства завода по сжиганию мусора. Но и тут же реальные доказательства пользы для города разборки мусора. Тем более как это - лишить работы двадцать тысяч человек. А семьи?
В деревне ослы, собаки, огромные, просто гигантские мешки с мусором на тракторных тележках. Дети веселые, пристают, но вот новость: ничего не просят, только чтобы с ними сфотографироваться. Что ж, это и не убыточно и не больно.
Отсюда в район Зайтун, более чем известный явлением Божией Матери. Церковь святого Павла Фивейского. Копты якобы специально закоптили ее стены, доказывая древность. Внутри выстелено домоткаными половиками, совсем как у нас. Показывают образ Божией Матери. Он был на бумаге под стеклом. Стекло от пожара лопнуло, но образ сохранился.
Двадцать два арабских государства. «В XII веке арабы согласились в том, что никогда не согласятся». - « С кем?» - «Со всеми». - « И друг с другом?»
Египет - ключевое арабское государство. Так было: без его благословения другие и шагу не делали. Сейчас этот диктат рушится. Скажу свое мнение: к сожалению.
Недалеко от гостиницы появился знакомый нищий. К гостинице они боятся подходить.
Через сутки
Уже Александрия. Трудная дорога до нее. Вечер. Балкончик номера над пространством. Море. Белые быстрые волны. Между ними и мною шоссе, слитный тяжелый шум извергающейся лавины моторов. Закроешь глаза, представляешь, что шум волн и машин - это шум только моря, что машин нет, а на улице, под окнами, гремят по камням колесницы, мешая спать. Так же, как мешают машины. Ничего же не изменилось. Как, а телевидение, телефоны? Ну и что? Пустынники сообщались духом. Так что если что-то и изменилось, то изменилось в худшую сторону.
Арабы восхищают. Они здесь с машинами на равных, как, может быть, с ослами. Я стою-стою у перекрестка, пытаюсь дождаться хотя бы крохотного интервала, чтоб достичь той стороны, а любой араб любого возраста и пола шагает в это мчащееся стадо и переходит улицу. Подчеркиваю - переходит, а не перебегает. Понять это трудно, это надо видеть. Я видел. То есть полное арабское равнодушие к цивилизации. Ты пришла, дело твое, а мы как жили, так и будем жить.
Здесь митинги, демонстрации: убили старика инвалида, а Шарон поздравляет военных с удачной операцией.
С утра поиски тихого места в городе, где б не было шума, было бы александрийское солнце. Такового места не обнаружено. Хотя улицу - так сказать, кандидата в таковые, нашел. Узкая, даже зеленая, но и спереди и сзади так напирали машины, так по-наглому наезжали, что я сдался. Они же не меня пугали, они так привыкли.
Вообще по сравнению с Каиром здесь оттенок превосходства. Еще бы - именно сюда явился Александр Македонский, чтобы доказать, что он - сын бога. Посетил тогдашнее языческое святилище. И уехал дальше воевать. Пока не умер от белой горячки.
В Патриархии, в самом старинном храме Александрии, святого Саввы (IV в.). В Африке пятнадцать митрополий. Епископ Синайский рукополагается от Патриарха Иерусалимского.
Митрополит Ириней:
- Ориген был еретик. Он жил до Вселенских соборов. Его считали учителем. Соборы не приняли его. Надо отделять в нем ученого от богослова. Он учит о прощении дьявола. Это мы не можем принимать. Бог это любовь, он простит, но после покаяния.
Во дворе Патриархии колокол. Весом четыреста пудов. «Мастер Михаил Семенович Воронов в церковь посвящает сей звучный памятник». Объясняют нам: «Государь император Николай I отлил этот колокол из завоеванных турецких орудий для измайловской церкви Христовоздви-женской в 1838 году».
Музеи Александрии древнее каирских. Кинотеатр появился здесь раньше, чем в Париже. Кальян в Египте не курили, он от турок.
Такими и подобными сведениями сыплет молодая экскурсоводка непонятной национальности. Рассказывает, как делали мумии. Как выбрасывали ненужные органы, удаляли и мозг («не нужен»). Сердце оставляют («Будет суд»).
- Мумия девушки Хаару, в переводе «красивая».
В зале воцаряется шум от вошедших детей. Учительница жует, резко хватает за шиворот наиболее веселого ученика.
- На весах сердце, на другой чаше перо бога справедливости. Если сердце тяжелее пера - плохой человек.
Картина «Поклонение крокодилу».
- Да, кланялись крокодилу. Вначале его ловили, убивали, потом потрошили, мумифицировали, потом поклонялись.
Идем далее.
- Рамзес Великий. 48 жен, 196 детей. - Опять возвращается к разговору о мумиях. Оказывается, я ее не совсем понял. Органы извлекали, но не выбрасывали, складывали в горшки и солили. Ставили рядом с мумией. Когда воскреснет, органы понадобятся.
Статуи богов. На голове корзины. В них клали просьбы (и кладут).
У бюстов Клеопатры. Экскурсовод:
- Она принесла две змеи, - обвела авторучкой два круга: вокруг шеи и вокруг левой груди. - Не умерла от шеи, умерла от груди. - Вновь обвела авторучкой свою левую грудь. - Потому что тут ближе к сердцу.
Переходим дальше:
- Вы заметили, что много скульптур без головы или с отбитыми носами? Это следы борьбы христианства с язычеством. Третий век. Святой Мина, убил его Диоклетиан. Положили мощи на верблюда, вещи его на другого. И отпустили. Верблюды шли, шли и сели. И святого Мину тут и похоронили. Это к западу от Александрии.
У витрины с книгами:
- Христиане-копты одни из первых перевели Евангелие. Рисунок, видите, - ключ. Ключ жизни - крест. Коптский древний крест - неувядаемый цвет.
Идем далее: ванна из черного базальта. Она же использовалась как гроб. А вот гроб в виде обуви, так как загробная жизнь - это дорога.
Девушка объясняет, что в Александрии есть совместный весенний праздник мусульман и коптов, когда они все «крашут яйца».
Приехали к Помпеевой колонне. Установлена в честь Помпея, спасшего египтян от голода поставками зерна. Так вот, товарищи, это, оказывается, и есть Александрийский столп, выше которого вознесся «главою непокорной» столп славы русского поэта.
Под столпом библиотека для простого народа, общедоступная. Прохладно. Колонна ровно над нами. Как ее везли, как поднимали?
Катакомбы. Это кладбище. Все усыпано черепками, и простыми, и расписными. Это от поминок. Везли с собой еду, посуду, а обратно посуду не везли, плохая примета. И взять ее тоже не хотели, не нести смерть в дом. Разбивали вдребезги, как у нас на свадьбе. Столы для тризны.
Город мертвых, вниз девяносто девять ступеней, три этажа. На всех поворотах ниши для праха бедных вроде колумбария. Богатых бальзамировали.
Среди гранитных, мраморных глыб, остатков памятников и архитектуры, которые все стареют, крошатся, рушатся, растут вдруг живые ромашки, которые сильнее гранита.
Монастырь святого Мины. Там, где остановились верблюды. Русский мозаичист Саша. «Фресок сделал - футбольное поле. В монастырь вас не пустят - пост. - Саша пошел, кому-то что-то сказал, вернулся: - Вам вынесут освященного масла».
Выносит маленькие керамические бутылочки отец Василидис. Объясняет принятую у них иерархию святых: «У коптов святой Мина идет сразу за великомучеником Георгием. Во всех домах коптов образ святого Мины обязателен».
Саша: «Тут много поработал немец Гофман, много увез в Германию, делает там музей. В монастыре девяносто монахов. Из монастыря они не выходят, не как католики».
Саша едет с нами на то место, где остановились верблюды.
- Монастырь этот - целое, прямо сказать, производство. Пашни, заводы, фермы, поселки. Тут тысяча двести человек на монастырь работают. Тут и малолетки вкалывают. У меня в подсобниках два мальчишки, получают неплохо. Совсем неграмотные. Русскому языку по ходу дела учу. Итальянцы работали до меня, все на охрах, коричневое. У меня ярко. Уже не хотят по-другому. В Италии я был, но мало. Перебросили в Алжир. Это сказка! Крым, конечно, это Крым, но тут экзотика деревьев, цвет неба, земли.
- В Алжире стреляли?
- А я кто? Разве я заметный? Сюда перевербовали, поманили деньгой. А уже так устаю, так, что и никаких денег не надо. Сам брагу делаю, рецептом могу поделиться. Если пятнадцать часов на жаре работаешь и если перед сном не расслабишься, то и не уснешь.
- Там, - показывает Саша, - дом Гофмана. Раз позвал. Дает по брошюрке. Думаем - дарит. Нет, содрал по десять зеленых. Да, похозяйничали тут они, немцы. Вывезли все: мрамор, мозаику, железо. Недалеко был аэродром англичан, и их обворовали. Тут война все время, непонятно с какого времени, включая до нашей эры. Едут и едут сюда, везут цветы, делают памятники. Земельку и с собой сюда привозят, и отсюда с собой берут.
Отец Василидис поет величание святому Мине. Как можем, поддерживаем. Ходим все время по россыпям черепков, остаткам кувшинов, посуды, мозаики. «Это был огромный город в пустыне, Огромный».
Вокруг раскопок и внутри, и вдоль, и поперек старые ржавые узкоколейки. «При входе в священный город бани. Не войдешь, пока не очистишься».
Спугнули шакала. Несется от зарослей тростника. Видимо, там вода. Сухо, жарко. Стадо овец щиплет траву и колючки среди мраморных остатков. По мрамору бегают муравьи и ящерицы.
Имя города Саша не помнит. «Я его называю Минском, он же в честь святого Мины».
Стою, дышу зноем. К ногам подбежал самый настоящий скарабей. И замер, ожидая решения своей участи. Мелькнуло: поймать и в Москву. Но, во-первых, не прокормить, во-вторых, он же еще и священный.
Вернулись ко входу, простились с отцом Василидисом. Саша показал еще и фонтан и горящие днем фонари. «Зачем днем горят, пойми их. Я это место называю Диогенией. Тем более ищу человека. Хоть с вами поговорил».
Мусульманка в хиджабе, вся в черном на такой жаре, говорит по сотовому телефону.
Да, сейчас бы во тьме египетской побыть, в прохладе.
С монастырем святого Мины связана история преподобной Аполлинарии, царской дочери, просившей разрешение у родителей уйти в монастырь. Они любили ее, но отпустили только на поклонение святым. В Александрии ее хотели принять на высшем уровне, но она избежала почестей, вошла в город ночью и сказала правителю области, проконсулу, что идет поклониться святому Мине. С ней было только двое слуг. Ночью они задремали. Аполлинария переоделась в заранее взятое мужское платье и тихо сошла с колесницы. Тут была болотистая местность, в которой она жила несколько лет. И никто не мог признать в ней женщину, когда она, назвавшись Дорофеем, просилась вступить в число иноков обители. Далее ее монашеская жизнь, страдания, клевета, на нее возведенная. Но она все выдержала, исцелила бесновавшуюся сестру, открылась родителям и опять вернулась в монастырь. В котором, по исходе земных лет, и была погребена.
Еще монастыри. Но ни в один не пускают - пост. Может, оно и правильно.
Монастырь святого Псоя. Выходит монах Макарий, ходит с нами босиком. Игумен монастыря епископ Исидор. Много монахов живут в пустынных местах, даже и без крова. Приходят в монастырь накануне праздничных дней.
Ограда монастыря Божией Матери Барамуза. Так понял, так записал. Идут переговоры. Жара, мухи. Выходят изнутри: разрешили только поглядеть. Внутри трактора «Беларусь» с крестами на радиаторах. Надпись из цветов на клумбе «Ай эм дэвэй» («Я есть Путь»). Дорожки усыпаны красной крошкой какого-то камня. Ежедневно три молитвы: ночью, утром, вечером. Во время поста время их увеличивается. Монах провел вдоль иконостаса. Приоткрыл завесу, показал алтарь. XIII век. Фрески плохо сохранились. Святым Антонию и Павлу ворон приносит хлеб.
У коптов 32 буквы, из них 24 греческих. Но это, оказывается, даже не греческие, а развитые из иероглифов египтян. Так объясняют. Везде в храме очень узкие двери. «Узкими дверями подобает войти в Царство Небесное». Здесь спасался святой Арсений. Постился, плакал, прятался за эту колонну. Четвертый век. Изречение от него: «Когда я говорил, я об этом жалел. Когда я молчал, я об этом не жалел».
Нападали племена берберов. Рядом проход по выдвижной лестнице, крепость, в которой хранили запасы пищи и воды.
Ходим по пустыне. Под ногами усыпано камнями из Апокалипсиса: сердолик, халцедон, базальт, алебастр. Строительный материал для города будущего Царства Небесного. Еще нужны: хризопрас, сапфир, аметист, хризолит, топаз. «А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города - чистое золото, как прозрачное стекло» (Откр. 21, 21). Кто-то же и увидит.
Из пустыни вновь в Каир. Пыль, ослики, бедность. Пил сок из побегов тростника. Прямо при тебе суют эти стебли в барабан, он перемалывает все с треском, льется мутный сок. Пить страшно, а интересно.
Мальчик несет на голове этажерку со свежими лепешками. Очень вкусные. Продает по двадцать пять пиастров. Сказал ему русское спасибо, тут же подошел мужчина, представился Виктором. Расспрашивать, как он тут оказался, неудобно. Говорит сам: «Первые десять лет еще как-то жил, сейчас допекло до печенок. Кому я тут нужен? Проси не проси, одно: аллах керим, Бог подаст. Хоть и подохни среди улицы. Жизнь дорожает, человек дешевеет». - «Сдаваться будешь?» Виктор изумился: «Откуда ты понял, что я скрываюсь?» Простились. «Сахра», - сказал он на прощание. То есть счастливого пути.
Дерево Марии, Божией Матери. Тут Богомладенец извел из земли доныне текущий источник воды. К нему приклонилось дерево. То самое. Здесь, по преданию, Святому семейству не дали хлеба, и вот во все века здесь не пекут, не продают хлеб, ездят и ходят за ним в другие районы.
Армянская церковь на земле, которую русский консул подарил армянам.
На Синай!
Перед Суэцким каналом выставка боевой техники - память об израильско-египетской войне: танки, БТРы, пулеметы, ракеты, пушки. Все почти наше. Смотреть неохота, но вроде как надо, протокол. Ветер, пыль. Очень едкая, слезы высекает.
Перед водой красивая каменная ограда. По заливу идет неправдоподобно огромный танкер. Как он продирается?
К морю нигде не подъехать - плати. И много плати. Ограждения, посты. Ветряная мельница. Погуляли по берегу. Мне везет на драгоценности, бирюза просится в руки. Дельфины, белый прибой, раковины, засохшие кораллы. Увы, их и брать нельзя, хоть и засохшие. Штрафанут. Все-таки беру.
Пустыня, монастырь. Как тут жить? Сжигает жара, а всего конец марта. Никаких следов человека, только узкая темно-серая дорога среди серых каменистых песков. Справа вдали темные горы. Никакой растительности, значит, и бедуинов. Вдали арка, приблизились, от нее поворот к горам. Обнажения черного базальта. Верблюжьи колючки.
Монастырь. Снова ждем разрешения. Внутри арабы рабочие поливают розы. Запах ладана. Горят в храме свечи. Частицы мощей святых, Марка, Афанасия, Антония. Роспись: святые херувимы несут трон Царя Небесного. Надпись (перевод): «Когда ты молишься, у тебя появляется сердце льва, ты ничего не боишься, взлетаешь как орел, жертвуешь собою как бык». То есть известные символы евангелистов.
Во дворе сохранилась монастырская мельница с маленьким хомутиком для маленького ослика. Так и представляешь, как он ходит тут все по кругу и по кругу и как тонюсенькой струйкой сыплется мука в ящик.
Рабочие носят песок и камни в старинных кожаных ведрах
Пустыня может быть иногда и ласковой. Но редко. Вот подул прохладный ветерок, облако закрыло солнце, так отрадно. Но недолго. Опять жара, от которой не скрыться. И опять мухи, для которых мы источник питания.
Советуемся. Сейчас единственная возможность подняться в пещеру святого Антония. Это задержит часа на три, но надо. Бодро иду, и легко идти. Ступени, даже перила. Ветер навстречу. Обзор на полсвета. На склоне всюду кресты, кресты. Выложены из камней, дорожной плитки, цементных труб, сварены из арматуры, сделаны из дерева, просто перекрещенные и связанные ветви. Выкладываем и мы свои.
Рабочие несут вверх воду. В каждой руке двадцатилитровая канистра.
Повезло, что в пещере был один. Протиснулся, молился. Щель метров восемь внутри скалы. Даже страшновато. Не повернуться. Дошел до пещеры. Лампадка у икон. Молился. Даже немного полежал. Как представить великого молитвенника за весь род человеческий?
Тишина. Другой и не услышать.
Вышел. Рабочие уже отнесли воду, сходили вниз, сейчас тащат тяжеленные пучки арматуры. Ведь и это тоже молитва. Устали, а как приветливы, улыбчивы.
Мальчик Мина угощает чаем. Вода, конечно, святая: вознесенная на такую высоту.
Вечереет. Несемся. Видимо, в монастырь святого Павла не попасть. Через перевал нет дороги, только тропа, по которой они (святые) ходили. По прямой километров 10-12, на машине километров восемьдесят. Али, водитель, готов ехать. Хотя еле живой. Надо его накормить. И самих себя тоже. Здесь такие монотонные дороги, что все аварии от того, что водители просто засыпают.
Мотель «Сахара». Есть ничего не хочется.
О, счастье - едем к святому Павлу. Хотя бы у стен постоять. Солнце садится. Монастырь. Тут лев рыл могилу для святого Павла. Солнце село, но нас («Рус? Русски?») пускают. Источник. Четыре кубометра воды в сутки. Снимать нельзя. Но опять же любовь к России побеждает правила.
Ночь, полная ужасов и ужасного запаха средств травления насекомых. Но они живее всех живых, а мы травимся. Али утешает, что тут нет летающих, которых называют кукарача. Оказывается, кукарача - черный петух. Ценное сведение на старости лет.
Покидаем Африку, едем в Азию. Тоннель в первый раз показался мне длинным, сейчас проскочили моментально. Синай. Удивительно слово с долгим эхом в коридорах истории.
Плакат: «Слава доблестной египетской армии», перевод Али.
У колодца Моисея даже не остановились. Я очень расстроился. «Да там ничего нет». Но место-то есть.
Остановка. Солдаты, лавочки. Опять уже жара. Скалы, редкие деревья.
Долина Фаррана. Женский греческий монастырь. Храм Козьмы и Дамиана. Ждем решения на жаре. Солдат приглашает под навес. На стене все время трещит полевой военный телефон. Охранник не реагирует.
Пустили. И как всегда в пустынных монастырях, внутри утешение красотой и прохладой. Умиротворение от чаши холодной воды.
Райский сад. Виноград, пальмы, очень свежая зелень листьев. Маслины, туя, лимонные и гранатовые деревья, акации, апельсины, мандарины и, конечно, роскошные кисти бугенвиллии. Стеной по периметру высоченные кипарисы.
На каменной лавке сидит мальчик, смотрит на нас неотрывно, не мигая, но безо всякого выражения.
Церковь пророка Моисея четвертого века, церковь, более новая, Козьмы и Дамиана. Русская икона святых праведных Иоакима и Анны. Но как же все дорого в лавке. Мальчик ходит за мной, но ничего не просит.
Около машины другие мальчишки: «Бакшиш! Бакшиш!» Очень назойливы. Мне бы кто подал. Достаю из машины хлеба, даю им. Они искренне рады, как на них сердиться?
Подтянулась и группа. Мальчишки поживились. Тот, «мой» мальчишка не был назойлив, поэтому ему больше досталось.
Уже и машина двинулась, а они все бегут и бегут. Один даже прицепился, страшно за него, машина же скорость набирает. Отцепился. Хоть бы что. Смеется.
По дороге много патрулей. В основном сидят со стаканом чая в руке и с автоматом на коленях.
Устроились. Монастырь святой великомученицы Екатерины рядом, ходил в него через внутренний двор. Новые стальные двери. Неопалимая купина, как и прежде, снизу ощипана.
Поздно уже. А скоро совсем выходить, идти на гору Хорив, гору Моисея. Я на ней бывал, но как же не пойти, если есть возможность? Трижды восходил. Самое памятное - шел с женой. Еле взошла, а вспоминает всегда с радостью.
Кирие, елейсон! Стою у мощей великомученицы Екатерины, молюсь за знакомую Екатерину.
Завтра рассвет в шесть двадцать.
Нисколько и не поспал. Ночь. Пошли!
Луны нет, молодая еще совсем. А у меня один раз было полное новолуние, то есть тьма в полном смысле египетская. А в другой раз было такое полнолуние, что любо-дорого вспомнить. Никакие фонарики не нужны, небо сияло, горы светились.
Верблюды, прямо стада, прямо сквозь них, как сквозь движущуюся конюшню, как сквозь тоннель. «Кэмел, кэмел!»
Японцы идут, как работают. Строем, с фонариками на головных уборах. Как шахтеры. Немцы топают, туристы щебечут. Запахи и верблюдов, и дезодорантов, и сигарет. Нет, надо отрываться. А то называется - дышу горным синайским воздухом.
Читаю молитвы - уже легче. Лоб мокрый. И сзади, и спереди цепочки и ручейки огней. Разговоры притихают. Людей все меньше. Звезды стали видны. Вот Большая Медведица. Утешает. Кто-то, русский, ведет репортаж-предупреждение: «Слева верблюд, вправо! Вправо нам, а верблюд слева. Пошли ступеньки. Еще! Верблюд еще! Колонна верблюдов!»
Площадки, на которых торгуют чаем, продают воду. Сильно пахнет керосином. Опять же и верблюды. Уже и ослы.
Не стал останавливаться, иду, вспоминаю всех святых, кого помню, от архистратигов, пророков, апостолов, евангелистов, священному-чеников, великомучеников, мучеников, преподобных, блаженных, праведных, молюсь за родных, за Россию. Думаю, так же и все. Японцы за Японию.
Последние ступени. Их, говорят восемьсот. Сижу. Еле дышу. А дышать отрадно. Оживаю. Встаю. Уже и каменную щель прошел, уже и церковь Святой Троицы видна. Уже и пещера святого пророка Илии.
Вышел вверх. Даже не ожидал: слезы. Ну, это от ветра. И от радости тоже. Русских на горе больше всех. Японцы подтянулись. Как и не шли, выстроились лицом к востоку.
Ждем солнце. Ждем. Холодно. Остывает и зябнет, и трясется мой организм. Укрыться негде.
Светлеет, желтеет восток. Быстро розовеет. Вот одно место краснеет и вспучивается, и выпускает в мир родившееся синайское солнце. Крики, слезы. Холода как не бывало. Тепло появляется вместе с солнцем. Восторженные помолодевшие лица. «Не меня снимай, рассвет снимай! - кричит женщина спутнику. - Солнце снимай!» В этом месте, будь снова со мною моя жена, сказал бы: «Я и снимаю солнце: ты - мое солнце».
Обратно по тропе Моисея. Тогда шли, уже цвели маки. Сейчас только ранняя зелень, запахи свежей полыни.
Не ложась, поехали в монастырь святого Иоанна Лествичника. Покупаем конфеты для бедуинских детей, иначе не проехать.
Игумен Синайской горы. Несколько тысяч монахов. «Лествица». Тут природная просторная пещера, его келья, хорошая вода, нет мирян. Шестьдесят лет жил в пещере, четыре года игумен. Ложе справа от входа. Осмелился прилечь. Но не от чего-то, от огромной усталости, от многосуточного недосыпания. Но, конечно, и от счастья - ложе святого игумена.
Переночевали. Утром долго был один у мощей святой Екатерины. Дежурный монах сам подошел, помазал маслицем от Неопалимой купины.
В костнице видел совершенно осмысленный взгляд черепа. Будто что хочет сказать.
Едем, едем. Пустыня. Пальмы. Тоскливый верблюд. Нет, пустыня не от слова «пусто», от монашеской пустыни. Пустыню можно полюбить. Дивно видеть ее, горы, утром, днем и вечером. Всегда очень разные. Живые. Лишенные резкости, яркости, будто как наш север. Любое место в мире кому-то родина.
Остановка. Часть песков огорожена кольями, натянута проволока, развешаны пугала от птиц, но ничего не растет.
Снова близок туннель, пройденный позавчера. Охрана с автоматами Калашникова. Автобан. Грохочут огромные трейлеры, фуры. Маленькие грузовички «шевроле», как ослики автобана.
Добирались больше полудня. Завтра улетать. Упал и уснул. Утром вскочил и стал соображать: кто кого будит? Муэдзин петуха или петух муэдзина? Или оба - меня?
Дал круг по знакомым местам, прихватил и нового. Купил лепешку, чуть не заблудился. Опять ориентировался по пирамидам. На обочине шоссе водители в консервной банке варят кофе. Знакомый нищий, узнал. Обрадовались друг другу. «Синай, - говорю я, - о, Синай!». «О-о!» - отвечает он.
Прием в Русском центре культуры. Дерево египетско-советской дружбы. Посажено в дни дружбы.
Прием за приемом. Опять о дружбе. «Америка, Израиль со своим золотом могут одно: пролить реки крови, заполнить море слез, свершить насилие над национальной культурой, заменить национальную кухню обжорками макдональдсов. Россия живет в подсознании египтян как пример...»
Слышать все это уже печально, когда видишь наступление нового мирового бес-порядка.
Одна надежда на Господа, Всеведущего, Всемогущего.
ЕЛЕОН
Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою.
Лк. 21, 37
«Какая река всем рекам река? - Иордан-река. - А какой град всем городам град? - Русалим-град». Эти слова взяты из давних молитвенных песнопений о Святой земле. Так воспринимали православные паломники название Вечного города - Русалим. А как иначе: он же русский - Иерусалим: в центре этого слова стоит корневой слог «Рус».
И совершенно по праву, заслуженная в веках молитвами православных, вознеслась на Елеонской горе русская колокольня Спасо-Возне-сенского монастыря, и представить без этой колокольни город Христа невозможно. Здесь мы не Россию утверждали в Святой земле, а ставили свечу всемирному православию. Колокольня - истинно свеча на подсвечнике Елеонской горы.
Здесь земля встретилась с небом, здесь небеса всегда открыты. Здесь Вознесением Господним была окончательно закреплена победа над смертью.
Удивительно красивое, музыкальное, молитвенное слово - Елеон. И такое значительное для судеб мира. На Елеоне особенно ощущаешь присутствие времени в вечности. То есть время тут не растворяется в забвении, а постоянно живет в бегущей от прошлого к будущему современности. Прошло здесь несколько эпох, и все живы. В памятниках, в преданиях, в книгах и энциклопедиях о Святой земле. Особенно это чувствуется в самом здешнем молитвенном пространстве русского монастыря.
Задолго до евангельских мудрых пяти дев, наполнивших свои сосуды именно оливковым маслом, Елеонская гора упоминается уже в Ветхом Завете. Царь-псалмопевец Давид бежал от своего сына Авессалома: «Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; голова у него была покрыта; он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали» (2 Цар. 15, 30). И у пророка Захарии предсказание: «:.. .И еще раз потом язычники окружат Иерусалим; даже возьмут его; половину жителей отведут в плен, но города и народа не уничтожат. Ибо Сам Господь станет тогда на горе Елеонской и будет разрушать и останавливать покушения против Иерусалима.» И еще: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ея к югу» (14, 4). Да, это о Кедроне, о Иосафатовой долине, по сторонам которой могилы: ближе к стене города мусульманские, ближе к Елеону - еврейские.
По преданию, с высот елеонских смотрел на Иерусалим Александр Македонский. Увидел процессию. Иудеи шли к нему просить не разрушать город. Македонский поклонился первосвященнику. «Что ты делаешь? - воскликнули приближенные. - Ты, равный солнцу!» - «Я кланяюсь не ему, а Богу, которому он служит».
Так бы и был сохранен Иерусалим по ветхозаветному пророчеству, если бы иудеи соблюдали законы Моисеевы, законы, предваряющие евангельские заповеди. Но иудеи от них уклонились, и именно на Елеоне Спаситель «... заплакал и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19, 41-44). Вскоре все так и сбылось. Новый Завет вообще полон упоминаниями о горе. Ее очень любил Иисус. У подножия ее молился до кровавого пота в ночь предательства, с вершины ее вознесся к Отцу Небесному. После Тайной вечери в Сионской горнице ученики и Учитель, «воспев, пошли на гору Елеонскую», «.и пришли в Вифанию на гору Елеонскую» (Мф. 26, 30). У Иоанна (8, 1): «Иисус же пошел на гору Елеонскую». «Тогда они (апостолы) возвратились с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, на расстоянии субботнего пути» (Деян. 1, 12). То есть на расстоянии очень небольшом, ибо иудеи в субботу не имели права превышать определенное, очень ограниченное число шагов.
Тому, кто не был на Елеонской горе, трудно представить ее размеры. Но тут нам поможет древнерусский игумен Даниил. В своем знаменитом «Хожении» он определяет расстояние от Гефсимании, то есть от подножия, от гробницы Божией Матери, до вершины горы, в три полета стрелы. Очень зримо и очень поэтично.
Спаситель со Своими учениками говорил здесь о последних судьбах мира и о Втором пришествии. Здесь, у подножия горы, в Гефсиман-ском саду, прозвучали слова высочайшего смирения, когда Спаситель молился об удалении от Себя чаши страданий: «Отче! Если возможно да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39).В Малой Галилее на Елеоне Воскресший Иисус явился ученикам. Они испугались, думали - дух, но Спаситель, попросив еды, ел при них хлеб, рыбу и пчелиные соты.
Малоизвестный, к сожалению, поэт и прозаик Владимир Шуф выпустил книгу сонетов «В край иной» (СПб., 1906). В предисловии он поясняет, что в книге «рассказана история души, ищущей Бога. От неверия и агностицизма, полного сомнений, от разбитых святынь прошлого длинный путь ведет меня к вере в край иной. Я видел мир - это путь целой жизни, который привел меня в Палестину...»
Я проходил нагорные места.
Там маслины шумели в чаще сада,
Там Он стоял, - как небо, благость взгляда,
Как сладость роз, прекрасные уста.
Виденья ли молитвенные грезы,
Мечты ль моей безгрешный, светлый сон, -В одежде белой встретился мне Он.
Не терния, страдания и слезы, -Цветок нашел я гефсиманской розы В святом саду, где путь на Елеон.
Без Елеона не постичь Иерусалима. Конечно, в Старом городе величие Воскресения Христа, но это еще и Скорбный путь, Голгофа, крики: «Распни Его!», а Елеон - это только радость, сияние Вознесения, надежда и ожидание Второго пришествия.
Здесь все для молитвы: небо, простор, здесь легко дышится, далеко видится. Далеко в двух смыслах - видишь окрестные библейские дали и видишь свою жизнь до прихода в Святую землю. А уж как дальше пойдет жизнь - Бог весть, но всегда отныне в ней будет сияние Елеона.
Отсюда совершился Вход Господень в Иерусалим. «Когда он приближался к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, что видели они» (Мф. 21, 1).
На этих склонах звучали возгласы благодарения и прославления: « Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних» (Лк. 19, 37-38), слова, навсегда вошедшие в вечность. Зеленые ветви елеонских деревьев бросали люди под ноги Спасителю.
Были и те, кто требовал от Спасителя: «Учитель! Запрети ученикам Твоим» (Лк. 19, 39).
Но как остановить Славу Всевышнего? Он ответил: «:.. .Сказываю вам, что, если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19, 40).
Да, и вот эти камни, и природные, и надмогильные, вопиют и доныне о Спасителе и о дне Входа в Иерусалим с Елеона. В них память о зеленых пальмовых ветвях, которые бросали под ноги Иисусу, а также горькая память и о том, что уже меньше, чем через неделю, эти же люди, пусть не все, закричат: «Распни Его». И высохли те ветви и превратились в пыль.
Не ведали, что творили. Спаситель жалел и таких.
Из Священного Писания известно, что Спаситель, глядя на Иерусалим с Елеона, даже заплакал, провидя его скорую погибель. На склоне горы, обращенном к Золотым воротам, стоит католическая часовня францисканцев «Доминус флевит» («Господь заплакал»). Часовня ориентирована своим алтарем не к востоку, как принято, а к западу, к Иерусалиму.
И одно из главных событий Елеона: здесь Иисус научил молиться Господу словами молитвы «Отче наш». Именно этому посвящен католический женский монастырь кармелиток на склоне горы, называемый «Патер ностер». Там молитва «Отче наш» написана на плитах вдоль стен на множестве языков. Есть и русский текст, к сожалению, с ошибками.
Слышали эти чернеющие от старости, но все еще живые маслины, беседы Спасителя с учениками о грядущей скорбной судьбе Иерусалима, о гонениях и страданиях христиан, о том, что только претерпевшие до конца все испытания спасутся, но что победа Господа над силами зла неизбежна.
Именно здесь были произнесены притчи о пяти мудрых и пяти уродивых девах и о пяти талантах.
Свыше двух тысяч лет маслинам, а все еще зеленеют, и только та маслина, у которой, по преданию, был Иудин поцелуй, стоит черная, безлиственная. Как нерукотворный памятник предательству.
Три горы на горе
На самой горе Елеон есть еще три горы, три возвышения. На среднем (815 метров над уровнем моря) круглая часовня Вознесения. Она окружена территорией мечети, но сама мечетью никогда не была. В центре ее, в мраморном квадрате, отпечаток левой стопы Спасителя. Ученые богословы уверены, что возносился Он, обратясь лицом к северу, в полуночные страны, то есть к нам, к России. Иисус Христос «...подняв руки, благословил их (учеников). И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: “Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо”» (Лк. 24, 50-51).
Без сомнения, весь православный мир прошел через Елеон, хотя бы мысленно. Жуковский, не бывавший в Святой земле, в 1850 году пишет Гоголю: «Хотелось бы пропеть мою лебединую песнь, хотелось бы написать моего “Странствующего жида”. Мне нужны локальные краски Палестины. Ты ее видел, и видел глазами христианина и поэта. Передай мне свои видения. я бы желал иметь пред глазами живописную сторону Иерусалима, долины Иосафатовой, Элеонской горы, Вифлеема».
Гоголь пишет о том, что его особенно поразило в Святой земле, а на Елеонской горе: «.след ноги Вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты».
Северная возвышенность Елеона пониже средней, занята Малой Галилеей. Тут, опять же по преданию, архангел Гавриил сказал женам-мироносицам: «...идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее». Сказано после Распятия, когда здесь они были в великом горе, и собирались раним утром, в воскресенье, еще до восхода солнца, идти к гробнице Иосифа Аримафейского. И пошли, и увидели только «гробные пелены». Иисус Христос Воскрес! И радость, и страх, и сомнение, и ликование охватили их.
А южная гора - гора Соблазна. Но это не Сорокадневная гора Соблазна (Каранталь) близ Иерихона, а Елеонская. Названа так в память о нечестивости царя Соломона, ставившего здесь идолов и капища им для принесения жертв. Третья книга Царств (11, 7) очень его осуждает: «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской». Очень известный в читающей России в первой половине XIX века свя-тогорец Симеон (Веснин), монах, поэт, хороший знакомый Гоголя (они даже вместе собирались на Святой Афон), так писал, взирая на Елеон и окрестности:
И чуть ниже (поэт продолжает обзор):
И далее:
Стихотворение большое, фактически поэма, которую автор назвал «Из письма брату», приписав: «1845 г. Января 30 дня. Иерусалим (глубокий вечер)».
Про «асфальтический кристалл» надо пояснить: речь идет о Мертвом море. Оно называлось Асфальтовым. Его грязи, ныне рекламируемые как целебные, назывались асфальтом, которым заливались трупы для сохранности, если погребение откладывалось, им покрывались дороги. Интересно, когда в России начинали класть асфальт, то тротуары из него именовались «жидовская мостовая» (Словарь Даля).
И еще: в сочинениях не только у Святогорца, но и у его современников, и у более ранних, Елеон каменный, скалистый, а мы его видим цветущим, зеленым, золотым. Это уже великие труды русских монахов, архимандритов Антонина и Парфения. Но о них речь впереди.
Подытоживая, так сказать, литературную часть рассказа о Елеоне, нельзя не вспомнить книгу Андрея Муравьева «Путешествие ко Святым местам в 1830 году». Это было в прямом смысле событие не только в религиозной, но и в общественной жизни России. Тема Святой земли была в трудах молодого поэта, офицера (родился в 1806 году), и ранее - в двадцать лет он сочинил трагедию в стихах «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Иерусалиме». Пушкин горячо приветствовал «Путешествие» Муравьева: «... с умилением и невольной завистью прочли мы книгу».
Для темы о Елеоне процитируем строфу из стихотворения А. Муравьева «Над Иосафатовой долиной». Тут, по предсказанию, должно свершиться Страшному суду. Иосафатова долина продолжает поток Кедрона, ранее текущего у подножия Елеонской горы, теперь загнанного, подобно нашей несчастной Неглинке, в бетонную трубу. Но я пишу об этой трубе со слов, так как сам такого факта в источниках не встречал.
Пальмовая ветвь, привезенная Муравьевым и подаренная Лермонтову, вдохновила Михаила Юрьевича на гениальное стихотворение: «Скажи мне, ветка Палестины».
Достойно упоминания, что праздник Кущей, значительный для иудеев, отмечался именно на Елеонской горе. «.Пойдите на гору и принесите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному» (Неем. 8, 15).
По позднейшим исследованиям, подтвержденным раскопками, на Елеонской горе совершалось сожжение рыжей телицы, пепел которой использовался иудейскими священниками для ритуальных очищений.
По указанию судей синедриона на горе зажигались огни для передачи сигнала о наступлении нового месяца. (Вавилонский талмуд, трактат Рош-Ашана).
Завершением ветхозаветного почитания Елеонской горы являются слова пророка Иезекииля (11, 23): «И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города».
Эпоха Крестовых походов также коснулась Елеона. Оставляя в стороне разбор их, так сказать, позитивных и негативных последствий, скажем, что первый поход (1095-1099) был освобождающим Иерусалим от мусульманского владычества. И означал начало основания Иерусалимского королевства (1099-1291). И здесь мы сразу видим великую заслугу герцога Нижней Лотарингии Готфрида Бульонского. Он из рода Карла Великого. Стремления его были чистейшими, преданность Христу была главной в его жизни. С детства отличался особой религиозностью и стремлением идти на освобождение Гроба Господня. Такими же были и его сподвижники Раймонд Тулузский и Боэмунд Тарентский и знаменитый воин Танкред. С ними шел легат папы Римского (подчеркнем: тогда еще православного).
Осадные орудия, конница, пехота окружили город. В решающий момент на Масличной горе показался всадник в блестящем воинском одеянии. Щитом и мечом указывал он на город. Крестоносцы ворвались за стены, заняли Давидову башню. Гарнизон сдался.
Жители Иерусалима видели в Готфриде нового короля Иерусалимского, но благоговейное смирение герцога не позволило ему принять такие почести: он не хотел быть королем, он объявил себя защитником Гроба Господня.
Подвиг Готфрида не забыт. В храме Воскресения, в северной части, справа от храма Явления Христа Богородице, оборудована сакристия (ризница католической церкви), в которой хранится меч герцога.
Небесная лествица
Стремление к небесам очень духовно. Мы понимаем, что все околоземное пространство забито нечистой силой, стерегущей наши души. Но мы также знаем, что после прохождения их, после мытарств открываются Небеса обетованные. Души православные тянутся вверх. Вот три примера.
Один: святитель Григорий Палама, умирая, говорил: «В горняя, в горняя!». Писатель Гоголь видел лестницу, спускаемую для него с неба. Пушкин, умирая, просил Даля его приподнять и звал с собою, показывая ввысь.
И уж, конечно, библейская лествица Иакова, восхождение к святости преподобного Иоанна, называемого Лествичником.
Вот это - ввысь - совершенно естественно на Елеоне. Близость к небесам здесь реальна. Еще бы - под тобою Вечный город, кругом Святая земля, и так не хочется спускаться вниз. Такое же чувство испытываешь и на Фаворе. И у многих бывает описанное в духовной литературе состояние, когда молитва отрывает от земли и возносит. Со мной, грешным, такого не бывало, но хотя бы радость отрешенности от суетных мыслей, от уклонения души в дела мира испытывал. И то спасибо.
Паломники - калики перехожие
Русские легче переносят холод, чем жару, от того так отраден наступающий вечер на Елеоне. Здесь вечера короткие, день в ночь переходит быстрее, чем в России. Вот уже прохлада, вот уже и звезды обозначились. Тем более их видно, когда уходишь под сень деревьев. Слышишь легкий шум листвы, будто деревья тихо молятся и просятся в рай. Отсюда же самая короткая в него дорога. Да, все другое - внизу шумит поток, явно не кедронский, машинный, но все те же звезды, то же состояние души, то же устремление ее от мрака земного к Небесному свету. Та же радость ожидания Второго пришествия.
Вообще русские паломники - это совершенно особый народ. Их происхождение - это калики перехожие Древней Руси. Это не калеки, хотя и калеки всегда были у нас в чести. Их увечье, болезни воспринимались как понесенное страдание за Христа или же наказание за грехи. Калики -слово, скорее происходящее от слова «калиги», то есть короткие сапоги, обувь странника. Игумен Даниил рассказывает в своем «Хожении», как ключарь храма Воскресения Господня «повеле ми выступити из калиг, и тако босого введе мя единого во Гроб Господень». И название паломнического посоха не палка, не костыль, а «клюка подорожная», близкое созвучие: клюка - калика. Или еще догадка - название от пирогов с калиной, их называли калигами, калижками. Секрет их в том, что они долго не черствели и в дороге были незаменимы.
В новгородской летописи от 1163 года указывается: «Ходиша из Великого Новаграда от Святой Софии сорок мужей, калицы, ко граду Иерусалиму, ко Гробу Господню».
О каликах перехожих, в западном варианте о пилигримах (латинское «перегримус» - странник, в русских былинах часто действует «старичище-пилигримище), очень много песен и былин, в которых конечная цель странствий всегда одна - святой Иерусалим.
Идет мощная сила. Когда калики встречают самого князя Владимира, то «становились калики во единый круг, клюки-посохи в землю потыкали, а и сумочки исповесили, и скричали калики зычным голосом», от которого
Калики в былинах изображаются богатырями, но какими? Идущими за прощением и покаянием в своей жизни. Васька Буслаев в новгородской былине чистосердечно признается: «Смолоду бито много, граблено, под старость надо душу спасти» и идет со всей дружиной в Иерусалим. Представим этих паломников на Елеонской горе. Они не могли не побывать на ней.
Даже и то вероятно, что архимандрит Антонин (Капустин), может, и не взялся бы за строительство монастыря на Елеонской горе, за созидание колокольни - Русской свечи, если бы не паломники из России. Они все обязательно поднимались на гору. Еще бы - на ней особенно ощущаешь причастность к евангельским событиям. Входил Спаситель в Иерусалим отсюда и ушел в вечность, в которой нет времени, тоже отсюда. Здесь окончилось пребывание Его на земле, отсюда Он вознесся к Отцу Небесному. Рядом Вифания, дом Его друга Лазаря и его сестер Марии и Марфы. На горе Малая Галилея - пристанище для жителей Галилеи, когда они приходили на праздники в Иерусалим, много всего. Да и просто здесь так хорошо! Так хорошо, так отрадно, не высказать.
Никуда отсюда не хочется. Смотришь на стены Старого города, на Золотые ворота, на купола храма Марии Магдалины, на высохший от времени поток Кедрон, Иосафатову долину, ветхозаветные кладбища и - слезы из глаз! Также и все паломники из России всегда бывали тут и молились, обращаясь к храму Воскресения Господня, к храму Вознесения. И, конечно, к России. Молясь о ней и за нее. Понимая, что Святая Русь и Святая земля духовные побратимы. Увозили отсюда веточки маслины, оливковые листочки которой обозначают мир в душе и мир в м1ре.
Елеонский подарок
Не было лучшего подарка, и доселе нет, как привезти со Святой земли бутылочку монастырского оливкового масла. Это идет издревле. Еще в ветхозаветных богослужениях оливковое масло было основой для составления масла помазания при освящении скиний, священников, новокрещае-мых. В состав входила смирна, душистая смола миррового дерева, корица, кора веток коричневого дерева, благовонный тростник, кассия - тонкая кора лавра. Составленный таким образом елей запрещалось употреблять для бытовых нужд, даже под страхом смертной казни (Исх. 30, 33).
Масло елейное возжигается христианами перед святыми иконами, употребляется при обряде благословения хлебов. Елеем помазываются на всенощной или на заутрени верующие, елеем подается помощь в болезнях, елей возливается на усопших. То есть Елеонская гора с нами во все дни нашей жизни, от крещения до отпевания.
Но также к месту вспомним из Псалтири (140, 5) выражение: «Елей грешника да не намастит главы моея», то есть нельзя принимать услуги грешных, полезнее обличение праведников.
Вообще в нашей жизни, церковной и домашней, именно растительное масло занимает особое место. Отлично помню московских верующих старушек начала 60-х, которые всегда просили достать им для лампад репейное или, особенно, вазелиновое масло. Вазелиновое горело светлым-светлым огонечком, а репейное желтовато-золотистым. Старушки и лечили все свои болезни маслом от горящей лампады. «Поясницу всю разломало, внучка растерла ее маслицем, прошло. А недавно грудь заложило, приняла чайную ложечку, отлегло...» А вот почему-то льняным, любимым маслом детства, лампадки не заправляли. Или дорогое, или еще что. Так же и подсолнечным. Хотя оно главное в России. И название красивое: подсолнечное, то есть п о д солнцем, да и не просто п о д солнцем, а постоянно с солнцем.
В детстве меня поразило, когда мы пришли в огород и мама сказала: «Смотрите, сейчас утро, солнце с востока встает, а подсолнушки уже его встречают, лица к нему повернули. Вот понаблюдайте, как они будут за солнцем весь день идти». И в самом деле, перед закатом шляпы подсолнухов сами развернулись на запад и попрощались с солнышком до завтра. А за ночь развернулись и опять встречали главное наше светило с востока.
Именно от московских старушек узнал я, что есть оливковое масло. Где ж мне было в своей Вятке знать о нем? И вот оно - елеонское, одно из главных продуктов Елеонского монастыря. Теперь уже знаю, сколько с ним хлопот и трудов, но и радости.
Нет мира под оливами
Маслины, иначе оливы, олицетворяют мир, спокойствие. Вспомним символ - голубка с веточкой маслины в клюве. Но вспомним и выражение: «Нет мира под оливами». Его и здесь нет. Елеон, созданный, казалось, исключительно для того, чтобы его касались только подошвы паломников, оскорблялся и тяжелым бездушным железом.
Елеон прославлен еще и подвигом святой Пелагии (| 457, пам. 8 окт.). Знаменитая антиохийская красавица-куртизанка была обращена в христианство епископом Нонном и много-много лет провела в каменном затворе на Елеонской горе. В ее пещерку, тесно примыкающую к часовне Вознесения, попасть можно только по разрешению мусульман. Участок напротив часовни и пещерки св. Пелагии был приобретен Иерусалимской Православной Патриархией. В 1992 году стараниями архимандрита Иоакима здесь на вполне законных основаниях начала строиться церковь Вознесения. Кому-то это не понравилось, и Елеон услышал рев израильского бульдозера, который превратил строение в развалины. Вместе с бульдозером были и полицейские. Но все концы в воду, доселе ни расследования, ни дознания.
Но вот что было явлено Божией волей. Когда бульдозер расправился со вторым этажом, вдруг большая круглая икона Вседержителя сорвалась с места и закружилась перед бульдозером. Бульдозер обломал зубья в ковше, запутавшись в стальной арматуре и бетоне нижнего храма. Бульдозерист и охрана перепугались и отступили.
А в 1995 была убита матушка Анастасия, мать архимандрита Иоакима.
В действующем подземном храме три придела: центральный в честь Вознесения Господня, левый во имя преподобной Мелании Римляныни, правый во имя святой Пелагии.
И разве это первое нападение на православных на Елеоне? В первой трети XIX века часовня Вознесения пострадала от землетрясения. Ее возрождали и мы, и греки, и католики, и армяне. А далее было вот что. Армяне, пользуясь покровительством египетского правительства, войска которого оккупировали в 1830 году Палестину и Сирию, решили... Что решили, узнаем из письма Иерусалимского Синода посланнику России в Константинополе А. П. Бутеневу: «Оттоманская Порта из мести к России, как православной. отнимает у нас священную Елеонскую гору и отдает ее армянам». Не у кого было больше искать защиты, кроме как у России. Жалоба дошла до императора Николая I, он возбудил разбирательство, в результате которого притязания армян были пресечены, и Елеон остался доступным для поклонения людям всех национальностей и верований, приходящим сюда.
Да, особой любви мы здесь к себе не испытываем. В этом во многом виноваты те чиновники, что занимались русской дипломатией на Ближнем Востоке. Архиепископ Порфирий, так много сделавший для русского присутствия в Святой земле, с горечью констатировал, что из шести российских дипломатов в Египте, Сирии, Палестине не было ни одного русского и православного - были немцы, евреи, католики, протестанты. Они весьма сочувствовали всем, кроме православных. Их донесениями пользовался влиятельный при дворе граф Нессельроде, протестант.
И до сих пор на Ближнем Востоке нас все время в чем-то подозревают. Об этой болезни греков с горечью писал философ Константин Леонтьев. А как, например, греки откликнулись на создание Императорского Православного Палестинского общества? Историк П. Каролидес: «Палестинское общество... сделалось политическим обществом, преследующим политические цели и под видом благотворительного общества. начало ехидным образом вести негласную войну против всего греческого в Святой земле и Сирии». Историк договаривается даже до того, что мы занимаемся «обрусением» патриархий Антиохийской и Иерусалимской.
Это даже комментировать смешно. Что касается обрусения, то оно действительно идет. Святая земля только тем и держится, что в нее едут, плывут, летят паломники из России. С Божией помощью преодолеваем «ненавистную рознь мира сего».
«Альбакшиш!»
Да разве только власть имущие и чиновники вымогали, грабили, угнетали. Брали пример с них и рядовые, так сказать, и арабы, и турки, и прочие. Свидетельства этого неисчислимы. Начинались грабежи в Яффе, куда приходили суда с паломниками. Да еще, к слову сказать, какие суда: часто те, в которых перевозили скот. В Яффе совершенно по-хамски швыряли вещи прибывших в лодки, заставляли туда же прыгать и паломников. Это оттого, что суда не подходили к берегу. Но за сто, за двести лет можно было построить причал? Нет, доходнее обирать православных. А далее на суше? Далее еще тяжелее. Вот документ из 1727 года. Путешественник, знаменитый Василий Григорович-Барский: «Арапи в раздранних одеждах, хватающи коней за узды и не пущающе дале шествовати, искаху от каждого пенязей, глаголюще арапским язи-ком: “Альбакшиш”, - то есть давай дар, и поневоле раздаяху сребреники на многих местах, аще кто не хотяше дати, то бияху жезлием...»
Интересно и непонятно почему считают арабы наши, с величайшим трудом накопленные на поездку деньги, своими?
Но и наши паломники не были в таких случаях безсловесными овцами. Они окружены, но не сдаются:
«И тогда, призвавше Всемогущего Бога и Творца своего вси на помощь, начахом шествовати, сии на конех и сии на верблюдах, аки на колес-ницех, ми же, во имя Господа нашего совокупившеся, неции убозии грядо-хом пеши. Бисть же нас тогда всех полк велик, яко до полтори тисящи душ и зрящееся народ, аки некое войско, грядущое на брань».
Надо ли перелагать на современный язык? Нет, это русский понятный язык, доносящий до нас прошедшую, но не забытую эпоху. Именно так, паломники - это Христово войско.
С грустью скажем: вряд ли мы, нынешние, достойны славы предыдущих. Уже появляются у нас, так сказать, профессиональные посетители Святых мест. Они все знают: где что лучше купить, где как кормят и размещают. Недовольны экскурсоводами, сами дают пояснения. То есть самость в чистом виде. Нет, конечно, в основном все та же серьезность и молитвенность в группах, особенно собираемых православными отделами паломничества в епархиях, но что есть, то есть.
Из прошлого тысячелетия
Боже ж Ты мой, Боже милостивый, приведший меня в Святую землю, чем отблагодарить Тебя за несказанную Твою милость ко мне, грешному?
Вечность назад я был впервые в Святой земле. Это была не паломническая группа, а приглашение Союза палестинских писателей, то есть я был более или менее на безпривязном положении. Надо заметить, это в Европе многие теперь забыли, что жители Палестинской автономии не имели права въехать без разрешения в Иерусалим. У них был другой цвет номеров машин, другие паспорта, что ж это за автономия?
А я, конечно, рвался в Иерусалим и имел все права на его посещение, ибо у меня была израильская виза. Добытая, конечно, с трудом, с очередями, со всякими проволочками, но была. С художником Сергеем Харламовым, тоже приглашенным, прилетели в аэропорт «Бен-Гурион», палестинцы встретили нас и привезли в Вифлеем. В гостиницу «Гранд-отель». Гранд-то гранд, но гостиница весьма скромная. Но такая для меня памятная! Потом, каждый раз приезжая в Вифлеем, обязательно бежал к ней, чтоб вспомнить те счастливейшие двенадцать дней, когда жил тут, все тут исходил и избегал. И этот идущий в гору пеший путь от Поля пастушков к Храму Рождества, что говорить! А какие были незабываемые поездки на Мертвое море, на гору Ирода, к преподобным Савве Освященному и Феодосию Великому, в Иерихон, на Сорокадневную гору, Хеврон, Рамаллу, к могиле пророка Самуила, то есть по палестинским территориям!
И в Израиль мы имели право, благодаря визам, въезжать. Палестинцы провожали нас до границы, мы шли через проходную, там нас осматривали, досматривали, дальше мы двигались сами.
Спасибо тогдашним священникам и сотрудникам Русской миссии: нас присоединили к группе из России, и мы побывали и в Назарете, и в Тивериаде, и в Кане Галилейской, на Фаворе и на Иордане, словом, счастие было почти полным.
Почему почти? Ну как же - высится над Иерусалимом Русская свеча. Русская. А русских к ней не ведут, не везут. Почему? Но как-то сопровождающая монахиня избегала разговора о Елеоне. Потом стало понятно - не были они дружны, Горненский и Елеонский монастыри, но, слава Богу, теперь это дело прошлое.
В тот памятный день у Сергея была своя программа, я же рвался на Елеон. Почему-то необыкновенно хотелось. Да и как - быть в Святой земле и не побывать на Елеонской горе.
И вот - стою перед железными воротами монастыря св. Марии Магдалины. Кнопка. Нажал, жду. Тихо. Еще осмелился позвонить... Может, у них звонок не работает. Постучал. Не сразу, но голос услышал. Женский: «Вы к кому?»
Я растерялся: как к кому?
- «Я в монастырь». - «А вы кто, откуда?» - «Я из Москвы». Тут мне заявили: «Ну и идите в свою Москву».
Вот и весь диалог. И пошел я, палимый солнцем Палестины, по дороге вверх. Еще не было ни хорошей дороги, ни лестницы, долго шел по шоссейной. Поднялся. Вверху пристали цыганистые арабчата. У меня была мелочь в карманах, но мелочь-то российская. Давал монетки, говорил: «Сувенир». Хватали с радостью, но, разглядев, требовали впридачу шекель и «ван доляр».
Пытался их спросить, где монастырь, но, видимо, как-то не так спрашивал, не поняли. Одно поняли - что толку от меня мало, и отстали. Я же, ориентируясь на Русскую свечу, еле-еле нашел вход в монастырь. Он был в конце узкого тупика. Тут уже не надо было стучать, тут был привратник. Он вышел навстречу, решительно выставил руки ладонями вперед и сказал: «Но, но».
- Чего нокаешь? - сердито сказал я, измученный подъемом и поисками. - Не запряг, не нокай, я не лошадь. Ай эм рашен ортодокс, - вот какую я сочинил фразу. Конечно, годы спустя я уже с легкостью покорял арабов приветствием: «Аль Масих кам», - то есть «Христос Воскресе» по-арабски, но тогда пытался хоть как-то быть понятым. - Очень надо, -говорил я. Перекрестился. - Я только смотреть. Нур зеен. Понимаешь? Ферштеен? Туда войду, поставлю свечку и сразу цурюк, обратно. Туда и сюда. Ауф унд аб.
Совершенно ясно, что он ничего не понял, потому что спросил:
- Майка?
- Какая майка? - Я еще не знал, что «майка» - это по-румынски «матушка».
Но он уже ушел. Задернул засов изнутри. Но ушел, сделав знак рукой, вроде того, что подожди. Не впустил, но и не отказал. Вскоре вернулся с монахиней, которая тоже не говорила по-русски, но пригласила войти.
Я шагнул за железные ворота и помню, как распахнулось пространство. Конечно, взгляд взлетел вначале по ярусам колокольни к небу, которого здесь было очень много, потом устремился по аллее к храму, к кельям слева к маслинам справа. Куда вела майка-матушка, не знал, тут я не командовал. Привела в трапезную, в церковь святого Филарета Милостивого, это все потом узнал. Меня посадили за стол вместе с рабочими и начали кормить. Я сказал: «Ангела за трапезой, - сказал: - Добрый день», - но понят не был. То есть русских среди рабочих не было.
Обед был замечательный! А хлеб был такой, что всегда-всегда помнил его вкус и аромат. Разломил ломоть (о, сейчас только обратил внимание, что «ломс^ть» от слова «ломать», не резал же Спаситель хлеб ножом), разломил и вдыхал, насыщаясь уже одним только запахом.
Потом никто никуда не сопровождал, и я свободно ходил по монастырю. Особенно поразило место, обведенное полукруглой металлической решеткой, место, на котором стояла Божия Матерь во время Вознесения Предвечного Сына. Более всех страдала Она при Кресте, и теперь более всех полнилось Ее сердце счастьем.
Вот тут, именно тут, были и апостолы, окончательно уже и безпово-ротно поверившие в то, что их Учитель - Бог Господь. Отсюда возвращались они, как замечает евангелист, «с радостию великою» (Лк. 24, 52).
Приложился к месту Обретения главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Как-то даже не заметил узора мозаики на полу, видел только округлое углубление, в котором в давнюю пору хранился глиняный сосуд с главой. На Елеоне было поместье царя Ирода и неудивительно, что Иродиада здесь спрятала главу обличителя своей преступной жизни. Но благочестивая Иоанна, жена Хузы, приставника (домоправителя) Ирода сумела извлечь сокровище и перепрятать. По преданию, обретение главы свершилось в дни правления Константина Великого равноапостольного. Далее следуют странствия главы Иоанна Предтечи, Второе, Третье Обретение ее, но нам важно именно то, что несколько веков Елеон освящался этой православной святыней.
На колокольню в тот, первый раз, не осмелился подняться. Увидел, как монахиня катит тяжелую тележку, бросился помочь. «Не надо, не надо, спасибо, довезу, я же русская». Я возликовал, мне очень хотелось поговорить, что-то спросить, рассказать о том, как меня повернули от ворот храма Марии Магдалины, о том, что жива в России, жива вера православная, но монахиня извинилась и ушла.
А мне хотелось ходить и ходить по монастырю как можно дольше: так тут было спокойно, молитвенно, но время, в отличие от меня, спокойным не было и подстегивало.
И много-много раз с тех пор бывал в монастыре. Сижу сейчас в городской квартире и мысленно, с помощью памяти зрения и слуха, вижу тот день, когда впервые шел от ворот монастыря к кладбищу, к ограде, за которой арабские дома и крики арабских детей. Петухи кричат. Вразнобой, громко. Не хотят никому уступить право заключительного возгласа. Вот вроде уже замолчали - нет, какой-то неуспокоенный заголосил. И, конечно, тут же возмущенно заорали соперники.
Лужайки желто-золотой монастырской травы медуницы. Прямо показалось, что я в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, такое же благоухание.
Светлое просторное кладбище. Высокие кресты, как выстроенное войско. Или как знак того, что хозяин, хозяйка креста ушли в небесное воинство. И вернутся с Тем, Кто будет судить живых и мертвых, и Царствию Его не будет конца.
Так далеко видно: холмы серо-белой пустыни, светло-серые облака. Над головой сосны с еще не отпавшими прошлогодними шишками, и уже нынешние шишечки на зеленых ветвях разжимают кулачки.
Ходил, записывал имена: архимандриты Аристоклий, Мефодий, Модест, паломница Юля Соколова, княгиня Урусова, больше всего монахини: Стефанида, Еликонида, Таисия, Агапия, Антонина, Наталия, Мария, Ерминиона, Харитина... много-много имен.
Огромный рыжий кот доверчиво шел ко мне, я шагнул навстречу: очень захотелось его погладить и спросить, как он тут, в такой шубе на такой жаре. Вдруг он зашипел, выгнулся. Оказывается, навстречу идет черный котище. Тоже зашипел, тоже выгнулся. Постояли, пошипели, закончили переговоры соглашением о перемирии, решили пока не драться и разошлись.
Наследницы многострадальных Иова и Филарета Милостивого
Промыслительно то, что второй по величине храм монастыря освящен во имя святого Филарета Милостивого. Назовем его новозаветным Иовом Многострадальным. Богатый, знатный, уважаемый, он дошел до последней степени нищеты, раздавая все свое состояние и имущество тем, кто в нем нуждался. Дошло до того, что жена даже и к столу его не звала, что прежние знакомые от него отвернулись. Но он продолжал служить Богу и людям. И был вознагражден, как и Иов. Дочка Филарета стала женой византийского императора, вернулось к нему богатство, но он продолжал жить, как жил, помогая бедным и повторяя: «Суд без милости не оказавшим милости».
Разве монахини Елеона не отдавали последнее свое пропитание голодным, и разве когда они жаловались на тяготы жизни, разве уходили из монастыря - хотя и могли? Более того, говорили: «Милостив Господь, награждает скорбями».
И сохранили и веру православную, и свои души, и верность далекой России, в которой не бывали.
Главная вершина Иерусалима - Крест над Елеоном. Он и освящает и освещает живущих здесь православных монахов, монахинь и паломников, И свет Его и святость достигают русских пределов.
Слава Тебе, Господи, мы - православные!
ВРЕМЯ ГОРЯЩЕЙ СПИЧКИ
В отрочестве и юности бывают такие безотрадные дни, когда хочется умереть. Тебя никто не понимает, не любит, а я-то такой хороший, вот умру, вот будете знать, кого потеряли. Вот уж поплачете, а я, гордый и красивый, поплыву в последней жизненной лодке, в деревянном гробу, в сторону заката.
Нет, говорю я сейчас себе, тому давнему юноше, надо жить долго. Долго, чтобы понять, что жизнь моментальна и что сравнение ее с горящей спичкой рядом с сиянием солнца очень верное. Время горящей спички - вот наша жизнь, а солнце - это вечность, которая суждена нашей душе. Нынче эта солнечная вечность заявила о себе такой жарой, таким пожигающим все живое зноем, что стало всем понятно, от президентов до сторожей: мы ничто перед волей Божией. И хотя ученые стали торопливо валить все на аномальные явления, хотя политики стали изображать заботу о людях и обещать много чего, жара воцарилась как справедливое наказание за наши грехи, и как раз в дни ее владычества я и приехал в родное вятское село, называемое теперь поселком.
В моей родине есть такая сердечная магнитность, что не надо и причин, чтобы ехать сюда. Но нынче была еще и особая причина - исполнялось ровно пятьдесят лет с той поры, как меня увезли отсюда. Из села, самого лучшего на всем белом свете. Да, поверьте, ибо за полвека я успел походить, поездить, поколесить, полетать, поплавать по пространствам планеты и мог все со всем сравнивать.
Полвека. Никто тогда не спросил, хочу ли я уезжать, меня просто призвали в славные ряды защитников Отечества. Наголо остригли, привезли на сборный пункт, а там - шагом марш в товарный вагон.
И - жизнь прошла. Видимо, и не могла пройти иначе. Мы, в отличие от нынешней молодежи, не выбирали судьбу, она выбирала нас. Мы не искали в жизни выгоды, жили по потребностям Отечества.
Так вот, полвека. И отлично осознаю, что прожил бы их как-то иначе, если бы все эти годы не жила в моем сердце Кильмезь. Ее красота, ее люди, ее труды, ее уроки. Здесь была прожита первая полнота чувств, и такая полнота, силы которой потом я уже не испытал. Эти влюбленности до того, что сердце колотилось в горле, эти обиды до горьких одиноких слез, это ликование совместных трудов на сенокосе, на воскресниках, эти восторги летних купаний и зимних полетов на лыжах с крутых гор - что в московской жизни могло все это заменить?
Вообще в мире ничего не меняется со дня сотворения его. Человек тот же, как и прародитель Адам, да и истории у человечества нет, только одно - мы или приближаемся к Богу, или удаляемся от Него. В годы, когда нас насильно удаляли от Бога, даже казалось, что мы вырастаем без Него, но кто же спас Россию, как не Господь? Других защитников у России нет. Кто нас хранил в дни войны, голода, лишений, сиротства?
В то раннее утро перед отправкой в армию, когда я пошел прощаться с селом, было попрохладнее, но все было то же: земля, река, небо, наше кладбище, на котором уже тогда были могилки дедушки и бабушки. Прошел по тем улицам, где жили друзья и подруги. Их уже и не было в селе, все где-то или учились, или работали. Безхозно и сиротливо белела около Дома культуры, оккупировавшего здание церкви, танцплощадка и летний кинотеатр. Поднимая пыль, растянувшись на сотни метров, брело стадо коров. Из репродуктора на столбе, напротив библиотеки, передавалась бодрая утренняя зарядка, и, будто под ее команду, энергично хлопал длинный пастушеский бич.
Обветшала и обречена на снос библиотека, обрушились школьные здания, не идет утром и вечером по улице такое огромное стадо, сгорели и исчезли многие дома, знакомые с детства. Но память моя, как вообще наша память, сильнее пожаров и тления. Нет дома на углу Троицкой и Школьной, а я помню, как он горел, как мы его тушили. Но если исчезали дома, не умирала Кильмезь, целые улицы и переулки появлялись, например, на месте аэродрома и кирпичного завода, и на полях колхоза «Коммунар» в сторону Троицкого. Так что я много счастливее тех, кто приезжает к местам детства, на которых пустыри и следы пожарищ.
За ночь затянуло дымом небо, но это даже принесло облегчение, ибо солнечные палящие лучи теряли в дымных облаках свою жгучесть. Я пришел на кладбище, где ждали меня милые мои дедушка и бабушка. Могилки их заросли хвощом, уже пожелтевшим, золотистым, и еще изумрудной красоты добавляли иголки, осыпавшиеся с широких елей. Вот где отрадно думалось о краткости жизни. Не дивно ли - мгновение назад стоял над свежевырытыми могилами, а вот, уже старик, и сам думаю о своей.
Признаюсь, были в жизни моменты, когда я завидовал умершим, и отлично понимаю отца, сказавшего перед кончиной: «Слава Богу, умираю, не увижу, до какого срама Россия дойдет. А уж до какого дошла...» Теперь, отец, она еще до большего дошла. Но жива. И жить будет. Эта уверенность крепнет во мне. Еще бы: я так много жил, помню Отечественную войну, прожил фактически несколько эпох, смену правительств, идеологий, денежных систем. Для любой страны такие встряски были бы губительны, Россия - выжила. А ведь все в мире против России. Ее не смогли победить в войну, когда не только Германия, вся Европа убивала нас. Как убивает и сейчас. Тогда убивали тело, сейчас - душу. Сейчас тоже идет Отечественная война, война света с тьмой. Все мракобесие мира накинулось на Россию, навязывает ей дикие нормы поведения, развращает молодежь, учит цинизму, восстанавливает детей против родителей, опошляет чистоту отношений, издевается над всем святым...
Я пошел к реке детства. Заставлял себя думать о хорошем. Здесь была кузница, там, направо, в логе, чистейшие холодные родники, тут, у моста, лесопилка, дальше по берегу опять родники. И мы пили из каждого. Это же на всю жизнь. Сколько красной и черной смородины, ежевики! А за рекой нескончаемые поляны клубники. А в сосновых лесах - рыжики, земляника. Мера радостей жизни была мне отпущена преизлиянная. Но не только же Божии дары природы мы вспоминаем из безоблачной поры детства. Ведь главным в родине была та любовь, в которой мы вырастали. И тот труд, который выращивал нас. Мы рвались к работе, мы с детства старались ухватиться за взрослые инструменты. И позднее, когда приезжали в отпуск из армии и на студенческие каникулы, конечно, прежде всего мы старались чем-то помочь. Труд был радостью.
В одном месте решил спрямить дорогу, я помнил, что была тропинка меж огородов. Во дворе играли дети, крутилась лохматая собака и сидела старуха, их наблюдавшая. Я поздоровался.
- Могу тут я пройти напрямую?
- Можно, можно, как не можно.
- А ваша собачка не тронет.
- Да что ты, что ты, она у нас такая ли ласкуша.
Я и пошел напрямую. И тут собака кинулась на меня, да так яростно и злобно захрипела и залаяла, и прыгала, что я стал отступать и нагибался, притворяясь, что хватаю с земли камень или палку. Дети подбежали к собаке, стали ее оттаскивать, старуха стала раскачиваться на табурете, чтобы встать. Наконец, собака умолкла.
- Хороша ласкуша, - сказал я, - чуть не сожрала.
- Нет- нет, она очень добрая, - заступилась за собаку старуха, - да ведь у ей сейчас ребенки. А так-то наш, не наш, все идут.
Пошел я дальше, убедясь в том, что не все еще собаки меня знают.
Жара после обеда превратилась в духоту. Я много ездил по странам Африки и Ближнего Востока, а там такие градусы - норма, поэтому российскую жару, тем более на родине, переносил легко. Шел и вспоминал святителя Иоанна Златоуста, поставившего в прямую зависимость погоду и нравственное состояние людей. Текла израильская земля «молоком и медом», стала безжизненной иудейской пустыней. «Преложил Господь землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней», как говорит Писание. Так может случиться и с нами, если... Если что? Если не прекратится этот накат цинизма, похабного юмора, вся эта бесовщина ненависти к России - самой целомудренной стране мира. Отчего погибли Содом и Гоморра, Карфаген, Помпея? От разврата жителей. Далеко ли нам до них?
На аллее, близ памятнику солдату, сидели печальные люди, пившие лимонад. Увидев меня, повеселели и сообщили, что обманывают милицию, которая не дает распивать пиво в общественных местах, и они переливают пиво в замаскированную под лимонад емкость. Почему-то эти граждане полагали, что деньги в моих карманах также и их достояние. Но строго воспитанный отцом Александром, я сказал, что еды им куплю, а об остальном не мечтайте. Хотя магазин, куда со мной пошел небритый человек средних лет, как раз назывался «Мечта». Человек сказал, что у него есть стихи о России. Я попросил прочитать. Он стеснялся. Тогда я выдрал листок из блокнота и попросил переписать хотя бы одно стихотворение. «А я пока куплю чего поесть, гонорар такой тебе». Вскоре мы обменялись. Я ему еду, он стихи. Дома их прочел.
Пошел его похвалить, но он уже, выменяв еду на спиртное, меня не узнал, вновь прося сумму на дополнительную поправку здоровья.
Жена звонила и говорила, что в Москве ужасы жары доходят до каждой квартиры. Не спасают и кондиционеры, так как прохлада из них полна запахов гари. «Да еще этот асфальт».
Да уж, асфальт. Думаю, что все наши несчастья от этого асфальта. Родина его - Мертвое море, оно так и называлось, Асфальтовым. Именно оно погребло развратников Содома и Гоморры. В словаре Даля приводится московское название асфальта - «жидовская мостовая». Асфальтом заливали тела покойников и приспособились заливать землю. А земля никогда не умирает, и под асфальтом жива. Все мы видели, как весной появляются трещины на асфальте, это растения пробивают крышку своего надгробия. И трещины заливают, и новым асфальтом закатывают, и вроде побеждают растительную жизнь, но все равно есть ощущение внутренней, загнанной в темницу жизни. Асфальт, его испарения, вызывают раковые заболевания. А в жару мы в городе только ими и дышим. А если бы снять корку асфальта с земли, как бы она вздохнула, как благодарила нас чистым воздухом и прохладой!
Но разве не так и Россия? С ее единственностью, неповторимостью, она убивается, закатывается асфальтом чужебесия, иноземных нравов. Зачем нам их навязывают? Какая же это мировая цивилизация, которая одобряет гомосексуализм? Это-то и есть содомия, названная так по имени города Содом, провалившегося в Мертвое море.
За поселком, на проводах, я увидел стаи стрижей. Это редчайшее зрелище - сидящие, а не летающие стрижи. У нас их всегда было много. Небо моего детства покрыто крестиками стрижей. Это не ласточки, хотя они и похожи, и не ласточки-береговушки, которые иссверлили все обрывы по берегам рек, это именно стрижи. Ловкие, легкие, красивые. Они не могут взлететь с земли, у них большой размах крылышек. Однажды в детстве я шел в поле и увидел, что стрижи кричат и летают стаей над одним местом. Я увидел птенца, уже большенького, но безпомощного. Он пищал и крутился на одном месте. Рядом был сарай. Я сразу решил, что надо птенца поднять на высоту, а там он взлетит. Но как? Поймать-то я его поймал и под рубашку посадил, но стрижам был непонятен мой порыв, и они кричали, и пикировали. Да и птенец больно скребся под рубашкой. Я лез по углу сарая, боялся и, подбадривая себя, разговаривал с птенцом: «Хочешь жить, а? Хочешь, конечно. А как же?» Птенец царапался, подтверждая волю к жизни. Стрижи меня атаковали и с размаху тюкали в голову. Долезши до крыши, я ухватился одной рукой за ее край, другой вытащил пищащего и бьющегося в руках птенца и посадил на замшелую поверхность. Потом сорвался на землю, вскочил и отбежал. Стрижи поняли мою им помощь и больше не нападали. А птенец вскоре полетел вместе со стаей.
Конечно, эти, сегодняшние, стрижи были потомками именно того стрижонка. Весело и заслуженно я поздоровался с ними. «Помните своего предка? А тут и мои тоже».
Я все тот же, родина моя. Тот же босоногий мальчишка, любящий тебя уже только за то, что здесь появился на свет Божий. Так мне было суждено. Это только подумать: ни за что, просто по милости Божией мне была подарена такая родина. Такая река, такие леса и луга, такие люди. И за это счастье никогда не устану благодарить Бога.
КРАСНАЯ ГОРА
Как же давно я мечтал и надеялся жарким летним днем пойти через Красную гору к плотине на речке Юг. Красная гора - гора детства и юности.
И этот день настал. Открестившись от всего, разувшись, чтобы уже совсем как в детстве ощутить землю, по задворкам я убежал к реке, напился из родника и поднялся на Красную гору. Справа внизу светилась и сияла полная река, прихватившая ради начала лета заречные луга, слева сушились на солнышке малиново-красные ковры полевой гвоздики, а еще левей и уже сзади серебрились серые крыши моего села. А впереди, куда я подвигался, начиналась высокая бледно-зеленая рожь.
По Красной горе мы ходим работать на кирпичный завод. Там, у плотины, был еще один заводик, крахмалопаточный, стояли дома, бараки, землянки. У нас была нелегкая взрослая работа: возить на тачках от раскопа глину, переваливать ее в смеситель, от него возить кирпичную массу формовщицам, помогать им расставлять сырые кирпичи для просушки, потом, просушенные, аккуратненько везти к печам обжига. Там их укладывали елочкой, во много рядов, и обжигали сутки или больше. Затем давали остыть, страшно горячие кирпичи мы отвозили в штабели, а из них грузили на машины или телеги. Также пилили и рубили дрова для печей.
Обращались с нами хуже, чем с крепостными. Могли и поддать. За дело, конечно, не так просто. Например, за пробежку босыми ногами по кирпичам, поставленным для просушки.
Помню, кирпич сохранил отпечаток ступни после обжига, и мы спорили, чья. Примеряли след босыми ногами, как Золушка туфельку.
Обедали мы на заросшей травой плотине. Пили принесенное с собой молоко в бутылках, прикусывали хлебом с зеленым луком. Тут же, недалеко, выбивался родник, мы макали в него горбушки, размачивали и этой сладостью насыщались. Формовщицы, молодые девушки, но старше нас, затевали возню. Даже тяжеленная глина не могла справиться с их энергией. Дома я совершенно искренне спрашивал маму, уже и тогда ничего не понимая в женском вопросе:
- Мам, а почему так - они сами первые пристают, а потом визжат?
Вообще это было счастье - работа. Идти босиком километра два по росе, купаться в пруду, влезать на дерево, воображать себя капитаном корабля, счастье - идти по опушке, собирать алую землянику, полнить ею чашку синего колокольчика, держать это чудо в руках и жалеть и не есть, а отнести домой, младшим - брату и сестренке.
И сегодня я шел босиком. Шел по тропинкам детства. Но уже совсем по другой жизни, нежели в детстве: в селе, как сквозь строй, проходил мимо киосков, торгующих похабщиной и развратом в виде кассет, газет, журналов, мимо пивных, откуда выпадали бывшие люди и валились в траву для воссоздания облика, мимо детей, которые слышали матерщину, видели пьянку и думали, что это и есть жизнь и что им так же придется пить и материться.
Но вот что подумалось: моя область на общероссийском фоне - одна из наиболее благополучных в отношении пьянства, преступности, наркомании, а мой район на областном фоне меньше других пьет и колется. То есть я шел по самому высоконравственному месту России. Что же тогда было в других местах?.. Я вздохнул, потом остановился и обещал себе больше о плохом не думать.
А вот и оно, это место. Тут мы сидели, когда возвращались с работы. Честно говоря, иногда и возвращаться не хотелось. С нами ходил худющий и бледнющий мальчишка Мартошка, он вообще ночевал по баням и сараям. У него была мать, всегда пьяная или злая, если не пьяная, и он ее боялся. Другие тоже не все торопились домой, так как и дома ждала работа - огород, уход за скотиной. Да и эти всегдашние разговоры: «Ничего вы не заработаете, опять вас обманут». А тут было хорошо, привольно. Вряд ли мы так же тогда любовались на заречные северные дали, на реку, как я сейчас, вряд ли ощущали чистоту воздуха и сладость ветра родины после душегубки города, но все это тогда было в нас, с нами, мы и сами были частью природы.
Я лег на траву на спину и зажмурился от обилия света. Потом привык, открыл глаза, увидел верхушки сосен, берез, небо, и меня даже качнуло -это вся земля подо мной ощутимо поплыла навстречу бегущим облакам. Это было многократно испытанное состояние, что ты лежишь на палубе корабля среди моря. Даже вспомнились давно забытые юношеские стихи, когда был летом в отпуске, после двух лет армии, оставался еще год, я примчался в свое село. Конечно, где ощутить встречу с ним? На Красной горе. Может быть, тут же и сочинил тогда, обращаясь к родине: «Повстречай меня, повстречай, спой мне песни, что мы не допели. Укачай меня, укачай, я дитя в корабле-колыбели». Конечно, я далеко не первый сравнивал землю с кораблем, а корабль с колыбелью, и недопетое было не у меня одного, но в юности кажется, что так чувствуешь только ты.
Вдруг еще более дальние разговоры услышались, будто деревья, березы, трава их запомнили, сохранили и возвращали. У нас, конечно, были самые сильные старшие братья, мы хвалились ими, созидая свою безопасность. Говорили о том, что в городе торговали пирожками из человеческого мяса. А узнали по ноготку мизинца. Мартошка врал, что ездил на легковой машине и что у него есть ручка, которой можно писать целый месяц без всякой чернильницы.
- Спорим! - кричал он. - На двадцать копеек. Спорим!
Мартошка всегда спорил. Когда мы, вернувшись в село, не желая еще расставаться, шли к фонтану - так называли оставшуюся от царских времен водопроводную вышку, - то Мартошка всегда спорил, что спрыгнет с фонтана, только за десять рублей. Но где нам было взять десять рублей? Так и остался тогда жив Мартошка, а где он сейчас, не знаю. Говорили, что он уехал в ремесленное, там связался со шпаной. Жив ли ты, Мар-тошка, наелся ли досыта?
На вышке, вверху, в круглом помещении находился огромнейший чан. Круглый, сбитый из толстенных плах резервуар. В диаметре метров десять, не меньше. По его краям мы ходили как по тропинке. В чане была зеленая вода. Мартошка раз прыгнул в нее за двадцать копеек. Потом его звали лягушей, такой он был зеленый.
Я очнулся. Так же неслись легкие морские облака, так же клонились им навстречу мачты деревьев, так же серебрились зеленые паруса березовой листвы. Встал, ощущая радостную легкость. Отсюда, под гору, мы бежали к плотине, к заводу. Проскакивали сосняк, ельник, березняк, вылетали на заставленную дубами пойму, а там и плотина, и домики, и карлик пасет гусей. Мы с этим карликом никогда не говорили, но спорили, сколько ему лет.
Бежать по-прежнему не получилось - дорога была выстелена колючими сухими шишками. Чистый когда-то лес был завален гнилым валежником, видно было, что по дороге давно не ездили. Видимо, она теперь в другом месте. Все же переменилось, думал я. И ты другой, и родина. И ты ее, теперешнюю, не знаешь. Да, так мне говорили: не знаешь ты Вятки, оттого и восхищаешься ею. А жил бы все время - хотел бы уехать. Не знаю, отвечал я. И уже не узнаю. Больше того, уже и знать не хочу. Чего я узнаю? Бедность, пьянство, нищету? Для чего? Чтоб возненавидеть демократию? Я ее и в Москве ненавижу. А здесь родина. И она неизменна.
Все так, говорил я себе. Все так. Я подпрыгивал на острых шишках, вскрикивал невольно и попадал на другие. Но чем ты помогаешь родине, кроме восхищения ею? Зачем ты ездишь сюда, зачем все бросаешь и едешь? И отказываешься ехать за границу, а рвешься сюда. Зачем? Ничего же не вернется. И только и будешь рвать свое сердце, глядя, как нашествие на Россию западной заразы калечит твою Родину. Но главное, в чем я честно себе признавался, - это то, что еду сюда как писатель, чтобы слушать язык, родной говор. Это о нашем брате сказано, что ради красного словца не пожалеет родного отца. Вот сейчас в магазине худая, в длинной зеленой кофте, женщина умоляла продавщицу дать ей взаймы. «Я отдам, - стонала она, - отдам. Если не отдам, утоплюсь». - «Лучше сразу иди топись, - отвечала продавщица. - Хоть сразу, хоть маленько погодя.
Я еще головой не ударилась, чтоб тебе взаймы давать. А если ударилась, то не сильно». Вот запомнил, вот записать надо, и что? Женщина от этого не протрезвеет. И так же, как не записать загадку, заданную мужчиной у рынка: «Вот я вас проверю, какой вы вятский. Вот что такое: за уповод поставили четыре кабана?» Когда я ответил, что это означает: за полдня сметали четыре стога, он был очень доволен: не все еще Москва из земляка вышибла. «А я думал, вас Москва в муку смолола».
Ну, вот зеленая пойма. Но где дома, где бараки? Ведь у нас нет ничего долговечнее временных бараков. Я оглядывался. Где я? Все же точно шел, точно вышел.
Снесли бараки, значит. Пойду к плотине, к заводу. Я пришел к речке. Она называлась Юг. Тут она вскоре впадала в реку Кильмезь. Я прошел к устью. Начались ивняки, песок, бело-бархатные лопухи мать-и-мачехи, вот и большая река заблестела. А где плотина? Я вернулся. Нет плотины. А за плотиной был завод. Где он? Может быть, плотину разобрали или снесли водопольем, но как же завод? И где другой завод, крахмалопаточный? Где избы?
Я прошел повыше по речке, продираясь через заросли. Не было даже никаких следов. Ни человеческих, ни коровьих. Тут же тогда стада паслись. Я остановился, чувствуя, что весь разгорелся. Прислушался. Было тихо. Только стучало в висках. Тихо. А почему не взлаивают собаки, не поют петухи? Вдруг бы закричали гуси? Нет, только взбульки-вала в завалах мокрого хвороста речка и иногда шумел вверху, в ветвях елей, ветер.
Вдруг я услышал голоса. Явно ребячьи. Звонкие, веселые. Пошел по осоке и зарослям на их зов. Поднялся по сухому обрыву и вышел к палаткам. На резиновом матраце лежала разогнутая, обложкой кверху, книга «Сборник анекдотов на все случаи жизни», валялись ракетки, мячи. Горел костер, рядом стояли котелки. Меня заметили. Ко мне подошли подростки, поздоровались.
- Вы не знаете... - начал я говорить и оборвал себя: они же совсем еще молодые. - Вы со старшими?
- Да, с тренером.
Уже подходил и тренер. Я спросил его: где же тут заводы, кирпичный и крахмалопаточный, где плотина? Он ничего не знал.
- Вы местный?
- Да. Ходим сюда давно, здесь сборы команд, тренировки.
- Ну не может же быть, - сказал я, - чтоб ничего не осталось. Не может быть.
Ничем они мне помочь не могли и стали продолжать натягивать меж деревьев канаты, чтобы, как я понял, завтра соревноваться, кто быстрее с их помощью одолеет пространство над землей.
Снова я кинулся к берегу Юга. Ну где хотя бы остатки строений, хотя бы остовы гигантских печей, где следы плотины? Нет, ничего не было. Не за что даже было запнуться. Уже ни о чем не думая, я съехал по песку в чистую холодную воду и стал плескать ее на лицо, на голову, на грудь.
Гибель Атлантиды я пережил гораздо легче. Атлантида еще, может быть, всплывет, а моя плотина - никогда. Никогда не будет на свете того кирпичного завода, тех строений, тех землянок. Никогда. И хотя говорят, что никогда не надо говорить «никогда», я говорил себе: никогда ничего не вернется. Все. Надо было уходить, уходить и не оглядываться. Ничего не оставалось за спиной, только воспоминания да новое поколение, играющее в американских актеров.
Я прошел зеленую пойму, заметив вдруг, как усилилось гудение гнуса, прошел по сосняку, совершенно не чувствуя подошвами остроты сухих шишек, и вышел на взгорье. Куда было идти? В прошлом ничего не было, в настоящем ждали зрелища пьянки и ругани. Измученные, печальные, плохо одетые люди. Тени людей. И что им говорить: не пейте, лучше смотрите телевизор. Очень много они там увидят: мордобой, ту же пьянку, разврат и насилие.
Я не шел, а брел, не двигался, а тащил себя по Красной горе. О, как я понимал в эти минуты отшельников, уходящих от мира! Как бы славно - вырыть в обрыве землянку, сбить из глины печурку, натаскать дров и зимовать. Много ли мне надо? Никогда я не хотел ни сладко есть, ни богато жить. Утвердить в красном углу икону и молиться за Россию, за Вятку, лучшую ее часть. Но как уйти от детей? Они уже большие, они давно считают, что я ничего не понимаю в современной жизни, и правильно считают. А как от жены уйти? Да, жену жалко. Но она-то как раз поймет. Что поймет? Что в землянку уйду? Да никуда я не уйду. Так и буду мучиться от осознания своего безсилия чем-то помочь Родине.
Тяжко вздыхал я и заставлял себя вспомнить и помнить слова преподобного Серафима Саровского о том, что прежде, чем кого-то спасать, надо спастись самому. Но опять же, как? Не смотреть, не видеть, не замечать ничего? Отстаньте, я спасаюсь. Да нет, это грубо - конечно, не так. Молиться надо. Смиряться.
В конце концов, это же не трагедия - перенос завода. Выработали глину и переехали. Люди тоже. Плотину снесло, печи разобрали, все же нормально. Но меня потрясло совершенно полное исчезновение той жизни. Всего сорок лет, и как будто тут ничего не было. И что? И так же может исчезнуть что угодно? Да, может. А что делать? Да ничего ты не сделаешь, сказал я себе. Смирись.
Случай для проверки смирения подвернулся тут же. Встреченный у подножия горы явно выпивший мужчина долго и крепко жал мою руку двумя своими и говорил:
- Вы. ведь наша гордость, мы ведь вами гордимся. А скажите, откуда вы берете сюжеты, только честно? Из жизни? Мне можно начистоту, я пойму. Можно даже намеком.
- Конечно, из жизни, - сказал я. - Сейчас вы скажете, что вам не хватает десятки, вот и сюжет.
Он захохотал довольно.
- Ну ты, земеля, видишь насквозь. Только не десятку, меньше.
- У меня таких сюжетов с утра до вечера, да еще и ночь прихватываю. Вот тебе еще сюжет: вчера нанял мужиков сделать помойку. Содрали много, сделали кое-как. Чем не сюжет? Да еще закончить тем, что они напиваются и засыпают у помойки. Интересно, об этом будет читать?
- Вообще-то смешно, - ответил он. - Но разве они у помойки ночевали?
- Это для рассказа. Имею же я право на домысел. Чтоб впечатлило. Чтоб пить перестали. Перестанут?
- Нет, - тут же ответил мужчина. - Прочитают, поржут - и опять.
- И не обидятся даже?
- С чего?
- Еще и скажут: плати, без нас бы не написал. Ну, давай, - я протянул руку. - В церковь приходи, там начали молебен служить, акафист читать иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша». По пятницам.
- И поможет?
- Будешь верить - поможет.
Мы расстались. Накрапывал дождик. Я подумал, что сегодня снова не будет видно луны, хотя полнолуние. Тучи. Опять будет тоскливый, долгий вечер. Опять в селе будет темно, будто оно боится бомбежек и выключает освещение. Мы жили при керосиновых лампах, и то было светлее. То есть безопаснее. Но что я опять ною? Наше нытье - главная радость нашим врагам.
Я обнаружил себя стоящим босиком на главной улице родного села. Мне навстречу двигались трое: двое мужчин вели под руки женщину, насквозь промокшую. Я узнал в ней ту, что просила у продавщицы взаймы и обещала утопиться, если не отдаст. Взгляд женщины был каким-то диковатым и испуганным.
Они остановились.
- Она что, в воду упала? - спросил я.
- Кабы упала, - ответил тот, что был повыше. - Сама сиганула. Мы сидим, пришли отдохнуть. Как раз у часовни, - вы ж видели, у нас новая часовня? Сидим. Она мимо - шасть. Так решительно, прямо деловая. Рыбу, думаем, что ли, ловить? А она - хоп! И булькнула. Как была. Вишь - русалка.
Раздался удар колокола к вечерней службе. Я перекрестился. Женщина подняла на меня глаза.
- Вытащили, - продолжал он рассказывать. - Говорю: Вить, давай подальше от воды отведем, а то опять надумает, а нас не будет. Другие не дураки безплатно нырять.
- Ко-ло-кол, - сказала вдруг женщина с усилием, как говорят дети, заучивая новое слово.
- Да, - сказал я, - ко всенощной. Завтра воскресенье.
- Цер-ковь, - сказала она, деля слово пополам. Она вырвала вдруг свои руки из рук мужчин. Оказалось, что она может стоять сама. - Идем в церковь! - решительно сказала она мне. - Идем! Пусть меня окрестят. Я некрещеная. Будешь у меня крестным! Будешь?
- От этого нельзя отказываться, - сказал я. - Но надо же подготовиться. Очнись, протрезвись, в баню сходи. Давай в следующее воскресенье.
- В воскресенье, - повторила она, - в воскресенье. - И отошла от нас.
- Да не придет она, - сказал один из мужчин.
- Ну, - сказал я, - спасибо, спасли. Теперь вам еще самих себя спасти. Идемте на службу. Ведь без церкви не спастись. - Они как-то засмущались, запереступали ногами. - Ладно, - сказал я, - что вы - дети, вас уговаривать? Прижмет, сами прибежите. Так ведь?
- А как же, - отвечали они, - это уж вот именно, что точно прижмет. Это уж да, а ты как думал.
- Да так и думал, - отвечал я и заторопился. Надо было переодеться к службе. Сегодня служили молебен с акафистом Пресвятой Троице. Впереди было и помазание освященным маслом, и окропление святой водой, и молитвы. И эта молитва, доводящая до слез, которая всегда звучит во мне в тяжелые дни и часы: «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет».
«Нельзя, нельзя, - думал я, - нельзя сильно любить жизнь. Любая вспышка гаснет. Любая жизнь кончается. Надо любить вечность. Наше тело смертно, зачем цепляться за него? Оно исчезнет. А душа вечна, надо спасать душу для вечной жизни».
Но как же не любить жизнь, когда она так магнитна во всем? Ведь это именно она тянула меня к себе, когда звала на Красную гору и к плотине. Я шел в детство, на блеск костра на песке, на свет ромашек, на тихое голубое свечение васильков во ржи, надеялся услышать висящее меж землей и облаками серебряное горлышко жаворонка, шел оживить в себе самого себя, чистого и радостного, цеплялся за прошлое, извиняя себя, теперешнего, нахватавшего на душу грехов, и как хорошо, и как целебно вылечила меня исчезнувшая плотина. Так и мы исчезнем. А память о нас - это то, что мы заработаем в земной жизни. Мы все были достойны земного счастья, мы сами его загубили. Кто нас заставлял грешить: пить, курить, материться, кто нас заставлял подражать чужому образу жизни, кто из нас спасал землю от заражения, воду и воздух, кто сражался с бесами, вползшими в каждый дом через цветное стекло, кто? Все возмущались на радость тем же бесам, да все думали, что кто-то нас защитит. Кто? Правительство? Ерунда. Их в каждой эпохе по пять, по десять. Деньги? Но где деньги, там и кровь.
Мы слабы, и безсильны, и безоружны. И не стыдно в этом признаться. Наше спасение только в уповании на Господа. Только. Все остальное перепробовано. Из милосердия к нам, зная нашу слабость, Он выпускает нас на землю на крохотное время и опять забирает к Себе.
«Господи, услыши молитву мою! Не отвержи меня в день скорби, когда воззову к Тебе. Господи, услыши молитву мою!»
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Рука дрожит, сильно дрожит, даже трясется. Но, чтоб ни на кого не думали, когда меня обнаружат, надо записать.
Я умираю. Стал выволакивать старое бревно, чтоб сжечь, перенапрягся и упал. В глазах потемнело, голову обволокло. И сколько лежал, не знаю. Когда очнулся, может, от холода, то всего меня колотила дрожь. Я икал и не мог встать. Костер, на котором сжигал мусор, еле-еле дымился. Пламя могло и ко мне подобраться. Господь пожалел - не доходя меня, оно загасло.
Приполз, именно приполз, в свою избушку. Шарил какие-то лекарства, ничего нет. Попил оттаявшей воды из фляги. И сильно замутило. Стало рвать. Все жилы на шее вытягивало.
Темнеет быстро. Спички не нашел. Но печь все равно не истопить. Свечек бы побольше зажечь для нагрева воздуха, но спичек нет. Наверное, у костра выронил. Но уже туда не доползти, падаю. Ложусь. Тошнит. Рвать нечем. Лягу одетым. Одеяла ледяные. Сердце останавливается, так что могу и не успеть простудой поболеть.
Если не проснусь, простите меня, родные, простите.
Ночью. Замерз окончательно. Но в темноте увидел, что огонек в лампаде живой. Ноги не держат, хватался за спинку кровати, за стол. Еле вспомнил, где свечи. Страшно боялся загасить огонек. Стал читать «Отче наш», губы сводит, зубы стучат. «Господи, умираю!» А всегда просил умереть после покаяния, исповеди, причастия, и вот... Господи, умираю. По грехам моим не осуди меня, дай свечку от лампады зажечь. И зажег! И согрел ею, попеременно держа в руках, и левую ладонь и правую. Потом вставил в подсвечник. Дальше легче. По стенке дошел до кухонного стола, взял тарелок, в них натыкал свечей, которые зажигал от первой. В избушке посветлело, вскоре показалось, что потеплело. Воду пить боялся, несвежая. Даст Бог до утра дожить, закипячу.
«В руце Твои, Господи Боже мой, предаю дух мой.» Ложусь.
Нет, сразу встал. Что-то с головой. Умираю. Обносит слабостью. Стоять - ноги не держат, лежать - тошнит, голова падает в темное, с искорками, пространство. Сижу. К печке привалился - от нее могильный холод: зиму не топили.
Надо завещание написать. Какое завещание, не смеши людей. Ничего ты не нажил. А что есть, какое наследство, на то есть умная жена и хорошие дети.
Уснуть бы. Но лежать тяжело, мысли рвутся, все время только дети и внуки в сознании. Какими-то наплывами.
Вот, оказывается, как умирают. А столько читал о смертях. Так читал же о монахах, молитвенниках. А наш брат, серый народ, умирает простенько. Вот остановится сердце, и все. Господи, спаси и помилуй!
Попробую сидя дремать. Да, уже опять ночь. Что это? Или еще первая не прошла, или новая наступила? Сколько же я тут? Сутки или больше? Какое-то безсознание.
Свечи освещают иконы. Очков нет. На память читаю молитвы, какие помню. Рвется и память. Тысячи раз читал Покаянный канон, а сбиваюсь. Что, моя хваленая память, захромала?
Очнулся. Утро. А утро ли?.. Вроде опять темнеет? Значит, опять вечер? Значит, день проспал? Или пять минут дремал? Нет, не пять: все свечи в тарелках догорели до корешка. Одна, толстая, мерцает. Какое-то тупое безразличие. Перечитал написанное. Смешно: завещание хотел писать. Небо как свиток совьется, земля и все, что на ней, сгорит, всякое железо сгорит, а ты туда же с клочком бумажки.
А ведь вправду вечер. Хорошо, свечей много. Но вряд ли эту холодину поборют. Термометр есть, но нет очков. Может, градусов восемь-десять.
Свечка эта толстая спасла, лампада-то погасла. Где масло, не помню. Место мне среди десяти уродивых дев.
Свечи зажег. Опять все осветилось. Дров у печки нет, дрова на улице, да и все из-под снега. Не разгорятся. Печка страшно холодная, еще и от нее леденит.
Деточки милые, ничего я не нажил, только на одно надеюсь, что будете хоть иногда вспоминать. Я вас очень любил, больше жизни любил. Но почему любил, люблю, с любовью к вам умираю.
Сидел и силился вспомнить число и день недели. Какой год, неважно, да и число тоже, а вот что сегодня? Вторник? Среда? Нельзя мне, если доживу, пропустить Лазареву субботу, Вербное Воскресение и начать жить в Страстной седмице. Но это все за такими горами, на которые нет сил подняться.
Конечно, надорвался от тяжести. Дурак, он и умирает по-дурацки, нельзя же было после стольких операций хвататься за сырое бревно. Тебе говорили: не больше трех килограммов. Мало ли что - батюшка благословил сжечь этот огромный холм отходов от строительства часовни, дома, мусор, говорил же: «Ты потихоньку, сколько успеешь, столько и ладно». Мне же всегда надо больше всех.
Дрожь бьет. Рука, видно по кривой строке, косым буквам, трясется. Озяб. Ногам в ботинках холодно. Вчера промочил.
Так сколько же я здесь? Ночь, две? День, два? Три?
Какое-то тупое состояние. Надо оживать, молиться надо, ведь пропадаю. Есть надо. Но даже мысль о еде вызывает тошноту.
Господи, помоги затопить печку. Ну, уж это стыдно просить: самому надо. Ну-ка соберись, не будь нюней. А то скажут внукам: ваш дедушка и печку не сумел истопить, умер в холодной избе.
Видимо, сегодня среда все-таки. Батюшка обещал приехать за мной утром рано в субботу.
Но чего считать дни, может, и часов не осталось. Как подпирает слабость, которая все сильнее. Наша сила в нашей слабости? Так это о женщинах. А вот если бы тут была жена, и ради нее надо было согреть избу, то как? Ведь истопил бы. Да, ради любимых нашел бы силы. Ну и для себя найди! Ты же любимый у Господа.
Сидел, голова падала, с трудом поднимал. Увидел вдруг в красном углу, на полу, бутылку с лампадным маслом. Начнем оживание с лампады.
Зажег! Вроде и руки не трясутся. Нет, опять вибрируют. В окне на улице день. Все-таки день. По солнцу понимаю, что идет к обеду. Да, солнышко. С ним повеселей.
Ищу телефон. Взмолился, нашел. Но что толку, здесь прочно вне зоны связи. Лес же. В те приезды ходил далеко, к трассе, там соединяло. Сейчас и до часовни не дойти. На телефоне должны быть год, месяц, день и час, и минуты. Но я же без очков. Шарил их, шарил, обезсилел совсем, опять сидел и только дышал.
А как бы дойти до моей березы, поившей меня раньше? Тут на полочке даже сохранился маленький лоточек из нержавейки, который аккуратно вколачивал в ствол. И капало. Днем побыстрее, к вечеру замирало. Да, вот сок земли, выкачанный корнями березы, меня бы оживил.
Мысль о березе, память вкуса о березовом соке меня как-то оживляют. А что? Вставай и иди к природе за лекарством.
Нет, слаб. Ноги не держат. Вот бы костылики.
А ведь и хорошо, что ни часов, ни радио, ни связи нет. Зачем? Светлеет окно - скоро утро, просветлело - день. И пошел день, и идет, и идет, не останавливается. Но какие же долгие ночи!
Так хотелось справиться с этой некрасивой грудой мусора, убрать и у домика, и у часовни. Убирать и все время поглядывать на разливающуюся реку, на этот океан воды. Я на берегу океана. Выброшен умирать.
Тяжело даже ручку в руках держать. Сейчас опять налетало забвение и какое-то бездумие. Выветривается голова, так, что ли?
Не могу понять, лучше мне становится или хуже? Есть совсем не хочу. Да и Великий пост. Но для сил нужно питание.
Пожевал кусочек ржаного хлеба. Сухо, слюны нет, не проглотить. Птицам отдам. Они всегда здесь меня ждут. Зимовали. Да, и зимой сюда приезжал. На лыжах продирался.
Пульс слабый. То изредка частит, то еле-еле напрягается жилка, пульсирует. Да, прижало. Так мне и надо. Даже и сейчас собой занимаюсь, стыдно.
Что, братишечка, страшно помирать? Не страшись: все равно же придется.
Но дети, дети мои милые, внуки, как же вы без меня? Дети мои, кровные и крестные! Внуки! Вот ваш дедушка среди весеннего леса один-одинешенек. Как хотел дожить до того, чтобы видеть вас взрослыми. Видимо, увижу, но уже из другого мира. Если еще заслужу такой чести.
Смею просить: молитесь за меня, обо мне. Боюсь даже не смерти, ответа за грешную жизнь. Грешник «биен будет много». Особенно тот, кто знал, что надо будет ответить не только за дела, даже за каждое слово. Не только бранное, просто праздное. Которое можно было не произносить. А я-то сколько их рассорил! Сколько словесного мусора оставляю. Как бы его сгрести в кучу и сжечь?
Авторучкой пишу, она тоже, как и я, еле живая. Тоже перемерзла. Над свечкой отогрел. А блокнот еще совсем толстый, мне его никогда не исписать.
Солнышко рассиялось. Дай мне сил, светило, Богом созданное.
Нет, пока на улицу не осмелюсь Сижу, валюсь на правый бок, на левый опасаюсь: сразу тяжелеет сердце.
Все-таки потеплело от свечей в моем пристанище. Пальцами ног шевелю. Слушаю себя, везде пусто. Вот оно, великое изречение: в чем только душа держится. Цепляться же ей за что-то надо. Надо что-то съесть. И без воды нельзя. И пить воду из фляги боюсь.
О, и тут батюшка спасает! Оказывается, он привез и поставил у стола пятилитровую бутыль с водой. Не давал мне тащить. А солнышко ее высветило. Прямо на колени перед ней встал, накренил, налил в кружку. Боялся пить: затошнит, но все хорошо. Попил глоточками. Еще попил. Желудок благодарно отозвался. То есть я почувствовал, как вода оживляет меня.
Да, так. Оживляет. Ну, оживи и дальше, чтобы до березы дойти.
Полежу. Плохо, что вода холодная, внутри холодно. Лежи, в могиле еще холоднее.
Полежал. Думал: как понять, что вот именно моя душа пришла в этот мир? Господи, за что мне такая милость и благодать? Я ли должен был видеть эти облака, этот весенний широкий разлив, эти сухие, умирающие травы и эти стрелки-иголочки новых зеленых травинок, я ли?
Господи, как всегда легко и привольно дышалось под небесами Твоими. И какая краткая оказалась жизнь, как мало успел, успел только понять: какая у нас коротенькая жизнь.
Мгновенная.
И в эти мгновения, составляя опись сотворенного Богом мира, в который Он поместил меня, думал, что надо в нее вставить и залетевшего в домик шмеля, который упрямо таранит воздух в избушке, сердится, значит, на меня. Откуда я вдруг взялся в его привычном мире? Или просит выпустить? Ничего, мы с ним подружимся. А как изобразить в словах полет умирающего в полете, догорающего сухого листочка? Вчера же удалось немного разжечь костерик.
Да! Вот где сухие дрова, в костерке. Он загас, но всякие ветки в нем и щепки высохли.
Надо за ними. Не истоплю печь, окачурюсь. Уже и кашель налетает. Тяжелый, сухой. Надрывный. Знаю, под утро будет еще сильнее мучить.
И вот - первая победа. Сходил, еле-еле дотащился до груды мусора, около которой разжигал костер, постоял, отдышался. Запах костра, такой родной с детства, тоже воскрешает. Река еще и еще размахнулась в размерах, подпирает мой высокий берег, а низкий весь затоплен. Островки деревьев.
Притащил дровишек. Мало. Но начать топку - великое дело. Открыл отдушину, вьюшку. Скомкал сухую газету, поджег свечкой. Горит, но дым идет не в трубу, в избу. Это или снегом забило, или ворона гнездо в трубе свила. Плохо дело. Избушка полна дыма, еще и от него кашляю и плачу. Беда, беда. Пришлось дверь открыть, чтоб дым вытягивало. Снова рвал газетки, уже и лучинки к ним добавлял и сухие веточки. Нашел даже за печкой свиток бересты, это материал зажигательный. Трещит, свивается. Дым ахает из дверцы, сквозит из плиты, прямо дымовая завеса, дышать нечем. Как ты, мой шмель, жив ли?
Выполз на крыльцо, дверь оставил открытой. Отдышался, пошагал опять за дровами. Надеялся, что протянет. От костра оглянулся на избу, на трубу, и возликовал - тонюсенькая струйка дыма шла из нее. Победа!
Даже сил прибавилось. Себя урезонивал: набирай дров поменьше. Приковылял с дровишками в избу. В ней, конечно, холодно, но не дымно уже, уже «веселым треском трещит затопленная печь». Вроде и сам повеселел. Пушкин пришелся к месту.
Тяга хорошая. Плита вскоре теплая, теперь горячая уже.
И еще ходил за дровами, и еще. И перестарался. Опять прижало, да так, что думал: все. Стало даже безразлично дальнейшее. Умирать-то, что в теплой, что в холодной избе, разница невелика, не я тут решаю.
Воду пил из бутыли. Но что вода организму, да еще холодная. Рвало опять. Крепко меня прополаскивает.
Сознание опять терял. Все же ненадолго, так как дрова не успели прогореть. Поставил чайник, насовал в печку дровишек, бывших досок, реек, веток.
Стемнело. Ночи страшусь: дрожь опять вернулась. Печь все еще
холодная.
Еще победа - чайник согрелся, заговорил со мной трясущейся крышкой. Чай у меня хороший. Заварил в кружке. Вначале ее ошпарил, прогрел тоже. Вылил из чайника кипяток в умывальник - пар идет, тоже греет воздух. Снова налил чайник, снова на плиту поставил.
Пока он закипал, читал молитвы. И все время стараюсь их читать. Прошу ангела-хранителя гнать от меня плохие мысли, только молитвы. Вот, милый ангел, где мы с тобой. Прости, тебе со мной всегда было несладко.
Воздух в избушке все теплее. Но пол ледяной. Поднял повыше одеяла и подушки. Кашляю до стона.
Понимаю, что меня так за грехи треплет. Хоть бы только не умереть. А и умру. Недавно же, перед поездкой, причащался.
Слава Богу.
Постоянная судорога мыслей, лица, мелькающие в сознании, вина перед всеми, как понять?
А так и понять, что вина перед всеми, то есть перед Богом.
Господи, Твоя воля, пока живу: лампада горит, иконы со мною, в окне часовня, под обрывом растущая мощь прибывающей воды.
Еще и еще натолкал в топку дров, уже кончились. Больше не пойду за ними: темно. Да и хватит, уже плита раскалилась. Пойдут после зимы трещины в стенках печи, неудобно перед батюшкой.
В избе все теплее, а мне все холоднее.
Молитва перед едой. Чай дымится в кружке, подсластил. Размочил хлебушек, потихоньку съел немного. Больше пока не буду, пусть приживется.
Не буду и гадать, какой день, какое число на дворе. Батюшка сказал, что приедет в субботу утром. Может, она завтра и есть.
Хотя бы уснуть.
А как уснуть, когда, как последний салага, налопался крепкого чаю. Прямо, как зэк, чифирил. Но хотя бы ощутимо согрелось внутри. А кашель наваливается с новой силой. До помутнения сознания. Передышки редкие. Будто кто у меня внутри поднимает к горлу волны удушья, которые надо выкашлять. Нос заложило. Сморкаюсь сильно, безполезно.
Так мне и надо. Может, от этих страданий грехи изглаживаются? Чего захотел! Какие это страдания, кожу с тебя, что ли, сдирают?
Вспомнил недавнее прошлое, то есть поход за дровами, в нем сочинилась такая фраза: «И упадает закатный луч на прошлогодние травы». И еще: «Спасение России в пространстве и времени». Вот какой умный гриппозный писака. Кашляй, выкашливай дурь. Да, еще же была фраза, когда глядел на лес: «И вдруг, в завершение дня, солнце озаряет окрестность, и особенно роскошную березу, что любоваться ею можно в любом состоянии». Немножко искусственно. Но уж больно береза была хороша. И любому состоянию помогала.
А интересно, почему «моя» береза не рядом с домиком? Не знаю. Шел с топориком по берегу, выбирал, и все их жалел. То есть березы. Выбрал. Аккуратно подрубил две канавки уголком книзу, в уголок вколотил лоточек, подставил ведерко. Но вообще такое небольшое изъятие сока для дерева не страшно. Например, сосны, добывание из них ценнейшей живицы. Называется подсочка. Такие сосны иногда растут даже лучше тех, которые росли без изъятия живицы.
Перед дорогой к березе, полежу.
Боже мой, какой полежу: потолок черный. Думал, что это закоптил дымом - нет, это ожили мошки. Потолок прямо весь шевелится. На окнах они же, стадами пасутся на стеклах. Что делать? Когда были с братом, и они так же ожили от тепла, то я стоял внизу, подняв над собой таз с водой, а брат, вставши на стол, сметал мошек веником. Вода в тазу становилась черной. Сейчас я один. Куда денешься, хай живут. Меня уж точно переживут.
Опять что-то плоховато. Давно молитвы не читал.
Нет, пока день, надо идти за соком. Побреду. Святителю отче Николае, помоги!
Да, сходил. Тихохонько брел, добрел. Надрезы мои прошлогодние промокли, на них черным-черно муравьев. Сок березовый, их можно понять. Освежил бороздки, заколотил лоточек, подставил банку. Приду часа через два. Нет, так нельзя, надо: «Если даст Бог дожить, приду через два часа».
Из опыта многолетней жизни знаю, что оживить может только молитва. Но так плохо мне еще не бывало, и когда-то и молитва не оживит. Читай, брат, читай. За Богом молитва не пропадет.
Снял даже куртку. Сверху, с проволоки, спустил одеяла и подушки, нагрелись. Но и они все в мушках. Кашель.
А вот на улице не кашлял. Даже голова отдохнула. А то такое надрывающее напряжение. Сейчас опять приступ был. Хотя бы отхаркивалось. Нечем.
Спустил ноги с кровати. Еле-еле душа в теле. Как это точно! Но чем хороша русская изба, она залеживаться не даст. Когда лежать? Надо печку топить, дров запасти. И к березе сходить.
Ну, крестись на красный угол, молись, и в путь на долгие минуты.
Молодец я, надо же когда-то и себя похвалить, натаскал и дров и за соком сходил. Там присел у березы, прислушался. Всегда любил слушать, как тенькают капли сока в ведро, в кастрюлю. Слушаю, не слышу. А капли одна за другой. Что такое. Прислушался. Не слышу ничего. Знаю, что птицы поют, ветви на ветру вверху шумят, не слышу. Ударила простуда по ушам. Впечатление ошеломляющее. Возвращался в полной тишине. Ветка под ногой хрустнула, чувствую, а не слышу звука. Что же, и это за грехи.
Похвалил себя, и сразу наказан: упал прямо лицом. Запнулся за ровное место, полетел. Руки вытянул, а они не держат. Ткнулся в землю. Оцарапал нос. Ощутил кровь. Хорош подарок солнечного дня.
Умылся, лежу. Зеркала нет на себя полюбоваться.
Собрался с силами, затопил. Опять дымит. Слезы от дыма. Но хоть и от него, а хорошо, что слезы. Прошу же в молитве дать мне «слезы, память смертную и умиление». Память смертную можно и не просить, она рядом, а слезы - смыть грехи - прошу.
Гасла опять лампадка. Видимо, масло загустело от морозов, фитиль плохо тянет. Зажег лампаду. Снял со стены крест. Большой, латунный. Расстегнул рубашку, приложил к груди. Так целительно освежил грудь. Остудил и лоб крестом.
Чистил лук, разрезал луковицы и вдыхал носом запах. Это очень надо, ибо явился «к числу других затей» насморк. Дышать ртом не могу, губы пересыхают, язык шершавеет.
Покрошил лук и мелко картошку, поставил на плиту рядом с чайником.
После таких подвигов опять лежу. И как-то спокойно думаю о земной кончине своей. Совсем не страшно умереть, хотя ночью очень испугался, когда куда-то проваливалась голова и сердце сдавливало. Все равно я же не чахлик невмерущий, не вечный жид, все равно умирать. Страшно одно: как мои родные, милые, любимые люди без меня тут останутся?
Но им же лучше, что здесь умру, на родине. Не надо будет меня везти в такую даль, сам приехал.
Здесь же и услышал великую вятскую пословицу: «Отдохнем, когда подохнем».
Забулькал мой супик. Посолил. Немножко масла растительного добавил. А вдруг пятница?
Двигаюсь как-то заторможено, но двигаюсь же.
Мошек на окне припекло, перебрались окончательно на потолок. «На кровати я лежу и гляжу на потолок: таракашка таракашку на шабашку поволок». И лезет же в голову такое. Или вспомнился совсем вроде ни к чему мальчик лет трех, в Вятке, на улице. Говорит мне: «Папка на шабашке, а мама красавица».
О, у меня появился заступник и союзник. Это паук. Он питается мошками. Ему за ними бегать не надо, не надо паутину тянуть, сами к нему подползают. Он выедает пространство вокруг себя и перемещается. Только и делов. Ну и пузо у него, ну и аппетит.
Дышал над кастрюлей паром от картофеля и лука. Потом похлебал немного. Немножко греет изнутри.
Главное желание - больше всего хочется услышать голоса детей и внуков. Пусть ни о чем, только голоса. Милые мои! Уже из школы пришли, уже капризничают: то не хочу, другое не хочу. Небось, ухватили конфет, суп не хотят. Мне бы ваши супы. Но и свой хорош. Женушка, родная, молюсь за всех вас, прошу и вас меня вспомнить. А потом и вспоминать.
Солнце сияет во все небушко. А выйдешь - ветер, холодина, несет с реки влажной сыростью.
Надо попытаться зажечь костер для сжигания мусора. Зарядился старыми газетами, спички нашел, они и не терялись, лежали в печурке, оделся. Надо бы переобуться. Обмывать будут, да увидят немытые ноги. Стыдно.
Поставил в большой кастрюле греть воду. Вода из фляги. Из бутыли, батюшкину берегу.
Итак, ходил к костру. И разжег его, и потихоньку из груды мусора доставал, что помельче, и подкладывал. Разгорелось. Вдруг пламя резко и резво пошло по сухой траве, еле-еле успел захлопать его лопатой. Потом еле отдышался. Потом долго окапывал костер. Иначе может быть беда. Трава сухая, огонь по ней может уйти к лесу.
Но эти старания стоили полного безсилия, приступов кашля до изнеможения и тошноты. Все-таки сплюнул, но слюна красная. И как-то спокойно подумал: кровь. Видно, надорвал бронхи. А может, что и посерьезнее. Как знать. Как Бог даст. В домике еще поел своего супа. Но чего-то не пошло.
Рассмотрел сумки, привезенные сюда. Да, оказывается, у меня всего полным-полно. Матушкины заботы. Лепешки, блины, помидоры, мандарины. Морковь и свекла. Тоже надо варить. Но уже, даст Бог, завтра. Да, надеюсь.
Лежал, вспомнил Акутагаву Рюноске, его «Зубчатые колеса». Читаешь, и с ним начинаешь сходить с ума. Вспомнил и Мопассана «На водах». Читаешь, и с ним умираешь. Талант, или в самом деле это переживали? Литература или жизнь? У меня здесь записи начались с написания завещания, а потом пошел репортаж об умирании. Скорее, желание оставить детям свидетельство о последних днях (да, именно так думал), о том, что именно о них, и почти только о них, думал днями и особенно ночами.
А, собственно, хоть сейчас умру, хоть погодя, все равно последние дни.
Стараюсь даже не дремать, чтобы ночью уснуть.
Еще кашель схватил у раковины и снова отплюнул, и опять плевок красный. Ладно, что будет, что Бог даст. Если пора отчаливать, так пора. Все в Его воле.
Надо мне, как монаху, которого мучили боли, говорить им: мучьте, мучьте, а вот я возьму и помру, кого вы будете мучить? У трупа радикулита не бывает.
Паук мой наелся и дремлет среди своей пищи. Потолок весь шевелится. Мушки перемещаются на окна. Будто живые темные занавески.
Надо за банкой к березе. Наберусь сил и побреду. По пути заверну к костру, подброшу, но помельче, чтобы до ночи прогорело. А уже скоро и вечер.
Да, еще и этим наказан - глухой. Читал вслух Девяностый псалом, читал, будто ватой обложенный. И глухоту приемлю как милость. Что еще слышать из звуков мира? Болтовню, вранье политиков? Пошлость артистов? Жаль пения соловьев, плеска волн, детского смеха, «Херувимской», но все это в памяти слуха.
У березы новость - не один я сладко жить хочу - муравьи полезли пить сок в банке на дармовщинку и в нем утонули. Жалко трудяг. Выплескал их щепочкой на траву на пригорке. Отпил глоток, долго держал во рту, согревал. Проглотил. Очень все внутри откликается. Это же с детства, это же навсегда.
Сок уже не каплет, утром, если доживу, надо принести какую-то емкость побольше. К приезду батюшки дары природы.
Вернулся в дом. Перед выходом на улицу в нем согрелся, но потом у костра с одной стороны жарко, с другой холодит. А у березы совсем просквозило. Насморк, конечно. Да уж хотя бы сопли текли, сопливый был бы Робинзон - нет, просто носом не могу дышать. И опять кашель.
К ночи кружится голова.
«Господи, на всякий день, на всякий час дня наставь и поддержи меня».
Слабость повалила. Лежал, и вдруг пригрезилось, что меня пришли убивать. «Дайте помолиться. И за вас тоже буду молиться». И молился, и они встали рядом на колени. И мы обнялись. Но у них задание. Вот такой у меня юмор, такая хвантазия.
Интересно, что перед отъездом виделся с другом. Он болеет, но все равно шутит: «А если б к утру умереть, то лучше было бы еще». Как он там? И другого почему-то спросил по телефону: «Тебе хотелось умереть?» В ответ прозвучало:«Еще бы! Непрерывно!» Так что я не одинок.
Нет, одинок. Умирают в одиночку. Даже в толпе. Даже при расстреле. И на Страшный суд идут не в коллективе.
Ой, надо же печку топить. Надо. Хорошо, уже дрова есть. Выгреб золу, высыпал в ведро. Подумал, надо было золу сохранить, под посаженные осенью дубочки высыпать. Смешно, этой золы от костра будут мешки.
Топится печь. А треска не слышу. А ведь в первый раз, когда затопил, слышал. Глохну, глохну. И принимаю как будто так и надо. Течет струйка из рукомойника в тишине. А ведь звонко барабанила по металлу раковины.
Еще новость - ступня правая немеет. И пальцы левой. Хорошее дело, как же ходить?
Перестрадал ночь. Задыхался. Боялся закрыть печку, угара боялся (в скобках: значит, жить хочу). Тепло высвистало в трубу. Встать и среди ночи опять затопить не смог. Да и не мечтал. Какое-то равнодушие, хриплое дыхание, кашель. Пил много слабого, теплого чая, вроде помогает.
Утром разбирал свою сумку. Привез из Москвы лоскутную скатерочку. Очень искусна. С блестками, в лоскутках. Утром расстелил. Положил на нее Евангелие и Псалтирь. Красиво. Сколько же еще будут глаза мои отдыхать? Очки мои, за что покинули меня?
Топил печку, разогрел картофельно-луковый суп, дышал опять над ним. Вроде нос оживает. Чувствую, что и сам оживаю. Это молитвы, и сок березовый, и картофельная похлебка.
Может, в Лазареву субботу можно и рыбу? Не помню. В Вербное-то воскресенье можно.
Такое счастье - солнце и сегодня.
Постоянная вина перед теми, кто дорог, кто близок.
Возвел очи горе:. Ого! Мошки как окаянное жидовство, обсевшее Русь, зачернили потолок.
Встал утром - брюки сползли. Подтянул, а дырок на ремне нет, кончились. «Брюки спали, брюки спали, потихоньку съехали. Все колхозники на тракторе сбирать поехали». Открыто такие частушки пели. И еще будут нам демократы долдонить о запуганном русском народе. Сами пугались, дело ваше, а русские тут ни при чем. Да, крепко исхудал. Но это очень хорошо, гроб легче нести. Ладно, не искушай судьбу, не шути так. Отец раз так обеднел в командировке, что остались копейки только на короткую телеграмму: «Шлите денег поддержки штанов».
Долго занимался ремнем, делал две новые дырки. Это называется: живот подтянуть, а чего подтягивать - живота-то нет.
Солнце. Одевался потеплее, вышел, стоял на солнце, очень надеясь на его помощь. Оживил костер, подвалил в него мусора. Дымило, потом занялось. Пламя костра и солнце.
И вот, продолжаю репортаж об умирании - слепну. Не вижу, что пишу. Думаю, это от того, что нагляделся на солнце и на пламя. Нахватался зайчиков, как говорят о тех, кто глядел на пламя электросварки. Я солнышка нахватался.
Глухой, слепой, больной, как хорошо! Чую, что температурю. А к костру надо. Надо у него дежурить, подкладывать сжигаемый мусор и следить, чтоб огонь не ускочил. Еще поокапывал вокруг костра. Но опасность и в ветре - подхватит искры, унесет на сухую траву. О, тогда так полыхнет!
Хожу, как в мутной воде плаваю. Ноги переставляю. К березе пора. Собрать сока побольше, рабочим в церкви радость. И матушке с семейством.
Ходил и заменил одно ведро на другое. Первое принести просто не мог, закрыл его крышкой Это я заранее сообразил о крышке. Да, а моих муравьишек нет на пригорке, значит, ожили. Обсохли на солнышке, разбежались. И на березе их безсчетно.
Капли сока падают на пустое дно ведра. Не слышу. Глухая тетеря. Куда денешься - старик.
Этот день, он же не повторится. Как и жизнь. И зачем в такой день покидать этот мир? Да только кто меня спросит, когда мой срок. Будь готов, и все.
И вспомнил, что надо обязательно читать 17-ю кафизму. А как? Лежит на столике у икон, сам же привез, толстенная Псалтирь. Может, разберу буквы, шрифт крупный. Нет, в глазах сумерки.
Но вообще, думаю, хорошо не знать ни дня, ни числа. Солнце в зените, вот и все. Что еще? Идет к западу. Успеть бы еще что-то поделать.
В доме воевал с мошками. Сколько же вас! Даже на блокнот падают десантами, пачкают белую страницу.
Лежал. Было состояние какого-то равнодушия. Подумал: разве это плохо - ровная душа?
Повыше сделал подушки, лучше глядеть в окно. Глядел на небо. Облака белые, как стерильная вата. Да, это нормальное сравнение. Медицинская вата, которой собирают кровь с раны. И эти облака, которые кровянятся, будто впитывают на закате кровь с раненой земли. Насыщаются ею и уходят в ночь отстирываться.
Думал: надо встать и эту мысль записать, пусть и простенькая. Ведь пропадет, если не встать и не записать. И подняла меня профессия с постели и усадила за стол. Вроде получше вижу. А вот уши - похлопал в ладоши - в отпуске.
Думаю, от того оглох, что сильно сморкался, даже в висках отдавалось. Говорила же мама: не надо сильно сморкаться, оглохнешь. Маму надо слушать.
Мошки дрейфуют с потолка на окно. На потолке уже три паука. Ленивые, ясно, что обожрались. Исаак Сирин даже блох жалел.
Честно записываю: если и есть в мире дурак, то он перед вами. Это я. Доказательство? Я вспомнил, что здесь есть канистра бензина. Отлил из нее в глубокую миску, принес к костру и... выплеснул. Взрыв был такой, что меня сшибло с ног. И как ни был глух, взрыв услышал.
Зеркала нет, а то бы увидел, в чем уверен, что мне брови и ресницы опалило. Конечно, костру стало повеселей от такой моей гуманитарной помощи. В доме умылся, проморгался, помазался освященным маслицем. Вижу! Видимо, от потрясения зрение восстанавливается.
Какой-то зверь заскулил за дверью. Услышал! Даже скребется кто-то. Взял в руки топорик, открываю. Собачка. Милая, да как ты здесь? Заходи, заходи. У тебя поста нет, накормлю.
Рыженькая собачка, такая ласковая. Скулит, у ног трется.
-Ах ты, красавица!
Всех зверушек моих внуков вспомнил, всяких котов и кошек, Рыжиков и Мусек, и свинок. А еще раньше хомячков. Черепахи Тортилла и Донателла.
- А тебя стану звать Ласка. Консервы у меня есть рыбные, как открыть?
А в руках-то топорик. Разворотил им крышку, поставил банку на пол. Собачка кинулась к ней.
- Ну, Ласка, мне бы твой аппетит. Не бойся, не выгоню, живи тут. Небось, ищут тебя, такую красивую?
Вот что такое живность, сразу стало мне повеселее. Если не убежит, то и ночевать будет спокойнее. А, с другой стороны, чего бояться. Как говорит батюшка: «Чего нам бояться? Перекрестись и живи!»
Ласка ходила со мной. И к березе, и к костру, и к часовне. У часовни тоже прибирался, тоже стаскивал мусор к костру. Совсем оживаю.
Нет, убежала Ласка. Отбежала, остановилась, оглянулась, вильнула хвостом и умчалась. И ладно.
Опять, дурачок, наломался, опять хотелось побольше. Опять сердце прижало. Лежал долго. И вспоминал Иерусалим, Вифанию, особенно Лазареву пещеру. Такое мне выпало счастье, и много раз выпадало, что в святых месте бывал один-одинешенек. И на Голгофе, и у Гроба Господня, и на Фаворе, в Хевроне, Вифлееме, Назарете, на Иордане, везде!
В пещере Лазаря глубоко, тихо. И вот, вроде передо мной прошли две или три группы, тоже, конечно, мечтали что-то с собой унести, а этот камешек был ими не замечен, берегся для меня. Он у меня в Москве. Его хорошо бы со мной в могилу мою положить. Но лучше пусть останется внукам.
Тяжело и прерывисто дышал и, конечно, вспомнил пословицу: перед смертью не надышишься. Ее употребляли, например, в том смысле, что за пять минут до экзамена не успеешь к нему приготовиться. А тут всерьез, экзамен экзаменов.
Напишу для исповеди грехи. Но если кто прочитает, кроме батюшки? Тут беда в том, что приходят, летят в меня будто камни из прошлого, грехи. Они уже были мною исповеданы, а помнятся. Значит, плохо каялся. Нет, не буду писать. Их за меня бесы сто раз записали, да еще и своего всего присочинили. Ангел мой, защити!
Долго соображал, ел ли что сегодня. Даже по записям пролистал блокнот. Нет, трапезы в нем не значится. Сок пил, хлебушко жевал. Даже сок грел в ковшике на плите и втягивал в нос, и высмаркивался. Внушаю себе, что помогает. И пил весь день только сок. Чего-то ел.
Но, видимо, изнурение организма таково, так глубоко погрузился в болезни, что всплывание или далеко впереди, или... Ладно, не хнычь. Не ты первый дорогу т у д а открываешь, не ты и закроешь. Погружайся на кровать, да вспоминай молитву: «Неужели мне одр сей гроб будет?»
Тень от креста легла на часовню, будто кто ее выжег на бревнах. Топлю, а холодно. Топлю, поглядел - тень ощутимо сдвинулась и увеличилась. Тень смещается как стрелка на компасе. Не верится, что вся часовня утонет во тьме.
Ветер, такой ветер! Откроешь дверь, ее прямо вырывает из рук. А с той стороны идешь, открываешь, дверь тебя прямо отшвыривает. Костер, слава Богу, загас. А то могло бы раздуть. Река вся посерела, прямо шкура первобытных зверей. Стоял у березы, вспомнил вдруг про клещей, их время настает. Бывало, впивались они в меня. Веселого мало.
Тень от домика дотянулась до лиственниц. Указует на восток, откуда, даст Бог дожить, завтра придет солнце. Интересно, кто ночью движет тенью? Ей же надо столько пройти, чтоб утром начать указывать на запад. Вопрос для внуков.
Радость! Открыл Псалтырь, а там, как раз на 17-й кафизме, как закладка, мои плосконькие очки. Это такое счастье! Читал и Псалтирь, и имена тех, кого тут поминал о здравии и об упокоении. Надо уже несколько имен из живых переместить в усопших.
Ну, с очками чего не жить!
А еще событие - луна! Веселенькая, чистенькая. Хорошо ей тут, в вятском небе. Оживаю, оживаю! Надеюсь, что оживаю.
Варил свой фирменный суп: картофель и луковицы. Уже и крупы сыпанул. Тут их много, круп: гречка, пшено, овсянка. Морковь вымыл и мелко покрошил. Как у меня все изысканно. Ладно, не хвались, бойся.
Ведь старик я. Давно бы дотлевать, а живу. И ветер слышу в ветвях берез.
Прикрыл печку. Осмелюсь пойти искать место, откуда есть связь.
Закат. Красиво.
Красиво, а связи нет. Да и батарея садится. Всего-навсего две малюсенькие палочки.
Да, думаю, не одно и не два сердца замирало при понимании невозможности описать Божий мир. Солнце розоватит лес, особенно березы. В даль смотрю: леса и леса. Река широченная, подтопила все заречье.
Уже ходил не по сухой траве, а по зеленым травинкам. Жалко их, надо бы босиком ступать. Цветочки пошли! Голубенькие лепестки и желтенькие, как солнышки. Всегда приносил домой такую первую весеннюю радость. Хотел сорвать, нагнулся - голова закружилась.
Река прет молча и неостановимо. Такая мощь откуда берется? От таяния снега, из лесов. Не видят этого мои милые деточки.
Ну, не последний же для меня был этот закат?
Раннее-раннее, дорассветное, утро. Помираю. Еле живой. Зря вчера надеялся, что оживаю. Ночь эта могла быть последней. Как же меня после полуночи схватило. Опять же сам дурак, чего ради вчера так много работал, перед кем хвалился? Тем более такой ветер. У костра нагреешься, а ветер продувает.
Ночью было на меня нашествие. Оно началось изнутри. Это волны. Начиналась дрожь внутри, в груди, в сердце, потом все больше, било всего, руки тряслись, икры ног схватывало, мышцы тянуло. Потом отпускало. Конечно, молился, конечно, говорил: «Так мне и надо», но страшился следующей волны телесной дрожи. Еще так будет, вряд ли выживу. Не передать. Колотун. Колотило, сотрясало всего. Тело тряслось, сознание отключалось. Видимо, из сострадания, чтобы переждать боль. И страх был, конечно, был. Что ж ты хорохорился, что легко умирать?
Вроде как кто пытал меня. Издевательски, напуская приступы крупной дрожи. Будто током. Все сильнее прибавляя трясучку. Даже не стеснялся, стонал. Кого стесняться, Господа? Он знает, что я мал и безсилен, и безпомощен.
Трясло, как будто что из меня вытряхивало. Именно так. Душу вытряхивало. Цеплялась, бедная, за сердце, за разум. Хотя и сердце и голова под давлением боли сдавались. Уже иногда казалось - все. Силился заглянуть за темноту.
Молился. Просил и мысленно и вслух родных и знакомых за меня молиться, и уверен, что молились. Тем более батюшка, который очень рано встает.
Дожил до утра. Еле сел на кровати. Печь теплая. О ночи непременно хотел записать. Записал плохо, но главное - где бы сейчас был, если б не дожил до утра? Глядел бы со стороны, как входит в домик батюшка, ахает, едет за подмогой, как вытаскивают меня? Как при известии без чувств падает жена? Нет, надо жить.
Лазарь Четверодневный выйдет из пещеры сегодня? Или завтра? Может, он уже вчера вышел? Просто батюшка не смог за мной приехать и решил вывезти меня уже к Пасхе?
Опять трясет. Опять перележал приступ крупной дрожи.
Это все мне за мои грехи. И слава Богу, что так карает, легче будет потом.
Дожил до утра, даже не верится.
Осмелился встать. Вроде живу. Вроде, отпустило. Растирал, массажировал икроножные мышцы. Да какой из меня массажист, пальцы в кулак не сжимаются.
О, она уже тут! Конечно, Ласка. Не она бы, может, и не смог бы дойти до дверей. Но просится, скребется, надо впустить.
- Что ж ты меня бросала? Была б тут ночью, как бы легче было.
Хвостом крутит, но видно, что не только из-за еды пришла, рада тому, что загривок треплю. Собрал чего-то, приспособил треснутую тарелку со следами воска от свечки. И воск выгрызла. Соскреб и с остальных. И вообще пора мне в домике прибрать, не умирать же неряхой.
Ну, ночка была. Еще одну такую, может, не прожить. Господи, спаси и помилуй!
Спасает меня ангел мой хранитель. Почему вдруг захотелось выйти на крыльцо? Ангел позвал.
Журавли! С юга на север. Где же они, миленькие, отдохнут, где приземлятся? Как же любо-дорого смотреть на них. Летят именно к нам. «Не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна», только Россия.
Милые, родные деточки, жена, братья, сестры, крестники, батюшка! Мысли о вас спасали меня. Мог умереть, и умер бы, если бы не чувствовал, что нужен еще на земле. «Я умер бы, одна печаль - тебя оставить в этом мире жаль».
Больше ничего не буду записывать, главное запишу: все в руках Божиих. Сами мы - «пар приходящий на время и исчезающий».
Пора утренние молитвы читать. Господи, помоги мне родиться в жизнь вечную! Так страшусь, так боюсь, так надеюсь!
МАРУСИНЫ ПЛАТКИ
Эта старуха всегда ходила в наш храм, а как вышла на пенсию, то стала бывать в храме с утра до вечера. «Чего ей тут не быть, - говорили про нее другие старухи, которые тоже помогали в службе и уборке, - живет одинешенька; чем одной куковать, лучше на людях». Так говорили еще и оттого, что от старухи много терпели. Она до пенсии работала на заводе инструментальщицей. У нее в инструменталке была чистота, как в операционной. Слесари, токари, фрезеровщики хоть и ругали старуху за то, что требует сдавать инструмент, чтоб был лучше нового, но понимали, что им повезло, не как в других цехах, где инструменты лежали в куче, тупились, быстро ломались.
Такие же образцовые порядки старуха завела в храме. Ее участок, правый придел, сверкал. Вот она бы им и ограничивалась. Но нет, она проникала и на другие участки. Она никого не корила за плохую работу. Она просто пережидала всех, потом, оставшись одна, перемывала и перетирала за своих товарок. Даже и староста не смела поторопить старуху. Только сторож имел на нее управу, он начинал серьезно греметь старинным кованым засовом. Старухи утром приходили, конечно, расстраивались, что за них убирали, но объясниться со старухой не смели. Конечно, они в следующий раз старались сильнее, но все равно как у старухи у них не получалось: кто уже был слаб, кто домой торопился, кто просто не привык стараться, как она.
У старухи был свой специальный ящичек. Это ей по старой дружбе кто-то из слесарей сделал по ее заказу. Из легкой жести, но прочный, с отделениями для целых свечей, для их остатков, отделение для тряпочек, отделение для щеточек и скребков, отделение для порошков и соды.
Видимо, этого ящичка боялись пылинки, они не смели сесть на оклады икон, на деревянную позолоченную резьбу иконостаса, на подоконники: чего и садиться, все равно погибать. И хоть и прозвали старуху вредной, но то, что наша церковь блестела, лучилась отражением чистых стекол, сияла медовым теплым светом иконостаса, мерцала искорками солнца, отраженного от резьбы окладов, - в этом, конечно, была заслуга старухи.
Вредной старуху считали не только соратницы, а и прихожане. К ним старуха относилась как к подчиненным, как старшина к новобранцам. Если в день службы было еще и отпевание, старуха выходила к тем, кто привез покойника, и по пунктам наставляла, как внести гроб, где развернуться, где стоять родственникам, когда зажигать свечи, когда выносить... То же и венчание. Крестили не в ее приделе, хотя и туда старуха бросала зоркие, пронзительные взгляды. Иногда, если какой младенец, сопротивляясь, по грехам родителей, орал особенно безутешно, старуха считала себя вправе вторгнуться на сопредельную территорию и утешить младенца. И в самом деле, то ли младенец пугался ее сурового вида, то ли она знала какое слово, но дитенок умолкал и успокаивался на неловких руках впервые зашедшего в церковь крестного отца.
Старуха знала наизусть все службы.
- Ты, матушка, у меня не просто верующая, ты профессионально верующая, - говорил ей наш настоятель отец Михаил.
- А почему ты, - сурово вопрошала старуха, - почему на проскомидии не успеваешь читать поминания?
- Матушка, - вздыхал отец Михаил, - с благодарностью и смирением принимаю упрек, но посмотри, сколько записок.
- Раньше вставай, - сурово отвечала старуха. - А то чешешь, чешешь, людей же поминаешь. Чего это такое: такой-то и иже с ним. Чего это за имя - «иже с ним»? У тебя-то небось имя полное - отец Михаил, и они, грешные, не «иже с ним». Ничего себе имечко. Вот тебя бы так обозвали. Мученики не скопом за Христа мучились, каждый отдельно за Господа страдал. - Она крестилась.
- Прости, матушка, - терпеливо говорил отец Михаил.
- Бог простит, - сурово отвечала вредная старуха. Во время службы, когда выносилось для чтения Святое Евангелие и раздавалось: «Вон-мем!» - старуха окаменевала. Но могла и ткнуть в бок того, кто шевелился или тем более разговаривал. Стоящая за свечным ящиком Варвара Николаевна тоже опасалась старухи и не продавала свечи, не принимала записок во время пения «Херувимской», «Символа веры», «Отче наш», «Милость миру». Она бы и без старухи не работала в это время, но тут получалось, что она как бы под контролем.
Прихожан старуха муштровала как унтер-офицер. Для нее не было разницы, давно или недавно ходит человек в церковь. Если видела, что свечи передают левой рукой, прямо в руку вцеплялась, на ходу свечу перехватывала и шипела: «Правой, правой рукой передавай, правой!» И хотя отец Михаил объяснял ей, что нигде в уставах Церкви не сказано о таком правиле, что и левую руку Господь сотворил, старуха была непреклонна. «Ах, матушка, матушка, - сетовал отец Михаил, - у тебя ревность не по разуму».
Когда старуха дежурила у праздничной иконы, или у мощей преподобномучеников, или у плащаницы, то очереди молящихся стояли чинно и благолепно. Когда, по мнению старухи, кто-то что-то делал не так, она всем своим видом показывала этому человеку все его недостоинство. Особенно нетерпима была старуха ко вновь приходящим в храм, к молодежи. Женщин с непокрытыми головами она просто вытесняла, выжимала на паперть, а уж тех, кто заскакивал в брюках или короткой юбке, она ненавидела и срамила. «Вы куда пришли? - неистово шептала она. - На какую дискотеку? Вы в какие это гости явились, что даже зачехлиться не можете, а?!»
А уж намазанных, наштукатуренных женщин старуха готова была просто убить. Она очень одобрила отца Михаила, когда он, преподавая крест по окончании службы, даже отдернул его от женщины с яркой толстой косметикой на лице и губах. «Этих актерок, - говорила старуха, -убить, а ко кресту не допускать».
А еще мы всегда вспоминаем, как старуха укротила и обратила в веру православную одного бизнесмена. Он подъехал на двух больших серых машинах (цвета мокрого асфальта, говорили знающие), вошел в храм в своем длинном кожаном пальто с белым шарфом, шляпу, правда, снял. Вошел таким начальником, так свысока посмотрел на всех нас. А служба уже кончилась, прихожане расходились.
- Где святой отец? - резко и громко сказал незнакомец. - Позовите.
- Какой святой отец? - первой нашлась старуха. - Ты нас с католиками не путай. У нас батюшка, отец Михаил.
Отец Михаил, снявши в алтаре облачение, шел оттуда в своей серой старенькой рясочке. Незнакомец картинным жестом извлек пачку заклеенных купюр и, как подачку, протянул ее отцу Михаилу:
- Держи, святой отец!
- Простите, не приму. - Отец Михаил поклонился и пошел к свечному ящику.
Оторопевший незнакомец так и стоял с пачкой посреди храма. Первой нашлась старуха.
- Дай сюда, - сказала она и взяла пачку денег себе.
- Тебе-то зачем? - опомнился незнакомец. - Тут много.
- Гробы нынче, милый, дорогие, гробы. На гроб себе беру. И тебя буду поминать, свечки за тебя ставить. Ты-то ведь небось немощный, недокормленный, до церкви не дойдешь, вот за тебя и поставлю. Тебя как поминать? Имя какое?
- Анвар, - проговорил незнакомец.
- Это некрещеное имя, - сурово сказала старуха. - Я тебя буду Андреем поминать. Андреем будешь, запомни. В Андрея крестись.
Крестился или нет, переменил имя или нет этот бизнесмен, мы не знаем. Знаем только, что деньги эти старуха рассовала по кружкам для пожертвований. Потом отец Михаил, улыбаясь, вспоминал: «Отмыла старуха деньги демократа».
Непрерывно впадая в грехи осуждения, старуха сама по себе была на удивление самоукорительна, питалась хлебушком да картошкой, в праздники старалась сесть с краю, старалась угадать не за стол, а на кухню, чтоб стряпать и подавать. Когда к отцу Михаилу приходили нужные люди и их приходилось угощать, старуха это понимала, не осуждала, но терпела так выразительно, что у отца Михаила кусок в рот не лез, когда старуха приносила с кухни и брякала на стол очередное кушанье.
Был и еще грех у старухи - грех гордости своей внучкой. Внучка жила в другом городе, но к старухе приезжала и в церковь ходила. Она была студентка. Помогала старухе выбивать коврики, зимой отскребать паперть, а летом... а летом не выходила из ограды: они обе очень любили цветы.
Церковный двор у нас всегда благоухал. Может, еще и от этого любили у нас крестить, что вокруг церкви стояли удобные широкие скамьи, на которых перепеленывали младенцев, а над скамейками цвели розовые и белые кусты неизвестных названий, летали крупные добрые шмели.
На Пасху к нам приезжал архиерей. Конечно, он знал нашу строгую старуху и после службы, когда на прощание благословлял, то сказал старухе, улыбаясь: «Хочу тебя задобрить», - и одарил старуху нарядным платком, на котором золотой краской был изображен православный храм и надпись: «Бог нам прибежище и сила». Именно такими платками уже одаривал старух отец Михаил, но мы увидели, как обрадовалась старуха архиерейскому подарку, и поняли - свой платок она отдаст внучке.
И вот ведь что случилось. Случилось то, что приехала внучка, примерила платок перед зеркалом, поблагодарила, а потом сказала:
- А я, бабушка, в наш храм больше не пойду.
- Почему? - изумилась старуха. Она поняла, что внучка говорит о том храме, в городе, где училась.
- А потому. Я так долго уговаривала подругу пойти в церковь, наконец уговорила. Не могла же я ее сразу снарядить. Пошла, и то спасибо: она из такой тяжелой семьи - отец и братья какие-то торгаши, она вся в золоте, смотреть противно. А я еще тем более была рада, что к нам в город американский десант высадился, пасторы всякие, протестанты, баптисты.
- Я бы их грязной шваброй!
- Слушай дальше. Они заманивали на свои встречи. Говорят: напишете по-английски сочинение и к нам поедете в гости. И не врали. Подруга написала - она ж английский с репетиторами, - написала и съездила. Ей потом посылка за посылкой всякой литературы. Тут я говорю: «Людка, ты живи как хочешь, но в церковь ты можешь со мной пойти для сравнения?» Пошли. И вот, представляешь, там на нас такая змея выскочила, зашипела на Людку: «Ты куда прешься, ты почему не в чулках?» А Людка была в коротких гольфах. Ты подумай, баб, прямо вытолкала, и все. Людка потом ни в какую. Говорит, в Америке хоть в купальнике приди, и ничего. И как я ее ни уговаривала, больше не пошла.
- В купальнике... - пробормотала старуха. И заходила по комнате, не зная, что сказать. Ведь она слушала внучку, и будто огнем ее обжигало, будто она про себя слушала, будто себя со стороны увидала. А она-то, она-то, скольких она-то отбила от Божьего храма! «Господи, Господи, -шептала старуха, - как же Ты, Господи, не вразумил меня, как терпел такую дуру проклятую?»
Внучка пошла по делам, а старуха бросилась на колени перед иконами и возопила:
- Прости меня, Господи, неразумную, прости многогрешную!
И вспомнилось старухе, как плакали от нее другие уборщицы, от ее немых, но явных упреков, ведь которые были ее и постарше, и слабее, а Богу старались, как могли, потрудиться, а она их вводила в страдания. Старуха представила, как ее любимую внучку изгоняют из храма, и прямо-таки вся залилась слезами.
А она-то, она-то! Да ведь старуха как в какое зеркало на себя посмотрела! Были, были в ее жизни случаи, когда она так же шипела, как змея, - прости, Господи, - на молоденьких девчонок в коротких юбках или простоволосых. Где вот они теперь, миленькие, кто их захороводил?
И вспомнила старуха, как однажды, в престольный праздник, прибежала в храм и бросилась на колени перед распятием женщина и как старуха резко вцепилась ей в плечо: «Разве же встают в праздник на колени?» - и как женщина, обращая к ней залитое светлыми слезами лицо, торопливо говорила: «Матушка, ведь сын, сын из армии вернулся, сын!»
А как однажды она осудила женщину, другую уже, за то, что та уходила из храма после «Херувимской». И как эта женщина виновато говорила ей: «Свекор при смерти».
А как она осуждала товарок за то, что уносят домой принесенные в храм хлеб и печенье. Конечно, их всегда им раздавали, но старуха осуждала, что берут помногу. А может, они соседям бедным несли или нищим, сейчас же столько нищеты...
- Боже, Боже, прости меня, неразумную, - шептала старуха. А больнее всего ей вспоминалось одно событие из детства. Было ей лет десять, она позавидовала подругам, что у них пальто с воротниками, а у нее просто матерчатое. И пристала к отцу. А отец возьми да и скажи: «Надо воротник, так возьми и отнеси скорняку кота». Был у них кот, большой, красивый, рыжий, в лису. И вот она взяла этого кота и понесла. И хоть бы что, понесла. Кот только мигал и щурился. Скорняк пощипал его за шерсть на лбу, на шее, на спинке, сказал: «Оставляй». И был у нее красивый воротник, лучше всех в классе.
- Ой, не отмолиться, ой, не отмолиться! - стонала старуха.
К вечеру внучка отваживалась с нею, давала сердечные капли, кутала ноги ее в старую шаль, читала по просьбе старухи Псалтырь.
И с той поры нашу старуху как перевернуло. Она упросила внучку привезти на следующие каникулы подругу, вместе с ними оставалась после службы на уборку, и уже не было такого, чтоб кто-то терпел от нее упреков или укоризны.
А еще вот что сделала старуха. У нее была хорошая белая ткань с пестренькими цветочками - ситец. Хранила его старуха на свою смерть. А тут она выкроила из ткани десяток головных платков разной величины, принесла в церковь, отдала Варваре Николаевне за свечной ящик. И когда какая женщина или девушка приходила в наш храм с непокрытой головой, та же старуха просила ее надеть платок.
А звали нашу старуху тетя Маруся. И платочки ее с тех пор так и зовут - тети-Марусины.
МОГИЛА АВЕЛЯ
Проснулся рано - петухи разбудили. Вторые или первые? Долго лежал без сна, пока не рассвело и пока не обозначилась на стене икона «Сошествие во ад». Воскресший Христос протягивает руку Адаму, выводя его из ада. А вот эти века, тысячелетия со времени первородного греха, знал ли Адам, что смерти не будет, что Иисус спасет его? Он ожидал Страшного суда? Знал о нем? И какое время в загробном мире было для него? Было это время забвением или переживанием? В слове «переживание» два смысла: раскаяние и жизнь, которая проживается, переживается в ожидании прощения.
Страшно подумать - пять с половиной миллионов наших земных лет ждал Адам Христа. Воды потопа заливали землю и высыхали, Чермное море расступалось перед Моисеем, Вавилон созидался и рушился, Содом и Гоморра горели и проваливались, Пальмира зеленела и цвела среди пустынь, Карфаген стоял, Македонский щурился от сухого пыльного ветра Малой Азии, пророки говорили и умолкли, а Адам все упокоен бысть, лишенный небес, в земле. Соблазненный, поддавшийся искушению, низвергнутый с небес, добывавший в поте лица хлеб свой, Адам видел вражду сыновей и пережил первое убийство на земле, убийство Каином брата Авеля.
Помню, как я вздрогнул, как пересеклись времена в той летящей точке вечности, когда наша машина летала в сирийское селение Маалюля, к месту подвига первомученицы Феклы, и переводчик, махнув рукой вперед и вправо, сказал:
- Вон могила Авеля.
- К-какого Авеля?
- Библию читают в России? Авель и Каин - сыновья Адама и Евы. Каин из зависти убил Авеля, вон его могила.
А машина наша, набитая электроникой, летела и летела.
Голова была безсильна понять мое состояние. Только сердце могло вместить это соединение времен, когда нет ни смерти, ни времени. Вот могила Авеля, а только что мы были в разбомбленной израильтянами Эль-Кунейтре. А также смотрели одно из чудес света - Пальмиру, стоявшую когда-то на перекрестке всех дорог. Стрелки ящериц бежали по растресканным колоннам, по античному мрамору, да настойчивые арабы предлагали проехать сто метров на верблюде.
Как изъяснить, что именно нам преподнесены как на блюдечке все времена. Вчера вечером ходил по Дамаску, пришел к дому врача Анании, который исцелил слепого гонителя христиан Савла. Потом его спустили из окна в корзине, ибо уже вышел приказ правителю Дамаска арестовать Савла - узнали, что он ревностный защитник Христа. И вот я трогаю камни, помнящие апостола Павла, и говорю вслух апостольские слова: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Духа не угашайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла».
Как же все рядом! Переводчик мой дремлет, кажется даже, что дремлет и водитель Хусейн, а машина летит сквозь пылающий прозрачным пламенем воздух пустыни. Пожалуй, не буду рассказывать им, как я вчера искал мечеть Омейядов оттого, что в ней глава святого Иоанна Крестителя. Я сбежал от переводчика, сказав, что мне надо полчаса, и стал спрашивать встречных, где мечеть. Видимо, у меня был такой напряженный, нетерпеливый вид, что какой-то араб бегом привел меня в общественный туалет. «Но, но! - закричал я. - Церковь, кирха, мечеть, минарет, муэдзин, мулла, Аллах!» Но он опять не так понял. Опять же бегом притащил меня в общественные, дымящиеся ароматным паром бани, где по периметру сидели закутанные в простыни, распаренные арабы. «Господи! - закричал я, вздымая руки к небесам. - Помоги!» И араб наконец понял. Бегом прибежали мы к мечети. Около нее мне пришлось заплатить ему за усердие. На мостовой перед входом были сотни пар обуви. Разулся и я, сильно мучаясь мыслью, что при выходе не найду свои туфли, и вошел внутрь.
Потихоньку пробрался к часовенке посреди мечети, вспоминая прочитанное о строительстве ее: мечеть Омейядов стоила двенадцать миллионов динаров, а динар - это монета, в которой больше четырех грамм золота. Самый высокий минарет мечети Омейядов - минарет Иисуса Христа. Мусульмане верят, что именно сюда опустится Иисус перед Страшным судом. В мечети враз молятся более семи тысяч человек. Я поклонился мощам святого первомученика, первоапостола, первопророка Нового времени, последнего пророка Ветхого Завета, славного
Предтечи второго пришествия Христова Иоанна Крестителя. Таково его полное наименование. Вышел и в самом деле долго искал свою обувь. Переводчик, увлеченный разговором по телефону, даже и не заметил моего отсутствия.
- Сирийское государство простиралось от Индии на востоке до Испании на западе, - заговорил он, выключив мобильник. - На север до Армении. Египет, Судан, Мадагаскар, Сенегал, Сомали, - все входило в нашу империю. Христианство в Грузии получено от сирийского священника.
- А у вас когда появилось христианство?
- Когда мы были провинцией Рима, затем провинцией Византии. Далее арабский халифат, далее распад халифата, сельджуки, крестоносцы...
Переводчик стрелял очередями.
- Да, - осмелился и я сказать доброе слово о Сирии. - Антиохия, Алеппо - эти слова мы знаем давно. Павел Алеппский, ваш писатель, был в России при царе Алексее Михайловиче и оставил записки. Мы их знаем и все время переиздаем. Он попал к нам в Великий пост, был на церковных службах и постоянно в записках восклицает: «У русских железные ноги! Все русские войдут в рай!»
Переводчик проснулся точно у мечети. Муэдзин кричал на всю округу через усилители:
- Ар-рахман, Аррахим, Аль хаил, Аль дисабар, Аль кахар, Аль ва-хед, Аль ахар. - и так далее, то есть перечислялись девяносто девять превосходных степеней качества Аллаха. Например: единственный во всех единствах. Аль азиз, Аль кадер, Аль мумид.
Торговцы выходили из лавочек, постилали под ноги коврик и делали поклоны в сторону Мекки. Переводчик мой вздохнул, сложил руки домиком и просто поклонился разок.
- Сейчас вверх, - указал переводчик, - к церкви, там вечнозеленый куст, источник, потом дальше и обратно по расщелине, которая сделана Богом и которая спасла Феклу от преследования солдат и родителей. -Переводчик вздохнул.
Я истолковал этот вздох как переживание трудностей пути и попросил:
- А можно я проделаю этот путь один?
- А вы не заблудитесь? - оживился переводчик. - Да тут и негде заблудиться. Прямо вверх, направо вниз. Через час встречаемся.
В церкви не было никого. То есть так нельзя говорить о доме Божием. Господь был в церкви, и я Ему молился о родных и близких, о себе, грешном, о милом Отечестве. Потом пил из источника и взял на память один маленький листочек от вечнозеленого куста.
Как далеко было видно. Тут, где-то рядом, деревни, где говорят на арамейском языке, языке, которым пользовался и Господь. Вот туда -Голанские высоты, туда - источник Иордана, там Палестина, Израиль, одно море, Турция, другое море и - Россия. В этих камнях только Божией милостью может быть источник, куст, остальное выжжено, выгорело. Слышно было в тишине, как где-то потрескивают раскаленные камни. Если бы не ветер, иногда налетающий, я б задохнулся.
Как же тут все рядом. Каин убил Авеля, я скоро увижу его могилу, а вскоре уже стучали топоры строителей Ноева ковчега, а там появился соляной столб, в который превратилась жена Лотова, обрушились стены Иерихона, кровь лилась в пыль и покрывала дороги человечества красным цветом, а падший денница все хихикал и все подбавлял соблазны и злобы в сердца людей. Пришел Спаситель, взошел за нас на крест. И в Него, наше единственное спасение, поверила бежавшая сюда первомученица Фекла. Совсем молодая, принявшая в сердце Христа, она верила и знала, что Спаситель не оставит ее. Ее загнали в эту впадину, деться ей было некуда. Даже, наверное, гоготали преследователи: мол, сейчас, сейчас заарканим. Но, по молитве святой, расступились горы, и она скрылась в расщелине, пробежала по дну длинного нерукотворного ущелья и скрылась.
Вот и я, грешный, иду по этому ущелью. Никто за мной не гонится, ничто мне не угрожает. Но, может быть, главное, зачем мы едем и идем в святые места, - чтобы задать себе вопрос: а ты смог бы так же пострадать за Христа? Ведь вера в Спасителя проверяется только одним - готовностью отдать за Него жизнь. «Вы еще не до крови сражались», - говорит апостол Павел.
Внизу я стал расспрашивать переводчика о том, далеко ли гора Ер-мон, о которой в Псалтыри говорится: «Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются». По преданию, Преображение Господне могло произойти и на Ермоне. Но переводчик не знал. А может, это было далеко.
Еще про Сирию я знал, что тут были земли библейской Кесарии Филипповой и что, по преданию, у озера Фиал Спаситель впервые сказал ученикам о Его грядущей земной кончине.
Переводчик снова дремал, но перед подъездом к могиле Авеля очнулся и включил текст:
- Недалеко Сиднайя, женский монастырь, икона Святого Луки. Здесь пересечение путей с востока на запад, с севера на юг. Торговля шелком, жемчугом, стеклом, водой, оружием, слоновой костью, коврами, невольниками. Здесь в золотых цепях вели объявившую себя императрицей Востока Зайнобил. При Аврелиане было восстание, перебили гарнизон римлян. Мы не терпим иностранного владычества. Да, забыл сказать, что Маалюля по-арамейски означает «вход». Здесь также вы не встретите споров меж шиитами и суннитами, ибо мы считаем, что любой араб - потомок Мохаммеда. Антиохийское государство, султан Салах-ад-Дин, герой арабской нации, первым начал борьбу с крестоносцами и в 1192 году освободил курдов, армян, черкесов. Салах-ад-Дин - герой разговоров в европейских салонах.
Я слушал вполуха. Все равно всего не запомнишь. Мне главное -христианские святыни.
Хусейн зашевелился и показал вперед. Площадка для стоянки была забита туристическими автобусами. Мы приткнулись сбоку. Но у могилы было так шумно, накурено, так яростно что-то говорила девушка в зеленых брюках, тыча в пространство сигаретой, что я повернул обратно. Мне почему-то показалось, что я еще сюда приеду. Уже отдельно, уже по несуществующему пока православному маршруту. А сейчас чего я буду держать переводчика, которому все безумно скучно. Еще попрошу побывать в Алеппо да спрошу, где можно поклониться святому Иоанну Дамаскину.
Спросил.
- А! - воскликнул переводчик, - Иоханне Дамашкия? Это в Дамаске.
Он оживился, так как мы поехали домой.
Вечером я еще раз побывал у дома Анании и около мечети Омейядов, у ее минаретов, пытался представить Дамаск времен Христа, но было трудно. Еще и оттого я был печален, что переводчик не смог указать на место, связанное со святым Иоанном Дамаскином. Утешал я себя тем, что главное место подвигов святого было в монастыре Саввы Освященного в Иудейской пустыне, в котором я уже побывал.
И все-таки впечатление от Сирии осталось светлым и благодарным. Пусть маленькие остатки христианства, но все же сохранились. И я их видел, поклонился им. Слава Богу. Пронеслось же то мгновение, когда показалось, что нет времени, что все рядом, что вот только что вчера брат убил брата, еще не высохла земля на могиле, и что сегодня утром на рассвете бежит ко Христу святая Фекла, ученица апостола Павла. А сам апостол идет в Рим, зная, что идет на смерть. Но так же знал о своей смерти и Учитель апостола. Иначе поступить они не могли.
«ОЛРАЙТ», - СКАЗАЛ ЕМЕЛЯ
Чем сильнее иностранец изучает Россию, тем сильнее влюбляется в нее. В России есть магнитная притягательность женственности, вековая мудрость, добрый юмор и спокойное терпение. Особенно любят Россию те, кто занимается русским языком, - филологи и переводчики. Мне везло на переводчиков, хотя даже лучшие из них часто ставили меня в тупик своими вопросами.
- А что такое голик? А что такое рига? Разве это не столица Латвии? И почему коса для травы - литовка? И почему у вас написано: ограда до Петрограда ветру рада?
Я терпеливо объяснял:
- Ну, значит нет никакой ограды. Бедность. Или мужик такой ленивый или пьяница, что даже ограду не может сделать.
Но вообще мы всегда как-то выкарабкивались, находя похожие слова или выражения. Но, конечно, я понимал, что читатели за рубежом так никогда и не поймут, что подберезовик - это обабок, и что есть еще обабок, бабка - суслон, а что суслон - это снопы, составленные особым образом, а снопы - это связанные свяслом колосья, а свясла - это те же колосья, скрученные для крепости жгутом. Конечно, видимо, и слово «голик» они понимали как бывший банный веник. Так оно и было, бывший веник, потерявший листья на службе в избе и вынесенный на крыльцо для несения героической службы по обметанию валенок от снега. И что еще до работы в избе веник работал в бане, выбивал из хозяев разнообразные хвори. Где уж там было объяснять, что последний ребенок в семье - заскребышек, что это вовсе не от того, что ближе к весне приходится «по амбарам помести, по сусекам поскрести». И почему в амбаре метут, а в сусеке скребут? И как объяснить, что подполье - это не только большевистское, но и место для хранения картошки, овощей и запасов на зиму?
Это нам, русским, сразу все понятно, до иностранцев оно доходит медленнее, а чаще всего не доходит, и они ищут облегченную замену для понимания.
- Вот у вас такая фраза, - спрашивала меня немка-переводчик. -«Этот Витя из всех Витей Витя».
- Ну да, из всех Витей Витя.
- Это у нас не поймут. Надо как-то иначе.
- Ну-у, - вслух думал я. - Давайте: этот Витя еще тот Витя. Да, пожалуй, так даже лучше: еще тот Витя.
- Это тем более не поймут. Подумают, что этот Витя похож на того Витю. То есть их два: этот и тот.
- Вот то-то и оно-то, - говорил я, - что он не тот, хотя он еще тот. Он еще тот Витя.
Мы начинали искать общеупотребительное слово, синоним выражения, перебирали слова: шаромыжник, прохиндей, мошенник... Нет, Витя под эти мерки не подходил, это был еще тот Витя, переводу не поддавался и уходил за границу сильно упрощенным.
- Вот я назову повесть, - сказал я переводчице, - и тебе снова не суметь ее перевести. Вот переведи: «Как только, так сразу».
Переводчица тяжко вздыхала, а я ее доколачивал:
- И в эту повесть включу фразу: «Шлялась баба по базару распьяным-пьяна-пьянехонька», как переведешь? Да никак. Ни по какому базару у вас не шляются, да и базара нет. И она, заметь, не ходит, не слоняется, не шлендает, она именно шляется. И хотя распьяным-пьяна-пьянехонька, но какую-то цель обязательно имеет. Иначе зачем бы шлялась.
- Может быть, - вспоминала переводчица выражение, - она погоду пинает?
- Это для нее пройденный этап. Вчера пинала, сегодня шляется. Или, вот еще, переведи разговор двух женщин: «Твой-то пьет? - Как не пить, пьет, но уж чтобы так-то, так-то не пьет». Да, товарищи немцы, были мы для вас непонятны, такими и остаемся. Но в утешение тебе скажу, что для англичан мы еще более непонятны. Вот сидит у меня дочь, учит английский, обратный перевод русской сказки с английского. Сказка называется «Приказ щуки».
- У вас есть такая сказка? - заинтересовалась переводчица. - Я очень много занималась русским фольклором, такой не помню.
- Это сказка «По щучьему веленью».
- О да, есть.
- Вот. У них же, на английском, веленья, видимо, нет. Так вот, читает, переводит: «Жены братьев говорят Емеле: “Организуй доставку воды с реки, иначе наши мужья, твои братья, не посетят в городе супермаркет, не купят тебе презента”». Каково? Нет у них, оказывается, ни гостинчика, ни ярмарки. «Олрайт», - сказал Емеля и пошел организовывать доставку воды.
- Трудно, - вздохнула переводчица. - Я бы ближе перевела, но на гостинчике бы запнулась. Хотя гостинец у нас есть. Подарок.
- Нет, тут именно гостинчик.
Переводчица задала интересный вопрос:
- А вот Витя, о котором мы говорили, он мог бы в свое время быть Емелей?
- Вряд ли, - протянул я, - вряд ли. Емеля безхитростней, он - как Ванюшка. Кстати, слово Ванюшка тоже для вас непереводимо, у вас только Иван да Ваня. А как же Ванек, как же такая фраза: «Сашка-то, ухорез, ухарь, на ходу подметки рвет, а Петька ваньковатый». А «Конек-горбунок» у вас, наверное, в переводе: маленький конь с большим горбом, а?
- Я не помню, переводили ли ее у нас... - задумалась переводчица.
- Безполезно и переводить. Так вот, этот Ванюшка говорит братьям, когда они его обманули: «Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее». И по смыслу сказки именно честному Ване достается царство. Для меня в этом Ване загадка: когда он привозит для царя царь-девицу, то критически оценивает ее красоту: «А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка, пусть понравится кому, я и даром не возьму». Вот. А когда превращается в добра молодца, не доброго, хотя добрый молодец, конечно, добрый, так вот когда превращается в добра молодца, то эту царь-девицу берет в жены. Ну, тут уж она его сама не отпустит, вкогтилась. Не поймалась, не уцепилась, именно вкогтилась. Сильнее глагол. А у вас спросят: разве у нее когти, а не ногти? Она ж с маникюром.
- Ну-у, - почесал я в затылке, - о женщинах только начни. У вас, наверное, только «фрау» да «вайб», женщина и баба?
- Вайбкляйн - маленькая баба, - добавила переводчица.
- Ростом маленькая, значением? Чем? О, у нас обилие этих баб.
- Записываю.
- Записать можно, перевести невозможно. Вот бабенка - это веселая, разбитная. К ней где-то близко бабешка - шальная, может быть, не очень усердная на хозяйство, но на веселье всегда пожалуйста, наше вам почтение. Бабища - это не обязательно габариты, полнота и вес, это может быть характер. Не путать с бабехой - это дама безцеремонная, громогласная. Вот бабочка - это не мадам Баттерфляй, это может быть и аккуратная бабочка, и заводная.
- Заведенная?
- Нет, заводная. Или вот на мужском жаргоне, когда обсуждают достоинства женщин, говорят про иную: «Отличный бабец!» Или: «Бабен-ция без комплексов». Или ласково: «Веселый бабенчик». Не бубенчик под дугой, это маленький такой веселый поддужный колокольчик в свадебной запряжке, а именно бабенчик. Но почему в мужском роде, не знаю. Может быть, это юношеское про общую подругу: «Наташка - свой парень». Но бабенчик, опять же, не бабеночка, бабеночка постарше. Да, вот, кстати, для улыбки, литературный анекдот. Исаак Бабель написал «Конармию» о Первой конной армии. К командующему Буденному приходят и спрашивают: «Семен Михайлович, вам нравится Бабель?» Он отвечает: «Смотря какая бабуль ». А уж что касается девушек, девиц, о! Тут и девоньки, и девочки, тут и товарки, и подружки, тут есть и супостаточки-соперницы, тут и присуха, тут и суженая-ряженая... нет, далеко до нас Европе в разнообразии жизни. Но я тебя, наверное, замучил?
- Нет-нет! Слушаю.
- Богатство русского языка - это богатство мышления, - назидательно заговорил я. - Так что выражение «русский ум» - не пустые слова. Вот оттого, что переводы русских трудны, Запад переводит не русских писателей, а русскоязычных. Наш ПЕН-клуб, например. Конечно, зная русский, ты понимаешь, что в просторечии он не ПЕН, а пень-клуб.
Переводчица записала.
- Всегда мы были богаты, сорили богатством. Вася не Вася, семь в запасе, то есть полно всего, а я вот схватился за полное собрание русских загадок, читаю, а из них три четверти умерли. Не слова умерли, выражения - явления умерли, предметы, осталась только словесная оболочка, идея предметов. Двор, поле, упряжь, сельхозработы, лес, вообще образ жизни, - все изменилось. Страшное нашествие уголовных терминов: вертухай, запретка, пали малину, шлангуешь, замастырить, стибрить, слямзить, свистнуть, стянуть, скоммунизьмить... А связанное с пьянством: косорыловка, табуретовка, сучок, бормотуха, гнилуха, стенолаз, вмазать, втереть, жахнуть, остограммиться... неохота перечислять, срам. А еще срамнее всякие консенсусы, саммиты, ваучеры... все это, конечно, проваливается в преисподнюю, но возникают всякие менеджменты. А менеджер, кстати, по-русски это приказчик, - прекрасное слово.
- От слова «приказывать»?
- Ну да.
- Но менеджер не совсем это, - защитила менеджера переводчица.
- Оставим его, это уже мелочь по сравнению с главным нашествием на язык церкви, церковнославянский. Очень простой, доступный, божественный язык. Называется богослужебный. И на него атаки - заменить на современный. Это же прямая измена всей русской истории: на этом языке молились наши предки. Как менять? Вот это и будет пропасть, в которую нас насильно волокут.
Переводчица, вздохнув, закрывала исписанный блокнот. Утешая ее, я сказал на прощанье:
- А в чем разница между молодушкой и молодяшкой? Этот вопрос труден уже и для русских. Молодушка - это недавно вышедшая замуж, а молодяшка - это молодая кобылка. Уже не стригунок, но и не кобылка, еще не жеребилась. А зеленая кобылка - это вообще кузнечик. И это не маленький кузнец, не подручный в кузнице, а насекомое такое, на него хорошо голавль берет.
- Спасибо, - с чувством благодарила замученная мною переводчица.
Я же, войдя во вкус, отвечал:
- Спасибо не булькает. Спасибом не укроешься. Спасибо в карман не положишь. От спасиба не откусишь. Спасибо - много, хватит и рубля. Из спасиба шубу не сошьешь. Спасибом сыт не будешь. Так что -гран мерси.
ЯПОНСКИЙ ЛИФТЕР
В далекой Японии, на берегу озера Бива, нас поселили в старинную трехэтажную гостиницу. Вся в зелени, с выгнутой по краям изумрудной и очень блестевшей после дождя крышей, она смотрелась в озеро витражами стекол и была очень уютна. И знаменита: в ней, будучи еще наследником русского престола, останавливался император Николай II.
По стриженым лужайкам бродили кричащие павлины, вздымая разноцветные фонтаны своих хвостов, меж павлинов перешлепывали свои жирные тела белые и черные кролики, а на берегу совершенно неподвижно сидели терпеливые рыбаки, на дело которых я ходил смотреть ранним утром и уже с ними здоровался.
Возвращался к завтраку, поднимался по коврам на резное крыльцо, дверь передо мной кем-то невидимым открывалась, и я входил под звяканье колокольчика на ковры вестибюля. Огромные аквариумы вдоль стен, свисающая с потолка не искусственная зелень, разноцветные бумажные фонарики, - все это восхищало. И оно обновлялось ежедневно. А еще в вестибюле был лифт, в который меня каждый раз вежливо приглашал мальчик-лифтер. Но я жил всего на втором этаже, и было как-то странно ехать так близко.
Лифт всегда стоял открытым, и проехаться в нем хотелось. Очень он нарядно был разубран. Освещался гирляндами огоньков, зеркала во все стены были расписаны такими цветами, что человек, отражаясь в них, чувствовал себя в райском саду. Тем более в лифте были еще и клетки с разноцветными птичками. Лифт, думал я, сохранился как реликвия, в нем возили всяких важных мандаринов или вот нашего цесаревича. Но вообще я видел, что лифтом иногда пользовались, и отнюдь не мандарины.
И я решился. Вернувшись после долгой, счастливой утренней прогулки по берегу озера, умывшись его чистой водой и побывав свидетелем поимки двух рыб, я энергично вошел в вестибюль и поздоровался с мальчиком-лифтером. Он звал меня внутрь лифта. И я вошел. И оказался в дивном маленьком шатре. Лифтер вопросительно смотрел на меня. Мне по-прежнему казалось, что глупо ехать на второй этаж, и я показал три пальца: на третий. Двери закрылись, как дуновение ветра, птички зачирикали, поехали. Так мягко, неслышно, даже как-то трепетно, что это был не подъем, а какое-то вознесение на бережных ладонях.
Ну вот - третий этаж. Двери растворились. Растворились в самом прямом смысле, так они воздушно исчезли, и я шагнул на узорные ковры третьего этажа. И что? И, конечно, пошел к лестнице на свой второй этаж. Но тут случилось вот что: мальчик-лифтер догнал меня и, схватив за рукав, показал на открытый лифт. Мол, зачем ты пошел пешком, если можно ехать. Ну как ему было объяснить, что я живу на втором этаже? Я вернулся в лифт. Снова запели птички, снова я отразился в зеркалах среди райских цветов. И опять же, не ехать же всего на один этаж, я показал один палец: на первый.
Приехали на первый. И я, естественно, пошел на свой, второй. И опять меня догнал мальчик-лифтер и опять зазвал в лифт. И опять привез меня на третий этаж. Я вышел, отошел немного и притворился, что рассматриваю старинную гравюру - битву самураев с кем-то. Скосил глаза - лифт стоял. А время меня подпирало, надо было завтракать и идти на конференцию. Я повернул к лестнице. Лифтер выскочил из лифта и кланялся. Тут уж пришлось показать ему два пальца, выдать этаж, на котором живу.
Он, конечно, решил, что русский бородатый дядя не может считать до трех, ибо зачем же я ехал на третий этаж, если мой номер на втором? Я понял, что мальчика очень насмешило мое поведение. Да ведь и я смеялся над собой. И в последующие дни мы с ним весело раскланивались, и я уже смело ехал с ним до второго, отражаясь в искрящихся разноцветными огоньками зеркалах.
Я попросил профессора Накамото, который превосходно знал русский язык, сказать мальчику-лифтеру, что русский дядя очень неграмотный, он даже не может считать до трех. Профессор, выслушав мой рассказ о поездках на лифте, очень смеялся. И конечно, ради шутки, перевел мою просьбу. Я это понял, когда увидел, что мальчик, завидя меня, стащил с головы свою круглую шапочку и прыснул в нее, скрывая улыбку.
А однажды увидел его, когда он меня не видел. Он сидел как маленький старичок в своем разноцветном укрытии и был очень печален. Да и то сказать, легко ли - работал по, самое малое, четырнадцать часов в день, я и не видел, чтоб его подменяли.
Перед отъездом я подарил ему русскую матрешку. Ах, как он обрадовался! Он побежал в лифт, в свой домик, и показал мне, что матрешка будет стоять между клеток двух птичек. И что в его клетке будет теперь повеселее.
А когда мы совсем уезжали и вынесли вещи в вестибюль, он подбежал ко мне и подарил сделанную из легких перышек игрушку-птичку. Подошел автобус. Мальчик вырвал у меня из рук нагруженную книгами и альбомами сумку и потащил к автобусу. Когда я протянул ему деньги, он прямо отпрыгнул от них. Накамото-сан сказал, что он нес сумку не из-за чаевых, а от чувства дружбы. Автобус тронулся. Мальчик-лифтер стоял на крыльце и кланялся, приложив руку к сердцу. Таким я его и запомнил.
Я уехал и стал жить дальше. Но часто вздохну и вспомню: озеро Бива, трехэтажная гостиница, лифт, и этого милого мальчика и то, что моя матрешка ездит с ним вверх и вниз. Может, и он иногда вспоминает бородатого русского дедушку, который не умеет считать до трех.
ОЧКИ
Давно уже не молодой, а все еще стараюсь не сдаваться на милость возрасту, хотя пора признать: ни прежних сил, ни памяти не остается. Постоянно все теряю, все забываю. А люди относятся ко мне, как к прежнему, и очень обижаются, что я уже давно не прежний.
С утра приехал в Никольское - надо за газ заплатить. Нашел квитанции, не могу в них разобраться. Пошел смотреть счетчик - без очков не вижу. Ищу очки, не нахожу. Совсем расстроился. Наконец нашел. Оказывается, были не в кармане, а в сумке. Списал показания и, чтобы очки не потерять, сдвинул их на лоб. Говорит же всегда жена, чтоб я носил их на шнурке, как орден на шее, но мне кажется, что это уж очень по-стариковски.
Сел заполнить квитанцию - опять нет очков. Все пересмотрел, сумку опять всю вывернул, все ящики стола не по разу открыл и закрыл. Нет очков. Вроде и стыдно святителя Николая таким пустяком безпокоить,
но заплатить-то надо, неохота с долгами жить. Взмолился, прохожу мимо зеркала, взглянул. А очки-то на лбу!
И тут очень целебно вспомнился мне случай из детства. У нас жил дедушка по отцу, Яков Иванович, он всегда очень много читал. И всегда терял очки, которые мы всегда искали. И в этот раз велел искать. А вот интересно, почему мы его побаивались? Он же ни за что бы никого пальцем не тронул, а как-то робели.
И вот мы ходим по дому, залезаем на печку, ищем на кухне, в комнате, на подоконниках. Смотрим и под столом и под лавками. А на дедушку боимся даже посмотреть. Тут открывается дверь, приходит мама:
- Чего это вы ползаете?
- Очки дедушке ищем.
- Да они же у тебя на лбу! - восклицает мама, взглянув на дедушку.
И в самом деле, на лбу. Мы очень рады и от радости начинаем смеяться. А дедушке, может быть, это обидно, вроде как опозорился перед внуками, ему кажется, что мы над ним смеемся.
И в самом деле, потом мы часто вспоминали очки на лбу у дедушки и смеялись. Но не над ним, в мыслях такого не было, а над ситуацией. В самом деле смешно: мы ищем очки, ползаем, везде смотрим, а очки у дедушки на лбу.
Вспоминаю своих дедушек и каждый раз тяжко вздыхаю: почему же были мы такие безтолковые, почему мало расспрашивали их о прошлом? Может от того, что они нас берегли? Не настраивали против властей, хотя очень много от них пострадали. Рассказывать же о том, что уже уходило из жизни и не могло нам пригодиться, они, видимо, не считали нужным. Церковь в селе была закрыта, молились ли они Богу, не видел. Хотя уверен, молились. Была и икона в доме.
Когда я при внуках делаю что-то, по их мнению, не так, делаю плохо, они, я вижу, не смеются надо мной, а жалеют меня. За что я им благодарен. Но почему неинтересно им мое детство? Может, от того, что им нечего взять из него для себя? Все же стало другим.
Осталась только любовь. Очень люблю своих дедушек. Им было очень тяжело жить. Именно такие, как они, сохранили Россию.
ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ
Почти всю мою последнюю жизнь, то есть лет двадцать, меня постоянно не то чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я еще, в общем-то, ни до чего не дописавшись, уже исписался. И не то чтоб исписался, а весь как-то истратился, раздергался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседаний, на совершенно немыслимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни и сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что оказывалось потом почти никому не нужным, но что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию.
Но меня утешала мысль, что так, по сути, жили и все мои сотоварищи по цеху. Слабое утешение слабой души. Все почти, что я нацарапал, - торопливо, поверхностно. Когда слышу добрые слова о каком-либо рассказе, написанном лет сорок назад, кажется, что говорят так, жалея меня, сегодняшнего. Похвала давно угнетает меня. Быть на людях, быть, как говорят, общественным человеком очень в тягость. Ощущение, что поверили не мне, а чему-то во мне, что могло им послужить. Вот, обманываю ожидания. Тут даже написалось нечто на тему:
Вот только на это и надеюсь, на оправдание. Жизнь моя так крепко срослась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве. Но так может писать и историк, и философ, а я-то числюсь по разделу изящной словесности. Да, кажется, есть чем отчитаться перед Всевышним: боролись за чистоту российских вод, за спасение русского леса, за то, чтоб не было поворота русских рек на юг, за преподавание Основ православной культуры... боролись же! Крохотны результаты, но уходило на борьбу и здоровье, и сама жизнь. Обозначено же в алтаре Храма Христа Спасителя, что и аз грешный начинал возрождение его. Вот и награда Церкви - орден. И можно внукам показать.
Но и что? И золотятся купола, и издается Священное Писание, и труды отцов, и все святорусское наследие доступно, а жить все тяжелей и тяжелей. Россию ненавидят, Россия гибнет. Уже кажется, что нет нам, любящим Россию, оправдания. Мне особенно. Но тут же себя одергиваю: «А ты как хотел? Чтоб все тебе с неба упало? Нет, мы еще не до крови сражались, как говорится в апостольском слове. И ненависть к нам означает награду для нас. Это не к нам ненависть, а ко Христу. Всегда же так было. Распинали, ломали кости, сдирали кожу, требовали отречения от Христа, поклонения кумирам.
А что есть теперешнее издевательство над всем святым? То и есть, что это пытки, которые нам надо вытерпеть.
И дождемся же царя Константина православного!»
РАДИ УЛЫБКИ
Служил я три года в нашей победоносной Советской армии и никакой дедовщины и видом не видывал. Ну да, были и «старики», были и салаги, естественно. Но чтобы старослужащие издевались над новобранцами -никогда! Знаю, что говорю, я дослужился до старшины дивизиона.
Но вот одну весьма милую шутку я сегодня вспомнил, когда дети спросили: «А какие у вас были раньше первоапрельские шутки?» Тут я строго ответил, что первое апреля - это начало недели перед Благовещением и это время Великого поста, какие же тут шутки? Но вспомнил одну шутку из прежнего, из армейского времени и с удовольствием о ней рассказал. И коротко запишу.
В дивизион осенью пришло пополнение - хлопцы с Западной Украины. Ребята на службу рьяные, особой возни с ними у сержантов не было. Даже до сих пор некоторые фамилии помню: Доть, Аргута, Коротун, Титюра, Балюра, Тарануха, Поцепух, Копытько, Падалко. Одним только выделялись - сильно любили поощрения.
- Товарищ старшина, вы же ж сами дуже хвальны были за наряд по кухне.
- И шо ж с того? - спрашивал я.
- Тады же ж мабуть благодарность перед строем треба размовить.
- Мабуть иди, - сурово говорил я. - Награды в нашем славном ракетном дивизионе не выпрашивают, их, когда надо, дают. И, когда надо, вы их получите. Ясно? Или це дило тоби треба розжувати?
Мои сержанты, третьегодники, задумали на первое апреля нижеследующую шутку.
Они пошли тайком от меня в штаб к знакомой машинистке и умолили ее напечатать на чистой странице, даже не на служебном бланке, приказ о досрочном присвоении звания ефрейтора всем нашим первогодкам. «В связи с тем, - значилось в приказе, - что нижепоименованные рядовые показали себя образцовыми в деле воинской и политической подготовки, в дисциплине, в несении нарядов по внутренней и караульной службе...» - дальше шли фамилии фактически всех новобранцев украинского призыва.
Сержанты поклялись машинистке, что никто из офицеров этого листка не увидит, что его вернут ей и при ней уничтожат. Парни были огневые, красавцы: Толя Осадчий из Киева, Леха Кропотин и Рудик Фоминых из Вятки, уговорили. И листок ей, как обещали, назавтра вернули.
Звание ефрейтор - первичное, одна лычка на погонах. Дальше идут младший сержант - две лычки, просто сержант - три лычки, старший сержант - одна широкая и так далее. Прапорщиков при нас не было.
Обычно после ужина я убегал в библиотеку, оставляя дивизион на дежурного. Если что, всегда знали, где меня искать.
Сержанты привели дивизион с ужина и, не распуская строя, объявили, что поступил приказ о присвоении воинских званий, его торжественное оглашение будет завтра на общем построении, но надо к этому торжеству подготовиться, то есть пришить лычки. Тем, кому звания присвоены.
- Приказ на Доске почета в ленкомнате.
Почему на Доске почета, а не у тумбочки дневального, это тоже было продумано: не хотели подставлять ни дежурного, ни дневального.
Строй распустили, все кинулись читать приказ. Радостные крики оглашали казарму. Друзья мои, сержанты, объясняли, что это такая особая честь только нашему дивизиону, а мы и правда только что хорошо провели учебные стрельбы, и что, конечно, это редкость редчайшая, чтобы военнослужащие получали звание так быстро, но тут особый случай, дорогие товарищи новобранцы.
Словом, сели салаги за иголки и нитки. Лычки им отмерил каптенармус Пинчук. Погоны новые выдал он же. Он же и собрал вскоре эти погоны, но уже с пришитыми лычками. Сказал, что раздаст утром, на построение.
Никто не заметил, что приказ скоро исчез с доски. И я, прибежавший проводить отбой и читать наряд на завтра, о нем и понятия не имел.
Вообще я потом даже сетовал парням, что меня не ввели в курс розыгрыша, но парни объяснили, что не хотели меня подводить. Утром, после завтрака, перед построением, сержанты ввязали меня во всегда непростое распределение нарядов на будущую неделю по батареям и взводам. Время летело. Я оторвался от бумаг:
- Крикните дежурному: объявить построение.
Вскоре дежурный заскочил в дверь:
- Старшина - комдив!
Выскочив на крыльцо, я привычно и мгновенно посмотрел на выровненные по линии носки начищенных сапог, скользнул взглядом по гимнастеркам, заправленным в ремни, по блестящим бляхам, по головным уборам и зычно скомандовал:
- Див-зьен! Р-рясь!... Ир-но! Равнение напра-о!
И четко, по-строевому, пропечатал несколько шагов навстречу нашему подполковнику.
- Тарщ подполковник, вверенный вам дивизион на утренний осмотр и развод построен! Старшина дивизиона...
И увидел вдруг взгляд подполковника. Он смотрел с каким-то недоумением, но не на меня, на выстроившихся солдат. Я невольно тоже поглядел и. чуть устоял - в первом ряду стояли сплошь ефрейтора. Все в новехоньких погонах, все очень радостные. Они были готовы гаркнуть; «Служим Советскому Союзу!»
- Это кто у тебя в строю? - ласково спросил комдив.
- Понятия не имею, - искренне ответил я.
- А сам ефрейтором быть не хочешь? - поинтересовался комдив.
А дальше? Дальше пошла разборка. Таскали к комдиву и сержантов и «ефрейторов». Все честно говорили, что был приказ. Был. «Вот у туточки, у рамочке». И все это подтверждали.
Но уже во всей части шел такой хохот, так всем понравился наш розыгрыш, что, конечно, было глупо истолковать его как преступление, как чей-то злой умысел или тому подобное. Дежурному сержанту влепили внеочередное дежурство, только и всего. Это ж в тепле, в казарме - это не караул, не круглосуточное бдение на позиции. Я сказал комдиву, что буду рад, если с меня снимут хомут старшины, и что я вообще готов в рядовые, в любом звании почетно служить Родине. Тем более мне уже надо было готовиться к приемным экзаменам в институт.
- Перекрестись, что не знал про «ефрейторов», - велел комдив.
Я выполнил приказ, перекрестился.
Мы думали, что и «ефрейтора» не будут обижаться. Но вот как раз они-то и обиделись. И то сказать - только что ощущали на погонах лычки, и нет их, сами же и спарывали. Даже сфотографироваться не успели.
- Кляты москали, - возмущались они.
Но мы не обижались. Я вообще искренне думал, что меня это прозвище возвышает. То все вятский был, а тут уже москаль.
Вот такое было первое апреля.
О друзья мои, западэнцы. Однополчане! Братья славяне! Что творят ваши внуки?
ОТЕЦ, Я ЕЩЕ ЗДЕСЬ
Есть выражение: что старый, то и малый. С годами я убедился, что оно очень точное. Это оттого, что в старости все чаще вспоминается детство. Мелькнет что-то: дерево, цветок, человек, какая-то фраза в книге, картина, что угодно, а мысли уже уносятся в сияние ангельских лет, во времена безгрешной души. Или просто, без всякого повода, в счастливые минуты одиночества. Откуда-то сверху или со дна души всплывают и заполняют меня видения родины. Памятью зрения, которого оказалось очень много во мне, я вижу в подробностях улицы и переулки моего села, берега реки, заречные дали, тропинки, почерневшие от времени, необхватные березы по сторонам Великого Сибирского тракта, избы и дома под тесовыми крышами, вижу молодых родителей, братьев и сестер, друзей, вспоминаю до какого-то тончайшего умиления первые влюбленности, помню мальчишеские мечты умереть за Родину. Закрою глаза - черемуха цветет за околицей.
Памятью слуха слышу слабый лепет лесных ручейков, шуршание лиловых колокольчиков, шум берез и переплеск осин, вижу и слышу трепещущего в синеве жаворонка, а ночью не вижу, но впиваюсь слухом в гремящего на всю округу соловья, жарким днем стрекочут кузнечики во ржи, а зимой заменяют их братья - запечные сверчки. Им помогает басовое гудение печной трубы, такое мирное, теплое, что снятся золотые караваи свежего хлеба. Летом счастье вечернего костра и немолчное хоровое пение лягушек, звон молотка, отбивающего певучее лезвие косы, теплым вечером шорох дождя по старой крыше сарая, еще сквозь сон пастушеский рожок, мычание стада, девичья песнь в прозрачной летней ночи, плеск рыбы в омуте под обрывом - все это была такая чистота и полнота звучания, что только классическая музыка, услышанная позднее, была ей равна.
Но детство готовило и к восприятию живописи: на земле светилось дивное разноцветье и разнотравье, и надо было опасаться наступить то на солнышко ромашки, то на синенький василек, то на сплошное золотое цветение одуванчиков. Вызрев, легкие их семена летели на воду озер и серебрили ее. На уровне груди колыхалось золотое море колосьев, деревья вздымали яркую весной, светлую летом и желтеющую к осени листву, тихо опадающую на лесную тропинку. И русская зима, наверное, уже последняя в этом мире такая: в цвет молодой седины, с сияющими светло-голубыми пространствами, с легким занавесом снежной пыли, выбеляющим и без того белый притихший лес. И всегда-всегда высота разноцветного неба. И облака, белые на голубом. И тучи, серые на темном. Ликование, страх, почтение, восторг - все наполняло душу.
Уже давно меня никуда не тянет, только на родину, в милую Вятку, и в Святую землю. Святая земля со мною в молитвах, в церкви, а родина... родина тоже близка. И если в своем родном селе, где родился, вырос, откуда ушел в армию, в Москву, бываю все-таки часто, то на родине отца и мамы не был очень давно. И однажды ночью, когда стиснуло сердце, понял: надо съездить. Испугался, что вскоре не смогу одолеть трудностей пути: поездов, автобусов, пересадок. Надо ехать, надо успеть. Туда, где был счастлив, где родились и росли давшие мне жизнь родители. Ведь и отцовская деревня Кизерь, и мамина Мелеть значили очень много для меня. Они раздвинули границы моего детства, соединили с родней, отогнали навсегда одиночество; в этих деревнях я чувствовал любовь к себе и отвечал на нее любовью.
Нынче летом, выскочив на несколько дней в Вятку, я сорвался вдруг и кинулся на автовокзал, взял билет до Уржума, бывшего уездного, ныне районного города. А там надо было одолеть восемнадцать километров до родины отца, а оттуда ехать до Малмыжа, тоже райцентра, там переправиться через Вятку и добраться до родины матери. Все эти пространства я надеялся одолеть кавалерийским наскоком.
Стояла жара. Она пришла после дождей, и ее сопровождало сильное парение от разогретой влажной земли. Срывались краткие грозы. Страшно сказать: я не был в Уржуме тридцать пять лет, а тогда приезжал, когда писал «Ямщицкую повесть». Это был мой поклон дедам-ямщикам, которые своими трудами нажили состояние, за что их большевики спровадили в Нарымский край. Но и эта боль опять же давно улеглась, а состояние - двухэтажный каменный дом, выстроенный на огромную (десять дочерей, один сын) семью, хотелось навестить. Именно в этот дом я приезжал совсем мальчишкой к деду в то лето, когда у него гостила городская дочь, моя тетка, с детьми. Дедушке по возвращении из сибирской ссылки разрешили жить в крохотной комнате внизу, хотя дом стоял пустым, а городским гостям из милости выделили комнаты на втором этаже. В то лето, после девятого класса, я работал на комбайне помощником, а как раз пошли дожди, уборка остановилась, и я стал проситься навестить городскую родню.
Отец одобрил мой порыв. Он как-то даже вдохновился: сел, на тетрадном листке начертил схему, как дойти от пристани на Вятке до его деревни. Вообще он был молчалив, мало говорил с нами, иногда даже забывал, кто из нас в какой класс перешел. Идет на сенокос, широко шагает, мы вприпрыжку за ним. Но о своем детстве говорил как о сказочном. Как они катались с гор на ледянках, какие были ярмарки, какие лошади в ночном, как неслась по Казанскому тракту почта («Царь с дороги - почта едет!»), какая была добрая бабушка Дарья, как его баловали его десять сестер. Отец договорился со знакомым шофером, который довез меня до пристани Аргыж; на ней я купил билет в четвертый класс парохода «Чуваш-республика». Ближе к ночи он показался из-за поворота, вскоре, гудя и дымя, причалил к мокрому дебаркадеру. На пароходе я был впервые в жизни. Всю ночь восторженно бродил по нему. Он казался огромным. Я был сельским и стеснительным, но мне ни разу не сказали, что куда-то нельзя входить, и я все смелее осваивал плывущее над водой пространство. Как шумно и трудолюбиво вращались деревянные колеса в кипящей воде, как расступалась вода и долго-долго журавлиным клином торопилась за нами. Подолгу стоял, и меня не выгоняли, в машинном отделении, смотрел, как взмывал и опускался громадный шатун, вращающий толстенный, залитый янтарным маслом стальной вал; именно на него по бокам были надеты старательные колеса. Мне очень хотелось помогать кочегару, черному, голому по пояс мужчине - уж я бы смог заталкивать в пылающую топку огромные поленья, - но опять же постеснялся. А ведь я уже знал устройство и трактора, и комбайна - но тут была такая неподступная громада!
Мы шли против течения. Была светлая, прохладная ночь, но я даже и поспать нигде не приткнулся, хотя у теплой необхватной трубы было место. Стоял у влажных поручней, глядел то на близкий, то на отдаляющийся берег, на глинистые или песчаные берега, то травяные, то заросшие лесом, запрокидывал голову и смотрел на поворачивающиеся вместе с палубой звезды. Из трубы летел освещаемый изнутри искрами дым, и иногда при крутом завороте он обдавал палубу и приятно согревал. Часто то длинно, то коротко ревел пароходный гудок.
На пристани Русский Турек, на рассвете, я выскочил и побежал, как объяснил мне отец, в гору. «На горе кладбище, с него увидишь Кизерь».
Вот и оно. Тропинка, по которой бежал - именно бежал, - простегивала его посередине. Но и на кладбище не замедлил скорости, только взглядом выхватывал надписи на крестах и пирамидках. Частота моей фамилии на них меня поразила. То есть тут сплошь была родня.
Я торопился на встречу с живой родней. Родня - великое слово! Да, родню нам дает судьба, друзей мы выбираем сами. Но, как говорила мама: «Свой своему поневоле друг». Вот это «поневоле» с годами превращается в щемящую необходимость помнить о родне, вызывает в душе неистребимое чувство древней кровной связи. И так защемит иногда сердце, что родни прежней остается все меньше и еще меньше ее нарождается.
Дедушка спал. И хотя стояло лето, спал под тулупом. Я вошел тихонько, но он проснулся, зашевелился, сел и объяснил: «Согреться никак не могу».
Городские гости, братенник и братенница, спали долго, но будить их ни я, ни дедушка не смели. Я бродил около дома, по двору. Вдруг я услышал девичий вскрик, шлепанье босых ножек по деревянным ступенькам лестницы, и на крыльцо выскочила, будто упала с небес, моя сестренница. В белом, кружевном по подолу и у горла платьице, и сама вся в светлых кудряшках вокруг личика.
- Кузен! Ты знаешь, что ты мой кузен? Это по-французски. Ты какой язык учишь? Вообще у вас в селе преподают иностранный? Называй меня кузина, хорошо? Я сейчас пойду оденусь.
- Ты же одета.
- Да это же ночнушка! Ну ты смешной! А ты знаешь, что твой папа, -она так и сказала офранцуженно - папа, - твой папа был любимым братом моей мамы. А ты будешь моим любимым братом, хорошо? Ты согласен? - Она умчалась, опять прошлепав босичком по ступенькам.
Спустилась тетя, вгляделась в меня и объявила, что я весь в их родство. Моя мама говорила мне, что сестры моего отца не очень-то ее любили, считая, что он мог бы сосватать не крестьянку, а «столбовую дворянку». «Он ведь техникум кончил, а это по тем временам было очень высоко. Интелего! А я что? Четыре класса, телятница. Но уж и телята у меня были! К ним бегом бегу, они мычат, радуются. Увозят их, я ревмя реву. Членом правления была. А он, он - лесничий. Меня тятя и мама ругали, что я его на “ты” называю. Это, говорят, по старым временам, ваше благородие, а ты: Коля, Коля. Интелего был!»
Вскоре мы стали завтракать. Таня была в темной юбочке и сиреневой кофточке. И туфельки на ней были с блестящими застежками. Вообще она переодевалась постоянно. Дивно мне было это, я же привык видеть сестер и одноклассниц в одних и тех же нарядах.
Конечно, никакой кузиной я не стал ее называть. Хоть и читывал уже французские романы, но стеснялся переходить на такой стиль отношений. Да и много ли нам было времени для общения: меня ждала работа на комбайне. Но эти счастливейшие два дня жизни на родине отца я вспоминал всю жизнь. Мы купались, ходили за ягодами, снова купались, уже с резиновой лодкой, которую они привезли с собою и которая в этих краях была невидалью. За околицей Кизери стоял комбайн, и я с гордостью перед городскими объяснял его устройство, показывал хедер, молотилку, копнитель, бункер.
- А еще бывают цельношнековые, - важничал я. - Там центральный транспортер не забивает. А у нас - залезешь в травяную рожь, деки зажмет, и дергаешь из барабана траву по два часа.
Братенник, не отставая, говорил, что хорошо знает паровозы, я же, стараясь произвести впечатление на Таню, говорил, что уже и пароход изучил.
- А я вообще в математической школе, - отвечал братенник.
- А я вырасту и буду петь Виолетту в «Травиате», - говорила Таня. -Будешь Жермоном? Ты ходишь во Дворец пионеров?
- В сарай пионеров он ходит, - поддел братенник. Я решил не обижаться.
- Да, в пионерах у нас был сарай - штаб. Мы в тимуровцев играли. Помогали старухам и тем, у кого отцов убили. Дрова пилили, кололи, огороды копали.
- А много у вас таких?
- Да все село.
- А теперь ты комсомолец? - спросила Таня.
- Ну да, мне же четырнадцать.
- И мне четырнадцать. Но я пока не вступаю, я очень легкомысленная.
- А я уж год в комсомоле, - похвастался братенник. - Мы в пионерах тоже были тимуровцами. Старушек через дорогу переводили.
Провожать меня на пристань Таня не пошла. Вышла за ворота в голубом ситцевом платьице, чмокнула в щеку и убежала по своим делам. Меня ошеломил поцелуй. Они - городские, у них это, видимо, было просто-запросто, а мне, при нашем-то строгом образе жизни, было каково?
И вскоре меня опять уносил пароход, на этот раз «Энгельс», да еще вниз по течению, как будто убегал, а сердце мое рвалось вернуться в
Кизерь. Я доставал сто раз изученную по дороге в Кизерь схему отца и снова смотрел на нее, но уже как на карту собственного детства; более того, мне уже казалось, что не только отец, но и я тут родился.
* * *
Измученный жарой и долгой дорогой в прытком на ухабах автобусе, я вышел на пыльную солнечную дорогу. Но где же деревня? В стороне я увидел дома и сообразил, что шоссе Вятка - Казань проложили не по деревне, а спрямили. Пришел на заросшую травой улицу. Улица в деревне стала односторонней. Двухэтажный дом отца я узнал сразу, он и сейчас был самым большим, хотя и он сократился: раньше в нем было по восемь окон на улицу, осталось по пять. Никаких ворот, никакого двора не было. Несколько грядок с молодым луком да посадки картошки говорили, что кто-то тут все-таки живет. И годы спустя я почувствовал, как дом мозолил глаза большевикам, да и у своих вызывал зависть - кулаки живут. Ну вот я и пришел, потомок кулака, и мог бы как внук репрессированного деда занять этот дом. Мысль эта заставила горько вздохнуть. Жить в умершем почти доме и видеть вокруг умирание - это-то я еще бы смог, это-то, может быть, и заслужил, а семья, а моя любовь к ней? И как я без них? Но можно же и так, вдруг взорлил я: остатки силенок еще есть, вырву дом из лопухов и крапивы, изгородь и калитку излажу, баньку сооружу, кто-то и поможет. Огород расширю. Вдруг да какая копейка появится, тогда и стены оштукатурю и побелю. Полы перебрать, окна обновить. Приезжай, семья! Но тут же резко оборвал себя: не занимайся фантазиями - ты последний раз в земной жизни стоишь у дома отца. Тебе уже не уйти от мира, в котором ты живешь, теперь только ждать, пока сам мир уйдет от тебя.
Я стоял у дома отца. Сказать, что что-то чувствовал, было бы неправдой. Вообще все воспринимаю заторможенно, как говорится, с поздним зажиганием.
Вот и сейчас понимал, что всегда уже буду помнить этот огромный на голом пространстве запущенной земли дом, без цветов на широких подоконниках, без тюлевых занавесок, с выбитыми стеклами, с крапивой под окнами вместо цветника.
Но жил же тут кто-то. На дверях висел амбарный замок, как отказ в ночлеге. Но я уже и сам понял, что ночевать здесь не останусь. Надо выкупаться в Кизерке, подойти к памятнику погибшим на войне и ехать дальше, на родину мамы. А может, уже и Кизерки нет? Нет, слава Богу, Кизерка текла, да притом такая чистая, с таким радостным мельтешеньем и взблескиванием мальков на отмели, что одежда сама с меня слетела, и счастье погружения почти в крещенские воды прогнало печаль.
На обратной дороге к дому я увидел первого живого человека деревни. Около ветхих ворот крохотной избушки шла старуха с двумя поленьями в руках. Я поздоровался, она ответила, вгляделась и... уронила поленья на сухую траву.
- Яков Иваныч!
- Внук я, внук!
- Вылитый Яков Иваныч, - сказала она потрясенно. Я поднял упавшие поленья и донес до крыльца.
- Еще принести?
Мы еще сходили к поленнице.
- Ой, какая помоченка получилась, - говорила она. И все звала пить чай. Но я надеялся, что дом дедушки уже открыли.
И еще одного человека встретил. Тоже старика. И тоже он меня узнал.
- Я вашу семью очень помню. Дед твой в семьдесят лет бросил курить и стал ездить на мотоцикле. До революции держал почтовую станцию и конный завод. Грозный был, но забывчивый. Кричит: «Где трубка?» - а она у него во рту. Сам я не видел, говорили, что когда их, то есть вас, повезли почти голых, разом сорвали, одним рыпом. А вот другие были, звали их микаденками, те даже смогли самовар захватить.
- А почему микаденки? - спросил я.
- У них дед с японской пришел и все говорил про микадо. Мол, в Японии тоже есть царь, только он микадо. Так и звали - микаденки. Тоже семья была большая.
Опять я пришел к дому. Амбарный замок по-прежнему висел на дверях, но уже расстегнутый, в одной скобке. Поднялся по расшатанной лестнице и постучал в ободранную дверь. Тихо. Еще постучал. Подождал и потянул к себе дверную ручку, роль которой играл забитый в дверь толстый ржавый гвоздь. Вошел. Кухня была завалена грудами битого и целого кирпича, песком, глиной. На койке лежал худой желтолицый мужчина и смотрел на меня. Я поздоровался. Он еще полежал. Наконец что-то осмысленное прорезалось в его взгляде, и он сел.
- Тут дед мой жил, отец родился, - сказал я.
- К зиме готовлюсь, - объяснил он наличие строительных материалов.
- Так у тебя же есть печка. Еще одну?
- Не натопить, окна расшатаны, да и выбиты (кое-где стекла были заменены тряпьем). Заложу дверь в комнату, замажу щели, буду жить на кухне.
Он был явно болен, как-то нервно дергался и подкашливал. Он и в самом деле стал объяснять, что в больницу его больше не берут, брали, но выписали, родни нет, а тут раньше жили родные, он и живет. Я присел на широкий подоконник, больше было негде. Мужчина налил в литровую банку воды, затемнил ее какой-то коричневой жидкостью из банки поменьше, высыпал столовую ложку сахара и стал, звякая ложкой о стекло, мешать. И будто эти звякающие звуки вызвали внезапный гром, который враз со вспышкой ударил и объявил о грозе. Хлынула вода, полилась по подоконнику, заставила меня вскочить. Мы молчали. Мужчина хлебал из банки и заедал ржаным хлебом. Я смотрел в промытое окно, силясь вспомнить, какой дом стоял напротив, около которого шла тропинка на пруд и в ягодно-грибной лес тех незабвенных двух дней отрочества, в солнечное сияние первой влюбленности. Именно там показался просвет среди туч.
Надо было уходить. Кухонное окно тоже протекло, уже лило с подоконника на пол. Мухи, застигнутые наводнением, барахтались в мутных потоках. Как будто и меня отсюда вымывало.
Гроза стихала. Я разулся и шел по траве улицы вниз, к памятнику погибшим. Не мог же и он исчезнуть, железный же. Вскоре увидел разросшиеся кусты, а внутри пирамиду. Но как подойти? Свирепый высоченный репейник и кустарники крапивы с деревянными корнями преграждали путь. Памятник устанавливали к двадцатилетию Победы, но уже, видимо, не осталось в живых тех, кто ухаживал за ним. Я, хоть как-то искупая вину перед павшими однофамильцами, стал воевать с чертополохом. Плоховато, но все-таки расчистил подступы к скорбному списку. Не было креста на памятнике, но и звезды уже не было. То ли сама упала, то ли помогли.
Пора было на автобус. Прибрел на остановку. Дом отца скрылся за деревьями. Чем можно было утешиться - конечно, только Священным Писанием. Ведь даже и в земле обетованной Авраам обитал как на земле чужой, а пришедшие с Авраамом «радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле... они стремились к лучшему, то есть к небесному».
Мутная туча, как нашествие, вынеслась из-за леса, от Вятки, и закрыла окрестность. И опять гром ударил враз со вспышкой света, и опять хлестануло ливнем. И конечно, я вымок окончательно. Но я воспринимал все как награду: это меня не где-то полощет, а тут, где отец бегал мальчишкой. Промыл ноги в возникшем теплом ручье. Обулся. Притопнул - передо мной, как вызванная в сказке Сивка-бурка, вещая каурка, стоял автобус. Вот только управляли кауркой не добрые молодцы русские, а южные крикливые люди. Водитель-то был русский, но деньги с меня взяли они. Почему они командовали? Людей в автобусе было мало: старухи, впереди молодая пара. Новое испытание подстерегало меня: позади кресла водителя была большая глянцевая фотография обнаженной девицы в офицерской фуражке.
- Уберите! - потребовал я. Меня вдобавок очень еще расстроило то, что напоследок не оглянулся на деревню.
- Ты тут, дядя, не командирствуй, - поднялись они.
- Снимете?
Они надменно молчали. Я содрал фотографию, скомкал, бросил под сиденье.
- Смотри, припомним, - пригрозили они.
За окнами темнело. Неслись в стороны и назад пустынные поля, набегали, притирались к окнам коридоры хвойного и лиственного леса, вверху обозначилось звездное небо. Я все надеялся, что блеснет слева и подаст отдохновение милая Вятка. Нет, скрывалась. Наконец мы приехали в Малмыж.
Я спросил направление к гостинице у молодых, они сказали, что проводят. Вот и гостиница, такая же, что и сто лет назад. В ней все мои деды и отец останавливались в разные годы. Мне указали все на ту же койку, что и тридцать лет назад, только слупили в сто пятьдесят раз дороже. Демократический прогресс был налицо.
Из всех ненавистных мне запахов самый ненавистный - запах табачного дыма, каждение дьяволу. Я думал после такого долгого дня сразу упасть и уснуть, но задыхался от табачной духоты, идущей от прокуренных стен, постелей, одеял, подушки. Распахнул брякнувшееся о стальную решетку окно и пошел на улицу, В сумерках белели старые дома, серели новые постройки. У круглосуточного заведения шумела жизнерадостная молодежь. Оглушали треском и тут же отравляли дымом пролетавшие мотоциклы.
Увидел изрезанную ножами скамью, сел на нее и долго сидел. Ну вот и побывал на родине отца. Может, больше и не бывать. И что? Ведь хорошо же, что побывал. Да, хорошо. Этот дом, его сиротство, этот больной в его стенах - разве это не есть состояние сегодняшней России? Этот заросший памятник. Эта издевательская похабщина южных людей. Надо и это все выдержать.
Вернулся в гостиницу. Все-таки немного проветрилось. Правда, усиленно и радостно звенели комары, но с этим народом у меня давние добрососедские отношения. Сон мой был торопливым и даже судорожным. Я и боялся проспать, хотя сказал дежурной время побудки, и хотел провалиться в сновидения, которыми полны все мои ночи. Даже не помню, но, конечно, легко могу представить, о чем думал, ожидая сна. А во сне летал. Стыдно для моих лет, но летал. Летал выше крыш, взмывал над лестницами, которые были еще выше крыш, летал вдоль узора обоев на стене, очнувшись, вспоминал сон, глядел, как пополз по обоям рассветный луч. Лежал и пытался обрести себя: где я, о чем думал вот сейчас? Но одну мысль помню точно: если мы видим только тысячную часть света, идущего на землю, то что есть свет?
На автостанции утром увидел знакомое лицо и автоматически поздоровался, хотя тут же сообразил - это же вчерашний человек с юга, мне угрожавший. Но он тоже поздоровался, видимо, растерялся от моего приветствия.
Туман, береговые кусты, песок, Вятка. Милая Вятка, быть бы тебе главной рекой Руси. Но так стало считаться, что не Кама впадает в Вятку, а Вятка в Каму, не Волга в Каму, а Кама в Волгу, что у Вятки вроде бы и статус реки стал областным. Но какая река! Какая мощь в этом спокойном неостановимом течении, какая красота в берегах! Они то высоченные, красные от глины, то пологие, золотые от чистых песков, то сумрачные от подступивших хвойных лесов, то веселые от лугового разнотравья. И чего только они не видели! Именно здесь шли от Мелет-ского затона плоты, которые вел лоцман Семен Ефимович, мой дедушка по маме. Водил и до устья Вятки, и до устья Камы, и до Астрахани. А однажды отказался выводить плоты из затона. Ибо был великий праздник - Пасха Христова. Арестовали и посадили. А плоты, которые повел другой, все равно разметало внезапно налетевшей бурей. Дедушке и это зачли в срок.
Туман был серо-молочный, влажный. Я отошел от причала вверх по течению и умостился на остатках лодки. И замер. Видно было метра на два, не больше. Было ощущение, что я в самолете, который плавно снижается и проходит приземные облака. По темной воде, будто во сне, плыли щепочки, птичьи перья, зеленые и желтые листочки. И вскоре показалось, что это не они скользят мимо меня, а я вместе с берегом тронулся в неведомое плавание. Такая была отрешенность, такая тишина, будто я прожил эти минуты не во времени, а в вечности.
Подошел паром, мы вошли на него, отчалили, и было ощущение, что паром заблудился, завяз в этом тумане и начнет подавать тревожные гудки; но нет, точно причалил к огромной ржавой барже, игравшей роль пристани.
А дальше все еще проще: мы погрузились в автобус, обилетились и потряслись сквозь леса и поля. В автобусе ко мне подсел мужчина в солдатском бушлате.
- День рождения у меня вчера был, понял? Не такой, что вот именно как день рождения, но вроде того.
- Из зоны вышел?
- Почти угадал. Раскодировался. Пошел детей навестить, прошу: дайте хоть немного, чтоб отпраздновать. Гонят. Эх, думаю, породить-то я вас породил, но, как Тарас Бульба, убить не успел. - И тут же, без паузы, высказал еще одну мысль: - А зря мы Ираку долги простили. Если не может платить, так кто виноват? Америка? Она и плати. Так ведь? - Потом он мотался в такт проезжаемым рытвинам, закуривал и сообщал еще и другие известия: - А вот скоро революция будет, учти. Тогда попомнишь. Я так считаю, что пора. Думаю, ты не против.
И вот Мелеть, родина мамы. Мелеть была ближе к нашему селу, сорок километров, поэтому мы тут чаще бывали. Теперь в ней остался единственный мой двоюродный брат, Геннадий.
Он был почти совершенно глухой. Последний раз мы виделись лет десять назад, когда я привозил кресты на могилы дедушки и бабушки по маме. Помню, как мы после тридцатилетней разлуки зарыдали, именно зарыдали, а не заплакали, ибо многое нас связывало в давно прошедшем детстве. Гена пас свиней, я помогал, когда приезжал. Меня Гена и курить научил, и плавать, когда он и его дружки выкинули меня из лодки, заплывшей на середину Вятки.
Он не ждал меня, но видно было - обрадовался.
- С утра не спалось, все Семен Ефимыч мерещился, а тут ты - копия Семен Ефимыч! Один к одному! Только он был кряж, корень, мы по сравнению с ним близко к нулю.
- Так он же георгиевский кавалер, - закричал я.
- В больнице разу не бывал, - говорил Гена. - Все зубы у него были до одного целые. Но мы, хоть беззубые, а в смышляевское родство, так ведь? Наши матери в девках Смышляевы, не забыл?
Жена Гены Валентина уставляла стол банками и тарелками.
- Ой, - говорила она, - ой, хоть расскажи, чего нам ждать-то? А мы живем, живем и умирать не собираемся. Да как хоть это, да чего, хоть это в мире-то? Чего так все наперекосяк, или уж все к концу, уж вроде того, что ложись да помирай, а? А пожить-то охота, а? Никто ведь туда сам не совался, одни безумцы. Ой, ведь нас до того довели, что воздухом дышим и радуемся, что хоть за него не платим.
Гена, я видел, понимал ее. Он постоянно курил, щурился и поглядывал на стол.
- И чего звонишь, - вставлял он в крохотные паузы Валентининого выступления, - чего распространяешься?
- А ты бы молчал, - говорила ему Валя. - Мы скоро по миру пойдем, а цыгане все тут займут. - И объясняла мне: - Цыгане скоро начнут золотые зубы лошадям вставлять. Ходят, жалуются, что бедные, а уйдут, глядишь - мы бедные. А раньше: вот мать за сушками посылает. Лом, сушки, розовые, ванильные, насыплют в передник, сумок не было. Раньше только нищие с сумками ходили, теперь все с сумками. По четыре часа за самоваром сидели. А разговоров!
С радостью отведал я деревенской сметаны, напился совершенно черного чая и заторопился в Аргыж.
- Не хочу я в Аргыж, - сказал Гена. - Как вспомню, как к дядьке за куском хлеба бегал, а потом всю жизнь отрабатывал. Крест делал на могилу - думаю: вот, рассчитался.
Но Валя погнала Гену со мной. Я пошел босиком, он надел калоши. Вначале прошли через улицу, на которой стоял дом дедушки, в котором родилась моя мама, куда я много раз приезжал и с нею, и один, когда стал постарше.
- А родник жив? - кричал я Гене.
- Еле-еле. Раскопать можно.
Вместо прежнего дома стоял крохотный, чуть больше сарайчика, домик. Запущенный до последней степени. Двора не было. Калитка была, но никакого забора, и она жила сама по себе, барыней, никто ее не тревожил. Крыльцо было сгнившим, дверь в избу прикручена к гвоздю, забитому в стену, проволокой. У крыльца валялся дырявый рукомойник. Старинный, с лоточком для воды.
- Прежний? - закричал я. - Дедушкин?
- Ну, - подтвердил Гена. - В Москву повези.
Я прицепил рукомойник к стене, огляделся. Вот тут, где лебеда и крапива, был погреб, куда меня брала бабушка Саша и все потчевала чем-нибудь вкусненьким. Помню, сметану счерпывал сверху из широкого горшка. А тут стоял сарай для сена, в нем и куры жили, тут дровяник. За этими зарослями одичавшей смородины, бузины, крапивы, среди просторного огорода была банька. За огородом - картофельное поле. Дальше просторы засеянной земли, перелески. По ним шла и конная, и пешая дорога к Вятке. Прямо от огорода начиналась тропинка. Но и она исчезла. Все исчезло.
- А баня где была?
- Вон, - махнул Гена рукой к зарослям бузины. - Вспомнил, как мылся?
- Да я подумал, что наши матери, может, в ней были рождены! Не было же акушерки, в роддом не возили. Топили баню, бабка лучше любого врача принимала.
Пересилив мой крик, оглушая ревом и задымливая пространство, на низкой высоте пронесся темно-зеленый вертолет.
- Охрана! - объяснил Гена. - Здесь же газопровод. Каждые полчаса, иногда чаще, летают. Туда и сюда. Диверсии боятся.
- А в Мелети есть газ?
- Откуда?
- Отсюда! Значит, искалечили землю, перепахали все, обгородили и газа не дали?
Гена махнул рукой. Пошли в гору. Вскоре я устал кричать ему на ухо, то в правое, то в левое. Замолчал.. Глядел вокруг. Ведь все поля здесь в ту, незабываемую мелетскую эпоху я исходил, изъездил на комбайне, на машинах, на лошадях. Ничего не узнавал.
- Тянет, значит, сюда? - спросил Гена.
- Так еще бы не тянуло, тут такой магнит, - закричал я и повел рукой, показывая вокруг. - Детство же! Тянет. Свиней пасли. Курить научился. В Вятке чуть не утонул, когда вы меня из лодки выкинули. Спасибо, плавать научился. В морях и океанах пригодилось.
- Железа, значит, в тебе много, раз магнитит.
- Много: яблоки-то вместе воровали.
- Чего было не жить, - горько говорил Гена, загребая калошами мокрый дорожный песок, - такие поля, такие луга. Рыбы всякой, что в реке, что в пруду, что в озерах. Коров держали, овец, гусей на воде белым-бело, как снег. Жили-жили, дожили! Говорят: все это нерентабельно. И все порушили. - Гена опять закурил. - Я вот живу, выработал правило: жить без дерготни. Кто тебя из себя выводит - от того отойди. Отхожу. Но! Иной раз думаю - кожа от головы отделяется: как же все так, все против нас? Одни тунеядцы живут, а работяг истребляют. Что хоть вы там в Москве своей головой думаете?
И снова долго шагали под марлевым дождем, по мокрому песку. Да, памятна эта дорога. По ней неслись наши сани, когда мы похоронили дедушку Семена, это было зимой, по ней, в другие времена, мчался мотоцикл, за рулем мой старший брат, я сзади. Мы попали в размытую глину, и нас выкинуло с сидений, как со взбрыкнувшего коня. А как ощутимо билось сердце, когда бежал здесь на вечерку, надеясь увидеть ту, которая днем приезжала к комбайну за зерном и весело кричала: «Не заваливай!»
Пришли в Аргыж. Всю дорогу не то чтобы хмурилось, но как-то суровилось, а сейчас взбрызнуло, будто приветствуя. В начале деревни был магазин. В нем мы и укрылись. Молодая продавщица и древние старухи воззрились на нас. Гену они сразу узнали, а вскоре и меня.
- Это ведь ты тогда-то яблоки воровал?
- Я, - признался я, дивясь требовательной народной памяти. Менялись системы, гибли и возникали государства, устаревала одна идеология, ее сменяла другая, но для Аргыжа, русской деревни, было важно, что пятьдесят пять лет назад в ней произошло чрезвычайное событие: внуки Семена Ефимовича крали яблоки. Нет, теперь я понимаю, что с тех пор история России пошла иначе. Солнце взошло с запада: внуки Семена Ефимовича пошли на воровство.
- На Вятку пойду! - закричал я Гене. Он вышел на крыльцо магазина.
- Я уж не пойду, не дойти обратно в гору. Ты молодой, иди.
- Мы же ровесники. Какой же я молодой?
- Да ты ж тяжелее карандаша ничего не поднимал.
- Ой, Гена, не тебе бы говорить, не мне бы слушать. А сплав, комбайн, а грузчиком сколько был. Армия! Ракетные войска!
- Ракеты запускал?
- Ну!
- По фанере?
- А ты куда хотел?
Дождь разошелся всерьез. Небо снизилось, и казалось, что уже вечер.
- Подожди, перевалка пройдет.
Мы вернулись в магазин. Продавщица включила верхний свет. Я спросил у нее кагора. Кагор был. Нашлись и стаканы. Я разлил старухам и молодой продавщице сладкого вина.
- Ну что, прощаете за яблоки?
- Проищем, - сказала одна из старух. - Но все-таки, чего вас в чужой огород понесло? Это же стыд и срам.
Дождь зарядил основательно. Но не побывать на Вятке я не мог. Пошел по старым тропинкам. Да где они и кто топтал их после меня? Шутка ли - полвека не был. Все-таки как милосердие, как искупление вины, в конце деревни разглядел тропинку, пошел по ней. И вспомнил: здесь же был широченный путь от причала, ступени длиной метра в три, а слева -дорога для машин и лошадей.
С нависающих ветвей берез и елей на меня хлопались радостно дождавшиеся предмета возливания дождевые воды. Я уже смирился с тем, что весь мокрый. Тем более, что это меня готовило к главной купели -погружению в Вятку. И оно состоялось. Со страхом я раздевался. Догола, без боязни быть кем-то увиденным, кроме Бога - берег был настолько пуст, что походил на пейзаж сотворения мира. Содрогаясь от страха перед холодом любимой реки, я вошел и трижды окунулся. «Ты без меня текла и будешь течь, и обойдешься без меня, а я без тебя не могу». Так я сказал своей реке.
Пусто было на вятских берегах. Прошел только, пронесся катер, такой, какой видел на Амуре, на китайско-российской границе. На берег намывало мутные волны. Надо было одеваться. Но страшно было напяливать мокрую, холодную одежду. Трясясь от неизбежной температуры, пошел в гору, в деревню. Гена по-прежнему сидел в магазине, беседуя со старухами. Я застал только одну фразу:
- Не жили хорошо, и нечего начинать.
- Ну что, кагорчику? - крикнул я.
- Кагор, - насмешливо отвечал братенник, - не казацкое питье.
Я купил у румяной продавщицы продукт посерьезнее. Старухи приняли подношение и окончательно нас простили. Меня познабливало. Мы пошли вниз, по песчаной, прежней дороге, к Мелети.
- Вот я сейчас тебе что скажу, это все, что тебе надо знать. - Гена был приподнят в своем состоянии. - Ты был с отцом, а у меня отец погиб.
- Так у меня отец тоже инвалид.
- Но живой же! И я тебе всегда завидовал. И это была моя главная зависть в жизни. Вот у меня нет отца, а у него есть. Понимаешь? Нет, тебе не понять, ты рос с отцом. И из лодки на Вятке именно я тебя выкинул, понимаешь? Со спины зашел. Мечтал, что утонешь. Доходит до тебя? - Гена остановил меня и схватил за мокрую рубаху.
Я снял его руки.
- Ген, брат, ну что теперь? Ведь и я уже отца похоронил. Похоронил. Знаешь, похоронил. Приехал, все съехались. Давно не виделись, рады друг другу. Спасибо отцу, соединил на два дня. Отпели, крест поставили, все как-то нечувствительно. Разъехались. Живем. А потом так вдруг все обрушилось, такое наступило сиротство, такое... не высказать. Господи, как же, оказывается, я его любил. Ген, перестань, не рви рубаху, последняя. Живые же. Живем же.
- Нет, ты не понимаешь, какой у тебя был отец. - Гену затрясло. Мы стояли под светлым дождем, два старика. - У тебя отец был великий человек. Он, он... - Гена зарыдал, - он меня раз прижал к своей груди. А я был острижен наголо, стригли от вшей и мазали политанью, мазь такая серая, жуть. Он не побрезговал, прижал меня, говорит: Гена, Геночка! Вот! Был у меня отец, был! И тот, что погиб, и тот, что дядя Коля, твой родной отец. Я иначе его, как отца, я не помню. А тебя ненавидел! Ты понял? Ты можешь простить?
- Что говорить. - Я уже не кричал, говорил для себя. - Он меня разу не ударил, пальцем не тронул. Любил нас. Из командировки вернется, обязательно сушки, пряники. Это из города. А в основном он в лесу, лесничий же. Всегда цветы маме, нам ягоды, грибы. Зимой шишки разные. Про лес рассказывал. Деревья, говорил, как люди. Вот корабельный лес, мачтовый, вот подтоварник. У ели корни разлапистые, у сосны морковкой.
Да и Гена говорил, не заботясь о слушателе:
- Мелетка была - кони всплывали, сейчас пескарям мелко. Чего было не жить? Жили честно, не воровали. Я всегда, в армии ли, или где - скажут, что что-то пропало, краснел, думал, на меня подумают. Это как?
- Ген, это русское - быть виноватым за других.
Мы долго шли молча. Опять пролетел, дымя и оглушая, вертолет.
- Ночевать-то всяко что останешься, - сказал Гена. - Баню истопим. Поедешь, цветов дам, на могилу отцу.
- Вообще, Ген, я собирался заехать на час и дальше.
- На час? Это не по-людски. Так нельзя. Сейчас баню взбодрим. Вчера топили, она на старые дрожжи воспрянет. Как это на час? Еще же не всех вспомнили. Ни о чем же еще не поговорили. Чего я оглох, спроси. Простыл, вывозили жмых, засыпку, комбикорм. Дождь, вот как сейчас, только осень. Температура. Хриплю, еле жив. Бегут - вези зерно на пристань. Повез.
Дорога цветная, в глазах - то темно, то полосы. Дальше осложнение, как не быть. На уши. Кто будет лечить, на какие деньги, кому я нужен? Оглох. Ты не ори, я тебя начал понимать. Валька же не орет. Она мне как глухонемому телевизор переводит. Только одна брехня да реклама. Убрали бы эти рожи да крутили бы старые фильмы, так ведь?
Мы уже вошли в Мелеть.
- Говорили у вас в армии, когда шли в самоволку, был пароль: рубите лес - копай руду? В одни ж годы служили.
- Говорили. - Я уже совсем обезголосел от крика, просто кивал, во всем соглашаясь с Геной.
- Вот и копали и рубили, а кто-то жрал да над нами издевался. Так же и сейчас, и всегда, так ведь?
- Ты же вечно жить не собираешься, - из последних сил закричал я. -На земле, по крайней мере, а? Вот и увидишь, как они жрать там будут.
Вскоре мы топили баню. Гена, радостный от того, что я остался на ночь, хлопотал, принося веники, добавляя в чугун воду, Я же избрал для себя топку печки, совал в нее длинные смоляные поленья, вспоминая пароход, по которому только вчера еще бегал мальчишкой,
Именно так, все было вчера. Все то же небо светилось над нами. Тот же запах мокрой крапивы, те же петушиные крики, тот же лай собак. Те же мы.
Гена вошел с полными ведрами, поставил на лавку.
- Ты ведь в Иерусалиме был? Святая земля. Мне уж не побывать. И думать нечего.
- Ты и так всю жизнь на святой земле прожил. На русской.
Так я ответил, но эти слова уже не прокричал, а прошептал.
Отец!
УПРЯМЫЙ СТАРИК
На севере вятской земли был случай, о котором, может быть, и поздно, но хочется рассказать.
Когда началась так называемая кампания по сносу деревень, в деревне жил хозяин. Он жил бобылем. Похоронив жену, больше не женился, тайком от всех ходил на кладбище, сидел подолгу у могилки жены, клал на холмик полевые и лесные цветы. Дети у них были хорошие, работящие, жили своими домами, жили крепко (сейчас, конечно, все разорены), старика навещали. Однажды объявили ему, что его деревня попала в число неперспективных, что ему дают квартиру на центральной усадьбе, а деревню эту снесут, расширят пахотные земли. Что такой процесс идет по всей России. «Подумай, - говорили сыновья, - нельзя же к каждой деревне вести дорогу, тянуть свет, подумай по-государственному».
Сыновья были молоды, их легко было обмануть. Старик же сердцем понимал: идет нашествие на Россию. Теперь мы знаем, что так было. Это было сознательное убийство русской нации, опустошение, а вслед за этим одичание земель. Какое там расширение пахотной площади! Болтовня! Гнать трактора с центральной усадьбы за десять - пятнадцать километров - это разумно? А выпасы? Ведь около центральной усадьбы все будет вытоптано за одно лето. И главное - личные хозяйства. Ведь они уже будут - и стали - не при домах, а поодаль. Придешь с работы измученный, и надо еще тащиться на участок, полоть и поливать. А покосы? А живность?
Ничего не сказал старик. Оставшись один, вышел во двор. Почти все, что было во дворе, хлевах, сарае, - все должно было погибнуть. Старик глядел на инструменты и чувствовал, что предает их. Он затопил баню, старая треснутая печь дымила, ело глаза, и старик думал, что плачет от дыма. Заплаканным и перемазанным сажей он пошел на кладбище.
Назавтра он объявил сыновьям, что никуда не поедет. Они говорили: «Ты хоть съезди, посмотри квартиру. Ведь отопление, ведь электричество, ведь водопровод!» Старик отказался наотрез.
Так он и зимовал. Соседи все перебрались. Старые дома разобрали на дрова, новые раскатали и увезли. Проблемы с дровами у старика не было, керосина ему сыновья достали, а что касается электричества и телевизора, то старик легко обходился без них. Изо всей скотины у него остались три курочки и петух, да еще кот, да еще песик, который жил в сенях. Даже в морозы старик был непреклонен и не пускал его в избу.
Весной вышел окончательный приказ. Сверху давили: облегчить жизнь жителям неперспективных деревень, расширить пахотные угодья. Коснулось и старика. Уже не только сыновья, но и начальство приезжало его уговаривать. Кой-какие остатки сараев, бань, изгородь сожгли. Старик жил как на пепелище, как среди выжженной фронтовой земли.
И еще раз приехал начальник: «Ты сознательный человек, подумай. Ты тормозишь прогресс. Твоей деревни уже нет ни на каких картах. Политика такая, чтоб Нечерноземье поднять. Скажу тебе больше: даже приказано распахивать кладбища, если со дня последнего захоронения прошло пятнадцать лет».
Вот это - о кладбищах - поразило старика больше всего. Он представил, как по его Анастасии идет трактор, как хрустит и вжимается в землю крест, - нет, это было невыносимо.
Но сыновьям, видно, крепко приказали что-то решать с отцом. Они приехали на тракторе с прицепом, стали молча выносить и грузить вещи старика: постель, посуду, настенное зеркало. Старик молчал. Они подошли к нему и объявили, что, если он не поедет, его увезут насильно. Он не поверил, стал вырываться. Про себя он решил, что будет жить в лесу, выкопает землянку. Сыновья связали отца: «Прости, отец», - посадили в тракторную тележку и повезли. Старик мотал головой и скрипел зубами. Песик бежал за трактором, а кот на полдороге вырвался из рук одного из сыновей и убежал обратно в деревню.
Больше старик не сказал никому ни слова.
КИЛЬМЕЗЬ - СЕРДЦЕ МОЕ
Родина. Сколько наших молитв, сколько снов и воспоминаний о тебе занимает места в нашей жизни! И с годами все больше и больше. Родина не материальна, она духовна. Уже все легче, даже с облегчением, расстаюсь я с окружающими меня предметами, не утащу же в могилу ни квартиры, ни картин, ни книг, ни серванта, «холодильник, рыдая, за гробом моим не пойдет»; все больше забываю, что было со мною вчера, но все обостреннее, все больнее, все мучительнее вспоминаю начало жизни, зарю утреннюю, милую мою Кильмезь, огромное село на Великом Сибирском тракте. Упали и сгнили екатерининские березы, посаженные вдоль него, черневшие еще при отцах и дедах, металась от берега к берегу, мелела и мучилась наша любимая река Кильмезь, по имени которой и названо село, а память росла и становилась нетленной.
Память - главное, может быть, составляющее качество души. Милосерд Господь - спасает нас памятью о родине.
Весь мир жил в моем сердце, когда был молод и дерзал спасти человечество, а сейчас в сердце живет только родина. Мир, по грехам своим, обречен, но, Господи, молю я, спаси мою родину. Спаси Кильмезь, ее дома, улицы, тропинки, крутой обрыв, ее родники, ее высокие деревья. Когда читаю девяностый псалом и дохожу до слов «Не приидет к тебе зло и рана не приближится телеси твоему», я всегда вспоминаю Кильмезь.
Я был мал и открыт и виден со всех сторон на просторах родины. И остался маленьким, даже больше маленьким, чем был. Потому что выросли новые деревья, утопили село в своей летней зелени и осеннем золоте, зимнем серебре, улицы и дома прижались к земле и цветам, и все время взгляд мой взлетал к вершинам, к небу.
Как же я давно не был в Кильмези, вечность. И, приехав на могилы бабушек и дедушек, я приехал еще и на будущую могилу своего сердца. Оно живет в Кильмези, душа моя летает над Кильмезью, какое же, теперь уже неотнимаемое счастье, что родился именно здесь. В лучшем месте подлунного мира. И та песчинка, которая была встревожена моими босыми ногами, и поднялась силою ветра в воздух, и стала летать над планетой, заставала меня в самых разных местах. В Северной Африке я видел русских скворцов и плакал от песчинки, попавшей в глаз, в Японии я восхищался ее красотами и электронными карпами, плавающими в жидком стекле яркой витрины, во Франции... Но что перечислять страны, это география, везде, везде я знал, видел и понимал, что нет в мире таких красот, такой сердечности природы, как в Кильмези. Какие самолеты, над какими океанами несли мое грешное тело, а ум и память улетали в кильмезские пределы.
Эти дни, прожитые в Кильмези, были на грани жизни и смерти. Молюсь же я ежедневно о милости Божией - упокоить меня на родине, и вот, в эти дни мне часто казалось - молитвы мои услышаны: сердце, соединившись с сердцем детства и юности, так расширилось, что я задыхался, много раз мне казалось - сердце не выдержит. Где был, куда шел, с кем говорил? Я обнаруживал себя то на Красной горе, то на микваровских лугах, то на Колхозной улице, то на Школьной, то на Промысловой, то на Труда и, конечно, все время на Советской (Троицкой), где был и есть наш дом. Я подходил к нему ночью, касался стен, поднимался на крыльцо, спотыкался в зарослях искалеченного заросшего двора, прислонялся к березе, посаженной мною в год окончания школы. Господи! Дождь шелестел, деревья меня узнавали, церковь стояла белеющая во мраке.
Видимо, я производил впечатление не совсем нормального: говорил не в такт, отвечал на вопросы не то и не так, как ожидали. Забывал подаренные банки с вареньем, не от того забывал, что пренебрегал, как же - это же с родины! От того, что опять куда-то шел или куда-то везли.
Огромным крестом легли мои дороги этих дней. Из Вятки, с севера я приехал, пролетев мимо селений с потрясающими названиями Каменный Перебор и Рыбная Ватага, промчавшись мимо лесоучастка Ломик, от которого остался один дом, а когда-то тут было лесничество, отец мой был лесничим, первые три года жизни я был тут, потом, пролетев еще восемнадцать километров до Кильмези, я на следующий день был на западе района, в Троицком и Селино. Потом был на юге, в Пореке, Кабачках и Константиновке, а в последний день - на востоке, в Вихарево и Дамаски-но. То есть при взгляде сверху, из поднебесья, это крест на пространстве моей родины. Это молитва моя о спасении отчей земли.
Почему-то я всегда знал, что буду жить в Москве. В каком-то месте моего детства какой-то взрослый спросил меня: «Хочешь Москву увидать?» - «Хочу». Он схватил меня за голову, за уши и оторвал от земли: «Видишь Москву?» Я вырвался и побежал, чтоб никто не видел мои закипевшие слезы. И все говорил себе: «Увижу, увижу Москву!» Увидел и живу. А главное мое предчувствие (а что есть жизнь, как не переживание предчувствий) - это то, что я всегда буду тосковать о Кильмези. Мы уезжали из Кильмези, мама сказала: «Не оглядывайся, тосковать будешь». Я оглянулся.
Как хорошо получилось, что родина от меня на востоке, что, стоя перед иконами алтарей и перед домашним иконостасом, я обращаюсь не просто к ожиданию Пришествия Христова, но и к родине.
Как царственно сияли эти четыре дня, как, думаю, отдыхал мой ангел-хранитель, зная, что на родине ничего со мною, кроме хорошего, не случится. Вот я сижу в теплоте и темноте прохладной ночи около окна, на которое не смел и глянуть сорок лет назад. Сорок! Взмах ресниц, как говорят на Востоке. Цокали где-то по асфальту каблучки, конечно, красавицы; далеко на окраине внезапно трещала бензопила и глохла, пропархивали мотоциклы, и снова успокаивалась тишина. Даже петухи не кричали, а отмечались вполголоса. Я замирал, сливаясь с тишиной, с селом, со звездами и новой луной над ним, и не было ничего на свете, кроме моего села. Нет, не хочу даже думать, что с Кильмезью может что-то случиться, нет, она вне времен. Она одна такая, она легко, по праву своей красоты, сохранится хотя бы для того, чтобы люди знали, каким должно быть русское селение.
Как милосердие валил меня сон в номере на втором этаже гостиницы, но уже раным-рано я вставал и шел, ступая неотдохнувшими, гудящими ногами по пустому селу. Все откликалось мне: особенно старые заборы, серебряные крыши, знакомые дома. Кто-то останавливал, с кем-то говорил, но настолько это все было неважно, главное было - я в Кильмези. Это как с любимой: разве важно, о чем говоришь, лишь бы любимая была рядом. Я боялся громко ступать, причинить боль земле родины, нагибался и гладил ладошкой подорожник.
Конечно, первое, что я надеялся свершить в Кильмези и свершил, -это причастился, отстоял литургию. Второе - пошел на кладбище.
И долго искал могилки дедушки и бабушки. И отчаялся и взмолился: «Бабушка, ну где же ты?» - и открылся крест с надписью. А вот и дедушка. Это по отцу.
А день спустя был на могилках дедушки и бабушки по маме. И тоже долго искал, и тоже взмолился, и тоже нашел. И пал на могилку, и долго и счастливо плакал... Дай Бог доброго здоровья отцу Александру: мы отслужили в память об ушедших от нас панихидку.
Я пишу, я как будто отчитываюсь перед любящей меня женщиной за эти дни разлуки с нею. Милая, мы так быстро промчим дни от колыбели до гроба, видишь эти серые светлые падающие кресты и одолевающую их крапиву, мы с тобою так на мало пришли в этот мир, дни наши кратки, а родина вечна. В Кильмези я почувствовал вечность. Особенно в Троицком, особенно на месте той церкви, около которой был пионерский лагерь, которого я, совсем мальчишкой, был начальником. Церкви нет. Как нет? Да так и нет. Разобрали и использовали при строительстве дороги. И мы несемся по этой дороге с большой скоростью, чтобы принестись к пустому месту. Но Бог так благоволил, что бывшие стены и алтарь храма четко отмечены березками и очертание церкви взывает к молитве.
В Кильмези я впервые поднял глаза к небесам, в Кильмези увидел цветение и умирание всего живого, здесь, здесь впервые поцеловался, здесь впервые увидел возвышенный над толпою, плывущий на Страшный Суд гроб с покойником, здесь крал сирень для нее, для единственной, и спустя время крал астры для новой единственной, по этой улице, навстречу солнцу, шагал с граблями и вилами на плече, на лесные луга за Вороньем, а сюда, по берегу, за судострой, как его звали, за лесопилку, шел на заречные луга, сюда, по Красной горе и дальше, шел на Вичмарь, на кирпичный завод, сюда и здесь. Нет ни одной тропинки, ни одной доски деревянного, давно истопленного в зимних печах тротуара, куда бы ни ступала моя нога, босая, или в валенках, или в сапогах, или, уж совсем по-модному, в ботинках. Но где, где то место, на котором я услышал, как меня окликнули? Или кто-то окликнул. Кто? Этот оклик явственно слышу всю жизнь. Это было за школой, на дороге к логу.
Было солнце, весна, голод. Я выдирал из земли какие-то корни и ел. Цвели мелкие липкие цветы, я собирал их, чтобы принести маме. По примеру отца, он всегда приносил цветы. Вообще у нас в доме всегда были цветы. И под окном тоже. И всю жизнь со мною цветы. И я очень рад, что жена моя отдает всю маленькую трехсоточную одворицу нашего подмосковного полдомика только под цветы. О, вопрос о жене в Кильмези был первейший. Кто такая, откуда? Как смогла нашего Володю захороводить? «Не вятская, - признавался я, - но тоже хорошая».
Да, но тот день, тот оклик с небес, ведь он был, ведь я его не выдумал, я слышал. Я бежал с цветами для мамы, с хвощами для младших брата и сестренки. Старшие, казалось мне, заботились о себе сами, а о младших должен был заботиться я. С небес, с небес меня окликнули. Назвали по имени. Я замер, ждал, что еще что-то услышу. Нет, тихо. Помню дорогу, на которой стоял, темно-желтую пашню справа и траву слева. И этот голос, глас, оклик. Ну не выдумал же я его. Значит, я был не один среди пространства, Берегущий меня сказал мне: «Не бойся, Я с тобою».
А еще в этот год было паломничество на Святую Землю. Везде: и в Иерусалиме, и в Вифлееме, и в Назарете, на Фаворе, в Тивериаде, Хевроне, Иерихоне - везде молился о родине, о России. Неужели такая нам суждена кара, что Россия погибнет при нас? Нам ведь тогда не отмолиться. Не на пустое место мы пришли в мир, делали первые шаги по земле Святой Руси; неужели закончим свой путь, шагая по черным пустырям и белым костям?
* * *
Вот тут росли высокие мальвы, стояла скамья, на которой столько много сказано тихого и нежного; как легкая целебная паутина, висят в воздухе те забытые слова. Слова забыты, но не любовь. Разве забыты пылающие костры осени, в которых сгорала листва и небо приближалось к начинающим дымить трубам, разве забыты яркие снега январского рождественского полудня, а весна! Ее разливы, ее пушистые вербы, прилетавшие с юга птицы. И теплая вода Поповского озера, и девчонки в коронах из цветов кувшинок, и ромашки. Бархатная ласковая пыль летних дорог, долгие светлые вечера, когда вся кильмезская молодежь гуляла от аптеки до почты по деревянным мостовым центральной улицы. Ничего не прошло! Все только укрупнилось. Это надо было пройти весь мир: узкие шумные улицы Ближнего Востока, Северной Африки, мостовые Рима, мосты Венеции, Елисейские поля Парижа, все придунайские и прирейнские страны, весь Восток, чтобы понять: лучше Кильмези -только рай небесный.
Такое ощущение, что я всегда жил одновременно и в Кильмези и в постижении мира. Слышал прекрасную музыку и представлял ее звучащей над родимым селом, заставал ли где дождь, он слышался мне в шорохе воды сквозь листву деревьев Кильмези; восходила луна - и я видел ее сияние на замерших к ночи цветах кильмезских палисадников. Вообще, если говорить о луне, то она в Кильмези своя, одна такая, больше я такой луны нигде не видел. Так сотворил нас Господь, что, пройдя путь от детства к старости, мы возвращаемся к детству, не впадаем в него, а вновь проживаем в своей памяти. Жизнь была долгая - все обиды забылись, осталась радость.
Люди стареют быстрее домов, дома стареют раньше деревьев, но и деревья, возвысясь до отведенного им предела, умирают, а память -главная часть души, с годами молодеет. И понимаешь, что все было неслучайно: взгляд, дорога, слезы, торопливые письма, нервные звонки, -все укладывалось в памяти и жило в ней в своем порядке, не так, как мы, люди века сего, жили, а как надо б было жить. Но уж не переживешь заново, и не надо, и то слава Богу. Сколько сверстников и более молодых ушли в иные пределы.
Перед отъездом я еще пришел на кладбище и ходил по нему, будто тоже по Кильмези, но уже по другой, таинственной и притягательной. Как уходили односельчане, как прощались с нами, почему так рано ушли от ослепительного сияния ночных созвездий, от летнего зноя, от весенней сырости? Почему перестали смотреть на радугу, такую близкую и недостижимую, как понять? Они ушли в иные дали, где нет воздыханий и горестей, но жизнь безконечная.
Время сильнее пространства - вот я вновь уезжаю из Кильмези, вновь оглядываюсь, и так щемит сердце, как будто больше не приеду, будто увижу Кильмезь только из запредельных высот. Летит машина к северу, вышли на обочину, и стоят ребятишки с ведрами брусники, собранной под соснами страны детства. Колеса крутятся, натягивают нить пространства, она вот-вот оборвется... Лес, поле, засветился восток, начались мысли о дальнейшей жизни, нить истончается, слабеет... оборвалась.
И вновь я живу или думаю, что живу, вдали от родины, в столице России. Но ведь надо же и здесь жить русским людям. Не отдавать же врагам Москву. Но сердце мое в Кильмези. И минуты счастья от пребывания в ней я увеличиваю часами воспоминаний. Я мысленно иду от любого места любимого села к любому другому месту, будто меня кто позвал или попросил моей помощи.
Кильмезь - сердце мое. Я долго жил, и жил только для того, чтобы понять, что все земное - пролог к вечности. Но если Кильмезь - пролог к вечности, ее предисловие, начало, то какова же вечность? Какую заслужим.
Кильмезь, Кильмезь, счастье мое земное, предтеча небесного. Если я помню тебя, значит, и ты помнишь. Просыпаюсь ночью, обращаюсь к востоку, и вижу его в тихом золотом пламени лампады, освещающем иконы, и прошу восхода солнца на каждый день, и жду его. И дожидаюсь. А как иначе - оно же с родины. А родина моя не оставит Россию без солнца.
ГОЛУБОК
Приехал в Никольское. Зима, еще темно, холодно. Вытаскиваю из сумки ключи и даже вздрогнул - под крыльцом кто-то зашевелился. А это голубь. Белый, маленький, весь замерзший. Даже и сил у него не было отбежать. Внес я его в дом, посадил на тряпочку в кухне. Стал хлопотать. Налил в блюдечко воды, в другое мелко-мелко накрошил сыра, положил еще кусочек масла. Еще растер в порошок печенишко. Пододвинул поближе. Но голубь даже и не смотрел. Видимо, так замерз, что было не до еды.
Позвонил жене. Она сразу решила, что это появление не к добру: кто-то умрет.
- Да ты что, он же к нам прилетел, надеется, что поможем.
Часа два он отогревался. Стал вставать. Приподнимется - падает. Да, видно, не жилец.
Наконец голубь встал и немного прошел. И опять лег. А шел он, я заметил, к солнечному свету. День был солнечный, на полу светло и тепло. Я стал пододвигать еду, но голубь боялся и шарахался. Я оставил его в покое, занялся делами, но все время думал: куда я с этим голубем? Он тем временем двигался по дому вслед за солнышком. И как-то начал крутить головкой, и сам стал крутиться. Я подумал, это какая-то судорога у него. Но пригляделся - нет, он такой концерт давал. И крылья распускал, и крылом подшаркивал. По этому подшаркиванию я понял, что прилетела ко мне не голубка, а голубок.
И я к нему очень за полдня привык и привязался. Он уже не боялся меня. Хотя на руки не шел. Но куда я с ним? Куда его дальше? Я же тут постоянно не живу, а в этот день и ночевать никак не мог, а в город разве повезешь?
Может быть, соседям отдать? Соседи - люди сердобольные, они бы и согласились, тем более когда посмотрели, какой голубь белоснежный. Но у них кот. И не простой, а хищник, каких мало. Он у нас в позапрошлом году разорил скворечник, сожрал птенцов. Мы уж боялись - не прилетят больше скворцы. Нет, спасибо им, вернулись. Я целую бухту проволоки намотал на шест, на котором скворечник укреплен, такую защиту сделал. Кот ее не смог преодолеть, хотя пытался и возмущенно орал. Потом замолчал, но у шеста сидел постоянно. Ждал, наверное, что скворчики упадут. Но не упали, выросли, выучились летать и умахали в теплые страны. Будем весной снова ждать.
Так что кот этот и голубя бы обязательно сожрал. Он и теперь ходил по полу у ног и на нас поглядывал, будто понимал, о чем говорим. Вообще, этот кот был красоты необыкновенной. Я его, наверное, тогда, когда он нас скворцов лишил, прямо убить хотел или хотя бы отлупить, но он так преданно глядел, так переливалась на нем дымчатая шерсть, будто он ни при чем.
- Что, - спросил я его, - и голубя сожрешь?
- Запросто, - ответила за него хозяйка. - Так устроен.
Стали мы переживать и думать. И придумали. В Никольском жил Николай Никитич, пенсионер, он держал голубятню. Именно белых голубей. Целую стаю. Когда он их выпускал, они делали такие белые круги над Никольским, что любо-дорого. Особенно когда вся стая, как по команде, меняла курс и крылышки, как зеркала, отражали свет солнца.
И поймал я своего ожившего голубочка, засунул под куртку и пошел к Николаю. Голубок переживал и шевелился. Пришел, а на дверях: «Осторожно, злая собака!» Каково? Стал кричать: «Хозяева!» Глухо. Но и собака не лаяла. Стал искать палку. Нашел. Медленно шагал по двору. Голубь понял, видимо, мое состояние и сидел тихо.
Дом был открыт, я постучался и вошел. Николай лежал на диване. Я все объяснил.
- Это, скорей всего, твой.
- Может быть. - Николай как-то очень ловко взял голубка из моих рук, оглядел. - К стае посажу. Там и зерно, и все. Облетается.
- Не заклюют?
- Зачем?
Мы еще немного поговорили, и Николай пошел меня проводить. Оказалось, очень даже не напрасно, ибо из-под крыльца вывернулся на свет такой громадный пес, и так он перед хозяином показывал усердие, так лаял на меня, что палка моя показалась мне жалким прутиком.
У калитки мы простились. Пес все лаял и лаял. Я пошел и потом все жалел, что не погладил на прощание голубка.
Теперь думаю: когда взлетит белая стая голубей над Никольским, разгляжу ли в ней своего недолгого зимнего гостя?
ПОЗДНЯЯ ПАСХА
Когда я был маленьким, то были большие гонения на православие. Но все равно день Пасхи был очень радостным. Красили яйца, в доме пахло стряпней, надевали чистые белые рубахи, тогда еще без манжет, с широкими рукавами. Яйца из опасения не давали выносить на улицу, но разве удержишь в избе такую радость - конечно, мы брали их с собою.
В тот год была поздняя Пасха, было тепло, зелень вовсю. И мы решили в этот день выкупаться. Первое купание всегда волновало. Но я не о нем.
Мы уже выкупались, грелись на песке, когда кто-то дал мне посмотреть сквозь цветное стекло. Помню, я отошел от всех и поглядел - и содрогнулся: все стало другим. Весь мир стал другим. Все преобразилось, изменилось, все стало мягче и резче. И как-то тише стало. Облака замерли, солнце сбавило напор, даже ощутилась прохлада. Были полдень, река, плывущие бревна, желтый песок за рекой, зелень и серебро лопухов мать-и-мачехи, длинные тонкие ветви ивы - все стало будто только что возникшим, умиротворенным, лишенным опасности. В реке стало невозможно утонуть, из кустов не могла выползти змея, с обрыва нельзя было упасть. Было ощущение, что время остановилось. Помню свой восторг, даже то, что я восхищенно и судорожно вдохнул воздух и так и стоял, не смея передохнуть и чувствуя себя легко-легко.
.. .И вот прошла целая жизнь, и это состояние повторилось.
У меня умер отец. А я в это время был в Италии, на Капри, на каком-то международном симпозиуме. Главное было не в симпозиуме, не в докладах друг для друга, а в том, что мы на Капри, что такая хорошая погода, что виден Везувий. Я вовсю купался, хотя был конец ноября. А ведь знал, знал, что отец неизлечимо болен. Только что, до Италии, я ездил в Вятку и, прощаясь с ним, обещал привезти заграничного питья. Он уже почти не говорил и только рукой махнул.
Меня разыскали и сказали, что что-то с отцом. Ясно всем было, что именно. Все было как-то нелепо и неестественно: быть среди цветущей, висящей везде зелени, сидеть на террасе, вынесенной далеко над крутым обрывом в море, и вдруг эти слова о том, что что-то с отцом, ищут через посольство. Я пошел собираться. Стали звонить в Рим, в «Аэрофлот». К счастью, в делегации был батюшка, говорящий на всех языках. Он, видя, как мы бьемся и не можем пробиться, стал сам звонить. Вычислил по карте, где этот «Аэрофлот», позвонил в храм рядом с ним, попросил кого-то, чтоб сходили в агентство и ответили нам. Батюшка заказал билет. Я помчался на паром, все вниз и вниз. По дороге сломал несколько ярко-розовых веток - положить в гроб. Так и подумал: положить в гроб. На пароме, почти пустом, заносящем при выходе из бухты корму и ложащемся на курс, глядя на молчащий Везувий, я вдруг сказал громко:
- Чего ж ты, отец, меня сиротой-то оставляешь... - и разревелся.
В Неаполе я сказал таксисту, как учил батюшка: «Стационе пэр Рома», что означало «Римский вокзал». В поезде сидел среди пьющих и поющих негров, потом пришел контролер и велел мне перейти в другой вагон: оказывается, у меня был первый класс. Там сидела бодрая старуха, заговорившая со мною. Я пожалел, что нет на нее батюшки.
В самолете до Москвы летел наш балет. Напрыгавшись на гастролях, балерины отдыхали, задрав в небо длинные ноги в черных колготках.
Из Шереметьева я сразу поехал на Ярославский, купил билет до Вятки на какой-то почтово-багажный поезд и тащился в нем почти сутки, имея попутчиком мужчину, который возвращался с похорон тещи и страдал то ли от похорон, то ли от поминок.
Господь был милостив к отцу: все прошло хорошо - и отпевание, когда в Троицком храме за рекой Вяткой враз было не менее десяти разноцветных гробов, и хорошее место на кладбище, и был даже такой знак в тот пасмурный день: когда установили крест, раздвинулись тучи, и к нам, на дно колодца, упал солнечный свет, да еще откуда ни возьмись прилетел и сел на крест белый голубок.
Вот. А вскоре я увидел тот самый цвет и свет, о котором говорил вначале. Это было под утро, в полусне-полуяви. Будто бы я молодой и влюбленный и будто бы я загулялся. Именно так я думал: что-то я загулялся, отец тревожится, надо скорее домой, отец ждет. И вот я иду домой, вот и наш дом: резные наличники, спокойно-золотые бревна, такая же, изнутри светящаяся крыша. Не ночь и не день. Ни луны, ни солнца. Ни лето, ни зима. Спокойно и тихо. И светло вокруг. И чисто, аккуратно. Дорога пыльная, пыль темного янтарного шелка. Травы склоненные, тут же тихое озеро. А дышать так привольно, на душе так спокойно, что думаю: дай посижу на крылечке, отец спит, приду чуть позже. То есть, очнувшись, я понял, что отец меня ждет, но что к нему я пока не пошел.
Есть, есть тот дивный свет и золотой цвет, тот воздух, та тишина, то спокойствие души, которое я видел и ощущал. И так хочется туда войти и остаться там. Но, видимо, еще не пора. Видимо, еще надо заслужить.
...И О ВСЕХ, КОГО НЕКОМУ ПОМЯНУТИ
От того, может быть, так тянет к себе кладбище, что оно означает для кого ближайшее, для кого отдаленное, но для всех неминуемое будущее. Ходишь по дорожкам, вроде как выбираешь себе место. Тихо, спокойно и на тесном городском, и, конечно, на просторном сельском. Кресты, памятники, оградки. Засохшие живые цветы и выцветшие искусственные.
Особенно хорошо на кладбище поздней осенью. Выпало немного снега, он лежит светлыми пятнами между могил. И всюду золотая пестрота умирающих листьев.
Но ни мрамор памятников, ни громкие фамилии лежащих под ними так не останавливают и так не волнуют меня, как безымянные холмики чьих-то могил. Кто там в земле? Кто-то же плакал здесь, кто-то же приходил сажать безсмертники, поливать цветы. И почему больше не приходят? Где они? Умерли и сами? Уехали? А может, просто так задавлены жизнью, что и умирать не думают и сюда не ходят.
В Димитриевскую родительскую субботу отец Александр служил панихиду. Я ему помогал. Перед началом написал большущий список имен своих родных и близких, уже ушедших в глубины земли. Но у самого батюшки списки поминаемых были вообще огромными, целые тетрадки имен усопших, убиенных, за Царя и веру, за страну нашу Российскую пострадавших. Батюшка читал и читал. Торопливо взглядывал я на них: там значились имена воинов, младенцев, даже и безымянных младенцев, погибших до рождения, и безчисленные ряды имен, имен, имен... Иногда грамотно: Иоанна, Симеона, Евфимия, Иакова, а иногда просто: Фисы, Пани, Саши...
Батюшка читал и читал. Вспомнил я иностранца, стоявшего со мною однажды на субботнем богослужении. Сказал он: «У нас все службы не более двадцати минут». А тут только зачитывание поминаемых имен заняло более получаса.
Так вот, зачем я все это вспомнил? Именно - из-за одних слов батюшки. Заканчивая поминовение, он, принимая в руки кадило и вознося его молитвенный дым, возгласил:
- Молимся тебе, Господи, и о всех православных, кого некому помянути.
И вот это «некому помянути» довело до слез.
Но как же некому? А мы? Мы, предстоящие престолу, в купели крестившиеся, как и те, безымянные для нас, но Господу ведомые? Мы же повторяем слова: «Имена же их ты, Господи, веси». Мы же с ними встретимся, мы же увидимся.
Будем поминать всех, от века почивших. Как знать, может, и наши могилки травой зарастут. Вдруг да и нас, кроме Господа, будет некому помянути.
РЕКА ЛОБАНЬ
До чего же красива река Лобань! Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать-и-мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганной и жмется к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поит корни могучего соснового бора.
Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга, а коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно, зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что прямо чуть не засыпаю. Слышу - к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву.
Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову и стоит неподвижно, и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день, ей лучше послушать говор реки.
Из леса с того берега выходит к воде лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается. И к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде. Она после маминого молочка не очень ему нравится, он фыркает. Все-таки он немного пьет и замечает корову. А корову, видно, кусает слепень, она встряхивает головой, колокольчик на шее брякает, лосенок пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие в иле ноги и уходит в кусты.
Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок.
Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах.
Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапогов сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком.
Надо идти вверх и вверх по Волге - матери русских рек, потом будут ее дочки: сильная суровая Кама и ласковая Вятка, а в Вятку впадает похожая на Иордан река Кильмезь, а уже в Кильмезь - Лобань.
Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать-и-мачехи, через сосновые боры, через хвойные леса, вы слышите ветер в листьях берез и осин и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и все. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той, близкой, стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее.
И редкие птицы будут лететь по середине Лобани, и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду.
Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода в берегах, только родина во все стороны света, только счастье, что она такая, красивая, спокойная, добрая.
И вот такая течет по ней река Лобань.
РАЙОНКА
Что меня сделало писателем? Конечно, это дар Божий, который принято называть призванием. Конечно, это непрестанное чтение книг. Конечно, это та языковая среда, в которой я вырастал. Среда чистейшая, незамутненная. Конечно, это наша Кильмезская школа. Конечно, это районная библиотека. И постоянная обязанность помогать взрослым в труде, и многое другое.
Но вывела меня в свет наша милая районка. И хотя я первый раз напечатался в областной молодежной газете, писать в газету начал в районную. Наш, лесхозовский, дом стоял рядом с редакцией, и я с малых лет видел чудо рождения газеты. Мы подкрадывались к окнам типографии и видели, как белый лист, запущенный в машину сверху, превращается в газетную страницу. Печатник Василий Евдокимович не гонял нас. Однажды летом, когда окна типографии были открыты, он выглянул и сказал:
- А нет такого желания, чтобы колесо покрутить, а? Крутильщица заболела.
Что говорить! Прямо через окно мы с братом влезли в помещение и ощутили его незабываемый запах: свинца, краски, а еще махорки. Табак Василий Евдокимович выращивал сам и шутил: «Табак оттого такой крепкий, что я, когда его поливаю, обзываю фашистом. Табак злится и становится злым».
Мы крутили колесо и от восторга не чувствовали усталости. Это кручение напоминало нашу ежедневную обязанность добывать воду из колодца. Чтобы извлечь на свет Божий ведро воды, надо было сделать шестьдесят оборотов рукояти. То есть вода была примерно на тридцати метрах глубины.
Здесь же были другие глубины. Они начинались блестящим свинцовым шрифтом, резиновым валиком, влажным от краски, стопой белой бумаги, все истончавшейся по мере печатания и после перекура переворачивавшейся на другую сторону и вновь заполняемую текстом и уже окончательно становящейся районной газетой «За социалистическую деревню». Это было чудо. А вот интересно: я сочинял стихи лет с восьми-девяти, но и мысли не возникало принести их в редакцию. В газете все серьезно - сводки о надоях, о лесовывозках, о заседаниях, а у меня «березы белые стоят, поднявшись в вышину, и тихо ветви их шумят, приветствуя весну». Это лирика. А вот политика: «Там, за океаном, лежит сэше и а. Там банкиры хочут войну разразить. Но вам страну советов не поработить! Мы резко вам дадим отпор, подпишем мирный договор!» А вот смелый взгляд в будущее: «Ракеты летят, сильный мороз. Берем билет, летим в космос». Я был мальчишка начитанный, но не всегда знал, где ставить ударение.
Ну вот, впервые печатаю свои стихи в районке спустя шестьдесят лет со дня написания. И ведь запомнились же! Это отрывки из больших поэм. А вот поэму «Два детства» хорошо бы тиснуть, но не вспомнить уже всю. В ней была истинно русская жалость к детям из стран капитала: «Трудно живется ребятам в Нью-Йорке, некогда там им кататься с горки. Трудно живется ребятам в Париже, нет у них ручек, нет у них книжек. Есть у них братья, есть у них сестры, все они маленьки, все они пестры. Их надо одеть, обуть, накормить, трудно им, ясно, жить». А вот описание вятского детства: «По ягоды собрались ребятишки. Вот взяли все корзиночки под мышки и вышли во лесок. Идут, и крепко жгет им ноги раскаленный песок...»
После поэтического отступления вернусь к районке. Думаю, что можно смело зачесть мне год работы за три - с таким рвением, с такой скоростью я писал передовые статьи, заметки, информации. А листаю подшивку - вроде что-то маловато моих подписей. Объяснимо просто: с нас требовали увеличения числа рабселькоров. Едешь (идешь) в командировку - обязан привезти, а то и отдиктовать по телефону три-четыре материала, но не от своего имени, а от имени доярок, трактористов, вальщиков леса, комбайнеров, свинарок. Так что, например, Будилов, вальщик, или водитель Пятов, или доярка Мальцева - это все я. То есть писал от их имени. Оно и сейчас так бывает. Но тогда было насилие над душами вот в чем: постоянно шли всякие съезды, сессии, выборы, и надо было именно к этим датам (а Первомай, а Октябрьские) подтасовывать статьи тружеников села и леса. Думаю, что это была одна из главных причин моего ухода из редакции в слесари по ремонту сельхозтехники. Это же мучение - ты пишешь за кого-то: «Идя навстречу Дню Конституции, беру на себя повышенные обязательства.» Потом надо, чтоб человек это подписал, чтоб потом не отвертелся. Очень похоже на милицейско-чекистскую практику - вырвать признание-обещание и заверить подписью.
И потом, эта чудовищная скорость написания, конвейер полос, это тоже до поры до времени. Хорошо научиться скорости, а когда думать? Когда читать? Когда писать то, что просится из души?
А из души просилась любовь. Молодой же был, влюблялся же! Какие стихи без любви? «О, я любил тебя и верил, что и меня ты тоже ждешь, когда ногами поле мерил и убирал комбайном рожь». Это я еще до редакции после девятого и десятого класса на комбайне работал. Влюблялся, конечно, в библиотекарш. Горько видеть сейчас забор, огородивший пространство вхождения в русскую и мировую классику. Что тут будет? Магазин? А их мало? А библиотека как Христа ради живет в гостинице.
Милая районка! Тебе сейчас еще тяжелее, чем всегда. Все понимаешь, сделать почти ничего не можешь. Но уже одно то хорошо, что пишешь о простых людях, о судьбах, соединяешь людей общей судьбой выживания в страшных условиях издевательства над всем святым. Чужебесие вторглось в Россию, разрушает семьи, развращает молодежь. Из последних сил наша «Трибунка» говорит: «Мы не только в лучшей стране мира, в России, мы в самом лучшем месте России, в Вятке. Тут, в кильмезских пределах, столько просияло жертвенных жизней, столько каторжного труда вложено в просторы этих полей и лесов, столько сынов и дочерей выращено для помощи Отечеству. Главное слово - Любовь -не должно покинуть страницы газеты. Любовь к Богу, Отечеству, друг к другу непременно спасет нас».
ГОСПОДЬ ПОСЕТИЛ
Много страшных развалин и пожарищ видел я в жизни. Сирия, Южная Осетия, Приднестровье. Лишенные жилищ люди, как тени, бродили по остаткам домов. Сердце мое болело за них, но все равно это было сострадание со стороны. И вот - посетил Господь и меня - сгорел мой родной дом. Дом детства, отрочества, юности. Из него я ушел в Советскую армию, в него приезжал, а последние десять лет вновь жил в нем, когда удавалось вырваться из каменных объятий столицы. Привозил сюда иконы, книги, рукописи. Коллекцию пасхальных яиц, дымковские игрушки. Картины. Готовил себе спокойную мемуарную старость.
Все сгорело.
Чернота, остатки обугленных стен, обгорелый потолок, упавший на остатки пола, и особый запах горя - запах горелого кирпича.
Первый сон после увиденного был такой: я лезу вверх по черной лестнице, пачкаю руки сажей, тороплюсь, но верхние перекладины лестницы еще горят и дымятся.
Так и надо мне по грехам, так и надо для вразумления - не копите богатство на земле, копите богатство нетленное на небесах. Вразумил Господь: ничего не надо собирать, забыл я разве притчу о богаче, который собирался выстроить житницы, собрать урожай, а после есть, пить, веселиться. «Безумный! В сию ночь истяжут душу у тебя».
Переживать несчастье помогали воспоминания об Иове Многострадальном, о Филарете Милостивом. Даже и Тютчев пригодился. Его срочно вызывали в Петербург из-за границы, и он при свече разбирал бумаги и многие сжигал в камине. А утром спохватился - сжег много нужного. «Я расстроился, - пишет он, - но воспоминание о пожаре Александрийской библиотеки меня утешило». А уж что мои книги, рукописи в сравнении с тютчевскими? Тем более ведь я уже дважды проходил через пожары. Дважды горели московские квартиры, первая не до конца, вторая полностью. Но здесь-то родина, и в этом все дело.
А вещи - дело наживное. Тем более во всем этом ужасе было одно радостное, самое главное утешение: сохранился крест. Родовой крест, который откопали на нашем дворе, когда строили баню. Когда взял его в руки, возликовала душа. Успокоился. Остальное переживу.
Но одна мысль терзает: как же, приезжая на родину, жить не в своем доме, а в гостинице или пусть даже у очень хороших людей?
Свой дом для меня не частная собственность, мне его в гроб не положить, это родовое гнездо, в котором я вывелся, вырос, откуда улетал и куда возвращался. Земля во дворе согрета моими босыми ногами. А сколько воды я выкачал из колодца, сколько вылил ее на грядки огорода. Какие мальвы росли в палисаднике, какие эскадрильи майских жуков гудели в ветвях березы, посаженной в год окончания школы.
Стою внутри бывшей квартиры, крещусь на то место, где у нас всегда была икона, а потом и мой иконостас. Теперь тут пустое пространство, которое безжалостно освещает зимнее солнце. Тянет сквозняком. Так тоскливо.
Еще жив железный лист у печки, на который или с вечера, или рано утром сваливали поленья. Печь уже всегда топилась, когда мы просыпались. Нас не будильник поднимал, а запах топленого масла, свежих лепешек, бульканье кипятка в чугуне, в котором варилась картошка. Уже отец и старший брат уносили в хлев приготовленные мамой пойло для коровы, корм для поросенка, теленка, овечек. Сестры причесывались. Дедушка на печи кряхтел и кашлял и обещал бросить курить. А ведь он и вправду бросил курить в семьдесят лет. И всегда любил жить у нас, а не у дочерей, которые все были городские и звали его к себе. Кипел самовар, пахло заваренной сушеной малиной. Мы с младшим братом успевали вытрясти половики, почистить в хлеве, проверить куриные гнезда. Потом все разом завтракали и шли в школу.
Как мы умещались в этом пространстве? И до чего же мы были дружны! И не говорили, что любим друг друга, этого и в заводе не было. Но проходили годы, и солнечное сияние детства не гасло, а разгоралось.
Вот почему тоскую и плачу - я пытаюсь вернуть счастье начала жизни, а мне его без родного дома не вернуть.
Ночью луна и ослепительные звезды. Таких нигде нет, только в Вятке. В серебре неба алмазы и бриллианты, все двенадцать драгоценных камней из города будущего. «А улицы там - чистое золото, как прозрачное стекло. Двенадцать ворот из двенадцати жемчужин. Ворота в городе не будут запираться, ночи там не будет, и не войдет в тот город ничто нечистое. И он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, но слава Божия осветила его». Так сказано нам в Откровении. И то, что мы доживем до этого города, точно. Войдем ли в него, другой вопрос. А до этого «земля и все дела на ней сгорят, небо совьется, как свиток». Но так еще хочется пожить и поработать во славу Божию.
Стою на морозе под небесами. Холодная луна освещает пожарище. Снег припорошил его, будто белые пуховые платки из милосердия наброшены на черные бревна.
Что ж делать, не я первый, не я последний погорелец на Святой Руси. Не ропщу, Господи, но так горько стоять на кладбище детства и юности...
ЛИСТ КУВШИНКИ
Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг, с годами, стал замечать, что мне очень небезразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелетов, но успокаиваю себя тем, что это, по крайней мере, гигиенично.
Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не все ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли - это я себе, видевшему крайние степени голода, - думать о форме, в которой питье или пища?
Не знаю, зачем зациклился вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но, завали меня всем этим с головой, все равно все победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники - вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнулся на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал ее ладошкой и предлагал возлюбленной.
- Нет, - сказала Валя, - я так не могу. Мне надо из чего-то.
И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся - заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнес любимой.
Она напилась. И мы поцеловались.
Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошел тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.
ЦВЕТОК С РОДИНКОЙ
Тебя звали Галя. А подлинное твое имя - Миннугуль, то есть, в переводе с татарского, Цветок с родинкой. У вас в семье были только девочки, четыре сестры: Минура, Фатима, Миннугуль и Фагиля. Все красавицы редчайшие. Все отличницы. Но самой красивой была ты, Галя. После школы ты, золотая медалистка, пришла работать корректором в районную газету, где я уже работал литсотрудником. Тогда я и понятия не имел, что нравлюсь тебе: был влюблен в библиотекаршу Валю. Скрыть это было невозможно, я и не скрывал, звонил в библиотеку из редакции, договаривался о встрече. «Сколько же мне было страданий, когда ты ей звонил», - говорила ты потом.
Однажды ответственный секретарь редакции Владимир Петрович послал меня к тебе с гранками для вычитки. Ты болела и читала их дома. В переулке Горького я нашел ваш маленький домик. Маленький и бедный снаружи, он был необыкновенно чист и наряден внутри. Валенки сами собой соскочили у меня с ног. Я стоял на цветных половиках, здоровался с грузной и суровой твоей матерью и объяснял ей, что принес Гале работу. И увидел тебя, выскочившую в переднюю в длинном татарском халате и резко покрасневшую, и в повороте взметнувшую огромной россыпью черных волос. Потом ты говорила, что именно тогда мать заметила твое чувство ко мне, и, когда я ушел, она сказала: «Убью, если выйдешь замуж за русского».
Следующим летом ты уехала поступать в институт и, конечно, с ходу поступила. А с библиотекаршей Валей все было покончено. И не по моей вине. И ее не виню: она была старше меня, а я уходил в армию, а это еще три года. Друзья и стихи помогли залечить рану, и вскоре сердце мое, хотя и ныло слегка, стало свободным. Тут в редакцию пришло письмо от Гали. Оно было как бы всем, но Владимир Петрович сказал: «Это Галя тебе написала». - «Да ну!» «Что “да ну”? Читай: “А кто сейчас носит гранки корректору, когда она болеет и сидит дома?”» - «И что?» -«Как и что? У нас теперь ее сестра работает, Фагиля. А тогда кто носил Гале гранки? Не доходит?» - «И что? Могла и сторожиха отнести. Вы же обычно ее посылали. Мне сказали: “Беги, помоложе”. Я вам просто под руку подвернулся». - «Обычно! Да только ты один, дурак, не знаешь, что Галя тебя любит».
Эти слова меня ошеломили. Оказывается, я любим. Да еще и крепко, как говорит Владимир Петрович.
Дома я долго смотрел на фотографию нашего выпуска. Мы учились в соседних классах. Конечно, Галя была самая красивая из всего выпуска. Как я, действительно дурак, этого не замечал?
Назавтра Владимир Петрович велел мне написать Гале ответ. Это было легко, я же не от себя писал, а «от имени и по поручению всегда тебя помнящего коллектива». Постарался весело рассказать о всегдашних наших страданиях: ломается часто печатная машина, бумага кончается, а дорогу на станцию замело и не чистят. В конце написал такую фразу: «Теперешняя корректорша не болеет, но если б и заболела, я бы гранки не понес, пусть несет сторожиха, так как тебя в твоем доме уже нет». На конверте написал обратный адрес уже не редакции, а свой. И Галя ответила уже только мне. Писала о городе, в котором учится, о грусти по нашему селу. «Очень скучаю». Это было подчеркнуто.
Переписка разгорелась. Вначале я воображал, что люблю Галю (долго ли поэту вообразить чувство?), потом понял, что влюбился, писал ей стихи, и однажды она написала: «Скрывать мне от тебя совершенно нечего: люблю тебя». Думаю, во всю следующую жизнь я не написал столько писем, сколько ей. Белые птицы конвертов летали над Россией.
Она не смогла, не было денег на дорогу, приехать на каникулы, работала в студенческом отряде, а меня Родина призвала в Советскую армию. И письма мои все стремились к ней. И встречались с теми, что посылались ею. Где мои письма, не знаю, а судьба Галиных писем печальна. Их просто-напросто старшина извлек из тумбочки и приказал сжечь. Я сказал: «Сам не буду». Старшина Липа, такая у него была фамилия, хладнокровно объявил мне три наряда вне очереди. Самое, может быть, тоскливое армейское стихотворение, я его не помню целиком, было: «Грею руки над костром из твоих писем, мне без них и горе и беда...»
Пролетело более полугода сержантской школы. У нее были студенческие зимние каникулы, и она приехала в Москву. Около Москвы, в Томилино, была наша часть. Галя сняла комнатку у старушки прямо у забора нашей части. Диво дивное, как она все сумела. Пришла на КПП, дозвонилась. Я твердо сказал замполиту: приехала невеста. Как он мог не отпустить меня, редактора газеты «Зенит», занявшей первое место в Московском округе ПВО? Я же и писал: «Да, газета “Зенит” в веках прозвенит». Дали увольнение на сутки.
Я страшно переживал. Позвал с собой друзей-земляков. Купили шампанского, водки постеснялись, еще и еды. Конечно, друзья знали о моей влюбленности, я же им показывал фотографию Гали. Но это фото, а тут она была вся живая. Красоты редчайшей. От нее вообще можно было зажмуриться. «Косметики, - писала она в письмах, - не выношу. Да и мама за косметику убьет». У нее была красота естественная, спокойная, я бы сказал. Она была сотворена, чтобы быть женой и матерью. Что-то плохое подумать о ней было просто невозможно. Одно только: как с такой красотой можно было жить, постоянно видя наведенные на себя восхищенные, влюбленные, потрясенные, жадные взгляды? Думаю, от того, что любящие женщины, любящие единственного, никаких других взглядов просто не замечают.
Галя была в темно-красном пальто и белой шапочке в контраст к своим блестящим черным волосам. Пришли в домик. Мы рванулись помочь ей снять пальто. Она засмеялась необыкновенно музыкальным, я бы сказал, грудным, ласковым смехом.
- Все вятские! - гордо представил я друзей.
- Вот здорово! - обрадовалась она.
Стали готовить застолье. Она всего привезла. Тогда мы впервые попробовали шоколадное масло. Проворно и ловко мелькали ее руки с перстеньками голубого и красного камешков. На ней было платье из плотной бордовой ткани, сшитое в талию, с белым воротничком под горлышком, что говорить!
У нас было очень хорошее, сердечное сидение за столом. Я даже своих друзей не узнавал: они стали какими-то размягченными, говорили о своих девушках, показывали их фотографии. Галя внимательно их рассматривала, всех очень хвалила, ребятам желала скорее отслужить и вернуться к любимым.
Парни восторженно пинали меня под столом армейскими сапогами. И вскоре засобирались. Все-таки они были в самоволке. Им надо было обязательно возвратиться до вечерней поверки. Вышел их проводить. Они крепко хлопали меня по плечам и спине.
Вернулся в дом. Она уже все убрала и повернулась ко мне. Две пуговки у горла были расстегнуты, рукава платья немного закатаны. Белые запястья обняли меня за шею.
Боже мой! Да что мы в своей юношеской дурацкой поре понимаем! Кто нас гонит, куда торопимся? Мы целовались, я рвал пуговицы на ее платье. Руки у меня тряслись.
- Знаешь что, - отстранившись, серьезно сказала Галя. - У нас с тобой сегодня ничего не будет. Я твоя и только твоя, но я хочу, чтобы все было не так. Ты понимаешь? А пока это было бы стыдно, это нехорошо.
- Но мы же поженимся.
- Конечно. Но до этого мне придется пройти через проклятие мамы.
- Она простит.
- О, ты не знаешь татар. Отвернись. Я лягу к стенке.
Я отвернулся. Летели мгновения, сердце падало и вздымалось.
- Ложись. Погаси свет.
Я щелкнул выключателем. Отстегнул ремень и швырнул его на пол. Стянул через голову гимнастерку. Она откинула одеяло и протянула руки.
- Посмотри, как светло! Светло же! Луна.
Да, луна. Лицо Гали среди простора черных волос, близкие глаза, вырезные губы, ее ласковость и ее твердость, когда я забывался и не верил, что она недоступна. Это была самая мучительная ночь моей жизни. Я так сжимал Галю, что сам удивлялся, как только ребра ее выдерживали такой напор.
Измученные поцелуями, объятиями, мы не спали всю ночь. Сколько же всего было сказано тогда, сколько летящего молчания отсчитывали торопливые удары сердца. Но я не мог переступить через ее умоляющие слова: «Потом, потом, у меня нет никого, кроме тебя. Все будет! Потом».
Я был уверен: она верила, что я не откажусь от обещания жениться, и даже очень просил ее ничего не бояться и рожать ребенка. «Я буду работать, поступлю на заочное». - «Хитрый какой: придешь из армии, а ребенок готовый? А до этого я кто? Мать-одиночка? Из общежития выгонят. Нет, хочу так: я готовлю обед и поглядываю в окно, а там ты с колясочкой и с книжкой. Не сердись, я верю тебе, верю! Считай, что все уже было». - И она, уже сама, стискивала мою шею. И опять начинались ласки до изнеможения.
И, спустя многие годы, я благодарен ей за снежную чистоту той ночи.
Луна, в самом деле, тогда была небывалая. Распалившись от ее горячего тела, укрощая себя, я выходил под ночные звезды, смотрел на покрытую инеем колючую проволоку над забором родной части. Понимал, что впереди еще два с половиной года, но думал: Галя с ее красотой и верностью поможет мне быстро их прожить. Смотрел на радостное лицо летящей сквозь легкие облака луны, и мне не верилось, что это не сон, что сейчас вернусь в тепло домика, где величайшее чудо - моя любовь -ждет меня.
Может быть, именно благодаря татарке Гале я полюбил восточную поэзию, и когда читал Низами, то место, когда Хосров увидел купающуюся Ширин, казалось мне написанным не о Ширин, а о Гале -Мин-нугуль. Это она вышла из одежд, сняла с себя украшения, распустила волосы и плывет, но не в персидских песках, а в русских снегах.
К утру мы окончательно измучили друг друга, но уже совсем не хотели спать. Я вышел из домика. Наступал рассвет. Умылся снегом.
Дальше? Еще месяца четыре неслись письма. И вдруг прекратились. С ее стороны. И тогда я совершил совершенно немыслимую самоволку: рванул в ее город. Господь спас, без увольнительной, без билета. Приехал ранним утром, нашел ее в общежитии, в комнате, кажется, на пятерых.
Мы вышли в коридор. Она была в халате, но уже не в татарском, длинном, а в городском, до колен. Свела руки на горле. Я кинулся обнять, она испуганно отстранилась. «Не надо! Прости меня! Больше не ищи и не пиши. Ни о чем не расспрашивай. Позабудь меня. У тебя будет все хорошо. У тебя будет хорошая жена. Все, все!» - и убежала.
Не знаю, что с ней произошло. Ну что? Может, какой заморский принц объявился, а может, все проще и грубее: кто-то силою взял ее. Может, мать приезжала? Галя была по-прежнему прекрасна, но бледна, печальна. Вся измененная. Что-то же случилось в ее жизни, но что?
Я вернулся в часть. До дембеля оставалось больше двух лет. «А нам с тобой, сержант Елеференко, служить еще, как медным котелкам». Или: «Да, нелегко, коль молодость в шинели, и юность перетянута ремнем» -стихи из той поры. «Мой милый друг, не надо грусти, придет приказ и нас отпустят». И лихой припев: «В дорогу, в дорогу, осталось нам немного носить свои петлички, погоны и лычки. Ну что же, ну что же, кто побыл в нашей коже, тот больше не захочет носить ее опять. Мы будем галстуки с тобой носить, без увольнительной в кино ходить, с хорошей девушкой гулять и никому не козырять».
Галя напророчила мне жену умную, красивую. Так и сбылось. Но Галю вспоминал. Бывал на родине, поневоле выслушивал новости о знакомых. Узнал, что Галя была в Сибири, сейчас директор техникума в одном из городов Пермской земли. В Перми у меня знакомые писатели, давний друг Анатолий. Они летели на выступления в этот город и пригласили меня. В городе я легко узнал адрес техникума, телефон директора. И даже вздрогнул, когда услышал ее голос, все тот же, грудной, слегка растянутый на последних слогах, и мысль мелькнула: все эти тридцать лет он звучал не для меня, как будто он должен был после той ночи замениться другим, обыденным. Я пригласил ее на ужин. «Со мною опять будут друзья, но уже не в шинелях». Она засмеялась. И смех ее был все тот же. - «Да, я их помню, очень хорошие». - «А как иначе - вятские».
Она пришла с подругой. Сказала, что на час. Друзья-писатели, когда ее увидели, ахнули. Надо себе представить, как может выглядеть женщина, когда свою природную красу дополняет красотой одеяния. А уж Галя, с ее профессией по тканям и нарядам, была такой магнитной, что и для красавиц Голливуда моделью недосягаемой. И, опять же, была без косметики. И губы были прежние, хотя уже немного скрытые легкой помадой. Глаза те же. Конечно, и морщиночки угадывались у глаз, но что морщиночки, когда в ней было главное - женственность. А женственность ни косметикой, ни фитнесом не наживешь. Тут душа нужна.
- Вовка, какой ты старый, - весело сказала Галя. - А борода зачем?
- Он у нас аксакал, - выручил меня друг.
Сели за столик. Желая как-то утеплить атмосферу, я бодро заговорил:
- Галя окончила школу с золотой медалью. Да и я неплохо: всего одна четверка в аттестате. Остальные...? Нет, не то вы подумали. Остальные тройки. Да, товарищи, все думают, что я умный, а на самом деле... так оно и есть.
Ресторан был хороший, это значит, в нем была негромкая музыка. Раздалось танго нашей юности. Я встал и склонился пред Галей, приглашая. Это была возможность поговорить наедине.
Взялся правой рукой за ее талию, а она, кладя свою руку на мое плечо, сказала:
- Заведут, бывало, на школьном вечере танго. Помнишь? А мы, дуры девчонки, стоим у печки и ждем вас, дураков, Никогда ж не пригласите. -«Все для тебя, и любовь, и мечты, - пел голос с пластинки. - Все это ты, моя любимая, все ты». Помолчали, слушая. - Галя, будто очнувшись, сказала: - А я знаю, у тебя замечательная жена Надя.
- Ты же напророчила. А.
- Обо мне не надо.
- Галя, - заговорил я, - или называть тебя Миннугуль?
- Хоть как. И так и так приятно. Меня уже вечность называют только с отчеством. Кто Галина Романовна, а кто и Миннугуль Рахимовна.
- Еще. Галя, у тебя случайно не сохранились мои письма? Я верну. Понимаешь, мне хочется вспомнить состояние того времени. Твои письма, - я запнулся, - уничтожил старшина.
- Ну и у меня нашлись уничтожатели. Не будем об этом.
- Да, прости. И последнее: а если бы мы тогда поженились, ты бы перешла в православие?
Она вздохнула, опустила глаза, потом подняла их:
- Ради тебя? Ради семьи? Конечно, да.
- А мама?
- Мама? Н-не знаю. Не сразу. Но появились бы внуки, она бы, конечно, в них вцепилась. Теперь уже мамы нет.
- Мне говорили. Галя, я почему спросил: помнишь, в повести «Бэла» Максим Максимыч очень жалеет, что не успел окрестить Бэлу, и она умерла мусульманкой. Жалеет от того, что она не встретится в загробном мире с тем, кого любит.
- Заканчивается, - это Галя заметила о музыке. Взглянула и улыбнулась: - Ох, как я вздрогнула, когда ты тогда бросил ремень на пол.
Мы вернулись за столик. Подвыпившие друзья весело спросили:
- Ну что, кричать «горько»?
- Да, горько. - Галя подняла бокал. - Зачем кричать? Можно просто прошептать.
Простились на освещенном крыльце. Они просили не провожать. Друзья и подруга деликатно отошли. Я взял ее руку и поцеловал.
- Я за полчаса уже привыкла к твоей бороде. Она тебе идет. Но тогда представить, что ты будешь с бородой... Пойду.
- Постой! - Я все еще надеялся на объяснение причины нашего разрыва.
После молчания она просто сказала:
- Это была лучшая ночь в моей жизни. Понимаешь. нет, ты мужчина, не поймешь. В ту ночь все было, все свершилось. Я стала женщиной именно с тобою. И потом я постоянно вспоминала этот домик, и всю жизнь схожу с ума в зимние лунные ночи. Я благодарна тебе, очень! За твою порядочность, за то, что ты меня пожалел. А иногда думаю: да почему ж ты меня пожалел? Ведь любил!
- Потому и пожалел.
- Да. - Еще помолчала: - А подлецы не жалеют. Пойду.
- Но в щеку тебя можно поцеловать?
Она засмеялась:
- От этого детей не бывает.
И сама поцеловала меня. Глаза ее заблестели. Подняла сверкающий каким-то мехом высокий воротник и скрыла в нем лицо.
Они ушли. Мы вернулись за стол.
Галя, потом я узнал значение твоего имени. В Тегеране на прессконференции объявили о выступлении поэтессы с именем Айгуль. Я сказал переводчику, что знал девушку по имени Миннугуль. «Это очень поэтично, - отвечал он, - это означает “цветок с родинкой”, то есть цветок (девушка), отмеченная знаком любви».
Вот и все про дивный татарский цветок с родинкой.
ЭТИ НЕПОНЯТНЫЕ РУССКИЕ
До меня дозвонился японский профессор-русист и попросил помочь в двух вопросах. Во-первых, помочь навестить известного русского писателя, который был за городом на излечении, а во-вторых, поговорить на одну, как он выразился, совсем не японскую тему. Но и не русскую.
Я согласился съездить даже с радостью: и с писателем повидаюсь, и за городом побываю, много ли мы на воздухе бываем.
- Давайте прямо с утра пораньше, - сказал я. - Доедем часа за три, много за четыре.
Профессор задал два вопроса:
- Прямо с утра пораньше - это когда? А много за четыре - это как?
- Ну, как выйдет, - отвечал я, - может, и в два с половиной получится. А с утра пораньше надо, с утра электрички лучше ходят.
- Как лучше ходят?
- Ну, особо не капризничают. А после десяти их лихорадит.
Профессор, видимо, решил, что наши электрички одушевленные существа: то они капризничают, то их лихорадит.
Ехать надо было с Белорусского вокзала. Мы договорились встретиться в семь у памятника Горькому - место заметное.
- С такси не связывайтесь, плюньте, - сказал я, - у вас прямая линия, без пересадок, «Театральная» - «Белорусская», а памятник среди площади, не растеряемся.
- Не растеряемся, будем находчивыми, так? - спросил профессор.
Утром, примчавшись на вокзал, я увидел в расписании, что есть
электричка до Можайска (а нам надо было до Кубинки), электричка хорошая, мало остановок, но она уходила именно в семь. И если мы только в семь увидимся, то придется полчаса ждать, ехать на бородинской почти со всеми остановками. Зная, что японцы - народ аккуратный, что профессор непременно будет ехать с запасом времени, я купил билеты и побежал к метро «Белорусская радиальная».
Изумленный профессор увидел меня, сходя с эскалатора.
- Мы сейчас, - спросил он, - пойдем встречаться к памятнику Горькому? Ведь это из-за него Чехов вышел из академии?
- Да, из-за него. Но он давно вышел, а электричка сейчас уходит. И потом, если мы уже встретились, зачем нам Горький? - отвечал я и, так как объяснять было некогда, тащил профессора на пятую платформу. Именно пятая значилась на табло.
Но когда мы прибежали на пятую, то по радио объявили, что электричка до Можайска уходит с четвертой. Повлек профессора обратно в тоннель. Профессор, видимо, решил, что я плохо знаю Белорусский вокзал.
В электричке, отдышавшись, мы стали разговаривать на ту тему, что в России большое пространство.
- Сколько земли, - восклицал профессор, когда между станциями мелькали два-три перелеска.
По проходу шла торговка пирожками, и профессор, несмотря на мой ужас, купил у нее штучку и стал откусывать по мелкому кусочку. Меня же угостил чем-то сушеным, рыбным, в плоском пакетике.
- Но все-таки спрошу, - сказал он. Видно, он думал над этим. -Если объявили, что поезд уходит с одной платформы, то почему он пришел на другую?
- А это стрелочник виноват, - ответил я, - стрелки перевел с похмелья, вот и все.
- Как с похмелья? - изумился профессор. - Стрелочнику же совершенно нельзя пить, это же очень серьезная профессия, это же связано с жизнью людей.
- Честно скажу: пьют, - отвечал я. - Это очень большой наш недостаток: пьют стрелочники, они, они у нас во всем виноваты.
Профессор доел пирожок, я доел сушеные волокна, кстати очень вкусные, и мы стали говорить о Чехове. Профессор находил сходство между Чеховым и писателем, к которому мы ехали.
- А как вы думаете, - спросил профессор, - Чехов был антисемитом?
- Я до таких тонкостей в Чехове не доходил, но думаю, что не был.
- Да, но рассказ «Тина»... - заговорил профессор. Это и был тот неяпонский вопрос, о котором просил поговорить с ним профессор.
- В Японии нет евреев, - объяснил профессор, - поэтому мы решили, что именно японцы разберутся в еврейской проблеме. Я этим стал заниматься, но у меня вопрос: почему нигде в мире ни Чехова, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Лескова, ни Гончарова - никого из русских мировых классиков не называют антисемитами, но я прочел их всех внимательно и видел у них многое по еврейскому вопросу. Даже у такого, как Тургенев.
- У него-то где? - спросил я, стыдясь того, что плохо знаю свою классику. А вот японец знает. О, эти японцы все знают.
- А у него в «Записках охотника» помещик Каратаев хвалит свою собаку, говорит, что даешь собаке кусок хлеба из левой руки и говоришь: жид ел, то собака не ест, а говоришь: барышня кушала, и даешь из правой руки, то собака возьмет.
- Так, а в чем тогда вопрос?
- Так вот, классиков не называют антисемитами, а я прочел всего Шукшина, Белова, Распутина, у них нет антисемитских высказываний, а их называют антисемитами. Почему?
- Спросите тех, кто называет. Для меня это тоже загадка. Да это еще что, у нас давно ли эти писатели в фашистах ходили, у нас даже слово «патриоты» оплевывалось.
- Это нас возмущало, - сказал профессор. - Японию после войны поднял только патриотизм. Всякое государство можно сохранить и укрепить только патриотизмом.
- Вот спасибо. Вот еще бы это демократам внушить.
- А наши демократы, - сказал профессор, - очень большие патриоты. А у вас патриоты - русские, а демократы - евреи. Может, от этого противоречия.
- Противоречие в вашем суждении. Как же евреи не патриоты, а евреи Израиля? Если б они не были патриотами, разве б туда стремились?
- Тогда вопрос прямой, можно?
- Только так и можно, - отвечал я.
- Есть ли в России антисемитизм?
- Тут я вам плохой помощник, - искренне отвечал я. - Я первого еврея в двадцать лет в армии увидел. Илюха Файбрун - хороший парень. Мы вместе боевые листки выпускали. Я сочинял, он переписывал. Правда, вот на учениях, например, я в противогазе бегу, а он на штабной машине. Но ведь опять же - сочинять-то тексты можно и на бегу, а ему планшетка нужна, бумага, перо. Почерк у него был хороший. Так что я сам виноват, мог бы и почерк выработать, в писаря бы пошел. Или в институте у нас был еврей, Семен. Тоже парень отличный. А я грузчиком работал на ткацкой фабрике. Он жил недалеко, попросил устроить на работу. В грузчики какая проблема, устроил. Только уже к вечеру первого дня я тюки с пряжей таскаю, а Сенька их считает. Зарплата у него даже и повыше - учетчик. Но мне интереснее было грузить, чем с карандашом сидеть.
- А серьезнее? - прижимал меня профессор. - Есть антисемитизм?
- Видимо, после революции был, - отвечал я. - Иначе зачем бы появился закон об антисемитизме. Слово «жид» нельзя было произнести...
- Но ведь жид и еврей не одно и то же, я изучал этимологию.
- Да мы слово «жид» не чем иным, как обозначением жадности, и не считали. В детстве, если кто жадный, ему говорили: а, жидишь!
- Да, да, - подхватил профессор. - И у Гоголя, когда Чичиков передал Плюшкину деньги, то тот «сразу ожидовел».
- Ну вот тем более, Плюшкин же не еврей, - обрадовался я поддержке Гоголя. - Или у нас была считалка: «Жид, жид, жид, по веревочке бежит, веревка оборвется, жид перевернется». Какой тут антисемитизм? Хотя потом, когда я был в Москве, рассказывали про анекдот тридцатых годов о том, как стоит мужчина на остановке, его спрашивают: ты что делаешь? Он хотел было ответить: трамвай подЖИДаю, да испугался и ответил не «поджидаю», а «подъевреиваю».
Профессор, посмотрев в книжечку, продолжал допрос:
- А не думаете ли вы, что антисемитизм имеет в основе антииудейство? У Пушкина в «Скупом рыцаре» рыцарь возмущен, что еврей-аптекарь предлагает рыцарю отравить скупого отца. Рыцарь его, еврея, прогоняет, говоря о деньгах, что они будут пахнуть «как сребреники пращура его». Он ведь имеет в виду Иуду и историю с тридцатью сребрениками? Так? Еще у Пушкина, когда пишет про гречанку: «Ко мне постучался презренный еврей». Есть же причина такого отношения.
- Мы почему-то и воробьев называли жидами, - я, к сожалению, не был столь силен в еврейском вопросе, как японец. - Я больше сужу не по науке, а по жизни. Вот опять же анекдот: «Беги, Абрам, погром!» - «А я по паспорту русский». - «А бьют не по паспорту, а по морде». Но это, я думаю, еврейский анекдот.
- Почему?
- У нас, как началась эта свистопляска с перестройкой, как пошел свальный грех демократии, так уж сколько про эти погромы кричали, даты называли - все вранье, в русских нет чувства мести. А евреи, что ж евреи, они как в псалмах Давидовых, как же им петь веселые песни в земле чужой. Они из глубины веков подпитываются чувством богоизбранности, превосходства, а мания величия обязательно вызывает манию преследования.
- Да, да, - поддакнул профессор. - Мы - буддисты - братья христианам, мы знаем, что богоизбранность одного народа кончилась на Голгофе, богоизбран тот, кто идет за Богом, а для него нет ни эллина, ни иудея.
Он погрузился в свою книжечку. Скоро доедем, думал я, глядя в мутное окно. Чем бы еще помочь профессору? Он сам все лучше меня знает. Но вот это надо сказать:
- Я вам рассказал анекдот про городской трамвай. Тут заметно, что человек боится, что за слово «жид», даже в корне слова под-жид-аю, его могут замести, забрать, привлечь, в общем. А я в селе вырастал, там, например, такие частушки пели вовсю еще безо всякой гласности: «На бочонке я сижу, а в бочонке кожа. Сталин Троцкому сказал: “Ты жидов-ска рожа”».
- А почему в бочонке кожа? - спросил профессор.
- Для рифмы. Но тут Сталин и Троцкий по разную сторону баррикад, а вот частушка, опять же открыто пели, в ней они объединены: «Сидит Сталин на березе, Троцкий выше, на ели. До чего, христопродавцы, вы Россию довели». Или народная частушка: «Ты Иван, и я Иван, голубые очи. Мы с тобой идем в забой, а евреи в Сочи». Одним словом, плохой я вам помощник. Вы меня лучше по русскому вопросу спрашивайте. А то кто послушает со стороны и решит, что мы с вами антисемиты. А мы просто занимаемся научными изысканиями.
- Но разве в электричке есть подслушивающие устройства? - забеспокоился профессор.
- Да если бы и были, она так гремит. Это не электричка от Токио до Киото. В ней и шептаться можно было. А мы подъезжаем.
Профессор захлопнул книжечку.
Выходя, я вспомнил, что и в «Капитанской дочке» есть одно место, там Зурин, обучая Гринева, говорит: «...придешь в местечко, чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов». Но не стал напоминать профессору, уже ясно, что и эта цитата есть у него. Да и что это добавляет?
Профессор уже в тамбуре спросил:
- Значит, бывает так, что закон говорит одно, а люди другое?
- Но, господин профессор, вы же занимаетесь Россией, как же иначе?
Профессор сверился с записной книжечкой, вздохнул:
- Даже у Толстого в «Анне Карениной»: «Дело было до жида, дожидался у жида».
- Язык такой русский, - оправдал я Толстого. - А знаете, на Украине Льва Толстого предлагают называть Левко Пузатый. Они против русификации.
Кубинка! Боже мой, вечность назад я служил тут в ракетных войсках. Но, оставив воспоминания, стал расспрашивать, на каком автобусе ехать до санатория. Отвечали: на двадцать восьмом. Вот и указатель: к двадцать восьмому. Мы пришли с профессором на привокзальную площадь и сели в двадцать восьмой. На всякий случай, и как будто кто меня подтолкнул, я спросил:
- Это двадцать восьмой?
- Нет, это сорок четвертый. А двадцать восьмой теперь ходит с другой стороны.
- Как же так? Написано же двадцать восьмой. И на указателе, и на остановке, и на автобусе.
- Все же знают, - хладнокровно отвечали нам.
На площади с другой стороны мы увидели битком набитый двадцать восьмой. Еле влезли. Тут уж я, конечно, спросил:
- Это двадцать восьмой?
На меня посмотрели как на дурака:
- Вы же садились, видели, в какой садитесь.
- Но вот мы так же сели в двадцать восьмой на той стороне, а оказался сорок четвертый.
- Так зачем вы на ту сторону пошли?
- На указателе написано.
- Мало ли что на указателе.
У меня хватило ума спросить:
- Мы до санатория доедем?
- Нет, - отвечали нам, - до санатория в другую сторону.
- Как же так, - спросил я, - говорили же, что тут конечная.
- Ну да, в ту сторону конечная, а от санатория в эту не конечная. Да вон он стоит.
Мы снова вылезли и пошли к двадцать восьмому автобусу, но закрытому, без водителя и кондуктора, хотя рядом стояли люди.
Они сказали, что автобус сейчас поедет.
Профессор спросил:
- А что это значит, когда нам ответили: «Мало ли что на указателе?»
- Значит то, что не надо верить указателям.
- Почему?
Я пожал плечами. Профессор стал изучать расписание движения и соображать, глядя на свои японские часы, когда же мы отправимся.
- Безполезно смотреть, - сказал ему пожилой мужчина. - Когда захотят, тогда и поедут.
- Но для чего расписание?
- Для модели.
- Для какой модели?
Мужчина тоже, как и я недавно, пожал плечами.
- Для какой модели? - спросил меня профессор, когда мы отошли. -Для модели движения?
- Скорее, для всяких комиссий. Придут, посмотрят - расписание есть, все в порядке.
- Комиссия движения? - стал уточнять профессор.
- Всякие бывают, - отвечал я.
Из того, переполненного, двадцать восьмого автобуса вышла кондукторша с сумкой. Автобус немедленно поехал. Видно, из-за нее и стоял. Кондукторша зашла в диспетчерскую, вышла из нее с другой женщиной, и они, открыв автобус, который мы ждали, вошли в него. Сели там завтракать. Хотя двери остались открытыми, нас туда не позвали, мы продолжали ждать. Подошли и водители, сразу трое. Они обсуждали вчерашние события: «А чего Колька сказал?» - «А Колька сказал: я с вами пить не буду. Это его точные слова. Так и сказал».
- А почему Колька не будет с ними пить? - спросил профессор.
- Разногласия какие-то.
- Но он же из их коллектива? Да? Значит, должен пить с ними.
Наша очередь росла и начала роптать. Но для водителей мы были
как пустое место. Кондукторши окончили завтрак, вылезли, мы самочинно заняли сиденья. Кондукторша пошла было к нам, но тут ее кто-то окликнул, и она стала говорить о рассаде. Пожилой мужчина осмелился спросить, когда же мы тронемся.
- А будете орать, вообще не поеду, - отвечал водитель, который уже занял свое место.
- Разве мы орем? - спросил я.
- А все равно, - ответил водитель. - Меня из гаража без техосмотра выпустили, я могу вообще не ехать. Или остановлюсь среди дороги и буду стоять. Имею право.
- Неужели он так поступит? - спросил меня профессор.
- Довезет, - ответил я.
Пришла кондукторша, стала обилечивать. Автобус завелся и тронулся. Кондукторша собирала плату, отрывая от катушки билетов на полцены, а то и вовсе не давала билетов. Тот, кто вовсе отказывался от билетов, тот платил полцены. Объяснить профессору такую сложную механику было невозможно. Он, бедный, уже и не спрашивал.
В санатории, у писателя, профессор пытался разобраться в увиденном. Профессор искренне решил, что я тоже ничего не понимаю. Если написано на автобусе двадцать восьмой, то почему он сорок четвертый? Если объявлено отправление с пятой платформы, то почему отправляют не с пятой? И так далее. И было ли такое во времена Чехова? И если было, то почему нигде у Чехова не отражено?
- Если и было, так он этого просто не замечал. Вы ко мне ехали? Давайте чай пить.
Во время чая мы решили, что классики закрыли тему антисемитизма, но что это не нравится современным критикам-стрелочникам, вот они и заставляют русских писателей продолжать эту тему.
А что касается автобусов и электричек, то ничего не было подстроено, что все нормально и что если изучаешь Россию, то надо быть ко всему готовым, даже к постоянной смене платформ, номеров, расписаний, критики, законов.
Одно только у нас неизменно - Россия.
Профессор поблагодарил, но все-таки вычитал из своей книжечки самый важный вопрос:
- Русские уйдут из мировой истории?
- Только вместе с ней, - отвечали мы.
ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ
Самой пронзительной мечтой моего детства было стать моряком. А военкомат послал меня в ракетную артиллерию. Тоже хорошо. Но стремление дышать воздухом морей и океанов было всегда. Помню учения «Океан» 1970 года на Северном флоте, я писал о них и жил на эсминце «Отрывистый». Тогда и познакомился с молодым выпускником морского училища, порывистым, вихрастым лейтенантом. Он не ходил, он летал по кораблю.
Тридцать лет прошло. Москва, патриаршая служба в память погибших моряков-подводников. Плачущий седой капитан первого ранга. Не чувствующий горячих капель воска, стекающих с горящей свечи, он отрешенно и горестно смотрел на алтарь. «Он! - толкнуло меня. - Он, тот лейтенант». У выхода я подождал его. Мы встретились глазами.
- Североморск, - сказал я, - эсминец «Отрывистый». Учения «Океан».
- Писатель! - воскликнул он. - Есенина читал. Чего ж ты такой старый?
- А жизнь-то какая!
Мы крепко обнялись. Не слушая никаких возражений, капитан первого ранга, сокращенно, по-морски, каперанг, или капраз, повез меня к себе.
- Море - это навсегда, - говорил он, лавируя на мокром шоссе рулем «Жигулей», как штурвалом катера. - Навсегда. Это ж про нас, мореманов, шутка: «Плюнь на грудь, не могу уснуть без шторма». Я после Северного флота везде посолился - и на Тихом, и на Черном, заканчивал в Генштабе. Сейчас... сейчас, ну что сейчас, живу.
И вот мы сидим в его квартире. Она настолько похожа на корабль, что, кажется, пройдет секунда и каперанг, прямо в шлепанцах, отдаст команду: «С якоря сниматься, по местам стоять!»
- Сегодня мне одна команда осталась, - невесело говорит он, - команда эта: «Отдать концы!» И отдам. И все мы, моего возраста мореманы, тоже. Зачем нам жить? Чтоб еще и еще видеть позор и поругание флота?
Я стараюсь успокоить моряка, но, конечно, это бесполезно. На стене карта «Мировой океан». На карте синими флажками места трагедий, кораблекрушений, катастроф. На южной части Баренцева моря нарисован черный крест, тут потопили атомную подлодку «Курск».
- Именно потопили, - говорит каперанг. - Сними с карты кортик, дай сюда. Нет, достань из ножен. Вот, кладу руку. Руби! Не бойся, руби. Я руку даю на отсечение, что «Курск» потопили американцы. Если у наших хватит смелости, это все узнают. У них, у натовцев, недавно был фильм «Охота за «Красным Октябрем», это рассказ о потоплении подлодки типа «Курск». Они, вопреки всем конвенциям, вошли в район учений, что уже за всеми пределами допустимого. И шарахнули, как акулы кита на мели. Шарахнули и добивали, чтоб никого в живых не осталось, чтоб без свидетелей. Чего ж не рубишь? Прав я, прав, с рукой останусь.
Каперанг тяжело дышит, глядит на стол. На столе по ранжиру стоят: бутылка водки, фляжка коньяку и пузырьки с сердечными каплями. Подумав, каперанг берется за самую маленькую емкость.
- Первым стал задницу америкашкам лизать Никита-кукурузник. Вроде смелый, по трибуне ботинком стучит, а новейшие корабли резали на металлолом, лучших офицеров увольняли. Помню, в газетах, в той же «Правде», всякие статьи, вот, мол, как полковник счастлив, что пошел в ученики слесаря на завод. Все Хрущ лысый! А свою трусость и подлость списал на батьку усатого. Мне батька тоже не икона, но нас при нем боялись. Боялись дяди Сэмы, и слоны их, и ослы боялись. Другого языка эти животные не понимают. Америку же образовала европейская шпана, отбросы каторжные, уголовщина. На индейское золото купили европейские мозги, вот и весь секрет. Про индейцев создали фильмы, мозги придумали конституцию. У них национальные интересы Штатов во всем мире. Я был у них на базе в штате Аризона, там огромный плакат. Глобальная власть Америки - контроль за всем миром. И не меньше. Леня еще Брежнев, как бывший вояка, держался, а уж Горбач, а уж Боря-хряк, эти подмахивали НАТО как могли. Заметил, что они ничего не вякали, когда парней пытались вытащить? И этот, теперешний, с ними встречается... Нет, пока он себя мужиком не проявит, ничего у него не выйдет. Слопают, или сам по-русски пошлет всех на три буквы и запьет. Вон Бакатин, мне говорили, пьет вмертвую. То есть совесть еще есть. А! - Каперанг взялся за емкость побольше. - Давай, не чокаясь, за парней. - Он выпил, и видно было, еле справился со слезами. Встал, подошел к окну, поглядел на московскую осень. Подошел к карте: - Где еще придется крест рисовать? А я ведь, знаешь, и не думал, что еще слезы остались, а за это время сколько раз прошибало. До какого сраму дожили: поехал наш пьяный боров в Берлин оркестром дирижировать, когда с позором нас из Европы гнали, э! Коньяк - это несерьезно, давай «кристалловской». - Каперанг успокоился, сел, смахнул на пол стопку газет. - Если б не эта зараза, да не этот вот, - он показал на телевизор, -мы бы выжили. Я когда энтэвэшников смотрю, я весь экран заплевываю. Думаешь, один я так? Все бы эти плевки на них, они бы в них захлебнулись. Вот телебашня горела не просто, как объясняют, мол, от перена-грузки. Конечно, и от жадности тоже, грузили провода по-черному, они и задымились. Но главное даже уже и башня не выдержала всего того срама, что ее заставляли передавать. Вещи и предметы не безгласны -это, кстати, моряки лучше всех знают. Да и вообще я к старости стал умные книги читать. Где я раньше был? Вот прочти у Иоанна Златоуста о зависимости погоды и урожаев от нравственности общества. Это очень точно. Я, кстати, опять же с детства знал пословицу «Что в народе, то в погоде», так ведь во всем. Вот я полошу начальство, вся страна полощет, но давай задумаемся: мы же их заслужили.
- Да! - резко вдруг сказал он, я даже вздрогнул. - Знаешь, когда мы первый раз серьезно по морде схлопотали?
- В Сербии?
- Точно. Бандиты и хамы бомбили братьев, мы только вякали протесты. Потом послали Красномордина замирять - еще бы, умеет, перед бандитами Басаева в Буденновске шестерил... А, чего-то я совсем разволновался.
Я стал было прощаться, но каперанг заявил:
- Нет, я тебя в таком настроении не отпущу, нет. Я близко знал нынешнего адмирала, для конспирации назову Черкашин, мы с ним на Черном болтались. А уже началась горбачевщина, он всем торопился доложить, что мы за мир, мы разоружаемся. Американцы трусы, поэтому слабину чувствуют. Стали к нам захаживать. Они и всегда-то в нейтральных водах паслись, тут стали наглеть: зайдут в территориальные наши воды, подразнят, потом хвостом вильнут. Мы докладываем: что делать? Нам: не конфликтовать. Ладно. Те хамеют, ходят по палубе в трусах, кричат: «Рашен, делай собрание, голосуй». Ладно. А этот Черкашин был вторым на эсминце. Я тогда был начальником боевой части. Сидим в кают-компании, материмся. Черкашин командиру говорит: «Товарищ командир, вы же два года без отпуска, пора же вам отдохнуть. Оставьте на меня корабль». Командир, золотой был мужик, вечная ему память, смеется: «Нет, Коля, боюсь, больно ты горяч, как бы международного скандала не наделал».
Ладно. А главком флота был, это был главком, он тоже в Москве зубами скрипел, мы ему прямую картинку показывали, он же видел, как янки к нам голым задом стоят. И вот - слушай. Не знаю, как они договорились, но думаю, что Черкашин это все сам проделал. Он заступил на вахту и ночью палубникам приказал все шлюпки, все, что за бортом висит, прибрать. То есть остались с чистыми бортами. Утро. Те, на крейсере, кофе попили, прут в наши воды, в наглую прут. Гляжу, Черкашин сам у руля. Те прут, они же привыкли, что мы безгласны, у нас же гласность только тут, - ка-перанг ткнул рукой в направлении телевизора. - Прут. Наш эсминец спокойнехонько пошел навстречу, сделал ювелирный маневр и навалился бортом на борт американца. Те охренели. Все их шлюпки захрустели, как орехи, бассейн на палубе к хренам расплескался. Мало того, Черкашин спокойно, но резко замедлил и еще протер их по борту. А дальше еще мощней. Отработал полный назад, потом полный вперед и навалился на другой борт и его прочистил.
- Боже ж ты мой, - воздел каперанг руки, - что началось! Через десять минут Горбач знал и разродился: разжаловать, наказать, посадить виновных, извиниться! Но главком, повторяю, мужик был от и до, тут же докладывает: накажем, уже наказали, виновного офицера представляем к суду чести, списываем на берег. Да, суд чести был честь по чести, так скажу, Черкашина качнули. А с эсминца, точно, списали... на другой эсминец. Командиром. Ты знаешь, я уверен, америкашки это очень хорошо помнят. Тогда ж сразу уползли в Стамбул бока шпаклевать. С ними только так. Только так. Во-первых, они не за деньги не рискуют, жадны, во-вторых, трусливы.
Но все время теперь будут кусать, как шакалы льва, который слабеет. Пока не дашь отпор, будут приставать.
Мы простились. Кортик со стуком вернулся в ножны и водрузился на место, в центр Мирового океана.
Он вышел меня проводить до лифта. Лифта не было почему-то.
- Чубайс электричество отключил, - невесело пошутил каперанг. -А знаешь, как он умирать будет? Он даже не помирать, он подыхать будет. На вонючем тюфяке и при свете огарка. Да. Остальные приватизаторы примерно так же. Я человек не злой, но знаю, что возмездие неотвратимо. Вот вы там пишете, что, мол, велика угроза Америки, это так, и мы об этом поговорили. Но главная угроза здесь. Не масоны окружили президента, а уголовники. За деньги накупили мест в Думе, депутаты у них - шестерки, уже им и цена известна. Криминал - вот угроза. Но, как всегда, наше дело правое, победа будет за нами. У уголовников и нравы уголовные. Знаешь, как говорится: «Жадность фраера сгубила», этих тоже сгубит. При условии, что они до тех пор нас не сгубят. Давай. Топай по трапам пешком. Да! - воскликнул он. - Самое главное, что ж вы не писали, что Сербию бомбили самолеты марки «Торнадо» и смерч «Торнадо» смел многие штаты тогда же. Возмездие же было. И еще будет. Держи пять, - сказал он, как говорят на флоте. - И крепко пожал руку и засмеялся: - Что же руку-то мне не отрубил, цела. А потому - прав я. Не бойсь, прорвемся! Главное - по местам стоять!
У ОТЦА И МАТЕРИ
Чем дальше по времени, тем ближе и сердечнее воспоминания о маме и папе. Вот я приехал, они очень рады. Стараюсь не огорчить их тем, что приехал совсем ненадолго.
Счастливое время. Долгие чаепития, разговоры.
- Как кто из детей приедет, я вся обрадею, наговориться не могу, -говорит мама. - И Коля, то все молчит, то не остановишь.
Царапается, просится в избу кошка, с ходу прыгает маме на колени. Она гладит ее:
- Нагулялась. Смотри, чтоб без последствий. До того кошки умные, прямо дивно. У нас одна жила, имя не помню. А вспомнила недавно, стали снимки кошек в газетах печатать, одна до того на нее очень похожая, может, как по родне. Таскала котят, приходилось топить, куда их? Раньше это за грех не считали, если слепыми утопить. Конечно, она переживала. И вот родила, но не в доме, а на сарае. Вижу, не стало ее дома. Прибежит, поест и убежит. Ясно, к ним. Но тут зима. Она, видно, забоялась, что замерзнут, и стала таскать в дом. Я на крыльце стою, она с котенком. Дверь ей открыла, она его под печку, и опять летит на сарай. Тащит второго. Снова под печку. Да и третьего. Да ведь опять побежала. И несет четвертого. Но этого уже под печку не сунула, оставила у порога. То ли он ей не нужен, то ли мне отдает, думает: пускай хоть одного утопят, остальных пожалеют. А как топить, когда они уже глядят, глазки открылись, все разглядывают. Нет, тут я не смогу. А жили на дворе лесхоза. Сидят мужики. Я к ним: «Не возьмет ли кто?» Один говорит: «Возьму. У нас кошки нет, а у вас кошка очень красивая». И взял. Сколько-то времени прошло, очень благодарил. Такая, говорит, хорошая выросла. Поет громко. И дети, говорит, рады-радехоньки. Ловистая.
- Какая, какая?
- Ловистая. Хорошо мышей ловит. Да у меня и остальных трех разобрали. Так моя-то, их мать, сколь была благодарна. Все поет, поет, о ноги трется.
Переходим на другую тему.
- Всяко нас от Бога отучали, - вспоминает мама. - Милиционера ставили, чтоб от всенощной отгоняли. На Пасху мы пошли к ночи. Идем, семь километров до Константиновки. Сколько-то не дошли, остановились как вкопанные - стая волков. Мы в друг друга вцепились. Потом дай Бог ножки! В церковь. И милиционер уже ушел. Волки нас задержали, а то бы записал. В церкви как раз успели к «Христос воскресе!». Все справили - исповедь и причастие. Батюшка спрашивает: «Не гуляешь с пареньками?» Я вся вскинулась: «Ой, нет, батюшка!» А до того, как мама учила, отвечала: «Грешна, грешна». Яйца освященные утром съели, скорлупу в карман - в грядки закопать.
На вечер мама приготовила уху - любимое блюдо отца. Да и мое тоже. Отец икает:
- Ой, хорошо: кто-то сытого помянул. Эх, уха без перца что женщина без сердца. А помнишь, мамочка, постановку ставили, «Любовь моряка»? Я же тогда тебя разглядел.
- Тогда? Надо же. Как не помнить. Первый и последний раз на сцене играла. Играла невесту моряка. Он возвращается, и они должны поцеловаться. Я ни в какую: убейте, не буду! Так завклубом: это же понарошку. Склонитесь просто головами, и все. На сцене я и отвернулась даже. А не знала, что тятя специально пришел посмотреть. Дома говорит: «Больше чтоб в клуб ни ногой! Вот вы зачем туда ходите». - «Тятя, тятя, дак мы ведь только вид делаем». Все равно не разрешил больше. И все. Слушались родителей. Прав тятя, не прав, слушались.
- А я, - говорит отец, - сказал своему отцу: так и так, мне очень Варя Смышляева нравится. Он сразу: надо посмотреть. Взяли хорошего вина, пошли. А ты уперлась и даже и не вышла.
- А ты что думал, что прямо вся и выставлюсь. У нас строго. Когда сваты приходили, нас с Енькой в подвал прятали, чтоб Нюрку взяли, она старшая. А когда Еню в Аргыж сватали, я тоже к соседям убежала.
- С отцом твоим говорили, он на сплаве, плотогон, я лесничий. Сразу мне правильная претензия - зачем березы идет больше елки. Елка же для подплава, без нее грузоединицы тонут.
- Ну-у, - говорит мама, - тятю ты враз обаял. Говорит потом: «Молодой, а толковый. Лесничий, это ведь по-старинному ваше благородие». И когда поженились, все не верил, что я тебе под пару. Как это, говорит, ты его на «ты» называешь? Читать вслух любили. Мама спрашивает тебя: «Коля, ладно ли она читает?»
- Обратно идем, мне отец: «Видел, какие у них полы, как вышорканы, прямо светятся. Видно, что семья трудовая, надо брать».
- Да, сейчас-то полы мыть за шутку: крашеные. А раньше скребли-скребли, терли-терли, два раза споласкивали, потом насухо.
- А давай в «дурачка»! - восклицает отец. - Ходи, изба, ходи, хата, ходи, курица мохната! Даешь лозунг: началась битва за урожай.
Входит внучка:
- Деда, где мои туфли?
- Я за имя не бегаю. А ты куда наладилась?
- С Надькой немного побыть.
- Да она, эта Надька, такая манихвостка, - говорит бабушка. - И еще ее-то бабушка с тобой не пустит. Сама ж ты передавала ее слова: «Ты, Надька, морковна и картофельна, а Тонька-то мясна да молочна». А кто им не давал козу хотя бы держать?
Отец тасует карты, говорит внучке:
- Закон Ома: сиди дома.
Внучка, конечно, не исполняет закон Ома, уходит. Мама продолжает:
- Кто, говорю, не давал? Козу называли сталинской коровой. На нее налог меньше. Отец, хватит уже тасовать.
- Подсними.
То есть надо сдвинуть часть карт на колоде. Отец раздает карты, открывает козырную масть. Смотрит в свои карты, громко вздыхает:
- Да уж, это уж точно: жена нужна здоровая, а сестра богатая.
Сидим, играем. Отец волнуется, рассчитывает ходы. Берет карту,
держит ее, думает, потом берет другую, наконец хлопает: «Эх, здорово девки пляшут!» Или: «Кто в доме хозяин? Кто лоханку купил?» Когда маме нечем крыть, очень он доволен: «А ты говорила: купаться - купаться, а вода-то холодная!» Выкидывает козырный туз: «Эх, сколько водки ни бери, все равно два раза бегать».
Оба они, и отец и мама, ужасно переживают, если проигрывают. Отец, проиграв, огорченно говорит:
- Меряли землю Сидор да Борис, а веревка возьми и оборвись. Один говорит: давай свяжем, а другой: нет, давай так и скажем.
Хватается за папиросы. Мама гонит его в коридор, к форточке в окне. Он курит:
- Конечно, дурак я. Что мне было не поверить этой цыганке, этой даме виневой, нет, высунул. Эти бабы, о-о! Владимир, не верь женскому народу, кроме матери. Мать, - возвышает он голос, - давай еще партию.
- Нет уж, - отвечает мама из кухни, - не все тебе умным быть, дурачком поспишь.
- Давай тогда со мной. Один на одного, - предлагаю я.
- Давай, - радуется отец, как ребенок.
Я с удовольствием проигрываю. Отец заканчивает партию именно этой дамой пик. Победно выкладывает ее с приговором: «Дама за уши драла!» - и показывает, что в руках ничего не осталось. Докладывает маме:
- Да, мамочка, старый конь борозды не испортит. Мать, мне надо победу отметить, а сыну - с горя. Может, там осталось от вчерашнего?
- Да в кои это веки у тебя оставалось? Ты ведь, пока на столе вино, из-за стола не выйдешь.
- Ну, быль молодцу не укора, - оправдывается отец.
- Ты не молодец у меня, ты орел, - смеется мама. - Ой, нынче совсем не умеют сидеть за столом. Напьются и не басен, ни песен. Уже и с гармошкой не ходят, повесят на шею готовую музыку, она орет, им и ладно. Вообще все съехало: чем ни дурней, тем потешней.
Отец вовсе никакой не пьяница. А сын приехал, надо со встречи принять? Как не надо, надо. А открыли бутылку, надо ее допить? Отец очень выразительно замечает: пока бутылка не распечатана, так она молчит, а если начата, она кричит. У Распутина еще интересней: «Мужики смотрели на недопитую бутылку, как на раненого зверя, которого надо добить из милосердия».
Когда меня хвалят за русский язык, я эти похвалы отношу к родителям. Они писатели, творцы, а я записчик только. Помню, как мы сметали стог сена, а назавтра пошел дождь, и мама радостно говорила: «Ну вчера как украли день, как украли. Дотяни бы до сегодня, пропало бы сено. Пусть бы еще просушили, а уже было бы не едкое, выполосканное».
- Нынче, - говорит мама, - зимой холодильник отключала, не мучила, не гоняла, отпуск дала.
- В бархатный сезон отработает, - добавляет отец. - Да больно он чего-то в последнее время в ночную смену сердился, прямо трясучка у него, вроде как даже по кухне ходит.
- А как не сердиться - голодный. - Мама оправдывает холодильник. - Будет и у тебя трясучка, когда на все полки кефир недопитый да сыр засохший. Мыши и те им подавятся. Да три помидорки. Ты не думай, - это мне, - не о сейчас говорю, сейчас-то куда с добром - нужду отвадили. Залезь в подполье - все банками заставлено.
- От трех помидорок две отминусуем, - решает отец. - Одна останется в плюсе. А две героической смертью умрут.
- Какой?
- Не как еда, а как закуска.
Да, уже никогда не повторится ни одно свидание с папой-мамой, никогда. Такая была радость. А ведь не понимал. Приехал - уехал. Казалось, всегда так будет. А вот они уже уехали. И надо собираться ехать к ним.
ГРЕЧИХА
Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.
Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воет, истертые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.
И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречихи. И запах, который никогда не вызвать памятью обоняния, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.
Огромное поле белой ткани, и поперек продернута коричневая нитка дороги, пропадающая в следующем темном лесу.
ПАДАЕТ ЗВЕЗДА
Если успеть загадать желание, пока она не погасла, то желание исполнится. Есть такая примета.
Я запрокидывал голову и до слез, не мигая, глядел с земли на небо.
Одно желание было у меня, для исполнения которого были нужны звезды, - то, чтоб меня любили. Над всем остальным я считал себя властным.
Когда вспыхивал сразу гаснущий, изогнутый след звезды, он возникал так сразу, что заученное наизусть желание: «Хочу, чтоб меня любила...» - отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом - сердцем: «Люблю, люблю, люблю!»
Когда упадет моя звезда, то дай Бог какому-нибудь мальчишке, стоящему далеко-далеко внизу, на Земле, проговорить заветное желание. А моя звезда постарается погаснуть не так быстро, как те, на которые загадывал я.
ГДЕ-ТО ДАЛЕКО
Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды - жуткий случай - заблудился.
Полати были слева от входа, длинные, из темно-скипидарных досок.
Мне понадобилось выйти. Я проснулся: темень темная. Пополз, пятясь, но уперся в загородку. Пополз вбок - стена, в другой бок - решетка. Вперед - стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слезы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.
Тогда еще не было понимания, что если ты жив, то это еще не конец, и ко мне пришел ужас конца.
Все уходит, все уходит, но где-то далеко далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатях, ползает на коленках мальчик, который думает, что умер и который проживет еще долго-долго.
ЛОДКА НАДЕЖДЫ
У рыбацких лодок нежные имена: Лена, Светлана, Ольга, Вера... Я шел с рыбаками на вечерний вымет сетей на баркасе «Надежда» и пошутил, что с лодкой надежды ничего не может случиться.
- Сплюнь! - велел старший рыбак.
Солнце протянуло к нам красную дорогу, и на конце этой дороги волны нянчили наш баркас.
Пришли на место. Выметали сети. Отгребли, запустили мотор.
Рыбак, тяжело ступая бахилами, подошел и сел. Помолчал.
Прожектор заката вел нас на своем острие.
- Надежда! - сказал рыбак. - На этой «Надежде» нас мотало, думали: хватит, поели рыбки, сами рыбкам на корм пойдем.
От лодки разлетались белые усы брызг, как будто лодка отфыркивалась в обе стороны.
- А ты ничего, - одобрил он. - Выбирать пойдешь?
- Пойду.
И вот хоть верь, хоть не верь, своей дурацкой шуткой я накликал беду. Когда на следующий день мы выбирали сети, налетел шторм.
Лодку швыряло, как котенка. Ветер ревел так, что уничтожал крик у самых губ.
Вернув рыбу морю и отдав пучине сети, мы все-таки выгребли. Когда, обессиленные, мы лежали на песке и волны, всхрапывая от злости, расшатывали причал, он крикнул:
- Как?!
Я показал ладони.
- Заживет!
Я согласился, но все равно сказал, что имя у лодки хорошее. Он засмеялся.
- Жена моя Надя. Каприз ее был. Назови, говорит, лодку, как меня, тогда выйду.
- Хорошая?
- Лодка? Сам видел.
- Жена!
- Об чем речь. Сейчас с ума сходит.
Он стащил сапоги, вылил воду и хитро посмотрел на меня:
- Хочешь, надежду покажу?
- Да.
Я подумал, что в поселке он покажет свою жену Надежду.
- Вот! - Он показал мне свои громадные ладони, величиной в три моих.
ПЕРВОЕ СЛОВО
В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. Крепкий, веселый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хорошо - золотой ребенок. Одно было тревожно: уже полтора года - и ничего не говорил. Даже к врачу носили: может, дефект какой в голосовых связках? Нет, все в порядке. В развитии отстает? Нет, и тут нельзя было тревожиться: всех узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно радовался огонечку лампады. Все, бывало, чем бы ни был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет.
Но молчал. Упадет, ушибется, другой бы заплакал - Илюша молчит. Или принесут какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался -Илюша и тут молчит, хотя видно - рад.
Однажды к матушке пришла ее давняя институтская подруга, женщина шумная, решительная. Села напротив матушки и за полчаса всех бывших знакомых подруг и друзей обсудила-пересудила. Все у нее, по ее мнению, жили не так, жили неправильно. Только она, получалось, жила так, как надо.
Илюша играл на полу и поглядывал на эту тетю. Поглядывал и на лампаду, будто советовался с нею. И вдруг - в семье батюшки это навсегда запомнили - поднял руку, привлек к себе внимание, показал пальчиком на тетю и громко сказал: «Кайся, кайся, кайся!»
- Да, - говорил потом батюшка, - не смог больше Илюша молчать, понял, что надо спасать заблудшую душу.
Потом думали: раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растет молчаливым. Хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый взгляд: он глядит и будто спрашивает - не тебя, а то, что есть в тебе и тебе даже самому неведомо. О чем спрашивает? Как отвечать?
ПОДКОВА
Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у нее. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.
Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щетку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал ее в груду других, отработавших, чистил копыта, клал его себе на колено и прибивал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала.
Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно - кузнец отскочил), выломал передний запор - здоровую жердь - и ускакал, звеня плохо прибитой подковой.
Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголек, прикурил.
- Дурак молодой, - сказал он, - от добра рвется, пользы не понимает, куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что. Верно? - весело спросил он.
Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове.
Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день снова вернулись.
- Еще счастья захотели? - спросил кузнец.
Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.
- Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.
Стукаясь лбами, мы уцепились за веревку, потянули вниз. Горн осветился.
Это было счастье - увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскаленными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе - рабочие и выездные - подкованы нашим знакомым кузнецом, мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.
КАТИНА БУКВА
Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую. Я написал букву «К».
- Нет, - сказала Катя.
Букву «А». Опять нет.
«Т»? - Нет. «Я»? - Нет.
Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.
Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?
Нет, Катиной буквы не было во всем алфавите.
- На что она похожа?
- На собачку.
Я нарисовал собачку.
- Такая буква?
- Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолет, и на небо, и на дерево, и на кошку...
- Но разве есть такая буква?
- Есть!
Долго я рисовал Катину букву, но все не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она ее напишет.
ЗЕРКАЛО
Подсела цыганка.
- Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.
Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.
- Дай погадаю.
- Дальнюю дорогу?
- Нет, золотой. Смеешься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.
- Нет денег.
- А казенные? Ай, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом, тебя заколдовала.
- И казенных нет.
- Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.
- Нет бумажных.
- Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушки, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.
Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.
- Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?
- Врага.
Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая черная вода, какая линия? При чем тут зеркало?..
НАШ, НЕ НАШ?
Даже и сейчас, когда членство в Союзе писателей ничего не дает и ничего не значит, в Союз тем не менее очень стремятся. Что говорить про шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, когда был и могучий Литфонд, и поликлиника, и Дома творчества, и пошивочная даже мастерская. Да и просто было очень престижно и почетно быть членом творческого союза. Член Союза писателей. Это звучало.
Кандидат в члены Союза проходил испытательный срок. Вот он принес книгу свою или две, собрал публикации по газетам, журналам и сборникам. Принес и ждет очереди, иногда полгода-год, обсуждения своих трудов. Еще и не сразу в приемной комиссии, а на секции прозы, поэзии, критики, драматургии. Там рубка идет страшная. Члены бюро секций - люди важные. Все разберут, все рассмотрят. Кто рекомендовал (нужны были три рекомендации от членов Союза со стажем не менее пяти, кажется, лет), кто будет читать? Уже и в секции работы соискателей читали с пристрастием. Потом шло обсуждение, потом секция голосовала (голосование было тайным) за то, чтоб принять или не принять. Принять? Значит, документы шли в приемную комиссию и опять ждали очереди. Тоже долго. Перескочить очередь было практически невозможно, за этим следили. Я сам все это прошел, эти два с лишним года ожидания.
И вот уже сам - член приемной комиссии. Нас человек тридцать. Ходим мы на заседания усердно, ибо понимаем: решаются судьбы. Сразу сообщу, что очень редко они решались объективно. Всегда работает главный принцип: наш - не наш. Талантливый - не талантливый - дело десятое. Примерно половина членов комиссии - евреи, половина - мы. Ни они без наших голосов, не мы без их не можем провести своего кандидата в Союз. Так что приходилось и им и нам уступать друг другу. На каждом заседании (раз в месяц) рассматривается дел пятнадцать-двадцать. Конечно, это много. Но куда денешься - очередь огромна.
Каждое дело докладывали те, кто читали представленные труды. Читали обычно двое. Голосовали, опять же, тайно. Были и спорные дела. Например, книжка понравилась, никто не возражает против приема. Но очень мала. Может, у автора пороху хватило только на одну. Решаем: подождать до следующей. Решение не обидное, хотя в те времена ждать следующей приходилось годами. Сошлюсь на себя: у меня первая книга вышла в тридцать три года, а следующая только через три года. Но тут ведь и закалка характера происходила, что тоже важно.
А иногда случалось обезкураживающее одних и радующее других решение: все хвалят принимаемого в Союз, а вскрывают урну - он не проходит. Нужно набрать более половины голосов. Более. А если половина проголосовала против, то вывод ясен. Много лет мурыжили композитора Никиту Богословского. Мол, зачем ему еще и Союз писателей, и так хорош, и знаменит, все время на экране. И член уже и Союза композиторов и Союза кинематографистов. Но наш, писательский, котировался выше, от того так и рвался в него композитор.
Бывали случаи, когда комиссия соглашалась принять решение открытым голосованием. Например, так приняли в конце концов и Богословского. За тексты для своих песен. Уже и неловко было перед ним. Что делать? Голосовать открыто. Голоснули. Мол, уж ладно, будь.
И еще одно открытое голосование помню. Поэт Саша Красный. Этому Саше было сто три года. Я не оговорился, сто три. И вот, собрался в Союз писателей. Секция поэзии за него просила, Ленина видел. Красный, конечно, псевдоним, он из плеяды Голодных, Безпощадных, Горьких, Веселых. Была представлена и оглашена некоторыми частями его поэма «Почему и на основании каком Дуню Челнокову не избрали в фабком?» Лучше было бы не оглашать. После молчания решили: а вдруг умрет, если не примем. И на основании каком не принять - Ленина видел. Голосовали открыто и даже весело. Думаю, это продлило ему жизни и усердия в поэзии.
Одному открытому голосованию я был виновником. После очередного заседания комиссии ее председатель дал мне для прочтения три тонюсенькие книжечки из серии «Приложение к журналам “Советский воин” и “Советский пограничник”». Как-то виновато просил доложить о них в следующий раз. Я прочел. Это было нечто. Автор - женщина. Она живет в сильно охраняемом доме высокопоставленных лиц, ей очень одиноко, она тоскует по общению с народом и находит его в разговорах с дежурной в подъезде. Слово «консьержка» еще не вошло в обиход. И дежурной, и нам, читателям, авторша жаловалась на жизнь: как ей трудно блюсти порядок в многокомнатной квартире. Муж ее все время в командировках.
До заседания я подошел к председателю и сказал, что это ни в какие ворота. Он как-то подвигал плечами.
- Но ты все-таки рекомендуй, - попросил он.
- Но если бы у нас была секция очерка хотя бы, тогда бы еще куда ни шло.
Председатель оживился:
- А ты предложи ее создать.
Я так и стал докладывать. После первых моих слов, что представленные «Приложения» никуда не годятся, от меня стали отсаживаться члены комиссии. После вторых, что и речи быть не может о принятии автора по разделу прозы, я остался один по эту сторону стола.
Меня это удивило, но я закончил:
- Может быть, когда в Союзе будет секция очерка, давайте вновь вернемся к рассмотрению. И пусть кто-то другой прочтет. Отзыв прилагаю. По-моему... безпросветно.
Тут кто-то, сославшись на то, что у него слабый мочевой пузырь, что все об этом знают, выскочил из комнаты.
- Предлагаю открытое голосование! - воскликнул дружно поддержанный председатель.
Изумительно было то, что все были за. При одном воздержавшемся, то есть это я воздержался. После заседания, когда я пытался узнать причины столь дружного единодушия, от меня шарахались. И только потом один из наших наедине со мной разъяснил, что авторша эта не кто иная, как жена первого зама председателя Комитета госбезопасности. Который, добавлю, вскоре застрелился в самолете, возвращаясь из Афганистана. Но не из-за того же, что жена стала писателем.
В моей жизни, по мнению председателя комиссии, наступали невеселые времена. Но все обошлось.
Хотя эти три случая не были типическими. Обычно как-то договаривались. Например, евреи пробивают в Союз способного Илюшу. У нас на подходе талантливый Александр. И им хочется нашего Александра зарезать. Но мы им говорим: зарежете Сашку, Илюшу утопим. И благополучно проходили и Саша и Илюша. Иногда приходилось кем-то жертвовать. Мы - престарелыми, евреи - переводчиками. Секция переводчиков практически была вся еврейская, но предложение выделить их в отдельную ассоциацию при Союзе писателей было бурно отклонено.
Итак, довольные с пользой для литературы проведенным временем, мы интернационально выходили из помещения парткома. Именно в нем проходили заседания. Но сразу уйти домой было практически невозможно, ибо путь к раздевалке лежал через ресторан. А там уже страдали от великого ожидания те, чьи дела сегодня рассматривали. Надо ли говорить, что нас хватали и тянули за обильно накрытые столы и столики.
Сидели мы с евреями за разными столиками, но пили и ели одно и то же.
КРЫША ТЕЧЕТ
Старинный двухэтажный дом старинного села на старинном тракте. Еще мощные стены, потолочные перекрытия, помнящие столыпинские времена. Вот крыша плоха, крыша течет. Я живу на первом этаже - мне меньше достается осадков, а на верхних льется с избытком. Но они, я заметил, не очень-то горюют. Живут весело. Там их, на втором этаже, три женщины. Про одну, с двумя ребятишками, сказать ничего плохого не могу, а две другие круглосуточно в вихре удовольствий. Одна вроде разведена, другая вроде с Кавказа, Гуля и Виктория, вот они, вернее, их клиенты, доставляют мне много неприятностей. Главная неприятность - шум и ругань. Нашествие пьяной мужской части человечества усиливается к ночи, нарастает к полуночи, стихает к утру, утихает до полудня, возобновляется с обеда. Столько мужичков в иную пивную не ходят. Под окном забор. Некоторые посетители второго этажа бодаются с ним. Бодаются с переменным успехом. То забор валит мужичка, то мужичок - забор. По пьянке один парень ввалился ко мне. Покрутил головой, осознал, что попал не туда, но фасон держал.
- Вы старовер? - сурово спросил он.
- Нет, православный.
- Дайте пять рублей. Лучше десять.
Я отдал, но не понял, за что плачу: за то, что я не старовер? Или за то, что православный? Другой орел, может, уже по наводке первого пришел, постарался сесть прямо и сообщил, что много кой-чего знает. «Про Афган, имею в виду. Учти - это совсекретная информация». Ничего из совсекретности я не узнал, но узнал, что он желает продолжения праздника.
Вскоре со мной перестали церемониться. Врывались и хрипели:
- Не дай помереть! (То есть выдай сумму.)
Умение состричь с меня нужную сумму бывало иногда изысканным. Не всегда же по нахалке просили. Вот взять Аркашу: все умеет - плотничать, плясать, но главное - выпить. Моих лет, но рядом поставить - я выгляжу стариком, а его до сих пор жена ревнует. Не знаю, может, напрасно, может, нет, я о том, как Аркаша утонченно извлекает из моего кармана средства.
Вот я приехал, еще и бумаги не разложил, Аркаша сидит. Ничего не просит, только очень-очень сокрушается:
- Ек-макарек, что б тебе было вчера приехать, а? Аль погода задержала, аль другую любишь ты? Вчера не мог никак приехать, а?
- Значит, не мог. - И спрашиваю неосторожно: - А что вчера?
- Вчера, только вчера, - восклицает Аркаша, - я отдал ведро черники за бутылку! Ведро! Хоть бы кто подсказал литра бы два тебе оставить. Я ж дурак - и башка трещит, и черники нет. Оно бы, Николаич, твое было, оно же для тебя предназначалось, это ж черника! Я Нине говорю: Нин, вот бы Николаичу это ведро, съел бы - сразу бы без очков газету читал. Это ж черника! Да-а!
Аркаша так убивается, что я понимаю, что должен как-то уменьшить его страдания. Получается, что я должен Аркаше бутылку. Одну, всего одну за целое ведро. Аркаша приходит через несколько дней и спрашивает, когда я уезжаю.
- Завтра? Точно? Обязательно надо? Конечно, дела. А остаться никак не можешь?
- Нет.
- Жаль! - почти радостно восклицает Аркаша. - Ведь у меня послезавтра будет ведро черники, тебе б за бутылку отдал. Это ж черника -царская ягода. Ведро за бутылку где купишь? Разве в Москве купишь ведро за бутылку?
- Смотря какая бутылка, смотря какое ведро.
Аркаша смеется, шутка моя кажется ему очень остроумной. Ему смешно, а я опять ему должен бутылку. В самом деле, почему я уезжаю завтра, ведь послезавтра у Аркаши именно для меня будет целое ведро. Приходится платить. Уезжаю без черники, но все-таки хоть Аркаше ничего не должен. Он, пьяненький, провожает меня, поет:
«Ребят всех в армию забрали, хулиганов, настала очередь моя. Мамаша в обморок упала с печки на пол, сестра сметану пролила».
- Николаич, приезжай за брусникой! - И дрыгает ногой, пытаясь плясать.
Когда я приезжаю осенью, история повторяется: никакой брусники нет. Но была вчера. Я же виноват, почему ж вчера не приехал. И грибов нет. Но будут. «Не уезжай ты, мой голубчик», - говорит Аркаша, и я исправно плачу ему за такое усердие в деле добывания для меня лесных даров. А Аркаша, оказывается, и стихи для меня сочинил: «У лукоморья дуб спилили, златую цепь большевики пропили, на кота уж кандалы надели, в зоопарк свели, а сами к лешему пошли».
Не всякий поэт отважится выступить в соавторстве с Пушкиным. Как не вознаградить такую отвагу?
Да, но домик наш старинный содрогается от грохотания пьяных ног по лестнице, от биения кулаками в двери, иногда не в те, от нечленораздельной громкой речи, в которой воспоминание о матерях - основное.
Интересно, что, когда весь день играют под окном или в коридоре ребятишки, это мне не только не мешает, но и настраивает на работу, а этот пьяный шум расстраивает.
Но вот, чтоб не сглазить, третий день в доме тихо. Сижу, гляжу, как темнеют от короткого дождя и быстро сохнут тротуары, как возится под березой неугомонный песик Тотошка, как тихо и умиротворенно колышутся ветви, - так хорошо! А все кому спасибо? Спасибо Татьяне, Тане-капустихе, как она в шутку про себя сказала. Уж не знаю, надолго ли, но посетителей второго этажа она отвадила.
Пришла она, кстати, тоже не просто чаю попить, ей надо было добавить к имеющейся сумме еще сумму. Но не тягостную для меня. Таня охотно согласилась выпить чаю и объяснила, что им с мужем надо поправить здоровье после отмечания дня рождения бабушки.
- Гулина Мария Самсоновна. Мне вместо матери. Мать у меня всю жизнь по тюрьмам. Сидела за аборты. Попалась за такой бизнес. Я вам скажу версию, вы поймете: семимесячный аборт - это же убийство. На семь лет. Отец был, но молодой же, охота попить-погулять. Сапожник. Звали Вася-капустик. Остались с бабушкой: я - полтора года, братики -шесть и восемь. Да-а, мать загремела. А та-то сама просила. Нагуляла, некуда деваться, три дня у нас лежала. Не она, родные подали в суд. Они-то, вишь, хотели ребенка. Чей бы бык ни прыгал - телята наши. И мы остались с бабушкой. Бабушка на свою зарплату, она была санитаркой в морге, какая там у нее зарплата - минималка, а нас подняла. Садимся чай пить: вот вам по конфетке, по печенюшке. Мы растягиваем их, понимаем, что такое конфета. Братики начали подрабатывать, жили рядом с базаром. Кому чего поднести. Но ни в жизнь не воровали. Честно! Ходили рыбачить, продавали. Опять рубль или два бабушке несут. Я посуду мыла, пол, крыльцо мела. Жили вчетвером на тринадцати метрах. Семь лет кантовались, по-русски сказать. Мать пришла, привезла кучу денег, газету, там про нее - передовик труда. Меня снарядила в первый класс, одела как куклу. «Таня, я не шлюха, не вор, я честно заработала». Так одела, что я боялась на стул сесть, платье измять.
Таня вздохнула. Я еще ей налил чашку.
- Полгода, полгодика с мамочкой, косы заплетала, бантики гладила, полгода. Опять к ней пришли, просят. Несмогла какая-то стерпеть, подставилась, в больницу боится. И тут - аборт со смертельным исходом. Снова семь лет. Когда второй раз вернулась, мне уж было пятнадцать.
Тут над нами раздались звуки пьяной разборки. Таня встрепенулась:
- Опять они! Ну!..
- Татьяна!
- Я не матерюсь. Никогда. Я молитвы читаю. Читаю «Отче наш» и свои: «Мать Пресвятая Богородица, помоги и спаси», «Господи Всемогущий, дай мне хлеб насущный». И есть всегда на хлеб. Но эти же другого языка не понимают. А мой поймут.
- Вообще, Татьяна, может, они не думают, что ругаются. Достоевский говорил, что у русских сквернословие есть, а скверномыслия нет.
- У них ничего нет, у них одно.
Звуки разборки усилились. Таня отодвинула чашку и решительно шагнула за порог. Наверное, так шли добровольцы на врага. Я шагнул за ней. Она уже резко считала ступеньки, резко и громко стала материть стоящую там мужскую компанию. Но нет, я неверно сказал - не материла, но так она их полоскала, не упоминая имени матери, что я изумился. Увы, это непечатно. Пусть цензуры и нет, но есть же чувство белого листа. Как его очернить руганью? Я понял, что мне подниматься не следует, ибо после Таниного выступления наступила тишина.
Таня вернулась, я налил ей еще чашку. Очень довольная, она позволила себе взять дольку шоколада и сказала:
- Крыша у них течет, так кобелями сверху прикрываются.
- И много их там?
- У этих-то? А сколько вытерпят, - хладнокровно ответила Таня и продолжала про бабушку.
Я же с изумлением ощущал тишину в доме.
- Бабушка, конечно, выпивала, но, конечно, они выпивали не как мы. Берут красненького одну, их четыре старушки, еще два старичка-инвалида, вынесут во двор стол, во главе тетя Валя с балалайкой. Выпьют по стопочке, и тетя Валя - пошла на балалайке! Мы же вчера-то в честь дня рождения бабушки собрались. Детишкам мороженое, печенье, нам чего другое. Муж закалымил сто двадцать: «Иди, Таня, за вином». Сидим, я любимую бабушкину запела «Ой, мороз-мороз», вот как сейчас спою. -Таня спела куплет. Спела, муж говорит: «Дак ниче, песню не испортила, не орешь во всю глотку, - говорит. - Ак допой давай». А-а, говорю, захотелось - допой. Еще была у бабушки, - Таня запела: «Вот кто-то с горочки спустился». Муж говорит: «Ак, Тань, голос-то у тебя хороший». Я говорю: а чего ему плохому быть, я ведь его не пропила, не проорала, я ведь женщина, должна меньше пить. Женщина, - сказала Таня назидательно, - за столом не присядет, постоянно в движении, принести-унести, кому закурить подать. А я сильная. Я вес чувствую, а тяжести не чувствую, я сегодня гроб с одной стороны одна подняла. С другой - двое мужчин. Со стороны ног легче: в головах мысли, а в ногах одна беготня. Я больше своего веса поднимаю. У меня одни мышцы. Я могу и литр, и два за ночь выпить и опять бегу работать. Женщинам меня не перепить. Только надо покушать. Суп, колбасу, консервы. Пью не залпом, не галопом. Выпила, поставила, закуски, разговоры, потом опять. С промежутками пьешь - и все в том же состоянии, что вот сейчас и с вами сижу.
- Слушай, Таня, я так тебе благодарен, ведь сидим-то в тишине, ведь замолчали.
- А вы, если что, зовите. Их надо так вразумлять. Я перекрещусь, в три этажа загну, сразу, блин, понимают. Знаешь ведь, чем дальше лес, тем толще партизаны. Это присказенька такая.
В тишине я жил и следующий день. Осторожно ходил в магазин, на реку, зорко смотрел вперед и по сторонам, не притаился ли в зарослях уличных деревьев и кустарников, как щука в осоке, Аркаша. Нет, видно, куда-то уехал. Подстерег меня не он, а другой мужчина.
- К вам посоветовали обратиться, говорят, иди, он соображает.
- В чем я соображаю?
- Как с женой поступить.
- Ой нет, в этом я не соображаю.
- Да у меня просто. У меня сахар еся, мука еся, огород еся, поросенок еся... чего ей надо?
- Не хочет быть крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой?
- Этого не замечал. Все же еся. Ну не люблю я ее, ну и что? А ей вынь да положь какую-то любовь. Мука же еся, какая ей любовь?
- Женщине, - сказал я, - не только муки и сахару надо, а чтоб любовь была еся.
Вернулся домой. На крыльце дамы со второго этажа. Трезвые, виноватые, прилично одетые.
- Ну что, красавицы, не надо больше звать Татьяну Васильевну?
Они как-то смущенно похихикали и сообщили, что едут в деревню.
- Принудительно? Добровольно?
- Ну, если кто придет, скажите, чтоб больше не приходили, - стали поручать мне дамы.
- Нет, я на это не гожусь, - сказался я. - Я Татьяну позову.
Они опять похихикали. На том и расстались.
К вечеру началась гроза. Далекие, слабо озвученные молнии неслись параллельно линии горизонта, тут же их сверху вниз перечеркивали другие, словно десница Всемогущего крестила темное нашествие туч с запада. Гроза подошла вместе с ливнем, молния уже не отделяла свой вы-сверк от удара грома, все покорствовало стихии, деревья свежели, мокли, темнели, песчаная дорога набухла и запенилась, мальвы и георгины в палисадниках кланялись до земли.
И тут же, еще не отдождилось, встала радуга. Такая четкая, широкая, как в детстве на коробке цветных карандашей. Она будто показала, какое там, в потустороннем мире, сияние, будто ее специально выпустили в щелочку неба, как солнечный лучик в темницу, для утешения и ободрения.
А ближе к ночи начались тихие, безмолвные зарницы. Они были с другой стороны уходящей грозы, тянулись за ней. И гром, рождаемый молнией, что-то говорил зарнице, но ревнивая молния уводила его к востоку.
Как горько, как отрадно пахнут осенние флоксы, как безропотно вянут отцветающие гладиолусы, и пчелы торопятся в последний раз навестить их.
Золото лугов, мелеющая река, тихие голоса светлых родников, серебристые ивы над мокрой тропинкой, неугомонное шевеление и щебетание растущих птенцов. В небе - парящий крест чайки. А выше - облака, облака, за ними - небесная твердь. А за ней - вечное золотое сияние всех цветов радуги.
Ночью на темном небе молодой месяц, будто начали промывать небесную твердь и уже процарапали золотую запятую. Как же хорошо жить, и за что нам, таким скверным по плоти и духу, дана такая радость?
СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ!
Ночная служба у Гроба Господня
Крестная смерть Спасителя поставила Голгофу и Гроб Господень в центр мироздания. Где тот храм Соломона, пирамиды фараонов, башни Вавилона, маяк Александрии, сады Семирамиды, мрамор Пальмиры, где все богатство века сего? Все прах и тлен по сравнению с подвигом Христа. Все в мире навсегда стало сверять свое время и время вечности по Христу. Все события в мире - это противостояние тех, кто за Христа, и тех, кто против. И другой битвы не будет до скончания времен.
Нам, малому стаду Христову, православным людям, дано величайшее счастье, выше которого нет - причащаться Тела и Крови Христовых на Божественной литургии. И где бы она ни свершалась: в великолепном соборе или в бедной деревенской церкви, значение ее одинаково и огромно - мы принимаем в себя Христа, свое единственное спасение. И все-таки никакая другая литургия не может встать вровень с той, что происходит ночью на Гробе Господнем в иерусалимском храме Воскресения. Это только представить - чаша с телом и кровию Христа ставится на трехдневное ложе Спасителя. Освящается и выносится для приобщения участникам ночного служения.
Аз, грешный и недостойный, несколько раз был на ночной службе у Гроба Господня. И особенно помню первую, когда поехал на нее вместе с монахинями из Горненской обители. Время было близко к полуночи. Ни обычного шума машин, ни людей, только огни по горизонту, только свежий ночной воздух и негромкое молитвенное пение монахинь.
От Яффских ворот быстро и молча шли мы по странно пустым узким улочкам Старого города, сворачивая в знакомые повороты, ступая по гладкости желтого, а сейчас темного мрамора. Вот широкие ступени пошли вниз, вот поворот на широкую площадь перед храмом. Справа Малая Гефсимания, слева вход в храм, прямо к Камню помазания. У входа расколотая небесной молнией и опаленная Благодатным огнем колонна, даровавшая именно православным Божию милость схождения огня в Страстную субботу теперь уже далекого XIX века. Прикосновение к колонне, влажной от ночной росы, освежает и дает силы на предстоящую службу. А силы нужны. До этого у меня был счастливейший, но и очень трудный день, когда я с утра до вечера ходил по Иерусалиму, говоря себе: «Иерусалим - город Христа, значит, это и мой город».
Вообще я не сразу, не с первого взгляда полюбил Иерусалим. Я говорю не о Старом городе, при входе в него обувь сама соскакивает с ног, как иначе? Здесь Скорбный путь, «идеже стоясте нозе Его», здесь остановившееся время главного события Вселенной, что говорить? Нет, я не сразу вжился в современный Иерусалим. Как этот город ни сохраняет старину, но модерн, новые линии и силуэты зданий проникают всюду, как лазутчики материального мира. Мешал и непрерывный шум машин, и их чрезмерное количество, торговцы, предлагающие все растущие в своей изысканности и цене товары и пищу, которая тоже дорожала, но все заманчивей привлекала ароматами и внешним видом, мешали безцеремонно кричащие в трубки мобильников, часто на русском языке, энергичные мужчины, мешали и короткие, ненавидящие взгляды хасидов, многое мешало. Но постепенно я сказал себе: что с того? Сюда Авраам привел своего сына, собираясь принести его в жертву. Здесь плясал с Ковчегом Завета царь Давид - куда больше? Отсюда пришла в мир весть о Воскресшем Христе. Здесь убивали камнями первомученика Стефана, а дальше, налево, гробница Божией Матери, внизу поток Кедрона, вот и Гефсиманский сад, вот и удивительная по красоте церковь Святой Марии Магдалины, подъем на Елеонскую гору и головокружительная высота Русской свечи над Елеоном, православная колокольня, выстроенная великим подвижником, архимандритом Антонином (Капустиным). Вот он - Вечный город, вот видны и Золотые ворота, в которые вошла младенцем Божия Матерь и в которые, спустя время Своей земной жизни, въехал Ее Сын, Сын Божий. А вот и храм Гроба Господня.
Вернувшись с Елеона, еще в этот же день я обошел вокруг Старый город. Шел вдоль высоченных стен из дикого камня, как ходят у нас на Крестный ход на Пасху - с паперти налево и вокруг храма, шел, именно так и воспринимая свой путь - как пасхальное шествие. И уже шум и зрелище современного мира совсем не воспринимались, были вначале фоном, а потом и совсем отошли. И башня Давидова помогла этому отрешению - она же почти единственная из сохраненных дохристианских зданий. И только в одном месте невольно остановился: мужчина в годах, в пиджаке с планками наград, наяривал на аккордеоне песню прошлого века: «У самовара я и моя Маша, а на дворе уже темным-темно». Ну как было не расстаться с шекелем?
Но благодатный вход в храм Гроба Господня отсек свежие воспоминания минувшего дня и придал силы. Особенно когда мы прикладывались к Камню помазания и в памяти слуха звучали слова: «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе новом покрыв, положи».
У Гроба, на наше счастье, почти никого не было, только греческие монахи готовились к службе. Я обошел Кувуклию, часовню над Гробом Спасителя. Опять же в памяти зазвучал молитвенный распев: «Воскресение Твое Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли спо-доби чистым сердцем Тебе славити». Справа от часовни на деревянных скамьях спали богомольцы. Они пришли сюда еще с вечера. Сейчас просыпались, тоже готовились к службе. У входа в часовню - внутрь уже не пускали - горели свечи. В одном подсвечнике, как цветы в вазе, стояли снежно-белые горящие свечи. Добавил и я свою, решив не отходить от часовни, чтобы, даст Бог, причаститься у Гроба Господня. Я знал, что у Гроба причащают нескольких, а остальных, перенеся чашу с дарами, причащают у алтаря храма Воскресения.
Дьякон возгласил:
- Благослови, владыко!
Возгласил он, конечно, по-гречески, по-гречески и ответил ему ведущий службу епископ, но слова были наши, общие, литургические:
- Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа.
- Ами-и-инь! - согласно включился в молитву хор наших монахинь из Горней.
Мне было очень хорошо видно и придел Ангела, и сам Гроб. Удивительно, как священнослужители, облаченные в служебные одежды и на вид очень грузные, так легко и ловко поворачивались, входили и выходили из Гроба на преддверие. Частое каждение приносило необыкновенный прохладный горьковатый запах ладана. Какой-то очень родной, в нем была чистота и простор смолистого высокого бора. Молитвенными, почти детскими голосами хор монахинь пел: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения». Новые возгласы диакона, выход владыки и его благословение. Видимо, по случаю участия монахинь из Горней, по-русски:
- Мир вам!
- И духови Твоему, - отвечает хор.
И вот уже «Блаженства». Начинается литургия верных. Тут все верные от самого начала. Ибо, когда были возгласы: «Оглашенные, изыди-те», никто не ушел. А вот и «Херувимская». Тихо-тихо в храме. Такое ощущение, что его огромные, ночью пустые пространства, отдыхающие от нашествия паломников и туристов, сейчас заполняются безплотными херувимами, несущими земле весть о спасении. «Всякое ныне житейское отложим попечение».
А время мчится вместе с херувимами. Уже пролетело поминание живых и умерших, уже торопился вспомнить как можно больше имен знакомых архиереев, батюшек, родных, близких, и многочисленных крестников и крестниц, просто знакомых, тех, кто просил помянуть их у Гроба Господня. Так и прошу: «Помяни, Господи, всех, кто просил их помянуть. Имена же их Ты, Господи, веси». Душа на мгновение улетала в ночную Россию. Отсюда, из сердца мира, где в эти минуты свершалось главное
событие планеты - пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, кланялся я крестам храмов православных, крестам на могилках, как-то в долю мгновения вспоминались монастыри и монахи и монашки, читающие при восковых медовых свечах неусыпаемую Псалтырь и покрывающие молитвенным омофором российские пределы.
А мы здесь, у Гроба Господня, малое стадо русских овец Христовых, молились за свое многострадальное Отечество. Ко Гробу Христову я шел всю жизнь, и вот стоял у него и ждал причастия. Ни ум, ни память это осознание не вмещали. Вся надежда была на душу и сердце. Я в ногах у Спасителя, в одном шаге от Его трехдневного ложа, в трех шагах от Голгофы. Ведь это же все, промчавшееся с такой скоростью, все это будет стократно и благодатно вспоминаться: и то, как молитвенно поет хор, как размашисто и резко свершает каждение здоровенный диакон, как смиренно и терпеливо стоят около простоволосых женщин наши паломницы в белых платочках, как внезапно и весело звенят колокольцы на блестящем архиерейском кадиле, как безстрашно старуха в черном сует руку в костер горящих свечей и выхватывает оттуда догорающую, как бы пропалывая пламя. И ставит взамен новую. И вновь хор, и вновь сыплются звуки от колокольцев кадила, облетая храм по периметру. Гроб плотно закрыт облачениями священства. Так хочется невидимкой войти в Гроб и видеть схождение небесного огня в причастную чашу. Говорила знакомая монахиня: «Нам дано видеть Благодатный огонь раз в году, а духовные люди его всегда видят. Потому что огонь небесный не уходит от Гроба Господня».
Молодых чтецов сменяют старики. Красоту греческой речи украшает четко призносимое имя Христа. В этом месте крестимся.
Выносят чаши. Обходим вслед за нарядными священниками вокруг Кувуклии. «Символ веры» поет весь храм. Слышнее всего русские слова, нас здесь большинство. Голоса улетают вдаль, к пещере Обретения Креста, вниз, в потусторонность, в утешение почивших в вере и надежде Воскресения.
Вдруг, как будто пришедший из былинной Руси, выходит и русский диакон. Он еще огромнее, чем греческий, весь заросший крепкими, еще не седыми волосами, настоящий раскаявшийся Кудеяр-атаман, и возглашает ектенью. На каждое прошение хор добавляет:
- Подай, Господи!
И это незабываемое, нежное и просительное:
- Кирие, елейсон. Кирие, елейсон.
Это означает: «Господи, помилуй». Вообще благоговеешь перед мастерством древнерусских перекладывателей Священного Писания и церковных служб и, в первую очередь Божественной литургии. И пасхального Канона. Почему мы говорим: «Христос Воскресе!», а не «Христос Воскрес»? Потому что по-гречески это «Христос Анести», то есть соблюдено соотношение слогов.
«Отче наш» поется еще слаженнее, еще молитвеннее. Один к одному совпадают русские и греческие слова Господней молитвы.
Внутри Кувуклии начинается причащение священников. Простоволосая высокая гречанка сильным, звучным голосом поет «Марие, Мати Божия».
Вижу - чаша стоит на камне в приделе Ангела. Вот ее берут и вздымают руки епископа. Выходят. Оба гиганта-диакона по сторонам. Падаем на колени.
- Верую, Господи, и исповедую...
Столько раз слышанная причастная молитва звучит здесь совершенно особо. То есть она та же самая, до последней запятой, но звучит она над Гробом Господним, в том месте пространства, которое прошел Воскресший Спаситель.
И тут случается со мной не иначе как Божие чудо - я оказываюсь прямо перед чашей. Оглядываюсь, как сделал бы это и в России, ибо всегда мы пропускаем вперед детей, но детей нет. Меня оттирает было диакон, и, что особенно обидно, не греческий, а наш, но я, видимо, так молитвенно, так отчаянно гляжу, что он делает полшага в сторону.
Господи, благослови! я причащаюсь!
Чашу переносят в храм Воскресения, огибая по пути так называемый пуп Земли, центр мира, а я, совершенно безотчетно, по-прежнему со скрещенными руками, обхожу вокруг часовню Гроба Господня, кланяясь всем ее четырем сторонам, обращенным на все стороны света.
Утро. Сижу на ступенях во дворе храма. Тут договорились собраться. Думаю: «Вот и свершилось главное в моей жизни причастие, вот и произошло главное событие моей жизни». Но потом думаю: надо же еще и умереть и заслужить смерть мирну, христианску, непостыдну, надо же вымолить «добрый ответ на Страшном судище Христовом».
Встает солнце. И, конечно, не один я мысленно произношу: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Оно бы не пришло на землю, если бы не молитва на земле и если бы не эта ночная служба.
И как же легко дышалось в это утро, как хорошо было на сердце. Оно как будто расширилось, заняло во мне больше места, вытесняя все плохое.
На обратном пути заговорили вдруг о Гоголе, о его паломничестве в Иерусалим и о том разочаровании, которое он испытал. Видимо, он ждал чего-то большего, чем получил. Но ведь вспоминают же его современники, что он стал мягче, добрее, сдержаннее.
Вспомнил и я свою первую поездку. Очень я страдал после нее. Думал: если я стал еще хуже, зачем же я тогда был в Святой земле? И спас старый монах Троице-Сергиевой лавры, сказавший: «Это ощущение умножения греховности, оно очень православно. Святая земля лечит именно так: она открывает человеку его греховность, которую он раньше не видел, ибо плохо видели его духовные очи сердечные. Святая земля дарит душе прозрение».
А вот и наш милый Горненский приют. Матушка, жалея сестер, советует отдохнуть хотя бы полтора часика. Но почти у всех послушания. И уже через два часа колокол Горней позовет нас на службу, в которой будут те же удивительные, спасительные слова литургии, что звучали ночью у Гроба Господня, только уже все по-русски. И все-таки, когда зазвучит: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», - отголоском откликнется: «Агиос, Агиос, Агиос Кирие Саваоф».
.. .Поздняя ночь или очень раннее московское утро. Гляжу на огонек лампады, на Распятие, и возникает в памяти слуха мелодия колокольцев кадила у Гроба Господня, и ощущаю, как молитвы, произносимые у него, «яко дым кадильный», восходят к Престолу Господню.
СУШЕНАЯ МАЛИНА
Ну никак, никак не могу уверить внуков в том, что у меня было очень, очень счастливое детство.
- Милые мои, - говорю я, - не было у нас телевидения, электричества не было, уж какие там айпеды, айфоны, мобильники, кино привозили раз в неделю, сидели в сумерках при керосиновой лампе, и все время были непрерывно заняты: дров напилить-наколоть, воды натаскать, хлев почистить, а дома уборка, готовка пищи. А с весны до осени огород, поле, сенокос, грибы, ягоды. О, наша милая, чистая река, наши леса и перелески. Все же было: и купание, и рыбалка, и костры, и всякие-всякие игры. И всегда успевали делать уроки, хорошо учиться, каждый вечер были какие-то кружки, изучали трактора, машины, учились разбирать и собирать винтовки и автоматы, стреляли, бегали по полосе препятствий. Всегда были соревнования в спорте, самодеятельности. В ней особенно. Репетировали и ставили пьесы, как правило, классику. Пусть отрывки, но Пушкина, Чехова, Гоголя. Обязательно все пели в хоре, разучивали танцы народов СССР и мира. Незабвенный молдавский танец жок, украинский гопак, белорусская бульба. Стенгазеты выпускали, и классные, и общешкольную. Ездили с концертами по деревням.
Очень дружные были мы, мальчишки и девчонки, ведь совместные труды и радости сближают. А особенно труд на пользу общества. Были всегда воскресники и субботники. Осенью всегда ездили на картошку. Это такая радость - месяц в деревне. Нас любили в колхозах. Никто через силу работать не заставлял. Питание было отличное: все свежее: молоко, мясо, овощи. Костры жгли, картошку пекли, пели у костра.
Боже мой, как все теперь оболгано и изгажено теми, для кого Россия - территория проживания, а не родина.
Но самое главное, что мне лично дала родина, семья и школа - это честность и совестливость. Еще в том была ко мне милость Божия, что и отец и мама были из очень православных семей. И пусть у нас не было совместных молитв, в церковь не ходили (ее и не было, до ближайшей шестьдесят километров, да еще и переправа через реку Вятку), но дух милосердия, сострадания, прощения, безкорыстия был главным в семье.
А подвигнул меня на эти строчки подарочек от отца игумена Иоасафа - сушеная малина. Как и у нас в детстве это были такие тоненькие темнокрасные лепешечки. Взял их в руки, вдохнул родной запах целебной ягоды, ощутил аромат лесных полян, на которых собирали ягоду малину. Собирали, приносили домой. Сколько-то съедали, а остальное мама сушила. В русской протопленной печи. Рассыпала малину на капустных листах или на лопухах. Сушила и складывала в сундук на зиму. Это же такая радость и редкость для зимы - малина к чаю. А особенно при простуде. И вообще это было редчайшее лакомство. Интересно, что сушили именно малину. Бруснику мочили, землянику превращали в варенье, чернику засыпали (если был) сахаром, черемуху, калину, иргу, рябину просто развешивали в чулане или на чердаке кистями, клюква сохранялась сама на любом морозе в холщовых мешочках, в кадушках, в берестяных бурачках.
И вот теперь главное: классе в шестом я вернулся с улицы, набегался, намерзся, изголодался. Дома никого не было. И тут меня подловил враг нашего спасения: открой сундук, возьми малину, съешь, никто не узнает. Сундук у нас не закрывался. И я, будто заколдованный, открыл его, взял один лист капусты, на котором сушили малину, торопливо ее съел и закрыл сундук. Запил водой.
Ужас и стыд за содеянное настиг меня утром. Я не мог глаза поднять на маму, на братьев и сестер. Убежал пораньше в школу. Идти домой из школы было очень тяжело, еле шел. Мама подумала, что я заболел. А меня мучила совесть, и так сильно, что чуть ли не стон вырывался из груди. Еще на следующий день я решил признаться маме в воровстве. Мне помогло то, что опять никого не было. Я сам встал в угол и стоял. Мама вошла с улицы, посмотрела, вышла. Опять вернулась.
- Ты что в углу стоишь? Отец, что ли, поставил?
И тут из меня вместе со слезами вырвалось:
- Ма-а, я м-мали-ину взя-а-л.
А мама вдруг радостно засмеялась:
- Какой молодец! А ведь я знала, что ты взял. И малины убыло, и ты сам не свой. Но думаю, буду молчать, очень надеялась, что сам признаешься.
- Я буду в углу стоять, ладно? - попросил я.
- Так ты сам себя в угол поставил?
- Ну да.
- Какой молодец. Возьми вот ведерко, отнеси курицам, я картошки намяла, с отрубями перемешала, они любят.
Даже не накинув пальтишка, я помчался в хлев. Выскочил на крыльцо и так мне легко вздохнулось, так отрадно было взглянуть на Божий мир. Тяжесть с души свалилась. Если бы я знал тогда, с чем сравнить это состояние, сказал бы: как после исповеди.
Всю жизнь живу и всю жизнь благодарю Бога за такую мою жизнь. Все, что было в ней хорошего, это от отца и мамы, от родины, а что было плохого, то в этом виноват только я сам.
ЦЕРКОВНАЯ ЗАВЕСА
Сбылась моя мечта - я в Карфагене. Остатки ступеней античного театра, пустырь, ветер, берег моря, ноябрь. Мальчишки играют в футбол.
- Там Европа, Сицилия, - показывает работник посольства в Тунисе Николай Иванович. - В ясную погоду видно.
- Да, - я вспоминаю, что именно из сицилийского города Монреаля видел в бинокль африканский берег и мне говорили: «Там Тунис, Карфаген, Бизерта».
Мы приехали в Тунис вдвоем с товарищем. В России осень, затяжные дожди, здесь сухо, солнечно, безмятежно. Еще и оттого тянет на юг, что хотя бы на время отступают дела и заботы.
- Как же хорошо! - говорю я и отпрашиваюсь сходить на берег моря. У меня есть тайная надежда - выкупаться в Средиземном море. Ведь тепло. А мы в детстве уже первого мая отважно кидались в ледяные воды Поповского озера, еле-еле прогретые сверху.
Тишина обступает меня. Даже плеск мелкого прибоя и отдалившиеся крики мальчишек не пугают ее, а дополняют.
Карфаген, думаю я. Какое гордое имя - Карфаген, город - властелин Африканского побережья. Мысленно переношусь в Рим, в Колизей, в его тоже уже обветшалые камни, и слышу крики римского сената, выступления Катона, который повторял всегда только одно в конце любого своего выступления:
- Карфаген должен быть разрушен.
И повторял так громко, что пробил толщу веков и заставил даже нерадивых студентов повторять вслед за собой: «Карфаген должен быть разрушен».
Разрушили. Вот они, остатки, объект туризма. Да ведь и Колизей объект, ведь и пословицы «Все дороги ведут в Рим», «Нет нигде жизни, кроме Рима» тоже загасли.
Мы ехали в Бизерту, место гибели русского флота. Там, нам сказал Николай Иванович, есть русская церковь и ее хранительница - Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн, дочь флотского офицера.
- У нас не было с ней общения. То есть официально. Но тайком бывали у нее, привозили продукты, помогали выжить. В перестройку кадры посольства перетряхнули, пришли лизоблюды перед Западом, но единственное, что жены наши стали делать открыто, - ездить в Бизерту к Анастасии Александровне.
- Жены? А вы?
Николай Иванович помолчал, глядя на пустые места за окном, и улыбнулся:
- Они ж и за нас свечки ставили.
Бизерта - тяжелое слово для русской души. Как погибал русский флот, как нас предавали бывшие союзники, об этом сказано достаточно.
А сегодня важным было то, что в Бизерте - русская церковь выстроенная моряками на их скудные средства.
Мы посидели у Анастасии Александровны. В темном платье и светленьком платочке она была совсем-совсем нашей, будто мы сидели на окраине Вятки, или Костромы, или в Москве, в деревянном доме в Сокольниках, и пили чай. Был Великий пост. Привезенное Николаем Ивановичем съестное, кроме печенья и карамели, было унесено до пасхального дня.
- Моя главная мечта, - сказала Анастасия Александровна, - побывать в России, в сельской церкви в Великий Страстной четверг на службе Двенадцати Евангелий», а потом умереть.
- Вам жить надо долго-долго, - сказал Николай Иванович. - Видите, уже из России едут, и будут приезжать все больше. Кто встретит, кто расскажет?
- Это все уже описано, - ответила Анастасия Александровна. - А у меня нет сил говорить о гибели цвета русской нации. Как я жила, куда и на что ушла жизнь, не помню. Вот сейчас себя ощущаю и маленькой девочкой, когда мы жили на кораблях. Несколько лет. Была школа, оркестр, иногда объявляли вечер танцев. На эсминце, я уже забываю название, на палубе я стояла в белом платьице. И ко мне подошел Врангель и поклонился и сказал: «Вы позволите пригласить вас на вальс?» Вот и вся моя жизнь.
Мы шли по улице Бизерты, совершенно безлюдной. Анастасия Александровна заранее достала из ридикюля большие ключи от замка и двери храма:
- Только очень извините меня, что внутри стоят стулья. Это я, чтобы как-то выжить, платить за свет, воду, пускала христиан-католиков для службы. Они же не могут, как мы, стоять всю службу. Даже короткую свою сидят. Бог им судья.
- Приедет и к вам батюшка, - бодро сказал Николай Иванович.
- Дай Бог, - она перекрестилась.
Мы остановились на паперти. Анастасия Александровна показала в сторону моря:
- Еще в шестидесятые годы были отсюда видны мачты кораблей. Но это был металлолом. Моряки разошлись еще в конце двадцатых годов. Кто уехал во Францию, кто здесь пошел в услужение. А я - куда я от церкви? - Она вздохнула. - Поэт написал об исходе из России: «И запомнил, и помню доныне наш последний российский ночлег, эти звезды приморской пустыни, этот синий мерцающий свет. Стерегло нас последнее горе, - после снежных татарских полей, - ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей».
Мы вошли в холод каменного храма. Развели шторы на боковых окнах и увидели, что Царские врата, центральная завеса храма - это боевой андреевский флаг. Да, настоящий морской стяг.
- Но с какого эсминца, уже тоже не помню, виновата, - сказала Анастасия Александровна. - Можно сказать: с любого. Молитвы читаю, Псалтырь. Пыль вытираю, пол мою. А в алтарь не вхожу, нет благословения. Да, с батюшкой бы тут все оживилось.
- Будет! - твердо сказал Николай Иванович.
Мы поставили свечи у алтаря и перед Распятием. И долго стояли молча, слыша, как в тишине слабо потрескивает сгорающий стеарин.
Хотели закрывать шторы на окнах, но Анастасия Александровна воспротивилась.
- Еще не зима, все-таки внутри посветлее, не так мрачно.
Мы проводили ее до дома и вышли на набережную. Недалеко от берега, в воде, лежали огромные остатки корабля. Ржавеющий корпус, гниющие шпангоуты, черные иллюминаторы с остатками стекла.
- Как скелет динозавра, - осмелился я прервать молчание. - У нас по Вятке и Каме и Средней Волге обнажаются откосы и находят скелеты допотопных животных. Потом потоп, потом еще потопы. И вот - пусто в Карфагене, и здесь кладбище. Все умерло, а церковь стоит, Анастасия Александровна молится, андреевский флаг на страже алтаря.
- Так и запомнится Бизерта, - сказал товарищ, - как город без людей, и только церковь да эта женщина.
Надо было возвращаться. Мы даже забыли сфотографировать и храм, и Анастасию Александровну. Спохватились, когда отъехали далеко. Но утешали себя тем, что память о Бизерте будет прочнее снимка.
Так оно и оказалось.
ИСПОВЕДНИКИ
Сегодня так получилось, что, ожидая исповеди, простоял в притворе всю службу. А пришел в храм заранее. Но очень много исповедников, да и батюшка молодой, старательный, подолгу наставляет. Да и сам я виноват. Утром у паперти остановила девушка: «Можно вас спросить? Вот я иду первый раз на исповедь, что мне говорить?» - «В чем грешны, что тяготит, в том кайтесь». - «Но я же первый раз». - Я улыбнулся и пошутил: «Тогда начинайте с самого начала. Вот, скажите батюшке, была я маленькой и маме ночью спать не давала, каюсь. В школе двойки получала...» -«Нет, я хорошо училась». - «И с уроков в кино не убегала?» - «Все же убегали». - «За всех не кайся, кайся за себя. Ну и так далее. Ухаживал за мной бедный хороший Петя, а я его за нос водила, все надеялась, что богатый Жора сделает предложение». Думаю, она поняла, что я шучу, но и в самом деле эта девушка стояла у священника целую вечность. Зря я пошутил, советуя ей рассказывать свою греховную биографию.
Но видывал я и, так сказать, профессиональных исповедников. Особенно в Троице-Сергиевой Лавре в незабвенные годы преподавания в Духовной академии. Обычно ходил к ранней литургии в Троицком храме. А до этого на исповедь в надвратную Предтеченскую церковь. Там на втором этаже читается вначале общая исповедь, а потом монахи расходятся по своим местам и к каждому из них выстраивается очередь. Монахи очень терпеливы и доброжелательны. Но иногда бывало их даже жалко, когда видел, сколько им приходится терпеть от пришедших.
Исповедь - тайна. И что там говорит исповедник, и что ему советует монах, это только их дело. Но один раз так сошлось, что я был свидетелем двух исповедей. Я совсем и не хотел подслушивать, но сами исповедники так громко говорили, что их все слышали. Одна женщина, другой мужчина. Женщина после общей исповеди встала впереди всех, вынула из пакета школьную тетрадь и, помахав ею, объявила: «За мной не занимать!» А за ней стоял мужчина в брезентовой куртке, с рюкзаком и в сапогах, а за ним я. Мы уже не стали никуда переходить. И вот женщина стала зачитывать перечень своих грехов. Она сообщила монаху, что записала их по разделам, «чтоб вам легче было понять меня». И стала читать:
- Грехи против плоти: питание. Объядение. Одевание. Пересыпание. Леность. Косметика. Грехи против духа: осуждение. Пристрастие к зрелищам. Сплетни. Недержание языка. Нежелание покаяния...
Монах, седой старик, терпеливо слушал. Он только попросил ее говорить потише, но она возразила:
- А как же в ранние века христианства? Публичная исповедь была, все вслух каялись. Да вот и при Иоанне Кронштадтском прямо кричали. Сказано же нам: не убойтесь и не усрамитесь. Мне скрывать нечего, я каюсь!
Монах смиренно замолчал. Может, он подумал, что это перечисление и есть исповедь. Но нет. Это все было только оглавление разделов. Чтение продолжалось.
- Питание. Соблазнялась в пост шоколадными конфетами, соблазнялась сдобой на сливочном масле, соблазнялась круассанами и мороженым.
Монах смиренно спросил:
- Соблазнялись или вкушали?
Женщина посмотрела на него как на непонимающего:
- Ну ясно же, если соблазнялась, значит, и вкушала. - Перевернула страницу. - Дальше. Грехи в одежде: носила короткое платье, носила обтягивающее платье, носила голые плечи, носила нескромные вырезы. Грехи против духа: обсуждала и пересуждала сотрудников и соседей, а также слушала и передавала сплетни.
Да, она была весьма самокритична. Мужчина впереди меня был не так терпелив, как монах. Он, я видел, медленно накалялся и наконец перебил исповедницу:
- Скажи: ты каешься или нет? Каешься? Скажи и иди.
- А зачем я сюда пришла? - возразила женщина, но стала все-таки сокращать свои откровения. Заглянула в тетрадку и вдруг спросила монаха: - А вы женаты?
Опять же смиренно монах сообщил, что нет, не женат.
- Тогда я вам это место не буду зачитывать. - Еще перевернула страницы: - Смотрела сериалы, смотрела «Поле чудес», смотрела неприличные виды, возмущалась политиками и обозревателями, в воскресенье долго спала...
Долго ли, коротко ли, монах, тяжко вздохнув, накрыл ее епитрахилью, и она, победно помахав тетрадкой, ушла.
Подошел к монаху мужчина и с ходу заявил:
- Благословляй меня на причастие к Сергию!
- А вы читали молитвы к причастию, каноны? Готовились?
- Я всегда готов!
- Читали правило?
- Не буду я это читать, люди грешные писали. Я к святому Сергию пришел.
- Но есть же правила святых отцов.
- Каких святых? Един Бог без греха. Правила люди грешные писали. У вас тут трехразовое питание, постель чистая, а я по вокзалам живу, слово Божие несу людям. У меня сплошной Великий пост. Хлеб да вода, да когда что. За одно это меня надо похвалить. Я вообще с ходу могу причащаться.
Монах помолчал:
- А откуда вы узнали, что преподобный Сергий святой?
- Как откуда? Житье читал!
- А кто же житие написал? Люди грешные?
Тут мужчина запнулся. Монах смиренно сказал, что не может его благословить к принятию Причастия. «Прочитайте молитвы к Причастию, приходите. Вот на это я вас благословляю». Мужчина сердито закинул рюкзак за спину и пошел к выходу, бормоча что-то сердитое, вроде того, что тебя, мол, не спросил.
На литургии в Троицком храме и он, и та женщина стояли в первых рядах. Женщина пронзительно взирала на священника, дьякона, певчих. И видно было, знает службу. И стояла в храме как строгая проверяющая. Первой, даже до детей, подошла к чаше. А мужчина все-таки к Причастию подойти не осмелился.
МУЖИЧКИ В ХРАМЕ
Название надо прочитать так: не мужички в храме, а мужички. То есть речь о женщинах в церкви. О таких, которые очень походят на мужчин. Никто не заставляет, сами омужичиваются. Идет в брюках, спокойно, смело идет. А то и вовсе в каком-то трико в обтяжку. Ведь срам! Не в дороге же, не на сельхозработах, не за грибами пошла.
Причем сейчас уже во всех храмах за свечным ящиком или при входе, в притворе, всегда есть широкие юбки или платки. И если уже не хватило ума подумать о том, что в церковь в непотребном виде идти грешно, так хоть опоясуйся прямо в церкви.
А то и вовсе идут без платка. Показывают свои волосы. Они у них в основном давно обтяпаны, видно, некогда с ними возиться. Но так прискорбно видеть коротко остриженную даму. Ведь не овца, которую стригут для получения шерсти.
Или это неистребимо в женщинах - нравиться, хвалиться нарядом? Хороша шляпка, надо ее нацепить. И в церковь в ней. Вроде и голова прикрыта, да еще и шляпой покрасуюсь. У Шмелева (по памяти): «Женщины в шляпах манерно крестились, женщины в платках истово прикладывались к иконам». А как в шляпе приложиться - поля помешают.
Признаюсь, что, бывая в храме, не могу иногда удержаться от замечания таким простоволосым женщинам в брюках. Стараюсь сделать это сердечно, ведь все-таки она в храм-то пришла. Может, не знала, что нельзя в джинсах. И могу сказать, что ни разу на меня не обиделись. И в самом деле, зачем им брать на себя такое позорное название: мужичка.
Для пущей убедительности сообщу, что в словаре великого Даля слово «мужичка» объясняется как «грубая, необразованная баба или девка». Или, того страшней, обзывали таких «супарень», то есть, опять же по Далю,«мужловатая женщина, мужиковатая девка».
И уж для окончательной правоты в этом вопросе помещаю цитату из Священного Писания, из Второзакония (22, 5):
«На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом всякий делающий сие».
ЩИТ НА ВРАТАХ ЦАРЬГРАДА
Царьград, Византия, город императора Константина, Константинополь, Стамбул... Как ни назови тебя, а все стоит в тебе храм святой Софии, в котором крестилась святая равноапостольная княгиня Ольга, в котором слушали литургию русские послы и не знали, где они: все еще на земле или уже на небе. Здесь причастилась на дорогу в неведомую, но уже родную Русь сестра императоров Византии Анна, уезжавшая в жены Владимира, великого князя северной загадочной страны.
София! Обступили тебя как штыки исламские минареты, превратили тебя в музей, но как же рвется к тебе сердце, как хочется молиться на твои алтари и представлять, где же то место стены, куда ушел православный батюшка, вышедший с причастной чашей к молящимся, а в это время в храм святой Софии ворвалась турецкая конница. Ушел священник в камни, они сомкнулись за ним, спасая Тело и Кровь Христовы, и мы верим - выйдет батюшка и дослужит православную литургию.
С первого раза я не смог попасть в храм святой Софии. Три года назад я трое суток глядел с корабля на храм. Но на берег турки не пустили. Причем держали в Босфоре и брали за это деньги. За что? За то, что занимаем место на рейде. А не пускали почему? Не были согласны с нашей политикой в Чечне. Нынче они с ней согласились и пустили. А тех, кстати, кто ехал к ним за товарами, они пускали всегда. Но это к слову.
Махмуд
Нам дали причал. Понятно наше волнение. Вот он, Царьград. Где-то здесь шли к нему поставленные на колеса суда киевского князя Олега, где-то тут залив, в который опустили покров Божией Матери. И Живоносный источник. И церковь святой Ирины, в которой был Второй Вселенский собор. Все надо увидеть, успеть посмотреть за два дня. Огорчения начались сразу. В Стамбуле нет православных экскурсий. Нас встречал и стал сопровождать Махмуд, энергичный и безцеремонный. Интерес его был один: русский женщин! «О, - говорил он, закатывая глаза, - русский женщин - это конец света».
Но был у Махмуда и другой конек - это главенство и первенство Турции во всем. Конечно, в Турции все было лучшим: вино, рыба, масло, архитектура. Турция вообще была, по Махмуду, колыбелью цивилизации. То, что и Ева турчанка, это уже было понятно. Но когда Махмуд договорился до того, что и Великая китайская стена построена турками, мы начали смеяться. Махмуд, считая, что мы смеемся от счастья приобщения к Турции, продолжал:
- Да, великая стена построена нами, чтобы спасти мир от кочевых племен Азии.
Мы, как спасенные турками от китайцев, должны были это прочувствовать. Завтрак был, как объявил Махмуд, в старинной турецкой таверне. Если учесть, что и таверна - слово далеко не турецкое, и принять во внимание то, что в таверне по периметру были расставлены тульские самовары и рязанские прялки, то из турецкой старины нам досталось немного.
В отношении религии Махмуд был прост. Он сразу изложил три тезиса: был пророк Муса (Моисей), он получил от Бога закон. Но люди -что с них возьмешь! Плохие были люди, не послушали Мусу, поклонились золоту. Значит, тогда что? Значит, Бог послал пророка Ису (Иисуса), Иса принес заповеди. И опять люди не вразумились. Вот уже тогда, вот уж тогда-то и пришел он, пророк Мохаммад, и принес великий закон. И все в мире будет о’кей, когда люди послушают Мохаммада.
Мы пробовали возразить:
- Моисей и Магомет - пророки, но Иисус Христос - сын Божий.
Но разница эта была недосягаема для понимания Махмуда.
Мы стояли на главной площади перед гигантской мечетью, в которую, оказывается, вход был обязателен. Но начиналось время дневного намаза, уже кричал муэдзин на минарете, вернее, не муэдзин кричал живьем, а передавалась запись его голоса, усиленная стократно.
- Алла, бисмалла и т.д. Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет - пророк его.
В святой Софии
Нехорошо, неудобно заходить в чужой храм во время службы, объяснили мы и стали проситься в храм святой Софии, превращенный в музей. Ахмед вынужден был согласиться. Надо сказать, что наша паломническая группа не выходила на берег без иконы святого Всехвального Первозванного апостола Андрея. И в этот раз она была с нами. Нести ее выпала честь мне, грешному. Ахмед ничего не говорил, но все как-то на икону косился.
Его косые взгляды я понял, когда охрана у храма святой Софии встала на дороге и запретила нести икону. Почему?
- С портретом нельзя, - перевел Махмуд.
- Какой же это портрет, это икона.
- Тем более нельзя. Это музей.
- Но мы все с крестами, - возмутилась одна из паломниц. - А у меня еще и образок Божией Матери. Вот. Это что, портрет?
Мы не захотели оставить икону в комнате охраны и согласились на то, что прикрыли ее шелковым платком одной из паломниц. Что-то в этом все-таки было унизительное. Мы вступали под своды величайшей святыни православия, и нам запрещали войти с иконой. Нам тут же еще внушали, что турки очень благородно сохранили Аль-Софию, а ведь могли бы разрушить.
Махмуд передал нас с рук на руки Мустафе, гиду по внутреннему интерьеру, как тот представился. Мустафа тоже очень нажимал на благородство турок. Вопрос же - показать место, где турки убили последнего византийского императора, а убили они его именно в этом храме, вопрос этот Мустафа не расслышал.
- Ничего не тронут, - восклицал Мустафа, - все цел, полный рекон-струц, исторический подлинник, абсолют!
Но, конечно, какое там не тронули. Огромные щиты с именами калифов утежеляли стены. Обкрадывали пространство. В храме было многолюдно и шумно. Да, не хочу говорить: в музее. Мы подошли к месту крещения святой равноапостольной Ольги, во святом крещении Елены, сняли покрывало с иконы святого апостола Андрея. Именно андреевский крест, воздвигнутый над водами Днепра, на месте Киева, привел нашу святую княгиню, уроженку псковских земель, в Константинополь.
Батюшки, поддержанные нами, пропели величание: «Величаем тя, святая благоверная княгиня российская Ольга, и чтим святую память свою, ты бо молиши о нас Христа, Бога нашего». Пропели трижды. И раз от разу пели все согласнее, все молитвеннее. Турок, офицер охраны, приставленный к нам, не только ничего не сказал, но, тронутый - не словами, которых он не понял, а чувством, которое было высоким и искренним, - показал жестом, что можно более не прикрывать икону. И поклонился ей.
Незабываемы фрески второго яруса храма святой Софии. Деисус-ный чин такой чистоты и первозданности, такой проницательности, что ничего и говорить не надо. Так смотрят на тебя Спаситель и Божия Матерь, и святой первомученик, первоапостол, первый пророк Нового завета, Предтеча второго пришествия Христова Иоанн Креститель, настолько им все про тебя известно, что остается только расплакаться от лицезрения вечности этой чистоты и святости и от своей греховности.
Да. Но кто в храме плачет, а кто и промышляет. У одной из женщины нашей группы украли из сумочки кошелек, у другой просто срезали всю сумочку, оставив на память черезплечный ремешок.
Махмуд и Мустафа и внезапно появившийся их третий друг, Зия, очень переживали.
- С чем же вы пойдете на базар?
- На какой базар?
- Как какой? - воздевали они руки. - Главный базар для Азии и Европы.
По их мнению, это была основная достопримечательность Стамбула и венец желаний всех туристов. Они никак не могли отличить паломника от туриста и понять разницу. Они по-прежнему, уже втроем, старались смешить группу.
- А ведь не только у мусульман несколько жен, в Европе тоже. Только там вторую жену зовут секретарша. - Ну и тому подобные шутки. Они, оказывается, и не знали, а может, просто не хотели знать, где же православные святыни Стамбула.
Но, слава тебе Господи, к группе подошел сотрудник нашего посольства, осведомленный о нашем приезде, выслушал наши просьбы и обещал все уладить.
- Вообще я бы посоветовал посетить рынок, это интересно. Тем более это включено в маршрут. А слово «маршрут» для гидов это то же, что для немцев «орднунг». Завтра повезем вас к Живоносному источнику. Повезет отец Корнилий, попросим. Батюшка редчайший.
«Мамом клянусь! Папом клянусь!»
Если на объектах культуры Махмуд скучал, торопливо и неразборчиво говорил о мавританском и византийском стилях, стрелял очередями дат и фамилий, то к главному, по его мнению, объекту - восточному базару, рынку, караван-сараю - вел очень энергично. Кстати, сарай по-турецки - дворец. Наши явно не лишенные чувства юмора предки сараем назвали сооружение для хранения сена или какого-либо хлама.
Этот караван-сарай в Стамбуле так огромен, так необходим (в том смысле, что его невозможно обойти), так оглушительно криклив, что на первый раз теряешься в его улицах и переулках, в его пестроте и запахах.
- Держи карман! - весело напутствовали Махмуд, прощаясь с нами на три часа, а вернее, просто бросая нас на опустошение тощих паломнических кошельков.
Нас встречали изображения и скульптуры и языческого бога торговли Меркурия с куриными крылышками на бронзовых сандалиях (вот, мол, мы какие древние), встречала и Фемида с завязанными глазами и аптекарски точными весами в руках (вот, мол, какие мы честные, не обманем), встречали и надписи на многих языках, и крупнее всего на русском, о том, что Бог благословляет торгующих. Но нигде не было гарантии, что торгующие не будут тебя обманывать. А они обманывали, причем все. Конечно, может, и грешно называть продавцов Востока жуликами, но что делать, если это правда. Жулики. Причем веселые жулики. А кого и обманывать этим жуликам, как не русских. Мы люди доверчивые, вот и едем кормить Средиземноморье.
Но вообще я бы посоветовал избрать такую форму общения с этими веселыми жуликами. Тут ни турецкий, ни арабский, ни еврейский знать не обязательно. В формуле: деньги - товар - деньги язык отсутствует. Ты показываешь вещь, тебе показывают на пальцах стоимость. Ты делаешь жест недоумения (удивления, возмущения, брезгливости, наконец) и идешь дальше. Тебя хватают за руку и начинается торговля. Если не хватают, еще лучше: такой же товар попадется за ближайшим поворотом.
Лучше, когда цену напишут на бумаге. Писать цифры они умеют. Например, 100. Ты ее зачеркиваешь и пишешь: 20. Он возмущенно вздевает руки. Ты пожимаешь плечами, уходишь. Тебя хватают за руку. Если не хватают, то хорошо: ты узнал, что за вещь, нужную тебе, просят сто. Ты эту вещь видишь снова, и снова тебе пишут, сколько хотят с тебя содрать. Ты снова уменьшаешь их требования в пять раз и стоишь, не тратя нервы. Все равно в любом случае вы эту вещь купите. И все равно -увы! - эти жулики вас обманут. Просили сто, вы, понемногу уступая, купили за сорок. Стоит она десять.
Самое интересное в восточном базаре, что на продавцов не сердишься, зла не держишь. Тебе показали спектакль. За твои, конечно, деньги. Но показали. И сыграли только для тебя. О, как клялся он папом и мамом, как швырял на камни базара свою тюбетейку и топтал ее и потом, показывая, что вы его считаете ниже пыли и праха, надевал на голову. Как показывал рукой своих маленьких детей: «Малай, минога малай!» И уж, конечно, только вы будете виноваты, что эти малай умрут с голода. И почему: «Ви такой жесток, да?» Но надо быть спокойным. Тем более если вы уже держите деньги в руке и он уже увидел их краешек. Не вы, а он на крючке. Вообще, конечно, диковинна для нас восточная любовь к деньгам. Видывал я не раз, как, получив крупную купюру, торговец в экстазе целовал ее, прижимая к сердцу и делал плясовые движения.
После того, как покупка свершилась, вы - друг торговца на вечные времена. Вы, ваши дети, внуки, соседи, все, кто будет в Стамбуле, пусть приходят к Ахмеду, всем будет скидка. «Аллах свидетель!»
И самое интересное, что вспоминаешь потом этого Ахмеда с улыбкой. Аллах свидетель.
Живоносныи источник
Наутро мы встретились с отцом Корнилием. Автобус двинулся вдоль Босфора. Пролив сверкал на солнце и пестрел полчищами ползущих судов, суденышек и похожих на мотоциклы катеров. Все время мы застревали в уличных заторах. Чтобы не допустить праздных разговоров, отец Корнилий прочел трогательное, поучительное повествование из путеводителя по Константинополю XIX века, повествование о битве змеи с орлом. Они бились, орел пытался взлететь, но змея обвилась вокруг орла, и они взлетели вместе. Потом вновь оказались на земле. Сбежались люди, убили змею, освободили орла.
- Это иносказательно об испытаниях веры православной и о защите ее христианами, - сказал отец Корнилий. - Проезжаем как раз место Золотых ворот, именно тут и был щит на вратах Царьграда. Именно недалеко от этого места была платановая и кипарисовая роща, посвященная Пресвятой Богородице. По этой роще проходил воин Лев Маркел и увидел слепого человека, совершенно безпомощного. Человек ощупывал перед собой воздух и громко взывал о помощи, просил пить. Но где взять воду? И вдруг раздался голос: «Царь Лев, вода пред тобою. Войди в рощу, там источник. Напои жаждущего и возложи на его глаза тины от источника. Потом ты здесь воздвигнешь храм». Потрясенный воин так и сделал. И только потом он вспомнил, что голос назвал его не воином, а царем. Но именно так и было потом. Событие обретения Живоносного источника было в 450 году, четвертого апреля старого стиля, в царствование императора Маркиана. Он правил Византией, может быть, больше всех - 66 лет, а его сменил ставший императором, царем Византии Лев Маркел. Да, и он построил гад Живоносным источником величественный храм. Через сто лет водой источника был исцелен благочестивый император Юстиниан Великий, страдавший водяной болезнью. - Отец Корнилий вздохнул. Мы снова стояли, окруженные стадами машин. Но вздохнул батюшка не от этого. - В XV веке Царьград попал в руки магометан. Знаменитый храм «Живоносный источник» был разрушен, камни его пошли на стройку мечети султана Баязета. Окрестности храма были превращены в мусульманское кладбище. Даже и к развалинам запрещали подходить - стояли турецкие посты. Мало-помалу строгости смягчились, турки разрешили христианам построить тут маленькую церковь, но и ее разрушили в 1821 году. А источник снова завалили щебнем и песком. Но даже и на обломках церкви Божия Матерь являла чудеса исцелений. При султане Махмуде вновь был выстроен храм, который с великим торжеством освятил Вселенский патриарх Константин в 1835 году. Храм этот стоит и доныне. Теперь уже и магометане относятся с огромным уважением к храму, берут из источника святую воду. Не исчесть чудес, проистекших от иконы Божией Матери «Живоносный источник». В России наиболее чтимые ее списки в Москве, Астрахани, Липецке, во многих местах. Общеправославное почитание иконы происходит в пятницу Светлой пасхальной седмицы. Вот и приехали! - воскликнул отец Корнилий.
Необыкновенно отрадна вода источника. В нем плавают золотые и красные рыбки. Говорят, это те, которые, будучи уже пойманными и положенными на раскаленную сковородку, вдруг ожили, чтобы посрамить маловеров, усомнившихся в целебности воды. Рыбок взяли со сковородки и пустили в воду. Они ожили. Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» утопает в цветущей зелени. Прямо до того тут хорошо, что не хочется уезжать.
Но ведь надо, непременно надо побывать во Влахерне, этом великом месте, в этой второй, если можно так выразиться, родине Тихвинской иконы Божией Матери. Это она в России стала Тихвинской, явившись в русских пределах в княжение Димитрия Донского, а сюда, во Вла-херну, была принесена из Иерусалима в V веке царицей Евдокией. Ее наименование «Одигитрия» - путеводительница. Не счесть чудес, у нее изливаемых, не счесть ее чудотворных списков. Именно для нее был построен Влахернский храм.
Вместе обсуждаем и радуемся радостной вести о том, что икона Тихвинской Божией Матери скоро вернется в Россию. Увезенная в Великую Отечественную войну вначале в Германию, потом в Америку, она отыскалась в семье благочестивого священника. Он уже приезжал, смотрел на возрождение Тихвинской обители и заявил: как только возрождение свершится, великая православная святыня будет возвращена на свое место. Об этом недавно писали в «Парламентской газете».
Влахерна - некрополь константинопольских патриархов, здесь мощи жен-мироносиц Евфимии, Стефании, Саломии. В храме после духоты летнего дня, после шума машин, толкотни на улицах, особенно после вчерашнего рынка, тихо, прохладно, отрадно очень. Православные знают эти счастливые для сердца и души минуты, когда тихонько затепливаются свечи перед иконами, когда местные священники и наши батюшки договариваются о порядке молебна, и вот - выходят певчие, к ним присоединяются наши, и мы своими молитвами продолжаем идущее из сияния первых веков христианства прославление Божией Матери.
Родина праздника Покрова Божией Матери
А еще Влахерна дорога для православных тем, что именно здесь Царица Небесная явила свое заступничество православным. Это было в первой половине X века. Царьград осадили сарацины. Греки молились. Во Влахернском храме служили всенощную. На нее всегда ходил блаженный Андрей, родом славянин. Его сопровождал Епифаний, юноша, которому было открыто Христа ради юродство святого Андрея.
В четвертом часу утра блаженный Андрей увидел идущую от царских врат Царицу Небесную в сопровождении святых Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Окружало Пресвятую Богородицу множество святых в сияющих одеждах.
- Видишь ли Госпожу и Царицу мира? - спросил святой Андрей.
- Вижу и ужасаюсь, - ответил Епифаний.
Пречистая преклонила колена пред алтарем и молилась. И слезы текли по ее ланитам. Затем она удалилась в алтарь и долго молилась там. Затем вышла оттуда в сиянии славы и распростерла над молящимися свое головное покрывало - омофор. Вскоре сарацины отступили.
По другим преданиям, Покров Пресвятой Девы вынесли и погрузили в воды пролива. Ветер разметал корабли неприятеля.
Праздником Покрова мы обязаны во многом святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Он выстроил первый на Руси храм в честь праздника Покрова на реке Нерль, недалеко от Владимира. И обязательно в этот день бывает легкий снежок. Или слабый ласковый дождик. Или светлый туман опустится на многострадальную землю, напоминая о покрове Божией Матери.
Прощай, Стамбул! И да живет в наши душах Царьград, столица Византии, город, успевший передать нам чистоту православия, нетварный свет Фавора, неповрежденность Христова учения, апостольских преданий. Город храма святой Софии, Влахернской иконы Божией Матери, иконы «Живоносный источник», город подворья Свято-Пантелеимонова монастыря, чудотворной иконы Владимирской Божией Матери. Какое счастье, что уже не тлеет, а светится в тебе огонь православия.
И как иначе? Православие пришло в мир, чтобы дать смысл его существованию. Конечно, несколько православных храмов - это не шестьдесят (столько их было в начале XX века), но и жаловаться грех. Уже одно то хорошо, что Царьград доступен для посещения, и то, что здесь мы приобщаемся к истории православия - это радость. Именно здесь были знаменитые константинопольские соборы, осудившие ереси Ария и Евтихия, именно здесь было решение о патриаршестве на Руси, именно эти берега, эти тесные улицы топтали тьмы и тьмы паломников из России. Мы идем по их следам. Слава Богу!
ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ
Два чувства испытал я в Болгарии, в которой только что побывал. Одно - глубокой печали, другое - сильной надежды.
Тридцать лет назад - вечность - впервые я влюбился в нее. И она отвечала взаимностью. Но сколько же страданий принесла мне моя возлюбленная: перешла Болгарская Церковь на григорианский стиль, убив тем самым всенародное празднование Дней славянской письменности и культуры. И многое другое, не хочется вспоминать, хотя раны свежие (тот же газопровод), лучше скажу о той радости и надежде на то, что наше славянское единение не будет порушено и возродится во всей полноте.
А как мы дружили! Истинно братски! Выходили совместные журналы, люди из России ехали в благодатные болгарские просторы. Даже шутка была: «Курица не птица, Болгария не заграница». Даже, это очень немногие знают, тем более нынешняя безпамятная молодежь, бегущая, задрав штаны, в новый мировой порядок, - не знают, что в 1973 году Болгария обратилась к правительству СССР с просьбой войти в состав нашей страны на правах союзной республики. Наши тяжелодумы из ЦК КПСС ничего умного придумать не могли, кроме как сказать, что у нас нет общей границы. Ну и кто они после этого? Если нет границы с Калининградской областью, так что она, не Россия?
Нет уже многих из тех, с кем мы вместе радовались дружбе. Оставшиеся, конечно, не молодеют. И видел я, что они испытывают чувство вины за перемены в отношениях. Но разве они виноваты, виновато их болгарское правительство, которое не смеет ослушаться мирового правительства и рвет межславянские связи?
С одной стороны, чем выше забор, тем лучше соседи, истина выстраданная. Но с другой, именно славяне любят ходить в гости, любят родню. И это чувство помогло болгарам сохранить памятники русско-болгарской дружбы, особенно памятник Алеше в Пловдиве. Помню, мы приехали к нему, неожиданно пошел снег, а у памятника стояли девочки и мальчики в одних рубашечках и кофточках. И как запели! «Немало под страшною ношей легло безымянных парней, но то, что вот этот Алеша, Алеша, Алеша, но то, что вот этот Алеша, известно Болгарии всей». До сих пор при воспоминании прошибают слезы.
Уже и заряды были подведены под постамент, но всколыхнулось славянство. Отголоски Шипки-Шейново зазвучали, со всех сторон поехали в Пловдив и ветераны и молодежь и встали в оцепление, защищая русского парня Алешу.
И еще обнадеживающее известие: Болгария сохранила кириллицу, славянское написание букв алфавита. А ведь уже все было готово для закабаления болгарского письма холодной бездушной «латиницей». Даже и ученый Велико-Тырновского университета, который обосновывал необходимость перехода на латиницу, уже был награжден правительственным орденом (да, вот такое было недавно у болгар правительство). Обосновать эту продуманную диверсию было очень легко: надо начать болтовню об интеграции в мировое сообщество, о повышении всяких экономических радостей и тому подобное. Много ли надо гражданам, у которых желудок первичнее головы (а таких в любой стране большинство), и чуть было страшное предательство предков не свершилось, но забастовал Велико-Тырновский университет, один из самых древних и знаменитых в Европе. Ученый совет вуза лишил ретивого «латиниста» всех ученых степеней и, как ни уламывали власти страны руководство вуза, не сдался.
И сохранилось великое славянское наследие - наша письменность.
Еще одно отрадное событие было прямо при мне. В Болгарию приехали русские дети. В Камчии, так называется место недалеко от Варны, московское правительство выстроило Центр культуры и отдыха для детей России и Болгарии. И вот встречаются дети болгарские и русские. Русские не знают болгарского языка, болгарские - русского. Более того, болгарские отроки не знают, что есть такой город Москва и такая страна Россия. Но они же дети, им же хочется общаться, и они разговаривают друг с другом... на английском языке. Мировое правительство может радоваться: славяне забывают себя.
Но нет, сильны славянские корни. Уже на второй-третий день радость мирового правительства угасла: дети стали понимать друг друга, обходясь без английского посредника. Очень же много общих слов, одни совпадают, другие одинаково звучат. Да и много ли надо для начала: завтрак, молоко, море, купание, футбол, обед, игры, пение, танцы... Дальше - больше.
Так что английский может отдыхать. Мы родные, в этом все дело.
Маслина, отпавшая от ствола, легко может привиться к нему обратно. Она по природе принадлежит стволу, она не чужая.
Язык и религия идут из глубины веков и крепко связывают нас, и эта связь необорима.
БЫЛО ДЕЛО ПОД ПОЛТАВОЙ
Первым, кого я встретил, ступив на поле Полтавской битвы, был священник. Мысль мгновенно мелькнула: как хорошо в таком святом месте первым делом получить благословение, и рванулся к нему, привычно складывая ладони. И тут же меня отшатнуло - а вдруг он филаретовец. Но уже и батюшка делал шаг навстречу. Все-таки я спросил:
- Благословите, батюшка. А, вынужден спросить, какой вы юрисдикции?
- Той, что надо, - отвечал он, крестя меня и приветливо улыбаясь.
Надо ли говорить, что украинский раскол, начатый митрополитом
Филаретом, явление не только религиозное, но и нравственное и даже политическое. Не будь его, разве б мыслимы были такие щиты с портретом изменника и надписями на них: «Мазепа - перемога украиньской державы»? А плакаты были размером как щиты с рекламой пива.
Жовто-блакитные знамена подавляли все остальные. На втором месте были шведские, на третьем - российское трехцветие. Жупаны и папахи, длинные усы и лихие оселедцы, красные просторные шаровары, сапоги гармошкой - все раньше казалось бы каким-то костюмированным праздником. В общем-то, это и был праздник, и великий праздник - 300-летие Полтавской битвы, но сразу было понятно, что хозяева незалежной, незаможней, самостийной, щирой Украйны присвоили его полностью себе. Да еще поделились со шведами, которых тут тогда побили, а сейчас они были тут дуже желанными. Сегодняшняя Украина присвоила себе не только территории Российской империи, но и ее прошлое. Героическая битва, которая спасла Россию, сейчас от России была насильственно отторгнута. Теперь получалось, что она не в России произошла, а за границей. Дюжие парубки, конечно, были ряжеными, но были не актерами тут, а заправилами. Они тут были хозяева. Нас, российскую делегацию, не то чтобы зажимали, - нет, ставили в первые ряды, но как-то постоянно давали почувствовать, что мы здесь гости. Но хлеб-соль была так хороша, так красивы дивчины в венках, лентах и монистах, что это перебарывало горечь. Гремела бравая музыка, но почему-то эстрадная, а не марш Преображенского полка. Который напоминал бы о погибших здесь русских воинах.
Все теперь умные, и некому сказать, что нет уже никакого толку от перемывания истлевших царских костей, особенно Петра I. Все власти черно-белые. То есть полный злодей - это сам сатана, а прислужникам своим он дает возможность для обольщения людей свершать еще и добрые дела. Ирод избил младенцев - и течет доселе водопровод Ирода, тот же Мазепа и храмы строил. Взять и Берию - о безпризорниках заботился. Все это к слову. Петр - явление, как и Сталин, промыслительное, и не нам, земнородным, понять их всецело. Достаточно сказать: «Бог всем судья».
Так вот, Полтавская битва - может быть, да и не может быть, а точно - главное свершение Петра. Здесь уместнее прибегнуть к цитатам из работ, вышедших в свое время к 200-летию Полтавской битвы. Победа в ней покончила с хозяином Европы Карлом XII, переменила западный взгляд на нас, русских.
Далее выписка из книги «Храм во имя Сампсония Странноприимца на поле Полтавской битвы», издание 1895 года. Полтава: «Все теперь должны были переменить свой взгляд на “варварскую Московию”; на ее царя гордые соседи стали смотреть с почтением, дорожили его дружбой и не смели оскорблять русского флага, который стал развеваться на водах балтийских... Народ стал доверчивее относиться с своему Государю, примирился со всем, что раньше казалось ему тягостным, и уже безропотно смотрел на внутреннее преобразование, видя в нем причину недавней славы и необходимое условие будущего величия. Не забудем, наконец, и еще одного весьма важного последствия бранного дела под Полтавой. Ведь всего полвека прошло с тех пор, как Богдан Хмельницкий вырвал многострадальную Малороссию из рук Польши и присоединил ее к единоверной Москве. Значит, не успела еще Польша забыть этой потери и поджидала только удобного случая, чтобы возвратить утерянное. Проиграй мы сражение под Полтавой, тогда бы не отстоять Юго-Западной России своей независимости, и воротились бы к ней те страшные времена унии, когда святые места наши отдавались в аренду жидам, и храмы православные запечатывались, и имения церковные отбирались в пользу католического духовенства, и прочее. Теперь же Польша не смела спорить с Петром, - обезсиленная еще раньше теми же шведами, она навсегда похоронила свои надежды на Малороссию. Полтавская победа принесла нам великие блага: она сразу и, даст Бог, навсегда сделала Россию могущественнейшим государством мира, государством единым и нераздельным. Недаром благодарные потомки назвали эту победу Русским Воскресением».
И я, благодарный потомок, шел по полю битвы, оглушался орущими динамиками, бодрыми криками увеселителей и все пытался понять, почему мы, славяне, так легко сдали врагам славянства главное - наше братство? Как смогли украинофилы вбить в умы дикую мысль об украинской национальности? Это же, как и русские, народность одной семьи. Причем всегда самостоятельная. Еще с Алексея Михайловича малороссам давалась свобода сношения с внешними соседями и государствами, исключая поляков и турок.
В самом слове «малороссы» только упертый ум увидит нечто обидное для украинцев. Не украинцы малые, они не меньше любых других, а Украина - малая родина русского славянства. Малая родина - это самое дорогое для человека, любящего свое отечество. Малая, то есть та, где ты родился, мужал, любил, откуда уходил в мир. Мать городов, Киев,
Крещатик - это навсегда для нас Малая Русь, давшая жизнь Руси Великой, крестившая и Белую Русь, это ли не самое почетное в семье славян? А уж для меня-то тем более: Киев - город моего небесного покровителя святого Владимира.
В армии я служил с хлопцами из Украины. Были там и левобережные, и правобережные, западэнцы. Доть, Аргута, Коротун, Титюра, Ба-люра, Муха, Тарануха, Поцепух, Пинчук, Падалко, Гончар... Где вы, теперь уже седые, друзья-однополчане? Что нам было делить и тогда, и что делить сейчас? Я как любил вас, так и люблю. Ну да, звали вы меня москалем, и что? Какая тут обида, вы и сами хохлы. Хоть и кацапом зовите, меня не убудет. Своя же семья. И кто сейчас обижается на всякие прозвища? Макаронники-итальянцы, лягушатники-французы? Смешно. Смешно же вам было, когда москали не могли правильно выговорить, по вашему мнению, слово «паляныця» - тут вы чувствовали превосходство, но и это смешно.
Между тем радио на четырех языках - русском, шведском, английском, украинском пригласило делегации к возложению венков на могилу павших воинов. Идем. Нам раздали по две розы. Впереди всех, конечно, по праву, военные. Очередь медленная и огромная. Несем привезенный увесистый венок - дар Москвы. Но идти благоговейно не получается. По крайней мере, у меня. Пристал спутник, непрерывно говорящий, киевский пишущий человек, шутник. Представился: Олесь. «Коротич - така дуже невеличка персона, а наделал дилов, да? А слыхали шутку: “Вы нам Чернобыль, мы вам Коротича”?»
Он сильно моложе меня, поэтому я особо с ним не церемонюсь:
- А тоби не будет выволочка за то, что с москалем размовляешь?
- Та ни, - радуется он разговору. - Вся Украйна за союз с Россией.
- Но есть же и заюленная, зающенковченная Украйна.
- То запад заполяченный.
- Помнишь присказку советских времен, - говорю я, - «москаль на Украине, хохол на Сахалине»? Конечно, все ее знали. Что же хохлы Сахалина, Сибири, Центра России не возвертаются на незалежню, незаможню, самостийну? Потому что им и там лучше всех. Украинцы у нас везде и везде в начальстве. По Сибири, по нефтяным местам, может, только пока банки у евреев не отняли. Думаю, временно. Есть же пословица: «Где хохол прошел, там трем евреям делать нечего». Говорю с гордостью за украинцев. Нас-то евреи переевреили, телевизор посмотри - убедишься.
Спутник мой смеется, и вскоре его растворяет толпа.
Могила - высокий рукотворный курган рядом с церковью. На вершине большой гранитный крест, водруженный в 1894 году при Александре III, и возобновленная им надпись, сделанная собственноручно Петром I после захоронения убитых: «Воины благочестивые, за благочестие кровию венчавшиеся, лета от воплощения Бога Слова 1709, июня 27 дня». Тысяча триста сорок пять человек погребены под крестом. Тогда же Петр особым указом выразил пожелание «в память сей преславной виктории» построить на поле битвы мужской Петро-Павловский монастырь с приделом в честь Сампсония Странноприимца. Почему Петро-Павловский? Потому что император хотел вступить в бой в день Петра и Павла, но обстоятельства вынудили начать битву на два дня раньше, в день святого Сампсония.
Но очень нескоро исполнились царские предначертания. Лишь в конце XIX века был освящен храм на исторической земле. К юбилею усилиями православных Украины и при помощи посольства России в Киеве храм отремонтирован, виден отовсюду, прямо сияет, очень красиво сочетаются белые стены и голубые наличники, зеленая крыша и центральный золотой купол.
Идем к нему. По расписанию торжеств сейчас литургия. Служат несколько архиереев и несколько десятков священников.
- Церковь Московского Патриархата, - с гордостью говорит старуха в белом, обшитом по краям кружевами платочке. - Иди, брат, за мной. -Она тут своя. Проводит меня поближе к певчим, к амвону. Хоров два, оба необычайно молитвенные и слаженные.
Храм просторный, весь переполненный нарядными людьми. Центральный образ - Христос, раскрывший объятия, но еще не на Кресте. У ног Его ангел, подающий Ему чашу. «Отче наш» и «Символ веры» гремят мощно и единоустно. Еще бы - запевалы такие голосистые, рослые дьяконы. Проповедь на украинском наречии вперемежку с русским.
- Через триста лет откликнулись души воинов, услышались нами их голоса.
Крестный ход. Колокола. Сквозь них слышится радио, дикторы читают приготовленный текст: «Прапори России, прапори Швеции та Украйны».
Нас направляют к так называемой Ротонде примирения. Сказал я «так называемой» специально, ибо так ее называют и так написано, к моему недоумению, в программе. А почему ротонда, почему не часовня? Вот и она. Да, часовней эту садовую беседку не назовешь. Ладно, хай будэ ротонда. Три опоры символизируют что? Нет, не Святую Троицу, а три государства - Россию, Украину, Швецию. Ударил гимн, вначале российский. Так по алфавиту. Украинскому гимну подпевали, но мало. «И покажем, шо мы браття козацького роду». Шведский гимн был без слов, но рядом стоящий высокий седой старик сорвал с головы шляпу (а до того был в ней) и во все горло запел. Значит, швед.
Все-таки освящающий ротонду архиерей называет ее часовней.
- Освяченна часовня полеглых воинов.
Ветер хозяйничает в микрофоне, шатает древки флагов и знамен, трещит полотнищами. На ротонде на трех языках написано: «Время лечит раны». Лечит, да, но наносит новые, вот печаль.
- Шановна громада, - меж тем говорят ведущие, - ласкаво просимо!
Дают слово приехавшим гостям и хозяевам. Открывая, один из хозяев: «Пусть Полтавское поле будет полем туризма, и на нем мы найдем новых друзей». Посол Швеции напомнил о величии Швеции и сказал интересную фразу, что благодаря Полтавской битве Швеция обрела теперешние границы и живет в мире с соседями и «с самой собой». Далее о сотрудничестве, инвестициях, далее о том, что «битва помогла шведам обрести историческую родину». Надо же. Я записал. И еще: «Нельзя допустить истории править балом». Может, эта молодая переводчица неточна? Кто ж тогда правит балом, как не история? Только вот кто ей подчинился, Карл XII или она Карлу? Петр-то был вынужден биться за Россию и сохранил ее в истории, а Швеции что тут было делать? Зря им Петр шпаги вернул. Они снова здесь. И уже учат разврату, образцу шведских семей.
Это я сердито сказал товарищу по делегации. Он примирительно коснулся моего плеча:
- Не кипятись, надо быть политкорректным.
- Политкорректность - это трусость, - не уступал я. - Политкорректность приводит к тому, что политики запускают болезнь до того, что лечит ее народ своей кровью.
Программадня продвигалась далее. Представительница Украины сильно хвалила Мазепу. «Дал шанс Украине». О так от. Еще же ж у них и Петлюра, и Бандера, много героев. Они на портретах не стареют. Стабильность. Предательство нынешних властей опирается на предателей в истории.
Узнал, во сколько собираться перед обедом, и пошел по полю. Сотни и сотни автобусов, тысячи и тысячи машин. Обилие флагов, пестрота эмблем на них: и солнце с человеческим лицом, и трезубцы. Нарядные люди отовсюду. Нет, есть, есть сегодня ощущение праздника, единения славян, есть. Был свидетелем встречи двух отрядов казачества. Шли они друг к другу. Одни шли к ротонде, другие от нее. И первые грянули: «Любо, терцы!» И вторые в ответ еще громче: «Любо, донцы!» Вот это любо так любо. А ведь были в истории казачества такие раздраи, непримиримость такая, что и вспоминать не хочется. И не надо. Забыть их и жить дальше.
Две дивчиноньки, пичужки такие, торгуют под полотняным навесом водой, пивом и мороженым. Зовут:
- Диду, ходи до нас! Диду, вы с Москвы? Так в вас же кризис. Визь-мить, - протягивают мороженое, - то безкоштовно. И русские рубли берем. По курсу.
- А долларив нема?
- Та вин же ще не диду, - говорит другая, - вин ще дядько.
Обе такие веселые, молодехонькие хохотушки. Говорю:
- Все-таки Мазепа предатель. Это не мое мнение, это историческая правда. А вы как розумиете?
- Та нам-то шо, - отвечают они и хохочут.
Тут налетел такой порыв ветра, что повалил навес, девчаткам стало не до меня. Помог им и стал возвращаться к церкви. Навстречу большая
группа молодежи. Несут соломенное высокое чучело. На его желтой груди плакат «Мазепа - Иуда». К нему привешен картонный кружок с надписью «30 гривен». К молодежи подскакивает милиция, требует уйти. «Гэть вид-силя!» Насильно заворачивают. Милиции помогают подскочившие парубки в национальных кафтанах. Начинается даже драка, но уже зажигалками подпалили снизу чучело. Солома трещит, пылает и вскоре дымится.
У меня звенит колокольчик мобильника. «Ты где?» - «Где я могу быть? На поле». - «Тут везде поле. Где именно?» - Я оглянулся - недалеко остановка автобусов. «Я у зупинки». - «Какой?» - «Сейчас прочту. “Институт свинарства”». - «Выдумал?» - «Иди и сам смотри». - «Скоро обед».
Меня останавливает старик моих лет, украинец в рубашке-вышиванке. Я почему-то радостно подумал: не сослуживец ли? Пожал протянутую руку:
- Вы в шестидесятом - шестьдесят третьем не служили в ракетной артиллерии в Подмосковье, в Кубинке?
- Там не. - И весело говорит, видимо, уже не раз прозвучавшую от него шутку: - Служил в засадном полку украинского вийска в Полтавской битве. Було його не треба, отсиделся. Вы туточки впервой? Показать вам памятник хороший полковнику Келину?
- Конечно!
Мы идем и вскоре стоим у памятника герою. Келин удерживал крепость Полтавы против шведов, когда превосходство их в численности было в несколько раз против русских.
- Эй, Полтава! - раздается крик из толпы на площадке среди зелени. - Эй, Полтава! Посвистим, покричим, покрякаем! Диджей, вдарь!
На земле расстелен огромный лист линолеума. На него поочередно выскакивают хлопцы в широченных штанах, майках с иностранными надписями, ловко под музыку пляшут, крутятся, скачут. Вдруг начинают выделывать невообразимое: вращаются на животе, на спине, на голове даже. Руки летают как пропеллер, ну орлы! Загляделся и потерял провожатого. Да уже и пора к своим. Обедать, на конференцию и на аэродром. Лететь до дому, до хаты. Еще замечаю на парковой скамье крупные буквы: «Тут была группа “Ниочем” Тепа и Максим». Хотелось и просто походить по улицам, и в магазины зайти, но время поджимало. Только вывески и достались. «Жиночи та чоловичи чохи та панчохи. Одяг». То есть женская и мужская одежда. Плакат против «кишковых захворюваний».
Обед замечательный, украинский. Борщ, сало, пампушки, галушки. Так и вспоминаются гоголевский Пацюк и песенный казак Грицько, который «любил соби дивчину и с сиром пыроги», потом, когда надо было сделать выбор, то заплакал и сказал: «Вы, кляты вороги, визмить соби дивчину, виддайте пыроги». То есть дороже дивчины они оказались для Грицько.
А по дороге на конференцию опять утренний спутник. Олесь хочет знать причины нашей теперешней размолвки.
- Знаешь, кто вас сделал несчастными? Подожди, не возражай. Конечно, несчастные, как это - славяне, и вдруг бежать из семьи славян? А дуракам бросать листовки: «Москаль зъил твое сало, москаль истопил твой уголь». Шушкевичи, Кравчуки, Ющенки, они - слабовольные жертвы, главная вина на католиках и протестантах. Да еще Тарас Шевченко. Его искалечили поляки и пьянство. Попал в Польшу совсем молоденьким за два года до польского восстания 1831 года. Вся Варшава была пропитана ненавистью к Москве, заразился. Какой ужас в «Кобзаре», сколько ненависти к царю, Богу, России. Церковь православная как прыщ - это что? Призыв девственниц к блуду, издевательство над всем святым, призывает «явленними» иконами «пич топити», церковные одеяния «на онучи драти», от кадил «люльки закуряти», кропилами «хату вымитати» - это что? Сколько пошлости и сальности в его виршах. Олесь, «погани мы москали», по его слову, или братья по крови Христовой?
- Розумию, шо мы всегда будемо рукопожатными.
- Еще бы. Куда вы без нас? НАТО вас защитит? Или Москва? Давай ще пидемо зараз до поля. - Я даже неожиданно для себя постоянно вворачивал в свои слова украинизмы. - Ты же знаешь историю. Почему же у вас такие политики? Сказали на Переяславской раде: «Волим под царя московского», что еще? Народ волил! А политики? Умер Богдан, тут Вы-говский, волит противу Москвы. Пришел Юрий, сын Богдана, волит под
Москву. Деление на Право- и Левобережную Украину. И опять политики мутят воды дружбы: и правобережный Дорошенко, и левобережный Брюховецкий отдаются султану, волят под него. Когда хоть вы, бедные, вздохнете? Мало вам, что президент выписывает за народные деньги певца-педераста и ставит с собою на трибуну над Крещатиком? Или и этим чаша не полна? Или этим развратником в виде Сердючки. Дикость же! Это «сестра» наших пошлых «бабенок» из «Аншлага». То так?
- Но Тарасе? - растерянно спросил Олесь.
- Убрали бы его памятник из Москвы, я бы недолго переживал. Многие ли заметили, что ельцинисты стреляли из танков по Верховному совету именно от гостиницы «Украина», от памятника Шевченко? А на его бы месте поставить памятник дружбы народов наших.
- Какой?
- Сделать опрос мнений. Там берег Москвы-реки. Я бы предложил так: «Нэсе Галя воду, коромысло гнэцця, а за ней Иванко як барвинок вьецца», а? О, как я помню украинку Галинку. Мы в армии ехали, в Шахтах стояли, разрешили выйти на десять минут. Десять минут, а память на всю жизнь. Галя. Вынесла с бабушкой на станцию вишни. Боже мий, яка ж хороша та Галя была. Потом так вспоминал! «Ты така хороша, дай хоч подывицца!» У меня брат после института в Шахтах работал, все к нему хотел поехать, но уже женатый был. Да, Галя. Узнал, что Галя, ей бабка говорит: «Галю, швидче накладай». Они вишню в бумажных кульках продавали. Тут парни из вагонов подвалили, на нее обрушились с комплиментами, но я-то знал, что она меня заметила. Да, так вот, Олесь. Меня жгло, взглянуть боялся. И она застеснялась.
Вскоре началась и конференция. Для начала наградили нашего посла, видимо за вложенные в подготовку юбилея русские деньги. Потом пошли речи. Конечно, наши первенствовали, украинцы осторожничали. Как осуждать? Мы улетим, а им тут жить. Испытанные бойцы Валерий Ганичев, Сергей Глазьев, Александр Крутов, Леонид Ивашов говорили ясно, четко, доказательно. Выступления их, при желании, легко найти в Интернете. Смысл: нам не жить друг без друга. И дело не в газовой проблеме, дело в братстве.
Мы крепко запаздывали к самолету. Но так как он шел не по расписанию, был чартерный, то есть купленный, то летчики и не сердились. На аэродроме даже дали двадцать минут на отдых. Я этим воспользовался и отошел подальше от аэродромных огней. Хотя и лето, а уже смеркалось и луна без опоздания выходила обозревать свои владения. Еще немного сохранилось в Полтаве тех мазанок, которые освещала вот эта же луна, что и сейчас, и трепетали все те же «сребристых тополей листы». То есть не те, такие же. «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не в силах воздух, чуть трепещут сребристых тополей листы...» - и так далее до «Ликует Петр. И горд, и ясен...». Тут его выносил в центр истории «ретив и смирен верный конь». Тут «Карла приводил желанный бой в недоуменье». Отсюда утаскивали носилки с ним в безславие, отсюда бежал предатель Мазепа. Здесь сошла с ума соблазненная им крестница Мария, дочь оклеветанного Мазепой полковника Кочубея. Тут скакал всадник, в шапку которого был зашит «донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея».
И вот - граница меж нами, какая дикость! А как отец мой пел украинские песни. И как мы браво топали в армии под «Маруся, раз, два, три, калина, кудрявая дивчина в саду ягоду рвала». А эта, известная во всех краях: «Было дело под Полтавой, дело славное, друзья». И уж что говорить о пословице, употреблявшейся повсеместно как знак поражения: «Погиб, как швед под Полтавой».
И что? И опять гибнем, как шведы под Полтавой? А? Да ничего. Славянская семья все равно останется семьей. Мы, славянские народы - все равно братья. Ну а как же политики? А политики тогда заслужат благодарную память в потомстве, когда будут слушать народ.
СОДЕРЖАНИЕ
Прощание с пройденным............................................................................. 5
Был прах и буду прах................................................................................. 6
Дети пишут диктант................................................................................... 8
Там, внизу............................................................................................. 10
Зато весной............................................................................................ 10
Куча-мала.............................................................................................. 12
Алешино место...................................................................................... 269
Алмазная гора........................................................................................ 272
Две доли.............................................................................................. 274
Бочка................................................................................................... 280
Платон и Галактион.................................................................................. 281
Крестоходцы......................................................................................... 287
Возвращение родника............................................................................... 331
Гора Фавор - гора святая........................................................................... 339
Очи - горе, сердце - горней....................................................................... 348
Два снайпера......................................................................................... 360
Судьба человека..................................................................................... 363
Московский дворик.................................................................................. 365
Расстрел............................................................................................... 370
С наступающим!...................................................................................... 375
Записочки............................................................................................. 384
Поэтесса............................................................................................... 390
Ночь с актрисой...................................................................................... 391
В актерском буфете................................................................................. 393
Разговоры в очереди................................................................................ 394
Всем труба............................................................................................. 395
Хари-хари.............................................................................................. 397
Инженеры семидесятых............................................................................. 400
Ягодницы............................................................................................... 401
Эволюции нет.......................................................................................... 403
Прощайте, дома творчества!........................................................................ 405
Периоды жизни........................................................................................ 407
Алексей Ванин......................................................................................... 411
Корфу................................................................................................... 413
Двухскатная крыша................................................................................... 415
Пути воспитания....................................................................................... 417
Корабль................................................................................................. 420
Тамань, Тамань........................................................................................ 422
Веник женского рода................................................................................. 423
Дунайское похмелье................................................................................. 425
С востока свет......................................................................................... 431
Дар Святой горе....................................................................................... 435
Египет................................................................................................... 512
Елеон.................................................................................................... 528
Время горящей спички................................................................................550
Красная гора............................................................................................ 556
Лазарева суббота...................................................................................... 565
Марусины платки....................................................................................... 588
Могила Авеля........................................................................................... 594
«Олрайт», - сказал Емеля.............................................................................. 600
Японский лифтер....................................................................................... 605
Очки....................................................................................................... 608
Печальные итоги....................................................................................... 610
Ради улыбки............................................................................................. 611
Отец, я еще здесь...................................................................................... 615
Упрямый старик......................................................................................... 634
Кильмезь - сердце мое................................................................................ 636
Голубок................................................................................................... 643
Поздняя Пасха........................................................................................... 646
.. И о всех, кого некому помянути.................................................................. 648
Река Лобань.............................................................................................. 649
Районка.................................................................................................... 651
Господь посетил........................................................................................ 654
Лист кувшинки........................................................................................... 656
Цветок с родинкой..................................................................................... 657
Эти непонятные русские.......................................................................... 666
По местам стоять................................................................................. 674
У отца и матери.................................................................................. 679
Гречиха............................................................................................ 684
Падает звезда..................................................................................... 684
Где-то далеко.................................................................................... 685
Лодка надежды.................................................................................. 685
Первое слово..................................................................................... 687
Подкова........................................................................................... 688
Катина буква..................................................................................... 689
Зеркало.......................................................................................... 690
Наш, не наш?.................................................................................... 691
Крыша течет..................................................................................... 694
Слава Тебе, показавшему нам свет!......................................................... 701
Сушеная малина................................................................................. 708
Церковная завеса................................................................................ 710
Исповедники...................................................................................... 714
Мужички в храме................................................................................. 717
Щит на вратах Царьграда........................................................................ 718
Хороша страна Болгария........................................................................ 728
Было дело под Полтавой........................................................................ 730
Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала ХХ1 века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (подготовлено 19 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 200 томов).
Редактор Д. В. Орлов Корректор Г А. Островская Компьютерная верстка Е. Е. Поляков Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35
Подписано в печать 16.03.2016 г. Формат 70 х 90 1/16. Гарнитура «Times». Объем 33,7 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».
ИНСТИТУТ русской цивилизации выпускает БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА
Главный редактор О. А. Платонов
Энциклопедия включает следующие тома:
Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения Национальные отношения Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации
Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.
К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.
Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.
Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: [email protected]
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.
вышли В СВЕТ книги, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ русской ЦИВИЛИЗАЦИИ:
СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя - русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход - твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 - 704 с.; т. 2 - 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 - 688 с.; т. 2 - 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с. Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с. Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с. Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX - начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с. Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г Г В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с. Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 - 800 с.; т. 2 - 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с. Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с. Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 - 944 с.; т. 2 - 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. - 1120 c.; т. 2. - 1120 с.; т. 3. - 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни - на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах, 624 с. Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII - начало XXI века), 688 с. Виноградов О. Т Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 - 804 с.; т. 2 - 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 - 720 с.; т. 2 - 736 с. Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с. Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, [email protected], www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)