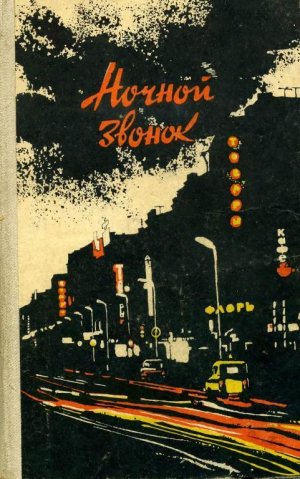
ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВ
Марченко и варнаки
…— Я — что! — самокритично говаривал мне наш участковый уполномоченный Максим Ёлкин. — Я и храбрый-то не особо, а так, исполнительный, сказать. И, конешно, опытный. А кто у нас отважный самый, так это возьми Сеньшу Марченку и — рядом некого ставить! Орел, холера!.. И хитрый же, хохлацкая душа: ведь он на фронт вырвался через прямой, сказать, шантаж. Поймал на слове начальника Управления: тот сказал как-то, не подумав, что вот, кто бы, мол, очистил верховья Согры-реки, — беспрекословно отпущу на фронт! Он пошто тако смело заявленье сделал? Одному кому это не под силу, а группу туда посылать — из кого ее сформируешь при нашей-то людской бедности? А их, варнаков, там косой десяток обретался: своих пятеро из разных мест, да четверо уголовников, из колонии бежавших — эти особо опасны! Ну, там еще Тимофей-охотник приказ о выселении в ближний поселок не выполнил и жил там, лукавый: дезертиром считать — ему же повестку о мобилизации не вручали, а и как ее вручить, когда до его заимки темной тайги верст полтораста? Ну, и шурин его к ему же прибежал, таку же ситуацию использовал…
А Сеньша Марченко и очистил всю долину Согры и притоки ее! И — в одиночку, это мысленное ли дело? Теперь, холера, воюет в дивизионной разведке, писал, хвастался…
Ёлкин Максим и сам мужик редкостной храбрости, только очень неприметной, будничной какой-то храбрости, откровенно завидовал другу и сослуживцу. Да и кто бы не позавидовал такому?
Я, конечно, тоже хорошо знал отчаянного Марченку. С детства знал, и от беспамятной влюбленности в него меня спасала только память об отце, об его уж вовсе недоступной славе, сконцентрированной годами в захватывающую легенду. Кого-нибудь ставить рядом с отцом, с его легендарными подвигами в гражданскую — было кощунственно. И не только для меня…
И эта недосягаемость отцовской славы помогала мне пристальней вглядываться во всех, к кому тянулся сердцем, мечтая о подвигах, смутных по неконкретности и фантастичных по отчаянности. И оттого потихоньку становился я реалистичнее в воспитании собственной смелости да и в оценках ее.
…Крутоплечий, подбористый, чуток кривоногий, как истый горец и конник, был Семен Марченко крепко и умно силен не столь от рождения, сколь от собственного умения постоянно воспитывать и беречь силу и ловкость тела, скручивать их в тугую пружину умом и волей. Словно на предохранителе умел держать, чтобы в нужный момент точно и мгновенно послать литое тело рысьим прыжком, или свинчатку кулака в неуловимый удар, или, наконец, беспромашную пулю из нагана, который вроде бы и из кобуры не вынимался!
Бегал он на лыжах — и на голицах, и на охотничьих камусовых[1] — как гонщик и слаломист, след зверий и человечий распутывал не хуже коренного шорца или алтайца, скакал на конях — кавказец позавидует! А пешком ходил!.. На что уж в нашей горной тайге ходоки издавна не в диво — летом, если человек спешит, так вершным сроду но кинется, пешком быстрее, — а Марченковой «ходе» и завзятые ходоки дивились! Мне как-то пришлось вспомнить в разговоре, что четырнадцатилетними парнями мы с другом за день добежали до Усть-Селезня от нашей Чулты, да вечером в клубе еще подраться успели с усть-селезневскими сверстниками, так, похоже, не верят мне: все же девяносто верст! А постарше, уже в войну, я в четыре утра выбегал и к пяти вечера за те же девяносто — прямушкой, горами, — успевал в аймак на бюро райкома комсомола. И, бывало, упаси боже опоздать!..
А Марченко из того аймачного центра по Лебеди до нас чуть не за те же полсуток доходил, и, глядь, кого-нибудь вечером успевал допросить в сельсовете. А ведь Лебедью до нас считалось сто двадцать!..
В крутые Марченковы плечи короткой шеей могуче врастала круглая голова, волосы коротко острижены под бокс, и в фуражке он казался бритым наголо. Лицо, побитое крупным редким оспенным градом, украшал ястребиный хищный нос и неожиданно освещали синие отчаянные глаза. На кого впервой глянет — так с непривыку и оторопеть недолго: прямо детской синевы глазыньки, лазурь чистая небесная, а взгляд — клинки об него точить. Давний, родовой сибиряк, он любил погордиться и тем, что — из хохлов.
— Самый тот сплав, наша порода — осибиряченные хохлы, крепче не бывает: стукнись — ушибешься до смерти! Я ведь девято колено в сибирских-то Марченках, а прародитель наш — из каторжан.
— Да кто и спорит! — лукаво-смиренно соглашались мужики. — Ты не обессудь на слове, Семен Тимофеич, обличьем-то и сам варнак варнаком, кабы не гимнастерка, дак… Эдак вот встреть тебя в глухом урмане — дак ведь отпетый сиблонец последнюю рубаху с себя сымет — отдаст, позабудет, что и сам — грабитель!..
— А что? — смеялся Марченко. — Мне бы и впрямь не в милицию, в варнаки пойти, ох и попортил бы я кровушки нашему воловому райотделу!
— Так чего ж нейдешь? — задорили его. — Лихой бы атаман был!
— А из кого банду сформируешь? Уголовник нынче сплошной сопляк пошел, пакостник мелкий, само страшно преступленье с перепугу делает. Лихих мужиков, подлинных варнаков и званья не осталось, вывелись варнаки. А их, нынешних-то, и ловить противно, не то что атаманить над ними…
Щурились разбойные Марченковы глаза и синими клинками вдруг ударяли мгновенно и безошибочно. Цепенела малая толпа и сразу выделялся из нее невидимой оградой огороженный какой-нибудь Ефрем Копытин.
— Во, гляньте на Ефрема, — стремительно и резко вдруг начинал Марченко, — чернобород, страшон, ну — тройки на тракту на почтовом останавливать! А он чего делает? Ловит в тайге бычка-торбока[2] Чибиченского колхоза — и обухом его по рожкам! Да ты не спеши ногами екать, дай мне хоть на ноги встать, я ведь ленив догонять вашего брата… Я, гляди, помощника своего вдогон пошлю! — и чуть касался кобуры. — Так вот забил бычка лихой скотокрад, а тут девчушка-алтайка высунулась на беду свою… — и вкрадчиво спрашивал: — Так как ты ее манил к себе поближе-то, каких конфет сулил, расскажи, поделись опытом.
И тихо-свирепо командовал:
— Руки! На голову, вот так, подержи их на умной головушке. Он ведь, мужики, тем же топором да в ребенка кинул со всей своей подлой силушки! Ладно черемшинка на лету попала, спружинила, топор — в сторону, девчушка — давай бог ноги. За бычью требуху да котелок пельменей детоубийцей стать готов был!..
Конечно, такие спектакли не часто случались, но если возможность была — Марченко ее не упускал, любил устраивать экспромтные лицедейства, считая, что это здорово воспитывает других. Вообще у него была отчетливая любовь к внешним эффектам, но всегда не на пустом месте. И славу он, конечно, любил — открыто и как-то усмешливо: сам рассказывал про опасные свои операции и дела, даже самые сложные, но никогда не привирал и не принижал себя даже для шутки. Я уж не говорю про такой, как у Ёлкина, орден — за Хасан, который он носил куда чаще Максима.
И вообще — если Ёлкина уважали, Марченку любили, Максима опасались, Семена — боялись, если Максим был свой, обязанный по службе блюсти закон, Марченко сам собой как бы воплощал закон во всей его строгости, прямоте и неотвратимости.
Его и любили, Марченку, за беспощадно-смелую прямоту и за беспощадно-прямую смелость. И, конечно, за силу и характер — что петь, что плясать, что бороться готов был где угодно и с кем угодно. Бороться с ним, правда, и самые известные силачи не любили: больно коварен был в разных приемах своих.
Смеялся, когда упрекали:
— А я потеть не люблю! Что я, конь, — потеть? Надо: р-раз и в дамки! И лапки кверху! Я тебе не Сеня-феня милиционер!
На деле же все темное — набеглое и здешнее варначество ненавидел и презирал с такой открытой силой, что ее ощущали даже на расстоянии и те, кто еще не попадался ему на темной тропе. Ему платили тем же, да не так же — трусливо, подворотно и вонюче. И бить пытались — заугольно. Оттого не раз пустяковые ухарства — а бывали у него иногда и совсем не пустяковые! — в поездках — докатывались до аймака грязным комом безграмотных анонимок и умело рассчитанных сплетен. Все это и характер его, видно, мешали ему надолго выбиться в начальство, утвердиться в этом: то — оперуполномоченный, то даже начальника угрозыска замещает, а то, глядь, приехал тихо-мирно наши приисковые печи в избах, пекарне да столовой проверять. Никого не допрашивает, и разбойная рожа его прямо благостно смиренна! Ходит, посвистывает, скалит кипенно-белые зубы во весь порядок, брызжет лукавой синевой глаз и штрафует всех подряд немилосердно: печи всюду глинобитные, долго ли, умеючи, непорядок найти?
— Ой, не зря тебя вниз турнули, Тимофеич! — пеняют ему.
— Но? — дивился Марченко. — Разве вниз? А я и не заметил, думал, в гору иду: райпожинспектор — чай, тож инспектор! А чо, со стороны хужей выгляжу?
И охотней и дольше в такие периоды гостевал у нас. Он и раньше не всякий раз миновал нашу избенку: отцовская фамилия и у таких, как Семен Марченко, вызывала уважение, и оказать внимание семье покойного было тем приятнее, что мать моя была отменная мастерица пиво-медовуху варить. Не зря хвастала:
— Бабы-дуры чем только не портят пиво, а у меня безо всякой отравы, на чистом меду — через трои сутки готово, с четвертого стакана любой мужик Ермака запеват!
Запевал и Марченко, хоть и не отмечал я, с которого стакана, а — хорошо запевал!
Мать моя, и так-то гостеприимная не по вдовьей своей горе-горькой судьбине да вечной нужде, Марченку принимала и от других наотличку: ценила песню и сама была мастерица петь, целый хор бабий около нее многие годы жил — по нынешним временам и на сцене не последним был бы. Но особо стала отличать Марченку после того, как уважил он древний обычай. Избенка наша, рассказывал я уж, стояла при дороге, и пешеходы редко миновали ее, припозднясь в пути. Хоть и хлопотно, а матери — гордость.
— К другим-то и побогаче нас, да не шибко тянет людей проходящих, а к нам, гляди-ко, хоть начальство, хоть простонародье!..
Так вот и зашел к нам под вечер парень, попросился ночевать, ночевал, позавтракал с нами и, похоже, не собирается в дорогу. Ну, наше ли дело — трех дней не прожил парень, неловко и спрашивать, когда в путь наладится. А парень выпросил у меня тетрадной бумаги да ручку с чернилами и все писал, сидел целый день. И опять — заночевал. У мамы лицо стало озабоченным и напуганным. Парень наружностью не больно располагал к себе: одет, вроде бы, в чужую лопотину, стрижен коротко, а за красноармейца и во тьме не признаешь — очень в движениях связан и глаза у него виноватые и затравленные.
— Ой, варнак парень-то, ой, варнак! — шептала мать тихонько. — Ладно как отпущенный сиблонец, а ну-ка да — беглый?..
Она бы не постеснялась и спросить и попросить гостя, да недавно перед тем попала впросак, так что до сих пор еще стыдилась, вспоминая. Завела вот этак же к нам мимоходная тропа молодого мужика проходящего. Ночевать попросился, как полагается, вежливо. Мать и баню ему сгоношила, благо нас, ребятишек, все равно помыть собиралась, и покормила, чем могла, и медовушки поднесла. А к ночи забеспокоилась да, поклонясь гостю, и высказалась:
— Ты не пообидься, проходящий, ничего худого не думаю, а только давай я тебя к суседу деду Никите сведу на ночевку. Больно у тебя, не к ночи будь сказано, рожа-то варнацка! А я — баба вдовая и вон как мелкота ребятёшки-то у меня. А у деда — парни-вербы, да трои, чо неладно падет на душу тебе, дак и согрешить не дадут! Я же тебе чо можно, вишь, и состирнула да над каменкой высушила, чистехонько все…
Улыбнулся хорошо этак страховидный проходящий — во всю свою варнацкую рожу — да и сказал весело:
— Ну-к, что же, хозяюшка, айда-пошли хоть бы и к деду…
А после выявился он вполне достойным человеком, и мама от стыда готова была теперь и записных варнаков принимать без слова. Поэтому она и с этим, то ли беглым, то ли отпущенным, не знала, как быть: сам он не сказался, а расспрашивать об этом — как? Сидел, писал гость тревожный, пока на третий день не прибежала мама, вовсе всполошенная. Вызвала меня в сенцы да шепчет жарко:
— Я — когда ошибалась? Не зря с отцом твоим столько лет прожила, насквозь бандитов вижу! Ведь варнак гость-то наш, истованнай варнак, не только ликом, но и судьбой: за ним ведь Марченко да новый начальник уголрозыска приехали! За ни-им!.. Еле-еле уговорила Семена у нас его не брать, не позорить избу. Только вот как же его теперь выжить, гостя горемышного?
Выживать гостя не пришлось. Кончил он длинное послание свое, встал, и по торжественности вида его поняли мы, что сейчас скажет необычное. Встали и мы все. Поклонился он поясно, по обычаю, с самой маленькой сестренки начиная да до матери — всем, попросил простить за умолчание и не думать худо о нем, потому как безвинно он страдает и правда еще себя окажет! А он сейчас уйдет и только просит христом-богом письмо его в руки милиции не давать, а переслать, куда указано.
Мать посветлела лицом и по обычаю же сказала, что не мы ему судьи и что пусть гость идет не попрешным и дай ему бог той правды, кою он заслужил, а прошение его будет отослано, куда указано, и пусть он даже не тревожится об этом. И тут опять стали кланяться — он нам, а мы ему, и пошел парень, еле ноги волоча, через сени в огород да по огороду, а за городьбой уже посвистывал пеший Марченко, тихонько шагая в гору, да привычной присказкой предупредил парня:
— Ты, Ставнов, не беги-ко в гору, я ведь сам бегать ленив, ты очень хорошо об этом знаешь…
Высоко за огородами взял Марченко того Ставнова…
— Вот уважат обычаи! — восторгалась Марченкой мать. — Начальника своего не побоялся, а уважил: не опозорил избенку нашу, не дал худой славе полету! Вот уж нынче вечером угощу обоих и с начальником его, медовуха поспела, лучче и не быват!
— Вот он, мама, пиво твое и уважает, а не дикие обычаи наши! — поддел я ее. А вечером в полном восторге слушал, как Марченко серьезно говорил:
— Я бы и не тянул резину, да боялся, Семеновна, откажешь ты мне от медовухи и — как же я жить от сих пор стану? Ведь ни на одной пасеке лучше твоего пива и не пивал я!
— А лучче моего и не быват! — заносчиво сказала мама.
Я — торжествовал, лукаво поглядывая на маму. От давешней церемонии с поклонами осталось на душе у меня что-то неловкое, неискреннее, вроде бы, и не утерпел, спросил:
— Дядь Сеня, а чем, правда, этот обычай хорош, что вот гостя вы не захотели в избе арестовать?
Он ответил серьезно и просто:
— Старые обычаи силком не выбьешь, парнишка. А тут и впрямь неладно: в семье бывшего чекиста да вдруг вора берем!
— А вообще? — не отступал я.
— А вообще-то тут и благородства столь же, сколь и обычной опаски: а ну как отплатит варнак за «предательство»? В старое же время и добрые люди, прямые революционеры, бывало, с каторги бежали и так вот попадали «в гости», под защиту хозяина. Значит, хорош обычай? А ежели подлинный уголовник? Значит, плох? Вот под одно и сходило — гость, и ладно, не наше дело…
— Наш пострел и тут поспел! — треснула меня мама по затылку, не очень, впрочем, всерьез. А Куганов, человек сравнительно новый в наших местах, никак себя не выказал в этом вопросе.
…А потом они вдвоем с Кугановым пели, что не так уж часто случалось, и опять огород у нас вытаптывали любители послушать редкостно красивый дуэт. Зрелые мужики-красавцы в строгой военной форме, непривычно для таежников подтянутые и аккуратные, когда пели они знакомые и вовсе неведомые нам песни — казались пришельцами из другого, красивого, строгого и чистого мира, до которого нам всем еще надо было дожить…
Беспамятно любил Марченко песню и однажды — тоже еще до войны — смешно пострадал через эту любовь. Дежурил, что ли, по райотделу да пошел КПЗ проверять, а там молоденький Митрошка сидел за очередное свое художество да пожилой уголовник набеглый. Митрошка — певун ведомый, а у набеглого неожиданный оказался бас — поразительной красоты и силы. Семен же Марченко давно тосковал по «Вечернему звону» — все не с кем было спеть, баса подходящего не отыскивалось. Вот тут он и отвел душеньку тоскующую — в камере-то да с арестантами!
После, в очередной свой «противопожарный» период, серьезно говорил понимающим в пении людям:
— Я бы у таких преступников голоса изымал прежде оружия!.. Как так — слепая природа над диалектикой издевается: убийце, животному уголовному, а — голос даден! Ей-богу, я даже отпустить мог бы в некий момент за такой голос!..
Это он, конечно, краснословил насчет отпустить. А вот что точно — с приходом Куганова заметно повеселел Марченко и даже дисциплинированнее стал, охотней подчинялся новому начальству.
Правда, недолго им вдвоем с Кугановым попелось…
Осенью сорок второго в пещере на Шушун-горе насмерть запорол Куганова великан-алтаец Сапог. И второго с ним, Литвинченку, из областного угрозыска, исполосовал ножом да полной инвалидности: без одного глаза и навеки сухоруким остался выживший Литвинченко. И оружие их забрал жестоко удачливый Сапог.
Куганов и Литвинченко дерзко смелы были, да ведь в горах, в тайге одной дерзости мало — умение, звериное чутье и хитрость иной раз не меньше смелости нужны. А городской опыт их — ну, абсолютно бесполезен был, когда рискнули они вдвоем такого матерого зверя, как Сапог, да в его-то извечной берлоге брать! Сапог был родом из подлинной байской и подлинно разбойничьей, что нередко случилось в те времена, семьи: еще мальчишкой с отцом угоном скота у соседних родов промышлял и конских табунов в Чуйских степях, даже и к монголам забирались. Да и всяким иным грабежом не брезговали…
Советская власть повырубила разбойный байский выводок, а взматеревший в подлинного богатыря Сапог все ускользал и дошел до совсем свирепой озверелости. Он и так-то был хитрей канского медведя-людоеда по повадкам, да излюбленная пещера тоже была с хитростями: столько залов, провалищ, тупиков неожиданных, пролазов и колодцев, что впору и легендарному Лабиринту! А для человека несведущего — просто сотня метров разных щелей тупиковых, узких, неглубоко от поверхности, и, кажется, захоти, так заблудиться негде.
Сапог — ускользнул в щель неприметную и сзади милиционеров вышел, как опытный медведь на след неопытного охотника выходит. Те уперлись в тупик, видят — дальше, вроде, некуда и давай назад к выходу. Понятно — без опаски идут, путь-то недлинный и пройден только что. Тут и встретил их кинжалом своим подлый Сапог — в узком месте, где ни развернуться, ни отступить, ни помочь друг другу. Исполосованный — что крови вышло! — Литвинченко еще нашел в себе силы вытащить цепенеющего Куганова на свет да так и лег беспамятно рядом с мертвым уже другом и подчиненным своим.
…Почернел и на ноздрястый камень с лица стал похож корявый Марченко. Зло и насмешливо отказался от массовой облавы и, конечно, бессмысленной оказалась та облава: Сапог и следа своих мягких ичигов нигде не оставил. А когда время прошло и все малость ушумкалось, поутихло — исчез Марченко: не заметили, когда, не сразу догадались, куда. Больше недели пропадал он на проклятой Шушун-горе и в одиночку навсегда оборвал кровавый бандитский след.
Подловил Марченко Сапога на темном суеверии его да на пещерном феномене: эхо жило в неких залах пещеры такое хитрое, многоголосое и жуткое, что и несуеверного незнающего могло с ума свести. Сапог, конечно, знал про эхо, но старался жить тише мыши, когда бывал здесь, и не только потому, чтобы не обнаруживать себя, а и чтобы не дразнить буйноголосых горных духов. Может, их-то больше всего и боялся ничего не боявшийся Сапог — от людей он знал всяческие уловки и уходы, а — в какую щель спрячешься от Хозяина Гор и его вездесущих духов? А может, даже пытался еще и учитывать по-своему людской страх перед ними: глухие и страшноватые, но жили смутно меж людей легенды про загадочную пещеру горных духов…
…Под вечер уже на третий день подъема вышел Марченко к скальной вершине Шушун-горы. Почти вся тайга осталась далеко внизу, а сюда, к фундаменту мрачных каменных стен и столбов, добрались только тундровые полукустарники да кедровые стланики — узкими языками да робкими островками в разливе плитняковых осыпей да вдоль стекающих по крутизнам «каменных рек». По крутым распадкам, однако, и добрые деревья добирались сюда, но платили за свою дерзость неизбежным иссыханием вершин. Внизу, в вольготном междуречье, еще только ранняя осень набирала веселую силу, а здесь и поздняя цепенела боязливо и бескрасочно: резкая ключевая чистота воздуха ощутимо отмякала предчувствием недальнего первого снега…
До полной тьмы хорошо огляделся Марченко. Побыл и в главном входе, у которого подобрали боевых его друзей и начальников — мертвого и полумертвого… Проник довольно глубоко в подземелье, смело подсвечивая себе фонариком, — знал, что Сапог, так страшно накровавив здесь, надолго, а то и навсегда оставит этот вход. Хвати так, где-нибудь в узком пережиме и совсем завалил глубинный лаз отсюда к своему лежбищу. А что он здесь, Марченко почти не сомневался: только он да сам Сапог знали, что ловить бандита тут трудней, чем искать единственную гадюку во всей пещере, в пещере, которой, вроде бы, и нет, до того она неведома никому. Никому — это-то знал Сапог…
Выбравшись вновь наружу, Марченко обошел, сколь мог, вокруг. Бестолковая облава так натоптала всюду, где только можно было натоптать, вплоть до самых каменных осыпей, что до снегов мог бы в любую сторону безоглядно и безопасно вылезать Сапог, не тратя сил на маскировку следа. У двух других известных выходов резко и противно пахли отволгшие кострища и головни. И опять зло усмехнулся Марченко глупости людской: из этих выходов, как из труб, несло пещерной глубинной сырью, и разве что поддувалами они могли хорошо послужить кострам. Тут и дымовые шашки были бы бесполезны — поди, угадай, где и почему всасывает воздух пещера, в какую щель выдувает, в какие неведомые залы несет знобкие сквознячки, а в каких застоялся, может, с древней древности недвижный воздух…
В тридцать девятом пропали из райцентра трое пацанов, да один-то из них — гость городской, приезжий, каких-то начальников отпрыск, к тайге вовсе непривычный. Подняли на ноги всю милицию и комсомолию, и бывалых охотников — искать по тайге ребятишек и, разумеется, в пещере. Обшарили все норы и отнорки, — а и было немного, известных, — и вернулись… потеряв Марченку. Отбился он, любитель в одиночку искать и гнаться, да и пал в неведомый и невидный во тьме колодец столь страшной глубины, что Марченко успел сообразить это в падении, казавшемся бесконечным. После он шутя сказывал Ёлкину, что-де успел на лету обдумать рапорт начальнику с просьбой уволить из органов «в связи с разбитием на мелкие брызги и несобратием последних».
Благо, что провалище оказалось и впрямь естественным колодцем, — врезался Марченко в такую холодную воду, что если б и потерял в падении сознание, вмиг бы пришел в себя: показалось, что и зимой в проруби не могла быть холодней вода. Вынырнул, недолго повскидывал руки в кромешной тьме — зацепился за невысокий порожек каменный, за коим открылся вполне проходимый коридор. Через пять суток блужданий ощупкой да ползком вылез Марченко на Бийской стороне, вполгоры над долиной. А входил — с Лебедской стороны да на самой вершине!..
Рассказав о падении, умолчал о блуждании, да и сам поначалу не знал, почему. Ребятишек, чертенят, нашли на дальней пасеке у дальних родственников, задали им добрую порку, как полагается, и как-то неловко было рассказывать о блуждании в пещере, которой «не было»… Потом успокоил себя, решив, что чем меньше людей знает об этой пещере, тем лучше: огради-ка таких вот пацанов от посещений подземного царства, попробуй! Как-нибудь надо сообщить ученым людям, пусть обследуют… Да за делами все откладывал до удобного случая и вот — дооткладывался. Эх, если б не его отлучка, когда ринулись за Сапогом дорогие его начальники!..
И все-таки теперь его прошлые приключения вот как пригодились: никаких явственных слухов о пещере не распространялось, стало быть, Сапог был уверен, что ничья нога, кроме его собственной, не оставляла следа на полу пещерных залов. Марченко почти безошибочно знал, где поселился Сапог, где мог устроить запасные лежки, где мог отсиживаться от подземных поисков, даже если б натыкались искатели на одно-другое его гнездовье, и где, наконец, мог выныривать на свет для темных дел своих.
Когда совсем стемнело, заснул Марченко спокойно у облюбованного лаза и к полуночи, прозябнув от каменного поднебесного холода, проснулся. Убедился с удовольствием, что ночь беззвездная, темнее души Сапога, если она имелась у того, повозился, попрыгал для сугреву и для проверки, не звякнет ли что в ладном его снаряжении, и — нырнул в лаз…
…Очумел, наверное, до злой душевной трясучки, до суеверного ужаса, безмятежно храпевший Сапог, когда в сон его вторгся зов Хозяина Горы!
— Сапо-ог!.. апо-ог-ог-го-го!..
Шепотливо, невнятно, но все настойчивей, громче, злее, заикаясь и дробясь на слоги, на звуки и вовсе уж на мельчайшие звуковые дребезги, умирая и стеная по собственном умирании! Марченко сам диву дался, каково многослойно и многосложно начинало жить единое, негромко сказанное им слово, мгновенно размножаясь во тьме, уничтожая само себя до полной потери подобия и порождая вовсе невнятные и жуткие шорохи-отклики, как полет летучих мышей — и неслышный, и ощущаемый. И когда давяще навалилась напряженная, оцепенелая тишина, явственно услыхал Марченко с трудом сдерживаемое и оттого еще более тяжкое хриплое дыхание богатыря и не дал опомниться, осознать, догадаться, послав новое:
— Сапо-ог…
И вслед ему, чуть громче:
— Сапо-ог!
И еще громче! И почти на полном крике, когда звуковой обвал превратился в грохочущую лавину:
— Сапо-ог, кель мен!
Пока стихала звуковая лавина, делясь на иссякающе шелестящие песчаные ручейки, отдыхал Марченко, обдумывая закономерность усилений и затиханий, повторов и наслоений тональностей, чтоб не прорвался невзначай чисто человеческий звук. И все уверенней, расчетливей посылал властный, во мгновенном безумии множащийся зов:
— Сапог, иди ко мне!
А когда зашуршал мелкий камень под ногами молча кинувшегося в запасной лаз Сапога, его настиг грозно-насмешливый окрик Хозяина:
— Кайда? Мен ан! Куда? Я — тут!
И послушные духи превратили насмешку Хозяина Горы в бесконечный хохот с безумными взвизгами-всхлипами…
Сколько времени длилась эта пытка звуком, Марченко не мог определить. Просто он с внутренним беспокойством начал ощущать, что и ему не только на барабанные перепонки, но и на психику начинает действовать звуковое сумасшествие, им же самим вызываемое в этом подлинном царстве подземного дьявола. Временами ему казалось, что эхо беснуется само по себе и он не властен ни остановить его, ни вырваться из густого, почти осязаемого мрака, прошиваемого с безумной скоростью невидимыми и опаляющими звуками. Тогда он нащупывал за пазухой рукоятку пистолета, и недвусмысленная реальность оружия успокаивала и вселяла уверенность. Он ждал, что Сапог не выдержит и запалит берестяной факел, и тогда можно просто выстрелить по нему, но тот, наверное, уж и не смел помыслить об огне…
В какой-то момент Сапог и сам заорал:
— Кем ан?
Это понять надо, до какого страха довел его Марченко, если он осмелился окликнуть самого Хозяина Горы! Спросить — у Него! — Кто там? Но Хозяин, понятно, ничем себя не оказал, и только услужливые и буйные духи его заперекликались того тошней, издевательски и страшно перевирая вопрос дерзкого человека, забывшего о могуществе Хозяина!.. Вот тогда-то и выпалил Сапог из Кугановского карабина и тем доконал себя. Где-то что-то тяжко и гулко рухнуло и стало бесконечно падать до самой преисподней, и застонало, заревело, затряслось нутро горы, и пальба — ошалелая, пачками, залпами, одиночными, хлестко и резко — шла бесконечно долго. Аж и сам Марченко со страхом подумал, не завалило ли все выходы из этой сатанинской храмины! И, пожалуй, не для окончательного напуга Сапога, а для самоутверждения, выпалил из ракетницы в направлении Сапогова лежбища.
И под прямо артиллерийскую по силе канонаду, от сатанинского грохота, от багрового, брызжущего во все стороны огня, со звериным воплем ринулся во тьму потерявший остатки рассудка бандит. Марченко, угадав, где выскочит, если насмерть не разобьется, Сапог, ловко вылез своим лазом на свет выхода. На счастье, был уже вечер — которого по счету дня? — теплый и потому туманный, серый, сумеречный. Глаза привыкли скорее, чем мог ожидать Марченко. Близко внизу лежали облака — белые, плотные, слоистые, медленно ползущие вокруг вершины. Почти над ними вылетел из-под земли со стонущим хриплым рычанием Сапог. Мягко и стремительно кинулся к нему Марченко, бесшумно прыгая по глыбам камня. Сапог упал — споткнулся или в молитве? — что-то неразборчивое умоляюще крича в шевелящиеся, наползающие на него облака, в умирающий свет, в неотвратимо густеющие сумерки.
— Встань, Сапог, помирать надо! — негромко и властно сказал по-алтайски Марченко и вскинул пистолет. Великан послушно и медленно встал, так же медленно повернулся, держа молитвенно вздернутые полусогнутые руки перед лицом, и лицо его оказалось почти в пояс стоявшему выше него да на камне Марченке. Копна много лет нестриженных черных волос вдвое увеличивала и без того большую, как родовой казан, голову бандита, да еще была растрепана бурей непрошедшего ужаса: словно каждая жесткая волосина сама по себе дыбилась-столбенела от того ужаса.
Однако по-медвежьи короткую шерстистую шею перехлестывал ружейный ремень и наискось через грудь болтался карабин, казавшийся игрушечным на необъятном тулове Сапога. Честное Кугановское оружие, ни единым подлым выстрелом дотоле не закоптившее канала ствола, сейчас висело опозоренно и обреченно между скрюченных страхом ручищ. Им бы до плеч полагалось закоростоветь неизлечимо от невинной крови, этим рукам душителя и убийцы… Лосиными лопатами-рогами с короткими отростками пальцев закостенело торчали вперед ладони — пока безвольные, пока бесцельные. Пока…
Знал Марченко — коснись карабина невзначай, и мгновенно оживут полумертвые руки, опомнятся, охватив цевье и почуяв сталь спускового крючка, пальцы и сработают безошибочно. Неохватное, даже в полутьме черное лицо Сапога вздымалось медленно, и того чернее прорезались на нем двумя крохотными полумесяцами глаза — из-под пухлых верхних век с кожной пленкой у переносицы. Черные на черном, они все круглились и были застланы тонким белесым туманцем, и дрогнул, сползая, тот туман, когда встретились два взгляда…
Марченко не заметил, как нажал на спуск. Только увидел с жестокой отчетливостью, как меж черными, округлившимися глазами мгновенная появилась дырка, вскипела круговым кровавым венчиком. В непроглядной черноте на неуловимый миг прорезались зрачки, плеснули удивлением, осознанием. Или — болью?..
А, может, просто показалось.
Гигант мягко и тяжко пал ниц, к ногам милиционера. Звонко стукнул камень-круглячок, сорвался, покатился вниз, но перестук его быстро заглох в вязком месиве облаков и никакого эха не породил…
Всяко разно потом рассказывали про это по тайге: и что, будто бы, отбросив оружие, вызвал Марченко великана-бандита на единоборство и жутко секретным приемом так его окалечил, что просил Сапог, как великой милости, пристрелить его; и что сплоховал Сапог, поскользнулся на коварном камне и грянулся о другой затылком да так, что и добивать оказалось некого, и при этом тяжким стоном застонала Шушун-гора; и даже вовсе несуразное — что, мол, вынул Марченко востру шашку и отрубил буйну Сапогову голову, которую и принес после то ли начальнику то ли председателю аймакисполкома, то ли прямо на бюро райкома, водрузил на стол, и всех повергла в оцепенение страшным взглядом мертвая голова…
Весь этот вздор из серии легенд про Марченку и Сапога в одном только факте имел соприкосновение с действительностью: на бюро райкома Марченко действительно побывал и схлопотал строгача по партийной линии, а по служебной — даже и недолгий арест. И вот за что: спустившись в долину, он, прежде чем доложить по различным необходимым линиям, сообщил родичам Сапога о его бесславной кончине и разрешил забрать труп и похоронить его. А родичей у того многонько оказалось — целый род, понятное дело! — и на похоронах было многолюдно. Даже и Караман явился, двоюродный брат Сапога, которого русские Карманом звали. Тоже бандит из бандитов, но не убивец, а скотокрад до войны и дезертир в войну. На Кармана гибель брата так повлияла сильно, что сразу с похорон явился он в аймак и сдался сам, добром. И даже, говорят, слезно просился на войну, чтобы хоть полезной смертью оправдать вредную жизнь свою…
А на бюро, когда Марченке вливали за раздувание славы бандита, за потачку вредным и отсталым обычаям, а попутно и за некоторые другие грехи, неизбежно выплывающие в таких случаях, он долго терпел. Но когда дали ему слово, не вытерпел и рубанул всему честному собранию:
— Как же вы, товарищи дорогие, не поймете, что не на Шушун-горе я Сапога убил, а на похоронах его! И не только трепотню про голову — все покойника с головой видали, весь род его и чужеродных немало, — а трепотня такая вовсе не пустяк для нас с вами, но и, главно дело, всю славу его! Крышка ему теперь уж подлинно гробовая и черной славе его, а это органам нашим и советской власти в ба-альшой плюс!.. А то ведь он, товарищи, еще до-олго бы нас с вами изничтожал по тайге, хотя бы я из него решето в тот раз сделал! Ведь это сколь вокруг него черной романтики напущено было, мысленное ли дело? До полной, будто бы, неуязвимости! А теперь? Карман сдался — это ж понимать надо!..
И, не стерпев, добавил, — а без такой добавки Марченко и самим собой бы не был! — что выговор его не пугает и не обижает, поскольку выносят его такие политически незрячие товарищи, какие знать не желают сложности местных условий вообще и национальных особенностей в частности…
Вот тут ему и довесили до строгача, за политически незрячих-то!
Даже и через долгое время после этого в поездках на самые дальние точки он нет-нет да откряхтывался, Марченко!..
И все-таки историю про бесславный конец Сапога затмила, обрастая тоже легендарными подробностями, история о том, как Марченко один очистил весь бассейн Согры-реки и привел в аймак «косой десяток» варнаков. И здесь самое удивительное, что слухи об этом пошли задолго до его отчаянного похода на Согру, — вначале просто как злой или веселый анекдот, в зависимости от того, кто и кому рассказывал. Дескать, заявило громко некое большое начальство, что-де кто совершит такое — и непременно один! — и того с почетом тотчас отпустят на фронт. В награду. И, ясно дело, не вытерпел хвастун Марченко — заявил, что, мол, берет на себя такое обязательство и выполнит. И обязательно один. Даже и до тех добрался этот анекдот, до кого еще, по слухам, только поклялся добраться сам Марченко, но веселья он им не прибавил. Потому что неустрашимость и удачливость рябого ястреба, прирожденного таежника, была вовсе не анекдотической. И потому что из всех легенд про грозного Марченку эта была самой невероятной, а оказалась самой правдивой.
Словом, однажды, на исходе зимы сорок третьего исчез Марченко. Поползли и полетели слухи, а через месяц люди уверенно рассказывали, что сгиб лихой оперуполномоченный чуть ли не в абаканской тайге и в поминальники милицейские записан. Кое-кто, небось, и в свой поминальник с душевным облегчением внес его, окаянного…
…Конечно, не все я знаю в подробностях, но многое могу вполне реально представить себе. Рассказывал мне о том увешанный медалями старый охотник, бывший штрафник Пантелей — рассказывал живописно и беспощадно по отношению к себе. Вдова павшего на фронте Тимофея, плача и смеясь, повествовала о грозном госте; говаривал и участковый уполномоченный Максим Ёлкин, с которым, конечно, по-дружески в подробностях делился Марченко. Разные люди рассказывали и по-разному, но главное — я с детства хорошо и влюбленно знал веселого и отважного «чай, тож уполномоченного»…
…Будто злой дух, из ниоткуда, из морозной ночной тьмы возник вездесущий милиционер. Спал Пантелей в своем добротном, лучше худой избенки, шалаше, в глухой тайге, где даже в мирное время сроду людей не бывало. Сытый, крепко спал, пригретый теплом от умело налаженной в устье шалаша нодьи[3]. Проснулся от неясной тревоги, открыл один глаз, глянул — закрыл снова. Еще раз открыл, уже оба глаза, опять закрыл — может, дурной сон на сытое брюхо. Опять поглядел — не хотелось верить: около доброго костра его недобрый человек сидел. На коротком сутунке, Пантелеевом сиденье, сидит, руки над теплинкой греет, лицо сбоку — как у ястреба.
Спросил хрипло Пантелей:
— Однако-то, Марчинька?
— Эдак, паря, — спокойно ответил незваный гость, нежданный.
— Рестовать будешь?
— Доведется, Пантелей, — усмехнулся страшно Марченко.
Махнул Пантелей к задней стенке шалаша своего и со стыдом убедился, что и ружья его на месте нет, и ножа на поясе тоже. И топора тоже нету. С отчаянья помочился в угол, осквернив шалаш, приполз к костру, поздоровался.
— Шибко ты сигаешь, паря: из лежачего положения в шалаше да сажень в сторону! — восхитился Марченко. — Только ведь выход ты не там изладил, эка беда! Перепутал спросонья, али не знал, с какой стороны я подойду, а? Поспи еще маленько, лучше прыгать станешь.
— Мошт, убегать буду? — спросил тоскливо Пантелей.
— Попробуй! — опять усмехнулся милиционер, поглаживая его, Пантелеево, ружье, и синим весельем брызнули безжалостные глаза. От усмешки его, от веселья нестерпимых глаз льдинкой холод в сердце покалывает!.. — Сам догонять не стану, ноги пристали, ходил много.
Вздохнул тяжело Пантелей: ежели догонять не хочет Марченко, значит, пулю пошлет вдогон, а пуля у него сроду зря не гуляла, кто этого в тайге не слышал, кто этого в тайге не знает? Оттого долго молчал Пантелей, потом спросил смирно по-алтайски:
— Ты совсем один, что ли?
— А ты совсем дурак, что ли? — тоже по-алтайски спросил гость.
— Я не дурак, я уродом так… — русской пословицей, поломав слово, скрыл смущение хозяин.
— Вот и возись с вами, уродами… — совсем скучно стало Марченке.
Что было делать? Скипятил Пантелей чаю, достал вяленое мясо, талкан[4] в мешочке достал, подал гостю, угощаться просил. Ел мясо Марченко, своим ножом резал, чай пил с талканом и так просто пил. Пантелею не пилось, не елось, тошно на душе было. Рядом сидя, осторожно потрогал за рукав злого духа и, охнув от боли, опрокинулся на спину: будто в капкан попала рука и вывернул ее тот капкан!
— Померяться силой захотел? — зло выдохнул ему в лицо гость.
— Не хотел! — закричал с болью Пантелей. — Ей-бох, не хотел, что ты, Марчинька!
— Пошто же за рукав сгреб? Пошутить вздумал? — все еще зло смотрел Марченко прямо в Пантелеевы глаза, и даже в полутьме шалаша лежачему Пантелею горящими показались пронзительные его глаза!
— Не пошутить, — тихо ответил Пантелей, — пощупать хотел, мошт, сон, думал…
— А, разъязвило бы тебя, урода! — захохотал милиционер. — Сон, думал? Злой дух, думал? Ну, когда проснешься, пощупай еще разок!
— Го-го-го… — глухо и боязливо отзывалась эхом тайга на дьявольский смех милиционера. Вот сидит, хохочет, сильный, как медведь, быстрый, как марал, ловкий, как рысь, упорный и злой, как росомаха, и ничего, никого не боится… Марченко… Настоящий…
— Стрелять будут меня, Марчинька? — тоскливо спросил Пантелей.
— А это как суд решит. Военный трибунал. Я — не суд, я стрелять не буду, если, конечно, не побежишь.
Вздохнул Пантелей, загоревал: хоть бы соврал для утешения Марченко, обманул бы маленько. Не врет никогда — такая про него слава. Смелый, чего ему врать? Врать худо — трусом станешь. Вот он, Пантелей, получив повестку, соврал, что сходит в свою тайгу за ружьем и тогда воевать пойдет, а сам — не вернулся. Раньше смелым был, теперь бояться стал. Всего бояться…
Сумку плоскую Марченко на колено положил, расстегнул, бумагу достал, допрашивать стал Пантелея. Не шибко грозно, спокойно даже допрашивал, только зябнуть стал Пантелей все больше. Может, нодья догорала? Поправить огонь не решался, отвечать торопился.
— Феофана и Тимофея видел ли?
…Другому бы соврать можно, Марченке как соврешь? В глаза тебе глядеть станет, внутри все застынет…
— Пайфана видел давно, Тимопей не видал. Пайфан говорил, Тимопей не велел мне к ему ходить. Сказал: ты, говорит, — это я, Бантелей, — пальцем ткнул он себя в грудь, чтобы Марченко не перепутал, — чи-зир-чир! А я, говорит, — это он, Тимопей, — и пальцем в тайгу показал — просто человек, который ничего не знает. Это не Пайфан так сказал, это ему Тимопей так велел сказать мне… Врет только маленько Тимопей: как это он — человек, который ничего не знает? Вот что я — чи-зир-чир, знает? Что Пайфан у него живет — знает? Правда, Пайфана он тоже гнать хотел, сестра не дала, Тимопеева баба. С бабой кто переспорить может?..
Кончил записывать Марченко короткий допрос, велел расписаться. С великим трудом, потея даже, расписался Пантелей, понимал — с неведомой судьбой своей согласился… Откинулся в изнеможении в глубь шалаша, загоревал опять, обессилел.
— Вот теперь все законно, — весело сказал Марченко.
— Боюсь закон! — почти простонал Пантелей.
— Ду-урак! — несердито обозвал милиционер. — Ты же теперь под охраной закона, понял? Был ты до сей поры вне закона, беглый, и всем враг…
— Эдак, эдак, — безвольно соглашался Пантелей.
— Эдак! — передразнил Марченко. — А сейчас ты протокол допроса подписал, и уже я тебя по закону охранять должен. И никто до суда не смеет обидеть тебя, а там как суд решит.
— И ты не обидишь?
— И я не обижу. Но если, — твердо врезал Марченко, — из-под закона вздумаешь выйти, бежать вздумаешь, не послушаешься…
— Не буду бежать. Буду слушаться, — решил Пантелей, и легче ему сразу стало: теперь за все отвечает Марченко. И — закон. А ему, Пантелею, только слушаться надо. Слушаться всегда легче. А страшный трибунал когда-то еще будет…
Отдохнул Марченко, забрал обе пары его лыж — голицы и камусовые, забрал нож и топор, ружье тоже и сказал:
— Живи дней пять ли, с неделю ли, жди. Дров хватит у тебя, еды полно. Вернусь — пойдем в аймак.
И уже на ходу бросил жестко:
— Не вздумай снегоступы изладить со скуки-то!..
…Сокжой[5] вздыбился было, пытаясь выскочить из снежной ямы на зализанный ветром бугор, но вместо того медленно завалился назад и набок, навстречу удару пули. Снег не расступился под телом оленя, а вначале как бы прогнулся упруго, продавился целым островком и потом растрескался на мелкие части, как мягкая льдина. Марченко хмуро смотрел на трещины — пора было возвращаться в жилуху, на открытых местах начал появляться первый, еще непрочный наст — чарым. Пока это еще был только слой плотного снега с тонкой, почти ледяной корочкой сверху. Но солнце начинает работать безостановочно — днем, а ночью все еще жмут вполне зимние морозы, и скоро повсюду по утрам будет не снег — сплошной чарым, словно столешница покрывающий бездонные сугробы. Тогда, встав затемно, по нему можно будет уйти до восхода солнца километров на двадцать без лыж…
Пора «сбивать в гурт» своих по-волчьи опасных подопечных и выходить в жилуху. Марченко нацедил, вскрыв горло оленя, полный котелок пенящейся парной крови, преодолевая отвращение, заставил себя выпить почти все. Развалил брюшину, достал печень, и тоже приказал себе съесть сырой всю: теперь ему была нужна не просто выносливость, которой ему не занимать, а максимальная, напряженная волевая собранность, зоркость, неутомимость. Снежной болезни он не боялся, да и в таежной полумгле глаза успевали отдохнуть от кратковременного режущего блеска снегов на нечастых долинах. А вот какая-нибудь куриная слепота от авитаминоза могла всю его операцию лишить успеха да и самого — жизни. Марченко же никогда слишком дешево не ценил свою жизнь…
Целый месяц потратил он на тщательное обследование бассейна Согры-реки и теперь точно знал, кто где скрывается, сколько людей и каковы они. Большинству уже «нанес визиты», обезоружил, отобрал лыжи и ножи, и топоры, попрятал все это в удобных местах, чтобы собрать теперь. К двум кержакам-«бегунам» только не заглядывал открыто в их хитрое убежище — лишь рассмотрел в бинокль, что оба здоровы, как медведи, и, конечно, добром не сдадутся. А что бегуны — знал почти точно, потому что ни по каким приметам ни в каких розысках не проходили. Не признающие документов, они не оставляли никаких бумажных следов и потому трудны были для розыска! А слухом пользовался о них Марченко давненько — таежным, смутным, но безошибочным.
Двое уголовников пока что еще не страшны — сейчас они больше всего боятся, что он их… не арестует, оставит здесь! Третий же вообще только тягостная обуза.
— Начальник, не бросишь, а? — почти выли в голос те двое здоровых, сипло и жалко. Беспрекословно отдали два ружья, бесполезных им здесь, им, которым убить человека в жилухе или на тропе было куда легче, чем самого безобидного зверя в тайге. Вонючие, мерзкие, заросшие, заживо пахнущие смертью не меньше, чем их атаман, третий, гниющий уже по-настоящему…
С гадливой готовностью отвечали они на все его вопросы и по мере того, как он все больше узнавал о них, закипала в душе Марченки темная ненависть к ним. Эти двое были законченные «урки», третий, старший, — известный по сибирским городам и тюрьмам бандит Косой, наизусть знакомый самому ленивому милиционеру самого безгрешного участка. Вчетвером они бежали из лагеря, убив охранника и забрав его оружие и одежду, но четвертый уже отсюда в первый зазимок бежал, надев форму охранника и его сапоги, забрав винтовку его и единственный топор своих собратьев. По мелкому еще снегу успели оставшиеся сбродить, ограбить заимку, убили ее хозяев, старика со старухой, забрали тряпье, обутки, два мешка талкана и топор. Топор помог им не замерзнуть, талкан — не дал сдохнуть с голоду. Избушку-зимовье они загадили до омерзения, прижгли дрова и уже принялись за собственные нары.
— Что ж вы, как свиньи, и с…и под носом у себя? Неуж снег отоптать трудно? — спрашивал он и не ждал ответа. Разве они — люди? Звери… Да и не звери, а хуже, поганей, слабей, подлее…
— Да вишь, начальник, Косой не могет — зверя добыть схотел, ноги обморозил, похоже, антонов огонь прикинулся… Ну, он теперь под себя, а мы… Принюхались, да оно и замерзает на полу-то у двери, — подобострастно разъяснил один, а второй добавил слезливо:
— Да нам уж последнее время, считай, что нечем было…
— Пристрели, Марченко, христом-богом молю! — хрипел Косой. — Яви милость последнюю! Эти с-сявки… — и тут у него ярость прорвалась через слабину, — не могут! Ишо не отвыкли бояться меня! Ты — можешь! Сделай, все равно мне вышка по совокупности и по отдельности… Приведи приговор, не дай мучений!..
— Я тебе не трибунал, — преодолевая отвращение, Марченко перебинтовал чистыми портянками своими гниющие, дурно пахнущие ноги бандита. Похоже, и впрямь гангрена начиналась…
…Сейчас он, привычно посвистывая чуть слышно, разделывал оленя, злясь на то, что надо еще и кормить этих полумертвых уголовников, которые распрекрасно погибли бы без него от собственной безрукости. Косой уже и сейчас — обуза, все равно не сегодня завтра помрет от антонова огня, оставить бы его…
«Ты — можешь!»… Он — может, да вот… не может. А почему, собственно, он, Марченко, не может оставить их всех троих здесь, где тайга-матушка сама свершит над ними свой неотвратный и поистине страшный суд? И, главное, справедливый суд! Кто узнает, что Марченко нашел их, да и кому надо узнавать об этом? Мог же он просто опоздать к ним на неделю, скажем, если б решил, скажем, повязать сначала кержаков-бегунов? С теми немало опасной возни предстоит еще, а этим недели, пожалуй, вполне хватило бы… Где-то идет величайшая из войн, на которой он, Марченко, мог быть куда полезнее, чем те желторотые мальчишки, которых уже вынуждены призывать в этом году. А тут вот… возись с убийцами и грабителями, которые, в сущности, сами себе выбрали конец.
В том, что он выберется в жилуху со всем «кодлом», Марченко не сомневался — на то он и был Марченко: отчетливо представляя все фантастические трудности своей операции, он испытывал столь же отчетливую уверенность в успехе. Но вот отпустит ли его начальник Управления, сдержит ли слово, в сущности, брошенное вскользь, не всерьез? Ведь Марченко не спрашивал у него официального разрешения на операцию, да и вообще никого не спрашивал, только начальника своего райотдела, к которому относился иронически-уважительно, предупредил в самый последний момент. Зная силу и стремительность распространения таежных слухов, ушел тайком, взяв официальную командировку в область. И то вот алтайцы знали и — ждали его, не веря, а все-таки… Не ждут ли и те кержаки? Хотя не должны бы, они ведь вовсе не общаются ни с кем, тем более с «нехристями»…
…Мясо было жестким, без единой прожилки жира — тяжко досталась сокжою многоснежная зима, да, видать, и старик он был. Недаром покинул он со стадом сытные моховища тундрового плоскогорья Леннинг-сын, заваленные нынче чуть не саженными снегами, и перебрался на эти скальные крутики, где все-таки проглядывали кое-где меж камней мертвая трава и хилые кустарнички. Вырубив топориком небольшой кусок покостистее — для уголовников, мякоти-то еще нажрутся до смерти с голодухи! — он решил принести его сам, а остальное оставить: пусть походят по снегу за ним, и расстояние и время не дадут без меры жрать.
Себе вырезал мяса помягче, отрубил мозговую кость, тут же сварил в котелке, сытно и плотно поел горячего. Разрубил остальное на куски, завернул в шкуру, зашил кое-как ветками, чуть призасыпал снегом и пошел ходко по своей лыжне к зимовью.
Придя, бросил кусок на нары, сказал:
— Варите пожиже да не наваливайтесь сразу — сдохнете. Косого бульоном поите.
— Марченко, убей! — застонал с воем Косой. — Мучаюсь, не могу… Будь человеком!..
— Я — милиционер, — сквозь зубы зло и твердо сказал Марченко. Оглядел опозоренное охотничье зимовье: пока ходил, двое малость прибрались, соскоблили кучи мерзлого дерьма, сейчас топили печку, а не жгли костер на камнях, радостно суетились с котлом и мясом. Пожалуй, не будь Марченки, они бы стали жрать сырьем! Хорошо, что кости выбрал, долго будут грызть…
— Завтра поутру валяйте моей лыжней по чарыму, — тусклым от ненависти голосом говорил Марченко. — Тут недалеко оленя я свалил, перетащите помаленьку сюда. Варите, жрите, готовьте в дорогу, как умеете. Послезавтра я вернусь сюда с лыжами и с людьми, сразу двинемся в жилуху.
— Начальник, а ты не того… не рванешь в одиночку, а? — с дрожью и подлинным страхом в голосе спросил один. Второй только выставился весь к Марченке в поддержку вопроса.
— Сказал, готовьтесь. В пути больших привалов не будет.
— Мосол, убей, в сашной крест, турецкого бога мать! — как здоровый заорал Косой. — Убей сёдни, не мучь два дня! На ж… я покачусь за вами без ног?
— На нартах повезут. А мученья ты сам себе выбрал, и поделом.
Марченко высказал это хрипловато, без выражения: горло сдавила ненависть, во даже выматериться сейчас — значило для него пожалеть эту гадину, в чем-то снизойти до него…
С горы Марченко летел так, что мгновеньями казалось — камусы сорвет с лыж к чертовой матери! Потом долго лез в гору, успокоился и по хребтине пошел привычно-ходко, чуть посвистывая, обдумывая будущий маршрут и порядок следования.
— И порядок следования… и порядок связывания… — в такт широкому скользящему шагу почти напевал он. Дышалось свободно, тело словно крепло в ритме могучего движения, и от этого росла уверенность в благополучном исходе затянувшейся опасной операции.
…А все-таки никому из них верить нельзя. Уголовники покорны, пока сегодняшняя тайга кажется им страшнее завтрашней кары, пока их неустойчивые натуры обезволены ужасом явственной смерти от мороза и голода, пока вокруг неведомые и страшные звери, а не люди, которых они привыкли сами пугать и «обдирать» почище, чем охотник добычу… Даже и охотнику Пантелею, хотя он явно морально сломлен и вызвался сам помогать милиционеру — в счет будущего возможного послабления. Да и Тимофею с Феофаном тоже, хоть им особо-то и не грозило ничего страшного, кроме, может быть, немедленной мобилизации: формально они еще не являлись дезертирами и хорошо поняли это на допросе. Но… Семен Марченко слишком хорошо знал почти мистическую власть тайги над таежником, когда впереди — смутные пугающие кары, а тайга — вот она, рядом, и свобода — вот она, за первым кустом, за первым сугробом, за густым пихтачом, за ближней горой. И велика она, тайга, и когда-то там поймают еще, а может, и нет, особенно если учесть «опыт». Импульс проклятый — толкнет, и совсем уже раскаявшийся человек превращается в окончательного преступника, защищая свою призрачную «свободу»…
…А вообще-то с ними смех и грех был. Марченко выскочил неожиданно, как черт из рукомойника, так что баба Тимофея в пень превратилась посредине избы. И долгонько так стояла. С карабином в руке Марченко от порога окинул взглядом пустую избу, увидал старый шабыр[6] на деревянном гвозде в стене, шапку-«ойротку» из бурундуков, с кисточкой, новые мужские обутки под лавкой. Резко нагнувшись, открыл западню в подполье, крикнул по-алтайски в черную дыру творила:
— Эзен, Тимопей! Что, за самогоном полез в подпол или за пивом? Давай, быстрей доставай — промерз я шибко, гостевать хочу.
Баба вдруг завизжала и кинулась на него — ведьма ведьмой, брызжа слюной и страшными алтайскими проклятиями. Марченко хотел было легонько оттолкнуть ее, но увидел в руке нож. Охотничий нож в руке рассвирепевшей таежницы — шутка плохая, и Марченко рассерчал. Баба пролетела от его удара через всю избу, ударилась об стену и осела на пол кучей разноцветного тряпья.
— Пожалел маленько, — по-алтайски сказал Марченко, — другой раз кинешься — убью до смерти, поняла?
Баба понятливо кивнула головой, глаза у нее стали круглыми, из открытого от боли и испуга рта через ровные желтые зубы тоненько полилась слюна. От страха она стала часто-часто портить воздух, будто икала низом.
Милиционер сел на табурет, глядя в черную дыру творила под косо вздернутой западней. С края от стены серела сухая земля, россыпь сухой картошки, дальше бездонным казался темный подпол, хотя в таежных избах подполья мелкие — из-за близкой воды, а во многих и вовсе не бывает. Пахло сухой прелью, слабой сыростью, серенькой мышиной таинственностью тянуло пугливо…
«И когда он успел сигануть туда? — удивился Марченко и неожиданно подумал: — Сколь картошки пропадет зря! Научились сажать и…»
Вслух сказал по-русски:
— Эко, худой хозяин Тимофей — гостя ждать заставляет!
— Нету Тимопей! — по-русски же пискнула хозяйка, «икая». — Вовсе нету. Давно…
— Бе-еда… — тянул время, отдыхая, Марченко. — Куда девался?
— Не снай! Мошт, вайвать пошел, Китлер бить — откуда снай?
Жалким и беспомощным было ее вранье, и до отчаянности наивно ждала она, что вот сейчас попрощается неожиданный и страшный гость и сгинет снова в тайге, откуда выскочил, как злой дух…
Марченко вздохнул, на взгляд прикинул линию земляной стены, одной рукой легко перевернул карабин и выстрелил в пол. Баба громко икнула ртом и от нового испуга перестала «икать» низом.
— Пошто неладно робишь? — дрожащий выскочил голос из подполья. — Чужой избе бегашь, чужой бабу бьешь! Три раза не кричал, сразу стрелил — закон гыде, а?
В твориле показалось бледное лицо, под жиденькими усишками силились не дрожать бледные губы раззявленного рта.
— Тимофей? — спокойно спросил Марченко.
— Тимопей, поди, ага, я это, правда. Пошто, говорю, чужой баб бьешь, а? Гыде закон? Свою бей, хошь, дак…
— С вами, сволочами, где же свою заведешь, по тайге ша́стая? Поневоле чужих бить станешь! А про закон ты поздно вспомнил.
— Эдак, эдак! — торопливо согласился Тимофей, вылезая, и уже трубку привычно сунул в рот.
— Порядка не знаешь? — грозно спросил Марченко.
— Прошай маленько, забыл. — Тимофей положил трубку на пол, нырнул в подполье и через секунду подал стволом вверх боевую трехлинейку.
— Ого! — невольно воскликнул милиционер и прежним тоном добавил: — Опять порядка не знаешь?
Ствол моментально исчез, вместо него показался окованный, тронутый ржавью приклад. Марченко взял винтовку, поставив свои карабин меж колен, передернул затвором, проверяя заряд, и в этот момент глянул в окно. Мгновенно ударом ноги сбил Тимофея в яму, рывком закрыл западню, крикнул бабе: — Не смей открывать! — и вылетел за дверь, вскинув мешавшую ему винтовку за плечо. По белоснежной поляне шибко бежал в гору человек на лыжах. Камусовые лыжи не оскальзывались назад, и медленно лезла вверх двойная дорожка лыжни, словно подталкивая человека к недальнему густому пихтачу…
Впервые так оплошал бывалый оперуполномоченный: тот, видно, у косяка стоял, холера, и пока Марченко возился с бабой, выскочил. Марченко выстрелил из карабина, нуля взвихрила снег впереди человека — склон был крутенек. Человек полуобернулся, в ярости взмахнул кайком[7] над головой, и Марченко вновь выстрелил. Лопасть кайка разлетелась в мелкие щепки, лыжник нелепо дернул рукой от удара, упал па бок, каек воткнулся в снег вовсе бесполезной палкой. Милиционер ждал, не закрывая дверь в избу, через плечо заглядывая в нее. Лыжник медленно поднялся, поправил сбившиеся путцы лыж и вдруг ринулся своим следом вниз. Лыжи ходко понесли его к избе, во вскинутой руке злой искоркой блеснул на солнце нож.
— А-а-а! — визжал лыжник, подлетая. — Марчинька, богамайть, кристамайть, минсанера! Резить буду!..
Отшагнув в сторону от подкатившегося лыжника, Марченко ловко наступил на носок лыжи, косо и резко ударил по руке с ножом, и нож упал рядом в снег. От мгновенной остановки лыжник пал вперед, но наткнулся на литой кулак милиционера и со стоном завалился на спину. Не оглядываясь, ушел в избу Марченко, закрыл за собой дверь. Только теперь он скинул козью дошку свою и телогрейку, остался в гимнастерке, натянутой на старенький свитер. Поставил в угол около стола оба ружья, постанывая-позевывая, потянулся всем телом, поправил пистолет на поясе, сел за стол под икону. Сразу косо ушла куда-то замызганная столешница, утлой долбленкой закачалась на невидимых волнах кедровая, несокрушимой крепости, лавка, и вся избенка бесшумно истаяла в мягкий зовущий туман. Сладостно и освобожденно ухнул Марченко в бесконечное падение мгновенного сна и долгонько выбирался обратно, цепляясь за невесомое и неощутимое, тяжело каменея телом…
Со стороны же было видно только, как неожиданно отмякла и подобрела хищная резкость ястребиного лика его, продубленного ветрами, морозами да солнцем до черноты, и веки на миг лишь притушили синий грозный огонь глаз.
— Открой мужика-то, Лукерья, пусть вылезает.
Баба послушно кинулась к западне. Вылез Тимофей, смиренно встал к печке. Давешний грозный беглец вошел, на цыпочках прошел в передний угол, где сидел страшный милиционер за столом, доставал страшную бумагу из страшной плоской сумки. Все было страшным теперь… Подал нож — как полагается, рукояткой вперед, — вернулся, пятясь, к печке, рядом с Тимофеем стал, сказал:
— Драстуй, Марчинька, — и только сейчас стал вытирать кровь и сопли на лице.
— Эзен, Фоефан! — усмехнулся Марченко, по-таежному произнося имя, и привычную таежную формулу гостеприимства кинул: — Садись лавка, гостем будешь. И ты садись, Тимофей. Мог бы хозяином быть, меня гостем принимать — что поделаешь, закон ломал, беду делал, теперь у тебя милиционер хозяин в избе. А Фоефан вот вовсе преступление совершил — вооруженное нападение на милиционера произвел при исполнении последним служебных обязанностей!
И угрозно посмотрел на парня. Феофан совсем скис от грозной обвиняющей правды и непонятного коварства фразы: пошто Марченко назвал последним себя, а не его, Феофана? Оба алтайца послушно сели на приступок у печи. Они были сейчас тихи и покорны.
Что делать? Ведь этот рябой злой дух — сам Марчинька! Вишь, улыбается — от такой улыбки кого морозом не подерет по шкуре? Ему не стыдно вдвоем сдаться, впятером можно сдаться было бы… если бы они вправду хотели от закона прятаться… Кто не знает, что его пуля не берет? Настоящие варнаки не раз стреляли, не могли убить. Сапога взял, убил самого Сапога, або-о, такого алыпа-богатыря! Правда, злой был Сапог, как шатун-людоед, не настоящий алып, однако, богатырь был, шибко сильный, очень отчаянный и хитрый: сколько лет не могли его арестовать, сколько крови пролил Сапог, а Марчинька кончил его страшную жизнь! Кто не знает, что шибко на войну просится Марчинька, только ему то ли самый главный генерал, то ли сам Сталин сказал, что не пустит на войну, пока не очистит всю тайгу от варнаков и дезертиров. Вот — старается Марчинька, потому что поклялся в этом году очистить тайгу. Однако, уже очистил, если сюда добрался…
А они с Пайфаном — что? Не варнаки, не дезертиры даже, бумагу не получали, чего знают — темные таежники. Умных людей на сто верст вокруг нету, — с кем посоветоваться было? Глупых и то людей нигде нету… Пожалуй, так надо говорить, так вести себя. Правда, на брошенном Сакеевом зимовье страшные люди живут, настоящие варнаки, так разве к ним ходили Тимопей и Пайфан? Зачем к худым людям ходить, убьют еще… Может, даже собирались в аймак сходить, сообщить про худых людей, только боялись, не поймали бы по дороге их, совсем смирных охотников… Не подумали бы, что дезертиры, что не добром в аймак идут, а по тайге скитаются, где укрыться ищут… Спрашивать будет Марчинька, все надо говорить, сознаваться: чего не сознаешься, он сам знает. Откуда знает, не поймешь, а только все знает, такие глаза, такой ум у него!.. Про Пантелея надо ли говорить — Пантелей настоящий чи-зир-чир, повестку получал, потом в тайгу убегал… Сознаться про Пантелея — скажет Марчинька, дружбу вели с чи-зир-чиром, не сознаваться — скажет Марчинька, скрыть хотели Пантелея! О-о, Кудай, что хуже — не догадаешься, а догадаться скоро надо, сейчас спрашивать будет. Пайфан, дурак, еще кинулся — с перепугу кинулся, кто бы всерьез посмел на Марчиньку с ножом кинуться, скорую смерть себе найти? Так, пожалуй, надо говорить, так вести себя. Совсем не поверит хитрый Марчинька, может, маленько поверит, и то легче будет…
Что поделаешь? Сидит за столом твердо, как хозяин, сам рябой, нос, как у ястреба, усмехается хитро, даже сейчас чисто бритый — как бреется зимой в тайге, або-о! — а глаза, как голубой снег в горах далеких. Бумагой жутко шелестит. Чего напишет на бумаге?
— Вахта писять станешь, Марчинька? — робко спросил Тимофей, уже полностью покорившийся.
— Не акт, а протокол допроса. Потом обыск делать буду и конвоировать вас в аймак, — строго ответил корявый ястреб.
— А-а, братакол! — обреченно вздохнули оба мужика. — Что поделаешь, закон велит братакол делать, а-а…
Акты всякие им были мало-мальски знакомы, даже акт о браконьерских способах добычи пушнины однажды составляли на Тимопея и, понятно, добра от этих актов не было. Однако, и зла большого не было, штрафы были… Про браконьерство Тимопей сказал — не знал, что так нельзя, больше не буду, сказал, буду по закону промышлять зверя. Ничего, поверили, поругали маленько, штраф дали, соболишек отобрали, конфискация, сказали… А тут — речь не о браконьерстве и не акт, а неведомый «братакол», который пишет слишком известный всей тайге Марчинька!..
— Дураки мы, — горячо по-алтайски заговорили, перебивая друг друга, мужики. — Темные вовсе, в тайге живем, закона не знаем, чего знаем? Не серчай шибко, не пиши грозно, Марчинька!..
— Дураком притворялся один такой Иванак, слыхали? Все от мобилизации бегал, а поймают — дурачка строил из себя, каялся да опять в бег ударялся. Нет теперь Иванака, и дураков в тайге не осталось. Теперь в бегах одни варнаки и дезертиры, которых мы почти выловили. Только вы и остались.
— Не чи-зир-чиры мы! — уверяли вперебой мужики. — Мы правда бумагу-повестку не получали, никуда не бегали, видишь, дома сидели. Откуда знать, что худо дома сидеть? Кабы мы по тайге прятались…
— Вы не дезертиры еще, но ук-ло-ня-ющиеся от мобилизации, что практически одно и то же! — раздельно сказал по-русски Марченко и по-алтайски разъяснил, что это значит. — Эх, вы, придурки, только статистику мне портите!
Не поняли мужики, что такое статистика, только, видно, что-то очень важное, если так серчает Марченко! Может, пообещать не портить больше эту… статистику? Правда ведь не знали!
— Откуда винтовка, Фоефан? — будто выстрелил страшным вопросом Марченко. — А ну, не прячь глаза, трусливый куян![8]
И прямо в душу залез Пайфану, робко поднявшему взгляд, пронзительными и до жути веселыми глазами, голубыми, как вечный снег Белухи. Отчаянно закричал Пайфан:
— Совсем не виноват я, Марчинька! Здесь в тайге пропадал какой-то солдат, весь в гимнастерке, в солдатских штанах. В сапогах солдатских тоже… Не местный совсем, никто раньше не видел, отчего помер, совсем не знаю! Целый был весь, не стреляный даже, только мертвый. Отчего помирал, кто знает? Я винтовку подобрал, хотел к тебе нести в аймак, забоялся только, думал, ругать будешь, в каталажку посадишь…
— Правда, правда, Марчинька, — подтвердил Тимопей, — я даже гнал его, Пайфана, велел в аймак идти, винтовку тащить, тебе про солдата рассказать. Забоялся он, верно, — на него подумаешь, сказал. Я и без винтовки гнал его, вон баба не даст соврать, за него заступалась, боялась тоже. Я говорил — молодой, иди лучше сам, Пайфан, а то чи-зир-чиром будут считать тебя…
И — осекся, поняв, что проговорился. И всем троим усмешка рябого ястреба показалась особенно зловещей. А Марченко с горечью и досадой думал тогда:
— Ну, цирк! Даже и на темноте своей играют вон каково ловко! Доведись не я — сам черт не разберет, где у этих детей тайги правда, где врут нагло! Вон сколько алтайцев воюют уже и как воюют! А эти мне робость натуральную разыгрывают и темноту вселенскую…
И тогда же твердо решил для себя жестокий Марченко ничего не писать про «сопротивление при задержании», если алтайцы в пути не задурят. Но допрос вел по-прежнему строго, обыск провел самый тщательный и ни разу не улыбнулся, когда хозяева со смешной старательностью помогали ему, поспешно показывая разные зауголки, которые он мог бы пропустить… Спросил, сколько у них нарт, узнал, что трое исправных, велел Лукерье взять одни картушки, погрузить все, нужное ей, и выходить в одиночку на прииск Интересный. Дал одностволку с тремя патронами на дорогу, велел сдать ее потом в сельсовете, написал записку о ней и с просьбой выслать несколько вооруженных лыжников в вершину ключа Интересного, на перевал, хоть сам не больно верил в возможность такой поддержки даже в конце пути…
— Придешь в сельсовет, Лукерья, записку отдашь, ружье сдашь, попросишься на работу. Скажешь, я велел устроить. Будешь там жить, работать на золоте, помогать Родине, поняла? Ты баба здоровая, много сделаешь.
— Я баба здоровая, я много сделаю, Марчинька. Только мужикам полегче будет ли, если все сделаю, как велишь? — чуть осмелев, спросила совсем собравшаяся Лукерья.
— Тебе полегче будет! — сурово отрезал милиционер. — У мужиков своя судьба. Иди! И доброй тебе лыжни и доброй погоды…
Потом забрал весь провиант к охотничьим ружьям, обойму к винтовке, четыре пары лыж — двое голиц и двое камусовых. Ружья оставил — и так грузу набралось опять, хребет ссутулишь!
Мужикам велел ждать и не рыпаться, хоть до первой травы! Пока не придет во второй раз.
— Весенний снег след держит долго, — предупредил, — можете бежать, догоню, окликать не стану, понятно!
Как было не понять!..
…Сейчас, придя во второй раз в Тимофееву избу, он с удовольствием убедился, что мужики приготовились полностью в дальний путь: на одни нарты увязаны личные их вещи, продукты, мешок сушеной картошки, другие только застланы старой бабьей шубой-чегедеком — для больного бандита, как велел Марченко. Котомки плотно набиты, и лямки подогнаны. Мужики хорошо проверили и лыжи, которые приволок назад из тайника Марченко, а он проверил «воз»: ружья, как наказывал, завернуты в половик и привязаны под грузом. Маленько поспорили, на чем лучше идти, на камусовых или на голицах, согласно решили, что еще вполне можно на камусовых и лишнюю пару голиц прикрутили к порожней нартушке.
Мужики томились, курили трубки, ждали неведомого. Ночь навалилась на тайгу с крепким морозцем, с густой первозданной зимней тьмой. Марченко без лишних слов велел обоим брать шубы и лезть в подполье, закрыл их и лег спать «впрок». Чем свет вышли на мороз, оставив двери открытыми. Небо в межгорье, обычно серое, непроглядное в такой час зимой, теперь было густо-синим — по-весеннему. За ночь подсыпало малость мягкого, как пух, снежку, и все порадовались, что не будет драть камусы чарым и лыжи пойдут ходко. Говорили приглушенно, словно стеснялись. Марченко понимал состояние мужиков, но ему и самому было тошно.
— Давай, Тимопей, — медленно проговорил по-алтайски Марченко, — поджигай избу.
— Або-о! — перепуганно воскликнули оба враз. — Изба чем виновата, Марчинька?
— Изба чем виновата? — злясь на себя и на них, повторил Марченко. — Вы виноваты, хозяева! А избе судьба — уйдем вот отсюда, и не будет она притоном какому набеглому бандиту, понятно?
И опять подумал, что если бы не Сакеево зимовье, подохли бы давно уголовники: на заимке ограбленных и убитых ими стариков не посмели бы жить — все-таки ведомое людям место…
Тимофей так растерянно топтался у своей, ставшей вдруг маленькой и жалкой избы, что Марченко не вынес его муки, и сам поджег берестяную крышу. Старая высохшая береста вспыхнула так весело и охотно, будто только и ждала такого славного конца! Даже толстый слой снега на крыше не мог остановить огня, хотя бурно таял. Феофан поджег смолистый кедровый корень и вдруг со зверским выражением на глуповато-добродушном до того лице, вбросил чадно пылающий факел в избу через распахнутую дверь. Вскоре пожар взялся в полную силу, и можно было трогаться в путь.
— Поджигатель! — со злой горечью думал про себя Марченко, видя, как часто оглядывается на огонь Тимофей. — Только этой еще славы не хватало тебе… райпожуполномоченный!..
И прикрикнул на мужиков:
— Ну, чего заоглядывались? После войны вернетесь, новую построите, да не такую конуру!
И сам не догадался, какую искру надежды с необычного этого пожара заронил в их души своим восклицанием. У мужиков ледок на душе подтаял: Марченко сам сказал — вернетесь!..
По торной лыжне, по явственному чарыму, припорошенному, как на заказ, тонким шелковым снежком, шли быстро, безостановочно к Сакееву зимовью, опоганенному уголовниками. Тимопей вез за оглобельку и веревочную петлю через плечо груженую нарту, Пайфан подталкивал ее сзади кайком, а Марченко вез следом почти пустую, бросив на нее осточертевший карабин и козью дошку.
…Уголовники запалили зимовье с восторгом, мешки их были набиты одним мясом, больше брать было нечего. На порожнюю нарту уложили, закутав в чегедек, Косого. Верные дружки его попробовали уговорить Марченку бросить «бесполезный груз», тем более что «груз» и сам умолял о смерти, но Марченко так выразительно глянул на них черным глазом карабина, что дискуссий на эту тему больше всю дорогу не возникало. Пришлось только «коренниками» в обе нарты впрячь алтайцев, а уголовников привязывать «толкачами» сзади нарт — лыжниками оба оказались аховыми, а с нартами и вовсе никуда.
Косой еще иногда сипел «Пристрели!», особенно когда опрокидывалась нартушка, но сипел уже не так убедительно: в подыхающем звере начинала тлеть надежда — пока довезут, пока полечат, а там…
В Пантелеевом шалаше сделали первый крупный привал, стало их семеро и прибавилось груза: по пути извлек Марченко из нового тайника Пантелеево оружие, снасти и лыжи. Пантелей обрадовался милиционеру, как старому другу, суетился искренне — видно, невмоготу было одинокое честное ожидание. Да ведь окаянный милиционер не шибко и полагался на честность Пантелееву и лыжи увез, обе пары, а кругом двухсаженные таежные снега, а чарыма в черни[9] не бывает, а на открытых местах он еще тонковат и недолго живет по утрам… Сейчас только помаргивал Пантелей узкими глазками, глядя на ораву арестантов, до холодка в сердце восхищался удалым Марченкой и все не мог решить, признавать ему знакомых алтайцев или нет. И они, похоже, не решили. Но зато Пантелей совсем твердо решил сейчас никуда не убегать от проклятого милиционера, которому, наверно, духи помогают, все равно не убежишь. Лучше помогать ему, костры ладить дорогой, лыжню торить, нарту везти, мало ли что… Хотя, конечно, нарту везти он и так заставит — не сам же повезет, поди. Но все равно — помогать, чем придется, потом на суде сказать про это, может, маленько пожалеют…
Крепко вечерело, и в тайге было совсем темно, однако зоркий ястреб рассмотрел ямистый след от безлыжного человека, в гору идущий, с дьявольской усмешкой спросил:
— Не вытерпел, попробовал?
Хотел соврать Пантелей, дескать, тебя, Марчинька, высматривать лазал, ждал, да понял, что не стоит, — разве его обманешь? Вздохнул, ответил:
— Так, нарошно пробовал маленько, от скуки. Вишь, вернулся вот. Зачем тебя омманывать? Лучче буду помогать, хочешь дак…
— Шибко хочу. Давай-ка вот костер подживи, да сними с нарт котел избяной, вари на всех оленину, чай кипяти. Кормить вас надо крепко, потом суток двое сухомяткой придется…
По два человека кормились у костра, у каждого был свой котелок, даже у уголовников. Потом Марченко связывал поевших двоих, хитро связывал, велел лезть спать, кормил других двух. Со стороны кто бы глянул — вполне мирная картина: артель охотников ужинает неспешно у доброго костра, только один не ест, чуть в сторонке сидит с ружьем. Может, от шатуна бережется…
Последними Пантелей с Феофаном ели, потом увязали Пантелееву нарту всем необходимым, чем Марченко велел, чтобы с утра без задержки двигаться в путь. Покормили страшного больного — намешали в чай талкану погуще, вроде жидкой кашей напоили. Мясо ему в горло не лезло, но он все же попросил кусочек помягче, долго сосал, чмокал, после то ли проглотил, то ли выплюнул.
— Еще и выживет! — с брезгливым удивлением подумал Марченко. Велел затолкать нарты с больным в шалаш, связал Пантелея и Пайфана. Пантелей просился не связывать, Пайфан только вздохнул, спина к спине неловко полезли в шалаш, некоторое время там все ворочались, возились, укладываясь уж подлинно тесными парами. Марченко взял ветровой щит Пантелея, из лозы плетенный, закрыл вход в шалаш, крякнув, придавил хорошим бревном.
— Начальник, — донесся голос уголовника, — замерзнем, от костра загородил.
— Перезимуешь, — равнодушно ответил Марченко, — а то набз… там, искра попадет, еще взорветесь.
Противный заискивающий смешок…
— На кой черт пошучиваю с г…..? — сам себя оборвал Марченко. Подтащил нарты плотно к «дверям», поправил нодью, устроился на нартах, завернувшись в шкуру, и уснул спокойным, но по-звериному чутким сном.
…Утром без чая, натощак, позволив только справить необходимую нужду, Марченко стал «формировать обоз». Велел Пантелею вытащить медвежью шкуру-подстилку: пригодится еще спать, а тяжка покажется, так и бросить не жалко. Потом приказал алтайцам растащить шалаш и спалить.
— Зачем таскать? — спросил охотно работавший Пантелей, и двое других тоже посмотрели с недоумением. — На месте не сгорит, что ли?
— А кедр? — рявкнул Марченко. — Т-таежники еще…
Красавец-кедр, в полроста вымахнувший вверх над остальной тайгой-чернью, угрюмовато глядел на большой костер у своего подножья, то ли благодаря людей за то, что не спалили его, то ли скорбя, что вот этот — надолго последний костер в здешних местах…
…Когда Марченко, обогнав свой странный «обоз», приказал Тимопею, шедшему первым с легкой нартушкой, сворачивать на Тесы-су[10], тот даже охнул:
— Разве мы не пойдем по Согре к перевалу на Интересный?
— После того, как зайдем сюда. Ненадолго.
Смятение отразилось на лице Тимопея, он забормотал, что место — проклятое, страшное место, речка духов, худо тут…
— Вот я и хочу очистить ее от двух духов, — усмехнулся Марченко, и усмешка вновь в трепет повергла охотника. Наверное, знает Марченко, что и Тимопею ведомо, какие духи поселились тут не столь давно… Нерешительно потоптавшись, он вошел в узкую мрачную каменную щель. Медленно втягивался обоз по засыпанной снегом полке под скалами в ущелье. Камни уходили в поднебесье и ощутимо давили на людей мрачным своим величием и величиной. Марченко стоял, пропуская людей с нартами, оглядывая их, хмурился в раздумье. Предстояла самая, пожалуй, опасная часть его таежной эпопеи. Все, что он в одиночку сделал до сих пор, — семечки…
Кинул взгляд на нарты с Косым, секунду подумал, отрицательно качнул головой самому себе. Оставить его тут хоть ненадолго — заблажит, подумает, что хотят бросить совсем: он стал сильнее цепляться за жизнь, хотя ему в дороге стало хуже. Марченке физически было невыносимо думать об этом невероятно живучем чудовище, а не думать было нельзя.
Километра через два мрачное ущелье вдруг раздвинулось в небольшую долинку, веселую, прямо праздничную. Тут Марченко опять обогнал всех и скоро встал. По правой руке тянулся каменистый, но не очень высокий обрыв с пихтачом по самому гребню, а слева по ходу склон более пологий, весь зарос кедрами. Как на подбор одинаково высокие и кудрявые, тоже как-то по-особому веселые, кедры были лазовые и даже снизу, видать по завязи, — богаты шишками на будущую осень. Забраться бы сюда в конце августа пошишковать!.. Марченко вздохнул — сколько лет назад ходил он в кедрачи просто шишковать?
Под кедрачом крутым лбом-лысиной выпирала поляна со щеткой голого таволожника, а ниже, почти у ног Марченки, клубился па́ром с неясной и слабенькой зимней радугой искристый водопадик-порожек, растекаясь после падения в черное зеркало незамерзающей, видать, по всей зиме полыньи. От середины поляны, прямо из-под земли выныривала и скатывалась к водопадику вполне четко протоптанная тропка! Укромное и удобное местечко выбрали себе для скита святые отшельнички!..
Подтягивались люди, поворачивая нарты, попарно волоклись вперед, чуя необычное. Даже в таком невеселом положении их любопытство было сильнее равнодушия.
— Ну-ка, прячьтесь за камень да не высовывайтесь, братья-разбойнички, а то я враз не досчитаюсь кого-нибудь из вас! — весело скомандовал Марченко.
— Неуж еще кого брать будешь, начальник? — изумился уголовник.
— Буду брать, буду брать… — уже рассеянно повторял Марченко, жадно изучая взглядом поляну. — Крупных зверей буду брать. Сказано, не высовываться! — и стал проверять связки. Осмотрел еще раз и нарты — нельзя ли выхватить вдруг из поклажи топор или ружье, убедился, что нельзя. Заметил, что нарочито затягивает осмотр, медлит, и удивился своему, похожему на неуверенность состоянию.
…Еще во время обхода «берлог», до сбора всей «кодлы», он целый день с утесистого берега изучал эту берлогу двух медведей, видел в бинокль с близкого расстояния их обоих: пугающе велики были эти кряжи. Один из них спускался к водопадику за водой — огромный, бородатый, в шапке столь густых волос, что и не нужна была бы настоящая шапка. В руках туяс[11] ведерный — видать, не признают мирской посуды скитники, кроме какого-нибудь варочного котла. И под гору и в гору с водой он шел тяжко и твердо, — видно, как гнетет его бездельная силушка!
Второй, пожалуй, еще здоровее и крупнее, темнее волосом, прошел в сторону кедрача, перекрестился, справил в укромных кустиках нужду и сразу завалил место снегом. Этот долго стоял почти неподвижно, изредка машинально крестясь, и Марченко хорошо рассмотрел его в бинокль. Возраста в такой дремучей волосне не угадаешь, но могуч несомненно. Оба они не просто дезертиры от войны, они вообще дезертиры — от общества, от государства, от «мира»… Знавал таких сыздетства Сеньша Марченко. Они жили на дальних заимках богато и зверино-одиноко, или малыми деревеньками своих по вере, отгородясь от чужих глухой стеной ненависти ко всему мирскому и бревенчатыми, саженной высоты заплотами от редких и случайных проходящих. Умри в злую морозную полночь у ворот — не пустят, хоть до утра все будут молиться усердно о душеньке заблудшей, а попади невзначай, по оплошке в их гнездилище — убьют, не охнут, ни в чем неповинного. И опять стар и мал будут молиться по душе убиенного, усердно прося бога простить е г о!.. От всех и всяческих властей бежали они поколениями во все большую глушь лесную, во все большее душевное одичание. А уж советская власть стала им ненавистнее царевых гонителей-никониан: те хоть «гонили» их, да своему богу кланялись, хоть и неверную, да свою веру имели, а эта, антихристова, каиновой печатью во лбу злослужителей своих меченная, окаянная власть отвергла всякого бога! И не подкупишь никого, не в пример царевым слугам, поганым, да зато податливым на подачки. Случалось, что и перегибали власть на местах после революции. А их и так веками гнули да ломали, но только твердости прибавляли новым поколениям «страдателей за истинно русьскую веру древлюю» со всеми ее причудливыми вывихами и толкованиями.
А эти двое — еще и явно из «бегунов», безбумажных, безыменных божьих людей, крайних фанатиков, безграмотных, но тем более яростных в путаной вере своей…
— Марчинька! — дрогнул голосом Пантелей. — Давай помогать буду имать бандитов. Смело помогать буду!
— Я тоже помогать буду!
— И я, — поддержали Пайфан и Тимопей.
— Доверь нам, начальник, скрытников давнуть!
— Опыт имеется, лишь бы в зачет пошло! — с развязной и мерзкой готовностью включились уголовники. — За себя не боись, нам расчет тебе помочь!
— Нет! Сказано, стоять тихо, если набежит который — валите кучу малу. Да не набежит, не бойтесь…
Он слишком глубоко ненавидел уголовников, чтобы принять даже верняковую помощь от них. Сейчас они рвутся на д о з в о л е н н о е обстоятельствами, возможно, «мокрое» дело, чтобы войти в доверие к нему, создать хоть намек на некую условную с ним общность. А ведь уже становятся опасными, хотя сами еще и не осознали этого — малость отъелись, окрепли, даже ходьба пошла им на пользу, укрепляя вялые от долгого беспросветного безделья тела. Недавно их совсем не пугали будущий суд и кара, но тогда таежная лютая смерть явственно скалилась им. А теперь она отступила, изо дня в день рядом с ними — одежда, обувь, еда и оружие. Правда, одежда и обувь в основном на людях, да долго ли, умеючи, снять? А со всем этим добром тайга опять обернется не мачехой, а мамой родной… Алтайцы, конечно, вполне искренни, им можно бы верить. Но и их помощи он не примет: пусть поймут — они крепко опоздали с ней и не хочет он облегчать их вину ни большим, ни малым доверием…
— Нет! — повторил он весело опять. — Управлюсь сам, я — мастер-одиночка.
Упрекнул себя, что не удержался от трепотни — перед кем же? С расстановкой предупредил:
— Чуть тамаша́ какая — первыми буду стрелять вас, понятно?
Сверкнул на миг кипенью зубов в дьявольской усмешке своей, распахнул окаянную синеву глаз, первозданным ледком отсвечивающую. «Обоз» сник…
— Надо будет потом, — чуть не вслух подумал Марченко, — связать этих урок с теми медведями, вот будут стеречь друг друга на ходу! — опять ухмыльнулся себе: — Еще не повязал, а уже связал!
Но подумал весело, уже всем телом ощущая окрыляющую ознобную легкость опасности и азарта, то фантастическое сочетание пружинной напряженности и одновременной раскованности всех мускулов, удесятеренной чуткости и зоркости, которое всегда позволяло ему действовать молниеносно и безошибочно В такие моменты он походил на снежного барса: беззвучные, эластичные какие-то походка и движения, грация, которой можно залюбоваться, забыв о жестокой силе и взрывной беспромашной реакции…
Малость не дойдя до тропы, Марченко шагнул за камень, незаметно положил под него карабин — теперь он стал бы только мешать. Даже и пистолет — лишнее искушение, надо обойтись без крови, повязать бородачей буквально и не калеча. Он встал в рост, крикнул в верхний конец тропы — обитая берестой дверь почти не проглядывалась в снегу:
— Эй, божьи люди, выходите к представителю власти!
Молчание было долгим. Он услышал, как шумит кровь в висках, а думалось — водопадик! — сказал себе:
— Чего волнуешься, мальчик? Не первое свидание…
Открылась не вся дверь, а узкая щель-бойница внизу, и бычий голос проревел подземно:
— Уйдитя добром, слуги анчихристовы! Сожгемся во славу божью, а не дадимся!
Тускло сверкнул металл в щели, Марченко пал за камень. Казалось, бухнула пушка, так громок был выстрел. Приглядевшись, по дульному раструбу определил: фузея, восьмигранный ствол, пуля граммов сорок. Одна ли она у них — ее ведь с дула заряжать, мешкотно… Прыжками бесшумными рванулся вверх по тропе, стараясь не терять из виду бойницу в двери. Снова высунулся раструб «пушки», Марченко метнулся за толстую березу, и тотчас ствол ее дрогнул от сочного удара, и снег посыпался с веток!
— Ну и малопулька! — усмехнулся. — Да ведь пока в затравке порох догорит, слон успеет улечься. Посовременней бы вам оружие, отцы, туго бы мне пришлось при вашей меткости!..
Через миг он рванул топор из-за пояса — рубить дверь. Кедровые плахи подавались мало, надо было не свой топор взять, потяжелее… Он стоял чуть сбоку и неуязвимость землянки работала теперь против ее обитателей: обзор у них был только через щель. В щель просунулась огромная пятерня, пытаясь дотянуться до ноги. Марченко перевернул в руке топорик, с хорошей оттяжкой влепил обухом по волосатой пясти. Стон, толстый рев, потом подземное рычание:
— Не дадимся волею! Сожгемся во славу божью! Изыдите добром, слуги сатанаиловы!
И глухим ревом завели стихиры.
Марченко обухом топора постучал в дверь:
— Эй, божьи люди, кончайте концерт! Предупреждаю, не примет бог вашего самосожжения, нашлет дым вонюч за ваше суемудрие и гордыню!
Под землей, видно, малость опешили от неожиданности, смолкли. Марченко влез на крышу. Крышей, собственно, был нетронутый склон, в который врыли свою берлогу-скрытню бегуны, но труба-то на крыше была! В дуплястый пень вывели глинобитный чувал суемудрые старцы, оттуда явственно тянуло сейчас теплом и дымком. Топили только что, или… Черт их, могут ведь… А, выкурю!..
Если б кто видел, какой мальчишески-озорной была сейчас усмешка грозного Марченки! Всю дорогу таскал он в кармане телогрейки небольшой и до сих пор вполне бесполезный груз — дымовую шашку. Не боевую, а ту, которой выкуривают из помещений разных паразитов. Он достал ее, аккуратно разжег и, когда из трубы-пня дохнуло теплом появственнее, бросил шашку в трубу.
…Невольные зрители толком так ничего и не поняли, хотя глядели во все глаза, забыв об опасности. Стоял на белом бугре милиционер, вроде зря стоял, двери-то снизу не видать. Потом из-под земли вырвался клуб желтоватого дыма, с ревом и кашлем вылетел громадный человек, Марченко прыгнул на него, и тот упал головой под склон. И — не стал вставать. Вслед медведем из берлоги вылетел второй гигант, кашляя и ревя, вскинул над головой топор, занес над Марченкой:
— Убью-у!.. Кха-к-х-ха-а!.. У-у-у…
И Марченко, бесстрашный Марченко рванул вниз без оглядки! Но у ручья вдруг встал, чуть качнулся телом к преследователю, и великан грянулся оземь, выронив топор в воду. Секунды возни, почти нечеловеческий рык-стон и сразу — тишина. Марченко медленно поднялся вверх, связал первого, еще вялого от удара по сонной артерии, волоком свез вниз, к брату или другу…
Ночевали в долине Согры, оставив позади самый чудной пожар — подземный. Ночевали трудно, на открытом месте, меж двух костров. Марченко впервые почувствовал страшную усталость, очень хотел и очень боялся крепко заснуть. Новички-старцы буйствовали, и их психоз, похоже, начинал неуловимо влиять на остальных: словно легкий огонек безумия вместе с бликами от костра пробегал по лицам. Старцы то буйно ревели свои стихиры, то начинали биться, как в падучей, и все это до странности согласованно. Марченко шагнул в световой круг и выпалил из карабина. Вниз, в землю, но вздрогнули все разом.
— Вот что, мужики. Вас тут восемь морд, да по пути, надо думать, прибавятся: есть два места, куда мы с вами в гости заявимся и где меня ждут не больше, чем вы ждали. Так вот что я хочу сказать, — четко и жестко, разделяя слова, говорил он, — стрелять буду без предупреждения, мне тут с вами не до формальностей! И стрелять буду не только в того, кто поноровит отвязаться, или буйствовать станет, или, тем более, в бег кинется, а — во всех! Во всех, понятно? Так что следите друг за другом тоже: связываю я вас крепче веревки круговой порукой и определять, кто больше, кто меньше виноват перед законом, не стану. Там суд разберется, кому чего и сколько, а мне тут не до разновесов, я не господь бог, но стреляю получше господа бога!
И твердым взглядом повел по «мордам», и синева его глаз в полусвете костра черным льдом блеснула безжалостно и резко.
— Не беспокойся, начальник! — угодливо поспешил вперед всех самый разговорчивый уголовник. — Нам тоже не расчет раньше время под пулю лезть. Так ишо куда кривая вывезет, а тут… Как ты стреляешь, мы наслышаны…
— Я знаю, — раздался вдруг мертвый голос Косого, — он те на сто шагов кривым сделает, не целясь…
Молчание было долгим и весомым, но потом один из неукротимых братьев-фанатиков заговорил неожиданно понятно и напористо:
— Стрелом нас не напугаешь, не-ет, ко господу пойдем за невинный стрел-то, а ты — под закон угадашь мирской за то! Во тюрьму-узилище пойдем, постраждем за веру истинну, а на стрел не согласны!
— А ежели вам — вышку?
— Каку таку вышку?
— Высшую меру наказания — расстрел за дезертирство!
— За веру не расстреливают, А победа ваша станется, нам амнистию дадут. За нами никаких других преступлений нету-ка, а от войны уклонямся по леригии! — проявил невероятную широту мирской эрудиции дремучий бегун.
— Газа́ми живых людей травишь! — рявкнул гневно другой, столь же неожиданную проявляя осведомленность. — Дитлер газа́ пущать оробел, а ты, ли-ко, каков отчаянный!..
— Во гады! — искренне поразился Марченко. — Ат-шельмочки, а! И все знают, и все взвесили, даже будущую амнистию!
И, заметив, с каким интересом потянулись к разговору остальные, твердо пообещал:
— Но я вам, божьи подземники, сопротивление огнем и холодным оружием не позабуду! Па-адробно опишу! Обстоятельно.
— А не побоюсь! — заревел первый.
— А не покорюсь! — трубно вторил другой.
— Ишь вы, праведники, — выждав паузу, совсем спокойно рассуждал Марченко, — за веру и своего убить не жалко, а за Родину и чужих — грех?
— Сатане ты свой! Родина наша — божий мир, а осударства всякого мы отрицаемся, потому — от дьявола оно!
И опять дружным дуэтом заревели свои божественные стихиры.
Слушал-слушал, глядел-глядел усталый Марченко на этот невероятный самодеятельный концерт в невероятном месте, и скучно ему стало до смертыньки. Он шагнул к тому, который казался постарше и ревел побасистее, и легонько рубанул его ребром правой ладони по могучей шее сбоку. Ревун замолк, как подавился, свесил на грудь лохматую голову, будто впервые глубоко и изумленно задумался о смысле жизни. И долгонько так раздумывал… Только через некое время с трудом поднял отяжелевшую головушку, мутным взором повел кругом, заново и с трудом осмысливая все.
— Понял теперь, как я братца твоего успокоил?
И тот сказал еще хрипловато, но почти одобрительно:
— Лих ты мужик, слуга анчихристов, и ловок! Счастье твое!.. А то вот налетел на меня в черни, в первозимок еще, эдакой же с оружьём, да — стой-де, да скидавай, мол, торбу да обужу-одежу, а то-де стрелю! Я его, бесталанного, благословясь, и наладил кулаком в ухо. Голым, слышь-ко, кулаком, прости меня осподи!.. Где-то теперича гниет тамо-ка и с оружьём поганым своим. И как это ты нас с божьим братом моим оборол, нечиста сила?
Пайфан-Фоефан прямо через огонь потянулся к Maрченке засиявшей как медный казан рожей, и милиционер едва не отвел глаз от Пайфанова, великим торжеством правды горящего взгляда, и с трудом удержал одобрительную улыбку. Теперь всем и все на место поставила в этой темной истории невольная хвастливая оговорка «старца», видать, до болтливости очумевшего от коварного Марченкова удара. Уголовники дернулись друг к другу, и один из них странно-громко икнул, еле удержав некстати рвавшееся восклицание. Сдержанно и мудро, как истые таежники, закивали головами Пантелей и Тимофей, мол, эдак, эдак, а как же? Все правда, теперь и Марченко поверит, что не врали они про того, поддельным оказавшегося, солдата…
И все — уголовники и алтайцы, старцы-скрытники и милиционер по-разному подумали про безвестного варнака-убивца, и всем по-разному стало легче на душе, что вот они-то, худо-бедно, но живут и какое-никакое, а есть у них будущее и мало ли как повернется еще судьба, и только Марченко упрямо з н а л свое и их будущее и не хотел никаких сомнений…
Чудно: по-разному взятые им люди, всяких пределов преступности, они только что морально были на его стороне в поединке со скрытниками, словно даже уголовники были более умными и понимающими, чем сами «старцы», они даже гордились, что самим Марченкой «повязаны» — честь, которой эти темные фанатики и оценить-то не могут! А сейчас даже старцы были как бы допущены в этот странный эфемерный «коллектив» задержанных везучим и удалым милиционером, объединенный общим благородным презрением к самом недостойному из них, предавшему даже звериную уголовную дружбу, нарушившему даже волчьи законы их, и потому подохшему какой-то по-особенному презренной смертью.
Но даже и такого смутного намека на мимолетную тень общности не желал Марченко! И не только потому, что боялся потерять бдительность, расслабиться — он знал, что бесконечная напряженность не менее опасна, — он хотел только обнаженной и беспощадной ясности: люди, совершившие тягчайшее преступление перед Родиной во время войны, имеют дело только с Законом, и он, Марченко, представляет собой праведную и жестокую неотвратимость исполнения Закона. Вон с алтайцев уже пообдуло за эти дни налет придурковатости, задумываются впервые, может, не только о ждущей их тяжкой ответственности, но и о тяжести непростимых грехов своих. Скрытников вряд ли сломишь, но в темные головы их, похоже, вкрадывается мысль о неизбежности «покориться и постраждать», да и не примут, отринут они любую мягкость «анчихристова слуги». Уголовники… Брезгливого презрения к ним Марченко, и захоти, так не мог бы преодолеть. Марченко чувствовал себя не только бесконечно выше всех их, но и бесконечно сильнее ч и с т о т о й нечеловечески трудных обязанностей своих и не смог бы унизиться до физической жестокости даже к самому подлому из варнаков. Но зато и не мог, и не хотел даже намека на душевное сочувствие, даже на внешнее понимание их горькой доли. Потому и обдумывал хлесткий, как удар бича, ответ на н е в ы с к а з а н н у ю близость их к нему и даже обрадовался мертвому голосу Косого:
— А всех-то нас и ты, Марченко, не переловишь. Сколь нас по тайге непойманных, один воровской бог знает…
Из гроба тянул руку за своими Косой!
— Вас-то много? — облегченно захохотал Марченко. Так он от души хохотал, что сладостные слезинки из глаз выкатились на корявые щеки его, и арестантам от этого стало страшней и тоскливей, чем от его грозного давешнего предупреждения. — Да вас круглым счетом, — еле остановил он богатырский хохот свой, — по всей тайге было менее полусотни, вместе с набеглым ворьем и чужедальними дезертирами! А было выловлено до моего ухода сюда в тайгу — тридцать четыре! Да вот теперь себя присчитайте, а ведь я вас взял в самом глухом месте, глуше нету! Ну-ка, прикиньте для себя, дивно ли вони вашей осталось по глухим углам? Э-ех, вы, говнюки! — Конечно, он не Косому отвечал, он для всех остальных, а больше — для алтайцев говорил, Марченко.
— Да только в сибирскую дивизию от нас из аймака более тыщи добровольцев ушло! Средь них до трети, пожалуй, алтайцев, а — велик ли народ численно-то? Да ведь это кроме мобилизованных и призывников! Какое же соотношение-то получается, улавливаете? А таких темных углов, как наш, по всей стране, поди, больше нет. И — что же вы такое в данных обстоятельствах? Мушиное сранье на ламповом стекле, не вглядись, так и не заметишь, а мы его вот протираем до чистого блеску! Нонче мы тайгу очистим полностью и в-вони вашей по логам не учуять! Это я вам говорю ответственно! Вот как сейчас, после нашего ухода, будет по Согре-реке и по ее притокам!
Великое презрение открыто звучало в Марченковых словах и брезгливая подавляющая сила была в них! Коротко и недалеко раскатилось мрачное эхо Марченкова хохота, и в вечернем морозном безмолвии родилась и овладела всеми задержанными едучая и давящая душу тоска…
Пантелей только что по приказу Марченки свалил три добротных сушины на костер, разрубил, приволок к огню. Одна сушина была осиной, высохшей на корню, со сплошным дуплом вдоль ствола, как большая деревянная труба. Наложил Пантелей в эту трубу мелких дров — готова нодья! Раньше бы радовался Пантелей такой находке для зимнего ночлега — сейчас радоваться было нельзя. Тяжело было на душе, совсем тяжело стало после беспощадных Марченковых слов и могучего, как у Хозяина тайги, хохота.
Экий Марчинька! Кедр тот раз палить не велел, пожалел кедр, однако, его вот, Пантелея, не жалеет, нет! И сородичей-алтайцев не жалеет тоже, не хочет маленько обрадовать пустяшным доверием, хочет, чтобы горько и страшно на душе было у них, совсем, однако, с варнаками равняет: тоже отобрал у них опояски и ремешки, тоже отрезал пуговицы со штанов… Связанными руками на ходу штаны держишь, неловко идти и стыдно, так стыдно — упасть бы и умереть со стыда, не окончив своего позорного кочевья!.. Присев у костра, глядел на Тимофея и Пайфана, думал: они-то куда меньше моего виноваты, от этого еще тошнее становилось на душе. На варнаков русских не глядел прямо — зло косился время от времени, когда сами они на него не глядели, ненавидел их — черные души, страшные люди… Когда приходилось глядеть на них, даже грозный Марченко казался роднёй, — ему, Марченке, все-таки человек Пантелей. Шибко виноватый, но человек, а эти убийцы за человека кого, кроме себя, считают? На божьих людей поначалу долго глядел, со страхом даже — больно велики оба и звероподобны, тоже никого, даже русских, за людей не считают, кто не поклоняется их темному богу…
Какие люди плохие! Не знал, однако, раньше, что такие бывают. А сам-то он хорош ли? Все-таки лучше их, поди, никого не грабил, не убивал, только от военного закона прятался. Разве спрячешься от закона, если ему Марченко служит? Або-о, горе какое, стыд какой! Вот заколол ему Марченко штаны острой палочкой, чтобы дров нарубить, теперь даже палочку вытащил — сиди, держи штаны связанными руками! Даже у костра шибко неловко сидеть, когда штаны то и дело сваливаются.
Тимопей и Пайфан тоже думали, каждый по-своему. Тимопей — много, Пайфан совсем немного, не умел много думать Пайфан, если не про еду, не про араку да не про бабу. Про свою вину вовсе думать не умел, пожалуй. Тимопей был неглуп — глупых охотников не бывает, охотник по-своему много думает, только в большом селении, на многолюдье, бывает, теряется, оттого глупым кажется не шибко умным людям…
Тимопей думал теперь, как нужно говорить на суде, чтобы поверили, как на войну проситься, чтобы поверили, пустили. Дураком не притворишься — вон сколько алтайцев, Марченко говорит, на войну добром ушло. И сам Тимопей знает, много. Которых мобилизовали, тоже много, разве кто бегал от мобилизации?.. Заранее надо слова собирать, чтобы — как отборные орехи кедровые из бурундучьей норы, сытными были для чужой души слова, приятными…
Пайфан был ленив и глуповат той здоровой глупостью, которая от поколений безграмотности да от собственной лени накапливается. Пайфан думал, попрошусь в тюрьме дрова рубить, тюрьму, поди, тоже топить надо: большая изба, поди, вон сколько людей сидят. Чудно — почему сидят? Стоять не велят, что ли, лежать не велят, что ли?.. Пусть даже тупой топор дадут, стараться буду рубить… На войну не думал проситься Пайфан, погонят если — пойдет, больше бегать не будет, а самому на смерть проситься — дурак он, что ли? Лучше дрова рубить… Кабы, правда, не испортиться в тюрьме — вон варнаки русские какие страшные. Оттого, небось, что много в тюрьме сидят, много от закона бегают. Он-то не варнак, Пайфан, бегать больше не будет, худо вовсе выходит бегать-то… Ладно, убитый варнак был не солдат вовсе, винтовка ворованная, не будут теперь за винтовку спрашивать… Однако, неловко как даже у костра сидеть, когда штаны без ремешка, без пуговиц, руками держать надо, а руки-то связаны…
…Две богатырские нодьи обогревали спящих у костра мужиков. Только для Марченки это была первая ночь, когда он почти не выспался. Первая, но не последняя…
Однако порядок он в тот раз навел такой, что нарушать его боялись все, и, кроме неизбежных падений, поломок, путаницы, в двинувшемся поздним утром странном караване создавалась уже некая «сработанность», хотя в нем стало на одни груженые нарты и на двух могучих «коренников» больше…
Конечно, крутая Марченкова мера крепко задерживала поначалу движение и так-то еще не сладившихся нартовых пар. Но зато морально она подействовала потрясающе, тем более что Марченко никак не предварил ее словесно, вроде между делом у вечернего костра обрезав пуговицы и отобрав ремешки и опояски: ни единой крохотной надежды не оставлял он задержанным! Грозное предупреждение его все-таки оставалось бы словесным, если бы не эта вот дотошность и в дьявольском умении связывать людей с нартами и между собой, и в той жутковатой деловитости, с какой учитывал он каждую мелочь в пути и на ночлегах. Он, пожалуй, сразу же сломил их, когда, ощутив неприятный холод между ног, опомнились и возопили старцы и уголовники:
— Не по-людски и не по-божески, слуга анчихристов, тайные уды на эком-то морозе оголять!
— Начальник, чего-т, ты круто больно, весь струмент отморозим!
С бесконечным равнодушием бросил Марченко:
— А и хрен с вами… От вас, воровское племя, доброго потомства все равно не ждать, а вам, святые, по ангельскому чину грешных этих добавок вовсе не полагается. Господь ошибся, мороз исправит…
Деловитая бесстрастность эта и потрясла до немоты даже горластых «ангелов», жутковато намекнув, что беспредельна дьявольская изобретательность и упорство рябого ястреба…
Никто даже и не замечал, как заботливо он следил, чтобы никто не обморозился, как, настрогав десятка два березовых и черемуховых палочек, зашпиливал гашники то одному, то другому, больше других путавшемуся на ходьбе, под предлогом трудного подъема или крутого спуска и «забывал» на весь путь, выдергивая эти шпильки только на ночлегах. Все боялись ненароком напомнить излишней мешкотностью в ходьбе и резво вскакивали, падая: все-таки куда сподручней не держать штаны руками.
Постепенно судорожные рывки и неожиданные остановки сменились не бог весть каким, но ритмом почти непрерывного движения, нарастала скорость, так нужная Марченке. Даже до ветру все приучились ходить по-солдатски — только по команде сурового своего командира. Кормил же их Марченко строго по часам, да еще и с тонкой хитростью: утром и днем только подкреплялись, а на ночлегах ели обильно и сытно, оттого засыпали поначалу мертво меж теплых костров, и так выгадывал себе конвоир часок почти беззаботного сна с вечера. Сам же ел часто и помалу, потому не терял ни волчьей зоркости, ни чуткости, не позволяя сытому брюху расслабить стальную пружинность мышц и неусыпную трезвость мозга.
Он даже приучился коротко, урывками отсыпаться во время переходов: на пространных чистинах обгонял или оставался, выбрав удобное для обзора место, и на десять-пятнадцать минут проваливался в мгновенный сон, всегда просыпаясь в нужный миг, будто живой водой умытый. Особенно хорошо получалось на длинных подъемах-тянигусах — он сам прокладывал лыжню вверх, устраивался удобно, бросал зоркий взгляд на медленно тянущийся «обоз» и блаженно расслаблялся, засыпая. При спусках же, наоборот, пропускал вперед караван, придремывал коротко и с бешеной скоростью летел вниз, нагоняя людей и сгоняя ветром и стремительностью остатки сна…
Задержанные почти суеверно глядели на всегда свежего, неутомимого конвоира, пугаясь всегда чистой, не замутненной усталостью и раздражением синевы его торжествующих глаз, рысьей мягкости и стремительности движений и сатанинской его усмешки.
Пантелей из кожи вон лез, только чтобы Марчинька не сместил его с должности передового, головного, которая, как наивно верил Пантелей, только случайно досталась ему, и которую он таежным умением своим старательно закреплял за собой: мастерски прокладывал лыжню, безошибочно определяя и кратчайшие расстояния, и наилучший снег, и самые удобные для движения склоны, подъемы и спуски — чтобы по чистинам, минуя всяческую густель и непролазь, чтобы Марчиньке было лучше видно всех. Выгоды его положения с лихвой искупали необходимость торить лыжню: Марченко ни с кем не связывал его в пару, свободней связывал ему руки, так что даже каек держать было вполне ловко, и иногда, вроде, добрей поглядывал на него, Пантелея, Марчинька. А уж чего дороже могло быть ему теперь?
Поначалу Марченко менял пары, перебирая людей, — уж больно худо волоклись на лыжах уголовники, чем дальше, тем хуже. Но на одном из увалов, когда по могучему чарыму, покрытому слежалым сверху снежком, можно было идти очень быстро, Марченко долго шел рядом с этой парой, заметил, как подтянулись они под его пристальным взглядом, и вдруг бросил почти безразлично:
— Ну что ж, стойте. Сейчас отвяжу вас, заберу лыжи и убирайтесь куда хотите! Мне с вами не до весны тут валандаться…
Судорожно-отчаянный рывок незадачливой пары вслед за ушедшими вперед вскоре сменился вполне приличной ходой: тайге-то еще конца-краю не было…
Нарты, конечно, сбавляли возможную скорость хода, зато крепко и надежно помогали связывать пары, не мешали размеренному движению, а кинуться с ними в бег — если бы кто и попробовал, недалеко ушел бы…
…Неведомо чем, однако, закончилась бы таежная Одиссея удалого оперуполномоченного, если б не наградила судьба его за неслыханное упорство и отвагу прямо сказочной удачей в Дунькиной Щели. Оно, конечно, и удача не всякому лезет в руки, и упустить ее ротозею — легче легкого, однако туго пришлось бы Марченке в схватке с самой опасной бандитской группой в Дунькиной Щели даже и в одиночку, а уж тем более — обремененному десятком ненадежных своих подневольных спутников.
Во время первого своего, разведывательного, обхода Марченко заглянул в Дунькину Щель. Мрачный, глухо заросший густым молодым пихтачом распадок, там, на исходе своем, раздвинулся в небольшую чистину, а на той чистине-поляне, почти вбитое в камень крутосклона, стояло небольшое зимовье — полуизбушка, полуземлянка. Жилым явно было зимовье, и двое суток сидел в засаде Марченко, карауля неведомых временных хозяев, и — не дождался. Ушел, подгадав под желанный буран, сразу заметавший пьяным снегом следы, перед тем до мелочей оглядев темное жилье, — не оставил ли где ненароком маломальской приметы своего гостеванья…
Так и не знал он до сей поры толком, кто и сколько человек заняли избушку в Дунькиной Щели; знал твердо, что не один, а двое-трое, не меньше. Тверже того знал, что не местные трусы прятались тут от мобилизации, а какие-то набеглые опасные звери, хотя тоже, похоже, не совсем новички в тайге.
Будь один — с каким подмывающим азартом кинулся бы он в расчетливую, внешне безумную схватку с неведомыми варнаками, с каким наслаждением повязал бы их…
Но сейчас…
И миновать Дунькину Щель — всю жизнь казнить себя. И рисковать своими «ветеранами» — век не простил бы себе с л у ж е б н о й оплошности, попади кто-нибудь из них под пулю. И оставить одних…
Марченко сумел бы лишить их мало-мальской возможности освободиться, пока не вернется сам, но — вдруг не вернется? Беспощадно трезвый и опытный, он знал, что не заговорен от пули, вопреки легендам о нем, что не у каждого варнака при его появлении сводит от ужаса руки, особенно если в этих руках оружие.
Все чаще насвистывал он на ходу, упорно обдумывая последнюю свою операцию в тайге. Даже «обоз» оглядывался на его тихий и мелодичный свист, хотя им и казалось, что свистит он — от полной уверенности в себе, от хорошего настроения.
…Получалось — совсем без помощи своих «ветеранов» не обойтись. Конечно, он мог просто стрелять. И никаких бы особых забот — мазать он век не умел. Но вопреки легендам с т р е л я л Марченко считанные разы в своей богатой приключениями жизни. Именно потому, что до сих пор он успешно справлялся, он и уверенно знал, что доведет до аймака и еще столько же, лишь бы взять последних.
Лишь бы взять…
Он стал четко и последовательно обдумывать, как использовать задержанных, чтобы никем не рисковать по возможности, но создать у обитателей Дунькиной Щели полное впечатление окружения и не создать у своего «обоза» впечатления активного участия в операции. Обдумав, совершенно успокоился и больше всего на свете был бы разочарован теперь, не окажись там никого, как в прошлый раз.
Тут-то и подвалила ему эта самая удача. Марченко повел свой караван под гору, чтобы выйти в распадок как раз у истока его, к зимовью: заходить с устья — многовато чистого места было, метров за двести могли увидеть; с вершины — не было у него вершины, прямо за зимовьем круто сходил на нет распадок, замыкаясь каменной стеной с двумя узенькими тупиковыми щелями в ней.
С того же места, где вздымались в гору сейчас, к зимовью был вполне сносный лыжный спуск — по крутой, но довольно чистой изложине с редколесьем на ней.
Почти извершили гору, когда Марченко, идя сбоку своего растянувшегося обоза, замер и оторопел от стонущего человеческого рыдания. Собственно, сразу-то даже не подумалось о человеке — больно дик и чужд был в этой каменной и лесной тишине рвущийся, задавленный, не то рык, не то вой, не то лай.
В оружии даже нужды не было…
Под могучей старой пихтой, чумом навесившей ветви свои во весь круг, на узловатых корнях ее, меж которыми цепенела черная и седая от инея земля, извечно сухая, сидел… человек! Скорчившись в три погибели, будто весь хотел влезть в короткий драный полушубок, он неудержимо трясся от холода и нечеловеческих рыданий. Страшно рыдал, икая и дергаясь от икоты так, что стукался головой об узловатую черную колонну пихтового ствола. Из-под полушубка торчали ноги — без обуток, но не вовсе голые, а в собачьей шкуры мягких чулках, следья которых были так изодраны, что торчали наружу зачугуневшие от холода голые ступни. Под полушубком — тоже до пояса гол был человек, и только ниже колен, стучавших друг о друга так, что крылато взметывали шубные полы, спускались черно-заношенные и тоже драные кальсоны.
— Вставай, — негромко сказал Марченко, — застыл ведь, паря…
Дернулась резче обычного кудлатая голова, вскинув кверху пухлое черно-сизое от холода лицо в молодой жесткой бороде, тускло блеснули слепые от слез — не глаза, две мочажинки с мутной водой, обмерзающие по краям. Сквозь икоту и бурную дрожь-судороги хрипло, задавлен-но и прерывисто выревел:
— Уб-бей, Стрелок… С-ст-р-рел-лок… уб-бей-ик!..
«Ого! — внутренне ахнул Марченко. — Везет тебе, охотничек! Стрелок где-то рядом!»
Этот Стрелок был опасней всех, с кем до сих пор схватывался Марченко, и прозвище свое оправдывал с кровавой жестокостью садиста. Только эта необузданная, патологическая жестокость мешала ему создать постоянную банду — даже бандиты из бандитов не шли добром под его начало, а сам он ничьего начала над собой не признавал. К тридцати годам имел Стрелок больше сорока лет приговоров и десяток дерзких побегов, почти столько же фамилий и бегал уже не от мобилизации, а от давно заслуженной им высшей меры…
Не пожалел Марченко доброго стакана из заветной, до сих пор не шевеленной фляжки на дне своего рюкзака. Тимофей быстро разживил костерок, отпаивал парня чаем из чаги, одел и обул его в запасное свое. Тимофею радостно было, что Марченко молча сделал его чем-то вроде завхоза, и гордился этим не меньше, чем Пантелей ролью передового. С тупым удивлением смотрели остальные то на встреченного, то на своего конвоира, будто из-за пазухи вынул он шутки ради в темной глуши таежной полураздетого парня. Пугающ и загадочен больше обычного показался им сейчас Марченко!..
Только после того, как оттаял одетый и обутый парень, стал реже вздрагивать и во взгляде появилась осмысленность, понял Марченко, что отнюдь не одним только сейчас выпитым душновато наносит от парня, но расспрашивать не торопился, ожидая, что вот-вот начнет сам, горемыка.
…Да, в Дунькиной Щели сейчас обитал Стрелок. До сего дня — с тремя, отныне — с двумя сотоварищами. Сам парень — «вор в законе», барнаульский городской вор-домушник, бежавший последний раз из Сиблага, прозвищем — Ханыга, за любовь к торговлишке, презираемой всеми настоящими ворами. Со Стрелком сейчас остались Шнырь и Казюля, а вот его…
Ханыгу вновь затрясло от воспоминаний и безумной ярости, и Марченко спокойно понял, что полезет Ханыга на пули сейчас, только чтобы отплатить ненавистному Стрелку, а пуще того — «Каз-зюле, падле!» — выдумавшему эту страшную таежную казнь Ханыге!..
Два дня назад только вернулась их банда из налета на дальний приисковый участок Карачак. Налет оказался безопасным и неудачным: из-за трудностей разработки в войну, участок законсервировали, и в беззащитном магазине нашли бандиты только куль соли, драгоценной, правда, сейчас для таежной жизни, да огромную бутыль какого-то спирта, красноватого и пахнущего конфетами. Пошарпали по немногим жилым избам, из которых еще не успели выехать люди, заставили двух стариков пить «конфетное» зелье, никто не сдох, наоборот, захорошели старики. Один даже объяснил словоохотливо, что это-де «исенцыя фруктовая, гожая для питья, только страшенно крепкая!» Привычно накровавить там Стрелок не успел только потому, что где-то пальнули из ружья, и банда смылась поспешно, не забыв, однако, ни соль, ни «исенцыю».
Вчера Стрелок устроил пьянку и спьяна раскрылся, что-де хочет идти в Китай через Урянхай какой-то, Казюля знает проход, но что до этого надо устроить засаду на спецсвязь под Интересным, — там, слыхать, сейчас золотит сумасшедше! — чтобы разжиться золотом и тогда — прости-прощай, Советская власть, здравствуй, вольная волюшка!
Не поостерегся во хмелю Ханыга и рубанул Стрелку, что ему в Китае делать нечего, а на спецсвязь идти — в случае неудачи «вышка» верная, а ему, Ханыге, вовсе ни к чему спешить на луну. Стрелок залепил в рожу за трусость, Ханыга сгоряча ответил. Это Стрелку-то!.. Поизгалялся над ним Стрелок, такой крик из него вышибал, что самого, похоже, жуть брала. Пришил бы, натешившись, если бы старик «Каз-зюля, гад!» не выдумал какой-то таежный суд: пусть, мол, идет, как есть, долго подыхать будет! Стрелок дико хохотал, радовался, даже полушубок не велел снимать, накинутый на голое тело от сквозняка, и чулки тоже: Казюля трекал, что по закону — в чем есть идти должон. Ржал Стрелок, что вот будет смерть так смерть, сроду про такую не слыхивал, надо, мол, кодле при случае подсказать воровскую высшую меру! Казюля даже присоветовал сладким голосом, что, мол, за горой-то скинь с себя все, скорее замерзнешь, а то долго мучиться станешь, а Стрелок ему за тот совет — в рыло! Вдогон шмалял Стрелок, но для напуга, не попадал, так-то он даже кирной не мажет, и все хохотал, как чокнутый… Он вообще последнее время психует, Стрелок, видать, чует судьбу. Но вдогон за ним они не пойдут, а когда и где пойдут и Китай, он не знает. Шныря, скорее всего, пришьет Стрелок, но не сразу: им же поклажи сколь тащить, а Стрелок не любитель тяготиться. Казюлю не тронет до конца, Казюля тайгу знает, без него Стрелок пропал в тайге. Вообще, Казюля — старик темный, как гроб, гляди, сам подколет Стрелка при выгоде… Он, Ханыга, по гроб жизни не забудет, кто его спас, и пусть начальник в надеже будет, он сам пойдет на Стрелка, и никакая кодла его за то не осудит! Не, пусть начальник не думает, он не подорвет, воровское слово, все будет в порядке! Он, Ханыга, теперь с самим чертом бы повязался кровью, только бы Стрелку, г-гаду!..
Дал Марченко высказаться Ханыге, не прерывая яростную и бессвязную речь его, потом деловито обсудил с ним тут же зародившийся план. Лихорадочная готовность Ханыги тревожила его и заставляла спешить — слишком хорошо знал Марченко истерическую блатную искренность на момент. Но ничего лучшего нельзя было придумать, и надо было ковать железо, пока не остыло…
— А вдруг он выстрелит, Стрелок, не говоря худого слова, а?
— Не-е, — обнадежил Ханыга, — он, гад, поизгаляться любит сперва.
И лицо Ханыги, и так-то малопривлекательное, стало таким, что впору было за Стрелка беспокоиться!
…На исходе дня вышли на перевал, и когда внизу, в круглой чаше Дунькиной Щели, ясно увиделся голубой столб дыма из трубы зимовья, Марченко остановил всех и объяснил, что от них требуется. Он говорил сухо и четко, тоном неукоснительного приказа: не мог, не хотел даже в этом положении дать почувствовать себя сопричастными ему. Ханыга — другое дело, у него свой счет со вчерашними друзьями…
— Мне не помощь ваша требуется, мне нужно, чтобы вы на виду были у меня. Прятать вас негде и оберегать — тоже. Если стрельбу подымут — пихтач густой, прячьтесь за деревья, н-но без стрельбы чтоб на виду мельтешились, понятно?
Скрытники было забастовали:
— Мы сему делу непричастны! Мирска суета нам не надлежит»..
— Гляди, шумнем об етим, чтобы греха соучастия… — и не договорил.
Марченко пружинисто шагнул к старцам, мягко и беспощадно сгреб обоих за бородищи и, могуче клоня к себе головы их — много выше него были оба старца! — с холодным и ясным бешенством произнес чуть не по слогам:
— Я в-вам… Если хоть звуком!.. Мгновенно в рай! Без пересадки!
И полоснул взглядом по выпученным от цепенящего страха глазам старцев. У тех беззвучно разверзлись пасти в непролазных бородищах, льдистой судорогой повело все нутро: ослепительно синей, не божьей — дьяволовой молнией бесшумно ударил их этот антихристов взгляд…
А Марченко уже спокойно добавил:
— Риску для вас никакого, практически: до стрельбы я не доведу, мне их стрельба невыгодна самому. Но сам я, напоминаю еще, в случае чего — не промажу!
…Все вышло, как по-писаному, даже легче, чем ожидал Марченко, психологически безошибочно рассчитавший моральную «затравку». Когда осторожно скатились вниз, виляя по самым густым зарослям, и скучились в молодом веселом пихтаче, Марченко еще раз повторил Пантелею и Тимофею:
— Вот так вдоль пихт и пересекайте поляну, чтобы при стрельбе — сразу за пихты. Но — на виду, по краю, поняли?
— Как не понять! — обрадованно подтвердили алтайцы, донельзя довольные, что все-таки маленько помогут ему, что доверил им Марчинька больше, чем остальным варнакам и божьим людям — вот даже по-алтайски приказывает!
Раздетый до своего давешнего вида Ханыга сразу же крупно задрожал, но, похоже, не столько от холода, сколько от бешенства, вспоминая всем телом унизительное и бесконечное умирание свое. И это пошло на пользу — голос у него непритворно задрожал, когда, шагнув к запертой двери зимовья, воззвал он:
— Стрелок, выдь! Не шмаляй, Стрелок, слышь! Кориться иду, пропадаю-у! В твою волю, Стрелок, не шмаляй!..
Высоченный в меховой бекеше и ондатровой шапке, вышагнул наружу Стрелок, воскликнул с хмельным удивлением:
— Не сдох, Ханыга? Ну, крепок ты на мороз. Казюля, Шнырь, гляньте-ка, Ханыгин труп пришел могилу просить!
Повернулся боком к Ханыге, кинув в дверной проем:
— Дай-ка дробовик твой, Казюля, я его счас на дробь спытаю! Пож-жалею Ханыгин труп!..
Ханыга — и сам ростом не меньше Стрелка, но покряжистее его — скалой пал на врага, сбил в снег, мертвой хваткой сгреб за горло и сам завопил от ярости над вмиг потерявшим дыхание Стрелком. В дверь слитно рванулись двое, у одного над пламенно-рыжей бородой взлетел топор, Марченко почти в упор выстрелил из пистолета, пуля выбила топор и со стонущим журчащим визгом срикошетировала.
— Марченко! — истошно завопил рыжебородый и подавился криком от беспощадного, всем телом, удара под ложечку. Третий — Марченко — успел краем глаза заметить — выскочил безоружный, и за него не тревожился. Мгновенно связав сомлевшего рыжебородого, кинулся выручать Стрелка из рук обеспамятевшего до безумия Ханыги. Секунду-другую, и не дождался бы давно заслуженного суда страшный «мокрушник»: минут десять отхаживал его Марченко, еле оторвав Ханыгу.
Шнырь же, гигантскими прыжками заячьими пересекавший поляну, как в страшном сне, увидел вдруг, что по кромке пихтача пара за парой движется целый взвод с ружьями, которыми показались ему палки, всунутые Марченкой в связанные руки «обозников», заметался бессмысленно и встал, обреченно вопя:
— Сдаю-уся! Добром сдаюся!
И долго не мог понять, почему никто не берет его в плен.
Очнувшийся — так нескоро, что Марченко начал всерьез тревожиться, — Стрелок закатил истерику, отравляя морозный свежий воздух вечера страшным перегаром, мерзость которого дико подчеркивал конфетный сладкий припах, клубил пену на губах, потом успокоился и сипло пообещал Ханыге:
— Я, п-падла, и от дедушки уходил, и от хозяина уходил! Уйду, б-бойся, Ханыга, — тайга задрожит, как я тебя казнить буду!
— Отбоялся я тебя, кровопивец! — почти «по-русски» и совсем спокойно ответил Ханыга, и лицо его, черное, опухшее, вдруг осветилось неожиданно человеческой нормальной улыбкой.
— Везет тебе, мосол! — сдавленно прохрипел мятым горлом Стрелок.
— Удалому везет! — усмехнулся Марченко.
…В начале марта, ясным, чисто весенним по солнечной щедрости и небесной незамутненности утром явился в аймак записанный во все поминальники лихой оперуполномоченный Семен Марченко и привел ровнешенько чертову дюжину варнаков и дезертиров: последнего взял «у себя под носом», как сам после говорил, выковырнув его из хитрого тайника за глинобитной печью на одинокой заимке, вовсе близко от райцентра.
Вернее, привел-то он в связках двенадцать человек, а тринадцатого привезли на нартах. Самого же Семена Марченку, когда шел по улице во главе жутковатой и невиданной процессии к райотделу, едва ли кто узнавал — до того стал страшон! На костистом, обожженном морозами и высушенном ветрами лице, иссосанном бессонницами, нечеловеческим напряжением бессчетных дней и ночей, только и выделялись, что нос ястребиный да корявины. Слабее самого слабого из своих подконвойных выглядел Марченко, а все равно в провалившихся колодцами глазницах горели победной, исступленной синевой непоблекшие глаза его!..
Очистил тайгу родную Семен Марченко, как и обещался, гордец! Это походило на легенду, но из всех легенд про Марченку эта была самой правдивой. Мало кто дивился, что отчаянный гордец Марченко, даже выйдя в жилые места, не взял никого на помощь себе, так и гнал один, как брал до того, всю свою волчью стаю. Но все дивились — даже самые добрые сердцем люди — на кой черт тащил он через всю тайгу того, сгоравшего в антоновом огне бандита, который все равно на третий день помер в больнице? Но чтобы понять это, надо было хорошо знать самого Семена Марченко, а не только легенды о нем…
Мой же непосредственный друг и прямой начальник Максим Ёлкин ничему не дивился, даже тому, как Управление отпустило такого милиционера на фронт, Максим-то очень хорошо знал характер Семена Марченки.
…Когда начальник Управления обнял его весьма сердечно и сказал, что представляет к награждению, Марченко четко и сухо ответил:
— Благодарю за честь, товарищ начальник, но разрешите заслужить награды на фронте. — И, чуть помедлив, добавил: — Как и обещали мне лично вы, товарищ начальник. А уж там я милицейской чести и выучки не посрамлю и в счет вашего представления постараюсь особо — сверх возможного!
Начальник Управления опешил и чуть не закричал, но — как же было так сразу и кричать на такого героя? Он глядел в упор на строптивого подчиненного, взгляд начальника Управления славился «сталистостью», но милиционер и на миг не отвел злой синевы своих глаз от гневного начальнического взгляда. Стоял, плотный, подбористый, несокрушимый, и на рябом лице его в ястребиным носом написано было упрямство невиданной силы.
— Ты что же, на случайно сорвавшемся слове ловишь меня?
— А вы знаете, в чем настоящая сила, главная сила милиции заключается? — дерзко спросил зарвавшийся оперуполномоченный, и начальник подрастерялся даже от такого неслыханного нахальства. Однако ответил:
— В партийности, преданности, храбрости и… в связи с народом, естественно.
Марченко от нетерпения вовсе невежливо отмахнулся:
— Ну! Беспартийными нам и нельзя быть по духу, преданность — как же без этого коммунисту и чекисту? Храбрость — это… Это вот как оружие или обмундирование милиционеру по штату положено. Связь с народом, конешное дело, но она-то чем сильна, связь эта?
— Так чем же, по-твоему? — уже заинтересованно спросил начальник.
— Честностью! — рубанул Марченко. — Честностью превыше всего и доброй славой у народа. Уважением народа, а без доброй славы нет и уважения, а без уважения народа какая уж там связь с ним! Без этого вся наша остальная сила, виноват, как оружие без патронов.
И, уже бурея от волнения и так-то черным лицом своим:
— И случайных слов у нас быть не может, товарищ начальник! Особенно прилюдно сказанных!
Понял начальник Управления, что живет сама собой — не слухом, не сплетней, а доброй славой — легенда о том, как Марченко обещал самой Москве очистить тайгу от варнаков и дезертиров, как очистил ее, и что в награду — в н а г р а д у з а п о д в и г! — отпускают его на фронт…
В награду за подвиг…
— Черт корявый! — тоскливо сказал начальник. — Где же я теперь такого оперативника найду? Тебе ж цены нет, Семен Тимофеич!
— То-то вы и наказывали меня бессчетно за бесценность-то! — не утерпел Марченко, чтобы не подколоть начальство.
Да ведь без этого он бы не был Семеном Марченкой!..