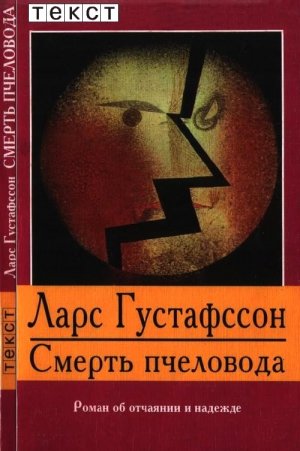
Коротко об авторе
Ларс Густафссон (р. 1936) — один из наиболее популярных писателей Швеции. Свой первый роман «Последние дни и кончина поэта Брумберга» он написал в 1959 году. Вскоре о творчестве Густафссона заговорили за пределами его страны, его произведения стали издаваться на многих языках. Отношения писателя с шведской действительностью были непростыми, и в начале восьмидесятых он переехал в Соединенные Штаты, где и по сей день преподает в Техасском университете (г. Остин) философию и германские языки.
Густафссон — автор многих романов и поэтических сборников; он удостоен нескольких престижных литературных премий. В шведской литературе его имя стоит особняком — не в последнюю очередь благодаря пристальному интересу писателя к романтическому созерцанию, средневековой мистике и еврейской культуре. Вместе с тем Густафссон, может быть, выразительнее, чем большинство писателей его поколения, изобразил повседневную жизнь провинциальной Швеции, например, в серии романов под общим названием «Трещины в стене». В каждом из романов — своя, отдельная история, а объединяет их общий герой по имени Ларс, который родился в тот же год и день, что и сам автор…
«Смерть пчеловода» — заключительное произведение этого цикла. Это книга о мужественном противостоянии человека жизненным обстоятельствам. Герой романа неизлечимо болен, он догадывается, что его дни сочтены. И все же раз за разом он повторяет: «Мы начнем сначала. Мы не сдадимся».
Прекрасное произведение, трогательное и печальное, строгое по стилю и находящее глубокий отзвук в душе читателя.
«Нью-Йоркер»
В романе есть лирическая насыщенность, которую мы привыкли связывать со скандинавским кино, духовная глубина и проникновенность.
«Йоркшир пост»
СМЕРТЬ ПЧЕЛОВОДА
(Роман)
Подонки! Палачи!
Державные убийцы!
Вам до сих пор непонятно?
И вы по-прежнему калите клещи на жаровне!
Ведь я же попросту осел, упрямец!
С ослиным сердцем и криком!
Я никогда не сдамся!
Теплые комнаты и холодные. 1972
Пролог
Рассказчик прощается утром в горах Чисос
Солнце еще не заглядывало в ущелье. Разбудил меня чистый звонкий голосок крапивника. Адский холод. Я вылез из спального мешка, нащупал в потемках башмаки и выпутался из москитной сетки.
Когда я вышел из палатки, самые первые, острые, как шилья, лучи брызнули из-за восточных вершин. Жмурясь, я поднял взгляд вверх, на исполинскую темную громаду Каса-Гранде.
От небывалого света, пробивавшегося из-за гребня, огромный отвесный каменный монолит казался мрачной твердыней, которая намного превышала размерами человеческие постройки, — цитадель ангелов или демонов, давным-давно покинутая всеми защитниками.
Свет поднялся чуть выше и уже мог беспрепятственно играть на противоположной, западной стене ущелья, а одинокие каменные столпы, тут и там вздымавшиеся к небу среди нагромождений песчаника, преобразились в органные трубы, причудливый, барочный механизм светового органа. Все вокруг играло красными оттенками скальной породы.
К звонкой песенке крапивника в зарослях мощных кактусов у скромной конной тропы теперь присоединился целый диковинный птичий хор — голоса горшечников, местных голубей, глумливое карканье здоровенных черных ворон. Но совершенно беззвучно парили над ущельем два огромных грифа-индейки. Совершенно недвижно висели метрах в двухстах над нами в утреннем ветерке.
Джон Вайнсток, профессор кафедры древнеисландского языка в университете Остина и заядлый бегун-марафонец, облаченный в невероятно истрепанные шорты и сетку, уже сидел возле спиртовки.
Он протянул мне жестяную кружку с горьким черным кофе.
Настоящее утро миновало. Еще час-другой, и температура в ущелье поднимется до тридцати, а то и до тридцати пяти градусов. Высокогорная мексиканская равнина мало-помалу выступала из солнечного марева за Окном, единственным проемом в цепи горных хребтов, который позволял нам ее увидеть.
Там внизу, на мексиканской стороне, наверно, уже царил зной. Равнина лежала в нескольких тысячах метров под нами. А было это октябрьским утром 1984 года. Я пил горький горячий кофе. Тонкой ниточкой ослепительно белого серебра сверкала внизу в солнечной дымке Рио-Гранде.
Забавно, думал я. Такое впечатление, что мой духовный мир теперь не очень-то и велик. Полная ясность внутри, и покой, и пустота Есть разве что птичьи голоса, и переливы красного света в трубах каменного органа, и горький вкус крепкого, чистого кофе без сахара. Но ни укоров, ни воспоминаний, ни тревоги. Я как бы подвешен в гироскопе. Пустой, чистый и прозрачный.
Может быть, удача все ж таки в конце концов мне улыбнулась. Может быть, я сумел высказать все без остатка.
— Would you like some more coffee? Хочешь еще кофе?
Теперь все утихло. Буря миновала Ветра нет. Или, может быть, я научился двигаться со скоростью ветра, потому и не замечаю его больше.
Любезные читатели, странные читатели. Мы начнем сначала. Мы не сдадимся. Начнем пятый и последний из пяти рассказов. Как хитрые старые гончие на лосиной охоте в Вестманланде — кстати, сезон лосиной охоты в Вестманланде приходится как раз на октябрь, — возьмем след там, где потеряли его, и непременно настигнем окровавленную добычу.
Начнем сначала. С ранней весны 1975 года. Наша история начинается в разгар оттепели. Место действия — Северный Вестманланд.
Бывший учитель неполной средней школы в Вестер-Воле, по имени Ларе Леннарт Вестúн — правда, чаще его звали Куницей, — был отправлен на пенсию досрочно, когда закрыли школу, местную семилетнюю школу в Эннуре, на северном берегу озера Он кое-как сводит концы с концами, в основном за счет продажи меда с пасеки, которого временами бывало по-настоящему много. После развода с женой он живет в небольшой усадьбе, на Мысу, примерно на уровне поселков Вретбю и Будбю, только, понятно, на восточной стороне озера. У него есть маленький садик, картофельное поле, собака. Иногда заезжает родня. Есть телефон, телевизор и подписка на местную губернскую газету. Достойных упоминания связей с женщинами он после развода не имел.
Куница — человек вовсе не старый. Родился он 17 мая 1936 года. Но выглядит гораздо старше своих сорока лет, изнуренный работой, лысоватый, тощий. Очки в тонкой металлической оправе еще усиливают впечатление худобы. Живет он в крайне непритязательных экономических условиях, но это его не волнует, его проблема в другом.
Ниже помещены оставленные им записи. Оставленные, потому что этой весной, в 1975 году, в разгар оттепели, он узнаёт, что до осени ему не дожить. Он смертельно болен — у него рак селезенки, обнаруженный, увы, с большим опозданием, когда опухоль уже дала метастазы.
Голос, который вы услышите далее, это его голос, а не мой, и засим я с вами прощаюсь.
Перечень источников
Найден на полке над мойкой, нелинованный, формат 16 х 16, 80 страниц, из которых полностью исписаны 76. Переплет желтый, с надписью «Шведский национальный союз пчеловодства».
Содержит весьма личные и весьма безличные записи. К числу последних относятся перечни ежемесячных хозяйственных расходов, памятные записи и заметки о разных работах на пасеке. Из них мы, понятно, включили в это издание лишь несколько характерных выборок.
Начат в феврале 1970 года.
Найден в книжном шкафу, на самой верхней полке. Формат А4, бумага линованная, крышка голубая, с надпечаткой «Книжный магазин Шёберга, Вестерос». 112 страниц, из которых 97 целиком заполнены с обеих сторон. Содержит вклеенные газетные вырезки, выдержки из прочитанных Вестином книг и собственные его рассказы.
Начат не ранее лета 1964 года.
Так называемый телефонный блокнот. Обложка наполовину оторвана. Надпечатка: [КТО ЗВОНИЛ?]. Найден в кухне возле телефона, на столе, прямо против мойки.
Содержит местные телефоны, несколько телефонных номеров других городов и кое-какие заметки о развитии болезни.
Начат не ранее 1970 года.
1
Письмо
…дул ветер, да еще и совсем теплый. Случилось это в прошлом году, в конце августа, собака убежала, именно тогда она стала убегать, и я искал ее, а было уже часов одиннадцать вечера. Небо пряталось в тучах, темень такая, что даже кроны деревьев не различить, слышно только, как в них неустанно шумит ветер. Все тот же ровный, сильный, на удивление теплый ветер. Помнится, мне доводилось переживать нечто подобное, но не помню точно когда.
Шагая по тропинке к Сундбладам — она ведет вдоль берега озера, и я чуял запах воды и слышал плеск волн, но не видел их в потемках, — я вдруг явственно ощутил, что на ботинок мне прыгнул маленький лягушонок.
И тут я сделал то, чего не делал, наверное, с пятидесятых годов. Быстро нагнулся и, сложив руки ковшиком, провел ими сквозь влажную траву чуть дальше того места, где он должен был находиться.
Старый трюк действует безотказно. Лягушонок скакнул прямо в мои ладони, он был до того маленький, что я спокойно мог держать его в одной руке, как в клетке.
На миг он совершенно оцепенел, и я сложил из ладоней клетку побольше.
Вот так я стоял и слушал ветер, держа лягушонка в ладонях, будто в клетке, а ветер, все тот же теплый, упорный ветер, гулял среди деревьев. И воздух кисловато пах муравьями, которых в прибрежном лесу было великое множество. Я отчетливо чувствовал, как лягушонок дрожит у меня в руке.
И вдруг он написал, прямо мне в руки.
По-моему, мало кому привелось испытать такое.
Моча у лягушек холодная как лед. Я так изумился, что разжал руку и выпустил лягушонка. А сам все стоял, совершенно остолбенев, и ветер шумел надо мной в кронах деревьев, а рука замерзла от лягушачьей мочи.
Мы начнем сначала. Мы не сдадимся.
(Желтый блокнот, I:1)
Собаку я нашел у Сундбладов. Она прибежала к ним сразу после полудня, ее угостили оладьями и дали попить. Вышло до крайности неловко: когда я хотел забрать ее с собой, она воспротивилась. Упиралась всеми четырьмя лапами в кухонный половик и не желала идти.
Очень неловко. Ведь они могли подумать, будто собака боится идти домой, потому что я плохо с нею обращаюсь. А это неправда.
Тут что-то другое, но я никак не пойму, что бы это могло быть. Странное дело, собака словно чем-то испугана, причем уже в третий раз за последние недели. А ведь я обращаюсь с нею точно так же, как обращался все эти одиннадцать лет. Согласен, иногда я, наверно, излишне решителен и резковат, но чтоб пугать — нет, это исключено. Собака знает меня как облупленного, ведь она попала ко мне совсем маленьким щенком.
Есть только одно разумное объяснение: собака уже так стара, что в ее обонятельной памяти происходят какие-то чрезвычайно тонкие изменения. И потому она просто-напросто не узнаёт меня.
С одной стороны, она, по-моему, до невозможности плохо видит, но, с другой стороны, зрение для нее значит не так уж много.
Однажды зимой в начале шестидесятых я катался на лыжах — лыжня шла по холмам к озеру Мэрршён. Тогда я еще учительствовал неподалеку от Эннуры, в старой школе, которую потом перевели в Фагерсту, и покататься на лыжах мне удавалось только по субботам и воскресеньям. Стояло погожее февральское воскресенье, народу на лыжне было довольно много, и, поднявшись на вершину холма, я увидал впереди, метрах в тридцати, мужчину в голубой куртке.
Собака все время немного опережала меня и отлично знала об этом человеке на лыжне, уже давно, на протяжении нескольких километров, он был запечатлен в ее памяти как обонятельный образ, как запах.
И вот, этот мужчина, который был немного старше меня, сходит с лыжни — что-то поправить или пропустить меня, поскольку я едва не наступал ему на пятки.
А собака, черт ее подери, мчится прямиком на него, и он, не удержавшись на ногах, плюхается на лыжню!
Для собаки нет человека в голубой куртке, есть только интересный запах, за которым она следует и который становится все сильнее, она до такой степени полагается на этот запах, что поднимает голову и глядит по сторонам, только когда сшибает с ног его обладателя.
Наверняка у нее что-то с нюхом. И ничего тут не поделаешь. Хорошая была собака. Надеюсь, она еще поживет.
Все-таки я не понимаю, что на нее нашло. Она действительно как бы перестала меня узнавать. Вернее, узнаёт, но лишь с очень близкого расстояния, когда я могу заставить ее видеть меня и слышать, а не просто следовать чутью.
Есть, конечно, и другое объяснение, только оно донельзя нелепое, и поверить в него я не могу.
Я имею в виду, что я сам ни с того ни с сего начал пахнуть по-иному и изменение запаха чертовски тонкое, чует его лишь собака.
(Желтый блокнот, I:2)
Столько всего нужно было сделать на пасеке минувшей осенью — и деревянную обшивку заменить, и летки кое-где обновить, и рамки отремонтировать, и утеплить, — но необъяснимым образом руки у меня до этого так и не дошли. Сам толком не понимаю, в чем тут дело. По какой-то загадочной причине я был осенью страшно вялым, пассивным. Слава Богу, конец января будет, по всей видимости, рекордно теплым. День за днем идет дождь, и в зимней темноте я против обыкновения залеживаюсь в постели, просто ради удовольствия послушать шум дождя по крыше.
Но вдруг в феврале ударит мороз? Что, черт побери, тогда делать? Древесина ульев насквозь пропиталась водой, толь на крышах во многих местах прохудился. Пчелы попросту замерзнут. В наказание за осеннее безделье останусь без трех-четырех семей.
Для моих финансов это значения не имеет, потому что муниципальные власти наконец-то повысили мне жилищное пособие, но пчелы — живые существа, и их гибель все ж таки причиняет боль.
Забавная штука, недавно я говорил об этом по телефону с Исакссоном из Рамнеса.
Когда гибнет пчелиная семья, такое чувство, будто умерло животное. Тоскуешь по ней, как по индивидуальности, почти как по собаке или хотя бы по кошке.
А вот мертвая пчела не вызывает совершенно никаких эмоций, ее просто выбрасывают.
Удивительно, что пчелы ведут себя точно так же. У животных нечасто встречается столь полное отсутствие интереса к смерти собратьев. Если я, небрежно вставляя рамку, раздавлю нескольких пчел, остальные утаскивают их прочь, будто какие-нибудь сломанные механизмы. Но перво-наперво обязательно проверяют соты, есть там мед или нет.
Только подумать, а вдруг они сами воспринимают все это таким же образом? Что индивидуальность, разум, существует в рое, в семье.
Бывают пчелиные семьи с чрезвычайно ярко выраженной индивидуальностью. Ленивые и прилежные, агрессивные и миролюбивые. Даже легкомысленные и богемные, черт их знает, может, есть и такие, что обладают чувством юмора или, наоборот, совершенно его лишены.
Взять хотя бы горячку роения! Точь-в-точь нервный, капризный, нетерпеливый человек. Скверный любовник — никакой выдержки.
А отдельная пчела безлика, словно гайка или винтик в часовом механизме.
(Желтый блокнот, I:3)
В августе тут гостили дети, и по их настоянию мы затеяли играть в бадминтон. Мне кажется, они, дети разведенных родителей, хотя бы летом были вполне счастливы. Ведь приезжали сюда несколько лет подряд. В июне и в августе.
Так или иначе, когда мы играли в бадминтон, я испытал в точности такое же ощущение.
Но тогда я ничуть не сомневался, что это прострел, и потому скоро забыл обо всем. Решил, что растянул какую-то спинную мышцу. Игру, понятно, пришлось немедля оставить.
Но бывает ли от прострела такая боль, что во рту чувствуется вкус крови?
(Желтый блокнот, I:4)
Можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов? Я не очень в этом разбираюсь. Путешествиями моя жизнь небогата. Два велопробега по Дании в начале пятидесятых, турнир по настольному теннису в Западной Германии, в Киле, и множество походов в Норвегию маршрутом через Орсу и Идре и дальше, через границу возле озера Фемуннен — все это мало что говорит. Я вообще склонен рассматривать мир за пределами Швеции как нечто литературное, встречающееся в книгах и журналах.
Слишком большие расстояния меня пугают. Париж существует для меня в дневниках братьев Гонкур, самый современный Лондон — в ранних романах Олдоса Хаксли.
Если б я вправду очутился в этих городах, я бы, наверно, заблудился. Счел бы их совершенно чуждыми, посторонними. Вот губернская газета как раз пишет, что в Париже теперь есть небоскребы.
В моей системе время в разных местах течет по-разному. Например, в Париже только-только улеглась цементная пыль Коммуны. А что за время здесь? Здесь — настоящее.
Итак, можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов. Позавчерашняя очередь на рентген в Вестеросской региональной больнице. Невыносимый запах шерсти, сырой шерсти. Множество людей кругом — на стульях, на лавках, повсюду. Мальчик с жутким синяком на всю правую половину лица. Накануне вечером он на полной скорости свалился с мопеда и сильно ушибся. Какой-то старикан из Кольбека, приехавший утренним автобусом. Он очень надеялся вернуться домой с последним вечерним рейсом. «Они тут не торопятся». На этой неделе он приехал уже второй раз. У каждого в руках талончик с номером. Загадки очереди — иногда сестра вызывает одновременно двух или трех пациентов, иногда только одного. Иногда движение на целый час полностью замирает. А как все поднимают глаза всякий раз, когда появляется сестра!
Словно механические куранты, где фигуры передвигаются один раз в час, открывается дверь, кто-то выходит, кто-то входит. Двое полицейских приводят вдрызг пьяного типа с пластырями на лбу, под глазами, на подбородке. Его пропускают без очереди.
Из шести-семи десятков людей в коридоре большинство, наверно, испытывает боль, сильную и не очень. У некоторых это заметно по тому, как они сидят, встают и ходят взад-вперед.
Но разговоров об этом почти не слышно, они даже не говорят, что им больно (а это «больно» может означать что угодно — от легкого недомогания до жгучей боли). Вместо этого говорят о скверном автобусном сообщении, об электричках, о хождениях по врачам. Такое впечатление, будто некоторые из них и живут лишь затем, чтобы посещать больницу. Здесь они чувствуют себя вполне вольготно. Болезнь придает им значимости. Я имею в виду кой-кого из самых старых и самых безропотных пациентов.
Их заболевания вызывают интерес, которого, пока они были здоровы, никто и никогда к ним не проявлял.
Что-то в их терпеливости ужасно меня раздражает, делает агрессивным. Нельзя покорно мириться… С чем? С необходимостью сидеть и так долго ждать вызова на рентген, с до странности безличным, почти индустриальным обслуживанием, где никого не волнует, что они спозаранку дожидались автобуса на зимних остановках и целый день сидят у дверей рентгеновского кабинета, не евши, боясь потерять место в очереди?
И тем не менее всегда присутствует некая солидарность товарищей по несчастью, всегда кто-то обещает кликнуть, если сестра вызовет тебя именно в ту минуту, когда ты вышел в туалет покурить. Или, может быть, я имею в виду, что они должны протестовать против самой боли, не позволяя себе с нею примириться? Пролетарии боли, соединяйтесь!
(Желтый блокнот, I:5)
WAS MICH NICHT UMBRINGT, MACHT MICH STÄRKER. —
ТО, ЧТО НЕ УБИВАЕТ МЕНЯ, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ.
(Фридрих Ницше, немецкий философ, 1844–1900)
(Желтый блокнот, I:6)
Февраль 1975 г.Потребительская лавка — 375,40
Сахар — 42,90
Табак — 32,50
Гвозди и накладки — 16,00
Визит к врачу — 7,00
Нефть и бензин — 75,00
___________
Итого расходов — 548,80
Союз пчеловодства, бонус + 16, —
Потребительская лавка, мед + 255, —
Больничная касса +304, —
Починка насоса для Сундблада + 50, —
___________
Февральские поступления (брутто) + 625, —
Прибыль 76, —
(Желтый блокнот, I:7)
Когда наконец пришло письмо из Вестеросской региональной больницы, я не стал его вскрывать, а отложил в сторону, просмотрел газеты и журналы, взглянул на счета, сообразил, что денег не хватит и в этом месяце мне их не оплатить, потом кликнул собаку и отправился на воздух — самое время как следует прогуляться.
Был славный серенький февральский день, холодноватый, зато не слишком влажный, и окрестный пейзаж выглядел как карандашный набросок. Не знаю, чем он мне так по душе, ведь природа здесь суровая, скудная, и все же я никогда не устаю бродить по этим местам, где провел немалую часть своей жизни.
Пока был женат, я жил в Трюммельсберге, а по школам ездил на машине, школ я за эти годы сменил несколько. Так как у меня есть не только диплом учителя средней школы, но и диплом преподавателя ручного труда, в последние годы, когда школы без конца объединяли то так, то этак, я имел достаточно свободный выбор. И преподавал почти исключительно ручной труд. Классы, на мой взгляд, стали великоваты, но мне это обеспечивало хорошую нагрузку.
После развода я переехал сюда, забрался, можно сказать, в глубинку и сразу же отказался от учительства. Денег так или иначе не оставалось, все уходило на текущие расходы, и тогда я попросту бросил их зарабатывать и вместо этого завел три десятка пчелиных семей.
К моему удивлению, оказалось, такой образ жизни ничуть не хуже прежнего. Сложности возникают, только когда мне нужно куда-нибудь отлучиться, как вот сейчас, в больницу.
Когда наконец пришло письмо из региональной больницы, я просто отложил его и отправился на прогулку. Я был совершенно спокоен и по пути пристально разглядывал голые деревья. Эти голые ветви на фоне свинцово-серого неба завораживают меня. Словно письмена неведомого языка, которые пытаются что-то сообщить.
По правде сказать, вся округа с запертыми на засовы летними домиками, заснеженными садами и вытащенными на берег лодками выглядит сейчас куда красивее, чем летом. Летом здесь полным-полно людей, со многими я за эти годы успел свести знакомство, иногда меня даже приглашают поиграть в карты, выпить на веранде бокальчик вина — и это очень приятно. Я же вовсе не бирюк какой-нибудь. Но сейчас, сейчас все здесь дышит подлинной жизнью. Плохая ли, хорошая ли, одинокая или благородная — это моя подлинная жизнь. И вот теперь что-то превосходящее силой и меня, и любые суды, и правительства, и власти пытается отнять ее у меня.
Это несправедливо.
Когда я обошел весь мыс и вдобавок спугнул лосиное семейство, которое, принюхиваясь, стояло на лугу прямо за брюслинговским сараем, мысли мои до известной степени оформились.
Либо в письме написано, что ничего опасного нет. Либо же — что у меня рак и я умру. И скорее всего, именно так там и написано.
Самое разумное — вообще не вскрывать его, ведь пока оно не распечатано, остается некоторая надежда.
А надежда даст мне хоть какую-то свободу действий. Небольшую, конечно, потому что болеть от этого не перестанет, но боль будет в высшей степени собирательная, не напоминающая о чем-то конкретном, я включу ее в свою жизнь — почему бы и нет? Ведь с множеством разных других вещей мне удалось справиться.
Когда наконец пришло письмо, я отправился на прогулку и обошел с собакой весь мыс, а вернувшись, решил ни в коем случае не вскрывать это письмо.
Оно лежало в кухне, на цветастой скатерти возле тарелок с ленчем, а за окном между тем, как всегда, суетились в кормушке птицы и еще потеплело, даже с крыши капало.
Коричневый конверт с окошком, в верхнем левом углу штамп: Вестеросская региональная больница, центральная лаборатория. Я пощупал письмо. Внутри был один-единственный листок, маленький, сложенный пополам. Поднес конверт к окну — на просвет ничего не видно.
Если распечатать, думал я, каким образом оно изменит меня? Если там написано, что мне осталось жить считанные месяцы, — я что же, потеряю всякую способность действовать? Впаду в паралич? Буду вынужден лечь в больницу? Наверное. И проведу последние месяцы на койке, испытывая все более сильные боли, худея, слабея, не имея возможности быть хозяином собственного положения.
Ну а если я распечатаю его и прочту, что лабораторное исследование тканевых проб выявило наличие доброкачественной опухоли? Что у меня язва желудка или камни в желчном пузыре и необходимо оперативное вмешательство и соответствующая диета и что весьма опасно для жизни ходить с камнями в желчном пузыре и не лечиться?
Вдруг мне, наоборот, станет только хуже, если я не распечатаю это письмо? Городского телефона у меня нет, они не сумеют со мной связаться, если я никак не откликнусь, — ну, может, через некоторое время пришлют еще одно письмо, хотя тогда наверняка будет уже слишком поздно.
Когда пришло это письмо, я не стал его вскрывать — сначала долго-долго гулял с собакой.
Вернувшись домой, я принялся играть мыслью, что вскрывать его вообще незачем.
Пожалуй, я чуточку затянул эту игру, всего на миг, всего на малую долю секунды, но затянул.
Если в письме мой смертный приговор, то я его отвергаю.
Со смертью связываться нельзя. По счастью, эту премудрость я усвоил давным-давно, и она очень пригодилась мне в жизни.
Согласно Вильгельму Вундту[1], который, если верить «Скандинавскому биографическому справочнику», был в свое время очень известным психологом, существуют три типа болевых ощущений — тупые, колющие и жгучие.
Если для цветовых ощущений в языке есть целая гамма слов, то здесь для различения нюансов никаких особенных слов нет. Болевые ощущения лишены собственных названий.
Быть может, оттого, что два разных человека способны видеть один и тот же цвет, но не могут испытывать одну и ту же боль?
Моя боль тупая. И не только тупая. В иные дни бывает и жгучая, но в основном тупая.
Думаю, она действительно началась в ту самую ночь, когда сбежала собака, потому что глубоко во сне я впервые почувствовал этот странный тупой нажим в пояснице, в области почек, словно туда украдкой засунули футбольный мяч и накачивали его, медленно, толчками, совершенно не обращая внимания, шевелюсь я или нет.
Как бы там ни было, впервые я это заметил в ту ночь, когда убежала собака.
Боль начинается обыкновенно среди ночи, сперва она долго снится мне и лишь потом будит, она присутствует во сне как угроза, и я все время стараюсь от нее отвернуться, стараюсь не видеть ее, во сне я в самом прямом смысле отворачиваю от нее лицо, а она все равно приближается, заставляет меня увидеть ее и будит.
До самого Рождества таблетки помогали хорошо — я получил их в Фагерсте, еще когда они думали, что у меня камни в почках. (В самом-то начале я думал, что это прострел, потом стал грешить на простату, но, как оказалось, даже понятия не имел, в каком месте болит при воспалении простаты.)
И вот после Рождества выясняется, что таблетки от почечных камней, весьма сильное средство — слава Богу, рецепты мне постоянно возобновляют, — уже не могут подавить эту боль. И дело не в том, что она усилилась, просто таблетки, а значит, и моя нервная система почему-то с нею не справляются.
От этого я вновь стал чувствовать свое тело; с такой отчетливостью я ощущал, что у меня есть тело, только когда был мальчишкой-подростком, — оно непрерывно и упорно заявляет о себе.
Но вот ведь какая штука: тело это не в порядке. В нем все время что-то жжет.
И еще, конечно, надежда. На прошлой неделе я этак дня три был совершенно уверен, что боль потихоньку исчезает, все опять стало вполне обыкновенным, а ведь я почти успел забыть, до чего обыкновенным было мое тело, прежде чем всерьез начались эти боли в пояснице. Конечно, надеяться по-настоящему я не смел, но все-таки надеялся.
Совершая свои короткие прогулки, я заметил, что за последние месяцы боль придала окрестностям какую-то странную окраску. Тут и там деревья, возле которых боль донимала меня особенно сильно, тут и там ограда, по планкам которой я на ходу ударял рукой. А когда я возвращался домой эти три безмятежных дня, боль как бы пряталась в ограде.
Боль — это ландшафт.
Потом она, конечно же, вернулась, воскресным вечером, не сразу, медленно, мелкими рывками, как собака, вынюхивающая след.
Мне пришлось не раз побывать у врачей, прежде чем они задались вопросом, уж не рак ли это. И опять бесконечные визиты к врачам и бесконечное ожидание в приемных, в компании пролетариев от боли, прежде чем они решили, что нужно взять все возможные анализы тканей и крови и провести контрастные рентгеновские исследования. И потребовалось еще довольно много времени, чтобы все это проделать. Успел наступить ноябрь, а там и декабрь.
Потом от них долго не было ни слуху ни духу, до вчерашнего дня, то есть до последнего дня февраля.
Когда наконец пришло письмо, я не стал его сразу вскрывать. Вместо этого отправился с собакой на долгую прогулку и по дороге обдумывал ситуацию. Все вокруг выглядело как всегда — серый пейзаж, голые деревья с драматически простертыми ветвями, как бы нарисованными карандашом. Толстый, покрытый мокрым снегом лед на озере, наконец-то, в феврале.
Я долго сидел и смотрел на письмо, пощупал его, прикинул толщину и тяжесть, в конце концов на кухне стало совсем холодно, потому что камин погас, дрова прогорели. Когда я поднял взгляд, уже смеркалось. День клонился к вечеру, обыкновенный февральский день, когда к четырем уже начинает темнеть.
Я встал, не спеша вышел во двор, принес дров и опять разжег камин.
Письмо я использовал для растопки.
(Желтый блокнот, I:8)
2
Супружество
…на эту тему я еще могу рассказать весьма любопытную историю одной встречи. Есть в нашей округе некая довольно молодая дама или барышня, миловидная, с изящной фигурой. Вблизи я ее никогда не видел, как правило, нас разделяло метров пятьдесят, и она всегда казалась мне красивой. На удивление свежий цвет лица, большие темные, прямо-таки черные глаза, стройная белая шея.
И во мне, как всегда, ожила нежная, очень приятная мысль: не влюбиться ли? Однако видел я ее только на органных концертах в вестер-волской церкви, и больше нигде, после развода я вообще видел не очень-то много людей, разве что на работе.
В конце концов мне все-таки захотелось выяснить, справедливо ли то представление, какое я о ней составил, и для этого подвернулся очень удобный случай. В перерыве концерта Чёпингского квартета я подошел к ней в церковном притворе и поздоровался.
Ни плана, ни особенного замысла у меня не было, я просто хотел услышать, что она скажет. Стало быть, мы обменялись несколькими совершенно нейтральными, вежливыми фразами, я уже собрался назвать себя, но посмотрел на нее по-настоящему — и предпочел промолчать.
Я увидел у нее на лице какую-то противную сыпь — не то мелкие прыщики, не то угри, словно от какой-то странной кожной болезни, — и мысли мои незамедлительно пошли в другом направлении. Тем не менее я продолжил разговор, и она отвечала, весьма легким и приятно-учтивым тоном. И сказать по правде, очень может быть, что я выбрал для знакомства один из тех досадных и неподходящих дней, когда секс под запретом; ведь в нашей округе она вообще-то считается весьма красивой.
Однако же эта встреча принесла мне известное облегчение. Избавила от начавшегося было не вполне приятного беспокойства. И скверной привычки привязываться к всевозможным объектам, привлекающим к себе беспокойное внимание.
…
И тут вполне естественно напрашивается вопрос: когда мы любим или, точнее, влюбляемся, то во что же именно мы влюбляемся?
Любим ли мы представление о человеке или самого человека?
Может быть, мы способны общаться лишь с собственными представлениями? Может быть, мы и любим все время лишь собственные наши представления?
…
Любовь и географическое расстояние. Когда человек, которого любишь, садится на поезд и уезжает прочь, порой совершенно отчетливо испытываешь что-то вроде облегчения. Уходишь от реальности, можешь вновь спокойно общаться с представлением.
На каком максимальном расстоянии можно вообще любить человека? Девушка, которую я очень любил в школьные годы, ее звали Моника, уехала в Калифорнию. Много лет мы переписывались, но мало-помалу переписка, конечно, сошла на нет.
Существовала ли Моника (для меня) в ту пору? Или я давным-давно общался с представлением?
На каком максимальном расстоянии можно вообще любить человека? На расстоянии ста миль? Двух с половиной? Моя давнишняя мечта — завести любовницу в Скультуне. Замечательное расстояние, ровно полчаса езды на машине. Летом, пожалуй, чуть поменьше, а в сильную гололедицу чуть побольше.
На каком максимальном расстоянии можно вообще любить человека?
Ответ: на расстоянии менее одного миллиметра. И анонимно.
…
Когда мы наконец решили развестись и Маргарет уже начала прикидывать, как бы ей заполучить в Вестеросе жилье, произошло нечто странное. Мы ходили по квартире, рассматривали вещи, обсуждали, какие книги возьмет она, какие я, где она купила это или то, забрать ли ей с собой старый шкаф с подъемной дверцей.
Мы оба пришли в отличное настроение, прямо-таки развеселились. Шугали и разговаривали так, как не разговаривали уже года два с лишним, оба вздохнули с облегчением и сами немало удивились, сколь реальны мы друг для друга.
Нам было уже незачем общаться через представления.
(Голубой блокнот, I:1)
…в феврале то ли 1968, то ли 1969 года меня выбрали — я так и не понял толком почему — кандидатом в члены правления Шведского объединения биологов. Годовое собрание состоялось в Коммунальном центре в Сёдермальме[2], и, когда февральским вечером, часов около шести, я вышел оттуда, уже совсем стемнело. Жил я через дорогу, в гостинице «Мальмен», и, поскольку не мог придумать себе никакого путного занятия, решил прогуляться, несмотря на десятиградусный мороз.
Я зашагал вниз по Фолькунгагатан, прохожих на улице почти не попадалось, хотя был воскресный вечер, новолуние и кое-где, даже на мостовой, лежал тонкий снежок.
Дошел я до самой гавани, а затем направился вверх по Стигбергсгатан, в сторону Систа-Стювернс-Траппа, почти забытого квартала, который совершенно не менялся по крайней мере со времен Августа Стриндберга, — странный суровый город словно бы далеко-далеко на севере Скандинавии, красные деревянные домишки на склоне горы, деревянные лестницы, пахнущие деревом дома, названия улиц, напоминающие о Балтике, об эстонцах и финнах, город в городе, куда все приходило сверху: указы, налоги, армейские предписания замерзнуть в славянских болотах, буржуазные революции и те шли сверху.
Я порядком устал, просидев целый день в Коммунальном центре, в прокуренном помещении с плохой вентиляцией, дебаты по поводу бюджета Объединения шли довольно бестолково и долго, вдобавок я все время думал о другом, о чем именно — здесь для нас значения не имеет.
И на воздух я выбрался с одной-единственной мыслью в голове: пройтись вниз по Фолькунгагатан. Шел я совершенно машинально, надвинув на уши шапку из искусственного каракуля. Квартал за кварталом, в общем-то ни о чем не думая.
Когда я очутился у Стадсгордена, я вдруг поймал себя на том, что все-таки кое о чем думал: о моем стокгольмском детстве.
Зима, примерно восьмидесятые годы прошлого века, стужа, очень много снегу. Мы живем в низеньких деревянных домиках возле Карлбергского канала, он совершенно замерз, и после школы мы, дети, катаемся по льду на коньках, старомодных, с загнутыми вверх, точно кочерга, концами лезвий. Все необычайно ярко и отчетливо. Моя младшая сестренка тщетно старается прикрепить коньки к своим грубым ботинкам на пуговицах, и я помогаю ей стянуть ремешки. Мы скользим по каналу в лучах низкого солнца, скоро вечер. Несколько больших, пахнущих смолой паромов вмерзли в лед, мы забираемся на них и смотрим, чтó там есть, хоть это и запрещено. Видим несколько пивных бутылок, брошенных на палубе кем-то из грузчиков, бутылки и вправду старомодные, зеленого стекла, с длинными горлышками.
И вот однажды под вечер в кустах возле канала я нашел замерзший женский труп, над льдом видна только одна рука, эта молодая женщина утопилась осенью в канале, и теперь ее тело накрепко вмерзло в лед. Меня не пугает, что молодая женщина вмерзла в лед, это словно бы вполне естественно, только очень грустно, и мне очень ее жаль.
Но когда я прихожу домой и рассказываю о том, что увидел, поднимается жуткая кутерьма, все бегут на улицу, из города приезжает рабочий с длинными пилами, нам, детям, смотреть не разрешают…
И вот на этом месте истории я вдруг опомнился: ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ, У МЕНЯ ЖЕ НЕ БЫЛО НИКАКОГО СТОКГОЛЬМСКОГО ДЕТСТВА. Тем более в восьмидесятые годы прошлого века!
Человек впечатлительный сразу начал бы рассуждать о переселении душ и памяти прежней жизни. Но такие замысловатые объяснения, разумеется, ни к чему.
Просто подсознание, ненадолго предоставленное самому себе, начинает фантазировать. Создает себе некое тождество, приспосабливается к обстановке, услужливо порождает новые формы, чтобы заполнить внезапную пустоту, возникающую, когда мы забываем о повседневности.
По всей видимости, подсознание ничего так не страшится, как ощущения полного отсутствия тождества.
И потому оно услужливо сочиняло мне новую биографию!
(Голубой блокнот, II:4)
Шанс столкнуться с тем, что возымеет для нас значение, дается нам не однажды, а минимум раз двадцать, пока мы наконец не воспримем подсказку всерьез.
По крайней мере со мной всегда обстояло именно так.
А мы, пока есть возможность, уклоняемся.
Впервые я увидел Маргарет, должно быть, еще в реальном училище в Вестеросе. Я посещал пятилетнее училище, она — четырехлетнее. В четырехлетием учились главным образом дети из сельской местности, потому что им, понятно, было трудно годами ездить туда-сюда на автобусах и поездах и родители старались по возможности сократить срок обучения.
Те, что ездили в вестеросское училище из Сурахаммара, Хальстахаммара, Кольбека, Рюттерне и Стрёмхольма, были, пожалуй, чуть взрослее и чуть самостоятельнее нас, городских, и держались своей компанией, несколько особняком.
Тогдашняя Маргарет запомнилась мне худенькой, тихой, маленькой светловолосой девочкой, которая наверняка постоянно мерзла, ведь зимой она носила смешную вязаную шапку, натянутую глубоко на уши. Белокурые волосы можно было увидеть только в разгар весны.
С виду она казалась очень застенчивой.
В ту пору я интересовался совсем другой девочкой из ее класса, теннисисткой, с длинными темными волосами, большими глазами, уже развитой грудью и высоковатыми скулами, какие до смешного часто встречаются у уроженок Вестманланда. Имя ее я при всем желании вспомнить не в силах. Эта девочка и Маргарет дружили, во всяком случае, их часто видели вместе, совершенно непохожие, какими нередко и бывают подружки, одна — привлекательная, другая — вовсе невзрачная.
Маргарет как будто бы пыталась иной раз поболтать со мною, по крайней мере, она уверяла меня в этом все десять лет, что мы были женаты, но, по ее словам, я в упор ее не замечал.
Оглядываясь назад, я не могу отделаться от ощущения, что она попросту казалась мне чуточку, самую малость, противной. От нее веяло какой-то неловкостью, а может быть, я сам чувствовал себя рядом с нею не в своей тарелке.
Может быть, на деле эта неловкость притягивала меня? Или я смутно угадывал, что когда-нибудь она будет значить для меня куда больше, чем в ту пору?
Единственное, что мне отчетливо запомнилось с тех времен, это моя яростная, но совершенно тайная ненависть чуть ли не ко всему миру: к учителям, школе, одноклассникам, — в общем, ко всему миру, ведь, как мне представлялось, он был настроен ко мне до невозможности враждебно, так и норовил унизить меня, поставить на место, и всегда по праву сильного.
А эта маленькая, светловолосая, какая-то беспомощная девочка казалась такой же угнетенной, как я, наверняка такой же подавленной, как я. И хорошо, черт побери, что я не считал ее особенно интересной! Мне требовались раскрепощенные люди!
Когда я приехал в Упсалу и записался в семинарию, большинство моих приятелей давно успели обосноваться в городе, а я довольно долго был в армии, проходил на флоте унтер-офицерскую подготовку, и, когда поступил в семинарию, все, кого я знал по Вестеросу, уже учились в университете.
Маргарет поступила в семинарию год спустя.
Встретились мы на танцах. Вряд ли я собирался приглашать ее, но по какой-то причине все-таки пригласил.
Вот тогда-то я и ощутил исходившее от нее удивительное чувственное тепло. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу.
Но лишь один раз.
Потом я пошел домой к совсем другой девушке, единственное, что я о ней помню, это рост — она была намного выше меня, и, кажется, я даже спал с нею.
Провести ночь с Маргарет, должно быть, почему-то казалось тривиальным. В те упсальские годы жизнь моя шла весьма безалаберно. В семинарии особых сложностей не было, подлинные неприятности мне доставляла только игра на органе, чертовы педали никак не желали попадать в такт, позднее, лет через десять, когда я учился водить автомобиль, инструктор жаловался, что я обращаюсь с автомобильными педалями так, словно это педали органа. Но если отвлечься от педалей, упсальская семинария была поистине чепухой, детской забавой, или как там еще говорят в таких случаях, и время я использовал главным образом на то, чтоб бегать за девушками.
Почему — не знаю, наверно, я был переполнен каким-то беспокойством, но в особенности меня интересовало обольщение.
Слово, конечно, слишком высокопарное… но речь шла именно об обольщении.
Я хотел доказать, что существую. А доказать это можно одним-единственным способом —. воздействуя на другого человека.
Чем сильнее такое воздействие, тем убедительнее подтверждается твоя собственная реальность.
В те годы мне ужасно хотелось быть на виду. А если удается кого-нибудь обольстить, значит, удается и быть на виду.
Студенческие землячества устраивали тогда в Упсале потрясающие танцевальные вечера, в особенности славились те, что бывали по средам в Вестманландском землячестве; безумная толчея, запах дешевых духов, по одну сторону зала — девушки, по другую — парни. Жарища такая, что лак на портретах увешанных орденами давних инспекторов просто чудом не растекался.
Собственно, оставалось только выбрать. Безлично, методом тыка.
Но меня интересовали в первую очередь девушки слегка застенчивые, слегка замкнутые, такие, что могли каким-то образом измениться.
Такие, что легонько трепетали, когда ты с ними танцевал. Чуточку напряженные.
Думаю, подход у меня был сугубо механический, в том смысле, что я запускал некий процесс, который преследовал одну-единственную цель — доказать что-то обо мне самом.
(«Обо мне самом», «я сам» — все эти словесные конструкции кажутся мне теперь сущей тарабарщиной. В них попросту нет смысла.
Но я не могу точно объяснить, что имею в виду.)
С деньгами у меня тогда обстояло до крайности скверно. Покупательная их способность была выше, чем теперь, но и учебные ссуды приходилось растягивать на куда более долгий срок, и, если сидеть сложа руки, ситуация складывалась препаршивая.
Сначала мы втроем — Бертиль, Леннарт и я — снимали две большие комнаты в Свартбеккене. Но миновал один семестр — и Бертиль с Леннартом стали отдаляться от меня.
Ведь они учились в университете и мало-помалу обзавелись собственными друзьями. Правда, дело было не только в этом. Отличаясь прилежанием — надо сказать, Бертиль умер всего несколько лет спустя, но это уже совсем другая история, — отличаясь прилежанием и амбициозностью, они решили, что я не в меру часто сманиваю их на гулянки, а средствами на такую разгульную жизнь никто из нас не располагал.
Помню, что в конце ноября мы ходили по ресторанчикам без пальто, чтобы сэкономить несколько крон на гардеробщике.
Вновь встречаясь со мною лет через пятнадцать, многие твердили, что я очень изменился, стал просто до невозможности спокойным.
Я никогда не мог толком уразуметь, что они имеют в виду. Сам я никакой перемены в себе не ощущал.
Но, судя по всему, в то время я слыл человеком безалаберным, как бы без царя в голове. Кажется, кое-кто даже вспоминал обо мне всякие смешные истории.
Сам я отчетливо помню всегдашнее отсутствие денег, постоянные выпрашивания взаймы то у одного, то у другого, долги, которые нужно было непременно вернуть, и долги, которые в случае чего можно было послать к черту, и все эти мерзкие виляния при встречах с теми, у кого не раз занимал деньги, но так и не отдал ни гроша.
Хуже всего было под конец, на последнем курсе. Тот год вообще выдался суетливый. Для меня по сей день загадка, как я умудрился вполне успешно сдать выпускные экзамены.
Я встречался тогда с девушкой по имени Черстин. А было это, кажется, весной 1958 года.
Я и теперь думаю, что она питала ко мне большую симпатию, едва ли не любовь, по крайней мере, что-то во мне очень ее привлекало. Но вместе с тем думаю, что я никогда не встречал другого человека, который бы так откровенно меня боялся.
Чего она боялась? Бог ее знает!
Спустя много лет я размышлял об этом, отыскивал всевозможные деликатные объяснения, перечитывал ее письма, просматривал по-девчоночьи острые и тонкие рассуждения о моей душевной жизни (себялюбец, эгоцентрик, неспособный поддерживать контакт с другим человеком, и т. д.), но в итоге пришел к совершенно неожиданному выводу: причина была, скорей всего, социальная.
Черстин выросла в Лидингё, в добропорядочном докторском семействе, не слишком прогрессивном, но, во всяком случае, вполне «почтенном», изучала историю литературы и скандинавские языки и готовилась стать магистром философии.
Совершенно ясно поэтому, что я был для нее неподходящей партией.
Я вызывал у нее интерес, но с социальной точки зрения являл собой фигуру весьма сомнительную.
По всей видимости, другие считали меня куда более опустившимся, чем полагал я сам.
Однажды воскресным утром, когда я проснулся у нее дома, мы из-за чего-то повздорили, не помню уже из-за чего, помню только, что утро было поистине лучезарное. Квартира располагалась на Эстра-Огатан, прямо против дворца, а в утренних лучах этот дворец всегда выглядел на редкость красиво. Я пошел к входной двери взять «Дагенс нюхетер», которую по воскресеньям примерно в эту пору бросали в почтовую щель, дело было весной, когда пресса начинает рекламировать купальные костюмы; я помню об этом, так как по дороге в комнату заметил, что газета пестрела такой рекламой, а потом мы опять стали ссориться, и она что-то сказала (при всем желании не могу сейчас вспомнить, что именно), но в результате я просто встал и ушел.
Ужасная история. По-моему, ею закончилась часть моей жизни.
(Оставшаяся часть закончится нынешней зимой.)
Три недели спустя, в последних числах апреля, я встретил Маргарет. Впервые с тех пор, как мы надолго потеряли друг друга из виду…
(Желтый блокнот, II:1)
Внезапная оттепель, долгая прогулка с собакой, в последние дни боль вполне под контролем, большей частью в четыре — в пять утра, но не настолько скверная, чтобы не заснуть.
Несколько дней я, должно быть, пребывал в легкой прострации, потому что окрестный ландшафт успел совершенно измениться. Влажная дымка, резкий запах земли и подгнивших берез вдоль моей дороги, а вороны, настоящие крупные вороны, которые обычно держались стаей возле железнодорожного виадука у шоссе 251, непонятно почему перебрались сюда, на опушку леса. Сидят на деревьях возле забора, и все утро я слышу их хриплые голоса. И светает теперь уже чуть раньше. Интересно, какое будет лето в этом году? Сырое и холодное, как прошлое, или, может, по-настоящему жаркое?
Я часто спрашиваю себя, доведется ли мне его увидеть. Так или иначе, лодку надо тщательно проконопатить. Минувшей осенью корма текла как решето. К тому же лодка слишком долго, до самых осенних штормов, оставалась на воде и совершенно понапрасну билась о причал. В ту пору, осенью, я чувствовал себя вполне хорошо, но совершенно не хотел ничего делать, вся моя энергия куда-то подевалась.
…Опять думал о Маргарет. Средь этого тумана, или, пожалуй что, весенней дымки, я почему-то вновь затосковал о ней. Осторожные шаги по ковру рано утром — она всегда вставала первая и варила кофе, привычка аккуратно отправлять свежую газету, прежде чем я успевал ее прочесть, в стопку старых газет в шкафу под мойкой, прямо-таки несносная манера вечером ровно в десять или в пол-одиннадцатого приниматься за работу. Вот ведь что остается в памяти.
И теперь, особенно когда начинаются боли, я очень по ней тоскую.
Но притом совершенно ясно, что все это было совершенно невозможно. Просто чудо, что мы так долго пробыли вместе.
Вся наша совместная жизнь целиком строилась на одном-единственном простеньком принципе, на одной-единственной договоренности.
Нам запрещалось видеть друг друга. Я имею в виду, видеть по-настоящему.
Весьма сложная игра — соблюдать такой уговор целых двенадцать-тринадцать лет, не сбрасывать маску, даже когда сердишься или очень несчастен; нас обоих как бы очень надолго заперли в крошечной, тесной клетушке да еще поставили условие, что мы должны все время сидеть друг к другу спиной.
Конечно же, напрашивается вопрос, чтó может скрываться за таким уговором.
Я думаю, боль. Некая первозданная боль, которую носишь в себе с самого детства и ни под каким видом не должен выставлять напоказ. Главное здесь не существование боли, а необходимость ее скрывать.
Но почему так важно ее прятать?
Временами мы работали в одной школе, временами — в разных. Лучше всего было, когда мы целыми днями видели друг друга. Если один из нас весь день отсутствовал, а потом вечером мы встречались, неизменно наступал некий критический момент. После обеда, когда заканчивался первый рассказ о дневных событиях, сразу после кофе, перед телевизионным выпуском новостей, непременно происходил вроде как отлив, вода отступала, обнажались камни.
(Голубой блокнот, II:2)
Она была небольшого роста, двигалась легко, всегда почти танцуя, и говорила приятным тихим голосом. В ней чувствовалось острое, заразительное любопытство к людям, к миру, она много читала, и разговаривать с нею было весьма занятно. Она всерьез интересовалась почти всем, что попадало в поле ее зрения, кроме, пожалуй, меня.
Последняя упсальская весна успела миновать, начиналось лето. Горожане в большинстве разъехались, а я остался, потому что получил работу — преподавал шведский студентам-иностранцам, — и даже переехал в центр, в переулок Бевернс-Гренд, совершенно случайно — уехавший на лето сокурсник сдал мне свою комнату.
Она пришла вместе с подругой, и мы устроились на веранде маленького уличного кафе рядом с собором, называлось оно, кажется, «Домтрапп-челларен». До сих пор как сейчас помню газетные заголовки в табачном киоске напротив, речь шла о каком-то новом сложном этапе борьбы за пенсии, которая в ту пору, в конце пятидесятых, носила особенно ожесточенный характер. Я помню их так отчетливо, потому что смотрел на них все время, пока мы разговаривали.
Подруга была невысокая, худенькая, угловатая девушка с узким личиком, в очках.
Можно сказать, этакая копия Маргарет. Говорила она немного, но, помнится, я сидел и мысленно все время их сравнивал, точно это было невероятно важно. Хотя толком не понимал, зачем я это делаю.
Все изначально представлялось ясным и понятным, словно было решено и подписано много лет назад. Мы сидели за столиком и разговаривали, между прочим именно об этих вот краях, сидели, и один узнавал в другом себя. Здешние края она изучила вдоль и поперек, знала наперечет все озера, развалины, старые, заброшенные железнодорожные ветки. Ведь с детства проводила летние каникулы в Северном Вестманланде.
Сидя в лучах летнего вечера, я вновь видел родные места — ее глазами.
Думаю, так все и началось.
Она всегда была, что называется, девушкой чистенькой и аккуратной и внешне выглядела безукоризненно. (Любопытства в ее взгляде с годами только прибавлялось.)
Поэтому для меня по сей день загадка, отчего я всегда испытывал легкое смущение и растерянность, когда мы с ней, гуляя по улицам, встречали кого-нибудь из знакомых. Может быть, смущался я просто оттого, что мы были вместе?
(Желтый блокнот, II:2)
Жизнь шла вполне спокойно. В самом деле несколько лет все было спокойно, прямо-таки идиллия, ни больше ни меньше. Мы колесили по Вестманланду, учительствовали то в одной школе, то в другой, наводили порядок и уют в старых казенных квартирах, развешивали по стенам ее домотканые ковры, расставляли мои шкафы и другие вещицы, в большинстве сделанные собственноручно в разных школьных мастерских.
Пожалуй, мы довольно часто переезжали с места на место, причем работали все время в провинции, — таков был наш образ жизни; так мы оба выражали свой (весьма неопределенный) протест против окружающего общества. Протест овощеводов. Протест против индустриального общества, против…
Я уже плоховато помню. Странно, теперь то время с каждым днем уходит от меня все дальше, и на первый план выступает совсем другое: песня дрозда за окном, утром, когда я просыпаюсь, а чуть поодаль вороны в ветвях деревьев, капля воды на сучке, среди дня, когда наступает оттепель. Подобные вещи видятся теперь в ином свете, то же, что осталось в прошлом, кажется мелким, незначительным.
Она всегда любила ткать, и при переездах больше всего хлопот доставлял ткацкий станок, который приходилось разбирать, а потом собирать снова. В последней нашей квартире он еле поместился, казалось, того и гляди упрется в потолок. Она и краски готовила сама, восковые краски по старинным рецептам.
В Упсале я жил весьма суматошно — девушки, гулянки, долги. Новый образ жизни на лоне природы позволял по-настоящему порвать со всем этим.
Конечно, здесь было и кое-что от романтики или, пожалуй, от анархии. Мы оба с неприязнью относились к правящим кругам, к централизму в стране, к массовому переселению людей из вековых мест обитания в безликие, словно казармы, городские предместья. Неприязнь вызывала у нас и школьная администрация, которая даже и не думала расходовать отпущенные средства на то, чтобы сделать школьные дворы хоть немного уютнее и веселее, но транжирила деньги на нелепые помпезные скульптуры. За завтраком мы без устали ругали слияние муниципальных зон, закрытие школ в малонаселенных районах и сплошную вырубку леса, ведь это однозначно свидетельствовало, что здешний край считают лишь сырьевой базой, этакой кладовкой, откуда знай только берут и берут.
Я имею в виду: все это были реальности, вещи, которые кое-что значили для нас на деле, в самом практическом и очевидном плане, хотя, возможно, не обошлось и без доли снобизма, чувства некоего превосходства: дескать, уж мы-то знаем, чтó тут происходит.
Однако было и еще одно: нас объединяла внутренняя близость. Чувство превосходства над другими весьма способствует сближению.
И мы держались вместе, заодно, без сантиментов, вполне рассудочно и все же очень по-доброму. Мы чувствовали себя как два чудака, которые нашли друг друга, и сблизились как раз в силу своей чудаковатости, и уже не были чудаками, потому что нашли друг друга.
Держась вместе, мы с Маргарет как бы говорили:
Мы начнем сначала. Мы не сдадимся.
Она была младшей дочерью невероятно деспотичного фалунского врача, который занимал в медицинских кругах весьма высокое положение. Среди ее братьев были офицеры запаса, чемпионы Швеции по военному пятиборью, поверенные по коммерческим делам и пес знает кто еще. Видел я их всего несколько раз, но, по-моему, они смотрели на меня с нескрываемым презрением. Один даже как-то спросил, неужели вправду можно прожить на жалованье учителя неполной средней школы — в ту пору именно так и говорили: учитель неполной средней школы. Мы были друг для друга совершенно непостижимы.
Отец — если не ошибаюсь, он еще жив — был жуткий тип, держал в страхе всю семью, медсестер, младших врачей и вспомогательный персонал; его высказывания по медицинским вопросам знала вся страна, большей частью речь шла о том, что зимой девочкам нужно носить шерстяные чулки, что аборты подрывают военную мощь государства и что страна грязнет в венерических болезнях и юношеском алкоголизме.
Младшая дочь каким-то образом умудрилась скрыться от его надзора. Мне кажется, большую часть своей юности она провела, помогая на кухне. Бледная, худенькая, веснушчатая, она до смерти боялась отца, а при братьях не смела слова сказать, ее прибежищем стали книги, мир за пределами двенадцатикомнатной виллы высоко над Фалуном. По-моему, началось все с современной поэзии, которую она взялась читать просто от любопытства, потому что однажды за обедом эти стихи вызвали град насмешек, она же, слушая прочитанные издевательским тоном строки Экелёфа и Линдегрена[3], вдруг поняла, что в некотором смысле речь там идет о ней:
«Я золото ищу, перед которым все золото теряет цену».
По-моему, женщиной она стала очень поздно. Ее как раз собирались засадить на какие-то курсы домоводства, когда она впервые в жизни по-настоящему вспылила, наотрез отказалась, нашла себе комнату в Упсале и записалась в университет.
Семья у них была аристократическая, причем несказанно шведская. Даже и спустя десять лет я улавливал в речи Маргарет отголоски этой огромной, презрительной неприязни ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало индивидуальную, умственную работу, и резкой враждебности к философии. «Образованность» заключалась в умении правильно произносить французские слова. Интерес к Марксу, или Кьеркегору, или Фрейду, напротив, был чуть ли не признаком невежества. Вполне под стать разве что учителю неполной средней школы.
У нее это осталось в виде осторожной неприязни ко всему, что мало-мальски походило на «самокопания».
Помню, однажды я всерьез с ней поссорился, да так, что несколько дней вообще не желал с нею разговаривать. Случилось это в поезде, по дороге в Копенгаген. (На каникулах мы иногда предпринимали такие поездки.)
Началось все с того, что я высказал вслух некую идею, только что вычитанную в книге.
— Представь себе, — сказал я, — вдруг слово «я» и впрямь вообще не имеет смысла. Ведь в повседневном языке это слово употребляется точно так же, как какое-нибудь «здесь» или «сейчас». Все люди имеют право называть себя «я», но вместе с тем каждый раз это право имеет лишь один человек, а именно говорящий.
Никто себе не внушает, что «здесь» или «там» означают нечто особенное, означают, будто за словом что-то стоит. С какой же стати нам тогда воображать, будто у нас есть «я»?
Что-то в нас думает. Чувствует. Говорит. Вот и все. Или: что-то думает здесь, — сказал я и приставил палец ко лбу.
— Если будешь продолжать эти самокопания, ты свихнешься, — сказала она.
(Желтый блокнот, II:8)
Фантастически прекрасное утро. В глубинах сна (снилось мне, между прочим, что какой-то добрый, хотя в принципе невероятно опасный слон гонялся за мной по бесконечной равнине, — но боли я сегодня ночью не испытывал), так вот в глубинах сна я ощутил приход огромного голубого антициклона Когда в семь утра я спустился на кухню, он исполинским колоколом накрыл всю округу, и даже сейчас, во второй половине дня, на небе ни облачка.
Совершенно не мартовская погода.
Утром я все-таки проверил ульи, добавил сахарного раствора; замерзла только одна семья, впрочем, утешил я себя, эти пчелы и раньше не отличались ни усердием, ни крепостью. Я никогда не мог взять в толк, чем они занимаются. Соты построили примерно на каждой второй рамке, да и то неуверенно, чуть ли не кокетничая, будто хотели сказать, что прекрасно понимают, зачем нужны эти искусственные восковые рамки, но на всякий случай решили все же немножко построить, только чтобы показать, что как-никак владеют геометрией.
Чертовы кокетки! И очень хорошо, что они замерзли. Летом их бы наверняка обуяла горячка роения, и они бы сами себя извели. Так сказать, идея перманентной революции.
Маренго, Аустерлиц, Лейпциг… Мало что так располагает к самодержавному деспотизму, как пасека. Можно испытывать все наполеоновские переживания, не мучая коней и не видя ни одной человеческой смерти.
Вместо этого видишь смерть множества пчел.
Все могло бы продолжаться сколь угодно долго: все было хорошо и исполнено гармонии — гармонии, которая кой-чего стоила, но так или иначе была гармонией, — да-да, все могло бы продолжаться.
Если б однажды, в конце шестидесятых, не начались вдруг разные события. Причем так неожиданно, что осмыслить происшедшее я сумел лишь через несколько лет. На меня попросту обрушилось совершенно новое и совершенно нежданное переживание — любовь.
Конечно же произошла катастрофа, я с самого начала знал, что это обернется катастрофой, но вообще-то никакие катастрофы меня не пугали. Оглядываясь на свои тогдашние поступки, я не могу отделаться от впечатления, будто и в самом деле все время желал катастрофы. Вряд ли можно истолковать это иначе.
Это невероятно забавная история, с огромным количеством неправдоподобных и нелепых случайностей.
Время от времени я ездил в Стокгольм на конгрессы Объединения биологов. И поездки мои оплачивались, потому что несколько лет я состоял в правлении. Останавливался я обычно в гостинице «Мальмен» и вечерами ходил в Оперу или в концерт. Маленькое тайное удовольствие, ничего особенного.
Но однажды, в октябре 69-го, когда опять проходил такой вот конгресс, я решил не оставаться в Стокгольме на ночь, а последним поездом уехать домой. Совершенно, черт побери, не помню, почему я так решил.
Портфель я сдал в Опере в гардероб, в последнем антракте тихонько ушел и как раз успел на Центральный вокзал к поезду в 22.40, который идет в Осло через Халльсберг и Вестерос; обычно этот поезд битком набит направляющимися в Норвегию американскими туристами и множеством более или менее трезвых пассажиров, едущих в Энчёпинг и Вестерос. Когда они сходят, в поезде становится по-ночному спокойно.
Я вхожу в почти полное купе, сажусь. Слева от меня, закутавшись в нескладное широкое верблюжье пальто, так что даже лица не видно, спит пахнущий перегаром мужчина, прямо напротив — несколько худеньких девчушек, должно быть студенток, а справа у окна — крупная блондинка средних лет, видимо незамужняя, она была бы дурнушкой, если б не красивая, породистая голова.
Странное дело, я заговорил с нею буквально сразу же, как только вошел в купе, причем не отрывая глаз от книги, которую достал из портфеля, заговорил о неудобных вагонах в этом поезде, о железнодорожном расписании, о спальных вагонах до Осло и Бог весть о чем еще, но ни разу не поднял глаз от книги — вот что удивительно. Я оживленно говорил и одновременно продолжал читать.
Только когда поезд остановился в Кунгсенгене и я решил выйти в коридор, чтобы взглянуть, где мы, собственно, находимся, — только тогда я увидел ее.
Она… как бы это сказать — от нее веяло материнским теплом. На первый взгляд ничем не примечательная женщина, разве что излишне упитанная, но стоило мне посмотреть ей в глаза, как… случилось что-то странное. Эти глаза чего-то от меня хотели, они делали меня реальнее, как бы… (Две строки вымараны.)
А потом, в Энчёпинге, когда я сообразил, что в такую поздноту до Тилльберги уже не добраться, и после едва ли секундного колебания согласился на ее незамедлительное и любезное предложение, несмотря на поздний час, подвезти меня на машине — она была младшим врачом в энчёпингской больнице и привыкла бодрствовать в самое неподходящее время, — потом столь же скоропалительное решение не уезжать из Энчёпинга, потом поцелуи, и ласки (банальная история, да нет, вовсе не банальная), и ощущение, что ты во власти чего-то совершенно неведомого, что ты меняешься, и, наконец, удивительное чувство полнейшего покоя.
Словно очутился в родном доме.
Хотите верьте, хотите нет, но прежде чем я увидел ее снова, прошла вся весна, хотя мы жили милях в шести-семи друг от друга. В этом было что-то от расточительства или от расточительного ощущения богатства.
Зато мы звонили друг другу по телефону, поздно вечером, рассказывали обо всем, что случилось за день, писали друг другу письма, вполне деловые коротенькие письма, а иногда шуточные.
Скоро я знал по именам всех младших врачей и сестер и даже наиболее интересных пациентов у нее в отделении, а она знала почти обо всем, что происходит у меня дома. Но дома у меня происходило не очень-то много.
Оттого что я так близко соприкасался с другой жизнью, происходившей в совсем другом месте и в совсем другом окружении, собственная моя жизнь как бы удвоилась, а быть может, я, сам того не сознавая, всегда стремился именно к такой вот двойной жизни.
(Всегда подозревал, что решения всех проблем находятся где-то между моей и другой жизнью.)
Возможно, тем бы дело и кончилось и само собой сошло бы на нет. Ну переспали один раз, и ладно. Такое случается, в одних жизнях чаще, в других — реже. Мы провели вместе одну ночь, и это было прекрасно, я испытал покой, вполне вероятно, она и поступила так в первую очередь с намерением успокоить меня. Тем все могло бы и кончиться.
Но ее глаза о чем-то мне напомнили. Попросту что-то во мне разбудили.
Разбудили ощущение, что в жизни есть что-то невероятно важное, но я все время упускал это из виду. (Банальная история, да нет, вовсе не банальная.) Я обнаружил в себе самом нечто такое, о чем даже не подозревал. И оттого жизнь наполнилась новым смыслом, как бы началась сначала.
И конечно же, тут я допустил весьма знаменательную ошибку — рассказал обо всем Маргарет.
(Конечно, можно бы сказать, что со временем это стало неизбежно, ведь я был не в состоянии убедительно объяснить, почему каждый вечер битых полчаса вишу на телефоне, тихо и подолгу, с длинными паузами, разговариваю с каким-то человеком, который никак не мог быть одним из наших обычных знакомых.)
Я ожидал от нее чего угодно, только не радости. А она обрадовалась. Обрадовалась и почувствовала облегчение, будто у нее гора свалилась с плеч.
— Пригласи ее как-нибудь к нам, — сказала она об Анне. — Ей наверняка хочется посмотреть, как тут у нас, в горах. Пускай заедет как-нибудь летом. Машина у нее есть?
Конечно, это было начало конца, хотя я тогда даже не догадывался об этом.
Я пригласил ее однажды в июне, в воскресенье. День выдался на редкость погожий. Я встретил Анну на станции.
— Озеро удивительно красивое, — сказала она. — Я и не представляла, что оно такое большое.
— Ужасно рад снова видеть тебя.
— Не знаю. Я чувствую себя не слишком уверенно.
— Почему люди непременно должны вести себя как в романах? — воскликнул я.
— Гм, пожалуй, ты прав, — сказала она.
Так странно — видеть этих двух женщин рядом: Маргарет, маленькая, худая, холодновато-сдержанная, и Анна, по-матерински уютная, серьезная, озабоченная, словно пришедшая навестить пациента. Друг о друге они не знали ничего, единственное, что их объединяло, был я.
Первые две-три минуты обе, похоже, слегка конфузились. Ничего не выйдет, думал я. Опасный будет денек, скорей бы уж он кончился. Безумная затея, не иначе меня черт попутал!
Как я уже говорил, было лучезарное воскресное утро в июне 1970-го. Вокруг раскинулся Вестманланд. От далекого лесного пожара в синих лесистых горах где-то на севере слабо тянуло пряным запахом дыма (вблизи лесные пожары пахнут удушливо и крайне неприятно, а в отдалении, уже в нескольких километрах, их запах становится пряным, ароматным).
Легкий ветерок веял над озером Оменнинген, рябил воду. На северо-западе виднелись ржавые копры заброшенных рудников, ведь с тех пор, как фрахт африканской руды сильно подешевел, разработка нурбергских месторождений стала невыгодна. На севере, над сталелитейным заводом в Трюммельсберге, поднималось багровое дымное облако. С юга, от Канала и всей озерной системы, доносился треск лодочных моторов — по длинному водному тракту сновали катера.
В это время года здешний край внезапно оживает и буквально кишит народом. Тому, кто видел зимнюю тишину и покой, не верится, что места те же самые. Ведь ближайший сосед — далекий огонек в окне, километрах в шести, на другом берегу озера.
К югу — полоса все более обильных озерами, все более болотистых лесов, отделяющих нас от Меларенских равнин, Рамнес и тамошняя церковь с ее необычным, похожим на луковицу куполом, Рамнес, куда мамин брат, бедный забулдыга дядя Кнутте, так и не вернулся, когда вздумал в проливной дождь ехать на велосипеде через лес за выпивкой в Вестерос[4]; вблизи Сёрстафорса и Кольбека, у черной спокойной реки Кольбексон, в конце концов открывается равнина, в этих местах памятной осенью после второй мировой войны скиталась вместе со старым, слепым, бородатым бродягой моя несчастная романтичная тетка Клара, бедняжка влюбилась в него без оглядки и вскоре умерла от воспаления легких. Странное у нас семейство. И поступки у нас у всех странные.
И вот теперь я стоял тут и знакомил жену с дамой, которая определенно была моей великой любовью.
Как водится, они прогулялись по саду, осмотрели цветочные клумбы. (Тогда, в 1970-м, этот дом был просто летней дачей.)
— Осторожно с пчелами, — сказал я. — У них сейчас беспокойная пора. Они весьма агрессивны.
Обе только рассмеялись.
Садик тут небольшой. Обойти его недолго. Однако ж они отнюдь не спешили.
Вернулись веселые, оживленные. Нашли друг друга.
Кругом гудели пчелы и шмели, внизу, в Вестер-Воле, звонили колокола, как я уже говорил, был чудесный летний день.
Утопия, думал я. Сбывшаяся утопия. Я всегда подозревал, что, собственно говоря, ничто не мешает нам жить вне обычных условностей. Вот бы раньше-то догадаться!
Засим последовало весьма странное время. По-моему, оно очень сильно нас изменило — и меня, и Анну, а больше всего Маргарет.
Я ведь даже не догадывался, что ей нужна мать.
(Желтый блокнот, II:10)
Пожалуй, всем знакомо неприятное чувство, какое охватывает человека на железнодорожных вокзалах. Предстоит расставание. Тот, с кем ты расстаешься, уже в вагоне, но поезд еще не тронулся. И вот один стоит на перроне, другой — у окна, пытаясь вести разговор, и оба вдруг осознают, что говорить совершенно не о чем.
Все дело, конечно, в том, что внезапно мы перестаем быть хозяевами своих чувств. Обстоятельства властно диктуют, чтó нам дóлжно чувствовать. И когда поезд наконец трогается, мы неизменно испытываем величайшее облегчение.
Или взять похороны. Когда кто-нибудь умирает, заболевает, когда возникают неприятности, от нас опять-таки ожидают вполне определенных чувств.
Во всех обстоятельствах, кроме самых что ни на есть будничных, самых что ни на есть нейтральных, присутствует нажим, требующий от нас известных поступков и известных чувств. А если присмотреться, нередко обнаруживается, что эти роли предписаны нам романами, фильмами или спектаклями, которые мы когда-либо видели или читали.
Когда действительность сталкивает нас с необычными ситуациями (к примеру, мы ожидали соперничества, а его нет и в помине, наоборот, возникает любовь, оставляющая нас в одиночестве), мы первым делом хватаемся за эти романические эмоциональные шаблоны.
Толку от них не очень-то много. Еще более одинокие, чем прежде, мы очертя голову беспомощно падаем в бездну действительности.
(Голубой блокнот, II:5)
Тогда, в то странное лето 1970 года, мне понадобилось довольно много времени, чтобы разобраться, как у меня отняли Анну.
(А отняли у меня, думаю, последний шанс обрести самостоятельность, ясно увидеть себя самого и те возможности, для исполнения которых я всю жизнь был предназначен и на которые все указывало.
Прорыв реальности, личности — вот что им удалось предотвратить.)
По-моему, все произошло следующим образом.
Тот факт, что я был женат, вызывал у Анны целый букет чувств вины. И эти чувства были несовместимы с другим фактом: что она любила меня так же сильно, как я любил ее. Вдобавок все Аннино воспитание, все идеалы издавна внушали ей, что чувства вины — нечто вредное и очень дурное.
И она трансформировала их в «симпатию» к Маргарет. Маргарет в свою очередь немедля ухватилась за этот шанс, и сообща эти две женщины превратили меня в некое безответственное существо, в ребенка, которого никак нельзя принимать слишком всерьез.
А я совершенно ничего не заподозрил, ведь эта триада разнообразных материнских и сестринских уз дарила тепло и такую умиротворенность, какой я никогда не ощущал, ни до, ни после.
Тепло, как в птичьей клетке.
(Голубой блокнот, II:6)
3
Детство
С тех пор как боль начала донимать меня всерьез, происходит довольно странная штука.
Огромную важность мало-помалу приобретают совершенно иные жизненные периоды, совершенно иные воспоминания.
Брак, профессиональная деятельность, Господи Боже мой! Все это отступает вдаль, как сущий пустяк, краткий эпизод, хотя еще недавно наполняло весь мой мир и ночами порой лишало сна. Все это становится просто эпизодом в много более важном повествовании, где до сих пор единственная по-настоящему яркая глава — детство.
Я толком не понимаю, в чем тут дело. Ведь детство — возраст одинокий, самодостаточный, возможно, правда, что именно от боли я вновь становлюсь по-детски одиноким и самодостаточным.
Постоянные раздумья о неведомой и грозной тайне в собственном теле, ощущение, что совершается некая драматическая перемена, а ты не можешь выяснить, в чем она состоит, — все это каким-то искаженным образом напоминает мне предподростковый возраст. Я даже вновь чувствую тогдашний легкий стыд.
Спалив то треклятое письмо, я как бы взял все на себя. Мне предстоит сражаться в одиночку, мне предстоит моя собственная смерть.
И все же я в нее не верю. Очень может быть, что в апреле все успело измениться. Если это камни в почках, они рано или поздно выйдут. Если это воспаление, оно вполне может утихнуть, когда потеплеет и установится хорошая погода.
Для умирающего я чувствую себя слишком полным жизни, слишком энергичным, вот в чем дело. Умирание представляется мне чем-то куда более сумрачным, куда более бессильным.
Умирающий не совершает между приступами боли долгих прогулок с собакой.
Или, может быть, я просто изобретаю новый способ умирать?
В довершение всех бед внешний мир начал подавать признаки жизни, впервые за долгие месяцы.
Столяр Сёдерквист, председатель окружного налогового комитета, позвонил мне по телефону — надо сказать, он был весьма любезен и внимателен — и предупредил, что если я не представлю декларацию, то, возможно, придется платить штраф. Мои кузены Маннгорды собираются заехать сюда на Пасху, по дороге в Селен — переночевать и, что называется, «посмотреть, как мои дела».
Тяжкая перспектива.
Сёдерквисту я сказал, что чувствую себя сейчас довольно паршиво. Он обещал заглянуть как-нибудь вечерком и помочь.
Ведь декларация, сказал он по телефону, самая что ни на есть обыкновенная. Наверняка часу не пройдет, как мы с нею разделаемся.
«В довершение всех бед» — одна из тех фраз, которые возвращают меня прямо в детство. Там их было хоть отбавляй.
«В довершение всех бед» означает, понятно, что бед прибавилось. Столько накопилось бед, что они вот-вот хлынут через край.
В ДОВЕРШЕНИЕ ВСЕХ БЕД — так всегда твердила моя мама.
Мамина сестра, тетя Свеа, выражалась в таких случаях совершенно иначе. Она бы сказала: НУ ВСЁ, ДАЛЬШЕ ЕХАТЬ НЕКУДА.
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ, ТАК ЧЕРТИ НАКАЧАЛИ! — папа.
ПРОВАЛИСЬ ВСЕ В ТАРТАРАРЫ! — дядя Стиг.
БЕС НЕ ДРЕМЛЕТ!
ОХ, ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ!
ПОЛНЫЕ КРАНТЫ!
Я вижу их летом, на даче, за завтраком, пожалуй, в обществе кой-каких родственников, КОТОРЫЕ ЯВИЛИСЬ НЕ ЗАПЫЛИЛИСЬ. Дядя Кнутте, лысоватый, с чуть дряблыми, обвислыми щеками, за завтраком всегда слегка потный, будто ест через силу, всегда малоразговорчивый, подавленный. Дядя Стиг, невысокий, подстриженная бородка, очки в золотой оправе, рассуждает только о металлических сплавах и последних достижениях русской боевой техники в корейской войне. О броне, которая, несмотря на очень малую толщину, выдерживает удар американских реактивных бомб. О возможности использовать тепло земных недр, когда иссякнут органические источники энергии. Тетя Свеа, большая, краснощекая, с шершавыми, как наждачная бумага, руками — потреплет по щеке, так вся кожа горит; невероятные истории из жизни ресторанных кухонь времен кризиса, тощие, синие лисьи тушки с обрубленными лапами — в семь утра их украдкой доставляли к кухонным дверям; громадная сковорода жареной картошки с салом и яйцом — ее таскают туда-сюда, и мало-помалу вся она покрывается толстым серым слоем застывшего жира; торговец дровами — спьяну уронив в унитаз одну из своих подтяжек, он как ни в чем не бывало нацепляет ее поверх купленной на черном рынке элегантной нейлоновой рубашки, после чего его деликатно выпроваживают домой на такси.
Тетя Клара — нет, она уже не здесь. А бабушки Эммы здесь не было никогда, она не имеет сюда касательства, да она вовсе и не настоящая бабушка, а только приемная и умерла, когда мне было три года. Я знаю ее лишь по рассказам. (Господи, с какой же это стати я о ней вспомнил? Память у меня здорово чудит, вот уж не думал не гадал, что она способна выделывать этакие пируэты, поневоле начинаю подозревать, что меня ждет еще не один сюрприз. Несколько дней кряду меня преследует воспоминание из тех времен, когда мне, наверно, еще и трех лет не было: бабушка Эмма держит меня за руку и мы гуляем на Екнебергет в Вестеросе, под ужасно высокими зелеными деревьями, на земле пляшут тени листвы, кружатся вихрем, да-да, именно вихрем. А что я очень-очень маленький, заметно лишь по тому, что скамейки в парке ужасно высокие.)
— А вот кое-кто другой управлялся по большей части самостоятельно, — говорит дядя Кнутте, прочие его слова тонут в громком стуке, потому что кто-то пытается разбить о край стола немыслимо крутое яйцо.
КОЕ-КТО ДРУГОЙ.
Чрезвычайно характерный для шведского языка и весьма причудливый способ говорить «я». Откровенно вульгарный, конечно, но самое интересное тут не вульгарность, а, конечно же, философский аспект. КОЕ-КТО ДРУГОЙ — это вроде как фехтовальщик, который в последнюю секунду отскакивает в сторону, в результате чего оружие противника пронзает пустоту, хотя там вот только что кто-то стоял.
По-моему, нет более странного и жуткого языка, чем тот, где можно говорить о себе самом как о постороннем.
— А ВОТ КОЕ-КТО ДРУГОЙ УПРАВЛЯЛСЯ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Это означает: вы не очень-то старались мне помочь и, между прочим, изрядная доля моих проблем идет от вас, я вовсе не уверен, что без вас они бы вообще возникли. Поэтому вы должны СКАЗАТЬ МНЕ СПАСИБО.
— НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА САМ УЛАЖИВАЕТ СВОИ ДЕЛА, — гудит на другом конце стола дядя Стиг.
Это означает: ты сам виноват, что пристрастился к выпивке.
В ДОВЕРШЕНИЕ ВСЕХ БЕД.
Странно, но сколько я ни кручу воспоминания о слышанных в детстве разговорах, я не могу припомнить ни одного, где бы участники не играли все время на более или менее тонких чувствах взаимной вины. Эти чувства были для них вроде как мяч для теннисистов.
Без них они бы остановились, оцепенели точно статуи. Не нашлось бы никакой движущей силы, никакой мотивации.
Чувство вины было натянутой пружиной, реплика — крохотным спусковым крючком.
Диапазон этих чувств по своей широте был вполне сопоставим с совокупностью регистров церковного органа и простирался от
БУДЬ ДОБР, ПЕРЕДАЙ МНЕ СОЛЬ
в самом верхнем голосе до
С ТВОЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО БЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНО МИЛО ПОБЕРЕЧЬ САХАР
где-то между салиционалом и двухфутовой свирелью и дальше вниз до глубоких рокочущих тридцатидвухфутовых басов:
Я ВСЕМ ПОЖЕРТВОВАЛА РАДИ ТЕБЯ
или
НЕ БУДЬ ТЕБЯ, МЫ БЫ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ГОД РАЗВЕЛИСЬ.
Эти последние, необычайно низкие голоса предназначены, конечно, исключительно для создания спецэффектов. Так сказать, музыка для церковных торжеств.
Какие же странные фуги, токкаты, ричеркары, пассакальи исполняли они на этом органе вины, устраивая жуткую свистопляску примитивных страхов, гнусную торговлю грязным бельем. Одна пробежка по мануалам — и кто-нибудь непременно угодит в сети и еще долго потом барахтается.
МЕЖДУ ПРОЧИМ, ПАПА ВСЕГДА ЛЮБИЛ МЕНЯ БОЛЬШЕ ДРУГИХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР.
МЕЖДУ ПРОЧИМ, МАМА ВСЕГДА ЛЮБИЛА СТИГА, ОН БЫЛ ТАКОЙ ПАИНЬКА.
Жизнь у них за плечами была нелегкая, но и не особенно драматичная, трагизмом их судьбы отнюдь не отличались (следует помнить о соразмерности: ведь это были сороковые годы, когда в мире происходило много подлинных трагедий), но, черт побери, буквально все, что с ними когда-то случалось, они умудрялись свалить друг на друга. А это давало им блестящую возможность подстегивать друг друга, произвольно друг другом управлять.
Мелкая буржуазия в Швеции живет виной и презрением к себе и владеет одной-единственной формой риторики — жалобой.
ДАРУЙ ИЗБАВЛЕНЬЕ ВСЕМ СТРАЖДУЩИМ ЛЮДЯМ,
НО ПЕРВОМУ — МНЕ, Я СТРАДАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ.
Достаточно проехать несколько километров рейсовым автобусом, чтобы уяснить себе положение вещей. Если нет других поводов жаловаться, они жалуются на распроклятые немощи, на больные колени, камни в желчном пузыре и язву желудка, на плохие вены, на икоту и изжогу, на понос и на крутой стул, который гремит в горшке, и все время воображают, что будят в ком-то интерес лишь потому, что жалуются.
ЧЕРТОВЫ БОЛВАНЫ.
Сейчас, например, я чувствую пульсирующую боль, и через несколько минут она уже не даст мне писать. Начинается она в правой ляжке, довольно низко, такое впечатление, будто в мышцы проник расплавленный металл или вроде того, золотая проволока, если можно так выразиться. Потом боль поднимается к правому паху, посылает целый пучок добела раскаленных золотых проволочных щупалец к пупку и бедру, по всей ноге, глухое эхо этого сверкающего золота веером бьется под ложечкой. Если я лягу, боль станет вдвое сильнее; если буду сидеть, она захватит спину, тон ее неодинаков, частоты, амплитуды сверкающего белого золота все время меняются, образуют аккорды, вправду красивые аккорды, пока не достигают некой кульминации и не становятся режущими.
И я, черт побери, никого в этом не упрекаю! Никого!
Уже три дня чувствую себя значительно лучше. Легкая слабость, вот и все.
Забавно, вчера у меня появилось два новых друга. Давно со мной такого не бывало.
Одного зовут Уффе, другого — Йонни. Уффе двенадцать лет, Йонни двенадцать скоро исполнится.
Уффе — из Скиннскаттеберга, Йонни — из Борго в Финляндии. Я как раз собрался выйти на улицу, глянуть, нет ли почты, открыл дверь и увидел их на крыльце: двое мальчишек, с виду очень похожие, в теплых синих куртках, слегка веснушчатые, длинноволосые, точно пара маленьких арденнских лошадок.
Живут они, скорей всего, в Сёрбю, где-нибудь в поселках лесорубов: родители перебрались туда прошлой осенью. Учатся в школе Трюммельсбергского округа, но, понятно, даже не догадываются, что когда-то я там работал.
Они отправились на поиски приключений, надеюсь, после школы, хотя вполне могли попросту прогулять уроки в такую-то прекрасную погоду, а ко мне зашли, потому что хотели пить.
Впрочем, мне кажется, в первую очередь их привело сюда любопытство. Захотелось узнать, что за чудной дядька живет в этой одинокой хибаре, где вокруг множество кустов и длинные ряды зеленых ульев.
— Заходите, — сказал я.
Поначалу они робели. Я немножко рассказал о пчелах, но особого интереса не заметил.
Потом мы поговорили об их родителях: отцы как будто бы получили работу на каких-то больших вырубках, которые вскоре начнутся.
О школе я из них мало что вытянул: столовая здесь получше, чем в других школах, где они раньше учились, подносы не металлические, поэтому шум не такой ужасный.
Один из них мечтал научиться играть в хоккей, второй увлекался баскетболом.
В тепле моего электрокамина они постепенно отогрелись и начали осторожно играть с собакой. Носки у Йонни насквозь промокли, должно быть, сапоги дырявые (я вообще не понимаю, как в эту пору можно ходить в резиновых сапогах), и я предложил ему взять на время или насовсем пару старых носков из козьей шерсти. Помедлив, он все же переобулся, потом открыл школьную сумку и спрятал туда свои собственные мокрые носки (я завернул их в газету).
Вот тогда-то я и обнаружил, что у него с собой огромное количество зачитанных до дыр журнальчиков с комиксами. Я попросил разрешения посмотреть; для маленькой школьной сумки пачка была на редкость большая, причем сплошь самые жуткие ужастики: «МЕРТВЕЦ», «КУН-ФУ», «ЛЕДЯНЫЕ КОШМАРЫ», «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» и прочая, и прочая.
Мы листали вместе. И по-настоящему увлеклись.
— Зачем вы все это читаете?
Объяснить они не умели.
Но пожалуй, я знаю объяснение. Все дело в смутных, неотвязных предподростковых страхах, которым необходимо так или иначе сгуститься. И потому они ищут ядро кристаллизации. Такой возраст можно назвать возрастом страха. Тикали часы, а мы сидели и толковали о привидениях, о трупах из датских торфяных болот, о том, что на чужих планетах, наверно, живут ужасные чудовища, но в конце концов собака начала скулить и проситься на улицу, и тут я сообразил, что мы здорово засиделись, время обеда давным-давно миновало.
По-моему, мальчишки были в восторге. Перед уходом они обещали скоро зайти еще разок. А я обещал до тех пор придумать ужастик покруче тех, что печатаются в этих паршивых коммерческих журнальчиках.
Мальчишки неплохо меня взбодрили. Напомнили мое собственное детство. Вдобавок я призадумался, не поспешил ли я с решением бросить работу учителя. Но, во-первых, невелика радость — вставать зимой в шесть утра и заводить машину, а во-вторых, сейчас уже поздновато думать об этом.
(Желтый блокнот, III:1–4)
Предыстория такова: континентальное Тинтское братство послало Дика Роджера на маленьком суденышке к Туманным островам, завоеванным несколько лет назад злым чародеем, королем Мингом, он, оказывается, выжил, хотя все думали, что он сгинул в огне и дыму, когда его черная башня в конце предыдущей повести рухнула в им же самим созданную дыру в Мирозданье. Теперь корабли в Тинтском проливе не плавают, острова окутаны неестественным черным туманом, и братство опасается, что племянницу Великого магистра, красавицу Диану Дин, которую недавно похитили какие-то страшные люди в черной одежде и кожаных масках, держат в плену на этих островах.
На одном из внешних островков Дик Роджер находит двух до смерти перепуганных финских моряков, чей корабль при полном штиле был подхвачен и унесен каким-то диковинным вихрем. Дик накормил их и дал им сухие носки. Моряки рассказывали жуткие истории.
Минг держит острова в осаде с помощью сверхъестественных пособников, те, кому удалось бежать, в один голос твердят, что они непобедимы и обладают нечеловеческой силой, это не иначе как демоны, сами же острова окутаны магическим туманом.
Диану Дин чародей заточил, скорей всего, в одном из тех подземелий, где он сооружает свою новую чудовищную машину — исполинский орган, который посредством особых высокочастотных звуков способен воздействовать на психику людей, а главное, вызывать у них невыносимую боль, даже на очень большом расстоянии.
В хижине на крохотном скалистом островке неподалеку от побережья Дик Роджер и его спутники находят диковинного седобородого старика по имени Сигизмунд и узнают, что у него якобы есть верное средство против ужасных воздействий чудовищного органа.
Средство это связано с волшебной змейкой, старик держит ее в кувшине и нипочем не желает с нею расставаться.
После сильнейшего шторма путешественники приближаются к туманному берегу острова ОГ.
Время уже близилось к полудню, но вокруг по-прежнему царила почти полная темнота. Меж клубами тумана, который непрерывно колыхался, будто живое существо, на берегу виднелись высокие черные скалы. Над ними непрерывной вереницей мчались низкие, стремительные тучи — словно воинство, подумал Дик, воинство неприкаянных душ.
Прибой понемногу успокаивался. Шторм, бушевавший ночью, мало-помалу стихал.
Дик оглянулся назад. Усталые, оборванные матросы (от их дубленых кожаных курток остались одни лохмотья) спешно выгружали на берег остатки провианта и парусов, ведь суденышко явно пришло в полную негодность и превратностей плавания не выдержит.
Один лишь Сигизмунд был совершенно спокоен, со своим кувшином и ковриком он устроился на клочке сухого песка возле черных круч. Казалось, ни место, ни время, ни обстоятельства не стесняли его, он будто вышел на приятную воскресную прогулку.
В этот самый миг он извлек из складок своей рваной хламиды красивую серебряную флейту. Долго и тщательно тер ее о рукав, пока она не заблестела диковинным блеском, даже странные ноябрьские сумерки тому не помешали.
Сигизмунд открыл кувшин, чудом уцелевший, когда суденышко бросило на скалы. Поднес флейту к губам. Сквозь шум ветра донеслась странная жалобная мелодия.
Он играет для змейки, подумал Дик.
Финские матросы — во время бури они как раз успели рассказать, что они финские матросы и очутились в здешних краях несколько лет назад в результате кораблекрушения, — собирали хворост и плавник для костра.
— Не знаю, стоит ли разводить костер, — сказал Дик, показывая на хворост. — Ведь кое-кто, наверно, может увидеть его и сквозь туман.
Финны озабоченно кивнули. Змейка высунула голову из кувшина и принялась раскачиваться из стороны в сторону.
— Танцует, — сказал Дик, скорее себе, нежели другим. — В самом деле, чем не танец!
В тот же миг его пронзила боль, резкая и острая, как игла. Она шла откуда-то из правого паха. Дик быстро огляделся. Людей вокруг него тоже скрутила мучительная боль. Один из финнов катался по земле, точно в судорогах. Единственным существом, которого все это словно бы не коснулось, была змейка в кувшине.
Дик и представить себе не мог, что бывает такая страшная боль.
— Объяснение здесь только одно, — напрягая последние силы, выговорил он. — Чародей достроил свой ужасный орган по крайней мере на две недели раньше, чем мы надеялись.
Нужно отыскать место, откуда идут эти колебания!
(Голубой блокнот, III:1)
«Злокачественные опухоли возникают оттого, что клетка, группа клеток или ткань по какой-то причине выпадают из совокупности нормальных взаимосвязей и организуются в самостоятельного индивида, который паразитирует на остальном организме. Морфологически такие опухоли демонстрируют нерегулярную хаотическую структуру, напоминающую эмбриональную ткань, а клетки ее имеют аномальное строение и внешне выглядят неправильными и весьма разнообразными. Злокачественная опухоль разрастается быстро и независимо от остального организма. По мере ее роста окружающие нормальные ткани уничтожаются, отчасти в силу того, что она все больше давит на них, но главным образом в силу прямого разрушения. Опухоли проникают в окружающие лимфатические щели, в лимфатические и кровеносные сосуды отчасти своими микроскопическими отростками, отчасти же выбрасывают в кровеносную и лимфатическую систему отдельные свои клетки или крохотные частицы, которые закрепляются в каком-нибудь отдаленном органе и там организуются в новые опухоли с такими же разрушительными свойствами, что и материнская».
(Голубой блокнот: цитата из неустановленной книги, III:16)
После вчерашнего я понимаю, что до сих пор не принимал боль по-настоящему всерьез. Видел в ней просто этакую забаву. Можно пожалуй что сказать, я позволил ей придать моей жизни новое содержание — чередование дней с болью и дней без боли создавало некий драматический накал.
Было на что надеяться по утрам, когда я просыпался, а вечерами, когда я ложился спать, было не менее любопытно увидеть, пройдет ли ночь без боли. Ведь иной раз то место возле правого паха по два, три, четыре дня кряду совершенно не давало о себе знать.
Боль драматизировала простой факт, что у меня есть тело, нет, что я есмь тело, и из этого факта, что я есмь тело, можно было почерпнуть странное утешение, чуть ли не защищенность — так очень одинокий человек черпает защищенность в присутствии домашнего животного.
Это домашнее животное было весьма загадочным и, особенно под утро, больше напоминало дикого зверя, но так или иначе оно было мое, и точно так же боль была моя, а больше ничья.
Но теперь я начинаю задумываться над тем, во что же ввязался, когда, к примеру, не вскрывая, сжег письмо из больничной лаборатории.
Сегодня ночью и утром я пережил нечто невообразимое, я и не предполагал, что такое возможно. Совершенно ни на что не похожее, добела раскаленное и ошеломляющее. Я стараюсь дышать очень медленно, но пока все продолжается, даже это дыхание, которое должно помочь мне хоть самым что ни на есть абстрактным образом отличить ощущение боли от паники, даже дыхание требует непомерного усилия.
Домашнего животного нет и в помине. Чудовищная, немыслимая, добела раскаленная, безликая сила вторглась в мою нервную систему, захватила ее целиком, до последней молекулы, и пытается взорвать каждый нерв, обратить его в облачко раскаленных газов, будто… будто в солнечной короне (я всю ночь думал о солнечных протуберанцах, как они пульсируют, как фонтанами вздымаются над поверхностью светила).
Теперь я понимаю, что считал это шуткой. Воспринимал так же несерьезно, как и все остальное в жизни.
Но ведь оно приходит извне! Господи Боже мой, откуда? Какие же неслыханные, неведомые силы способна породить бедная, измученная нервная система! Силы, направленные исключительно против меня. Именно против меня!
Сейчас стало лучше. Уже несколько часов вправду лучше. Но я по-прежнему обливаюсь холодным потом, и ручка дрожит в пальцах, когда я пытаюсь писать.
Надеюсь, нет, я уверен, такое никогда больше не повторится, что-то наверняка сломалось, сломалось окончательно и бесповоротно и уже никогда не причинит мне боли.
А может быть, час-другой спустя все начнется сызнова?
— В эту минуту я испытываю самую настоящую растерянность, самое настоящее смятение.
До сих пор я совершенно не понимал, что наша способность ощущать себя как упорядоченное единство, как человеческое «я» связана с возможностью иметь будущее. Вся идея «я» выстроена на том, что оно будет существовать и завтра.
По сути, эта добела раскаленная боль, конечно, не что иное, как точное мерило сил, поддерживающих единство тела. Точное мерило сил, обеспечивавших мое существование. Ведь, собственно говоря, и смерть, и жизнь равно НЕМЫСЛИМЫ.
(Желтый блокнот, III:23)
«Аста Булúн заявила, что у нее нет ответа на вопрос, имеет ли страдание какой-либо смысл, а тема доклада сформулирована ради вопроса.
Тем не менее она сказала очень много добрых, утешительных слов, полных глубокого смысла.
Она рассказала, как однажды, когда один из ее друзей от горя совершенно утратил смысл жизни, она, не зная, чем ему помочь, обронила несколько слов, которые стали ему реальной поддержкой. Эти слова были: „Наверно, все приобретает тот смысл, какой мы сами в него вкладываем“.
Аста Булин не имела в виду, что эти слова содержат некую философскую или иную истину, но что они все же выражают нечто весьма важное, а именно: даже в горестных обстоятельствах нельзя опускать руки, нужно действовать, преодолевать свое горе».
(Желтый блокнот, вырезка из губернской газеты от 10 марта, III:26)
Топи. Болота. Дремотные стоячие воды, расползшиеся по множеству узких проток. Птицы, что взлетают все разом, тучей, стоит тебе к ним приблизиться. Легкие порывы ветра, покрывающие рябью бурую, глубокую воду. Облака.
Много летних месяцев я провел в детстве к югу от леса, неподалеку от Рамнесской деревообрабатывающей фабрики.
Странное дело, всякий раз, когда я нуждаюсь в утешении, не случайном, легком, а в глубоком, таком, которое говорит, что лучше не будет, но все равно надо утешиться, — всякий раз я вновь мысленно возвращаюсь в эти места.
Один-единственный, неизменный звук — журчанье воды, почти повсюду. От черных омутов в верховьях, у шлюза Фермансбу, и дальше вниз, до странно печальных, кишащих птицами болот у Сёдра-Надден.
Косяки рыб, недвижно стоящие на мелководье и мгновенно исчезающие, едва лишь на них падает тень.
В верховьях Кольбексона, среди озер, мы с отцом чуть не утонули, когда в конце ноября 1943 года отправились на хутора купить масла. Лодка у нас была старая, побуревшая от времени, из тех плоскодонок, какие в ходу у крестьян — но только южнее Оменнингена, дальше они не такие широкие; дно у этих плоскодонок скользкое, как стекло, потому что сплошь покрыто водорослями, один неосторожный шаг — и можно свернуть себе шею, а вдобавок они вечно текут как решето.
Та плоскодонка, которую мы взяли напрокат, текла по-страшному, куда больше, чем мы рассчитывали, и нам пришлось всю дорогу вычерпывать воду, мы по очереди как сумасшедшие, до боли в руках орудовали черпаком, пока наконец в последнюю секунду лодка не уткнулась в илистую отмель у противоположного берега. От ледяной воды руки у меня совершенно посинели.
По-моему, это вычерпывание показалось мне тогда символом всей жизни, хоть я и был совсем еще маленьким мальчишкой.
В те годы черный рынок играл в нашем существовании огромную роль. Оглядываясь назад, я не могу отделаться от впечатления, что ночами мы постоянно совершали какие-то экспедиции, чтоб купить масла без карточек или кусок лосятины.
Последние три дня боль притихла. Она как бы миновала некие опасные пороги, и теперь мы опять вышли в спокойные воды, в черные медлительные омуты на другой стороне. Вчера я немного прогулялся. Сесть за руль не рискнул, потому что чувствую изрядную слабость, но поскольку Сундблад заезжал сюда в феврале, в один из выходных дней, и знает, что я прихворнул, он всегда выполнял мои поручения насчет покупок в магазине. Интересно все-таки, что будет, когда Сундблады уедут. Думаю, я опять стану на ноги. В глубине души я чувствую, что пережил некий кризис: теперь меня мучает только слабость. Обоснованно ли, нет ли, но я внушаю себе, что все это вроде как нарыв, который должен был прорваться и прорвался, и теперь дело сразу пойдет на поправку. Надеюсь, так оно и будет.
Как ни крути, а сил у меня изрядно поубавилось. Виной тому случившееся на прошлой неделе. Что бы это ни было. Все утро я размышлял о том, не взять ли мне лестницу и не достать ли с чердака несколько рамок для ульев, ведь пора бы отшлифовать их И покрасить. По крайней мере сделаю хоть что-то полезное, от этой писанины только в уныние впадаешь. Пол-утра думал и в конце концов понял, что мне просто с этим не справиться.
Может быть, завтра.
Облака над здешними топями всегда висели низко и отражались в воде, в протоках.
Иногда летом — особенно в сороковые годы — меня не оставляло ощущение, будто я хожу под крышей. Будто очутился в какой-то хитроумной ловушке.
Тогда, в сороковые годы, на кухнях у крестьян еще встречались огромные побеленные плиты. На праздники их всегда белили заново, и со временем эти слои побелки, наверно, еще увеличивали их размеры.
Вот у такой огромной, жаркой, беленой плиты и закончилось в тот раз наше с отцом приключение. До сих пор помню запах жидкого, как бы пригорелого кофе, который мы пили в те годы.
На вершине одного из высоких холмов на западном берегу Оменнингена, где проходила тогда старая крутая щебеночная дорога из Фагерсты в Вирсбу, брат моей мамы, дядя Суне, держал деревенскую лавку.
Зеленый дом, а перед ним бензоколонка, большая красная бензоколонка — поистине замечательное сооружение со стеклянным колпаком, под которым кружился желтый бензиновый смерч. В сороковые годы, понятно, никакого бензина там не было, но вид все равно был хоть куда. Жил дядя на верхнем этаже, вместе со своей невероятно толстой женой, Рут; эта Рут никогда не выходила из дому, по-моему, она и в лавку-то спускалась с превеликим трудом и обычно восседала там, обернув круглый живот громадным мясницким фартуком, на котором кое-где виднелись пятнышки крови.
Внутри лавка была коричневая — коричневые стены, коричневый прилавок, из коричневого прилавка через проделанную стамеской дырку вытягивали коричневую бечевку. Ведь до эпохи пластиковых пакетов было еще ох как далеко. Мясной прилавок, где под стеклом в загадочном органическом бульоне плавали позеленевшие ломти печенки. Тесная подсобка за лавкой, где дядя Суне, сдвинув на лоб очки в стальной оправе, до поздней ночи считал карточки, во дворе сарай с керосином, скобяными товарами, велосипедными покрышками и разной мелочью, все строго по карточкам.
Дядя вечно курил маленькие коричневые сигарки, а поскольку усы у него были примерно того же фасона, как у Ницше или у Сталина, каждого, кто видел, как окурок, будто старинный бикфордов шнур, мало-помалу исчезает в этих усах, невольно охватывало легкое беспокойство: как бы он их не подпалил.
Пожалуй, он и впрямь кое-чем походил на Ницше. Он был индивидуалист. Не старался понравиться. Вечно сновал взад-вперед за прилавком, загнанный, с окурком в углу рта, карандашами за каждым ухом и ножницами для карточек, болтающимися на веревочке у пояса, а когда в очереди заводили всегдашний разговор о войне, обыкновенно вынимал на секунду изо рта окурок и шипел:
«Что так, что эдак — полное дерьмо!»
Что так, что эдак — полное дерьмо! — было у него чем-то вроде девиза, репликой, к которой он постоянно прибегал в более-менее драматические минуты.
У дяди Суне был грузовик, «вольво» с газогенератором, стоял он во дворе, в одном из сараев перед этим самым домом у щебеночной дороги. Иногда грузовик ездил, иногда нет. Чтобы запасти для газогенератора топливо, приходилось часами орудовать поперечной пилой и топором, превращая кругляки в маленькие, особой формы чурочки. Раскочегарить эту штуковину — тоже поистине адская работа: семь потов сойдет, пока наконец газ, как положено, потечет по разным трубкам и полостям странного высокого котла за кабиной водителя. Иной раз дрова разгорались не на шутку, и тогда спешно тормози у ближайшего озера — слава Богу, озер тут предостаточно — и лей воду на все сооружение. А в цилиндрах мотора булькала и пузырилась темно-бурая смолистая жидкость.
Но без грузовика дядя был как без рук, на нем возили муку, сахар, бидоны с молоком, ну и тайком, по ночам, всякий дефицит из Вестероса и Кольбека.
Он занимался всем понемногу, дядя Суне. И продолжалось так чуть не до конца шестидесятых, впрочем, к тому времени он, понятно, давным-давно ушел в строительную отрасль и добывал государственные ссуды под доходные дома, которые возникали по всей округе от Хальстахаммара до Вирсбу и за фантастическую плату сдавались финским рабочим; целые поселки вырастали из сырой вестманландской глины как грибы после дождя. Но это совсем другая история. В ту пору дядя Суне уже успел переехать в Вестерос, в восемнадцатикомнатную виллу с плавательным бассейном и медной крышей, и именовался подрядчиком.
А сейчас речь, стало быть, идет о сороковых годах.
Летом 1940-го Суне достал три большие бочки первоклассного бензина. Достал где-то в Норвегии, в разных немыслимых местах, и как уж он это сумел, я толком не знаю, наверно, выменял.
Мотор у грузовика дышал на ладан, так что переводить его опять на бензин не имело смысла, но у дяди был еще старый довоенный «плимут», который целых два года стоял на козлах в сарае соседа-крестьянина.
Дядя Суне, запрягши пару лошадей, приволок его домой и всю субботу и воскресенье приводил в порядок. Мотор по-кошачьи мурлыкал на дорогом немецком авиационном бензине, который каким-то чудом перебрался через норвежскую границу, где даже беженцы в ту пору проскочить не могли.
Однако было совершенно ясно, что просто так разъезжать по всей округе на бензине никак нельзя. Мигом угодишь за решетку. Соседи-то — народ чертовски завистливый.
А ведь месяцами имели кредит, почти все до единого. Не говоря уже о том, что дядя обычно смотрел сквозь пальцы на всевозможные халатности с бесценными карточками. Неблагодарные сволочи, только и знай напраслину возводят. Полное дерьмо!
И вот в авторемонтной мастерской возле Сёрстафорса дядя Суне разыскал газогенератор для легковушки — небольшой прицеп, который подсоединялся к мотору сложной системой шлангов, трубок, тросов и тяжей. Насквозь ржавый и кое-где даже прогоревший, этот аппарат имел одно неоспоримое достоинство: мог катиться на своих колесах.
Дядя Суне купил его за пять крон, как металлолом, привез на грузовике домой и всю субботу и воскресенье красил это чудовище серебряной бронзой. Результат превзошел все ожидания, лишь бы никто не вздумал сковырнуть краску.
«Плимут» ходил на бензине как часы, а газогенератор худо-бедно катился следом. Конечно, скорость из-за него несколько замедлялась, но в целом едешь прямо как до войны.
Дядя Суне разъезжал чуть не по всему Вестманланду, упиваясь вновь обретенной свободой передвижения, возил свою толстуху жену в Вестерос, в кино, и вообще решил, что жизнь понемногу налаживается. Кстати, дела в то время и правда шли превосходно.
Тогдашняя дорога от Вирсбу до Фагерсты удобством не отличалась. Теперь прямо через двор дяди Суне проходит шоссе, от зеленого дома-лавки и следа не осталось, единственная память о нем — необычайно красивый старый ясень, который каким-то чудом пощадили и гусеничные трактора, и взрывные работы, он до сих пор стоит справа у обочины, склоняясь над дорогой.
Проезжая мимо, я каждый раз вспоминаю то далекое время. Весной ясень по-прежнему зеленеет.
Могучие деревья, эти ясени.
Зимой по старой дороге возили лес, и она превращалась в сплошные ухабы. Иногда ранней весной целые участки левой обочины (я вижу этот ландшафт с севера на юг, но мои привычки связаны с другой дорогой) обрушивались в Оменнинген, и вешки дорожного управления, выкрашенные в изысканный красный цвет, предупреждали, что здесь необходимо соблюдать осторожность. Уклоны были невероятной протяженности, самый длинный — верных полторы с лишним мили, мечта велосипедиста, едущего с севера, и кошмар для едущего с юга.
На новой дороге подъемов и скатов почти нет. Она пробита взрывами и ведет сквозь громады горных хребтов, отрогов Ландсберга, меж мощными скальными стенами; древние, заросшие тростником болота вокруг Сёдра-Надден с их покрытыми рябью протоками, дикими утками и загадочными лабиринтами недвижной черной воды частью засыпаны — тысячи грузовиков свозили туда щебень после взрывных работ. Всю округу вверх дном перевернули.
Пожалуй, эти места потеряли свою душу. Хотя, может быть, она просто спряталась. По-моему, в один прекрасный день она вернется.
Как бы там ни было, тогда, весной 1942 или 1943 года, дорога была в жутком состоянии, и после переписки, затянувшейся на полгода, муниципалитеты Вирсбу и Вестанфорс наконец получили из Весте роса депешу, что губернское правление проинспектирует дорогу.
Рано утром господа из губернского правления двинулись в путь на двух изрядно нагруженных автомобилях, надо полагать газогенераторных; у перекрестка к северу от Вирсбу делегация губернского правления встретилась с представителями муниципалитета Вирсбу (я цитирую губернскую газету, «Вестманландс лене тиднинг»), также прибывшими на автомобиле.
Инспекционная поездка оказалась на редкость удачной в том смысле, что у первого автомобиля — в нем ехали управляющий губернскими дорогами и начальник канцелярии губернского правления, одновременно занимавший высокий пост в кризисной комиссии, — сломалась задняя ось, а произошло это всего-навсего километрах в трех к югу от лавки дяди Суне. Почтенные начальники вместе с двумя губернскими нотариусами долго шлепали по весенней слякоти, пока не вышли к дому дяди Суне. Когда произошла авария, они, на свою беду, были последними в колонне, и пассажиры первых двух автомобилей, похоже, вовсе не заметили, что случилось.
Стало быть, они брели по слякоти, оживленно обсуждая, как бы им добраться до Фагерсты или хотя бы вернуться в Вирсбу, и вот в разгар этих дебатов начальник канцелярии углядел на холме красную бензоколонку дяди Суне.
К тому времени пот ручьями тек по его красной физиономии, а свой шерстяной шарф он затолкал в карман, и тот свисал оттуда как хвост. Портфель, слава Богу, нес один из нотариусов.
Дядя Суне узнал обоих губернских начальников по фотографиям в местной газете и на секунду побледнел. Неужто какая-то из его недавних успешных операций оказалась слишком уж дерзкой?
Однако, разглядев, в каком они виде, он быстро успокоился и улыбнулся из-под сталинских усов самой обезоруживающей своей улыбкой.
Вскоре губернские чиновники в одних кальсонах расположились за накрытым кофейным столом наверху, в квартире дяди Суне, меж тем как на кухне тетя Рут раскаленным утюгом сушила их брюки. Разговор шел о поистине ужасной дороге, ведь народ в самом деле чуть не каждый день ломал задние оси, и о том, сколько хлопот в нынешние кризисные времена доставляет бедному торговцу отчетность по карточкам, и, конечно же, господа чиновники не могли с этим не согласиться; сидеть в кризисной комиссии тоже не сладкий мед, между нами говоря, господин Янссон, а кстати, нельзя ли еще глоточек коньяку?
Атмосфера была чертовски уютная, сиди себе хоть до вечера, и дорожный управляющий был целиком и полностью «за», дорогу надо поскорее заасфальтировать, по крайней мере до вот этого поистине замечательного магазинчика, так все и шло, тихо-мирно, пока один из господ случайно не глянул на часы.
Паника! Живо надеть брюки, огромное спасибо, и, господин Янссон, не откажите в любезности, подвезите… до Вирсбу, до Вестанфорса… а кстати, докуда ближе?
— Ага, значит, до Вестанфорса? Но нельзя ли, господин Янссон, раз уж вы та-ак любезны, подвезти нас вниз, в Вестанфорс, вернее, вверх, так оно получается. Ведь я слыхал, вы, господин Янссон, наладили свой новый газогенератор?
Дядя Суне сходил в керосиновый сарай и заправил «плимут».
Поездка оказалась не менее приятной, чем застолье. Дядя Суне пребывал в лучезарнейшем настроении, сигарка резво подрагивала в ницшевских усах, и где-то в районе Сундбюской алкогольной лечебницы он фактически сумел выторговать у кризисной комиссии большущую партию текстиля для своей лавки. Автомобиль торжественно подкатил к старой муниципальной управе в Фагерсте; увидав на заднем сиденье господ чиновников, хмурые встречающие слегка повеселели. Это были уполномоченные от трех муниципалитетов, господа из губернского совета и дорожного управления вкупе с вестанфорсским полицмейстером.
Чиновники вышли из машины и поблагодарили дядю. Вот тогда кто-то и заметил, что газогенератора нет. Нет — и все тут! То ли дядя Суне в спешке забыл его прицепить, то ли — что даже более вероятно — эта чертова таратайка отцепилась по дороге.
Дядя Суне изумился совершенно искренне и ничуть не меньше всех остальных.
— Господи, — сказал он, — где же мой газогенератор?
Автомобиль бодро пыхтел на холостом ходу, но, слава Богу, ни у кого не хватило духу обратить на это внимание.
— Мы не иначе как потеряли эту чертову штуковину, — сказал Суне.
— Господи помилуй, но как же мы в таком случае сюда добрались?! — изумился дорожный управляющий.
— А что тут удивительного? — произнес начальник канцелярии со всем апломбом и снисходительностью высокопоставленного чиновника. — Ведь дорога все время идет под гору.
— Да ведь мы-то в гору ехали, — устало обронил дорожный управляющий. — Все время в гору, черт подери.
— А, что так, что эдак — полное дерьмо, — изрек дядя Суне, в легкой задумчивости.
(Желтый блокнот, III:30)
Что так, что эдак — полное дерьмо. Посещая школу, гимназию, учительскую семинарию, ты шаг за шагом овладевал более изысканным языком. И более абстрактным. Причем даже прилагал к этому слишком много стараний. В гимназии различия между детьми из низов и детьми из буржуазных семей были заметны сразу. Дети из низов пользовались языком более жестким и более трезвым. К тому же выводу привел меня и собственный учительский опыт.
Кругозор болотной лягушки, отчего все мотивы всех поступков сплошь оказывались жестоки, эгоистичны, циничны.
Язык буржуазии — самый расплывчатый. Ведь Чтобы подняться в социальной иерархии ступенькой выше, человек принужден делать вид, будто он уже там. От этого вся система в некотором смысле теряет устойчивость. Вроде и знаешь, что означают слова, а вроде и нет.
К примеру, я вот уж несколько месяцев «кладу в штаны». На другом языке это означает, что меня мучает смертельный страх. Смертельный страх представляет ситуацию в совершенно ином свете, будто выражение «смертельный страх» исполнено более высокого смысла, нежели «класть в штаны».
Лично я этого более высокого смысла не усматриваю.
Последние месяцы предельно ясно показали мне, что общество обладает подсознанием. Вероятно, дело в том, что страх высвобождает меня из всех этих языков, которые я некогда усвоил, чтобы от него защищаться. Я начинаю видеть с грозной ясностью подросткового возраста, с испуганной его ясностью.
Подсознание общества. Подопытные кролики, которых мало-помалу до смерти замучивают в лабораториях, трубки, подведенные к шейным сосудам и к желудкам, раковые клетки, которые длинными тонкими иглами вводятся в печень живых собак. Дневные коридоры лечебниц для душевнобольных, худые, трясущиеся алкоголики у моста Стурбру в Вестеросе.
Ужасная цена, которую все время нужно платить. Но кому? И за что? Чем оплачивалось мое существование до сих пор?
…
Снег все тает и тает, повсюду уже виднеются мокрые камни и гниющая прошлогодняя листва.
Рай всегда представлялся мне сухим и жарким, в первую очередь не сырым.
В раю нет лжи.
(Голубой блокнот, III:5)
Четыре дня совершенно без боли. Вчера опять заходили Уффе и Йонни. Я прочел им свой ужастик. Им понравилось, но особых восторгов я, увы, не заметил. Они сказали, что начало хорошее, только действия должно быть гораздо больше. Мы обсудили несколько вариантов продолжения. Сумеют ли герои сами пробраться к той башне и уничтожить порождающий боль ультразвуковой орган или им нужна помощь извне?
Может, они попробуют взять башню в осаду? Кто-нибудь героически пожертвует собой и отвлечет внимание противника? Нельзя ли спастись от мучительных звуков, заткнув уши воском?
У Уффе забинтован лоб. Хоккейной шайбой ему разбили бровь.
Мальчишки принесли с собой увеличительные стекла и долго сидели у меня на крыльце, пытаясь поджечь собственные шнурки. Но весеннее солнце светит пока слабовато.
Эти двое ребят здорово помогают мне развлечься и отвлечься. Они такие ясные, открытые.
(Желтый блокнот, III:31)
Кое-что продолжается. Мне страшно говорить об этом — скажу, и все вдруг опять обернется неправдой.
Болей нет уже двенадцать дней. Нередко я чувствую легкую слабость и головокружение, но ведь, возможно, виной тому самая обыкновенная весенняя усталость. Четыре раза ездил в магазин за покупками.
Так, может, ничего особенного и не было? Камень в почке? Песок, который в конце концов вышел? Собственно говоря, симптомы вполне совпадали с болями от почечных камней.
Вообще-то эти боли из самых сильных, какие только бывают. Сильнее, чем родовые схватки, как пишут в одном из старых номеров «Сайентифик америкен».
Я решил подождать недельку и уж тогда начать надеяться.
(Желтый блокнот, III:32)
Когда сам я был маленьким или, скажем, школьником: спортзал, бодрый, чуть затхлый запах пота наверху, под потолком, гимнастические стенки, ты жаждешь свершений, но сил у тебя не хватает, ты мальчик и одновременно мужчина. И какой-то бездумный полусон на уроках, в ту пору, когда только начинаешь взрослеть, — сидишь и играешь в странные игры, перебираешь собственные пальцы, пытаешься сплести их то так, то этак, как будто сидишь и копаешься в собственных мозгах, пытаясь постичь их лабиринты.
Долгое время я думал, что этот странный полусон связан со школьной скукой, но по правде скука была ни при чем.
Теперь со мной происходит то же самое: жизненная энергия словно бы затаилась, готовится какое-то огромное изменение.
В моем случае болезнь миновала кризисный пик.
Странная, тихая печаль мальчишеских лет.
Похоже, мне вновь дано пережить этот возраст.
(Желтый блокнот, III:33)
4
Интерлюдия
— — — —
(за тридцать дней вообще ни одной записи)
6 апреля. Боли идут на убыль. Только пустота.
(Рваный блокнот, IX)
7 апреля. Целый день где-то лаяла собака, должно быть, она в этой округе недавно. Лай доносится с юга, невероятно жалобный и однообразный. Может, она на цепи?
Болей нет, но проблема в том, что вместо них меня терзает другое: я начинаю надеяться и одновременно не смею дать этой надежде волю, из простой боязни, что боль может вернуться в любую минуту.
Я много размышляю вот о чем: после того письма, которое я сжег, никаких вестей из региональной больницы не было. Если б это вправду оказался рак, то, не получив от меня ответа, они бы, по логике вещей, наверняка напомнили о себе еще раз, ведь ясно же, что они следят за своими пациентами. Значит, ничего серьезного, так, какое-то воспаление. Воспаление брюшины?
А вдруг обо мне просто забыли, по халатности?
Я теперь избегаю ходить к почтовому ящику.
(Желтый блокнот, IV:1)
8 апреля. Надеяться, пожалуй, не менее трудная штука, чем то, другое. Но нам привычнее надеяться и страшиться, чем быть среди того, на что мы надеялись и чего страшились.
Вот что я усвоил: никакого реального выхода из жизни нет.
Можно лишь оттягивать решение, всеми правдами и неправдами. Но выхода нет. Система полностью замкнута, и у выхода только смерть. А это, конечно, никакой не выход.
Я — это тело. Одно только тело. Все, что должно и может произойти, свершится внутри этого тела.
(Желтый блокнот, IV:2)
Я размышлял о рае, н-да, словно больше и думать не о чем. Еще я взялся подшлифовать входную дверь, нужно ее обновить, нынешней зимой краска пошла пузырями, облупилась и висит лохмотьями. В одном из кухонных шкафов неожиданно нашлись три банки краски, должно быть, стояли там с начала шестидесятых, с времен нашей свадьбы.
Рай ставит любопытные вопросы. Что такое бесконечно длящееся состояние счастья?
Естественно, прежде всего на ум приходит оргазм. Оргазм, великий, счастливый оргазм, бесконечность которого застает тебя врасплох. Он продолжается минута за минутой, час за часом. И так интенсивен, так ослепителен, что ты не в силах думать, только чувствуешь, происходит что-то неслыханное, начинаешь тосковать по крохотной передышке, хоть на ничтожную долю секунды, чтобы можно было подумать, но неслыханное наслаждение все длится и длится, не уступает, длится час за часом…
Рай? Все это я недавно пережил.
Райское блаженство наверняка заключается в том, что исчезает боль. Но тогда выходит, что, не испытывая боли, мы живем в раю! И не замечаем этого!
Счастливые и несчастные живут в одном мире и не видят этого!
Меня не оставляет ощущение, что последний месяц я бродил по собственной жизни, словно по какому-то фантастическому, загадочному лабиринту, и вернулся точнехонько на то же место, откуда начал этот свой путь. Но поскольку я был за пределами обычных измерений, у меня каким-то образом перепугалось правое и левое, только и всего. Правая моя рука стала теперь левой, а левая — правой.
Возвращаешься в тот же мир и видишь его счастливым.
Лохмотья краски на двери — неотъемлемая часть загадочного произведения искусства.
(Желтый блокнот, IV:3)
Мне бы следовало лучше использовать время, чем просто отсиживать его в качестве учителя вестер-вольской неполной средней школы, а потом здесь в роли добровольного пчеловода, досрочно вышедшего на пенсию.
Перечень видов искусства по степени их сложности1. Эротика
2. Музыка
3. Лирика
4. Драматургия
5. Пиротехника
6. Философия
7. Серфинг
8. Романистика
9. Роспись на стекле
10. Теннис
11. Акварель
12. Живопись маслом
13. Риторика
14. Кулинария
15. Архитектура
16. Сквош
17. Тяжелая атлетика
18. Политика
19. Воздушная гимнастика
20. Парашютный спорт
21. Альпинизм
22. Ваяние
23. Фигурное катание на велосипеде
24. Жонглирование
25. Афористика
26. Строительство фонтанов
27. Фехтование
28. Артиллерийское искусство
Одно я никак не могу вставить в перечень — искусство выдерживать боль. А все потому, что никто до сих пор не умел превратить это в искусство. Значит, мы имеем дело с искусством уникальным, степень сложности которого столь высока, что исполнителей просто не существует.
(Голубой блокнот, IV:1)
На третьей планете в тринадцатой системе Альдебарана существует цивилизация, которая занимается реальностью напрямую, без каких бы то ни было символических связующих звеньев.
Идея, что, к примеру, фигура на бумаге могла бы представлять нечто иное, нежели самое себя, совершенно чужда необычайно энергичным и сильным тысяченожкам, достигшим на этой планете наиболее высокой ступени цивилизации.
Им здорово повезло, что они сильные. Поскольку единственный известный им символ вещи — это она сама, им много чего приходится таскать с собой. Выражение «сильная аргументация» имеет на этой планете самый прямой смысл.
Если, например, хочешь сказать «нагретый солнцем камень», то сделать это можно только одним способом: вложить нагретый солнцем камень в ладонь, вернее, в лапу собеседника.
Если хочешь сказать «огромный камень на вершине горы», это опять-таки можно сообщить, только затащив огромный камень на вершину горы.
В таких обстоятельствах Создание лирического стихотворения становится пробой сил, каковая предстает во всей своей героической ясности на протяжении многих грядущих поколений.
Сонеты, созданные этой цивилизацией, в большинстве выглядят как этакий Стоунхендж — гигантские торжественные строки из камней, стародавние герои, пыхтя, и сопя, и напрягаясь изо всех сил, расставили их по местам согласно древней схеме.
Ложь в этой цивилизации, конечно же, совершенно невозможна. Сказать кому-нибудь «я тебя люблю» можно лишь одним способом — занявшись любовью. И чтобы сказать «я тебя не люблю», тоже существует один-единственный способ — избегать заниматься любовью. Если это возможно.
В мире, где символ постоянно совпадает с вещью, с предметом и где его никак нельзя заменить забавными скромными звуками или диковинной последовательностью мелких значков на бумаге, которые, строго говоря, имеют ровно такое же отношение к другим вещам, как наши ненадежные и случайные социальные условности, — в таком мире правда конечно же совпадает с осмысленностью, а ложь с бессмысленностью.
Понятно, единственная замена лжи в таком мире — туманная речь, настолько близкая к бессмыслице, что понять ее невозможно.
Обычная светская беседа на этой планете выглядит так: обитатели извлекают из кожаных мешков всякие крохотные предметы: стеклянные шарики, мелкие разноцветные камешки, красиво отполированные деревянные колышки — и оживленно ими обмениваются.
Правда достается дорогой ценой.
Ни одна из по-настоящему высокоразвитых цивилизаций в ареале древних центральногалактических солнц не живет так обособленно, как эта.
Астрономия там, конечно, немыслима. О галактиках не говорят, если назвать их можно не иначе, как таская с собой. Понятие «планета» опять-таки совершенно немыслимо.
Эта существа живут на красноватой равнине, окаймленной высокими горами.
Для равнины, которая теоретически есть то же, что и «мир», у них, разумеется, никаких понятий не существует.
(Голубой блокнот, IV:4)
Когда четырнадцать дней назад боли прекратились, я возвратился в этакий первозданный рай. Но предпосылкой тому была боль. Как некая форма правды.
А значит, антитеза дяди Сунину «что так, что этак — полное дерьмо».
Теперь можно вновь построить какой-никакой мир.
(Голубой блокнот, IV:8)
Все было хорошо. Во вторник заявились родственники — детей с ними оказалось больше, чем я опасался, — и заполонили весь дом спальными мешками, и одеялами, и припасами, на полу яблоку негде было упасть.
Меня они сочли бледноватым, а в доме, как объявили женщины, не грех бы и прибрать, вон сколько накопилось кофейных чашек с этим ужасным осадком на дне. Но в целом все было хорошо.
Ничего особенного никто не заподозрил.
Пробыли они на день меньше, чем я опасался. Меня терзал прямо-таки детский страх, что от одного лишь их присутствия боль вернется.
Но этого не произошло, я только немного устал.
Замечаю, что теперь мне совсем не нравится, когда нарушают мои привычки. К примеру, в среду заходили те двое мальчишек, сунулись было в прихожую, но шум голосов в комнате их спугнул. Я видел, как они поспешно исчезли за забором.
И продолжение ужастика я для них написать не успел.
В следующей главе чудовищный орган, вызывавший своим ультразвуком боль, разумеется, взлетит на воздух, потому что Сигизмундова флейта, как выяснится, обладала весьма диковинными свойствами: ее напев мог истребить все, что угодно.
Ладно, подождем. Надеюсь, мальчишки придут еще раз. Ведь они, как говорится, моя литературная публика, притом единственная.
Меня все время мучило любопытство, хотелось прощупать Маннгордов, но я не рискнул обрушить на них все вопросы, какие вообще-то просились на язык.
Интересно, считают ли они меня обыкновенным, нормальным родственником, у которого удобно переночевать, вместо того чтоб по дороге в Селен транжирить деньги на дорогие гостиницы, или полагают своим долгом проведать меня? Вот так штука! Что это я вдруг? Ведь, собственно говоря, давно уже и думать забыл о том, как ко мне относится внешний мир.
Ничего по-настоящему антиобщественного я не совершал, ну, разве что поставил себя, так сказать, вне обычного уровня притязаний. Живу, не имея никаких доходов, что очень легко, ведь и расходов у меня тоже нет.
Мы с Яном говорили о старых знакомых. И вспомнили Труэнга. Ян знал его, так как занимался похожими проблемами в губернском правлении в Весте росе. Знал всю скандальную историю, связанную с заболеваниями лейкемией в Северном Вермланде осенью 1973 года и с Комиссией по особым проблемам окружающей среды.
Ни Маннгорд, ни я понятия не имеем, чем Труэнг занят сейчас. Год назад прошел слух, будто он вступил в орден Святого Креста в Баркарё, но это, конечно, только слух из тех, что неизменно возникают в подобных обстоятельствах. В моем представлении Труэнг как-то не вяжется с образом сурового аскетичного монаха. Не в пример мне, человеку по натуре довольно аскетичному, он всегда любил жизненные удовольствия.
В школьные годы, например, ярким свидетельством тому было его отношение к девочкам.
Мы с Маннгордом обсуждали в общем-то куда более интересный вопрос. Говорили о том, что такие бюрократы — разумеется, если они достаточно впечатлительны — рано или поздно терпят крах, просто потому, что абсорбируют, впитывают в себя слишком много внутренних противоречий общества.
Это необязательно выражается так резко, как у Труэнга, который в конце той шумной истории форменным образом выблевал весь конфликт в пресловутом интервью для «Актуэлльт», отвечая вместе с премьер-министром на вопросы журналистов.
Порой видишь это в их глазах, как некое беспокойство. Порой это прорывается язвой желудка, внезапной усталостью, разводом, но прорывается непременно. Со слишком большими внутренними конфликтами жить нельзя, а такие люди впитывают в себя все общественные конфликты, потому что пытаются жить сразу на обоих языковых уровнях.
Когда они уехали, я вдруг задним числом удивился, что занялся этим именно Маннгорд. Ведь вообще-то он работает в управлении рынка труда.
Надеюсь, они хорошо устроились в Селене.
Труэнг. Вот со мной ничего подобного никогда бы не случилось, ведь всю мою взрослую жизнь я совершенно отчетливо сознавал, что я отщепенец, что, по сути, асоциален, хоть и плачу налоги. Во всеобщих выборах я не участвовал со времен пенсионного конфликта.
Даже мое отношение к болезни, разумеется, асоциально.
(Желтый блокнот, IV:12)
У М. была одна забавная особенность: она любила врать по мелочам. Крупных обманов не было ни разу: на серьезной лжи я бы за долгие годы при желании наверняка сумел ее поймать. Но она врала только по мелочам.
Могла сказать, что ездила за покупками в Гамлебю, а на самом деле была в Фагерсте. Могла сказать, что весь вечер просидела в одиночестве за ткацким станком, хотя было совершенно ясно, что на самом деле она полола земляничные грядки.
Я потратил уйму времени, размышляя об этом, пока не нашел объяснение, в общем-то очень простое.
Таким мелким враньем она создавала себе некое поле свободы.
Практически это никакого значения не имело, но, не зная, в каком именно магазине она побывала, я, конечно, чувствовал неуверенность, и она могла хотя бы чуточку меня контролировать. Возникало пространство, где она распоряжалась самовластно.
Речь тут вовсе не о том, что у нее был плохой характер, а только о том, что я совершенно бессознательно подпускал ее на опасно близкое расстояние.
Откуда у меня это нежелание связываться с людьми?
Нежелание позволять им каким-то образом меня контролировать. Но они же все равно меня контролируют! Налоговое ведомство, избирательная комиссия, от этих, конечно, никуда не денешься, но неизмеримо больше страсти кипят в моем собственном теле, ведь другие начинаются уже там.
Возьмем, к примеру, эротическое беспокойство (оно опять возвращается, по мере того как утихают боли внутри), этот безотчетный глухой голод, это ощущение нехватки, преследующее нас всю жизнь, буквально во сне и наяву.
Что оно такое? Возможность любви в нашем естестве. Присутствие, возможное присутствие другого человека.
Унизительное, постоянное напоминание о том, что одиночество невозможно, что одинокий человек просто не может существовать.
Что в языке слово «я» — самое бессмысленное. Пустая точка.
(Ведь центр всегда должен быть пуст.)
(Желтый блокнот, IV:14)
Я решил, что не стану звонить М. Между прочим, для этого решения мне потребовалось два с лишним месяца! Я и вправду делаюсь слегка медлительным.
(Желтый блокнот, IV:21)
По-моему, душа имеет форму шара (если она вообще обладает формой), и под переливчатой, радужной его оболочкой струится слабый свет, проникающий немного вглубь, где кружатся, едва уловимо, но непрерывно меняясь, мыльные пузыри восприятий и помыслов.
Глубже внутрь света уже почти нет, только скудные его следы, примерно как на очень больших океанских глубинах, а потом мрак. Мрак, мрак.
Но мрак не грозный. Добрый, по-матерински ласковый.
(Голубой блокнот, IV:9)
В последнее время мне часто снился странный сон. Про один из моих ульев. Я снимаю крышку и щеткой обмахиваю рамки, чтобы откачать из них мед. И вот, когда я собираюсь смахнуть с края рамки пчелу, мне вдруг бросается в глаза, что выглядит она как-то странно, вроде бы отсвечивает синевой. Поначалу мне совершенно невдомек, в чем дело, и только потом, присмотревшись, я обнаруживаю, что ни одной настоящей пчелы там нет.
Это не пчелы, а совершенно другой вид — чрезвычайно разумные существа, достигшие необычайно высокого уровня технического развития. Прилетели они из космоса, из какой-то очень отдаленной галактики, и попросту завладели ульем — черт его знает, что случилось с обыкновенными пчелами, но эти существа, по всей видимости, тоже привыкли жить в восковых ячейках.
Без всякого труда они вступают со мной в разговор, причем я толком не понимаю, как это происходит. Они — посланцы цивилизации разумных насекомых.
Планета их погибла при взрыве сверхновой, космических кораблей у них нет, они сами летят со скоростью света куда пожелают. Но в земной атмосфере такой полет невозможен, из-за слишком большого перегрева.
Их блестящие панцири сверкают как рыцарские доспехи.
Что они говорят?
МЫ НАЧНЕМ СНАЧАЛА, МЫ НЕ СДАДИМСЯ.
(Голубой блокнот, IV:10)
5
Когда пробудилась Божественная Сущность
Подобно тому как маленький паучок спит в уголке сплетенных им тенет, в дальнем уголке Вселенной на протяжении двадцати миллионов лет спала Божественная Сущность.
Галактик там не было. И ничто ее не тревожило. Она парила в пространстве словно исполинская медуза тринадцати парсеков в поперечнике — дивно прекрасная в переливах розовых, зеленых и густо-синих красок, что, непрестанно меняясь, струились под прозрачной поверхностью ее колокола.
И бездонное пространство вокруг, на световые годы во всех направлениях, полнилось ее чистой свежестью. Средь всей этой пустоты странник мог бы почувствовать ее присутствие — так бывает, когда солнечным летним днем чувствуешь, что вот-вот выйдешь к побережью, или беззаботно шагаешь под весенним дождем, подставляя ему лицо. Она придавала пустому пространству особенное чувство свежести, юной зелени, даже влюбленности.
Но за двадцать миллионов лет ни один странник не завернул в эти отдаленные края, лежащие не только за нашим оптическим горизонтом, но и за радиогоризонтом.
Для этого дивного и единственного в своем роде существа, которое древнёе мирозданья и в конечном счете чуждо и пространства, и времени, а стало быть, сразу и древнее и моложе всего сотворенного, которое больше пространства в его совокупности и меньше самой малой элементарной частицы, — для этого существа двадцать миллионов лет сна были меньше, чем сон. Миг рассеянности — ну, вот как шофер на миг отвлекается от дороги, погружаясь в свои мысли.
Когда Высочайшая Сущность вновь устремила внимание к миру, все восприятия были такими же, как всегда. Тяжелый пульсирующий гул от периодических источников радиоизлучения в ближней галактике, а на его фоне — бесконечные множества более тонких ощущений. Легкие перемены в энергии солнц — точно ветерок, пробегающий в листве осиновой рощи, и гравитационный коллапс далеких взрывающихся сверхновых — точно глухой рокот волн во тьме у набережной.
И на самой высокой частоте, словно звенящая песня тысяч сверчков и кузнечиков на лугу, — мысли всех обитаемых миров.
Средь этого океана звуков был один очень-очень далекий, очень слабый, которого она первоначально вообще не различала. Но при всей слабости и малости звук этот был так пронзителен, что, едва воспринятый, немедля привлек ее внимание. Мгновением раньше его не было. Исполненный огромной печали, он заставил ее затрепетать от чего-то, что на людском языке можно бы назвать материнской тревогой, охватившей все ее огромное тело.
Божественная Сущность заметила людские молитвы. Минуло трое суток, пока человечество заметило, чтó происходит.
Первым это заметил пятнадцатилетний партизан в джунглях на юге Танзании. Когда он и его отряд, истощенные, измученные жаждой, покрытые царапинами, пытались укрыться в тени одинокой купы деревьев среди залитой беспощадным полуденным солнцем саванны, их обнаружил вертолет противника.
Перепуганный парнишка лежал подле ящика с боеприпасами и смотрел на приближающийся вертолет. Уже можно было различить дульное пламя пулеметов. Через мгновение он будет убит. Воспитывался этот парнишка в христианской миссии, и теперь, когда он глядел на вертолет и слышал глухой трескучий рев винта и отрывистый стрекот пулеметов, у него невольно мелькнула мысль:
Боже, уничтожь их!
Белая вспышка, превратившая вертолет и его экипаж в облако ионизированных частиц, которое унес ветер, полыхнула до самого горизонта.
Второй вертолет, уже заходивший на цель, с грохотом рухнул несколькими километрами дальше. При падении членам экипажа здорово досталось, ослепшие от немыслимого света, беспомощные, они пытались ощупью выбраться из обломков.
Боже, пусть это кончится, молил раковый больной в клинике. Действие морфия слабело, и жгучая, пульсирующая боль справа, в нижней части живота, прямо над пахом, возвращалась, нарастая с каждой пульсацией.
В тот же миг боль исчезла, сменилась ощущением как бы оглушительной тишины. Теперь он чувствовал лишь легкое недомогание, будто из живота убрали что-то твердое, давящее, он снова мог нормально дышать. Минут через пять он бесконечно осторожно попытался согнуть ногу.
А еще через пять минут он отчаянно нажал на сигнальный звонок. Когда ночная сестра, изрядно замешкавшись, наконец появилась в дверях, больной со смущенной улыбкой стоял посреди палаты.
Даруй нам, Боже, прочный мир — такими словами закончил свою утреннюю радиопроповедь архиепископ города Або. Он произнес их с глубоким чувством и совершенно искренне.
Выскажи он эту мольбу на одну десятую долю секунды раньше, он так бы и остался обыкновенным священнослужителем, хоть и в сане архиепископа.
Поскольку же он высказал ее именно в этот миг, ему суждено было стать исторической личностью, причем величайшей из всех.
Через три десятых доли секунды после того, как Абоский архиепископ произнес последний звук слова «мир», дежурный персонал одного из огромных подземных ракетных комплексов, гигантской цепью протянувшихся по Внешней Монголии, заметил, что индикаторы хитроумных приборов, которые контролируют состояние ракеты, чья разделяющаяся боеголовка способна нанести водороднобомбовый удар сразу по шести разным городам, стоят на нуле. Все отчаянно засуетились, зашумели, начали принимать экстренные меры. После шести часов кропотливой работы группа экспертов установила, что ничего сделать нельзя. Заключенная в глубокую шахту восьмидесятиметровая ракета вся, снизу доверху, состояла из необычайно тяжелого, блестящего двадцатичетырехкаратного золота. Мягкого, податливого, литого золота.
Еще через сутки выяснилось, что весь расщепляющийся материал, какой есть на свете, тоже превратился в золото, да и не только расщепляющийся материал. Все и всяческое оружие, все боевые снаряды и даже мечи железного века, что хранились в музеях, мгновенно превратились в золото.
В 18 часов следующего дня трое членов Совета национальной безопасности США, получив солидную дозу транквилизаторов, были отравлены в частную психиатрическую лечебницу. Остальные члены Совета наблюдали за их отправкой в окно на одном из верхних этажей Пентагона. Взгляд у них был пустой, как у людей, которые более не желают ничего видеть и слышать.
Первый из грандиозных биржевых кризисов, которые за два дня приведут для начала к упразднению монетарной системы, а затем к упразднению вообще всех экономических связей и экономических обязательств, уже десять часов сотрясал мировые биржи.
Прежде всего невероятно упали цены на золото. К полудню за тонну золота давали меньше, чем в 1934 году за тонну угля.
Беспорядочное стремление обратить все деньги в доллары США, которое началось тогда же, к часу дня взвинтило курс доллара до 12 340 унций золота. В следующие полчаса по причине какого-то неподтвержденного слуха кинулись скупать норвежские кроны, и за двадцать пять минут курс кроны стал в десять тысяч раз выше, чем накануне.
В 14 часов в экстренном выпуске новостей шеф норвежского банка мрачно сообщил о банкротстве национальной валюты.
Эту телепрограмму почти никто не смотрел. Норвежские граждане в это время были целиком и полностью поглощены приватными открытиями в сфере упомянутых ценностных масштабов, и крах национального банка их уже ничуть не волновал. Тысячи лет молитвы одних людей были весьма точны и конкретны, молитвы других — столь расплывчаты и туманны, что обретали какую-никакую форму лишь в их снах.
В Северном Вестманланде, где-то между Энгельсбергом и Омбеннингом, сидел в своем доме старый пенсионер, в прошлом рабочий лесопилки, рассеянно листая вчерашний номер губернской газеты. Он уже почти задремал. Глаза жмурились от света, в комнате жужжали мухи.
Деликатный стук в дверь прогнал дремоту.
Открыв глаза, он негромко сказал «Заходите!» и увидел шестерых официантов в безупречных фраках, которые принялись заносить в дом здоровенные корзины со свежеотваренными раками под укропным соусом, тминные сыры, огромные, как тракторные колеса, и ящики с ледяной водкой; поначалу он воспринял это вполне спокойно и решил, что видит сон.
Однако же звон литавров и звуки флейты-пикколо окончательно прогнали дремоту. Официанты исчезли.
Облаченная в прозрачный голубоватый наряд, первая из пяти танцовщиц начала танцевать. На удивление подвижный пупок так и шнырял туда-сюда под тяжелым украшением между маленькими крепкими грудями, и улыбка ее была бесконечно призывной.
Быстрым шагом пенсионер подошел к двери и повернул ключ. На обратном пути он заметил, что ревматические боли в левом колене напрочь исчезли.
К этому времени миллиарды людей во всем мире сделали одно и то же открытие. Бог, который внезапно стал прислушиваться к их молитвам, не имел, судя по всему, ни малейшего нравственного тормоза, ни малейшей капли порядочности. Сила, оказавшаяся способной вмиг превратить исполинские ядерные ракеты в золотые башни, как очень скоро выяснилось, выказывала не меньшую готовность превратить, к примеру, морщинистую жену пожилого подполковника в красивого белокурого юношу или погрузить ночлежку социального ведомства на стокгольмской Апельбергсгатан в бешеный вихрь штраусовских вальсов и грома пробок от шампанского.
Весь свет, казалось, кишмя кишел несчетным воинством проворных слуг, которое внезапно материализовывалось, готовое снабдить всех и каждого тем, чего они более всего желали. Нет слов, чтобы описать толкотню, танцы, публичные совокупления на улицах Европы в этот второй день. Спорадические туманные радиосообщения с соседних континентов свидетельствовали, что там творится то же самое.
Пошлине ошеломляющим был развал церкви, вернее, церквей. К полудню третьего дня — примерно тогда же, когда Его величество король объявил, что все партии отказываются взять на себя бремя власти, когда Москва и Вашингтон сообщили о приостановке на неопределенный срок всякой общественной деятельности, а китайская компартия провозгласила начало плановой утопической фазы, — ежегодное собрание шведских епископов обнародовало пастырское послание, которого ожидали уже несколько дней.
Это был непревзойденный шедевр осторожных формулировок. Для начала послание констатировало, что пути Господни, а равно и глубины природы неисповедимы и что никто не может предписывать Всемогущему, какими средствами Ему пользоваться.
Далее оно намекало, что в мире существует и некая демоническая сила и что для истинного христианина всегда остается вопросом его собственной совести решать, какие молитвы соответствуют воле Божией.
Меж тем как начавшаяся отныне новая историческая эра давала ошеломительные доказательства благости и всемогущества Божия, собрание епископов, безусловно, совершило бы ошибку, если бы не упомянуло о новых искушениях, каковыми сие новое положение вещей, которое конечно же не будет длиться вечно, не может не быть чревато для каждого верующего христианина.
Стало быть, в это время, ознаменованное огромными преобразованиями, собрание епископов вынуждено призвать верующих к предельной воздержанности в молитвах.
Слова эти замертво упали наземь в тот самый миг, когда были произнесены.
Впервые за всю свою историю человечество изведало щедрость совершенно нового качества, безграничную благость, совершенно беспристрастную, прямо-таки нигилистическую любовь ко всему сотворенному, какую может являть лишь существо, которое все это создало.
Эту мысль можно выразить и совсем по-иному.
Человечество, тысячелетиями пребывавшее в плену нелепого и пагубного ложного представления, будто им властвует суровый и чуть ли не злобный Отец, всего за несколько дней обнаружило свою ошибку.
Оказалось, что людьми властвует Мать.
А жизнь меж тем с каждым мгновением все быстрее катилась туда, где словесные описания невозможны, в царство, для которого нет слов, — началось ОТМИРАНИЕ ЯЗЫКА.
Один из последних языковых фрагментов содержал такое послание:
ЕСЛИ БОГ ЖИВ, ДОЗВОЛЕНО ВСЕ.
(Голубой блокнот, V:1)
6
Записки и рая
Березовый лес. Болото. Первые, чуть заметные признаки, что скоро распустятся почки. До чего же быстро миновала зима! Я не очень уверен, что мне хочется весны. Я к ней не готов. Одиночество во мне набухает, как навозная куча. Самые диковинные ростки вылезают на поверхность. Сомнения.
И каждое утро мне по-прежнему страшно, что боль вернется. Всю зиму я мучился от боли. А теперь так же сильно мучаюсь от страха перед нею. Смотрю на себя: ослаб, хожу с трудом, куда больше, чем прежде, устаю от походов в лавку. За руль садиться избегаю, не столько ради экономии бензина, сколько опасаясь испытывать себя. В результате полдня потеряно, но я толком не знаю, на что бы иначе использовал это время.
Человек — странное создание, парящее между зверем и надеждой.
О смысле мироздания, о том, к какой цели устремлено всё: молекулы, молекулярные цепочки, сознание, сонеты и сестины, подземные ядерные ракеты, фрески Микеланджело, биноминальная теорема и мадригалы Монтеверди, — я на самом деле знаю не больше, чем любой замшелый камень за ульями на моем участке. Или комар. Или амеба в крохотной капле стоячей воды.
В человеческой истории до вечера еще далеко. На самом деле лишь раннее утро.
Страх сойти с ума намного глубже страха стать кем-то другим:
но ведь мы же все время и становимся другими.
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. — То, что не убивает меня, делает меня сильнее. (Ницше).
Болото. Березы. Цветочки Tussilago farfara[5] возле канавы. Бóльшая часть ульев ожила. К примеру, мой друг Никке, которого в сентябре 1952-го сбил грузовик, когда он на велосипеде поехал домой завтракать. Я часто вспоминаю его, когда вижу что-нибудь необычное, что-нибудь по-настоящему для меня интересное. Любопытно, что бы сказал Никке. «Сейчас я посмотрю на это как бы вместо тебя, Никке». Невероятно интенсивное переживание. Ведь человек во многом тождествен людям, которых он знал.
Пятидесятые годы. Какими они запомнились мне? По Стокгольму разъезжали маленькие голубые трамваи. По телевизору выступал Герберт Тингстен[6]. Референдум о всеобщем пенсионном обеспечении за выслугу лет, в котором я так и не сумел толком разобраться. Референдум о лево- или правостороннем движении, когда выяснилось, что все предпочитают сохранить левостороннее движение.
Как одевались девушки в пятидесятые годы? Кажется, они ходили в длинных, чуть не по щиколотку, хлопчатобумажных платьях с широченными кушаками? И говорили вроде бы по-другому? Я точно не помню.
Мальчишками, да и гимназистами тоже, мы летом часто удили рыбу возле шлюза Фермансбу. Медлительная, неутомимая, впрочем, нет, не неутомимая, скорее меланхоличная река Кольбексон образует там небольшой водопад, а рядом находится островок с развалинами каких-то давних лачужек, где в ту пору росло великое множество сморчков.
У южного конца этого островка расположен шлюз Фермансбу, туда ведет тропинка, окаймленная такими высокими пышными деревьями, что вся она превращается в зеленый туннель, у каменной облицовки канала колышутся вековые водоросли.
А внизу, у самого шлюза, вода глубокая, угольно-черная — не потому ли Кольбексон и называется Угольной рекой? — и в половодье вихрится черными водоворотами, которые нас, мальчишек, просто завораживали.
Уже в мае мы каждый день после уроков спешили туда, потому что у щук был как раз самый клев. Мы — это несколько мальчишек, чьи родители имели в здешних местах летние домики, да еще кое-кто из местной ребятни.
Случалось нам, конечно, и поймать иную рыбину, драматические эпизоды, когда огромные щуки вырывали у тебя из рук блестящую золотистую удочку и исчезали в глубине вместе со всем этим хозяйством в пасти, или когда здоровенные щуки уже в траве бились и трепыхались, как змеи, или когда кто-нибудь, поскользнувшись на мокром камне, падал в черную, всегда холодную воду.
Но по-моему, самым важным здесь, у шлюза, была вовсе не рыба.
Черная, текучая вода казалась сродни черному мраку в наших собственных зрачках.
Мы сидели, смотрели вниз и разговаривали, об удивительных вещах.
Велосипеды кучей лежали где-нибудь в кустах, главное — исхитриться и прошмыгнуть мимо домика шлюзового смотрителя, ведь этот пожилой дядька совершенно не понимал, зачем мальчишки ходят к нижнему шлюзу, да еще целой гурьбой. Он вечно опасался, что они начнут баловаться с воротами шлюза и менять уровень воды, а ему ничуть не улыбалось тащиться пешком за добрых полкилометра, если какие-нибудь ворота, которым положено быть закрытыми, будут стоять настежь.
(Между прочим, велосипеды играли тогда в нашей жизни огромную роль — ну, вроде как домашние животные.)
Никке был мальчуган на редкость веселый. Шустрый, как белка. Всегда бодрый и жизнерадостный. Я подозревал, что он попросту видит больше, чем другие. И слушает тоже лучше, чем другие. Именно он обнаружил, что на закате у берега можно услышать выдру. Едва внятный звук, никто из нас не обращал на него внимания, но он все время был.
Маленький, тощий, загорелый, невероятно гибкий, Никке взбирался на самые высокие сосны, просто обхватывая ствол коленками и как бы заползая наверх. По-моему, он вообще не знал, что такое головокружение. А как-то раз живьем проглотил уклейку — в доказательство, что это возможно.
Его все время обуревало желание доказать, что есть вещи, которые можно проделать, хотя никто в это не верит. Живи он в пятнадцатом веке и не попади под грузовик, он бы наверняка открыл какой-нибудь новый континент.
Вдобавок у него было, что называется, чутье на грозу, еще за несколько часов до того, как на небе вообще появлялись тучи, он знал, что будет гроза. И не в пример другим людям не беспокоился, не впадал в сонливость. По-моему, грозы прямо-таки взбадривали его, приводили чуть ли не в восторг.
Когда по воде шлюза хлестал град, так что вихри в черной воде исчезали среди сплошной пены, а мы, бросив на берегу удочки и банки с червями, опрометью мчались в заброшенную кузницу и, с трудом переводя дух, прятались среди старых железок и жгучей крапивы, где частенько попадались гадюки, Никке плясал под ливнем как маленький дервиш, зачастую полураздетый, потому что мать колотила его, если он приходил домой в промокшей одежде.
До сих пор вижу его как наяву, стоит лишь закрыть глаза — маленький неистовый дервиш, в буйной пляске, под шквалами града, на мокрых от дождя, грубых тесаных плитах семнадцатого века, возле шлюза Фермансбу.
Словно грозовой ливень был ему родным отцом.
Мальчуган, заключенный в собственной загадке.
Я часто совершенно всерьез размышляю о том, кем бы он мог стать. Рабочим на лесопилке, как его отец? Исследователем какого-нибудь острова Морнингтон? Но разве есть еще что исследовать?
Он всегда производил впечатление человека, которому предназначено нечто особенное.
У каждого из нас было собственное предназначение.
Перебирая в памяти тех, с кем меня сводила жизнь: учителей, друзей, девушек, случайных знакомцев, старых верных товарищей, родственников, — я с удивлением обнаруживаю, что среди них нет ни одного, да-да, ни одного (ни моя бывшая жена, ни моя любовница исключения не составляют), кого бы я знал по-настоящему.
Встречаешь нового человека, такого, что вызывает интерес. И пытаешься, так сказать, определить ему «место». (Я пытаюсь проделывать это даже с телеведущими, которые читают последние известия.)
Ищешь в памяти лица, похожие на те, что видишь сейчас. Медленные движения век — такие ты видел когда-то у докладчика в Объединении биологов, углы рта — точь-в-точь как у доцента-химика в Упсале пятидесятых годов. Короче говоря, интонация отсюда, а выражение лица оттуда. И воображаешь, будто все понял.
Собираешь незнакомое с помощью знакомого. Психоаналитик в своем кабинете (или как он там называется; я к ним никогда не ходил) в принципе занят тем же: столкнувшись с новым, неизвестным, собирает опыт, воспоминания, чтобы подыскать к нему ключ.
Но ведь и то, что помогает нам собирать, наши воспоминания о некогда виденных лицах, эта связка ключей, которой мы трясем, состоит из таких же неизвестностей. Мы объясняем загадки загадками.
Черт побери, это все равно что покупать новый номер губернской газеты и сверять по нему заметку, которая в собственном экземпляре показалась тебе неправдоподобной.
В сокровенной глубине каждого человека — черная как ночь загадка. Мрак в зрачках не что иное, как беззвездная ночь, мрак глубоко в глазу не что иное, как тьма самого мирозданья.
Лишь как загадка человек становится велик и вполне значителен. Лишь мистическая антропология отдает ему должное.
Никке, конечно же, плавал и нырял словно рыба. Нырял на дно глубокого шлюзового бассейна и доставал блесны, застрявшие в железных обломках, что накопились там за три века. Он цеплялся за старые древесные корни и стальные тросы, волосы колыхались вокруг головы точно водяные растения, худенькое тело вытягивалось горизонтально вдоль течения, — казалось, он летит с невероятной быстротой, будто ангел, который, лишь крепко за что-нибудь хватаясь, может навестить обычную реальность.
Поверхность воды над ним была далекой блескучей крышей. Огромные просмоленные дубовые сваи шлюзовых ворот чуть потрескивали под напором огромной водной массы, и эти звуки доносились до него как тиканье далекого исполинского часового механизма. Но Никке совершенно не боялся. Длинные водоросли глубоко внизу, у донных камней, шевелились, словно длинные женские волосы.
Лиц товарищей, маленьких узких овалов, благоговейно склоненных над краем бассейна, он не видел. И не знал, чтó за время уходило. Может статься, когда он вынырнет на поверхность, их уже не будет, может статься, он попадет в совсем другое, новое время.
Он парил. И двигался с большой скоростью. И думал: я крепко держусь. Осторожно разжимал одну руку, проверяя, хватит ли в другой руке сил, чтобы удержаться, но чувствовал, что течение слишком мощное и его тянет к шлюзовому створу, который серебряным квадратом мерцал поодаль в темно-зеленом пространстве, что окружало его сейчас.
В этот миг он углядел щучью блесну, за которой, собственно, и нырнул. Вернее, это могла быть та самая блесна.
Что-то сверкало золотом среди донного ила примерно в метре впереди.
На мгновение у Никке мелькнула мысль, что длинные колышущиеся водоросли — волосы дочерей Кольбексона, стерегущих этот сверкающий клад.
Он понимал, что единственный способ достать блесну и не поддаться течению, которое неудержимо тащит к створу (а это опасно, там не проскользнешь, только застрянешь и задохнешься), — медленно вытянуть вперед правую ногу и постараться подхватить пальцами эту блескучую штуковину.
Едва Никке завел ногу вперед, как она попала в течение. Раз за разом он тыкался пальцами в блестящее золотистое пятно, которое было, наверное, щучьей блесной, но, увы, только взбаламучивал облачко ила и оттого терял пятно из виду. Легкие разрывались от недостатка кислорода.
Мы начнем сначала. Мы не сдадимся, думал он.
А высоко над ним цвело лето. Легкий ветерок шелестел среди деревьев. Оляпка замерла над водой по ту сторону островка, в открытой части русла. Где-то вдали тарахтел трактор потребительского общества ЭПА, дешевый, сделанный из передка грузового автомобиля, такие трактора были в ходу у крестьян в военные годы, когда настоящих тракторов было не достать.
Стаи чаек неотступно следовали за трактором.
Наша округа — и все же не наша. Начало наших жизней — и все же не наших.
Никогда я не был так умен, как в ту пору. Я знал, что я здесь чужой, но знал, что и другие тоже чужие. В мирозданье ни у кого нет дома.
Когда Никке вынырнул, лицо у него посинело от недостатка кислорода. Он кое-как подплыл к берегу, и мы его вытащили, но прошло минут пять, прежде чем он смог говорить. Он лежал, ловя ртом воздух, как маленькая ильная рыбка. От него пахло донным илом, вековыми камнями, блеклыми водорослями и гнилью.
Мало-помалу мы поняли, почему, вынырнув, он так плохо плыл и почему не сумел сам выбраться на берег. Правая рука была судорожно стиснута в кулак: Никке что-то нашел.
Нам казалось, он умирает. В жаркий июньский день его тряс озноб.
— Что случилось? — спросили мы.
Сперва он вместо ответа только застучал зубами. Потом попытался что-то сказать, но лишь немного погодя произнес более-менее четко, так что мы поняли:
— Это была не блесна. Блесну я не достал.
— Тогда что же у тебя в кулаке?
Он взглянул на стиснутый кулак, будто начисто о нем забыл.
— Что у тебя там? Что?
От любопытства мы так и плясали вокруг него. Что это не блесна, сомнений не вызывало, ведь крючки давным-давно бы исполосовали ладонь.
Мы умолкли затаив дыхание.
Со дна шлюза Фермансбу Никке достал тяжелую золотую монету, золотой дукат времен Карла XIV Юхана[7], единственную, какую там когда-либо находили.
(Голубой блокнот, VI:1)
7
Рваный блокнот
Глаза отцовской сестры, тети Теклы, такие древние. Все тот же мрак мирозданья, бездна межгалактического пространства.
Тетя родилась в 1870-м в Бергской волости и до прошлого года была жива. Маленькая старушка, вперевалку снующая по хальстахаммарскому дому престарелых, с посетителями вполне разумная, на ореховом письменном столе красивая стеклянная ваза с карамельками, самый что ни на есть домашний уют.
Мне кажется, за прожитые сто лет у нее ни разу не возникло повода спросить себя, зачем она существует. Что ж, она была верующая, а религия, конечно же, объясняла все.
Я начал заглядывать (даже в потребительской лавке) людям в глаза, будто эти глаза могут сказать что-то особенное, я имею в виду, будто в них можно прочесть какой-то ответ.
А все дело в странной идее, что они способны увидеть что-то, чего не вижу я.
Вчера на стену террасы выползла ящерка, грелась на апрельском солнце.
Она сидела совсем неподвижно. Не знаю, может, я ошибаюсь, но у меня было такое впечатление, что ее окраска менялась, проходя по всей гамме оттенков серебристо-серого.
Я присел рядом, присмотрелся. И обнаружил крохотный глаз.
Его чернота была совсем иная, бодрая, трезвая чернота рептилий.
В сравнении с глазами рептилии глаза млекопитающего кажутся туманными, чуть хмельными от жарких сил жизни.
Рептилия трезвым взглядом смотрит прямо во мрак.
Бог весть, что она видит. Что-то… другое?
(Голубой блокнот, VII: 12 [последняя запись])
…с трех часов ночи, все интенсивнее, из прежней точки, с ответвлениями к ляжкам и диафрагме, поначалу на давнем, привычном уровне, потом все более жгучая.
Я знал, что мне была дана только передышка.
Но, как ни странно, я чувствую, что использовал ее хорошо.
(Рваный блокнот, II:1)
«Скорая» — 90 000.
Центральная больница — 13 71 00 (коммутатор).
(Рваный блокнот, II:2)
Рвота, прямо-таки с упорным однообразием, что бы ни взял в рот. Пусть даже воду с медом. Но если пить очень маленькими глотками, то ничего. Температура.
Прогулка к почтовому ящику — как полярная экспедиция.
(Рваный блокнот, II:3)
Собаку отдал Ольссону с хутора Скриваргорден. Короткое странное прощание. Напоследок подарил ей большой кусок сыра, но она выглядела как-то рассеянно и незаинтересованно. Таскала его из одного угла комнаты в другой. Беспокойно скулила. У Ольссона ей будет хорошо.
(Рваный блокнот, II:4)
Good night, ladies. Добрый вечер. Три дня без боли, но она вернется, паузы все короче.
Обескураживающее сходство между болью и желанием. Оба целиком овладевают твоим вниманием, заслоняют тебе все и вся, как любимая женщина. Перед ними меркнут и сводки новостей, и погода, и перемены в природе, и даже страх. Это царство, где всевластна правда.
Люди стали заглядывать ко мне почаще и без обиняков говорят, что мне нужно в больницу. Здесь, в Северном Вестманланде, народ практичный. Вестманландцы никогда не скажут: «Он умер». Они скажут: «Он покойник». Опасаются, что я «стану покойником».
Читать газету больше не могу. Читаю, то есть скольжу взглядом от слова к слову, но в каждом слове — одна лишь боль. А еще хуже ощущение, что все это меня не касается. Последние дни у них только и разговору что о каком-то «Информационном бюро».
Их проблемы уже не мои. Любопытно, что это за «Информационное бюро». Мне представляется бюро, которое может дать ответ на все вопросы:
Почему именно я?
Почему именно я обречен смерти?
Почему именно мне эта боль?
Почему именно я тождествен этой боли? Почему именно я тождествен кому-то, кто испытывает эту боль?
Почему…
(Рваный блокнот, II:5)
Эти женщины чувствовали, что я желал совсем немного, — вот в чем штука. Женщины готовы на все, если чувствуют, что ты этого желаешь.
Я желал совсем немного. Всю мою жизнь. Люди никогда не чувствовали, что мне что-то от них нужно. Последние три месяца сделали меня реальным. Это ужасно.
(Рваный блокнот, III:1)
Целую ночь рвота. Последний день апреля. Изменение окраски кожи на предплечьях. Большие коричневые пятна.
Сегодня я вдруг подумал, до чего смехотворна сама идея самоубийства.
Никакого выхода вообще не существует. Мы целиком и полностью погружены в реальность, в историю, в собственную нашу биологию. Возможность помыслить собственную смерть — следствие языкового недоразумения. Как и возможность назвать самого себя «ты». Или возможность звать себя по имени.
Чернота в зрачках тождественна черноте межгалактического пространства.
(Рваный блокнот, III:2)
1–8, вычищены, пчелиные матки в хорошем состоянии.
9–11, промерзли, не вычищены.
12–14, в жутком состоянии, возможно, матки чересчур старые, нужно проверить рамки, новые соты.
15–16, пустуют с осени 1971 года. Делать ничего не надо.
(Рваный блокнот, IV:1)
Вёсны, предлетние ветры, аромат сирени. Короткие, беспокойные волны плещутся о берег, стайки уклеек. Маленькие пожелтелые метелки сухого тростника.
Этакая стайка уклеек стоит совершенно неподвижно, будто единое тело. Откуда каждая уклейка знает, что другие тоже не двигаются?
Но вот на них падает тень, тень человека, склонившегося к воде, — и стайка молниеносно дробится, разлетаясь множеством вспышек, рыбки кидаются врассыпную, такие же стремительные, как солнечные блики в воде над ними.
Нипочем не скажешь, что они были здесь.
Когда их нет, никто и не поверит, что вот только что они были здесь.
(Рваный блокнот, V:1)
То, что происходит со мной сейчас, отвратительно, мерзко, унизительно, и никто не заставит меня с этим примириться, не убедит, что в какой-то мере так для меня лучше.
Мерзко — быть отданным на произвол идиотской слепой боли, рвоты, загадочного внутреннего распада, идиотского и наглого, какова бы ни была его причина.
Обыкновенная ересь состоит в том, что человек отрицает существование создавшего нас Бога. Куда более интересная ересь — думать, что, возможно, нас создал Бог, а потом заявить, что у нас нет ни малейших причин радоваться этому. И тем паче испытывать благодарность.
Если Бог существует, наша задача — сказать «нет».
Если Бог существует, задача человека — быть Его отрицанием.
Мы начнем сначала. Мы не сдадимся.
Моя задача в эти оставшиеся дни, недели, а в худшем случае месяцы — быть огромным, отчетливым НЕТ.
(Рваный блокнот, VI:1–3)
Я, я, я, я… всего четыре повтора — и это слово теряет смысл.
(Рваный блокнот, VI:4)
Уже почти середина мая, а по всему Вестманланду сегодня идет снег. «Скорая» приедет в четыре. Надеюсь, дороги не слишком скользкие.
Всегда можно надеяться, что несчастья не произойдут. Всегда можно надеяться.
(Рваный блокнот, VII:0)
Вестер-Вола, 1975 г.