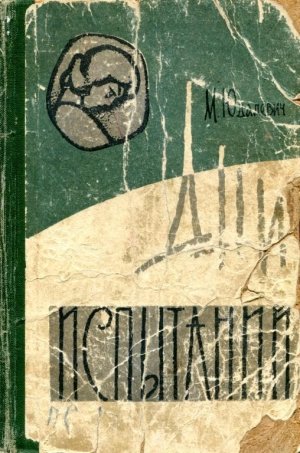
Нина заглянула в зал. У самой двери стояло свободное кресло. Нина бросилась в него. Широкая юбка вздулась колоколом и послушно опала.
Вальс кружил нарядные пары, мягко тесня к стенам нетанцующих. Впрочем, их он тоже подчинял своему ритму и настроению.
И Нине стало хорошо. Совсем, как прежде. Тем более, что она, как и прежде, ловила на себе взгляды парней. Один, неуклюжий, коренастый, смотрел на Нину неотрывно. Нагнув рыжеволосую голову, он направился к ней из противоположного угла. «Сейчас пригласит!»
Как раз в эту секунду оборвалась музыка. В зале все смешалось, будто огромный стройный механизм потерял управление. Возник беззаботный смех, веселый говор.
Коренастый парень неловко потоптался на месте, исчез, заслоненный другими. «Вот медведь!» Нина не удержалась, передразнила его. Она сжала губы, свела на переносье брови. Лицо ее стало решительным и одновременно растерянным. Оно сделалось даже курносым, как у того парня. Но все это только на секунду.
«Еще не знаю, что будет, а кривляюсь».
Нет, здесь не может быть ничего плохого. Она недаром пришла сюда. Эти стены охраняют ее. Скорее случится чудо, чем… Снова заиграла музыка. Это был любимый Нинин драматический вальс Шварца.
Рыжий, опасаясь задеть кого-нибудь могучим плечом, пробирался к ней. Но его опередил другой — высокий, со взбитым, как на опаре, коком жидковатых темных волос.
— Разрешите вас пригласить.
Нина чуть насмешливо оглядела черный костюм, сверхмодную бабочку.
— Я пропущу этот танец.
«Испугалась! Все-таки испугалась. Зачем же тогда было приходить? — пытала она себя. — Ничуть не испугалась, но уж если танцевать, так лучше с тем, с «медведем». А этот так, завсегдатай. И похож на официанта».
Медведь был уже здесь.
— Я… незнаком… Если разрешите…
Нина заметила, что не только волосы у него с рыжим оттенком, но и лицо, и глаза тоже с какой-то хитрой рыжинкой. «Себе на уме, наверное, упрямый, упрямый».
Полагалось сказать «нет» — ведь она уже ответила, что этот танец пропустит. Но Нину тянуло — скорей, скорей узнать, что будет.
Паркет был ровный, ровный. На нем особенно заметно, если одна нога короче другой. Почему она раньше не обращала внимания на паркет? Она вообще не помнила, какой здесь пол. Впрочем, это понятно, отец не раз говорил — когда был здоров, не замечал лестниц.
Каким длинным показался Нине путь в несколько шагов. «Сзади, наверное, оттопыривается платье, как у всех хромых. А «медведь», может быть, и не идет за ней, может быть, уже сбежал…»
Но парень был рядом, он осторожно обнял ее за талию и положил руку на плечо. Она поймала его взгляд — все тот же открыто восхищенный. «Не заметил, не заметил! Значит, это незаметно даже на паркете!» Она чувствовала его крепкую, но неуверенную руку. Танцевала спокойно, весело, не заботясь о том, как у нее получится. Он заговорил, и она отвечала на его вопросы беспечно, небрежно, как всегда: она знала, что скажет, что сделает — все будет хорошо, потому что она лучше всех, красивей всех. Она нравится этому парню и всем вокруг нравится ее нежно очерченное лицо, невесомые разбегающиеся кудряшки, гибкая фигурка.
Танец кончился, и Медведь так же осторожно и робко взял Нину под руку, повел ее к креслу. «Думает, я хрустальная, боится разбить», — улыбнулась Нина.
Она весело, победно оглянулась. Вокруг были такие же веселые, одухотворенные танцем лица. И вдруг словно накололась на злой, презрительный взгляд. «Кто это? Ах, тот, с коком. Злится, что танцевала не с ним, а с Медведем».
Нина хотела было уже отвернуться, но парень противно согнул левую ногу, противно захромал и громко крикнул: «Рупь двадцать! Рупь двадцать!»
Осенний злой ветер безжалостно треплет легкие Нинины волосы, шелестит пожухлыми листьями на холодном асфальте, карабкается по серым фасадам домов, кажется, вот-вот задует тусклые электрические фонари.
Вырядилась, выползла. Жалкая, какая жалкая дура! Поверила девчонкам: «Ты вбиваешь себе в голову. Никто не замечает этой выдуманной хромоты. Она уже прошла». И врач тоже: «Сейчас уже, по-моему, незаметно, а скоро пройдет совсем. Это у всех так».
Нет, надо было позвать кого-нибудь. Если бы у нее были друзья! Они бы испортили настроение этому… Впрочем, что толку. Она-то все равно хромает! Хромая! Хромая! Неотступно рядом ковыляло это слово, его не выбросить…
Надо было уйти сразу, а она еще сидела. Лицо вытянутое, погасшее. Медведь — не заметил он ничего или только сделал вид — все смотрел на нее, как на икону. Вот-вот молиться начнет. «Мы не познакомились. Меня зовут Тимофей. Если можно… я приглашу вас еще на один танец». Хорошо, что догадалась послать этого Тимофея за мороженым. Как она выскочила, когда он ушел, как бежала вниз. Да, это было настоящее бегство!
И откуда! Из клуба текстильщиков. Клубные стены все-таки не помогли ей. А ведь она считала их своими. Она помнит даже, когда их начали возводить. В то время здесь были деревянные тротуары, между досками пробивалась трава, а в одном месте вырос подсолнух, и все его осторожно обходили.
Первоклашкой Нина получила в этом клубе приз на костюмированном новогоднем утреннике. Мама сшила ей тогда костюм Звездочки.
А когда ребята в соседнем зале встречались со знаменитым летчиком, чей монумент стоит сейчас на другом конце города в яблоневом сквере, Нина преподнесла ему цветы. Он приподнял ее и поцеловал: «Расти большая, девочка!»
Здесь был вечер старшеклассников. Девочки тогда смеялись: «Ребята выстраиваются в очередь, чтобы потанцевать с нашей Ниной». А Ритка Осокина все время злилась. Они сидели рядом. И когда кто-нибудь шел приглашать Нину, Ритка краснела, вся подавалась вперед, и некрасивое, длинное ее лицо делалось еще длиннее. Знала, что не ее, а все-таки… В этом же клубе ученики пяти школ выбрали Нину царицей бала.
С тех пор ее так и звали «Царицей». И правда, Нина царила над классом.
Четыре года назад, когда ее мать, бросив семью, навсегда уехала с незнакомым Нине человеком, девочка замкнулась в себе. Все время жило в ней опасение, что кто-то с нехорошим любопытством спросит ее о матери, кто-то осудит, кто-то посмеется над случившимся. И хотя никто не думал ни осуждать, ни смеяться, Нина отдалилась от подруг. По-настоящему близок ей был только один человек — отец.
Опытный целитель — время брало свое. Исчезала замкнутость и настороженность, но все-таки никому из подруг она не открылась до конца.
Девчонки шептались, поверяли друг другу какие-то «страшные» тайны. Нина только насмешливо улыбалась.
Школьники дрожали перед экзаменами, иногда просто перед уроком — «а вдруг меня спросят». Нина была круглой отличницей. Общие тревоги не сближали ее с ребятами. «Вся в пятерках» — она была избалована похвалами, общим вниманием, подчас даже поклонением.
Весь класс вместе с классным руководителем собрался ехать на целину и захлопотал, зашумел, как птичий двор на заре. Только Нина была спокойна. Сказала, что поедет — и все. В классе острили: «Если там сохранились палатки — у Царицы будет отдельная». Выпускники уехали, кроме Риты Осокиной и Лены Штемберг. Те не могли оставить больных близких, а Нина не поехала из-за ноги.
Встреча с летчиком, вечер старшеклассников, вечер пяти школ, сборы на целину. Как давно это было! Впрочем, вечер старшеклассников — в прошлом году, а отъезд на целину — нынче. Но все равно давно! Вся жизнь Нины как бы разломилась надвое — до того, с ногой, и после. И все то, что происходило до несчастья, отодвинулось, стало давним.
Все случилось молниеносно и нелепо. Отец словно чувствовал — не хотел никуда идти, но она вытащила его. Отцу нужно бывать на воздухе. Всю жизнь он сражается с ничтожно малым, даже невидимым без микроскопа, но страшным врагом — палочками Коха. Он изгоняет их из организма своих пациентов, а палочки, вероятно, стремятся отомстить, пробраться в него.
В этот раз Нине и самой хотелось уйти из дому. Она опасалась, что к ней придут бывшие соклассницы, та самая Рита Осокина, которая всегда злилась, что танцевать приглашают не ее, а Нину, и еще Леночка Штемберг. Нине было скучно с ними. Собираются сдавать в медицинский и дрожат: «Ой, как трудно! Ой, провалимся!»
И вот они шагают рядом, как всегда касаясь друг друга. Нина старается попадать в ногу. Правда, отец ходит теперь не так быстро, как раньше. Даже иногда останавливается от боли в сердце. В семье всегда опасались туберкулеза, а навязалась стенокардия. И все-таки он не научился ходить тихо — шагает менее резко, но так же широко.
— В города, — предлагает отец.
Так повелось, что в свободное время они играют в какие-нибудь игры.
— Нет, Сергей Артамоныч, надоели мне твои города. Они все кончаются на «а» или на «к».
— Горький, — возражает отец.
— Йошкар-Ола, — лениво парирует Нина. — Нет, скука, города. Примитив.
— В балду?
Нине не хочется и в балду. Отец знает столько слов, что не спасает никакая находчивость.
— Давай в ассоциации.
Эту игру придумали они сами. Один указывает на предмет или на человека, а другой сразу же должен сказать — на кого он похож. Ответ оценивается по пятибалльной системе.
Отец показал на строящийся дом. Стены поднялись довольно высоко. Крыши еще не было. На месте будущих окон и дверей таинственно темнели проемы.
— Крепость после сражения, — определила Нина.
— Три, — ответил отец. — Не оригинально.
— Три, — согласилась Нина и указала на идущего навстречу аккуратненького старичка в широкополой шляпе.
— Назвал бы грибом, но это слишком традиционно. Торшер.
— Пожалуй, четыре.
— А куда мы входим?
Они оказались под невысокой аркой, соединяющей два огромных дома.
— Пещера — тоже традиционно и устарело. Мы внутри гигантской ракеты. Сейчас она отделится от земли. Зажжется свет…
Под аркой сделалось темнее. Совсем рядом грохотал мотор.
— Опять три. Потому что… Нина! — вдруг закричал отец и рванул Нину к себе.
Но она запнулась. В первые секунды даже не почувствовала боли в ноге, оказавшейся по колесом «Москвича».
— Что с тобой? Что с тобой, Ниночка? — беспомощно бормотал отец.
«Москвич» скрылся за углом дома.
— Нинка, ну где ты шалаешься, Нинка?
«Во-первых, Нина. Во-вторых, что это за «шалаешься?» Так нужно было сказать ровным, спокойным голосом, голосом старшей сестры. Но Нина почти крикнула:
— Что случилось?
Гришина тревога передалась ей.
— Папу, — Гриша всхлипнул, — папу в больницу…
Каким ничтожным, пустяковым показалось пережитое в клубе! Только бы папа… Только бы с папой…
— Когда? В какую больницу?
— Гри-ша, Гри-шенька, где ты? Гри-иша, Гришенька!
Никого не хотелось видеть. И почему-то меньше всего соседку. Но надо было отозваться.
— Мы здесь, Любовь Ивановна.
— Говорю ведь ему — не ходи, Гришенька. Нет, выскочил, а я за ним. Темно ведь уже и оделся кое-как…
— Любовь Ивановна, куда увезли папу?
— В больницу. — Голос ее дрогнул.
Сочувствие было дорого. Нина шагнула к Любови Ивановне, прижалась к ней. От полного, мягкого тела исходило тепло. Нина обняла маленького брата, привлекла его к себе. Так они стояли в холоде и темноте.
— В больницу увезли. Разволновался он шибко. Шибко разволновался, — начала Любовь Ивановна. — Я иду это с мясом, мясо купила… Мясо сегодня на базаре дешевое. — Любовь Ивановна перешла на повествовательный тон. В совершенстве владея той несложной гаммой интонаций, которой обычно пользуются не очень занятые, любящие посудачить домохозяйки, она не могла обойтись без ненужных подробностей.
— Иду, значит, я с мясом. А Сергей Артамонович навстречу. Гляжу, черный весь. Лица на нем нет. Однако, говорю, вы заболели, Сергей Артамонович? «Да нет, я здоров». А я вижу, какое здоров!
Нина хотела было прервать соседку — надо скорее бежать в больницу. Но вдруг услышала совсем неожиданное:
— А сам все за ворот рубахи держится. Гляжу, господи, ворот-то почти напрочь оторван. Я говорю: Сергей Артамонович, да вы никак дрались с кем? Он улыбнулся: «Почему бы, говорит, мне не подраться? И если вы, Любовь Ивановна, разгадали мою тайну, то не будете ли так любезны пришить мне воротник». Тут мне в голову и ударило: это он от Нины, от тебя, значит, хочет скрыть! Ладно, говорю, ворот я ваш приметаю, пожалуйста. Только уж вы мне все-таки объясните, Сергей Артамонович, что приключилось? Напал на вас кто? «Да нет». И опять улыбается. «Кому на меня нападать». Ну, а я не отстаю. Пало мне в голову, что тут не просто, я и не отстаю. Знаешь ведь — я пристану… Он тогда посмотрел на меня, сам какой-то измученный. Я, говорит, того негодяя встретил, который Нину машиной сбил. Сейчас, говорит, принесу вам рубашку… Ушел, и тут же Гриша бежит: «Папе плохо!..» Он как стал свою рубашку-то снимать…
— Вот так, — согнув над головой правую руку, вставил Гриша.
— Нет, вот этак, — поправила Любовь Ивановна. — Вот этак руку поднял. А в сердце-то ему и вступило. Вступило, он, бедный, шевельнуться боится…
Любовь Ивановна помнила все и обо всем порывалась рассказать: и какого цвета была машина скорой помощи, и как выглядел врач, и какой на нем плащ и ботинки, и какая с ним была медсестра, и даже шофер. Не могла вспомнить только одного — в какую больницу увезли Сергея Артамоновича.
— Сказали ведь мне, да я запамятовала. Знаю, что не в городскую, а в какую — убей меня, запамятовала…
Нина побежала к телефонной будке. Тревожно, то и дело застилая глаза, метались кудряшки. Рванула дверцу будки, но та с силой захлопнулась. Там оказался высокий парень в модном пальто и в берете. Он стоял, опершись о стенку, и пристукивал одной ногой. Стекло было разбито, и Нина слышала, как парень громко смеялся.
— Товарищ! — крикнула она. — Мне надо позвонить в больницу.
— Чудно, чудно… А вот знаешь новый курортный анекдот…
Парень говорил в трубку, не обращая внимания на Нину. «Что же это? — содрогнулась Нина. — Анекдоты? Сейчас анекдоты?»
Она снова рванула дверцу, но с той стороны ее крепко держали. В уши лез голос с нарочитым восточным акцентом.
— Слушайте, вы!.. Понимаете, мне надо в больницу… — Нина рвала на себя дверь и кричала. Голос ее срывался от волнения.
— В психиатрическую? — оторвавшись от трубки и по инерции с тем же восточным акцентом спросил парень. — Вон же телефон свободный.
Действительно, в трех шагах, с другой стороны крыльца того же дома стояла еще одна телефонная будка. Нина бросилась к ней.
— Скорая помощь, — ответил на другом конце провода женский голос. — Куда увезли? Сегодня отправляем в больницу Металлургического.
Хорошо бы нанять такси, до больницы километра два с лишним. Но у Нины нет денег. Послезавтра папина зарплата. В такие дни деньги и дома всегда были на исходе, а карманные исчезали совсем.
Автобусы как назло отворачивали тупые носы, направляясь по другим маршрутам. Нина побежала. «Ничего, через десять минут буду там. И, может быть, вернусь вместе с папой. У него не первый раз плохо с сердим. И проходило. Только бы так! Только бы вернуться вместе с папой. Если уж должно быть несчастье, пусть лучше со мной. Пусть я буду хромать, пусть врачи только успокаивают меня, что это временно. Пусть на всю жизнь! Только бы папа, только бы вернуться вместе с папой!..»
В желтоватом свете больничной приемной Нина различила женщину в белом халате.
— Отец, говорите? Казанцев Сергей Артамонович. — Женщина внимательно посмотрела на Нину. — Сейчас узнаю.
— Сестра! — позвал негромкий мужской голос. И только тут Нина заметила, что в этой узкой, удлиненной комнате немало людей. Сестра взяла у мужчины градусник и, не взглянув на шкалу, ушла в соседнюю дверь. Люди в приемной негромко разговаривали, но Нина не слышала их. Запомнился только рассудительный пожилой бас:
— Сюда каждый с одной думой идет — как быстрей назад вырваться…
«Вырваться! Вырваться! Увести с собой папу».
Вошла сестра. Пробежала глазами по лицам больных, ища Нину. Негромко сказала:
— Казанцева! Пойдемте со мной. Вас туда просят.
«Что это? Зачем? Хорошо или плохо? Надо спросить. Почему я боюсь спросить?»
Может быть, и сестра боялась ее вопросов, поэтому заговорила сама:
— Как звать-то тебя? Нина, значит. Ты скинь пальтецо. Я вот здесь его повешу. Здесь никто не возьмет. Надень халат. Без халата туда не пустят.
— К папе?
— Врачи тебя звали, Нина. В ординаторскую. Идем, идем, Нина. Вот сюда, за мной. Ты у нас бывала когда? Тут недалеко. Василий Петрович сам хочет с тобой поговорить. Василий Петрович Криницин. Профессор. Слышала такого?
Сестра говорила быстро. Даже задавая вопросы, она не останавливалась, не делала пауз.
Некрутая лестница и коридор привели их к большой светлой комнате. Здесь было много людей в белых халатах и шапочках. Когда сестра ввела Нину, голоса оборвались на полуслове. Но никто не смотрел на Нину. Все взгляды словно магнитом притягивало к высокому плотному человеку, стоявшему у окна.
«Профессор Криницин», — догадалась Нина. И, как это ни нелепо, стала упорно вспоминать, где она слышала эту фамилию. Наверное, от отца, но зачем это сейчас? Она отмахнулась от ненужных мыслей и тоже стала смотреть на высокого врача, смотреть испуганно и умоляюще, словно дело было не в состоянии отца, а в этом человеке, словно то, что он должен был сейчас ей сказать, зависело только от него.
— Казанцева? — негромко спросил врач.
— Нина, — подсказала сестра.
— Казанцева Нина, — неизвестно для чего повторил врач и также неизвестно для чего чуть приподнял белую шапочку. Из-под нее показались темные с белыми нитями волосы.
— Что с папой? — спросила Нина.
— Вашего отца привезли к нам в тяжелом, очень тяжелом, безнадежном состоянии.
Профессор старался говорить мягко, но это только подчеркивало грозный смысл его слов.
— У него…
— Он… папа… — перебила Нина и остановилась не в силах выговорить страшное.
— Да, он умер, — сказал врач. — Развязка была…
— Умер! — горестно вскрикнула Нина.
Еще войдя в комнату; она догадалась об этом, и все-таки удар казался ей предательски неожиданным.
Профессор говорил еще. Говорил о том, что смерть была неотвратима, о том, что он много слышал о Сергее Артамоновиче и вдвойне жалеет его. Нина не слушала. Горе теснило ей грудь, клонило к земле.
«Папа, папа! Как же ты мог, как же ты мог! — повторяла она мысленно. — Я не хочу, не хочу без тебя, папа. Я не буду без тебя».
И вдруг вспомнила, как капризничала дома, и там была Царицей. А отец во всем потакал ей. Особенно после того, как ушла мама. Все боялся, что ей не хватает нежности…
Вот она стоит против отца и кричит: «Уйди, ты надоел мне, надоел своей вечной опекой». Это была обидная неправда. Но Нина только что вышла из больницы, сильно хромала, волновалась из-за ноги. Осуждая себя даже в эти минуты, она все-таки продолжала выкрикивать нелепые, словно не ее, Нинины, а чужие слова.
А отец только беспомощно взглянул на нее и ушел в свою комнату.
Размолвка была короткой. Через несколько минут Нина уже просила прощения. Но сейчас все существо ее содрогнулось от боли за отца: «Папа, родной, милый, прости меня, папа»…
— Я пойду к нему, — сказала Нина.
Но врач не разрешил:
— Тело в морге, вас туда не пустят.
«Тело, — подумала Нина. — Не папа, а тело». И страшный смысл происшедшего, как-то по-новому обнаженный, дошел до нее.
Она не могла больше стоять в этой комнате. Горе толкало ее куда-то. Обогнав на лестнице полную пожилую женщину, Нина сбежала вниз, накинула пальто. Вспомнила: «На мне же халат».
В приемную вошла женщина, которую обогнала Нина. Она что-то сказала. Нина не слышала что, но в комнате вдруг грохнул дружный смех. Смеялись все — и басовитый мужчина, и модно одетая женщина, и старуха, и даже сидящий рядом с ней мальчик.
Они смеялись, а Нина дико озиралась на них и никак не могла развязать прыгающими пальцами тесемки халата.
— Миокардит — это болезнь, моя милая нянечка, а не фамилия, — добродушно сказал мужчина. — А фамилия моя Кирбенников.
— Может, и так, — ответила няня. — Я, милый, третий день здесь. Не знаю еще…
Слова ее покрыл новый взрыв смеха.
Нине удалось, наконец, сбросить халат. Она выбежала на улицу и, содрогаясь от беззвучных рыданий, ткнулась лицом в холодную стену дома. Боль перемежалась с обидой, едкой, застилающей глаза.
Смеются. Смеются сейчас… Папа лежит где-то, а они… Да что им… всем… всем… Как у телефонной будки. «Мне в больницу! Звонить в больницу». Ему-то какое дело! Он рассказывает анекдот. Может быть, смешной. А что у нее умер отец… И почему так бессмысленно, несправедливо…
— Нина! Нина! Казанцева Нина! Ну куда она успела деваться?
Это кто-то из врачей или сестер искал ее.
Хорошо, что темно, не видят. Ей никого не надо. Лучше одной, одной…
Нина завернула за угол большого здания и по безжизненной осенней тополиной аллее выбежала из больничного двора.
Отца хоронили на третий день после смерти. Выдался один из последних ясных солнечных дней осени. На полкилометра растянулась темная лента похоронной процессии. Шли врачи больницы, в которой много лет проработал Сергей Артамонович, шли его пациенты, шли товарищи его юности, щедро отмеченные сединами, лысинами…
Несмотря на многолюдство, Нине было одиноко. Единственным близким человеком был для нее сейчас маленький Гриша. Но Лена Штемберг предупредительно увела его к себе.
Нина не плакала. Только вся сжалась, притихла, опали, погрустнели ее веселые кудряшки. Весь длинный путь до кладбища она молча сидела над гробом, который стоял на открытой, медленно движущейся автомашине. Все время боялась, что вот-вот кончится этот путь и исчезнет последнее, что связывает ее с отцом.
Она неотрывно смотрела в бесконечно дорогое мертвое лицо. Как несправедливо! Нелепо и несправедливо! Ведь он спас от смерти стольких людей… «Одного человека не спас военврач», — выплыла из памяти грустная строка.
— Как живой, ну все говорят, как живой! — повторяла оказавшаяся рядом Любовь Ивановна.
«Для них, потому что им все равно», — думала Нина. Ее приводила в отчаяние и желтизна на высоком выпуклом лбу, и чуть заострившийся нос, и, главное, белая повязка, поддерживающая бессильно отвисшую челюсть. А когда голова отца жалким, беспомощным движением отметила неровности дороги, Нина едва не потеряла сознание.
— Ниночка, Ниночка, ты хоть оторвись, оторвись глазами чуток. Кругом погляди, тебе легче будет.
Нина послушно оглянулась. На заборе удобно, беззаботно восседал веснушчатый мальчишка. На тротуаре высокий пожилой мужчина вел под руку полную молодую даму. Говорил, очевидно, о чем-то интимном, так как то и дело наклонялся к ее уху. Дама улыбалась.
«Что им, что им всем!» — в который раз оскорбленно подумала Нина.
А впереди уже возник низкий неживой лес памятников, крестов, столбиков с дощечками. Машина остановилась возле невысокой желтоватой горки земли. Чьи-то руки помогли Нине вылезть из кузова. Пахнуло сыростью. Нина невольно повернулась на этот запах и тут только увидела глубокую продолговатую яму.
«Сырая могила, сырая могила». Страшный изначальный смысл этих стершихся от частого и порой бездумного употребления слов будто заморозил, сковал Нину. До конца поняла она всю необратимость случившегося. Все, что теперь делала Нина, она делала покорно, как во сне, когда какими-то недремлющими остатками мозга сознаешь нелогичность и нелепость происходящего, и все-таки, подчиняясь непонятным инстинктам, продолжаешь бессмысленные действия. Нина простилась с отцом, поцеловав его безразлично-недвижные, странно холодные губы, покорно, молча смотрела, как отца закрыли крышкой гроба, и только стук молотка на минуту пробудил ее.
— Не надо! Что вы делаете, не надо! — высоким неузнаваемым голосом закричала Нина.
Кто-то обнял ее, кто-то влил ей в рот терпкой, освежающей жидкости, и она снова притихла, окаменев.
Любовь Ивановна устроила поминки по умершему. Еще утром, объясняя всем и каждому, чем она занята (объяснения эти начинались непременной фразой: «Чтобы все было, как у людей»), соседка бегала по магазинам, суетилась на общей кухне, приготовляя свои коронные блюда — холодец и винегрет. После похорон она же пригласила всех, кого считала необходимым, помянуть Сергея Артамоновича. Список приглашенных складывался в голове Любови Ивановны по каким-то ей одной известным соображениям.
Люди за столом собрались разные, но в основном пожилые и солидные. Скорее всего солидность и была основным критерием, потому что вместе с главным врачом больницы Михаилом Борисовичем Шумаковым, вместе с другими врачами, двумя друзьями юности Сергея Артамоновича, из которых, правда, один был небольшой, сухонький, зато другой — мощный, в темных очках с нетяжелой темной седой копной волос, вместе со всеми этими людьми Любовь Ивановна пригласила только одного бывшего пациента доктора Казанцева, не в меру располневшего молодого инженера Алика Панкова.
Вначале на этих поминках Нина словно бы чуть оттаяла. Как всегда, в первый час говорили только об умершем.
Вспомнили, что в городе ходила легенда, будто доктор Казанцев воскрешает мертвых. Нина знала, откуда взялась эта легенда. Клиническая смерть, как известно, наступает раньше физической, и в эти считанные секунды отцу удалось однажды вернуть человека к жизни. При неожиданном кровотечении поток крови застыл у него в трахее, пульса не было. Когда приехал врач, родные считали больного мертвым. Сергей Артамонович перевернул его на живот, поддерживая опущенную голову, ударил по спине. Изо рта выпал кровавый ком, больной задышал. Нина несколько раз слышала эту историю, но теперь было приятно услышать и вновь думать о ней. Острая боль на какие-то минуты сменялась щемящей грустью.
И хотелось еще и еще слушать задумчивый голос инженера Панкова:
— Я после войны мальчишкой еще в диспансере лежал, так Сергей Артамонович больным из дому масло таскал. Оно тогда было по карточкам. На последние деньги шоколад покупал.
Даже чудачества отца, его непрактичность, рассеянность приобретали сейчас иной, значительный смысл.
— Сергей Артамонович ведь не от мира сего был. — Это говорит огромный плечистый главврач Михаил Борисович, говорит неторопливо, негромко, как человек, который никогда не опасается, что его перебьют. — Приехал к нам как-то из Москвы инспектор Министерства здравоохранения Лозовой Иван Егорович… Желчный был человек и придира, этот Лозовой…
Нина давно знает и эту историю, но слова ласкают и успокаивают ее… Все побаивались инспектора, некоторые лебезили перед ним. А отец настолько не обращал на него внимания, что даже по рассеянности закрыл его в ординаторской, положил ключ от двери в карман и ушел обедать…
Да, отец никогда не боялся никаких проверок, был равнодушен к похвалам, ко всяким житейским благам. Зато как волновало его течение чьей-либо болезни, как подчас угнетало бессилие врача… Да, отец… Но что они говорят?
До сознания Нины долетают обрывки каких-то фраз:
— Сергей впрямь не от мира сего был…
— Жизнь, она… Ежели сам о себе не позаботишься… Каждый для себя. Каждый за себя.
— Напрасно. К одинокому, говорят, беда и липнет.
— Алексей Никандрыч хочет, чтобы каждый стены коврами… домик… сберкнижку…
Что это? Они спорят? Не о папе говорят, а спорят. И даже Иван Савельевич, и с такой страстью. Сейчас, здесь! Нине кажется это кощунственным. Сразу она даже не верит, заставляет себя прислушаться.
Говорил Алексей Никандрович. Упоминание о коврах, домике, сберкнижке, очевидно, имело к нему прямое отношение.
— А что сберкнижка? — старик настороженно и в то же время насмешливо посматривал на сухощавого подвижного Ивана Савельича. — Сберегательные кассы у нас не заокеанские они, я слыхал, Иван Савельич, наши, советские. И вкладчики государству большую пользу дают. Мы с тобой оба счетные работники, нам это знать надо.
Иван Савельич даже не возразил, только в сердцах отодвинул от Алексея Никандровича, с которым сидел рядом, свой стул и презрительно бросил:
— Эх ты, вкладчик…
— Вы кушайте, кушайте! — поспешно вставила Любовь Ивановна. Но спор все разгорался.
— А что же, и вкладчик, — неторопливо вытирая красные губы, продолжал Алексей Никандрович. — А ты вот… — он медлил, ища подходящее определение, но не нашел его и сказал: — Любишь пустые фантазии. Сколько лет меня иначе и не звал, как «домовладелец», «домовладелец». А теперь перестал. Почему? Вот ты скажи — почему?
— Надоело, — презрительно бросил Иван Савельич.
— Надоело, — повторил Алексей Никандрович и сморщил большой, увеличенный лысиной, лоб. — Нет, не надоело. А понял ты, что впросак попал. В тридцать шестом, когда я дом ставил, ты что говорил? Чуть не чужаком меня, а? А теперь вон жизнь получше пошла, так люди и дома, и дачи…
Как им не стыдно! Здесь они имеют право говорить только о папе, только о папе! Но уже вмешался доктор Шумаков.
— Дома и дачи, — неторопливо перебил он Алексея Никандровнча. — Дома и дачи. А я вот, знаете, и сейчас не очень верю тому, кто особенно этим строительством-то увлекается.
— Конечно, частная собственность отживает, — вставил и Алик.
— Отживает! — насмешливо сморщил лоб Алексей Никандрович. И видно было, что вмешательство Михаила Борисовича и Алика скорее заинтересовало его, чем смутило. — А ведь вот спросите-ка его, — Алексей Никандрович небрежно указал вилкой в сторону Ивана Савельевича. — Спросите-ка его, не говорил ли он мне этого в том же упомянутом тридцать шестом. А я сам вот в своем доме век доживаю. И деткам его завещал.
— Завещатель, — сверкнул очками Иван Савельевич.
— А что ж, и вкладчик, и завещатель. Было бы что завещать…
Алексей Никандрович оглядел комнату и громко вздохнул:
— Ох-хо-хо. Жизнь человеческая!
«Он папу осуждает, папу! И чего он здесь? Папа же его недолюбливал. И не ходил он к нам последнее время».
Нина, забыв о том, что она хозяйка, что Алексей Никандрович в ее доме, давно уже смотрела на старика, да и на остальных с откровенной неприязнью. Старик заметил это, но только вздохнул: «Эх, молодо-зелено».
Нина поймала на себе сочувствующий, понимающий взгляд Алика. Заметила, как Алик наклонился к Михаилу Борисовичу, что-то шепнул ему.
— Вы правы, — своим негромким, спокойным голосом подтвердил Шумаков. — Вы правы.
И вновь заговорил о покойном Сергее Артамоновиче. Другие гости поддержали его. Но Нина почти не слушала их. Зверьком посматривала она на всех и особенно на Алексея Никандровнча.
Противный старик! А может, он и прав… Каждой за себя, каждый для себя.
Профессиональные навыки проявляются подчас неожиданно. Телеграфист услышит прерывистый сигнал автомобиля, а в мозгу отложатся точки и тире, тире и точки азбуки Морзе. Парикмахер, уверенный, что он бреет незнакомого человека, вдруг узнает его по капризной или наоборот слишком податливой бороде.
Тимофей шел длинной, прямой тополиной аллеей. И она казалась ему вертикальной штольней. Тимофей был высотником. Он привык смотреть сверху, и поэтому нередко улицы опрокидывались в его сознании.
Тимофей шел на работу. Путь был неблизкий. Семиэтажка общежития, в одной из скромных комнат которого стоит его по-солдатски заправленная койка, находится неподалеку от новой теплоэлектроцентрали. В прошлом году Тимофей изучил каждую щербинку на крыше своего дома. Она как на ладони была видна с турбины ТЭЦ. А нынче бригаду высотников перевели на стройку механического завода. Коренастые корпуса поднимались в лесу, в противоположном конце города. Строители добирались туда в заводских маленьких, но неправдоподобно вместительных и вертких, словно беспозвоночных, автобусах.
Тимофей иногда, правда не часто, проделывал этот путь пешком. В большинстве случаев это был обратный путь. Утром он успевал только позавтракать и добежать до автобусной остановки. К тому же с утра надо беречь силы. Высотник должен быть всегда в хорошей форме.
Но сегодня… Сегодня Тимофей сам не переставал поражаться себе. Впрочем, началось это еще вчера, после исчезновения Нины. Тимофей сразу даже и не поверил в него, потом удивился: «Кто ее мог похитить?» Неловко, мешковато, как груженая баржа в узком месте реки, Тимофей повернулся в одну, в другую сторону. Нины нигде не было.
Длинноногая белесая девушка, озорно указывая на Тимофея глазами, кивнула толстенькой подруге. Обе засмеялись. «Знают, где Нина», — решил Тимофей. Он шагнул к ним — спросить, но тут же остановился… По тщательно отглаженным серым брюкам текли молочные ручейки. Вот над чем они смеются! Тимофей швырнул в урну подтаявшее мороженое и пошел к выходу, бережно, как это делают люди незаурядной физической силы, отодвигая с пути встречных.
Тогда и началось небывалое.
Если бы какая-нибудь другая девушка, например учетчица Юлька, с которой Тимофей иногда ходил на танцы, поступила с ним, как Нина, — послала бы за мороженым и исчезла, Тимофей, не раздумывая, оскорбился бы и вычеркнул ее из числа своих знакомых. А сейчас у него не было никакой обиды. Он только и мечтал о новой встрече с Ниной, ругал себя за то, что не спросил, где она работает, живет. Он не испытывал ни неловкости, ни, к своему удивлению, досады, наоборот, ему было хорошо-хорошо вспоминать, как он подошел к Нине, как она положила свою, словно тонкой резьбы, легкую руку на его плечо, как необыкновенно танцевала.
Тимофей потерял Нину, а было у него ощущение драгоценной находки.
С этим ощущением, не обращая внимания на непогодь, он долго колесил по пустынным, пронизанным ветрами улицам, с ним пришел домой, с ним заснул, а проснувшись, прежде всего убедился в том, что это ощущение не потеряно.
Оно не давало обычно неторопливому медвежастому Тимофею сидеть на месте. Вытащило его из общежития, повело пешком через весь огромный город.
У него, у этого ощущения, было множество небудничных, почти колдовских свойств. Оно умело, например, сокращать расстояние. Тимофей, не заметив, проходил самые глубокие штольни улиц. Но это еще пустяки. Оно проделывало с обычно рассудительным, неторопливый Тимофеем такие штуки, что он не успевал дивиться себе. И при этом как будто хвасталось: «Я еще могу, я еще могу».
Увидел Тимофей афишу — «Мотогонки. Закрытие сезона». И вот он уже с бешеной скоростью, обгоняя всех гонщиков, несется по пересеченной местности, на крутых поворотах почти приникает к земле, чтобы сократить расстояние, делает головокружительный прыжок с обрыва. Даром что никогда не ездил на мотоцикле!
И конечно первым под аплодисменты и приветственные крики рвет финишную ленту.
Высокая девушка с легкими светлыми волосами преподносит ему цветы. «Нина, куда же вы тогда сбежали? Теперь не сбежите!» «Не сбегу».
— Сдурел, свихнулся, — пожимает плечами Тимофей. — Такой медведь, иду — земля гнется, а кто бы узнал, что в голове…
И тут же, сразу он уже спасает Нину, уносимую быстрым течением реки. Потом шлет ей сигналы из космоса, потом она встречает его, возвратившегося в родной город после межзвездного полета…
И как раз в этот момент он увидел Нину. Она шла навстречу. Тимофей удивленно заметил в руке у нее паспорт и еще какие-то бумаги. Она несла их, как носят важные бумаги или деньги дети — зажав в чуть выставленной вперед руке. За ночь она сильно изменилась, казалась грустной, потемневшей и даже похудевшей, но еще более, чем вчера, нежной, славной. Ошеломленный, Тимофей приостановился, загородив своей плотной фигурой добрую половину тротуара. Она прошла мимо, не подняв головы, не заметив его. До него долетел только едва уловимый аромат вчерашних ее духов. Тимофей не ощутил бы аромата, если бы не узнал его.
Она скрылась за поворотом улицы. Тимофей не остановил ее. Не только потому, что, по-видимому, ее не так трудно встретить: если встретил сегодня, значит, встретит еще не один раз. Больше потому, что эта встреча после всех мыслей, которые против воли взяли его в плен, казалась уж слишком прозаичной.
Перемены в Нине не встревожили Тимофея. Он не верил сейчас в самую возможность несчастья, как в летний зной не очень верится в то, что бывает снег и мороз.
В проходной стройки Тимофей появился задолго до гудка. Он опасался всяких вопросов и намеков — их мог вызвать и вчерашний поздний приход и утреннее одиночное путешествие. Обычно такие намеки не трогали его. Он не из тех, кто заводится с пол-оборота. Но сегодня ему не хотелось их слушать. Сегодня все было не так, как всегда.
Опасения Тимофея оказались напрасными. Ребята отчаянно спорили с Ваней Латкиным. Ваня Латкин был мастером. Право на эту должность, занимаемую чаще всего немолодыми людьми, дал Ване не только диплом, но и точный глаз и острый инженерский ум.
Ваня, как и другие высотники, успел за свою жизнь немало повидать. Довелось ему строить турбину даже в далекой Индонезии. Тем не менее, Ваню никто не звал Иваном Бонифатьевичем, как он усиленно рекомендовался всем на своем участке. Может быть, в этом было виновато отчество «Бонифатьевич». А скорее Ванин петушиный характер, которому, впрочем, вполне соответствовал его вид. Все у него было торчком: и вихры, и нос, и поставленные чуть не перпендикулярно шее уши. Вдобавок он еще заикался, как бы взъерошивая почти каждое слово.
Сейчас Ваня возбужденно мельтешил своим хохолком в центре группы молодых рабочих.
— Значит, нет жизни на Венере, нет? А откуда тогда венерианский календарь на земле? Объясните, откуда?
— Случайное совпадение! — выкрикнул длинноногий Боря Трубников, лучший сварщик в бригаде. Вид у него при этом был такой: что, съел?
— Конечно! Факт! — поддержало Борю сразу несколько голосов.
— А рисунки людей в скафандре — тоже случайное совпадение? — петушился Ваня.
— Ну, если подобные ассоциации принимать за доказательства… — Борька презрительно пожал плечами… — Тогда и Библия…
— А что Библия — в ней тоже отразились события.
— Бабушкины сказки.
— На ней только доказательства строить!
— Я ее как хочешь истолкую, — посыпалось со всех сторон.
— Ладно, — решительно заявил Ваня. — Ладно, я вам не буду приводить никаких доказательств. Что там, когда люди лишены фантазии! Скажу только одно: если хотите знать, не признавать жизни на других планетах — это все равно, что верить в бога.
— Да ну? — насмешливо протянула всегда умеющая откуда-то незаметно вынырнуть ехидненькая учетчица Юлька.
— А как же? Почему же тогда во всей вселенной жизнь только на Земле, что мы за исключение такое? Эх… в… вы, м… мракобесы.
Последнее Ваня бросил уже на ходу. Перед сменой у него были неотложные дела.
Тимофею не хотелось спорить. К нему пришли незнакомые славные мысли, под стать его настроению. «Когда-то земляне прочтут книгу «Перевод с венерианского». Что это будет? Стихи, неслыханные, звездные. И, может быть, необыкновенно робкими, схожими друг с другом, покажутся наши земные новаторы. А может быть, это будет роман, перед которым побледнеют «Война и мир» и «Прощай, оружие». В магазинах будут продавать звездные материи, на перекрестках — звездные цветы».
Спор прекратился только с началом работы. В половине девятого вспомогательные рабочие были уже на своих местах. Не спеша собирались только высотники. Они брали из ящиков электроды, засовывали их в карманы, прижимали поясами. Неторопливо, вразвалку шли к будущему турбинному цеху. Именно за эту, отчасти демонстративную, неторопливость подсобники окрестили их аристократами. А неторопливость эта объясняется просто. Люди, работающие на больших высотах, как правило, не пользуются обеденным перерывом: подъем и спуск занимают слишком много времени. Они съедают свои бутерброды, пьют чай из термосов, примостившись между небом и землей на какой-нибудь балке или площадке. Поэтому они и начинают работу на несколько минут позже.
Тимофей шел первым. Он подошел к сваренной арматуре, которая устремлялась к стеклянным крышам, и цепко полез вверх. Ему вдруг захотелось быстрее оказаться на той, удаленной от земли сорокаметровым расстоянием, площадке, где он вел сварку…
Говорят, к высоте привыкают. Начинается это чаще всего при кирпичной кладке многоэтажного дома. Стены дома растут от кирпича к кирпичу. Поднимаясь вместе с ними, строители незаметно для себя оказываются далеко от земли.
— Привыкай! — учат бывалые строители новичков. И, кивнув на неширокую доску, переброшенную между стенами где-нибудь на уровне шестого-седьмого этажа, поясняют:
— Здесь пробежать — оробеешь. А будь она такая же на земле — прошагал бы и не заметил. Значит, дело нехитрое. Главное — привыкай.
Тимофей ходил по перекрытиям, как будто они не рассекали воздух на высоте четырех десятков метров, а лежали внизу, на затоптанном грубой обувью строителей бетонном полу. Лишь иногда, то ли не вовремя глянув вниз, то ли что-то вспомнив, Тимофей давал себя сковать безотчетному страху. Но это было только на секунду или на долю секунды. Он тут же прогонял подкравшийся на бесшумных лапах испуг и быстро забывал о нем.
В этом смысле Тимофей привык к высоте. А вообще считал, что привыкнуть к ней невозможно, как невозможно, например, привыкнуть к морю или снежным вершинам. Потому что привычного не замечаешь, привычное не волнует. А высота всегда хорошо, приятно волновала его.
Добравшись до своего рабочего места у будущего распределительного щита, основу которого он сваривал, Тимофей сел на балку и приготовил электрод.
Голубая вспышка на секунду ослепила его, он опустил щиток. Теперь электрод исчез, перед глазами плясал зеленоватый огонек, вспарывающий железо. Наконец, Тимофей нашел применение хотя бы частице бушевавших в нем сил. Даже не поднимая щитка, чтобы глянуть на шов, он чувствовал, что идет по разметке. Азарт работы охватил его. Он не знал, сколько минут или часов вел сварку. Усталости не было. Вдруг внизу послышался голос мастера, усиленный рупором:
— Кузьмин, почему не закрепился?
Только сейчас Тимофей заметил, что он забыл закрепить предохранительный пояс.
— Закрепись, Тимочка, еще сорвешься.
Это насмешничала вездесущая Юлька.
— А тебе жаль будет?
— Тех, кому придется за тебя отвечать.
— Да ну!
И тут, будто его кто-то толкнул, снова попав во класть озорной силы, которую он никак не мог растратить, Тимофей откинул щиток, шагнул на балку и… сделал… стойку на руках.
Еще во время непродолжительной стойки Тимофей услышал, как кто-то ахнул, вокруг прекратился треск сварки и раздался возмущенный от волнения, больше обычного заикающийся голос Вани.
— Кузьмин, н-немедленно вниз! Слышите, К-кузьмин!
Тимофей стал спускаться. В обычное время он спускался бы не торопясь, давая Ване остыть. Но сейчас пренебрег даже и этой предосторожностью.
— Ты… что… т… ты что? — ерошил слова взбешенный мастер. Юркий, худенький, он по-воробьиному наскакивал на крепкого, широкого в кости Тимофея. — Отстраняю тебя, слышишь, отстраняю. — Ваня сделал тонкой загорелой рукой решительный отстраняющий жест. — Пойдешь электроды зачищать.
Эту работу поручали новичкам, впервые появившимся на стройке.
— Есть зачищать! — с готовностью и необычной для него поспешностью ответил Тимофей.
Эта готовность, с какой Тимофей принял позорное наказание, еще больше возмутила Ваню. Возмущенный, всклокоченный, не находя слов, он отчаянно дергал себя за вихры.
— Эх ты, т-тебя еще народным заседателем выбрали! — наконец, выкрикнул мастер вслед уходящему Тимофею.
Ваня и сам понимал, что этот аргумент, к тому же пришедший с некоторым опозданием, прозвучал смешно. Но негодование его было так велико, что он не смог удержаться.
Впрочем, Тимофей не слышал его. Он был занят другим. Путь к ящикам с электродами лежал мимо бригадной конторки, куда успела нырнуть учетчица Юлька. «Наверняка привяжется и будет донимать своими насмешками».
Больше всего Тимофею не хотелось сейчас беседовать с Юлькой. Юлька вела себя с Тимофеем, как с другими: насмешничала, кокетничала и в то же время держалась недотрогой. Но Тимофей знал, как в подобных случаях безошибочно знает любой парень, что Юлька относится к нему иначе, чем к другим. Подчас он даже пользовался этим, пользовался бессовестно и легкомысленно.
Несколько раз Тимофей приглашал Юльку в кино или на танцы с единственной целью — развеять плохое настроение. Юлька всегда умела это сделать, и Тимофей даже не знал, что она догадывается о своей роли, пока однажды Юлька не сказала:
— А я неплохой громоотвод. Правда ведь?
Быть с Юлькой сейчас, когда весь он переполнен вчерашней встречей! Нет, это совсем ни к чему.
Однако в том, что гордо запрокинутая Юлькина головенка с искусно растрепанными волосами окажется сейчас рядом, Тимофей не сомневался ни на минуту. Во-первых, кто-кто, а Юлька не пропустит случая посмеяться над ним. «Ну, как, в цирк переходишь? По городу уже афиши клеют. Мне по старой дружбе контрамарки будешь давать или… по билету?»
Нет, пожалуй, что-нибудь похлеще, поехиднее придумает. Да разве можно догадаться, что выкинет, что откаблучит Юлька!
Но Юлька, к удивлению Тимофея, не вышла из конторки. Тимофей опасливо глянул в открытое окно и удивился еще больше. Юлька была другая, непохожая на себя. Она сидела тихая, чуть наклонив голову и невесело задумавшись.
Тимофей без улыбки подумал, что Юлька сейчас сильно походит на свою старую бабку. И смотрела она точно, как подчас смотрела бабка — немного насмешливо, но насмешка эта была печальной и самоуглубленной, как будто относилась не к окружающим, а к самой себе, к каким-то своим грустным-грустным незадачам. Такой серьезной, такой мудрой Тимофей никогда не видел Юльку. Он даже с уважением представил себе Юльку старой.
— Нинка! Ниночка! Ну, что ты на самом деле? Ну, нельзя же так. Ты будто застывшая. Ведь уже столько дней прошло. Ну, улыбнись хоть раз. Тебе же легче будет. Ну, вспомни хоть нашего Радикала. Помнишь, как Мишка Терешин ему ответил. Радикал все говорил: «При каком условии я могу дать вам отличные знания? При абсолютной тишине». Вызвал Мишку к доске, спрашивает: «При каком условии икс здесь будет равен нулю?» Мишка говорит: «При абсолютной тишине». Ну, ведь смешно, правда? Ну, Нина, Ниночка, ну что ты, как каменная?
— …Я там велел дров вам привезти. И вообще, если нужна будет какая-нибудь помощь… Может быть, работать надумаете. Можно к нам же, в диспансер. И учиться будете без отрыва от производства…
— … Что ни говори, маловато оставил Сергей Артамонович. Ох, маловато! Вот она ирония-то — «домовладелец», «вкладчик». А сейчас ты послушай меня, старика: полный резон тебе Гришу пока в детский дом пристроить. А самой учиться на стипендию. Выучишься, а тогда и братишку поднимешь. Так бы надо-то. Думай! Ведь жить надо. Человек-то, он как поезд. Что бы внутри ни делалось, а он все идет и идет. Смеются там, целуются, а может, дерутся, может, убили кого, а он все идет, все идет…
Словно из глухого далека доносились до Нины и высокий голос подруги Леночки Штемберг, и неторопливый приглушенный бас Михаила Борисовича, и вкрадчивый старческий тенорок Алексея Никандровича.
Как за марлевой занавеской, в тусклом сером мире двигались перед ее глазами люди. Это горе приглушило все голоса, стерло краски, притупило чувство. Все советовали, предлагали, настаивали, все убеждали, что так нельзя, что надо жить, живое о живом… Нина слушала, и у нее была одна мысль: «Поскорее, поскорее бы они ушли». Ей все время хотелось остаться одной. Казалось, что одна она будет ближе к отцу, наедине с ним.
А когда все уходили, бесцельно бродила по комнатам, зябко кутаясь в мятый халат. В этом халате она теперь жила, не снимая его ни днем ни ночью. Переходя из комнаты в другую, почти равнодушно отмечала, что бесследно проходит ее хромота. Очевидно, правы были врачи — перелом малой берцовой кости не такое уж страшное дело. Нога срослась хорошо, хромота была только временным остаточным явлением. «Как ждал этого папа, как ждал!» — с болью думала Нина.
Иногда она подолгу стояла возле аквариума. В последнее время Нина полюбила этот небольшой, заросший водорослями мирок. С рыбами было хорошо, они по крайней мере молчали, неутомимо передвигаясь и посверкивая разномастной чешуей. У них, оказывается, совершенно разные характеры. Меченосцы — вздорные, задиристые, ни с того, ни с сего гонялись друг за другом, а то и за другими рыбками, норовя не то укусить, не то ударить их. Гурами — ленивые, грузноватые, передвигались солидно, шевеля своими, похожими на удлиненные тараканьи усищи, плавниками. Вьюны все время жались ко дну, терпеливо копаясь в иле, разыскивая себе пропитание. Зато изредка поднимаясь наверх, они извивались всем телом, как стиляги, танцующие свои роки и твисты.
Рыбы напоминали Нине знакомых, почти каждой из них она дала имя.
Серенькую веселую и суетливую рыбку Нина назвала Леночкой в честь Лены Штемберг. Небольшой быстрый лялиус был наречен Иваном Савельевичем. Гурами — большая, но поворотливая — была Любовь Ивановна. Словно пронизанная солнцем розовая дания напоминала Тимофея; славный парень, который так осторожно, как будто она была хрустальная, танцевал с ней, иногда возникал в ее памяти. А вьюна она хотела назвать по имени того завсегдатая, оскорбившего ее на танцах, но не знала, как его зовут, и вьюн был окрещен просто подонком.
Одной Нина оставалась недолго. Если никого не было, прибегал Гриша. Он больно бередил Нинину рану. Товарищи во дворе рассказали мальчику, что его папа умер, с детской жестокостью во всех подробностях объяснили, что это значит.
— А правда папа умер? — спрашивал Гриша. — И он больше не придет? Я знаю, не придет, его в землю закопали.
То и дело, как в свою квартиру, врывалась Любовь Ивановна. Кормила Гришу, заставляла и Нину съесть бутерброд или выпить стакан бульона, а чаще что-то брала, что-то приносила обратно, каждый раз пространно объясняя цель своего появления.
Лишь ночью Нина часами оставалась наедине с собой. Тогда, не в силах уснуть, она думала. Еще в больнице, когда Нина лежала в гипсе после перелома ноги, стали приходить мрачные мысли. Казалось, прочно забытые, они возвращались теперь к ней, приводя с собой новые, еще более черные. В ее жизни произошло нечто такое, что может случиться с поленницей дров, если изнутри ее вытащить несколько кругляков: все безудержно с грохотом покатилось вниз.
Какие-нибудь полгода назад директор их школы ораторствовал на выпускном вечере: «Переступив порог школы, вы выходите в большой светлый мир». Или, как он еще говорил, — «в радостное завтра».
Уж кто-кто, а она-то шла в это завтра с открытой душой, шла веселая, доверчивая. Разве она хоть на минуту сомневалась, что это завтра встретит ее доброй и даже восхищенной улыбкой?
И вот хулиган, которого она даже в глаза не видела, сначала сломал ей ногу, чуть не сделал ее хромой, а потом довел отца до сердечного припадка.
Что еще тогда говорил директор? Впрочем, разве один директор? Это всегда говорят в школе. И разве только в их школе? Этому учат с первого класса, если не с детского сада.
Коллектив — защита от всех бед. Никогда не отрывайтесь от коллектива. Коллектив не даст вам свернуть с правильной дороги, поможет в любой беде.
А чем поможет ей коллектив, если отец умер? Что он, вернет ей отца?
Да, есть личное горе, мое горе, моя печаль и никто тут ни при чем, никто! И при коммунизме любая девушка может сломать ногу, стать «рупь двадцать». — И ничего тут не сделаешь.
Иногда Нине приходило в голову, как принял бы эти мысли отец. Она знала: он бы не согласился с ними. Больше того, отец без следа развеял бы ее мысли. Но отца не было, и Нина не сопротивлялась этим мыслям. «И пусть, и пусть»… — говорила она себе.
Из оцепенения Нину вывел как будто незначительный случай. Утром, когда Гриша еще спал, Любовь Ивановна позвала ее на кухню.
«Опять кормить», — подумала Нина. И где-то под пленкой безразличия ко всему на свете шевельнулась благодарность к этой женщине.
— Знаешь, что я надумала, Ниночка, — Любовь Ивановна говорила виновато и торопливо. — Хочу столы передвинуть — твой сюда, я мой на его место. Мой тоже неплохой. Он, правда, сделан грубовато, но прочный. А ваш, видишь, он раздвижной. Тебе все равно много не готовить, а мне… Видишь, у меня одного этого добра, — Любовь Ивановна показала на сгрудившиеся на ее столе электроплитку, примус, керогаз. А ты мой-то столик досмотри. Нет, ты посмотри, зачем же вслепую? Уютный, правда?
Нина безразлично взглянула на столик, пробормотала «Да, да».
— Вот я и хочу. У тебя и утвари этой меньше, и готовить ты особенно пока…
«Да, да, о чем говорить», — хотела было согласиться Нина. Но Любовь Ивановна тараторила, не давая ей вставить слово.
— Тебе здесь удобнее будет. Куда удобнее. И мы с тобой будем в расчете. Полняком в расчете.
«Полняком в расчете» — резнуло Нину.
— Из отцовских денег, что тогда из больницы принесли, я ведь только пятьдесят один рубль взяла. А остальные все мои, все мои… Шутка ли такую ораву накормить, напоить, чтобы все было, как у людей… Да и теперь вот… — Любовь Ивановна вдруг осеклась. Нина смотрела не тем безразлично-благодарным взглядом, к которому она уже начала привыкать. Она смотрела совсем иначе, отчужденно и даже брезгливо. «Вот оно! Я думала, она… А она выгадывает «за труды»…
Любовь Ивановна растерянно топталась по кухне.
— Я ведь так. Для тебя. Мне самой что… Я бездетная, я… Да мне зачем? Мне миллион рублей давай…
— Возьмите, переставьте, сделайте, как вам удобнее.
Нина вышла из кухни. «Дрянь, какая дрянь! Захотела заработать. Заработать на поминках, на папиной смерти. А я-то, я-то думала — она от доброты, от чистого сердца…
Надо все самой. Все самой. Ни от кого ни в чем не зависеть. И, прежде всего, устроиться на работу. Пока нечего мечтать об институте. Только на работу…»
Извечный шум, неистребимая веселость улицы снова оскорбили Нину. Она понимала — нельзя обижаться на то, что жизнь не остановилась со смертью ее отца. И все-таки ей было обидно, что здесь все так же, все по-прежнему и никому нет дела до ее огромного несчастья.
Куда пойти? В школу пионервожатой? Беззаботные девочки сидят там за партами. Перешептываются с подругами, косятся на мальчишек. Смотрят вокруг наивными-наивными, не знающими горечи настоящих слез глазами.
В папин диспансер, как предлагал главный врач? Зайти в папин кабинет, где на столе лежит его стетоскоп, в стенном шкафу висит его халат.
Можно на ткацкую фабрику. Там они проходили школьную производственную практику. Нина имеет разряд. Только еще побаливает нога. Не выстоять семь часов у станка.
Но тогда куда же?
Нина подняла глаза, и они остановились на вывеске — «Райком ВЛКСМ». Вряд ли она могла бы объяснить — шла сюда или случайно здесь оказалась. Но именно сюда ей и было надо. Нина не хочет никого просить. Даже друзей отца нужно просить. А здесь ей обязаны помочь.
У секретаря райкома комсомола короткая, странная фамилия — Зуб. Решительная и острая, эта фамилия не отвечала его наружности — детски припухлым губам, нежному румянцу на щеках. И в то же время служила основой для нехитрых каламбуров: «Зуб на тебя имеет зуб», «Зуб дает по зубам».
Зуб сидел за огромным письменным столом, подчеркивающим его маленький рост. Напротив в кресле — девушка. Меховая шапочка лихо заломлена набекрень. Лицо миловидное, нежное, но смелое. Зуб кивнул Нине на другое кресло.
— Я же говорю: в театре почему-то отложили эту премьеру, — сказала девушка.
— Так… Значит, сорвали коллективный просмотр.
Зуб заговорил таким неожиданным для него густым басом, что Нина оглянулась — не включен ли где репродуктор.
— Я же объясняю: спектакль отложили. — Девушка пожала плечами.
Зазвонил телефон.
— Здравствуй, здравствуй, — неправдоподобно басил Зуб. — Как не можете? Оркестр должен выступать. Дирижер? Что с ним? Простыл? Так, значит, простыл… — недоверчиво повторил Зуб и, видимо, почувствовав, что пересолил, осторожно покосился на присутствующих. Но продолжал тем же тоном:
— Ладно. Это все объективные причины. Все объективные, ясно? А выступления срывать нельзя. Точка! — Зуб положил трубку.
«Зря я к нему, — подумала Нина. — Он, кажется, только одно знает: «срывать нельзя».
Девушка снова заговорила об отложенной премьере.
— Разве не уважительная причина? — чуть насмешливо закончила она.
— Причина, Галя, всегда найдется. Мне их столько приносят, начни складывать — до потолка не уместишь, — басил Зуб. — Ты бы вот пришла и сказала: было трудно, но мы сделали то-то и то-то.
— Что ж мы, сами спектакль поставим? — девушка еще сильнее сдвинула шапку набекрень.
— А это уж я не знаю. Не знаю… Думаю, не на одном спектакле свет клином сошелся.
Девушка стала прощаться. Она протянула Зубу руку. От двери насмешливо добавила:
— Знаешь, Андрей, с тобой говорить, ох, крепко надо пообедать…
— А ты подумай, Галя… — начал было Зуб.
— Есть подумать, — перебила его Галя и, встав по стойке «смирно!», приложила руку к козырьку. Зуб хотел еще что-то сказать, но девушки и след простыл.
— Слушаю вас, — обернулся секретарь к Нине.
— Может, я не по адресу. Мне надо на работу.
— Образование? — заинтересованно пробасил Зуб.
— Одиннадцать классов.
— Так. А что у тебя случилось? — спросил грубовато, но просто, участливо.
— Почему вы так решили?
— Посидишь здесь с мое, будешь все понимать. Да не гордись, не гордись, рассказывай.
«Нет, он, видимо, не только знает, что «нельзя срывать», — с невольным уважением подумала Нина. Зуб начинал ей нравиться.
Узнав о ее горе, он пересел в кресло напротив.
— А еще кто есть в семье?
В дверь заглянула чья-то вихрастая голова.
— Подождите, — бросил секретарь.
Он внимательно расспросил Нину об отце, брате, могучий его бас звучал теперь смягченно, дружески.
— Учиться, наверное, думала? Где? Иняз. Ну, это можно заочно. Освоишься на работе, посмотрим, — секретарь помолчал, раздумывая. — Если в торговлю тебя направить?
— В торговлю? — переспросила Нина.
— Вот сейчас девушка здесь сидела, — не ответив, продолжал Зуб, — Галя Воронцова из семнадцатого продуктового магазина. Мы как раз с ней до тебя кое о каких делах говорили. В торговле нужна молодежь, честная, энергичная молодежь.
Нине даже немного польстило, что она оказывается кому-то нужна. В то же время она представила себя за прилавком. «Что вы хотели? Может быть, вас заинтересует еще вот это? Отрезать? Завернуть?» Она, она Нина! Нина, которую звали Царицей, — за прилавком! Она обслуживает покупателей. Вот до чего дошло!
— Я подумаю, — попросила Нина.
— Конечно, — согласился Зуб. — Надумаешь — заходи, не надумаешь — тоже заходи, что-нибудь другое предложим. Не сразу, конечно, но найдем.
— Спасибо, товарищ Зуб.
— Меня Андреем зовут.
Торговля… Еще вчера чужое слово вторглось в Нинину жизнь, заставляло думать, требовало скорого ответа.
Если бы Зуб сказал: иди, поработай в магазине, ей бы не пришлось столько размышлять. Наверное, сразу бы отказалась.
Но Зуб сказал: «Иди в торговлю. Там нужна молодежь».
Знакомые Нины, которые сразу же горячо взялись обсуждать эту новую проблему, еще больше запутывали ее.
— Вот дело, дело! — частил своим тенорком Алексей Никандрович. — Пристроишься, по крайности, сыта будешь. Знаешь, — морщил он свою лысину, — у воды поселишься — от жажды не помрешь. Ну, а если замочишься…
— Не пойду, — решила Нина. — Раз он советует — не пойду…
Но советовал и Иван Савельевич:
— Иди, Нина, иди. Раз комсомол посылает, стало быть, ты там нужна. А раз нужна, значит, иди.
Иван Савельевич, оказывается, мыслил так же, как и Зуб. Посылал ее в торговлю, а не «пристроиться» в магазин…
Леночка Штемберг, узнав такую новость, долго молчала, теребя перекинутую на грудь пышную темно-русую косу. Эту Леночкину привычку в классе все знали. Она бралась за свою косу, как только попадала трудная математическая задача, нередко принималась за нее у доски…
— Трудно тебе там будет, Нина, — наконец, серьезно заговорила Леночка. — Девушки там, ты знаешь, совсем, совсем другие. С ними в ассоциации не поиграешь. И даже о поэзии не поговоришь… Совсем другие там девушки…
— Иди, Нинка, — затараторила Рита Осокина. — Возле тебя, знаешь, сколько покупателей будет. Всякие — молодые, красивые. А халатик белый тебе, знаешь, как пойдет… — На глазах Риты вдруг сверкнула слезинки.
— Ты что, дурочка? — строго спросила Леночка.
— Так, — пролепетала Рита, — так, я подумала: Нина — и вдруг за прилавком. И вообще, все мы взрослыми стали…
— Что я тебе могу посоветовать, Нина? — как всегда неторопливо басил главврач Михаил Борисович. — Мы с твоим отцом мысли не допускали, что есть какая-нибудь профессия, которую можно поставить рядом с медициной. Если бы мне предложили на выбор — санитаром в больницу или министром торговли — я бы пошел санитаром. Но если тебя медицина не привлекает… что ж, иди пока в магазин. Но иди немедля. Самое вредное для тебя сейчас сидеть здесь одной…
Узкая и длинная комната вся уставлена ящиками, банками, коробками, пропитана запахами сыров и колбас. У стены, близ входной двери, примостился простенький однотумбовый письменный стол. У другой стены — маленький кожаный диван. За столом заведующий магазином — пожилой бритоголовый мужчина. Далеко отодвинув руку с блокнотом, он просматривает какие-то записи.
«У него дальнозоркость», — соображает Нина.
— Значит, кур привезут, — ни к кому не обращаясь, констатирует заведующий. — Это хорошо. — С легким стуком он отбрасывает влево костяшку на счетах. — И уток привезут. — Вслед за первой костяшкой влево летит вторая. — А вот свинину… Свинину неизвестно. — Третья костяшка останавливается на полпути. — И, главное, говядина, говядины может не хватить. Это плохо. — Все костяшки возвращаются назад.
Заведующий силится что-то разобрать в блокноте, отодвигая его от себя чуть ли не на вытянутую руку.
— Очки, понимаешь, забыл.
Это заведующей говорит Нине. Говорит дружески, и Нине становится проще в этой небольшой странной комнате.
— По какому делу? — спрашивает бритоголовый. — Ах, от Зуба! — Снова костяшка летит влево.
«От Зуба — это хорошо», — догадывается Нина.
— Давай знакомиться. Меня зовут Юрий Филиппович. — Юрий Филиппович встает из-за стола, протягивает Нине руку. Роста он небольшого, полноват, но рука жилистая, цепкая.
Юрий Филиппович долго расспрашивает Нину, внимательно слушает.
— Ну, что ж, Нина, будем работать. Будем работать, — говорит он. — Поставим тебя на кондитерские товары. Это, пожалуй, подойдет лучше всего. Там у нас, правда, сейчас Алла Петровна, — как-то неуверенно продолжает заведующий и почему-то передвигает костяшку направо. Нине, которая уже прониклась доверием к заведующему, не хочется учиться у какой-то еще незнакомой Аллы Петровны.
— Но продавец она опытный. Очень опытный, — продолжает заведующий. — Научить торговать может. Сейчас я вас познакомлю.
— У такой не надо, да купишь, — быстро оглядев Нину, говорит Алла Петровна.
«А у такой нужно, да мимо пройдешь», — невольно думает Нина.
Алла Петровна вся негибкая, тяжелая, рыхлая, словно наполненная лежалыми опилками. Взбитые коком ее волосы испытали на себе влияние самых различных красителей, горячих и холодных завивок. Утратив живую притягательную свежесть, они кажутся поделкой из кудели. Глаза голубые и даже яркие, однако тоже по-кустарному лишены цвета и блеска.
«А у такой надо, да мимо пройдешь».
И все-таки Нина не может не ответить на улыбку Аллы Петровны. Только ответная улыбка получается невеселой.
— Не туда кладешь карамель, Ниночка. Открытая карамель не очень ходовая. И ты клади ее подальше. А вот «Весна», «Ласточка», «Мишка косолапый» — на это все время спрос. Их всегда держи под рукой.
Алла Петровна учит терпеливо, говорит ласково, без раздражения и все время улыбается своими вялыми, рано состарившимися губами.
И Нина тоже улыбается в ответ.
— Вот так, вот так, — одобряет Алла Петровна. — А теперь давай-ка перекусим. А то перерыв у нас к концу идет.
Продавщицы магазина — кроме Нины и Аллы Петровны, здесь работают еще четыре девушки — белой стайкой сбиваются в одном из отделов. Чаще всего в молочном. Нине хочется к ним. Тем более, что среди них та самая Галя Воронцова, которую она встретила у Зуба. Галя как раз работает в молочном.
Кстати, — может же так случиться! — первое, что Нина увидела у Гали в руках, был томик стихов Ярослава Смелякова. Нет, не права Леночка Штемберг. И с этими девушками можно поговорить о многом. Галя вот окончила торгово-кооперативную школу, любит стихи, музыку, не пропускает ни одного концерта. Другие девушки попроще. Но каждый раз в обеденный перерыв их беззаботный смех, задорные голоса настойчиво манят Нину к себе.
Но Алла Петровна уже снимает крышку со своего термоса, наливает Нине горячего вкусно пахнущего кофе. Нине не хочется пить его, как не хочется улыбаться Алле Петровне. Однако она с излишней поспешностью благодарит, с излишней поспешностью принимает угощение.
Кончается обеденный перерыв. Алла Петровна отпускает покупателей. Нина стоит рядом. В это время она примиряется и с грубой куделью волос, и с кустарными, лишенными блеска глазами, и со всем другим, что неприятно ей в Алле Петровне. Алла Петровна кажется ей необыкновенным умельцем. Ведь Нина уже знает, как нелегко быстро отыскать нужное печенье, конфеты, пирожное. А Алле Петровне они словно сами просятся в руки. Нина с трудом запомнила цены нескольких сортов конфет и печенья. Алла Петровна знает, сколько стоят сотни различных товаров не только у себя в отделе, но и во всем магазине.
Нина испытала, как непослушны бывают весы, как их стрелка не доходит до нужной черты, то упрямо перескакивает ее. Аллу Петровну весы слушаются, словно она знает какое-то заветное слово.
Иногда Нина выполняет мелкие поручения Аллы Петровны. «Сходи, скажи Юрию Филипповичу, что кончаются шоколадные конфеты». «Принеси торты». «Отдай поточить нож».
Когда мало покупателей, Алла Петровна разрешает Нине поработать самостоятельно. Охотнее всего она делает это при Юрии Филипповиче. Это самые лучшие минуты для Нины. Правда, получается у нее неловко, медленно. Но покупатели не обижаются, даже смотрят на нее, поощрительно улыбаясь.
Алла Петровна тоже больше улыбается. А Юрий Филиппович становится строгим и придирчивым:
— Как ты отпустила покупательницу? Она спросила у тебя мармелад «Апельсиновые дольки». Его не оказалось. Ты предложила лимонные — и только. Видишь, она не берет лимонные, предлагай пастилу, зефир. Старайся, чтобы покупатель не ушел с пустыми руками.
— Не все сразу, Юрий Филиппович, не все сразу. Мы научимся, — вступается Алла Петровна.
— Научимся, научимся, — наклонив бритую голову, говорит Юрий Филиппович. — Пора бы уже…
Строгость Юрия Филипповича почему-то даже приятна Нине. Он хмурит брови, а ей хочется улыбаться. А вот когда улыбается Алла Петровна, ей хочется нахмуриться.
Ворчит Юрий Филиппович нередко, но только один раз Нина видела его по-настоящему сердитым. Он заглянул в холодильник мясного отдела и обнаружил там большой кусок мяса. За два часа перед тем Верочка начала говорить покупателям, что мясо все продано.
— А это? — спросил Юрий Филиппович.
— Хотела оставить себе.
— Такой кусок? Здесь килограмма четыре.
— Еще соседке.
— Так, — произнес Юрий Филиппович, — так… — От возмущения он не мог ничего добавить. Только уже уходя, бросил: — Комсомолка!
Верочка немедленно продала мясо. Потом с виноватым видом подошла к Галке, но та на нее даже не взглянула. Верочка вздохнула и пошла в комнату заведующего.
Оттуда она вышла с припухшими от слез глазами и снова подбежала к Галке.
— Ну, что ты, Галка, ну я никогда больше не буду…
…В конце дня, перед тем, как сдать Юрию Филипповичу выручку, Алла Петровна неизменно просит:
— Подожди меня, Ниночка, вместе пойдем.
Нине нужно еще в детский сад за Гришей. С Аллой Петровной ей идти совсем недалеко, всего два квартала. Попутнее с Галей Воронцовой — она живет почти рядом с детским садом. Да и интереснее с Галей намного. Но Нина не может не подождать Аллу Петровну. Слишком уж тепло, слишком дружески, даже по-родственному Алла Петровна относится к ней. Слишком внимательно, хлопотливо и заботливо учит ее, не жалея времени, не раздражаясь, если у нее не получается, не упуская случая похвалить, даже обрадоваться смекалке, ловкости, памяти своей ученицы.
Галя раза два-три после работы подходила к Нине:
— Пойдем домой…
Нина всякий раз отказывалась.
— Вольному — воля, — Галя досадливо поджимала губы, быстро уходила.
Нина замечала, что девушки не любят Аллу Петровну. И эту нелюбовь переносят и на нее, Нину…
Правда, круглоглазая Верочка из мясного отдела несколько раз в обеденный перерыв звала Нину: «Давай к нам», но теперь и она отступилась.
Девушки часто ведут себя так, как будто Нины и вовсе нет в магазине. Школьные подруги относились к ней иначе. Нина старается доказать себе, что ей это безразлично. «Подумаешь. Очень надо! Не век я буду в магазине».
— Что это ты, Нина, как в старину говорили, худо смотришь?
Разговор происходит в комнате заведующего. Нина знает теперь, что эту комнату зовут запасом или просто запаской, так как в ней находится запас магазинных продуктов.
— Очень худо, — подчеркивает Юрий Филиппович и отбрасывает сразу две костяшки счет.
— Как это? — удивленно спрашивает Нина.
— А так, свысока на всех посматриваешь. Дескать, вы — продавцы, торгаши, а я здесь временная.
— Что вы! — пытается возражать Нина.
— Вот и «что вы». Ты даже ни с кем из подруг не разговариваешь. Наслышалась, наверное, всякой обывательской чепухи про торговлю. А знаешь ли ты, что такое торговля? Торговля — это дело особое. Особое! Вот ты с работы пойдешь, посмотри — каких только у нас учреждений нет. Вот рядом с нами: эпидстанция, дальше библиотечный коллектор, еще дальше — судебная экспертиза. Все это — нужные учреждения, никто не говорит. А только вот я жизнь, можно сказать, доживаю и ни в одном из них не был. И ты, скорее всего, не была. Зато в магазинах мы с тобой были несчетное число раз. Потому что без магазина ни один человек прожить не может. Вот я и говорю: торговля — дело особое, народное дело. Ну, и продавец тоже. Высокая должность! — поднимает палец Юрий Филиппович. — Лицом к лицу с народом все время…
— …Ладно, много я тебе тут наговорил, — вдруг стихает он. И уже ворчливо заканчивает: — А ты об этом подумай, подумай…
За прилавком магазина появляются незнакомые люди. Это комиссия. Сегодня Нина сдает экзамен на младшего продавца.
Экзамены в школе никогда особенно не волновали ее. Но там она сдавала их вместе с классом. А здесь из-за нее одной собралось столько солидных людей. Женщина с пышными седеющими волосами — товаровед гастрономического магазина, пожилой с нудноватым скрипучим голосом инспектор торга, стесняющийся своего роста, своих распирающих халат плеч, заведующий крупным продовольственным магазином. К ним присоединился и Юрий Филиппович.
Все подтянутые, серьезные, даже торжественные. Их настроение передалось и девушкам. Сегодня они неговорливы и сосредоточенны. Только Галка выбрала момент лихо мигнуть Нине, дескать — не трусь, не боги горшки обжигают. После того разговора в комнатке у Юрия Филипповича отношения у Нины и с Галкой и с другими девушками стали лучше. По некоторым деталям Нина догадалась, что заведующий успел переговорить не только с ней.
Комиссия скачала наблюдала за Ниной на рабочем месте. Нина теперь уже умеет предложить товар, хорошо справляется и со счетами, и с весами, быстро считает деньги. Но сегодня все у нее ладится хуже, чем обычно. Упрямятся весы, путаясь, липнут одна к другой костяшки на счетах, пирожные, шоколад, печенье, конфеты, торты в нужный момент норовят не попадаться ей на глаза, прячутся, строя досадные мелкие каверзы.
Нина мечется из стороны в сторону. Из-под белой ее шапочки то и дело выбиваются пряди волос и тоже мечутся, мельтешатся вместе с ней.
«Провалилась, провалилась», — решает Нина после каждого покупателя. А одна женщина, словно нарочно:
— Вы мне неправильно сдали.
И сама вся кипит от раздражения.
Нина похолодела.
— Извините, пожалуйста. Разрешите пересчитать.
— Сначала обсчитают, потом извиняются. Вы мне рубль пять сдали.
Нина еще раз прикидывает на счетах.
— Столько вам и положено. Вот, проверьте.
Покупательница смущена. Но Нина смотрит на ее желтоватое нездоровое лицо. «Больная, наверное. И нервы не в порядке». Нина заставляет себя улыбнуться:
— Просчитались, вероятно. Бывает.
И покупательница тоже улыбается смущенно.
— Просчиталась, вы уж меня извините.
Понаблюдав часа полтора, члены комиссии уходят.
— Неплохо, Ниночка. Неплохо, — подбадривает Алла Петровна.
Теперь теория. Нину вызывают к заведующему. Члены комиссии разместились вокруг письменного стола. На месте Юрия Филипповича сидит инспектор торга. Он председатель комиссии.
— Объясните устройство весов, — своим скрипучим голосом просит председатель.
На столе весы, такие же, как и на прилавке у Нины.
— Достаточно, — прерывает он Нину, удовлетворенный ответом.
— Расскажите, как готовят рабочее место продавца?.. А как готовят витрину? Приходилось вам это делать?.. Сколько нужно заплатить за 125 граммов конфет ценою по три тридцать килограмм? Считайте устно.
Вопросы сыплются один за другим. Их задают все члены комиссии.
— Я думаю — достаточно? — спрашивает представитель торга. Обращается он вроде бы ко всем, но смотрит при этом на Юрия Филипповича.
Юрий Филиппович кивает.
— Конечно, достаточно, — подтверждает пышноволосая женщина. Она проворно встает, привлекает Нину к себе, целует в щеку. — Запомнишь меня на всю жизнь. Я тебя поздравила первая.
Представитель торга хмурится. Он готовился собрать мнения, торжественно объявить решение комиссии. Но теперь ничего другого не остается, как пожать Нине руку.
— Поздравляю вас с присвоением звания младшего продавца.
Приходит знакомое, обычное после удачного экзамена чувство. Все кажется легким и доступным, все вокруг хорошими, замечательными людьми. Нине сейчас нравится даже скрипучий голос представителя торга. Тот спрашивает о чем-то Юрия Филипповича. Заведующий согласно кивает.
Только на пороге запаски до Нины доходит смысл их разговора.
— Значит, с завтрашнего дня к нам в торг? — спросил инспектор. И Юрий Филиппович подтвердил это.
Неужели Юрий Филиппович уходит из магазина?
Нине стало досадно. Так все шло хорошо. Она успешно сдала экзамены. Будет теперь работать самостоятельно. Ей повысят зарплату — это им с Гришей очень кстати — Нина уже успела кое-что продать и даже залезть в долги. И вот обязательно в бочке меда должна быть ложка дегтя!
— Ну вот, Ниночка, доверяем тебе весы. Будешь теперь работать самостоятельно.
Алла Петровна улыбается своими вялыми, грубо накрашенными губами. И Нина снова не может не ответить ей, хотя уверена, что их отношения теперь сложатся иначе. Нина ведь будет работать самостоятельно. И Алла Петровна окажется дальше от нее, тем более, что ее назначили заведующей магазином.
Галя говорила, что Юрий Филиппович пошел на это назначение очень неохотно. Но подходящего человека как раз не оказалось, а оставить магазин на кого-нибудь из девушек Юрий Филиппович не решился. Слишком мал их опыт.
Сам Юрий Филиппович сейчас директор торга. Он и раньше занимал в торговых организациях большие должности. Но у него был инфаркт миокарда. После тяжелой болезни Юрий Филиппович попросил себе на время скромный участок работы.
И еще многое Нина узнала о Юрии Филипповиче. Оказывается, в его многолетней работе в торговле был перерыв. Случилось это в сорок втором. Юрий Филиппович нес тогда службу в армейском военторге. Оказавшись на передовой, он пошел в бой в рядах наступающей пехоты. Был убит командир взвода, и Юрий Филиппович принял на себя временное командование, да так и остался строевым офицером вплоть до сорок пятого года.
Все в магазине очень жалели об его уходе. Как-то пойдут дела при новой заведующей.
Нина то и дело ловит на себе взгляд Аллы Петровны. Смотрит она, как и полагается заведующей, изучающе, доброжелательно. Только к этому примешивается и еще что-то. Что именно — Нина не могла бы сказать. Но это «что-то» замораживало и путало Нинины движения.
А работать одной, оказывается, не так-то легко. Это тоже экзамен, и ничуть не проще того, который сдавался в присутствии комиссии. Цепочка покупателей тянется непрерывно. Нужно добиваться, чтобы она не увеличивалась, не растягивалась. Но и торопиться опасно, потому что всегда можно просчитаться, ведь имеешь дело, как любил говорить Юрий Филиппович, не с бабками — с деньгами.
И хотя покупатели не проявляют никакого нетерпения, Нине иногда кажется, что кто-то сейчас возмутится, закричит или, того хуже, презрительно посоветует: уберите эту неумеху. А если не скажут покупатели, то подойдет Алла Петровна, позовет к себе в запаску. Пилюлю непременно подсладит: «Экзамен ты, Нина, сдала хорошо. А все-таки работать самостоятельно не можешь, не получается».
Как часто бывает на работе: минуты идут медленно, зато часы летят быстро. Девушки уже собрались в молочном отделе. Там у них появились два разрисованных птицами термоса.
Нина тоже развернула твой скромный завтрак, сейчас она пойдет к ним.
Но подошла Алла Петровна. «Позовет к себе в запас. Начнет выговаривать за плохую работу…»
Алла Петровна действительно позвала Нину в конторку. Но сказала совсем другое:
— Я гляжу, у тебя и чаю нет. — Открыла термос, налила своего горячего кофе. — Трудновато у весов-то? Ну, ничего, надо же когда-то начинать. — Алла Петровна говорила поощрительно. Но Нина почему-то не обрадовалась этому.
— Я сижу, ты стараешься, — продолжала заведующая. — Ну, а кто старается, тот не пропадет. Того и мы не забудем.
Последние слова Алла Петровна произнесла тише, сообщнически, сощурив глаза. После паузы добавила:
— Ты пей кофе-то, пей!.. Давай еще горяченького плесну.
Нина пила кофе, пила, низко-низко опустив голову.
Во второй половине дня Алла Петровна несколько раз оказывалась возле Нины. Подходила она всегда неприметно, словно вырастала из-под прилавка. Нина каждый раз внутренне вздрагивала.
— Первое дело, Ниночка, не торопись.
«И второе дело — не торопись, — мысленно иронизировала Нина, — и не теряйся».
— И не теряйся, — действительно произносила Алла Петровна, сообщнически щурясь. Дескать, все, что ты делаешь, конечно, непорядок. Но раз ты из моей воли не выходишь, я тебя всегда заслоню своей широкой спиной.
Иногда советы Аллы Петровны были дельными сказывался ее немалый опыт.
— Добивайся такого, чтобы не думать. Все обдумать не успеешь. Это надо механически делать. Настоящему продавцу товар сам просится в руки. А мысли только догоняют, догоняют и сразу сработают, если что не так.
Дельное Алла Петровна говорила проще, не щурясь и не сообщничая, но тут же снова возвращались к пустословию, вовлекая Нину в какой-то непонятный, противный разговор.
Рука у Нины горела. Только что она трогала лоб больного Гриши. Хотя температура была не столь уж велика — тридцать восемь и четыре, Нина словно ощущала жар и сейчас, когда бежала на работу. В ушах стоял хрипловатый голосок: «Не трусь, Нинка. Ну чего ты, как маленькая? Разнюнишься еще. Веди-ка лучше меня в садик».
— Здравствуй, Казанцева.
Нина удивленно обернулась. Ее догнала Галя Воронцова.
— Здравствуй, — Галя чуть прищурясь, независимо оглядела Нину. — Я с тобой побеседовать хотела, как комсорг.
Нина молчала. Она знала, что, несмотря на подчеркнутую независимость, Галя ждет, чтобы она сказала хоть одно слово, помогла ей этим словом. Но Нине не понравилось, как Галя начала разговор. Почему она подчеркивает, что она — комсорг? И главное — заболел Гриша. Нина не решилась отвести его в детский сад, и он лежал теперь дома под не очень-то надежным присмотром Любови Ивановны.
Нина молчала.
Галя разозлилась. Но все-таки, сдерживая себя, начала мягко:
— Понимаешь, Нина, пока был Юрий Филиппович, мы ни за что не беспокоились…
Галя чуть приостановилась, опять как бы ожидая, что спросит или скажет Нина. Нина молчала.
— И кроме того… Ты была ученицей. Мы не знали, будешь ли ты у нас работать. А теперь, поскольку ты в нашем коллективе…
— Я польщена, — вымолвила, наконец, Нина.
— Ты… ты этот тон оставь, — вспылила Галя. — Мы ее жалеем, а она…
— Что-о?
Нина смотрела насмешливо, презрительно.
— Тебя жалеем, вот что!
— А вы не жалейте, — резко сказала Нина. — И не сильно задавайтесь. Подумаешь, нужны вы мне!
— Знаю, что тебе никто не нужен. Гордячка!
Обе сердито замолчали. У самых дверей магазина Галя сказала:
— Обволакивают тебя, дуру, а ты не видишь. Спохватишься, да поздно будет.
— Ниночка! А халатик-то у тебя помятый. В таком к покупателям выходить неудобно. Погоди-ка, у меня для тебя запасной есть, — услышала Нина через минуту.
«Обволакивает, действительно обволакивает», — внутренне вздрогнула она. Покорно взяла у заведующей халат: «Спасибо, Алла Петровна».
— Ниночка, счеты вот эти возьми, они удобнее.
— Спасибо, Алла Петровна.
— Волосы поправь, чтобы не выбивались из-под шапочки. За тобой ведь не посмотри…
Нина бессильно трепетала в липкой паутине мелких услуг и одолжений. И по-прежнему, отпуская покупателей, она чувствовала на себе приклеенный взгляд Аллы Петровны, и по-прежнему заведующая, появляясь словно откуда-то из-под прилавка, заставляла Нину внутренне вздрагивать.
Зато работа теперь спорилась у нее без лишней суеты.
Алла Петровна приметила это.
— Пошло у тебя дело. Пошло. Только…
— Что, Алла Петровна?
— В обед потолкуем, Ниночка. Надо потолковать.
В обед Нина думала съездить домой, посмотреть, как Гриша. До дому было неблизко, она хотела нанять такси. Но так ничего и не сказала Алле Петровне. «Она, конечно, отпустит, сделает еще одно одолжение».
В обеденный перерыв Нина застала Аллу Петровну рассерженной. Она отчитывала уборщицу.
— Как же ты могла уйти на два часа раньше? И никому ни слова. Порядок-то какой-нибудь нужно соблюдать.
Когда уборщица вышла, Алла Петровна успокоилась:
— Зря я разволновалась. Такова жизнь. Каждый к себе тянет. А уборщице нечего взять, так она время ворует.
Алла Петровна разлила в стаканы дымящийся кофе.
— Ну вот, ты начинаешь торговать. Начинаешь. Теперь надо думать, Ниночка.
— О чем, Алла Петровна?
— Думать надо, как бы не проторговаться.
— Я слежу и за деньгами, и за весами. Точно…
— В том-то и дело, что точно, — перебила Алла Петровна, улыбаясь вялыми губами. — В том-то и дело! Да ты кушай, кушай. Что это ты все с маслом бутерброды то носишь? Не надоели они тебе? Вот колбасу бери. Угощайся.
Нине сильно не по себе. Хотя Алла Петровна не сказала еще ничего особенного, Нина, чувствует, что в этом разговоре будет что-то недостойное, постыдное, что-то такое, к чему она никогда в жизни не прикасалась. Нина резко отодвинула чашку.
— Я не понимаю…
— Сейчас объясню, все объясню, Ниночка, — намеренно не замечая ее жеста, продолжает Алла Петровна. — Неприятный разговор, а надо тебя предупредить, пока ты работать начинаешь. А то как бы потом поздно не было. Что такое естественная убыль продовольственных товаров, ты теперь знаешь. Недаром, экзамен на продавца сдала.
— Конечно знаю. Всякая там усушка, утруска и прочее.
— Усушка, утруска… А вот ты точнехонько вешаешь Как думаешь покрывать?
— Есть нормы естественной убыли.
— Нормы-то нормы. А вот если они не покроют убыли, нормы-то? К примеру, естественная убыль считается две десятых процента, а на деле целый процент потеряешь.
— Почему?
— Да хотя бы потому, что нормы-то у нас соблюсти не так просто. И температура нужна определенная и другие условия…
— Как же тогда? — растерянно спросила Нина.
— А уж тогда, милая, если не хватит — плати из своей зарплаты. Если ее, конечно, достанет, зарплаты-то…
— И… и часто это бывает? — спросила Нина, невольно подумав о том, что деньги у нее кончаются, и она должна Любови Ивановне, и надо получше кормить Гришу. И еще копить ему на зимнюю шубку.
— Бывает, — неопределенно ответила заведующая. — Только люди не допускают. Натягивают…
— Как натягивают?
— А по-разному. По-разному.
Алла Петровна понизила голос и перешла на свой излюбленный сообщнический тон.
— Мелочи-то просто на бумаге, скажем, натягивают. Замечала, купишь двести граммов колбасы, а бумаги на обертку столько истрачено, что можно килограмм завернуть. Ну, это, конечно, мелочи. А бывает — гирьки просверлят и потом клепочки поставят. — Алла Петровна подошла к столику, где стояли привезенные из ремонта весы с небольшим набором гирь. — Вот здесь просверлят, — постучала ярко раскрашенным ногтем по основанию стограммовой гирьки. — И заклепают, будет такая же, а весит уже граммов восемьдесят, скажем, восемьдесят пять. Ну, конечно, при этом держи ухо востро, если проверка, убирай гирьки подальше, а под рукой на такой случай другие имей…
Нину резануло это — «держи ухо востро» и «другие имей». Выходило, будто это относится к ней самой, к Нине.
— А некоторые весы подвинчивают, — продолжала Алла Петровна. — Повернешь винтик, глядишь, хватит на убыль-то естественную. Всего-то не перескажешь, что люди придумают. А вот на таких-то весах, на чашечных, тут совсем просто делали. — Алла Петровна взяла блестящую тридцатиграммовую гирьку. — Потом такую проволочку. — Нина не заметила, откуда в руках заведующей появился небольшой кусок тонкой, но твердой проволоки. — И вот так.
Алла Петровна обмотала проволокой гирьку, загнула другой конец и подвесила ее к коромыслу под чашечкой весов, на которую ставят гири.
— Вот тебе с каждого веса по тридцать граммов. А когда гири снимаешь, только так, мизинчиком.
Она ловко спихнула гирю длинным ногтем мизинца. Металл громко стукнул о прилавок.
— Стук-то слышно, — как-то само собой вырвалось у Нины.
— Правильно. Правильно соображаешь. — Алла Петровна улыбнулась — не то как сообщнице, не то как способной ученице. — Для этого такие бархотки существуют. Знаешь, какими обувь чистят? Подложишь ее сюда…
«Что это я? Как я все это слушаю? Как я могу все это слушать!» — Нина вскочила со стула.
— Вот что, Алла Петровна, ничего я, нечего… никогда! — Нина даже задохнулась от волнения.
— Да ты что, Ниночка, бог с тобой! — поднялась и Алла Петровна. — Что я тебя, заставляю? Я тебе говорю, как люди делают. Предупреждаю тебя. Чтобы недостачи не получилось. А ты молодая, неглупая, может, другой какой выход найдешь. Разве я против?..
— Юлька! Пойдем сегодня на танцы.
Юлька отрицательно помотала головой.
— Ну, пойдем, Юлечка. Очень тебя прошу.
Юлька отвернулась, побежала к себе в конторку. Тимофей с неуклюжим проворством в два шага догнал ее, взял за руку.
— Ну, просят тебя, как человека.
— Рука мне нужна всякие цифры записывать.
Тимофей отпустил руку. Юлька подула на нее. Нежданно смягчилась.
— На танцы с ним, хитрый какой! Попросишь еще после работы.
Тимофей ждал Юльку на площади возле клуба. Смотрел по сторонам, стараясь пробить взглядом несколько улиц. Последнее время, где бы ни находился, он всегда смотрел по сторонам. Привык к насмешливым взглядам, вопросам: «Молодой человек, что вы потеряли?»
А искать оказалось не так легко. Последними словами он ругал себя за то, что не остановил Нину тогда утром. Утрами пешком ходил на работу. Все свободное время пропадал на улице. Нины не было. Сколько раз устремлялся за девушкой с выбивающимися из-под шапочки светлыми кудряшками. Но уже в десяти-пятнадцати шагах убеждался — нет, не она. Порой возмущался: как мог принять эту, обыкновенную, за Нину?
Оказывается, нелегко, просто нет никаких способов искать человека в большом городе, если знаешь только его имя. Тимофею даже приходило в голову обойти все заводы, фабрики, институты, учреждения и осмотреть там всех Нин. И он не улыбался нелепости этой мысли. Только жалел о том, что ее нельзя осуществить: времени не хватит да еще примут за сумасшедшего.
Когда были танцы, Тимофей заходил в клуб текстильщиков. Он не танцевал. Пристально осматривал молодежь и уходил. Вчера на него покосились две девушки — длинноногая белесая и полненькая. Длинноногая толкнула подружку, та залилась смехом.
«Где я их… — мелькнуло у Тимофея. — Ах, те… когда текло мороженое…»
Невольно взглянул на брюки. За спиной услышал насмешливый голос:
— И каждый вечер в час назначенный.
Это — белесая. Толстенькая подхватила:
— Иль это только снится мне.
«Дуры, Блока в сатирического поэта превращают», — подумал Тимофей и, по-медвежьи повернувшись, начал выбираться из клуба.
Одному больше идти не хотелось. Он уговорил Юльку. Решился не без колебаний. По отношению к Юльке это нехорошо, но попади она в такое положение, он ведь тоже бы пошел с ней. Правда, она иначе к нему относится. Ну ладно, это уж тонкости…
Все-таки, когда подбежала Юлька — миленькая, оживленная, Тимофею стало совестно. «Морочу голову девке. Вон Ваня на нее заглядывается».
Юлька просунула свою маленькую крепкую руку под локоть Тимофея. Ловкая, «ладненькая», как говорили о ней на стройке, искрящаяся Юлька будто притягивала к себе взгляды встречных.
«Как бывает, — грустно думает Тимофей. — Такая девушка рядом, а я все ищу, ищу, по существу, незнакомого человека, ищу то, не знаю чего».
— Ну, Тим, почему?
— Что «почему»?
— Да ты не слушаешь меня.
Юлька, оказывается, второй уже раз спрашивала, почему Тимофей смотрел в сторону площади. Разве он не знал, что она придет с противоположной?
— Ну, смотрел и смотрел…
— Подожди, а куда ты сейчас смотришь?
Юлька остановилась.
— Хочешь мороженого?
Юлька выдернула руку из-под Тимофеева локтя.
— Хочу, чтобы мне отвечали на вопросы.
Юлька помрачнела, но в клубе снова оживилась. Танцевала она, как и все делала, ловко и мило. И во время танца, и в перерывах они болтали обо всем, с легкостью молодости, перескакивая с одного на другое.
— Я вчера повесть Генриха Бёлля достала «Бильярд в половине десятого».
— Только собралась!
— Нельзя же читать, сколько ты.
— Я сейчас меньше читаю.
— Ты знаешь, я «Неделю» выписала.
— Известинскую? Как тебе удалось? На нее же огромный спрос.
— Ваня помог.
— Хорошо иметь поклонников.
— Неплохо.
— Ваня замечательный парень.
— Что ты мне его нахваливаешь? Сама знаю. Рад кого-нибудь нахвалить.
— Я только по справедливости…
— По справедливости. Он, конечно, хороший. Только знаешь, он со мной разговаривать совсем не может.
— Молчит?
— Нет, хуже, — искренне сказала Юлька. — Заикается. Со всеми говорит ничего, а со мной так заикается… Пойдем, это мой любимый вальс.
Играли драматический вальс Шварца, тот самый волшебный вальс, что они танцевали с Ниной.
— Этот… Нет… Этот… вальс мы пропустим.
— Почему?
— Я не хочу этот вальс.
Юлька вся сникла.
— Знаешь, громоотводом я еще соглашалась быть, но заменителем… — Решительно и быстро она стала пробираться к выходу.
Тимофей шел за ней, терзаясь угрызениями совести, смотрел на ее опущенную головку, худенькую, словно сопротивляющуюся горькой обиде спину.
— Не провожай, — сказала Юлька.
И это было сказано так, что Тимофей молча повернул к своему общежитию. «Эх, зря обидел девчонку. И как она догадалась?» — думал он.
А сам внимательно осматривал людской поток.
Вода закипела, но картошка была еще твердой. Нина убедилась в этом, ткнув вилкой в неподатливые картофельные бока. «Что она сегодня? Пора уже на работу».
— Не варится. Ну, беги, беги. Я доварю. — Массивная Любовь Ивановна топталась тут же возле своей электрической духовки.
— Вот моих ватрушечек попробуй, — как-то вскользь предложила она.
— Нет, нет, спасибо.
— У-у, Нинка, опять картошка! — появился на кухне Гриша.
— Не Нинка, а Нина. Сколько я тебе буду говорить.
И тут же стало жаль брата. Только после гриппа, в садик еще не ходит и сидит на одной картошке.
Погладила короткие мягкие волосенки. Заглянула в лицо. Как он похож на папу! Лобик крутой, и подбородок так же чуть выдается вперед, и даже едва заметная родинка на щеке на том же месте. И тут только перехватила Гришин взгляд. Мальчонка по-детски откровенно, жадно смотрел на ватрушки. «После работы обязательно сделаю ему что-нибудь вкусное. Только что и где взять…»
— Покушай, покушай, Гришенька, — предложила Любовь Ивановна и, положив на тарелочку три ватрушки, протянула мальчику.
Однако тон настолько противоречил гостеприимным словам, что Гриша неуверенно пролепетал:
— Я не хочу. Не надо.
— Кушай, кушай. Ты их уже съел глазами-то.
И это «съел глазами», и то, как Гриша, обжигаясь и давясь, поглощал рябые ватрушки, жгло, давило Нину новой тяжелой обидой. «Как я допустила это! Нужно было что-то предпринять, занять денег. Еще недавно предлагал Михаил Борисович, а неделю назад — Иван Савельевич. Отказалась — гордая какая! Можно что-нибудь продать, наконец. …Как я сегодня буду работать? Как после этого предлагать торты, пирожное, шоколад, улыбаться покупателям?»
Но в силу вступил успокаивающий спасительный автоматизм работы. Все делалось как-то само собой, свободно и легко, как у Аллы Петровны, работой которой Нина еще недавно так восхищалась. Эклер, трубочки, наполеоны, корзиночки с кремом нужных сортов, печенье и конфеты, экономя Нинины движения, сами просились в руки. Чашечки весов, словно извиняясь за свою былую строптивость, выравнивались с быстротой хорошо обученных солдат.
Вдруг вспомнился тенорок Алексея Никандровича: «Человек-то, он как поезд. Что бы внутри ни делалось, а он идет и идет».
Нина была довольна, что нет Аллы Петровны — заведующую с утра вызвали в торговый отдел. Хотя Алла Петровна по-прежнему старалась оказывать Нине десятки мелких услуг, а Нина по-прежнему вынуждена была благодарить ее, их отношения после памятного разговора сильно обострились. По существу, началась необъявленная война, и Алла Петровна добивалась полной капитуляции. Добивалась напористо и нагло. Не упускала случая сообщить Нине новость:
— Слышала, в четвертом-то продуктовом, который на Потоке, двух продавцов сняли да еще судить хотят. Проторговались дуры, недостача.
Раза два, а то и три в день незаметно оказывалась возле Нининых весов, смотрела, как она отпускает покупателей, уходя, взглядом или вздохом выражала свое неодобрение. Иногда принималась ругать покупателей:
— Уж я-то их знаю. Каждого вижу, что у него под кожей. Давай им и давай! Ненасытные. Думаешь, их накормишь? Никогда! Это же прорва. А как куражатся над нами? Нам даже ответить нельзя.
…И опять Нина не заметила, как заведующая оказалась рядом. «Приехала уже!»
Улучив удобный момент, Алла Петровна незаметно для покупателей бросила на Нину горестно сочувствующий взгляд. Его можно было истолковать: «Жаль тебя, дурочка! Спохватишься, поздно будет».
Нина только поправила выбившиеся из-под шапочки волосы, И ей показалось, что они стали жестче и даже прямее. «Ничего, я как поезд. Иду по рельсам».
Крушение, как чаще всего бывает с крушениями, произошло неожиданно. Причина его, как тоже обычно выясняется позднее, оказалась случайной и незначительной.
— Девушка, мне нужен небольшой торт и двести граммов, нет, пожалуй, полкило шоколадных конфет.
Покупательница изо всех сил стремилась быть томной, усталой, пресыщенной благами жизни и уж, конечно, безразличной к таким мелочам, как торт и шоколадные конфеты. Женщина далеко не первой молодости, она почему-то возлагала неоправданные надежды ка свою длиннющую жилистую красноватую шею. То и дело лебединым движением вытягивала ее над прилавком или по-детски капризно клонила набок. Говорила она, жеманно растягивая слова, а это с виду небрежное, но уж, конечно, заранее подготовленное «нет, пожалуй, полкило» произнесла чуть не по слогам.
Нина помнила слова Юрия Филипповича: «Нужно уметь у покупателя настроение поднять, нужно к каждому подойти». Но тут, очевидно, дело не в настроении. К этой не то что подойти — к этой ни на какой кривой не подъедешь!
— Ассорти подойдет? — предложила Нина.
Усталое молчание.
— «Белочка», «Мишка на севере», «Грильяж»?
— Пожалуй, именно «Грильяж», а можно и «Белочку» или «Мишек». Ах, да впрочем, не все ли равно!
— Может быть, по сто граммов разных сортов?
— Ах, я же вам сказала — все равно, — ворковала покупательница. Она вела себя, как избалованная красавица, которую неотступно приглашают не то в театр, не то на какую то прогулку, а она, хотя и согласилась пойти, но еще чуть колеблется, еще заставляет своих поклонников волноваться, а может быть, и действительно не пойдет.
Нина перешла от слов к делу. Но когда пакетик с четырьмя сортами конфет был готов, услышала:
— Ах, вы сделали смесь. Зачем же смесь? Я не люблю смесей.
Прядка волос выбилась из-под шапочки, растерянно заметалась. «Товар смешан». И тут же решила: «Ничего, разберу по фантикам». Она уже научилась называть конфеты товаром, но еще не разучилась мысленно называть обертки фантиками.
— Какие же вы берете?
— Право, не знаю.
Жилистая шея сделала лебединое движение над прилавком. Потом голова почти легла на костистое плечо.
— Послушайте, а побыстрее нельзя? — загремел вдруг рассерженный бас.
Нина посмотрела на свою мучительницу с мольбой и укоризной. Но та не реагировала на чьи-то неуместные выкрики. Весь ее вид говорил: «Ах, я выше этого, я не обращаю внимания на подобные мелочи».
Нина хотела было обратиться к стоящей за привередливой покупательницей терпеливой старушке, но в уши лез все тот же жеманный голос:
— Может быть, сначала выберем торт, потом конфеты.
— Могу предложить только такой, — Нина указала на витрину, радуясь, что торты не успели подвезти и в продаже был один сорт. «Иначе эта мымра меня бы совсем замучила».
— Ах, пусть будет такой.
Нина сбегала к холодильнику, ловко извлекла из него торт, стала укладывать в коробку. Шея вытянулась над прилавком.
— Ах, он мне что-то не нравится.
— Других сортов нет.
— Пусть будет такой же, но только не этот. Я не хочу этот.
До страсти захотелось Нине показать этой мымре нос или фигу. Но ведь она отвечала не только за себя, а еще и за Гришу, который вырос из своего костюмчика, который утром голодными глазами ел рябые ватрушки. Нина только едва заметно пожала плечами. Схватила торт и понеслась к холодильнику.
— Нина!
Услышала поспешные шаги за спиной.
— Дай-ка мне торт, — Алла Петровна взяла из ее рук коробку. — Я сама выберу. Иди сюда, смотри, как надо выбирать, — громко поучала заведующая.
Она отворила холодильник, наклонилась, но даже не выпустила из рук коробки, только повернула ее другой стороной и молча, с серьезным лицом подала Нине.
— Ах, почти то, но все-таки не то, все-таки еще не то.
Почему эти люди не понимают, что ей нужно. Ах, как мало людей с настоящим утонченным вкусом!
Нина снова бросилась к холодильнику. Алла Петровна спокойно ждала ее там. Теперь коробка приняла первоначальное положение.
— Вот, вот, — обрадованно воскликнула дама. — Это как раз то, что надо!
Длинный костистый стан ее был откинут назад, руки в белых перчатках расставлены ладонями наружу. В эту минуту она любовалась художественным произведением, созданным не без ее участия, не без ее вдохновляющих советов.
— Именно то, именно то! Очаровательно, очаровательно.
И, забыв или сделав вид, что забыла про конфеты, она величественно направилась к кассе.
В очереди неприлично громко хохотали две подружки. Они удерживали друг друга, делая страшные глаза. Но как только одна умолкала, начинала смеяться другая.
Нине было не до смеха. В другое время, может быть, и она только посмеялась бы над этой дурой, но сегодня бессильные слезы еще одной незаслуженной, никак не отомщенной обиды подступили к горлу. Если бы она могла, если бы не Гриша. Эх, как бы она запустила тортом в эту сухую воображавшую воблу, и крем расползся бы пятнами по пальто. Эх… Да что там! Надо развешивать ассорти и мишек, надо предлагать шоколад и торты, надо насыщать этих ненасытных. «Ненасытные!» — точно называет их Алла Петровна.
Впервые Нина с симпатией подумала о заведующей. Если бы не она, сколько бы пришлось перетаскать тортов этой манерной дуре. Нет, она действительно, изучила покупателя, видит, «что у него под кожей». А они все подходят и подходят. Нет им конца. Все выбирают и выбирают — конфеты, печенье, пирожное, кофе… А ватрушек, корявых ватрушек с картошкой не хотите! Ух вы, ненасытные!..
Но Алла Петровна, очевидно, понимала не только покупателя. Алла Петровна, вероятно, вообще была неплохим психологом.
Она подошла к Нине, постояла рядом и, улучив момент, вынула из кармана несколько небольших гирек. Потом оттеснила Нину от весов.
— Дай-ка я немножко поторгую. А ты посмотри, поучись.
Нина растерялась. Она невольно становилась соучастницей преступления, мелкого позорного обмана.
Утяжеленная гирька перетянула чашу не на этих, на каких-то других невидимых весах ее, Нининой, жизни. Сейчас Алла Петровна снимет с этих весов какой-нибудь пакетик и никогда уже не будет прежней Нины, той Нины, какую школьные подруги прозвали Царицей, той Нины, какой оставил ее отец, какой еще утром видел ее Гриша.
Все кончится. Начнется что-то новое, противное и отвратительное.
Покупатели, как нарочно, обращались только за штучными товарами. Алла Петровна отпускала их быстро, щеголяя ловкостью и сноровкой.
— Двести граммов ассорти и полкило печенья.
Нина невольно подняла глаза. «Запомню хоть первого». У прилавка стоял пожилой морщинистый человек в сером, слегка помятом пиджаке.
Алла Петровна быстро свесила конфеты и печенье, Нина перехватила взгляд Аллы Петровны. Это был взгляд сытый, мурлыкающий, ублаготворенный.
И другой взгляд перехватила Нина — из-за соседнего прилавка на нее тревожно смотрела Галя. И кажется, не только тревожно, но и выжидающе.
Исчезла растерянность. Нина словно очнулась от какого-то давящего кошмарного сна.
Нет, зря торжествуешь, кошка, зря мурлычешь!
Она только бегло взглянула на Аллу Петровну. Но Алле Петровне почему-то стало неспокойно от этого взгляда. Нина выскочила из-за прилавка. Пожилой человек в сером пиджаке был уже у дверей.
— Извините, товарищ. Извините, вернитесь на минуточку. Вам неправильно отпустили.
Несколько смущенный общим вниманием мужчина покорно вернулся к прилавку.
— Если лишнее, то, пожалуйста… — начал он.
— Нет, не лишнее… Это вас… Это вам недовесили.
Смело оттеснив Аллу Петровну, Нина проворно пополнила пакетики с конфетами и печеньем.
— Теперь верно!
— Спасибо. Только, право, не стоило из-за такой мелочи.
«Мелочь? — мелькнуло у Нины. — Для кого мелочь, для кого вся жизнь».
Алла Петровна сочла за лучшее поспешно скрыться в своей конторке.
Обеденный перерыв. Исчезают за дверью покупатели, пустеет торговый зал магазина. Нина присела на табуретку. Забыла взять с собой завтрак, а есть очень хотелось. Мысленно улыбнулась — «итог всех переживаний, ничего, перетерплю».
Прошла Алла Петровна, на этот раз и не покосившись в ее сторону. Впервые за время их знакомства Нина не чувствовала противного внутреннего трепета. «Иди, иди, пей свой кофе». Даже по заплывшей жиром спине заведующей было видно, как клокочет в ней бешеная бессильная злоба. «Пей кофе, кулачка».
Обрадовалась, что нашла для Аллы Петровны столь точное определение. Отец не раз говорил ей, нет страшнее, безжалостнее, жаднее кулацкого племени. За копейку поднимут на вилы, пустят в спину отточенный кухонный нож, стукнут по темени ключом от пудового амбарного замка. Вот она кулачка! За копейку растопчет, искалечит, растлит человека. Все равно она, Нина, победила ее. Порвала эту липкую, обволакивающую паутину. И от этого дышалось легко, свободно, как в сосновом бору.
— Чего сидишь одна? Идем к нам.
Галя Воронцова тянула Нину за руку.
— Идем, идем! Чаю попьем.
Нина пошла было за ней, но остановилась. Вспомнила, как они еще недавно посмеивались: «Иди к своей тетушке»…
— Я что-то не хочу…
— Да брось ты ломаться, пошли. А то силой утащу.
Девушки наливают Нине чай. Наперебой угощают ее.
— Отшила Аллу-то… И не страшно тебе? — Верочка шутливо округлила свои без того круглые глаза.
Девушки засмеялись, затараторили, перебивая друг друга.
Галя сказала:
— Ладно, недолго Алле-то нас пугать. Юрию Филипповичу кое-что рассказывала. Он обещал, что скоро этой Аллы у нас не будет.
Алла Петровна держалась с Ниной подчеркнуто официально. Перешла на «вы», говорила сухо, сквозь зубы и только самое необходимое по службе. На грубом лице ее нетрудно было прочесть: «Не оценили, что ж, в друзья не набиваемся. А кто первый пожалеет — видно будет, жизнь покажет».
— Ты с ней осторожнее, — предостерегала Нину Галя Воронцова. Теперь после работы девушки обычно шли вместе, им было по пути. — Накладные подписываешь, смотри, чтобы в скобках стояли цифры прописью. А то она живо двухзначную цифру в трехзначную превратит. И тогда доказывай свою честность. За весами тоже следи, когда у нее товар принимаешь. Коробки с пирожным распаковывай, проверяй на месте. Ей и уполовинить ничего не стоит. А какую-нибудь пару штук вытащить, — Галя насмешливо щурится, — так это подобные ей долгом считают…
— А меня все естественной убылью пугала, — возмутилась Нина.
— Вот этим и берут нас, новичков, — возмущенно подхватила Галя. — Все запугивают: у тебя не хватит, смотри, проторгуешься…
— А на самом деле? Бывает, что не хватает?
— Не часто. Да и к тому же, если видят, что продавец честный, старается, — и в магазине, и в торге всегда сумеют помочь. Беда тут не в недостаче. Беда в этих самых Аллах, — почти с ненавистью произнесла Галя. — Как запугают новичка…
— Да уж не вороши! — махнула рукой Нина. От одного воспоминания ей становилось не по себе.
— Ну, он и начинает понемногу обвешивать, чтобы покрыть эту самую естественную убыль. Но ведь лиха беда — начало. Если он одного обвесил потому, что недостачи боится, другого он уже, может, и для того, чтобы в свой карман положить. Знаешь, ведь благородные-то грабители, — Галя перешла на обычный свой чуть насмешливый тон, — благородные-то грабители только в старых романах бывают.
Девушки дошли до угла, где Нине нужно было сворачивать в детский садик за Гришей.
— Я вам не обязанный!
Грузчик стоит в своей излюбленной вызывающей позе. Руки назад, одна нога выставлена и голова набок.
— Я вам не обязанный!
«Вот хорошо!» — обрадовалась подходившая к магазину Нина.
Она сразу сообразила, в чем дело. Опять Алла Петровна не угостила или чего-нибудь не дала Сазонычу.
У заведующей с Сазонычем особые отношения, совсем не то, что с Юрием Филипповичем. Каждый раз, когда возчик привозил товар, Алла Петровна угощала его. Сазоныч с удовольствием выпивал стакан водки, тряся своей седеющей дремучей гривой и морща короткий толстый нос, отказывался от закуски. Алла Петровна совала в широкий карман его выцветшей гимнастерки небольшой сверточек с колбасой или сыром, сообщнически бросая: «Тут и на шофера». Сазоныч благодарил, садился в кабину грузовика на свое место рядом с водителем.
Этот расход вряд ли входил в число необходимых, но не предусмотренных расходной сметой затрат, которые вынужден делать заведующий магазином. Тут была скорее какая-то взаимовыгодная сделка.
И подчас Сазоныч в чем-то расходился с Аллой Петровной. Тогда грузчик где попало сбрасывал сыры и колбасы, загромождал проход ящиками с фруктовой водой, и потом девушки вместе с заведующей перетаскивали все это на место.
Алла Петровна возмущалась, кричала: «Это вредительство, просто вредительство!» А возчик вставал в свою излюбленную позу: «Я вам не обязанный, я не обязанный…»
«Покипятись, покипятись», — не без злорадства желала Нина Алле Петровне.
Отношения их все больше обострялись. На днях Алла Петровна объявила девушкам, что в магазине будет учет. При этом вскользь, но значительно глянула на Нину своими бесцветными глазами и все эти дни ходила с каким-то загадочно-победным видом.
«Неужели естественная убыль все-таки может быть большой?» — с тревогой думала Нина. Заговорила о своих опасениях с Галей.
— Что-нибудь она мне подстроит.
— Если успеет, — недобро улыбнулась Галя.
Противная злобная кулачка… Пусть Сазоныч неправ, пусть, — Нина была почти уверена в этом: он нечист на руку, а в пьяном виде, несмотря на свой почтенный возраст, даже пытался приставать к девушкам. Пусть так, все равно она была на его стороне. Вероятно, если бы уличные бандиты снимали с Аллы Петровны ее зимнее пальто с чернобуркой, Нина сочувствовала бы бандитам, а не этой ненавистной кулачке.
Но что это? В спор с Сазонычем вступала, оказывается, совсем не Алла Петровна. Высокий с южным загаром мужчина подошел к грузчику очень близко, почти вплотную и негромко приятным баском сказал:
— Посмотрите, что же вы это натворили?
Сазоныч бочком, трусовато подался в сторону грузовика. Но сделав шага два, остановился, оглядел нагроможденные в дверях ящики с фруктовой водой, нагло ухмыльнулся:
— Будешь знать, как грузчика встречать. Подумаешь, ежели ты новая метла…
«Неужели новый заведующий?» — антипатия Нины сразу переместилась на Сазоныча. И заведующий настолько понравился ей, что она даже поймала себя на давно исчезнувшей мысли: «Может быть, я еще хромаю, еще заметно? Нет, теперь уже нет».
Из окна кабины высунулся улыбающийся во весь свой широкий простоватый рот шофер:
— Так, так, Сазоныч! Сразу борись за свой авторитет. А то если дашь поблажку…
Загорелый мужчина, минуя Сазоныча, проворно подошел к машине. Легко оттеснив шофера, наклонился в глубину кабины. И тотчас же выпрямился, В руке его что-то сверкнуло. «Что он сделал?» — не успела сообразить Нина.
— Зачем взяли ключ? Отдайте ключ!
Загорелый широким шагом, вертя в руках ключ от зажигания, шел к магазину. А шофер, оказавшийся на редкость низкорослым, семенил за ним на своих коротких ножках.
— Отдайте ключ. Вы что!.. Это по закону?
— А это по закону? — загорелый указал на сваленный в дверях товар.
— Причем тут я? Я причем? С него спрашивайте, — водитель указал на Сазоныча, который всем своим видом, включая раскрытый рот и приподнятые седоватые брови, выражал крайнее удивление.
Загорелый, вежливо уступив дорогу Нине, молча входил в магазин.
— Я… я буду жаловаться!
— Жаловаться никому не возбраняется, — приостановился загорелый. — По инстанциям или даже минуя их…
Из запаса Нина услышала льстивый голос Аллы Петровны.
— Вот что значит мужчина! Мужчине-то с ними легче. Особенно, если…
Аллу Петровну заглушил крик взбешенного шофера:
— Ну чего стоишь! Тащи все в запас, куда положено. Кончай этот фестиваль! Не ночевать здесь!..
— Цветешь, Ниночка. Ох, не влюбилась ли?
Любовь Ивановна испытующе оглядывала Нину, улыбалась. Галя Воронцова и круглоглазая Верочка, глядя на нее, перешептывались и тоже улыбались. Верочка пыталась даже вызвать Нину на откровенность. Но Нина еще не успела подружиться с девчонками и поэтому, а может быть, и потому, что она вообще не любила излишней откровенности, оставалась сдержанной. Ей и без того было хорошо. Так хорошо, что даже совестно перед папой. Давно ли его не стало, а она…
Ей весело теперь бежать на работу. Весело потому, что в магазине произвели учет, которым ее так пугала Алла Петровна. И хотя естественная убыль продуктов у нее оказалась действительно несколько выше норм, расхождение было очень незначительным. И новый заведующий не стал делать из ее зарплаты никаких вычетов, а сказал, что есть возможность каким-то образом списать эту небольшую сумму.
Весело потому, что не нужно больше встречаться с ненавистной Аллой Петровной. А может быть, и потому, что в магазине Александр Семенович — так зовут нового заведующего. Ну, и что ж? Может быть, и поэтому. Что ж тут плохого?
Александр Семенович как завмаг, пожалуй, даже не уступит Юрию Филипповичу. Он спокойный, вежливый и всегда чуть насмешливый. Работает так, что хоть снимай на кинопленку. Все у него легко-легко, как будто это не работа, а только самое ее начало, а работа еще будет впереди.
Теперь в магазин привозят самые лучшие, самые ходовые товары. Алла Петровна из-за них все с кем-то ругалась, кому-то льстила, хитрила, а Александр Семенович как будто не прилагает никаких усилий. Самого привередливого, самого скандального покупателя, а особенно покупательницу умеет быстро успокоить. Глядишь, и они уже отвечают на его улыбку, доброжелательную, чуть насмешливую.
А как он отвадил всех тех, которые тянулись в магазин с черного хода! Алла Петровна успела приучить. Она всегда встречала их угодливой улыбочкой. Сама отпускала продукты, сама получала деньги, потом сдавала в кассу.
«Частично сдавала», как иронизировала Галя Воронцова.
Александр Семенович встречал таких покупателей без улыбки.
— Вы ошиблись, — вежливо говорил он. — Здесь ход служебный.
Иные сразу же исчезали, бормоча извинения, виновато юркнув в дверь. Другие пробовали возражать.
— Мне и нужен именно служебный, — басил полный мужчина в серых каракулях.
— Насколько я знаю, вы у нас не работаете.
— Не знаю, долго ли вы проработаете…
Любопытный случай произошел с женой одного из работников торговой инспекции. Она явилась в магазин со служебного хода.
— Я — Гусева. Мне нужно кое-что купить.
Заведующий предложил ей пройти в магазин.
Она вновь повторила:
— Я — Гусева.
— Прошу ко мне, — вежливо пригласил Александр Семенович. — Одну минуточку, прошу извинить.
Александр Семенович снял телефонную трубку и начал набирать какой-то номер. Гусева с достоинством села.
— Товарищ Гусев? — спросил Александр Семенович. — Здравствуйте.
Гусева вскочила.
— Говорит заведующий семнадцатым продовольственным магазином Горный. У меня сидит ваша супруга и требует неизвестно почему…
— Что вы… Что вы делаете?! — испуганно закричала Гусева.
— И требует неизвестно почему, — не обращая внимания, говорил Александр Семенович, — чтобы я отпустил ей продукты с черного хода… Я так и предполагал, что вы не знаете. Дать ей трубку?.. Пожалуйста, мадам Гусева.
Гусева боязливо приложила к уху телефонную трубку. Через минуту ее уже не было в магазине.
Да! Необыкновенный человек Александр Семенович. Если бы Нине рассказали, что такие бывают в торговле, она бы не поверила. А влюбиться? Разве может Нина в него влюбиться? Он ведь очень пожилой — Александр Семенович Горный. Ему, наверное, даже сорок лет. Морщин у него, правда, нет, но возле рта такая глубокая складка. Особенно когда задумается.
А он, Александр Семенович, как-то отличает Нину. Ей даже кажется, она знает, когда это началось. В обеденный перерыв, когда ей вдруг захотелось передразнить Галку, как она занимается комсомольскими делами. Эта старая привычка передразнивать вернулась теперь к Нине. Она вскинула голову, как это делает Галка, и, обращаясь к Верочке, сказала:
— Ты не думаешь, Вера, что комсомольские поручения следует выполнять?
И голосом Веры, растерянно, очень похоже, моргая глазами:
— Я, конечно, думаю, Галочка. Я все время думаю.
Галка больно наступила Нине на ногу, но та ничего не поняла и продолжала дурачиться. Девушки затихли и смотрели куда-то мимо нее. Нина обернулась. У входа в зал стоял Александр Семенович и негромко весело смеялся. Нина смутилась, покраснела до ушей, и тогда-то он взглянул на нее как-то особенно…
Магазин был уже закрыт. Продавщицы расходились. Нина и Верочка замешкались с подсчетом денег.
Из своего кабинетика вышел Александр Семенович.
— Меня никто не спрашивал?.. Досадно.
Заведующий прошелся по опустевшему и как всегда вечером непривычно просторному залу.
— Не люблю узеньких людей.
— Узеньких? — удивилась Нина.
— Все в порядке, — сказала Верочка, — как в аптеке. — Она передала Александру Семеновичу выручку.
Пулей выскочила за дверь. Из-за двери высунула свое краснощекое личико.
— До свидания.
Исчезла и высунулась еще раз.
— Забыла попрощаться.
Александр Семенович переглянулся с Ниной, засмеялся. Пошел к себе.
— Кончайте, Нина, там уже инкассатор дожидается.
Нина сдала деньги. Александр Семенович вручил сумку с деньгами инкассатору. Тот взамен оставил пустую на завтрашний день.
— Так вот, — обернулся заведующий к Нине, — об узких людях. Знаете, бывают такие коридоры в старых домах. Пройти в них можно, а на большее, как говорится в песне, ты не рассчитывай.
— На что большее?
— На красоту, удобство. Вот и люди есть такие. Свое прямое назначение они еще выполняют. Что-то там делают. А на большее их не хватает. На значительное и на малое тоже. Вот сегодня сговорились с одним приятелем, такой же одинокий холостяк, как и я, идти вместе в театр, на премьеру. Я с трудом достал билеты. И видите, — Александр Семенович комически горестно развел руками, — не пришел. Уверен — напьется где-нибудь или в кровати проваляется. Придется идти одному. Ну что, Нина, закрываем магазин.
Когда Александр Семенович возился с замком и пломбой, а Нина уже попрощалась и застучала каблучками по тротуару, он вдруг спохватился.
— Нина, подождите-ка. Какой все-таки я старый нахал! Ведь следует пригласить вас. Пойдемте со мной в театр. Морального разложения нам не припишут, поскольку вы вполне можете сойти за мою внучатую племянницу.
Перед тем Инна злилась: «Даже не попытается пригласить меня. А как бы здорово»…
Но сейчас она заколебалась. «Пойти или нет? А вдруг заметит, что я хромаю. И успею ли я сбегать за Гришей? А что скажут девчата?»
Но сама уже говорила весело, беззаботно:
— Если смогу заменить вашего приятеля, который пьет или валяется на диване…
Давно-давно не надевала Нина любимого платья, давно-давно так старательно не взбивала свои легкие волосы, так придирчиво не осматривала себя в зеркало.
— Красавица ты у нас, — искренне залюбовалась Любовь Ивановна.
И только Гриша возмутился:
— Опять шалаться, Нинка. А кто обещал мне сегодня почитать «Человек рассеянный с улицы Бассеянной»?
Александр Семенович ждал ее у театра. Гуляя по традиционному для всех театров кругу фойе, Нина немного подосадовала на свое простенькое платье, слегка потертые туфельки. Надо продать их и другую поношенную пару. И купить новые. Там какая-то соседка всегда у папы брала продавать старые вещи. Только она, говорят, уезжает. Если не уехала… Скромность ее наряда подчеркивала дорогой костюм Александра Семеновича с тремя рядами орденских планок на левой стороне пиджака. Но скоро она забыла об этом.
Александр Семенович всегда радостно удивлял Нину. Началось это еще с первой встречи, когда он без труда поставил на место нахала Сазоныча. С тех пор она не переставала радоваться и удивляться каждому его поступку, слову, движению. Здесь, в театре, он как будто не сказал ничего особенного. Но Нину удивляло и радовало каждое его замечание о публике, манере одеваться, отделке фойе и удивляло и радовало то, что Александр Семенович и вне своей торговой сферы держится также уверенно, спокойно, чуть насмешливо.
И еще Нине было приятно, что Александр Семенович относился к ней не просто вежливо, а почтительно и как-то очень осторожно. Ни разу даже не взял ее под руку.
Места у них были самые лучшие, в пятом ряду, в центре.
Перед началом к Александру Семеновичу наклонился его сосед, пожилой военный:
— Ваша супруга обронила…
Нина смутилась, покраснела. Александр Семенович как-то особенно взглянул на нее, и от его взгляда ей стало одновременно и страшно, и хорошо.
«Как бывает!» — изумленно подумала Нина.
Она родилась во время войны, и все участники войны в ее глазах были старыми людьми. Это почти документально подтверждало суровое торжественное слово «ветераны». И вот один из них, увешанный орденскими планками, сидит рядом с ней, и люди принимают его за ее мужа. А ведь действительно Александр Семенович очень молодо выглядит. Ни морщин, ни одного седого волоса, только энергичная складка возле рта. Папа был не так уж много старше его, но седой, на лбу и возле глаз морщины. Особенно постарел он после ухода матери. Мать словно отравила отца каким-то ядом, этот яд незаметно от всех разъедал его.
А ведь и у Горного была, наверное, когда-то семья. Может быть, и сейчас есть, хотя он и говорил что-то о своем одиночестве. Нине стало не по себе. И неловкость и еще какое-то незнакомое тяжелое чувство охватили ее.
Александр Семенович не то понял ее состояние, не то просто поддался горьким воспоминаниям.
— Жена! — сказал он. — В сорок четвертом погибла на фронте, ей тогда было девятнадцать.
Нине стало жаль Александра Семеновича, но одновременно исчезло и то, незваное, тяжелое и давящее… «Что это было? Неужели ревность, неужели я ревновала?»
…Поднялся занавес. Нина любила этот миг. Открывалась не сцена, открывались чужие жизни, стягивались тугим углом чистота и корысть, благородство и подлость, душевная сила и безволие.
И хорошо-хорошо было следить за тем, как побеждает светлое. Пусть некоторые скептически улыбались: «Добродетель торжествует, порок наказан. Примитив!» Так и должно быть. В этом мудрость жизни.
После смерти отца и во время своей войны с Аллой Петровной она в какие-то минуты усомнилась в этой мудрости. Но это же был приступ малодушия. Просто ее бросили в воду, не научив плавать. И ей на секунду показалось, что плавать вообще невозможно. Даже смешно. Но это все в прошлом. А теперь Нина знает — светлое побеждает!
Театр в ее родном городе был неважный. Помещался он в старом здании, из тех, которые по официальной терминологии именуются приспособленными. Артисты менялись так часто, словно в их жилах текла цыганская кровь. По веснам они не могли равнодушно слышать паровозные гудки и вместе с пробуждением природы разъезжались в неизвестных направлениях. Режиссеры были тоже из разряда кочующих. Появляясь, они до хрипоты ругали своих предшественников, до хрипоты кричали о своей приверженности к искусству, ставили два-три посредственных спектакля и, исчерпав этим свои возможности, начинали поносить актеров, зрителя, местное руководство, современную драматургию и, наконец, исчезали.
Они совершали фантастические рейсы — Прибалтика — Алтай — Закавказье — Колыма — Белоруссия — Дальний Восток. Расстояния их не останавливали. А на их место приезжали другие…
Но все-таки это был театр. И пьеса, если она чего-то стоила, сама говорила за себя, и всегда находились хотя бы один-два актера, которые светились, если не талантом, то искренностью, увлеченностью.
На этот раз пьеса оказалась своеобразной. В ней было всего три действующих лица — муж, жена и большой друг семьи. В фантастической, почти условной форме показывалось, как равнодушие мужа принижает красивую и талантливую женщину, а любовь снова окрыляет ее, превращая из Золушки в принцессу.
— Да, — рассуждал Горный, когда они шли домой. — Да, человек такой, каким его видят те, кто рядом. Только такой, а не другой!
И хотя пьеса была, в сущности, не об этом, Нина не стала с ним спорить. Она думает о другом. Александр Семенович кажется ей похожим на того «доброго волшебника» из пьесы, который превращает Золушку в принцессу.
Нине не хочется домой. Она бы с удовольствием погуляла. Может быть, потому что уж очень славная погода. Такая погода бывает только здесь. Среди суровой зимы вдруг проглянет весеннее солнце, зазвучит веселая капель, прозрачней станет воздух, выше небо. И оттого сейчас вечером, когда свежит несильный морозец, так бодряще похрустывает под ногами искристый ледок.
Да, Нина не отказалась бы полчасика покружиться по нешироким улицам. Но Александр Семенович не предлагал ей этого…
— А что, Нина, если вы подарите мне еще один вечер?
Меньше всего Нина понимала себя. Всю неделю после памятного посещения театра она ждала подобного вопроса. Но Александр Семенович разговаривал с ней только о деле. Нине было досадно. И в то же время она недоумевала: «Ну, чего мне надо? Разве ему интересно со мной? Ведь он годится мне в отцы. И то, что он пригласил меня, была простая случайность. Ведь он же сам объяснил… Все, все объяснил, как в школе».
— Поскучайте со стариком!
В маленьком коридорчике послышались грузные шаги. Приближался «покоренный Сазоныч», как прозвали теперь девушки старого возчика. Он чуть не молитвенно смотрел на Александра Семеновича и, казалось, готов был не только перетаскивать ящики и мешки, но, если потребует Горный, броситься в огонь.
— Я подумаю, — сказала Нина. И, захватив коробку с пирожными, за которой она приходила, побежала к себе.
— Что же вы надумали? — спросил Горный перед закрытием магазина. А Нина не надумала ничего. Возмущалась: «Веду себя, как какая-то кокетка». Решала: «Скажу, что не могу. Должна прийти подруга. Надо смотреть за братом». И тут же спрашивала себя: «А куда он предложит пойти? Интересно».
— Что вы надумали?
— Не знаю, — призналась Нина.
Александр Семенович улыбнулся.
— Дается вам на раздумье еще два часа.
— Как? — удивилась Нина. — Уже конец работы.
— Через два часа буду ждать вас… Ну, где же? В сквере, у кино «Аквариум». Не придете, не обижусь.
Нина пришла. Они решили пойти в кино. Окошечко кассы хвасталось объявлением: «Билеты проданы». Александр Семенович хотел пойти к администратору, но Нина удержала его.
— Говорят, картина неинтересная.
Они пошли бродить по улицам. Вечер выдался тихий. Шел мягкий, неторопливый снежок.
— А жаль все-таки — не посмотрели фильм, — сказал Александр Семенович. — Я ведь этого писателя знаю, который — как у них называется?.. — сценарий сочинил.
— Знаете писателя? — удивилась Нина.
— Случайно. Забавный был человечина.
И хотя Александр Семенович говорил с обычным ленивым добродушием, Нина все-таки уловила невольно прорвавшееся: «И мы не лыком шиты, знали кое-кого».
— О войне пишет, — продолжал Александр Семенович, улыбаясь своим воспоминаниям. — А вначале был еще тот солдат! Я с ним в запасном полку познакомился. Стояли мы в Марийских лесах. Я там очутился после ранения, после третьего, кажется, — вспоминает Александр Семенович, — нет, после четвертого.
«Господи, сколько же ранений у него», — с уважением думает Нина.
Рассказывал Горный интересно. В их роте оказался писатель. Уже немолодой — ему шел сороковой год, но сухой и нескладный, как юноша. Шинелей не хватало. Полное обмундирование выдавали только отправляя на фронт. Многие ходили в своей одежде. И писатель возвышался в строю в модном по тем временам московском пальто с широкими накладными плечами.
Впрочем, как раз строй давался ему с трудом. Писатель не умел ходить в ногу и утверждал, что у него, как у какого-то поэта, который был даже другом Маяковского, «свой ритм». Может быть, это было и так, может, и не так, но во всяком случае командир взвода нередко отпускал писателя из строя, чтобы не портил вида.
И, как требует каноническая композиция таких историй, «однажды, как на грех» проезжал генерал. Генерал ехал в открытой машине. «Кто бы мог быть? — размышлял он, приметив писателя. — Разгуливает в штатском. Проверяющий какой-нибудь? А то подымай выше. Новый член Военного Совета. Старый-то, говорят, переведен куда-то». Генерал выскакивает из машины. Прикладывает руку к козырьку. Такой-то, генерал-майор.
Писатель спокойно подает руку.
— Объезжаю кухни, — говорит генерал. — Пока не увижу, что едят солдаты, за стол не сяду.
— Суворовский обычай, — одобряет писатель.
Они идут мимо землянок. Сзади вышколенный генеральский шофер почти бесшумно ведет машину.
— Это наш клуб, а вон баня, прачечная, — поясняет генерал. — Целый город выстроили под землей. Тут и строим, тут и резервы готовим. Да вот снабжение подводит, как говорится, не без трудностей.
— Война, — резюмирует писатель.
— А вы к нам по какому вопросу? — наконец решается осведомиться генерал.
Узнав, в чем дело, он не удерживается от улыбки:
— Ну, желаю вам успехов в службе.
Нина хохочет, хохочет до неприличия громко и вдруг разом останавливается. Александр Семенович смотрит на нее опять, как тогда, в театре, и снова, как тогда, ей становится страшно и приятно.
Они кружат по улицам. Горный рассказывает разные истории. Запас историй у него немалый. И Нина не в первый раз замечает — они почти никогда не касаются торговли. Горный стремился подчеркнуть: ему не чужды другие интересы, он кое-что знает, кое с кем соприкасался даже из мира искусства. Правда, Нина чувствует что о театре, живописи, музыке он знает не так уж много. Но тем больше нравятся ей неожиданные суждения, в которых сказывается цепкий ум.
— Ну, я вам надоел, Ниночка! Пригласил бы вас в ресторан, да, пожалуй, не совсем удобно.
Нину и манит и пугает это слишком уж вольное слово — ресторан. Сомнения разрешает сам Александр Семенович.
— Да, конечно, неудобно.
Говорит очень вежливо, но немного лениво и безразлично.
Нина не раз замечала в Горном немного ленивое безразличие ко всему, что он делал и говорил. Это ленивое безразличие даже нравилось ей. Оно говорило о немалой внутренней силе. Если безразлично, играючи Александр Семенович мог делать все так хорошо, споро, ладно, то что же он может вершить, когда возьмется за дело всерьез, отдастся ему целиком?
Тем не менее Нина считала, что в отношении к ней это безразличие ни в коем случае не должно проявляться. А оно проявлялось, проявлялось почти всегда, за исключением тех коротких мгновений, когда Горный по-особому смотрел на нее.
Ложась спать, Нина решила, что завтра непременно проучит Александра Семеновича. Она еще не знала — как, но была уверена, что сделает это, ей поможет чутье, шестое женское чувство.
Но в магазине Александр Семенович даже по делу ни разу не подошел к ней. «Ладно, ладно, — заставляла себя улыбаться Нина. — Он еще пожалеет!» Не подошел он и на следующий день.
В тот вечер к Нине пришли Рита Осокина и Леночка Штемберг. Девушки еще в школе привыкли к капризной смене Нининых настроений. Сейчас, заметив, что подруга не в духе, они всячески старались развлечь ее. Рита просто тормошила Нину, а Леночка прибегала к своему излюбленному методу — рассказывала смешные истории. В комнате все время слышалось: «А помнишь? А помнишь?» Но смеялся один Гриша, пока его не увели спать Нина только принужденно улыбалась и кивала головой.
— Грустная она какая-то, — озабоченно сказала Леночка, когда они с Ритой шли домой.
— Мне кажется, ей обидно, что мы студентки, а она… — начала было Рита.
— Как тебе не стыдно! — оборвала ее Леночка. — Разве Нина такая?
Рите действительно стало стыдно. И она разозлилась и на себя и на Нину:
— Другая сказала бы, а ее разве поймешь? Как была Царицей, так и осталась. Где же она будет с нами делиться! И нечего к ней ходить.
— Глупая ты. Легко ли ей сейчас одной без отца? — рассудительно заметила Леночка.
Подруги дружно вздохнули…
Александр Семенович не подошел к Нине и на третий день.
«Ладно, ладно, — говорила себе Нина. — Он еще пригласит, и я ему скажу. Я ему так скажу!»
Что значит — «так скажу», Нина твердо не знала. Но приходили разные варианты презрительного мщения. Например: «Не могу. Все эти дни у меня были свободные вечера, а вот сегодня занята. И завтра буду занята». Или еще лучше чуть высокомерным и безразличным тоном: «Нет, Александр Семенович, что-то не хочется».
На четвертый день Александр Семенович позвал Инну к себе в конторку.
Сердце у нее забилось так, будто спешило выпрыгнуть и раньше ее очутиться в маленькой комнатушке. «Нет, я все-таки скажу, скажу так, как думала. А потом, потом, когда он будет упрашивать…»
— Нина, надо бы в свободное время сахар расфасовать. Пятьсот граммов — самый ходовой вес.
Ошеломленная Нина молчала.
— Вы поняли меня? — Александр Семенович чуть недоуменно взглянул на нее.
— Поняла.
— Ну, хорошо. — Заведующий уткнулся в бумаги. Нина постояла еще немного.
Потом она не могла простить себе этих унизительных секунд. Ждала, чего-то ждала. А он разговаривал с ней, как с любой другой, как с Галкой, с Верочкой, с кем угодно. Он — после всего… Хотя — после чего всего? Ведь ничего не было. Сходили раз в театр и раз погуляли по городу. Да он и забыл. Он и не думал ничего такого… А она, идиотка, вбила, вдолбила себе в голову. Вбила… Но почему же он так смотрел на нее тогда в театре и потом на улице?
«Ну вот, я опять, я опять! Ну, что я буду с собой делать? У меня нет гордости, даже нет самолюбия. Нет, есть, есть! Ни за что, никогда не пойду с ним, ни за что, хотя бы он даже целый день здесь, при всех девочках и покупателях, стоял передо мною на коленях!»
Это Нина решила твердо. Но все-таки ей хотелось, чтобы Александр Семенович подошел к ней, все-таки она ждала этого. Сначала ругала себя, а потом решила: «Ну, и что же! Только для того, чтобы отплатить ему и вообще, чтобы он не думал, чтобы он знал…»
Это случилось в субботу. Александр Семенович снова пригласил ее в свою конторку. Но заговорил не о расфасовке сахара.
— Нина! Не хотите посмотреть тот самый кинофильм, на который мы тогда не попали?
— Нет. — Нина задохнулась от предательского волнения. — Нет, Александр Семенович, что-то не хочется.
Все-таки она выговорила эту, заранее заготовленную фразу. Выговорила! И даже, кажется, неплохо. Только вначале перехватило горло, а потом именно так, как ей хотелось, чуть высокомерно, но совершенно спокойно и безразлично. Пусть знает! Пусть!
— Не хочется? Это бывает. Бывает.
Александр Семенович говорил вежливо, но по своему обыкновению безразлично и немного лениво.
Нина ждала чего угодно, ждала, что он ответит колкостью, или презрительно посмотрит на нее — «девчонка», или постарается прикинуться безразличным. Но такого естественного, неподдельного безразличия она не ожидала. «Что я стою! Опять стою перед ним!» — и, растерянная, не двигалась с места.
Вдруг, словно от прикосновения волшебной палочки, исчезла всегдашняя безразличная лень Александра Семеновича. Он встал, уверенно и властно взглянул на Нину. Резко, даже грубо притянул ее к себе и стал целовать в мягкие, словно испуганные губы…
Нина не сопротивлялась. Только растерянно прошептала:
— Кто-то идет.
— Мимо! — Александр Семенович еще несколько раз поцеловал ее, повелительно бросил: — В восемь жду тебя у кино.
— Хорошо, — растерянно пролепетала Нина.
В кино Нина не пошла. Ей очень хотелось увидеть Александра Семеновича, услышать от него особые, неслыханные слова, если не извиняющие, то объясняющие его поступок. Было неловко, что Александр Семенович напрасно прождет ее.
Но все это отступало перед стыдом, обидой, злостью на себя. Как она могла! Нина знала, что девчонки в старших классах целовались с ребятами. И она однажды позволила Веньке Сосновскому поцеловать себя. Но это было только раз. А сколько Венька ходил за ней? Ждал ее часами на катке, уступал свою очередь играть в настольный теннис, доставал билеты в кино и на концерты. Имел мужество не обращать внимания на то, что в школе то и дело подшучивали над ним, а после того, как остроязыкая Леночка назвала его «фрейлиной Царицы», будто даже забыли, как его зовут, а так всегда и звали — «фрейлина». Да, она позволила Веньке Сосновскому один раз поцеловать себя вечером, на реке.
Но сегодня… Как она могла позволить человеку, который неделями не подходит к ней, разговаривает с ней безразлично и лениво?.. И где? В пропахшей сыром и колбасой комнатушке, на задах магазина! Нет, он не только безразличен, он презирает ее, смотрит на нее, как на самую последнюю. Попробовал бы так с Галкой! Галка бы сумела… Галка дала бы ему такой отпор! Или Верочка… А она… Стыдно, так стыдно… Даже ночью, в кровати, Нина чувствовала, что краснеет.
И все-таки это не вытеснило другое. Не вытесняло желания услышать особые, горячие слова, не вытеснило ожидания чего-то нового, страшного и небывало прекрасного.
Нина старалась прогнать, подавить радостное ожидание. Но оно было стойким. «Ой, Нинка, что с тобой будет?» — отчаивалась она. И тут же испуганно убеждалась: настоящего отчаяния не было. Было скорее стремление отчаяться.
И утром на заученном пути в магазин Нина заставляла себя замедлять шаги и гасить непрошеную неуместную улыбку. «Как все меняется! — думала она. — Магазин при Юрии Филипповиче, при Алле Петровне… Алла-то Петровна, говорят, нигде не может устроиться… не берут. Магазин еще вчера утром и сегодня. И даже эта комнатушка, в которой я когда-то, словно загипнотизированная Аллой Петровной, не чувствуя вкуса, пила кофе, налитый из ее термоса…»
Часов около одиннадцати Нина не увидела, а скорее почувствовала, что Александр Семенович появился в магазине. И с той минуты, что бы ни делала, как бы ни спешила укоротить то и дело подрастающую очередь, все ждала, что он позовет ее к себе, все оглядывалась на заднюю дверь. Но Александр Семенович не звал. Нина начинала злиться. «Может быть, он думает, что у останусь после работы? Ни за что не останусь!» И в свободные минуты бросалась подсчитывать выручку. «Все подсчитаю и уйду. На зло уйду первой».
Но незадолго до конца рабочего дня Александр Семенович подошел к Гале.
— У меня тут кое-какие личные дела, — сказал он, — так я сейчас исчезну. А вы без меня закроете магазин.
— Хорошо, Александр Семенович, не беспокойтесь.
Нина не помнила себя, не соображала, что делает, плохо слышала покупателей. Выручал все тот же спасительный, видимо, навсегда обретенный автоматизм.
«Я-то дура, я-то идиотка думала о нем весь вечер, ночь. И целый день, целый день ждала… А он! Да он просто забыл. Для меня — событие. А для него.. Дура я, дура, гадкая, порочная дура! Если бы знали девушки, как я… как я низко пала».
И завтра, и послезавтра, и еще несколько последующих дней Александр Семенович не избегал Нины, общаясь с ней так же, как и со всеми другими продавщицами, приглашал ее по делу, сидел с ней рядом на профсоюзном собрании, но ни одно его слово, ни одно движение не говорило о том, что между ними есть какие-либо отношения, кроме обычных служебных…
Когда время несколько притупило остроту, утешило боль, Нина даже подумала: а было ли все это?
В субботу Александр Семенович попросил Нину зайти к нему, чтобы составить заявку на товар по ее отделу.
— Впрочем, сейчас мы не успеем. Скопятся покупатели. Давайте, займемся этим после работы.
После работы, когда они остались одни, с Александром Семеновичем вновь произошла та перемена, которой, не признаваясь себе, все время ждала и боялась Нина. Вмиг исчезла его безразличная ленца, его чуть снисходительная вежливость.
— Иди сюда, — властно приказал он.
И в голосе, и во взгляде, и даже в том, что сам он не двинулся с места, а велел подойти ей, была самоуверенность и властность.
— Что вы… Что вы делаете?.. — шептала Нина и, как слепая, шла к нему.
Он снова резко, почти грубо притянул ее к себе и стал целовать.
— Почему не пришла в кино?
«Значит, он помнит, помнит!» Это была, пожалуй, единственная мысль, которая в те минуты мелькнула у Нины.
— Сама не знаю, — почти оправдываясь, сказала она.
— Пойдем сегодня?
— Пойдем.
В тот вечер Нина не обижалась на Александра Семеновича и ни в чем не упрекала себя. Накормив Гришу и попросив Любовь Ивановну присмотреть за ним, она побежала в кино. Чуть припорошенные снегом празднично сверкали счастливые ее кудряшки.
Вот и внушительное здание нового кинотеатра. У высокого подъезда толпился народ.
— Девушка, нет лишнего билетика?
Где же Александр Семенович? Он или не он? Да он же, конечно! Удивительно, как она могла не узнать его сразу. Словно что-то незнакомое появилось в его фигуре.
Лишь оказавшись в двух шагах от Александра Семеновича, Нина поняла, что он не один. Не то, чтобы рядом, а как-то недалеко стоял сухощавый сгорбленный старик. Весь он был какой-то нечистый. Лицо, обросшее седой щетиной, морщинистое, пальто с заскорузлыми полами, обтрепанными рукавами, войлочные ботинки стоптанные, с налипшей на них еще осенней бурой грязью..
Старик и Александр Семенович не разговаривали, не смотрели друг на друга, но Нина безошибочно почувствовала связь между ними, как почувствовала и то, что Александр Семенович не обрадован ее приходом.
Тем не менее Горный широко улыбнулся, взял Нину под руку.
— Идемте, здесь холодно.
«Старик не с ним», — почему-то облегченно подумала Нина. Но тут же услышала:
— Так как же?
Старик говорил негромко и нарочито униженно. Но просительной поспешности, просительного испуга в его тоне совершенно не было. Наоборот, сквозила даже какая-то уверенность в своем праве просить. «Значит, старик все-таки с ним».
Александр Семенович промолчал.
— Так как же? — чуть громче повторил старик.
Александр Семенович опустил руку в карман и, не оборачиваясь, брезгливо сунул старику несколько мятых пятерок.
— Подонок, — пояснил он Нине, когда они уже прошли в фойе. — Вернее, стал подонком. Вместе когда-то воевали. Совсем другой парень был. А теперь вот где-то обидели, сажали что ли по какому-то навету. И вот запил. Долги у него образовались. Встретил меня. Ну, как откажешь, все-таки однополчанин.
Нина крепко сжала руку Александра Семеновича. Инцидент как будто был исчерпан, но старик словно бросил мрачную тень на Горного. В кино он не сказал ни одного слова. И Нина понимала, что он погружен в какие-то думы, куда ей нет входа.
«Как это его расстроило! Замечательный человек! Как папа!» — думала Нина.
Только после кино Александр Семенович немного оживился. Заговорил о том, что в торге укоренилась неправильная практика распределения продуктов.
— Все готовы разослать по крупнейшим магазинам. А мы — торгуй, чем хочешь. План даем — и ладно. Да разве в плане дело? У нас же свой покупатель. Ему тоже нужно все дать. Я там сегодня кое с кем поговорил…
Улыбаясь, Нина вообразила себе, как чуть снисходительно, лениво, безукоризненно вежливо и в то же время безапелляционно приводит свои неопровержимые доводы Александр Семенович.
— Представляю этот разговор! — Она восхищенно смотрела на Горного.
— Да уж не подарок им был! — засмеялся Александр Семенович.
Он стал было обретать свое обычное, спокойное, лениво-добродушное состояние.
— Здравствуй, Нина Казанцева.
Наперерез им по заснеженному переулку шел маленького роста паренек в просторной «москвичке». Нина не сразу вспомнила, где она видела эти румяные щеки и по-детски припухшие губы.
Да это же Зуб! Андрей Зуб! Только он по контрасту со своей щуплой фигурой разговаривал таким грохочущим басом.
— Здравствуй, Андрей, — звонко и радостно отозвалась Нина.
— Кто бы это был? — усмешкой стараясь прикрыть раздражение и недоброжелательность, спросил Горный.
Было непонятно, откуда идет эта недоброжелательность. Нина рассказала о своей встрече с Зубом.
— А какая у него замечательная память. Ведь он только раз меня видел!
Горный молчал. И Нина чувствовала, что раздражение его все нарастает.
— Значит, он послал тебя в магазин? — с видимым усилием скрывая свое раздражение, наконец, сказал Александр Семенович. — Ну что же, я должен быть благодарен ему за это. Иначе мы бы не встретились. Впрочем, он, вероятно, просто выполнял план.
Нина не улыбнулась шутке. Слишком мрачно и даже зло была она произнесена.
Что подарить? Разве что-нибудь из книг. Нет, видно, что все они не новые.
Тогда из вещей. Нина несколько раз оглядела комнату. Безнадежно!
Александр Семенович случайно проговорился, что завтра — его день рождения. Нине очень хочется сделать ему подарок. После той странной вспышки раздражения у кинотеатра Нина, кажется, еще лучше поняла Александра Семеновича. Как бы извиняясь перед ней, он рассказал о своей трудной судьбе, одиночестве. Она поняла, что он не такой уж благополучный, что пребывание на фронтах оставило и на нем свои следы. Гордилась тем, что она одна знает об этом.
Но что же подарить Александру Семеновичу?
Купить бы что-нибудь. А деньги? У нее накоплено двадцать семь рублей. Но в магазине появились цигейковые шубки, в самую пору Грише. Деньги пойдут на шубку, еще не хватит.
Кто это стучит? Почта? Вот бы перевод! Папе нередко приходили переводы за его статьи… Нет, только газета. Но в ней тираж. У папы, кажется, были-такие облигации.
Чудо, настоящее чудо! На одну из облигаций падает выигрыш — целых 50 рублей. Может быть, ошибка? Нет! Папа всегда совал ей в кармашек деньги на школьный завтрак, на мороженое, просто так пригодятся. И здесь папа снова выручил ее.
Что же она подарит Александру Семеновичу? Электрическую бритву! Нет, он должен бриться опасной — Нина почему-то уверена в этом. Авторучку? У него прекрасная ручка. Рубашку? Пожалуй, неудобно. А если несессер? Несессер — неплохой подарок. Будет собираться в дорогу, вспомнит о ней.
Может быть, посоветоваться с Любовью Ивановной? Нет, нет! Нина даже покраснела от этой мысли. Любови Ивановне, которая знает весь ее бюджет, нельзя говорить про выигрыш. Да и вообще лучше никому не говорить. Начнутся пересуды. Столько нехваток, а ты тратишь на подарок. Нет, она решит сама. Даже приятнее решить самой…
Нине хотелось хотя бы на несколько секунд остаться наедине с Александром Семеновичем, поздравить его, передать подарок. Но покупатели шли непрерывной, несокращающейся цепочкой. Только часам к одиннадцати выпала свободная минутка. Однако и тут подбежала круглолицая Верочка. Мясо сегодня не подвезли, и Верочке было абсолютно нечего делать.
— Нина, свешай мне триста граммов песочного печенья.
— У меня нет песочного.
— Как нет? Куда оно девалось?
— Неделю назад кончилось.
— Так его же тебе только позавчера привезли… Да что ты от меня отмахиваешься, как от мухи! — трещала Верочка. — Я сама фактуру принимала. Александра Семеновича не было, и мне фактуру отдали с базы. Я ему передала. Пойдем, Александра Семеновича спросим.
«Еще не хватало», — досадливо подумала Нина.
— Ну что ж, пойдем.
Александр Семенович собирался куда-то позвонить, но, увидев девушек, положил трубку, приветливо улыбнулся.
— Александр Семенович, — начала Верочка, — мы ведь получали песочное печенье?
— Не помню, — с некоторой заминкой ответил Горный.
— Я еще вам фактуру передавала.
— Знаете, сколько я за день фактур получаю…
Александр Семенович кивнул на солидную стопку бумаг на столе.
— Ну как же вы забыли, я же вам передавала…
— Почему вас это интересует? — резковато спросил Горный.
— Просто я хотела купить…
— В своем магазине вам надо думать не о том, что купить, а о том, что продать. У вас еще что-нибудь ко мне?
— Нет, — Верочка направилась к двери.
— У вас?.. — обернулся заведующий к Нине.
— Я хотела… — начала было Нина, но когда дверь за Верочкой закрылась, она наклонилась к Горному, быстро поцеловала его: — Поздравляю. Это тебе… — Нина извлекла из сумки, которая была у нее в руках, небольшой несессер.
— Зачем? — хмуро сказал Горный. — Зачем тратишь деньги?
Нина была обижена. И в то же время чувствовала, что Александром Семеновичем овладевает один из тех неприятных приступов дурного настроения, с которыми она была знакома.
«Откуда это? Ведь когда мы вошли, он был совсем не таким».
— Тратишь деньги, — чужим неприятным голосом продолжал Горный, — а у самой платьишка приличного нет.
Резко отворив дверь, влетела Галка.
— Александр Семенович, сливки опять не везут. Это докуда же…
Нина вышла, с трудом удерживая слезы.
— Ты извини меня, — говорил ей Александр Семенович в обеденный перерыв. — Как-то представил, что ты во всем нуждаешься и такая трата… Знаешь что, ты лучше сдай-ка его обратно. — И, предупредив протестующий жест Нины, продолжал: — А мне сделаешь другой подарок. Я тут скопил на золотые часы. Ты мне их купишь, сама выберешь, сходишь к граверу, сделаешь надпись.
— Хорошо, сделаю, — сказала Нина. — Но несессер ты тоже возьмешь. Иначе я обижусь…
— До свидания, Нина!
— До завтра, Нина!
— Нина, привет!
После работы девушки расходились из магазина. Ни одна из них не приглашала Нину в попутчики. Даже Галя, которая жила неподалеку. Ни одна не спрашивала: «Ты что копаешься?»
Нина понимала, что они намеренно оставляют ее вдвоем с Александром Семеновичем.
Интересно, откуда они узнали? Горный нередко приглашал Нину побродить по улицам. Но как будто они ни разу не встречали никого из своих. Неужели можно просто догадаться? Наверное, они осуждают ее. Впрочем, не все ли равно. Какое им дело до нее!
Важно совсем другое. Важно, что Александр Семенович ждет ее в своей маленькой комнатке. Специфические запахи магазинного запаса, запахи сыра, колбас, других продуктов теперь не кажутся Нине неуместными. Она просто не замечает их.
— Здравствуй, — сказала Нина, войдя к Александру Семеновичу.
Они уже виделись сегодня, но Нина всегда здоровалась с ним, оставаясь вдвоем. Все встречи на людях она не считала настоящими.
Обычно Александр Семенович отвечал ей тем же «здравствуй», и это подтверждало, что он ждет ее, что он кочет ее видеть, что отношения их остаются прежними и даже становятся еще лучше, чем прежде… Подтверждало все, что и без того было ясно, но в чем всегда хотят лишний раз убедиться влюбленные.
— Здравствуй! — сказал Александр Семенович и на этот раз. Но вспыхнувшая радостная улыбка сразу погасла.
Краска медленно заливала лицо и даже шею Нины. Александр Семенович смотрел на нее как-то особенно, смотрел тяжело и пристально.
Нина не подошла к нему. Но он крепко взял ее за руку, притянул к себе, посадил рядом на маленький диван.
Александр Семенович вдруг притих, задумался. Потом сказал уже спокойно, трезво:
— Что же не хочешь зайти ко мне? Посмотрела бы, как живу. Все равно рано или поздно переезжать придется.
Нина не ответила. Смешной все-таки этот Горный. Он считает, ей так уж хочется за него замуж. Она даже ни разу не подумала об этом. Она любит его и все…
Еще не капало с крыш, не висели сосульки, но снег чуть потемнел, а небо стало ярче и выше. И неведомо откуда в город начали прорываться шальные запахи весны.
Перемена времен года, как, впрочем, всякая перемена, вызывает на размышления, располагает к воспоминаниям.
Тимофей шел в суд, где исполнял свои обязанности заседателя, шел не торопясь, погруженный в раздумье.
Как-то очень быстро прошла зима. Хотел поступить в Политехнический на вечернее отделение, да так и не поступил. Хотел заниматься английским, даже приобрел самоучитель и опять-таки не собрался. А вот Ваня Латкин уже читает по-английски без словаря и хвастает, что какой-то турист твердо обещал ему прислать из Америки еще не переведенную на русский язык новую повесть Селинджера.
Какой парень этот Ваня! А Юлька просто слепая. Ваня еще не такую найдет. Впрочем, ведь и Юлька хорошая девушка. А вот не нравится же ему, Тимофею.
А Нину он так и не встретил. Теперь уже стал забывать о ней. Вот что делает время! Оно все может притушить и изменить. Сколько он в те дни передумал о Нине, как искал ее. А вот теперь…
И тут Тимофей увидел Нину. Да, это была она. Ее нежное, легко очерченное лицо, светлые легкие волосы… И рядом с ней мужчина. В пальто с серым каракулевым воротником, в такой же шапке.
Он ведет ее под руку и что-то рассказывает. Она улыбается и часто заглядывает ему в глаза. Тимофею стало больно от этого взгляда. Его самого Нина даже не заметила.
С кем это она? Неужели муж? Неужели она замужем? Замужние женщины не ходят одни на танцы. Нет, не муж. Но во всяком случае не просто знакомый. Подойти к ней, сказать: «Помните, мы были в клубе. Куда вы тогда сбежали?» Интересно, как бы глянул на него этот мужчина? Кто он ей все-таки? А лицо у него красивое и умное. Хотя не очень располагает к себе. Нет, только ему, Тимофею, так кажется. Эх, лучше бы он все-таки не встречал ее! Уже стал забывать…
Впрочем, вспомнил ведь, как раз перед встречей. Ваня Латкин, любитель всяких теорий, рассказывал, что есть такая гипотеза — будто каждое живое существо излучает еще не исследованные токи. И бывает — только подумаешь о человеке, а он уже рядом. Кажется, случайно, а на самом деле неведомые токи возвестили о нем… Может быть, так случилось и с Ниной?..
…От разбирательств этих просто не по себе делается. Так бы и стукнул кулаком по столу. Тимофей даже сжал внушительный свой кулак, но не стукнул, а только опустил его на стол.
— Стукнул бы! Видишь, ты какой чувствительный. Судья, дорогой Тимофей Степаныч, должен владеть своими чувствами. — Голос у Ирины Павловны спокойный, ровный. Но не повышая и не понижая его, она умеет вносить оттенки недоверия, упрека, осуждения. И смотрит Ирина Павловна тем же спокойным «судейским» взглядом.
— Владеть чувствами, — повторяет Ирина Павловна. — Прислушиваться к ним, конечно, надо. Но если только на них полагаться — можно далеко зайти.
Сейчас и во взгляде и в голосе Ирины Павловны Тимофей может без труда прочесть: «Вот ты какой! Вроде ничего парень. А куда хватил!»
Тимофей, в свою очередь, смотрит на Ирину Павловну. Все в ней правильно, как в этом маленьком кабинетике: и черты лица, и фигура.
И костюм до каждой мелочи правильный. Строгий, рабочий и в то же время изящный. И седина в волосах и та правильная, не старит, а красит. И мысли всегда правильные. А тут…
Три дня Тимофей пробыл в суде народным заседателем. Привыкший к физической работе, к постоянному движению, он страшно уставал, просиживая по нескольку часов за покрытым красной скатертью столом. Уставал настолько, что, приходя из суда, сразу заваливался с книгой на кровать.
Но бедой была не усталость. Удручающе действовали дела, особенно так называемые гражданские. Тимофей понимал психологию парня, который напился и, возмущенный чем-нибудь, подрался с товарищем. Рабочий, знающий цену трудовой копейке, он глубоко презирал воров, грабителей и прочих охотников до легкой наживы. Но и их побуждения все-таки были ему понятны.
А вот дела гражданские. Тут Тимофей, привыкший к высоте и простору, чувствовал себя опущенным в какой-то глухой, темный и душный колодец. Модно одетый мужчина судится со своим соседом — лысым молодящимся стариком. Сосед перенес забор, отхватив несколько квадратных метров чужого двора.
Оба обзавелись адвокатами, оба горячатся, задают вопросы, произносят речи. У обоих большие дворы, незасаженные огороды. Ни тот, ни другой не может объяснить, для чего им этот спорный клочок земли. Впрочем, оба очень часто употребляют слово «авторитет». «Я человек авторитетный», — горячится старик. «Это, наконец, повлияет на мой авторитет», — возмущается молодой.
Толстая высоченная старуха, про нее так и хочется сказать — «двухэтажная», судится со своей соседкой, квартирующей этажом выше. Соседка, якобы, льет вниз помои и нанесла ей материальный ущерб, залив продукты в кладовке…
Тимофей завидует выдержке Ирины Павловны. Со всеми она говорит спокойной деловито, как будто ее ничто не трогает, не возмущает. Тимофей так не может. Когда перед глазами дела этих мелких сутяг, он весь кипит от негодования:
— Столько работы у нас везде, а тут… Их бы к нам на стройку подсобниками.
— Ну, положим, из старика-то какой подсобник, — без улыбки возражает Ирина Павловна.
— И постарше его работают. Людям пенсию дадут, а они с производства не уходят. А он еще и пенсионного возраста не достиг. Пусть бы там и зарабатывал авторитет.
— Ну, это вне нашей компетенции, — все тем же ровным, спокойным голосом возражает Ирина Павловна. — Давай-ка лучше почитаем дела на завтра.
Тимофей принялся за изучение дел, предназначенных на следующий день.
Одно из них было настоящей человеческой драмой. Под судом оказалась пожилая женщина, мать двух детей. Старшему из них уже за двадцать. Парень учится в одном из Московских педагогических институтов. Из дела можно было понять, что он связался с какой-то компанией из так называемой «золотой» молодежи. Ресторанные похождения, соответствующие девицы, погоня за импортными тряпками — все требовало денег. И они черпались из единственного надежного источника — выпрашивались, вымогались у матери. Мать тянулась из последних сил. Заработная плата школьной уборщицы невелика. Но изо дня в лень она ходила по квартирам: белила, мыла полы, стирала. Почти весь заработок посылался в Москву. Денег не хватало. Приходилось занимать, выпрашивать, унижаться. Кончилось тем, что, получив очередное письмо от сына, в котором он грозил покончить с собой, если не получит денег, мать взломала замок в комнате своей соседки, вытащила из шифоньера чернобурку, дорогое пальто, другие вещи и, разумеется, попалась при первой же попытке их продать.
— Его надо судить, не ее, — дочитав дело, сказал Тимофей.
— Подонок редкий, — согласилась Ирина Павловна. — Мы о нем сообщили в партком института.
— А ее я бы оправдал, — не унимался Тимофей.
— Ну, с этим не спешите. Преступление — налицо.
Ирина Павловна наклонилась над бумагами, как бы давая понять, что разговор окончен.
Тимофей взглянул на ее ровный, казалось, размеренный циркулем пробор. Справа отделилась небольшая прядка волос. Она нарушала ритуально-строгую размеренность.
— Она же не для себя. Этот мерзавец запугал ее, запутал.
— Мотивы преступления бывают различными. Они могут служить смягчающим обстоятельством. Но оправданием вряд ли, особенно в данном случае.
Судьба женщины и спокойный невозмутимый голос Ирины Павловны составляли такой контраст, что Тимофею больше не хотелось спорить с ней. Он только почему-то подумал — прядка эта у нее совсем случайно выбилась.
— Ты не представляешь, сколько там названий! Просто не знаю, как мы их запомним? — теребя свою пышную косу, сокрушалась Леночка Штемберг.
— И все по-латыни, все по-латыни, — вторила ей Рита Осокина.
— Еще папа говорил, что анатомия самый трудный предмет.
Нина соглашалась с подругами. Но на самом деле их страхи перед ужасно трудной анатомией, да и все другие их заботы и тревоги казались ей наивными, как детские игры.
И это было не потому, что они учились, а она, Нина, работала, жила самостоятельной жизнью. Нине казалось, что она много старше не только Леночки и Риты, но и круглоглазой Верочки и Гали Воронцовой, хотя Галя была старше Нины почти на два года.
Нина пережила что-то такое, чего не пережил, не испытал никто из ее подруг. Это что-то было памятным разговором с Горным. Александр Семенович предложил ей выйти за него замуж. Пусть несколько грубовато, пусть не так, как она читала, представляла себе… Суть не в том. Он сделал ей предложение. И все остальное блекло, бледнело перед этим событием.
Мысленно Нина теперь не расставалась с Александром Семеновичем. Все свои поступки, все события в своей жизни она мерила его мерой. Ей хотелось рассказывать ему обо всем, что происходило с ней, и также все до мельчайших подробностей знать о нем. Ей хотелось как можно больше быть с ним. И все время, проведенное врозь, было для нее потерянным или почти потерянным.
И сейчас, слушая подруг, отвечая им, она ждала только, когда они, наконец, уйдут, чтобы бежать на свидание с Горным, который ждал ее возле кино. А Леночка и Рита как назло не уходили. Когда они собрались, Нина поняла, что опоздала в кино. Тем не менее, наскоро оделась и, поручив Гришу Любови Ивановне, выбежала почти вслед за подругами.
Вечер выдался студеный. Сухой морозец пощипывал Нинины щеки, ветер проникал за воротник пальто.
Она не замечала этого. И, казалось, поняла, какая погода на улице, только увидев Горного. Александр Семенович энергично постукивал модными ботинками. Нос его покраснел от мороза, а на щеках появился синеватый оттенок.
— Заморозила тебя, — виновато сказала Нина.
— Бывает, — улыбнулся Александр Семенович.
«Даже не рассердился, — подумала Нина. — Странный человек, то раздражается без причин, а то…»
— Ну, куда же мы с тобой, Нина? В кино-то опоздали.
Нина еще раз оглядела чуть сгорбившуюся от холода фигуру Горного. Ей было приятно, что такой солидный, серьезный, взрослый, как не раз говорила она себе, человек ждет ее, мерзнет из-за нее. Волна благодарной нежности охватила ее, захлестнула все ее существо.
Нина взяла Горного под руку.
— Холодно. Может, зайдем ко мне? — предложил Александр Семенович.
— Зайдем, — согласилась Нина, — а то ты превратишься в сосульку. Да и я замерзла.
Горный жил в большом многоквартирном доме. В тесноватом подъезде с четырьмя дверями на каждой площадке было пусто. И Нина обрадовалась этому. Ей не хотелось ни с кем встречаться. Но на третьем этаже у дверей квартиры Александра Семеновича их ждал сюрприз. Здесь на ступеньках лестницы, привалившись спиной к стене, дремал старик. Лица его не было видно. Но Нина сразу узнала и войлочные ботинки, и пальто с заскорузлыми полами и обтрепанными рукавами.
Александр Семенович хотел было обойти старика, но тот поднял свое морщинистое серое лицо. Дремота еще не отпустила его. Один глаз был полузакрыт, но другой смотрел трезво и жестко.
— Ну? — нервно спросил Александр Семенович.
— Сам знаешь, — ответил старик, мигом проснувшись и поспешно вскочив с пола.
И поспешностью и тихим голосом старик подчеркивал униженность и смиренность.
— Опять? — спросил Александр Семенович.
— Опять.
— Ты что, — негромко продолжал Александр Семенович, — забыл, что я говорил тебе — сюда не ходить?
— Как я мог забыть, как можно?
— Значит, плюнул, плюнул на то, что тебе говорил. Плюнул, мерзавец!
— Мерзавец и есть. Я же… Ты ругаешь. Я лишен…
— Я тебе… Ты у меня… Ты у меня закаешься…
И угроза, и унижение были на пределе. Но последнее в более выгодном положении: оно не требовало действий. Угроза же нуждалась в осуществлении, иначе она теряла свои ударные качества, переставала быть собой. Нина поняла это, сжалась в комок, ожидая, что Горный сейчас не просто прогонит этого нечистого старика, а спустит его с трех крутых длинных лестниц.
— Если еще, еще раз посмеешь прийти!
Что это? Угроза сдалась.
— Да я, да разве я… Никогда.
К унижению теперь примешалась ирония. Нине даже показалось, что не только теперь, а гораздо раньше.
— Я хотя и лишен, но я никогда…
«Чего он лишен?» — мелькнуло у Нины.
— Никогда! Мне так — кинь что-нибудь на бедность, кинь, и я уйду, испарюсь. Мне, главное, мелочишку. — Старик наклонился к Александру Семеновичу и что-то шепнул ему.
— Что-о?
Угроза снова обрела свои права. Но и унижение не сдало позиций, не отказалось от иронии.
— Ведь старыми… По твоим-то размахам. Что это для тебя?.. А мне… меня осчастливишь.
— Ты… Ты что, думаешь, поехал на мне!
Яростная угроза вновь достигла предела. И, как это-ни было странно Нине, Горный снова сдался. Опустил руку в карман и, вынув несколько бумажек, сунул старику.
— Имей в виду, последний раз.
— Да уж последний, — почти с откровенной иронией подтвердил старик, проворно спускаясь с лестницы.
— Что сделаешь — вместе служили, — криво улыбнулся Горный. — Сколько раз гнал его… Он опять… И ведет себя, словно я ему должен…
Александр Семенович отворил дверь. Но Нина шагнула к лестнице.
— Знаешь, я уже согрелась и — мне пора домой.
— Да что ты, Нина! — Александр Семенович тянул ее за рукав. — Из-за какого-то пьяницы…
— Да нет, он тут ни при чем. Мне просто расхотелось. Сама не знаю почему.
Нина действительно сама не знала, почему ей расхотелось идти к Александру Семеновичу.
— Александр Семенович, когда же? — спрашивала Галя.
— Ах, эти мне комсомольцы, передовой отряд молодежи, — шутил Александр Семенович.
— Все переходят, а мы чем хуже? — настаивала Галя.
Речь шла о переходе на коллективную материальную ответственность.
— Всюду люди доверяют друг другу, а мы как будто нет. В одиннадцатом магазине — бригада коммунистического труда, в третьем — тоже. И выручка…
— Подождите, Галя. Вы напрасно тратите красноречие, — улыбается Александр Семенович. — Меня агитировать не надо. Я ведь только прикидываюсь малосознательным. А сам вот примеряю… — Александр Семенович произнес это слово задумчиво, неторопливо, словно бы действительно примеряясь к чему-то. — Примеряю, когда удобнее провести учет. В ближайшие-то дни, пожалуй, не удастся. С планом… мы и так отстаем.
Обязательства, коллективная ответственность, учет, план — все это кажется Нине не таким уж важным и значительным. Все это куда мельче без остатка захвативших ее чувств и переживаний.
Раньше всю нежность, все заботы она сосредотачивала на отце. С отцом ее объединяла и большая интеллектуальная дружба. С ним они рассуждали о прочитанном, философствовали об увиденном, пережитом. С ним она открывала мир.
После смерти отца образовалась пустота, которая, как казалось Нине, стала заполняться лишь с появлением Александра Семеновича.
Правда, после той встречи со стариком остался неприятный след. Словно на гладкой озерной поверхности появилась мелкая рябь. Но непрочная рябь вскоре сгладилась. И тогда Нина, осуждая почему-то себя, а не Александра Семеновича, потянулась к нему с новой силой. Ей казалось, что чувство ее достигло предела, что она без остатка поглощена им. Но завтра оно было еще сильнее, она еще с большей полнотой растворялась в нем.
Занятая своим, Нина равнодушно отнеслась к тому, что в магазине начался учет. При ней он проводился уже третий раз. Она даже не обратила внимания на то, что учет начался раньше, чем обещал Александр Семенович.
В магазине появился знакомый Нине пожилой инспектор торга. Это он не так уж давно поздравлял ее со званием младшего продавца.
Нина вместе с другими девушками по указаниям дотошного, ничего не берущего на веру инспектора, ворочала мешки, ящики, ставила их на весы, снимала, передвигала. А думала только о своем. Спроси ее, что она держит в руках, ответит не сразу.
— Нинка! — Галка испуганно смотрит на нее. — У тебя же не хватает! Почти сто килограммов печенья и еще больше сахару.
— И конфет, и шоколадных наборов, — округлив и без того круглые глаза, восклицает Верочка.
— Что? — изумленно переспрашивает Нина.
— У вас недостача, — жестким, скрипучим голосом говорит инспектор из торга.
— Что? — повторяет Нина. И только тут до нее доходит смысл тяжелого слова «недостача».
Появляется Горный. Обычным своим лениво-добродушным тоном бросает:
— Давайте-ка вместе снимем остатки в кондитерском. Никакой там недостачи не может быть.
Рядом с Александром Семеновичем и Нине становится спокойнее. Конечно, не может быть, это какая-то нелепость.
Перевешивают сахар, конфеты, печенье. Все притихли в напряженном ожидании. Только Александр Семенович энергично и спокойно командует.
— Уберите, поставьте.
Иногда даже острит:
— Вот так, товарищ инспектор, с весами не спорят.
— С весами не спорят и с цифрами тоже, — скрипуче подтверждает инспектор и протягивает Горному листочек бумаги.
— Вот итог.
Александр Семенович внимательно изучает цифры. «Сейчас он найдет ошибку. Он-то уж не даст меня в обиду. Еще посмеется над этим скрипучим стариком». Но Александр Семенович хмурится и мрачнеет.
— Как могло случиться?..
Мрачен и инспектор. Видимо, результаты ревизии неприятно поразили его.
Нина видела его раздраженным, рассерженным, досадующим, но растерянным видит первый раз. И от этого ей становится не по себе, даже сильнее, чем от цифр недостачи.
— Пройдемте ко мне, — говорит Александр Семенович инспектору. — Очевидно, какая-нибудь путаница в документах.
Через некоторое время к заведующему зовут Нину.
— Принесите свои фактуры. Нужно их сверить. Это ваша подпись? Вы получали этот товар? Нет тут какой путаницы? — скрипит инспектор.
Нина скользит глазами по бумагам.
Да, ее подпись. Да, она получала товар.
В конторке воцаряется хмурое невеселое молчание.
— Надо бороться! Ты слышишь, надо бороться! — Галя встряхивает лихо сдвинутой набок шапочкой. — Ты не брала себе ни денег, ни товаров, значит, надо найти, куда они девались…
Они идут с работы. Галя говорит и говорит. Нина плохо слушает ее. Она думает о другом. О словах Александра Семеновича. Что Галя! Она тоже понимает немного больше ее, Нины. А вот Александр Семенович… Горный вынужден был вместе с инспектором уйти в контору торга. Но перед уходом успел шепнуть Нине:
— В нашем сквере. В восемь. Не убивайся, может, еще… Одним словом, как-нибудь выйдем из положения.
Это «как-нибудь выйдем из положения» и растерянность, которую неловко пытался скрыть Александр Семенович, больше всего сегодня напугали Нину.
Если уж Александр Семенович, с его бесстрашной находчивостью, с его опытом так воспринимает все, значит дело серьезное.
Что опять навязалось на нее? Откуда? Скорее бы уж восемь часов! Остаться наедине с Горным, расспросить его…
— Ты что не слушаешь? Не слышишь, что я говорю?
— Ничего я не слышу, Галя.
— Нинка, слушай, ну нельзя же так убиваться! Все уладится. Вот увидишь — все уладится. Хочешь, я с тобой пойду в детский садик за Гришей. А потом к тебе пойдем, картошку сварим. У меня даже на пару бутылок пива деньги есть. Эх, завьем горе веревочкой…
— Нет, Галя, спасибо. Я одна. И вечер у меня сегодня занят…
— Ну ладно тогда, — неохотно соглашается Галя. — Только ты, смотри, не кисни. Слышишь? Эх, какая-то ты у нас…
Александр Семенович, как всегда, ждет Нину в сквере возле кино. Сегодня он особенно предупредителен и ласков. Пройдя несколько шагов, Нина первая заводит разговор о случившемся.
— Никак, ну никак не могу понять, что могло произойти, — недоумевает Горный. — Фактуры я проверял раз двадцать. Сданные тобой суммы тоже несколько раз только с этим инспектором, будь он трижды неладен, проверяли. Не могла же ты брать деньги из выручки…
— Что? — Нина выпрямилась, как-то странно взглянула Горному в лицо. — Из выручки? Конечно, брала, — с горечью бросает она.
Александр Семенович сказал это как бы утвердительно — «не могла», но был в его утверждении и оттенок вопроса. И этот оттенок небывало оскорбил Нину…
— Да что ты, Нина? Разве я хотел тебя обидеть? Я же только…
— Что — только?..
— Ну знаешь, в жизни всякое бывает. Была нужда, взяла, забыла…
— До свиданья. Мне пора.
Нина стремительно поворачивается, почти бежит прочь от Горного.
— Подожди, подожди, Нина! — Горный догоняет ее.
Нина замедляет шаг. Ей все-таки немного совестно перед Александром Семеновичем. Он действительно и не думал ее обижать, и не было в его словах никакого оттенка…
— Куда ты бежишь? Я даже не сказал, что на завтра тебя вызывает директор торга. На девять утра…
«Ах вот зачем он меня догонял! Вот зачем».
— Хорошо, — сухо говорит Нина. — Не беспокойтесь, я не опоздаю к директору торга…
Горный молча пожимает плечами и останавливается. Нина идет одна. Над городом опускается седой морозный туман. Перед самым уходом зима, может быть, последний раз показывает свою силу.
Нина идет медленно, опустив плечи. Завтра она явится к Юрию Филипповичу. Что она ему скажет? Как объяснит недостачу? Неожиданно надвинувшаяся беда давит ее. Дорога до дому кажется ей небывало длинной. Нина словно передвигается по дну водоема, преодолевая воду, густую и соленую.
Нина встала с тяжелой похмельной головой.
«Недостача». Словно из вчерашнего тумана выплыло все то же тяжелое слово.
«Двести килограммов печенья, и сахар, и конфеты… Чуть не на полторы тысячи рублей». Нина даже похолодела. Как же быть? Огромная в сравнении с ее скромной зарплатой сумма пугала Нину. Как могло случиться? Как доказать, что она не взяла себе, да и никогда не возьмет ни одной копейки? Как доказать, если даже Александр Семенович усомнился. Нет, он не усомнился! Нет, нет! Ей только показалось так! Но почему же он не бросился за ней, почему не стал догонять…
В ночной сорочке, едва закрывающей невысокую грудь, Нина сидела на постели. Часы пробили половину девятого. Надо идти в магазин. Ах да, сегодня ведь не в магазин — к Юрию Филипповичу. Там покупателей нет. Не обязательно рано. И Гриша пусть спит. Она отведет его позже.
Нине стало холодно. Она накинула халат, согрелась. Неодолимо захотелось посидеть, обдумать происшедшее…
В торге Нина оказалась около десяти часов.
— Что с тобой? Где ты была, Нина? — нетерпеливо спросил Юрий Филиппович.
— Дома.
— Дома? — директор помолчал. — У меня однажды, лет двадцать назад, недостача случилась на сумму — это я запомнил на всю жизнь — на сумму пятьдесят два рубля одиннадцать копеек. В старых деньгах, конечно. Так я ночь не спал. А утром за три часа до открытия магазина прибежал выяснить. Три часа на морозе стоял. Да… А некоторым ничего, спят, как солдаты в госпитале.
— Извините, Юрий Филиппович, — проговорила, путаясь, Нина. — Я… я считала… что…
Юрий Филиппович смягчился.
— Ну, расскажи, что там стряслось? Откуда недостача?
— Всю ночь думала, не могу понять.
— Должна же ты хотя бы предполагать.
Нина молчала.
— Да, рано, видно, мы тебе присвоили звание-то, — снова жестко сказал Юрий Филиппович. — Ну что случилось? Может, вешала небрежно, с походом?
— Я аккуратно вешала. Вы видели, как…
— Да, с весов такая сумма не набежит… — вслух размышлял директор. — Ну, а выручку ты аккуратно сдавала?
«Все думают о том же! Все о том же!» Нина опустила плечи.
— Аккуратно, но что я могу доказать…
Зазвонил телефон.
— Арбитраж? Нет, не забыл. Сейчас приеду, — сказал директор в трубку.
— Ну вот что, Нина. Сейчас я уезжаю. Очень важное дело. А ты подумай, откуда все-таки могла взяться такая недостача. Зайдешь ко мне завтра в это же время. Но без опоздания…
Нина вдруг заторопилась в магазин. Учет, вероятно, кончился. Как там без нее? Покупатели нервничают.
Служебный ход был закрыт. Нина вошла с главного. И, пораженная, остановилась у дверей. На ее рабочем месте была другая продавщица. Уже немолодая, она энергично орудовала у весов. Галя Воронцова, бросив своих покупателей, подбежала к Нине.
— Такой закон, — виновато, как будто сама выдумала этот закон, пояснила она. — Тебя не имеют права допускать к весам, пока все не выяснится.
Нина молча вышла. Еще один незаслуженный удар нанесла ей судьба. А Горный! Неужели он не мог даже предупредить ее, чтобы не ходила в магазин, чтобы не испытала еще и этого унижения. И сейчас он даже не пытается найти ее, поговорить с ней…
Куда же теперь? Что теперь делать?.. И вот снова, как после смерти отца, Нина сидит в халате возле своего аквариума. Те же грустные, одинокие мысли приходят к ней.
Давно уже она не оставалась надолго со своими рыбками. С тех пор, после папиной смерти. Впрочем, не так уж давно, всего какие-то полгода отделяют Нину от тех дней. А сколько нового горя, обид нанесли ей люди. Сколько… Нет, не стоит думать об этом. Вообще, не надо думать. Как хорошо не думать! Вот они, молчаливые друзья. Они ни о чем не спрашивают, им не нужно ничего объяснять.
— Как поживаете, Николай Савельевич? — мысленно обращается Нина к лялиусу. — А вы, Любовь Ивановна, все такая же поворотливая, хотя и солидная. Вас-то я вижу каждый день. А вот тебя, Рыжий, — Нина смотрит на розовую данию, — тебя так ни разу нигде и не встретила. Теперь, наверное, я бы и не узнала тебя. Ты, конечно, уже забыл незнакомую чудачку, которая послала тебя за мороженым и исчезла. А ты, Леночка…
Как хорошо сидеть возле аквариума! Не думать ни о чем…
Вечером прибежали Галка и Верочка. Нина ждала, что они принесут какую-нибудь весточку от Горного. Весточки не было. Но зато девушки рассказали, как Горный в присутствии Гали звонил начальнику торга и рьяно отстаивал Нину: «Не допускаю мысли, чтобы она могла украсть». Нину резануло это слово — украсть — но все-таки ей стало немного легче от того, что Александр Семенович воюет за нее.
Девушки расспрашивали о том, что сказал Юрий Филиппович. Радовались, что дело попало к нему. «Он разберется. Поможет. Да и самим надо. Мы же знаем тебя». Говорили очень долго, горячо, особенно Галя.
— Надо бороться, надо доказывать, — то и дело повторяла она. И вдруг спохватилась: — Вот с кем надо поговорить, с Зубом. Завтра же пойду к нему.
Девушки ушли поздно. Нина проводила их. Потом, сделав порядочный крюк, завернула в тот сквер возле кино, который они с Александром Семеновичем называли «нашим»: может быть, он ждет ее там.
Горного в сквере не было.
Больше двух часов, не отвечая на многочисленные телефонные звонки, никого не принимая, бьется Юрий Филиппович с Ниной.
— Может, так бывало, что фактуру возьмешь, а товар забудешь. — Юрий Филиппович тянется рукой к отсутствующим счетам. «Эх, так бы и откинул одну костяшку направо», — невольно думает Нина.
— Так не могло быть.
— А какие отношения у тебя были с Горным?
— Самые лучшие.
— Я слышал об этом, — Юрий Филиппович наклоняет бритую голову, словно рассматривает что-то на столе. — А вот не отразились ли эти отношения на службе. Может быть, вы так, дружески что-нибудь не оформляли, оставляли на завтра, послезавтра. Потом ты подписывала не глядя.
— Ну что вы? Он так же, как и вы, аккуратен во всем. Он не раз говорил — дружба-дружбой, а служба службой.
— Да-да. Задала ты нам задачу, — говорит Юрий Филиппович. Внутри магазина хищения не могло быть — это ясно. Там некому Куда исчезли деньги, черт их побери?..
Следователь прокуратуры Иван Ларионович Дырин больше всего ненавидел свою фамилию. «Надо же — Дырин! — с возмущением размышлял он. — Дырин — как будто я пустое место».
Несколько дней назад у Дырина был неприятный разговор с начальником отдела.
— Не идет у вас, товарищ Дырин, не идет, — констатировал начальник. — Не могу понять — почему, но не идет. Хватаетесь вы как-то за мелочи. А сути не замечаете. Что же, посмотрим еще некоторое время, а там придется решать. Решать придется.
Впрочем, на невеселые мысли наводили Ивана Ларионовича не только его фамилия, но и постоянные неудачи в работе.
В свое время Дырин был оперативным работником ОБХСС. Однако за два года на этой должности ему не удалось раскрыть ни одного дела. Нередко Иван Ларионович слышал от товарищей:
— Дырин, опять твоих зацепили. Девятый — промтоварный.
Иван Ларионович только сопел. Сопел так же старательно, как и безрезультатно. Его трудам в ОБХСС подошел бы бесславный конец, если бы не излишняя гуманность начальника, который очень не любил увольнять людей. Но тут сам Иван Ларионович заявил, что он хочет учиться. Начальник ухватился за эту идею. Действительно, нужно поучиться товарищу, тогда, может быть, дело пойдет.
Два года назад Иван Ларионович успешно закончил юридический институт и был принят на работу в прокуратуру.
Здесь он не упускал случая дать задание потруднее кому-либо из тех оперработников ОБХСС, которые когда-то добродушно подтрунивали над ним. Это было приятно, но вообще-то и в прокуратуре у Ивана Ларионовича работа тоже не особенно клеилась. Слова «не идет и все» будто преследовали его.
Дело Нины Казанцевой для Ивана Ларионовича — соломинка утопающего. Правда, Дырин слишком доволен: дело-то попало ясное, как стеклышко, что называется, проще соленых огурцов. Он, Дырин, внутренне был уверен, что ему по плечу не такие дела. Просто нелепое невезение заставляет его заниматься всякими пустяками. Но придет время, когда Иван Ларионович распутает такой узелок, что многие ахнут. В том числе и эти, сидящие в соседних кабинетах. Они хотя и прикидываются хорошими парнями, но Иван Ларионович знает: в глубине души они уверены, что Дырин — пустое место. Ничего, еще наслужатся под его, Дырина, началом. У Дырина тоже уши не пыльные. Будут и у него свои шары — так Иван Ларионович мысленно именовал будущих своих подчиненных.
А пока ему ничего не оставалось, как показать себя на пустяковом деле Казанцевой — Иван Ларионович узнал о происшествии в семнадцатом продуктовом магазине от одного из оперативных работников ОБХСС. Дело должно было бы уже поступить в отдел или в прокуратуру. Но директор торга медлил, рассчитывая сам разобраться в нем.
Иван Ларионович решил сам позвонить директору. «Я сейчас его пугну». Однако директор оказался нахалом. Прежде всего он попросил: «Позвоните мне, пожалуйста, через час, я очень занят». Попросил, правда, вежливо, да Иван Ларионович не из тех, которые спускают такие вещи. Он не допустит, чтобы так разговаривали с прокуратурой. Он сразу обрезал этого зазнайку: «А я что, по-вашему, свободен?» Тогда директор выслушал его, но и тут не стал оправдываться. Наоборот, начал поучать — дело, дескать, сложное, речь идет о человеке, позвольте вначале нам самим разобраться… Но Иван Ларионович вторично обрезал его — закон есть закон, и никому не положено нарушать, даже директору торга. Недостача налицо. Акт составлен одиннадцать дней назад. А по закону такие дела передаются следственным органам не более, как через десять дней. И пришлось директору все, как положено, доставить в прокуратуру.
Когда дело попало Ивану Ларионовичу, он еще замечание сделал: среди прочих бумаг нет договора с этой Казанцевой о материальной ответственности. Прислали и договор.
Вечером снова пришли Галя и Верочка.
— Повидалась, наконец, с Зубом, — с ходу сообщила Галка, — чертов бюрократ, болеть задумал. Лежит и лежит в больнице. Но я и туда пробралась. Говорит, выйду, обязательно вмешаюсь. А у тебя как?
Нина рассказала.
— Плохо, черт возьми. Очень плохо! — Галка даже стукнула кулаком по столу. — Ума не приложу — откуда эта чертова недостача!
Нина молчала. Ей хотелось, чтобы девушки ушли. Сегодня-то Александр Семенович наверняка ждет ее в сквере.
Девушки поняли ее настроение. Нина пришла в заветный сквер еще засветло. Проходила там около часу. Горного не было. Может быть, зайти к нему? Нет, ни в коем случае! Она не будет ему навязываться. Особенно сейчас. Ни за что…
Когда Нина вернулась домой, Гриша уже спал. Она послонялась по комнате, легла в кровать. Взяла с полки книгу — не читается. Погасила свет — не спится. Взяла другую книгу. Но буквы только механически складывались в слова. Смысл их не доходил до сознания.
Уснула Нина, когда уже светало и одинаково темные и по-ночному бесформенные стол, этажерка, шифоньер стали обретать свои цвета и очертания.
Разбудил ее нервный тревожный стук в комнату. Не успела она накинуть халат, как насмерть испуганная Любовь Ивановна ввела какого-то маленького курносого человека с новым кожаным портфелем.
— Мое удостоверение. — Курносый, не выпуская из рук, показал Нине какую-то книжечку.
— Разрешите раздеться, — продолжал он, впрочем уже сняв свое синего сукна с дешевым, но большим серым каракулевым воротником зимнее пальто.
Ничего не понимавшая Нина равнодушно смотрела на незнакомого курносого мужчину, на Любовь Ивановну.
— Вот сейчас мы у вас произведем обыск. Только нужен еще один понятой.
Курносый говорил бодро, почти радостно, как будто: «Вот сейчас мы хорошо пообедаем. Только недостает горчички».
Любовь Ивановна привела еще одну пожилую соседку. Та с глубоким вздохом присела в уголок.
— Приступим, — важно сказал незваный гость. И сразу же старательно засопел. Долго рылся в книгах, для чего-то перебирал их по листику. Открывая ящик старенького письменного стола, который прочно заклинило, поранил себе руку. В темной, давно заброшенной кладовке зацепил за гвоздь и порвал полу пиджака. Заглянул под кровать, обрадовался, обнаружив там новые туфли.
— Давно приобретали?
— Что? — не сразу поняв, переспросила Нина.
— Я спрашиваю — приобретали давно?
— С месяц назад.
— А в какую цену?
Нина назвала цену.
Кончив обыск, сел писать протокол. Писал долго, по нескольку раз переспрашивая имена и фамилии понятых, их адреса, место работы, Нинин адрес, место работы.
Нина готовилась выслушать длинную бумагу, но протокол получился неожиданно короткий — всего полстранички.
Курносый мужчина, видимо, сам был обескуражен этим.
— Распишитесь поаккуратней, — хмуро приказал он.
Потом достал из портфеля еще одну бумагу, вписал в нее какие-то слова и внушительно объявил:
— Это повестка гражданке Казанцевой Нине Сергеевне явиться сего дня в 13 часов. Адрес указан. Спросите следователя Дырина. Это я.
Не успел следователь Дырин уйти, как в комнату вновь постучали. «Кто еще?» — с испугом подумала Нина. В дверях показалась массивная фигура Михаила Борисовича.
— Ты дома? Удачно, — как всегда неторопливо заговорил главврач. — Я, собственно, ехал мимо. Знаю, что продавцы в разное время отдыхают, дай, думаю, загляну. А что у тебя такой кавардак?
— У меня… Я убирать собираюсь, Михаил Борисович, — запинаясь, выговорила Нина.
— Ну что ж, смущаться нечего. Как живешь-то, тебе ничего не надо?
— Да нет, спасибо, Михаил Борисович.
— Квелая ты какая-то. Бледная. Головных болей не бывает? Аппетит есть? — строго спрашивал врач…
Когда дверь за Михаилом Борисовичем закрылась, Нина чуть не бросилась вслед за ним. «Что я делаю? Вот кому надо все рассказать. Обязательно. Нет, стыдно, стыдно, как стыдно!» Нина сидит на постели, опустив бессильные, как плети, руки, путаются мысли. Если бы был жив папа. Папа, папа! Как рано он их оставил!
Как чудесно было с ним! Нине вспомнилось, как они гуляли с отцом, как играла с ним в слова или в их любимую игру — в ассоциации. Память одну за другой воскрешала картины, от которых теплело в груди. Вот они с отцом в Горном Алтае. Нина мысленно разглядывает то могучие снеговые вершины, то текучую синеву бесчисленных горных речек. А вот она сидит с отцом на берегу небольшого тихого озерца. Такие бывают только в горах. Вот Нина входит в чистую-чистую прозрачную воду. Вода уже ласкает ее плечи. А на дне различим каждый камешек. Нина заплывает на глубину.
— Достаточно. Вернись! — машет ей отец.
— Сейчас, — озорно откликается Нина. А сама плывет на середину, там ложится на спину, покачиваясь на воде, осматривается. Наверху синее-синее небо, вокруг горы. На берегу наклонившиеся к воде березки. Они сбежались сюда с горных круч, чтобы посмотреться в зеркальную воду.
— О чем это я! — спохватывается Нина. И замечает, что по щекам у нее текут слезы.
Нет, так нельзя, так нельзя. Нужно что-то делать, обязательно что-то делать. Нужно встретиться с Александром Семеновичем. Он поймет, он поможет ей. Что это у нее в руках? Ах повестка. Ехать к следователю, потом обязательно к Александру Семеновичу.
Еще в юридическом институте Дырин усвоил: допрос — это поединок, и теперь с нетерпением ждал его. Он должен во что бы то ни стало выиграть этот поединок. И выиграет. Козыри-то у него. Хорошо, что ему помог этот Горный. Он дал в руки следствия главные факты — подарок несессера, ссора с возчиком. А ведь тоже пытался ее выгородить. Недалекий человек, лопух. Иван Ларионович самодовольно улыбается.
Перед приходом Нины он ерзает на стуле и в нетерпении раза три выглядывает в коридор. В третий раз приметил Нину. Сразу же плотно закрыл дверь кабинета, уселся за свой стол.
Дырин не раз наблюдал, как другие следователи начинали допрос с какого-нибудь не относящегося к делу разговора. Этим они стремились расположить к себе подследственных. Ивану Ларионовичу тоже хотелось поговорить о чем-нибудь с Ниной. Это не столь нужно для дела. Просто, не один начальник сомневается в следователе Дырине. Иван Ларионович и себе не прочь доказать, что он кое-что может…
Но о чем говорить с ней? В квартире у нее целый склад книг. Вчера Иван Ларионович помучился с этими книгами. Все искал, не заложены ли в них деньги. Если бы он читал их, можно бы с них начать. Дырин силился вспомнить, как называлась последняя книга, которую он прочел. Нет, забыл проклятую! Ивану Ларионовичу становится немного не по себе. Но он быстро обретает равновесие. Это же отца книги. Она-то их, наверное, и не раскрывала. Много продавщицы читают! Ладно, все это пустячки, приступим к делу.
Следователь начинает допрос. Он говорит какие-то странные, непривычные для Нины слова, то и дело возвращаясь к глаголу «пояснять».
— Поясняю вам, Казанцева, об ответственности за ложные показания…
— Поясните, Казанцева, откуда у вас получилась недостача…
— Поясняю вам, что чистосердечное признание смягчает вину…
«Признание, — с болью думает Нина. — Признание. В чем я должна признаться?»
А Иван Ларионович все говорит и говорит. Вдруг в голосе его появляются новые нотки. Где-то Нина уже их слышала. Ах, да, Алла Петровна, когда смотрела на нее, как кошка на мышь.
— Поясните, Казанцева, из чего состоят ваши доходы.
«Доходы, какие доходы?»
— Вы получаете заработную плату и пенсию за отца на брата Григория…
«Григория?.. Григорий?.. Ах, это Гриша…»
— Каковые вместе составляют восемьдесят пять рублей. Поясните, у вас не было других доходов?
— Нет.
— После отца, как нам известно, у вас не оставалось никаких денег.
— Не оставалось.
— Тогда поясните, следствию известно, что вы подарили заведующему магазином Горному в день его рождения… несес… — это мудреное слово Иван Ларионович произносит не без заминки, — несессер… стоимостью в двадцать три рубля. В том же месяце уплатили за квартиру. Приобрели брату Григорию цигейковую шубу стоимостью тридцать пять рублей, приобрели туфли дамские для себя стоимостью тридцать семь рублей. Угощали подруг конфетами сорта «Мишка». Поясните, откуда вы брали средства для всех этих целей?
— Тогда я выиграла по облигации 50 рублей.
— По облигации, — Иван Ларионович презрительно смотрит на Нину. Выдумала бы уж что похитрее. Дешевый ход! — Выиграли пятьдесят, а истратили сто?
— У меня было двадцать семь рублей.
— Пятьдесят да двадцать семь — только семьдесят семь. Только семьдесят семь. Не сходится!
— Я еще продала две пары старых туфель.
— Продали две пары старых туфель. Кому продали?
— Не знаю. Их продавала соседка.
— Какая соседка? Как ее имя и фамилия — поясните.
— Семеновна. Клавдия Семеновна. Только она уехала.
— Куда она уехала?
— Не знаю. Куда-то на Украину к сыну.
— Так, хорошо. А вот вы выиграли по облигации…
Иван Ларионович приподнимается и смотрит куда-то поверх Нины.
— Подождите, вас вызовут.
— Хорошо, подождем.
Нина оборачивается, очень знакомый голос. Но заглянувший в дверь уже успел захлопнуть ее.
— Поясните, кому это известно… Кто знает, что вы выиграли?
— Как, кто знает?
— Что значит как? Довольно странно. Я бы сейчас выиграл пятьдесят рублей. Встречаю соседа, товарища по работе, неужели я от них буду скрывать, что выиграл…
— Мне не хотелось говорить, потому что… потому что… — Нина понимает, что этому человеку трудно объяснить, почему она не сказала о выигрыше Любови Ивановне или кому-нибудь из подруг. — В общем, я никому не говорила, — заключает она.
У Нины странное состояние, словно она заблудилась в негустом лесу. Почти рядом светлеет просека и, кажется, нетрудно выйти к ней, но против воли с каждым шагом она углубляется в неприветливую темную и болотистую чащобу.
— Так, — продолжает Иван Ларионович, — следовательно, никому не известно о том, что вы выиграли по облигации государственного займа. Ни один свидетель не может это подтвердить. Теперь прошу пояснить, какой был тираж, какого займа?
— Не помню. Ну, какая была таблица в то время…
— Так, так. А может быть, все-таки у вас, Казанцева, были другие источники дохода? Может быть, сбывали продукты налево?.. Нет? И даже не пытались? Поясните, Казанцева, никогда не пытались?
Энергично сопя, Дырин встает, направляется к двери.
— Войдите, Кокорин.
— Сейчас, — с готовностью отвечает тот же знакомый голос. — Сейчас.
«Сазоныч!.. Зачем здесь Сазоныч?»
— Садитесь сюда, свидетель. А вы, Казанцева, чуть сюда.
Дырин рассаживает их в пол-оборота друг к другу. Ивана Ларионовича не учить, как вести следствие. Он знает, что подследственный не должен смотреть в лицо свидетеля, чтобы мимикой или жестами не повлиять на ход его показаний.
— Гражданин Кокорин, — спрашивает Иван Ларионович, — вы знакомы с Казанцевой Ниной Сергеевной?
— Знаем ее, — поспешно подтверждает Сазоныч и даже привстает со стула, — Продавщица семнадцатого продуктового.
— Сидите, сидите, Кокорин. Гражданка Казанцева, вы знакомы с гражданином Кокориным Никифором Сазонычем? Знакомы? Очень хорошо.
— Скажите, гражданин Кокорин, какое предложение делала вам гражданка Казанцева?
Нина изумленно смотрит в заросший затылок Сазоныча.
— Это насчет яблок, — говорит Сазоныч. — Еще при Алле Петровне, значит, было. Алла Петровна вышла, а она, Казанцева, говорит: отвези, говорит, ящик яблок мне на квартиру. Я, говорит, в долгу не останусь. И подает тройку. Я, конечно, отстранил. Я, говорю, не вор и не жулик…
— Что… что он говорит? Это же неправда, неправда! — Нина беспомощно оглядывается кругом, как бы ища защиты. Удивительно равнодушными кажутся ей пустые однотипные канцелярские столы.
— Спокойней, спокойней, — строго приказывает Иван Ларионович, делая почему-то ударение на последнем слоге слова. — Так, запротоколируем очную ставку. — Закусив толстую губу, исправно сопя, Дырин аккуратной линией делит лист бумаги на две равные части…
Когда Нина вышла из комнаты следователя, ее даже слегка покачивало, как будто от морской болезни.
«Что делать, что делать?» — спрашивала она себя. — Как разрубить узел, который все туже стягивает ее? Прежде всего нужно поговорить с Горным. Сегодня же, непременно сегодня же! А если она не найдет Горного, тогда идти к Михаилу Борисовичу. И вдруг пришла удивительно простая мысль. Ведь она может позвонить Горному. Просто — взять и позвонить. Как это она не додумалась раньше! Ну не глупая, а?
— Слушаю, — ответил вежливый с ленцой голос.
— Алло, — сказала Нина.
— Кто это? — голос стал хрипловатым, настороженным. — Нина? Догадалась, наконец. Где же ты пропадала? — Теперь Александр Семенович говорил возбужденно, радостно. — Я каждый день ходил в сквер.
— И я тоже. А встретиться не могли, как обидно…
В трубке что-то застучало, зарокотало.
— Ты слышишь меня, слышишь? — нервничала Нина.
— Перезвони, — донеслось до ее уха.
Нина снова набрала номер. Раздались короткие гудки.
«Что такое? — впервые Нина усомнилась в Горном. — Может быть, он просто хочет избавиться от меня?»
Нина уверяла себя, что не имеет права плохо думать о Горном, что он относится к ней по-прежнему. И все-таки закопошились в ней сомнения. Он испугался, он бросил трубку. Говорил неискренне. Он тоже верит, что она такая, что она растратчица. По сути дела он уже отступился от нее. И вечером он, скорее всего, не придет.
Парень в светлом пальто настойчиво стучал в стекло телефонной будки. Пришлось выйти, снова занять очередь.
Действительно, разве он не мог опустить ей открытку? Не мог зайти, наконец, если стряслось такое?.. Что было ждать ее звонка…
Хотя, конечно, он мог думать, что легче позвонить, стеснялся зайти к ней. Стеснялся! До стеснения ли теперь! А может быть…
— Девушка, ваша очередь!
— Это ты? Я уже стал волноваться — понимаешь, вклинился кто-то. Ну и связь!.. Давай, прежде всего, договоримся о встрече. А то опять разъединят, и я буду ломать голову, где тебя найти… Я знаешь сколько ходил возле твоего дома…
«Я все-таки плохая. Очень, очень. Как я могла подумать».
Вечером Горный ждал ее в сквере. Вечер выдался по-весеннему теплый. Похрустывая чутким ледком, они долго бродили затихающими улицами. Александр Семенович без устали говорил Нине, как он скучает, как в магазине без нее сразу стало неуютно и пусто. Минутами Нине казалось, что и учет в магазине, и обыск в ее квартире, и допрос — все это дурной сон, что в их отношениях ничего не изменилось. Но только минутами. В его голосе, в преувеличенно сочувствующих интонациях Нина все время улавливала фальшь.
«Только жалеет. И неудобно сразу избавиться. А сам ничуть не рад мне».
Александр Семенович подробно расспросил о допросе у Дырина. «Крючкотворы, подлые крючкотворы! К ним только попади!» Еще сильнее возмутил его поступок Сазоныча: «Подлец, это Алла Петровна его подкупила. Наверняка она! Она ведь до сих пор не устроилась, злится на всех вас».
— А не спрашивал тебя следователь, всегда ли ты аккуратно сдавала выручку?
— Нет.
— Ты смотри, только не скажи, что задерживала. Помнишь, был один или два случая, не успевала все подсчитать. Еще мы в кино опаздывали. Если скажешь, тогда не выпутаешься.
И тут Александр Семенович впервые произнес слово «суд», которое с этого момента вошло в жизнь Нины:
— Ничего, если дойдет до суда, тебя оправдают.
— Ты ведь не оставишь меня, не оставишь, что бы ни случилось?
Нина сиротливо прижалась к Александру Семеновичу, заглянула ему в глаза.
— Ну что ты… Как я могу… — поспешно заговорил Горный. И Нина почувствовала, как он осторожно отстраняет ее от себя.
Нина возвращается домой обессиленная, разбитая. И вновь приходят к ней те, появившиеся после смерти отца мысли. Никто ничем не поможет, если ты несчастен. Никто! Все бессильны. Бессильны, если такая у тебя судьба, бессильны, если ты несчастная. Да и никому по-настоящему нет дела. Кто будет бороться за тебя? Кому надо? Если даже Горному она в тягость! Когда прощались, он так и не предложил ей повидаться снова.
Они приходят теперь по-хозяйски, мысли о том, что есть мое и только мое несчастье. В последние месяцы жизнь, не скупясь, подтверждала их. Нелепый случай с ногой. Смерть отца, самая тяжелая, самая невозвратимая ее потеря. Алла Петровна, наконец, эта недостача, обыск, допрос.
Цепь, целая цепь несчастий. И ни в одном из них Нина ничуть, ни самую капельку не виновата. Что сделаешь, если она несчастная? «Н е с ч а с т н а я» — ни в школе, ни дома она не слышала, чтобы кто-нибудь всерьез произнес это слово. В ее сознание оно проникло откуда-то из старых, давно уже воспринимаемых только иронически мещанских с надрывом песен. Их, вспоминая свою молодость, шутя распевал отец со своими друзьями:
Или:
Нет, это не шутка. Напрасно отец шутил тогда. Теперь это слово обрело свой подлинный, извечный, как полынная горечь, вкус.
Целыми днями сидит Нина на своей постели, равнодушно выслушивает Любовь Ивановну, Галю, Верочку и почти не скрывает, что ждет, когда они уйдут.
Иногда Нина сидит бездумно. А иногда мысленно беседует с отцом.
Папа, папа, ты был неправ, видел весь мир в розовом свете. Хороших людей, конечно, немало. Но прав Алексей Никандрович: «каждый за себя», «каждый для себя». Вот я сейчас одна, и никто ведь меня не выручит.
Эх, папа, если бы я воровала, вероятно, было бы не так обидно. Или если бы ты жил, как некоторые врачи. Есть такие, ты сам говорил, которым даже на дом возят продукты, подарки. И ты мог оставить мне много-много денег. Я не в укор тебе, папа. Просто тогда я бы могла внести эту проклятую сумму.
Но что я говорю, что я говорю! Разве ты мог брать с кого-нибудь за лечение! Это я от отчаяния. От одиночества. Иногда мне кажется, что я одна на земле. Ведь даже, даже Александр Семенович отступился от меня…
Подчас Нина принималась мечтать. Если бы папа был жив. Как он бы поговорил с ними со всеми! «Накладные, фактуры. Но это же бумажки! А тут человек! Человек. Как вы могли его заподозрить».
А уж с этим следователем!.. Папа сказал бы ему: «Поясните, пожалуйста, откуда вы такой взялись? И кто вас научил так разговаривать с людьми, как будто они бревна? И прилипать к ним хуже репейной колючки и все ловить их на какой-то крючок, словно они рыбы».
Часами Нина погружена в туман этих странных и нелепых мыслей. Она довольна тем, что следователь за последнее время не тревожит ее. Ей не приходится нехотя, словно невольнице, отвечать на нелепые вопросы, не приходится идти по улицам, старательно переставляя будто залитые свинцом ноги…
— Ниночка, к тебе. Незнакомый кто-то, — Любовь Ивановна не говорит, а шепчет. Шепчет испуганно и сочувствующе.
И Нина тоже испугана. «Кто еще там, какая еще беда?»
— Здравствуй, Нина.
— Вы, Юрий Филиппович?!
— Собственной персоной, — пытается шутить Юрий Филиппович. — Ну как ты тут? Все так и сидишь?
— А что же мне теперь?
— Да-а, — неопределенно тянет Юрий Филиппович. И после доброй минуты молчания, снова повторяет: — Да-а…
«Что он? Может быть, все-таки появилась какая-нибудь возможность помочь ей? Уж говорил бы скорее».
А Юрий Филиппович все сидит, низко наклонив бритую голову. Не знает, как начать. Всю жизнь он отдал торговле, изучил не только ее технику, не только ее товары, цены, обороты, но и ее людей. И это не позволяет ему поверить в то, что продавщица Нина Казанцева виновата в хищении или растрате. И в то же время, пока он не может найти концов, не может вступить со следователем в спор, не может противопоставить ему веские аргументы.
— Я пришел к себе, Нина, не с хорошей вестью, — начинает директор. — Дело твое передали в суд. Беседовал я со следователем, но не поняли мы друг друга.
Юрий Филиппович недобро усмехнулся, очевидно, припомнив разговор с этим самым следователем.
«В суд, значит. Меня будут судить!» — горестно думает Нина.
— Но ты не отчаивайся. Суд на то и есть, чтобы рассудить правильно. А мы сделаем все, чтобы ему помочь. Кстати, тебе назначили адвоката. Я уже говорил с ней. Кажется, опытная, неглупая. Мне понравилась. Она поговорит с тобой еще до суда. — Юрий Филиппович еще долго пытается утешить и ободрить Нину.
Но когда он уходит, Нине становится еще тяжелее. Какую-то минуту ей показалось, что на ее тусклом, затянутом серой мутью горизонте, мелькает едва заметный просвет. Однако и он исчез, даже не появившись.
Сегодня у Тимофея хорошее настроение. Последний день в суде — завтра он возвращается к себе на стройку.
Скоро начнется заседание. Ирина Павловна уже вооружена своим строгим судейским взглядом. И секретарь суда, молоденькая хлопотливая девушка, то и дело куда-то выбегая, кого-то ища, проверяет, все ли готово к началу. И другой заседатель — немолодой артист, готовясь предстать перед публикой, хотя здесь она будет немногочисленной, по профессиональной привычке тщательно причесывается, поправляет галстук.
— Встать, суд идет! — слышит Тимофей бравый голос судебного коменданта. Привычно проходит Тимофей на свое место, слева от Ирины Павловны, недалеко от адвоката.
Он еще не успел взглянуть в зал и на скамью подсудимых, как почувствовал на себе чей-то взгляд. Невольно поднял глаза. Она!.. Нина… Здесь!
От возбуждения Тимофей даже вскочил со стула.
— Что с вами, товарищ Кузьмин? — В ровном судейском голосе удивление и упрек.
Тимофей садится на место и тут только до сознания доходит, что Нина на скамье подсудимых.
Да, это Нина, Нина!
Она уже отвела от него удивленные и настороженные глаза.
Она! Правда, немного не такая, как тогда. Тогда она была словно частицей сверкающего, привыкшего к молодости, веселью и улыбкам зала. А здесь другой зал, с несколькими рядами грубоватых деревянных скамеек, на которых разместились немолодые, буднично одетые люди. Зал строгий, порой даже мрачный, не раз видавший слезы, слышавший и изворотливую ложь и беспощадно-страшную правду. Зал, в котором нередко раздаются рыдания, а смех пресекается строгим колокольчиком судьи.
Теперь этот зал наложил на нее свой отпечаток, набросил тень на ее и без того темное платье, прибил, придавил мягкие кудряшки, заморозил улыбку.
Но это она!
Дело Нины Сергеевны Казанцевой о хищении, которое он вчера, торопясь на хоккей, не успел прочитать. Нины Сергеевны. Нины! Он еще представил себе щекастую девицу. Челка. Изрядная порция краски на бровях. Грубоватый или визгливый, но всегда громкий голос. А это… та Нина.
— У вас же все записано…
Тимофей узнал, вспомнил ее голос. Правда, теперь он был взрослее и глуше. И еще чувствовалось, что Нине было тяжело говорить. Слова, будто рождаясь где-то в груди, с трудом вырываются и больно ранят ее.
— Вы все знаете про меня.
— Таков порядок, — ровным, бесстрастным голосом говорит Ирина Павловна. — Отвечайте на вопросы.
— Фамилия?
— Казанцева.
— Имя?
— Нина.
— Отчество?
— Сергеевна.
— Год рождения?
— 1944.
— Образование?
— Среднее.
— Семейное положение? Вы не замужем?
— Нет.
Значит, она работала в магазине. Неужели она… из таких, которые воруют? Непохоже. Хотя, что он про нее знает. Она вон с каким-то пожилым мужчиной…
Ирина Павловна уже читает обвинительное заключение. Неприступные и уверенные слова ложатся будто кирпичи ладной, прочной кладки.
Низко опущены Нинины плечи, бледные лежат на коленях руки. Кажется, ее давит тяжесть этих слов. Тимофей старается сидеть спокойно, но то и дело по-медвежьи ворочается на стуле.
— Признаете вы себя виновной в предъявленном вам обвинении? — Голос Ирины Павловны бесстрастен, лишен оттенков.
Тихо-тихо становится в зале.
— Нет, не признаю, ничего я не брала.
Тимофей слышит сочувственные вздохи, перехватывает взгляд артиста, тоже сочувственный и очень серьезный.
— Переходим к судебному следствию, — раздается ровный, словно механический голос Ирины Павловны.
— Начнем с допроса подсудимой. Гражданка Казанцева, расскажите, что вам известно по данному делу.
— Я не знаю, что говорить, — отвечает Нина.
— Вы утверждаете, что ничего не присваивали. Откуда в таком случае у вас недостача?
— Я уже говорила следователю, что не знаю. В этом все дело…
«Может, она действительно не виновата, — размышлял Тимофей. — Недаром говорят: человек, довершивший преступление, обязательно придумает для себя версию, а она…»
Но Ирина Павловна, очевидно, думает иначе.
— Странно, Казанцева. Если вы действительно не присваивали продуктов, у вас должно быть хотя бы предположение, куда они могли исчезать.
Все тот же ровный судейский голос.
«Что это? — не может понять Тимофей. — Беспристрастие или равнодушие? Судья она или только придаток к закону?»
И неизвестно, из какого закутка памяти выплыло полное презрения лицо вора-рецидивиста. Весь процесс чуть не со слезами в голосе он повторял: «В этом деле я не был. Его мне не шейте». Но улики были против него. Он получил три года. Выслушав приговор, невесело сказал: «Правильная ты женщина, судья. Как только с тобой муж живет?» И тогда Тимофей поверил, что подсудимый не виноват, и Ирина Павловна показалась ему бездушным, казенным человеком. Тогда он решил, что и ровный ее судейский голос и вся ее невозмутимость идут не столько от умения владеть собой и выдержки, сколько от равнодушия. Но через два дня судили группу рецидивистов, и Тимофей многое узнал о том, которого, по его мнению, несправедливо осудили. Оказывается, трудно быть судьей, но еще труднее судить судью.
— Вы имеете право отвечать или не отвечать на любой вопрос, — говорит Ирина Павловна. — Но учтите: запирательство не в вашу пользу… Теперь о вашем личном бюджете.
Судья спрашивает о Гришиной шубке, злополучном несессере, новых туфлях.
Нина все так же, с трудом и болью, рассказывает о выигрыше на облигацию, о сэкономленных рублях, проданной старой обуви. И чувствуется, что говорит она откровенно и правдиво.
До Тимофея доносится чей-то приглушенный шепот: «Нелегко девчонке-то, дитё еще». И вслед за ним другой: «Дитё, дитё, а вокруг пальца обведет».
Впервые Тимофей внимательно оглядывает зал. Здесь разные люди. Большинство ждет следующих дел, в которых они будут истцами, ответчиками, свидетелями. Есть и просто завсегдатаи, любители послушать и посудачить после судебного разбирательства. Тимофей уже знает почти каждого из них в лицо.
А вот, наверное, сидят подруги Нины Казанцевой. Да, конечно, ее подруги: та, что перекинула на грудь косу и теребит ее, видимо, волнуется, и вторая, с длинным некрасивым лицом. И вот те двое — плечистый, массивный, в дорогом пальто, уже осеннего возраста мужчина и невысокий, худощавый подвижный старик. Они, конечно, тоже не просто любопытные, слишком уж напряженны их лица. А вот еще бритоголовый пожилой в стороне. И этот явно заинтересованный в деле.
— Имеете вопросы? — прерывает Ирина Павловна размышления Тимофея.
Тимофей не видит, скорее чувствует, как беспомощно вздрагивает Нина.
— Нет, нет, — поспешно говорит он.
— Вы? — обращается судья к артисту.
— Пока нет. — На сосредоточенном его лице Тимофей читает: «Я пока ничего не понимаю, но дело не кажется мне уж таким простым».
— Государственный обвинитель?
Левой рукой прокурор подвигает к себе записную книжку. Вместо правой руки у него протез с блестящей черной перчаткой.
— Скажите, Казанцева, — у прокурора мягкий, приятный голос, — вы молодой продавец. Могла ли недостача быть результатом ваших ошибок? Там свесила с походом, тут обсчитала себя при получении денег.
— Нет, не могла… — говорит Нина.
— Не могла, — неторопливо повторяет прокурор. — А почему вы так уверены?
— У нас и раньше был учет. Я ведь не первый день торговала… И потом, на такую сумму…
— Торговали вы так же, — снова повторяет прокурор. — И сумма слишком большая. Пожалуй, логично. — Как бы в знак согласия чуть наклоняет он седеющую голову. — Но куда же тогда девались товары, Казанцева? Куда девались? Что вы молчите? Дело-то серьезное.
«Славный человек! — думает Тимофей. — Он с ней, как учитель».
— Скажите, Казанцева, всегда ли вы аккуратно сдавали выручку? Не доводилось ли вам оставлять у себя на следующий день?
— Нет, не помню, — как-то нетвердо говорит Нина.
— Не помните или не доводилось?
— Не доводилось.
— Еще вопрос: для чего вы откладывали эти двадцать семь рублей?
— Грише на шубку.
— Но шубка, конечно, не единственная необходимая вам вещь. И еще что-нибудь нужно приобретать.
— Да.
— Что, например?
— Ну, Грише скоро нужны ботиночки, костюмчик.
— А долго вы откладывали двадцать семь рублей?
— Да все время, как папа умер. Только не получалось.
— Вот видите, вы откладывали все время, как папа… — прокурор счел бестактным повторять это «умер». — Откладывали в течение нескольких месяцев. Значит, вы представляете, как это нелегко. Где же вы намерены были взять деньги на остальные покупки?
— Скопить.
— А сумели бы?
— Не знаю.
— Не знаете, и в то же время делаете такой подарок Горному и угощаете подруг дорогими конфетами, и добавляете деньги на туфли. И они ведь тоже не первая необходимость, — с досадой заканчивает прокурор. — Вот и возникает сомнение — не появился ли у вас более легкий источник дохода.
Стоящий на возвышении судейский стол всегда незримыми токами связан с залом. Тимофей чувствует, как из зала повеяло холодком недоверия к подсудимой. Вольно или невольно прокурор использовал сильное оружие — доброжелательность. Он не нападал на Нину, не стремился ее запутать. Он как будто стремился помочь ей, оправдать ее — и не смог, не позволили обстоятельства дела.
— Скажите, Казанцева, при жизни отца вам самой приходилось покупать какие-либо вещи? — приступает к допросу адвокат.
Тимофей внимательно смотрит на эту миловидную женщину с темными блестящими волосами, разрезом темных глаз, похожую на японку. Переводит взгляд на прокурора. «Молода, куда ей против него».
— Вещи? Нет. Их покупал папа.
— А продукты?
— Продукты — чаще всего соседка.
— А папа давал вам деньги на личные расходы?
— Всегда.
— А в чем состояли ваши расходы?
— Даже не знаю.
— Все-таки, припомните. Кино, мороженое, конфеты, тетради, учебники, вообще книги? Так?
— Так.
— Папа не ограничивал вас?
— Что вы, папа всегда совал мне в карман.
— А такая сумма, как 50 рублей, выигранные по облигации, надо думать, впервые оказалась у вас в руках?
— Такая — впервые.
— И вы не сумели ее разумно израсходовать? Удивительно!
По залу плещется легкий смешок.
Адвокат не удерживается от взгляда в сторону обвинителя.
— Боюсь, в том и состоит ее беда, что она не умела правильно расходовать деньги, — умело парирует удар прокурор.
— Скажите, Казанцева, — продолжает адвокат, — какие отношения были у вас с Аллой Петровной Гусевой?
— Плохие были…
— Почему? Что же вы молчите? Не сошлись характерами? У меня есть данные, что она учила вас обвешивать покупателей?
— Это все знают в магазине.
— А вы отказались обвешивать?
— Да.
Тимофей замечает, что Нинины друзья довольны адвокатом. И девушки, и мужчины. А где же тот, с которым она шла тогда? Тимофей еще раз оглядывает зал. Нет, его нет здесь. Быть может, они тогда случайно оказались вместе?
Суд уже перешел к допросу свидетелей.
— Свидетель Кокорин, что вам известно по данному делу? — спрашивает Ирина Павловна.
Пригладив шершавой в ссадинах рукой свою немытую сивую гриву, Сазоныч неторопливо, пространно рассказывает историю о ящике с яблоками.
— Почему Казанцева предложила это вам? — спрашивает прокурор. — Зачем ей делиться с вами?
— А сама она как же вынесет?.. Самой ей невозможно.
— А вам возможно?
Прокурор словно ставит под сомнения слова Сазоныча, но тем самым умело заставляет его подтвердить их.
— Мне-то? Так я такие же ящики по другим магазинам повез. Кто будет считать, сколько их у меня?
— Свидетель Кокорин, — насмешливо хмурит брови адвокат, — значит, эта многоопытная девушка хотела сбить вас с пути истинного?..
По залу снова пробежал смешок. Успокаивающе звякнул колокольчик.
— И вы отказались, — продолжает адвокат. — Какие же мотивы вами руководили?
— Какие мотивы? — недоуменно переспрашивает Сазоныч.
— Меня интересует, не было ли у вас личных счетов с подсудимой.
— Какие у меня с ней счеты? Не было никаких счетов. Хоть кого спросите.
— Значит, не было. Почему же вы все-таки отказались?
— Честный я человек, вот и отказался.
— Значит, честный. Это похвально, Кокорин. Похвально. Вопросов больше не имею.
«Тут что-то неспроста, — думает Тимофей. — Что она имеет в виду?»
— Свидетель Кокорин, можете занять место в зале.
Сазоныч посмотрел на Ирину Павловну, но не сел, а раздраженно заворчал:
— Тоже защищают! Она дружкам золотые часы раздаривает. Это при ее-то зарплате, а они в защиту.
— Какие золотые часы? — неприязненно спросил прокурор.
— А что, не верите? Горного, завмага ихнего, будете допрашивать, спросите. Я сам у него на столе видел. И надпись выбитая: «Александру Семеновичу от Нины».
Свидетеля Горного Тимофей узнал сразу. Так вот кто он такой! Заведующий магазином. А по виду почти министр. И она, значит, с ним. Подарки ему дарила. Да и сейчас как она смотрит на него!
Горный сразу располагал к себе, и это было особенно заметно в сравнении с Кокориным. Кокорин был не чужд стремления показать себя, покрасоваться. Александр Семенович, как всякий порядочный человек, тяготился судебным разбирательством. Кокорин держался суетливо, подобострастно. Александр Семенович — не только с достоинством, но, скорее, раздраженно и свысока.
Веско, убедительно Горный характеризует Нину. Исключает всякую возможность даже подозревать ее в хищении.
— Вы опытный торговый работник, — говорит Ирина Павловна. — Объясните нам, откуда же у подсудимой образовалась такая недостача?
— Если бы знал, объяснил бы еще на следствии.
— Может быть, здесь имели место халатность, про счеты, перевесы?
— Не думаю.
— В вашей практике, вероятно, не раз встречались подобные истории?
— Встречались… Но с такими людьми очень редко. Больше с хапугами, пьяницами.
— Государственный обвинитель имеет вопросы?
— Скажите, свидетель Горный, не случалось Казанцевой задерживать у себя выручку, сдавать ее на следующий день?
— В нашем магазине это не практикуется, — уклончиво отвечает Александр Семенович.
— Но, может быть, допускались исключения.
— Исключения? — переспрашивает Горный. — Мы стараемся, чтобы их не было.
— Но все-таки случалось это с Казанцевой?
Горный нерешительно смотрит на Нину.
— Кажется, один раз.
— А может быть, два?
— Может быть, и два.
И снова из зала веет неприязненным холодком недоверия к подсудимой.
— Но назавтра она сдавала все полностью… — пытается смягчить впечатление Александр Семенович.
— У вас с Казанцевой были личные, неслужебные отношения? — перебивает прокурор.
Тимофей тяжело, по-медвежьи ворочается на стуле.
— Это не могло повлиять на характеристику, которую я ей дал, и вообще на мои показания.
«У них серьезное. Иначе он сказал бы не так. Впрочем, понятно по тому, как она на него смотрит…»
— Значит, не могло повлиять… Не могло повлиять, — повторяет прокурор. — С вашей точки зрения.
— Что это значит?
— Вопросы сейчас задаете не вы. Но могу вам пояснить. Это значит, что я не сомневаюсь в вашей искренности. А вот полностью объективным вы можете не быть, даже не подозревая об этом.
— Я не…
— Думаю, что вопрос ясен суду. Из материалов следствия мы знаем, что подсудимая преподнесла вам подарок. Вы, зная ее материальное положение, вероятно, пожурили ее за расточительство.
— Какое это имеет отрешение?
— Еще раз прошу вас отвечать на вопросы.
— Да, я сказал ей об этом…
— В ответ она не сказала вам, что потратила на подарок свой выигрыш по облигации?
— Н-не помню. Кажется, нет.
— А ведь пришлась бы к слову. Скажите, а что подарила вам подсудимая?
— Я уже говорил на следствии, — несессер.
— О несессере вы говорили. А какого-нибудь другого подарка она вам не преподносила?
Наступили секунды до предела, до звона в ушах раскаленной тишины. Такие секунды, как заметил Тимофей, бывают в каждом судебном разбирательстве. Часто они определяют исход дела.
— Нет. Больше Нина мне ничего не дарила.
— Скажите, что выгравировано на ваших часах?
Горный медлит с ответом. Все видят, как неприятен ему вопрос дотошного прокурора.
— Вы можете прочесть надпись?
— Но я должен сначала объяснить…
— Свидетель Горный, — строго перебивает прокурор, — прошу вас прочесть надпись.
— «Александру Семеновичу от Нины», — не снимая с руки часов, говорит Горный. — Зал вздохнул словно одной грудью. В этом вздохе и осуждение, и удивление, и даже испуг. — Но разрешите объяснить…
— Разрешите взглянуть на ваши часы? — строго перебивает прокурор.
Александр Семенович неохотно и в то же время поспешно снимает с руки часы.
— «Александру Семеновичу от Нины» — все верно, — читает прокурор. Он передает часы Ирине Павловне. Судья показывает их артисту и Тимофею. Что-то спрашивает их. Тимофей поглощен своими мыслями. «Значит, она украла. Значит, она такая»… Тимофею не хочется верить. Но что он знает о ней…
В ответ на слова Ирины Павловны артист кивает головой, с чем-то соглашается. Кивает и Тимофей.
— Суд приобщает к делу в качестве вещественного доказательства, — объявляет Ирина Павловна.
— Разрешите еще вопрос, — продолжает наступление прокурор, — скажите, свидетель Горный, если продавщица магазина преподносит вам дорогой подарок, разве у вас не возникают мысли, откуда у нее такие средства?
— Казанцеву я бы во всяком случае не заподозрил. Скорее бы подумал, что часы принадлежат ее покойному отцу. Но разрешите объяснить, как было на самом деле.
Александр Семенович рассказывает, что Нина купила ему часы на его деньги. Рассказывает сбивчиво, торопливо, очевидно, волнуясь и чувствуя, что ему не верят.
— Значит, вы дали Казанцевой деньги и попросили ее купить часы, — как бы уясняя суть дела, говорит прокурор. — Странная фантазия… Странная…
«Если так, зачем же говорить о часах отца? — думает Тимофей. — Горный понимает, что никто не поверит этой довольно нелепой версии. И не хочет, чтобы на него пала хотя бы тень подозрений. Да, с виду ведет себя рыцарем, а на самом деле…»
Допрос Горного кончился, и настроение в зале заметно изменилось.
Тимофей знал процессуальный кодекс. Судебное заседание делится там на несколько частей: судебное следствие, судебные прения, подготовка и оглашение приговора. Но с первого дня он мысленно научился делить судебные заседания на две неравные части. Одна — большая и напряженная, когда судьи с помощью вступивших в борьбу адвоката и прокурора шаг за шагом сквозь дебри запирательства, хитростей, ненужных подробностей пробираются к выяснению дела. Другая — идущая вслед за ней, когда дело уже выяснено, а оставшиеся допросы свидетелей, заключительные речи, последние слова подсудимых, конечно, влияют на приговор, но не могут изменить основного.
Зал каждый раз безошибочно чувствовал, когда начиналась эта вторая часть. Рассеивалось напряженное внимание. Люди перешептывались, позевывали. Так случилось и теперь. Только два пожилых человека и две девушки по-прежнему ловили каждое слово. Тимофей заметил, что самый старый из этой группы нахохлился, как воробей. Другой, массивный, плечистый, морщился, будто от зубной боли. Девушка с косой еще безжалостнее теребила, словно рвала свои пышные волосы. А длиннолицая горестно, по-бабьи, сложила руки на коленях, и лицо ее, казалось, сделалось еще длиннее…
И только бритоголовый, что сидит в стороне от них, по-видимому, чего-то еще ждет. Чего он ждал, чего еще можно ждать — это не было понятно Тимофею. Но сам не сознавая того, Тимофей был доволен, что приметил хоть одного человека, еще не уверенного в исходе дела.
— Я прошу, — говорит адвокат, — вызвать дополнительно еще двух свидетелей.
Перед судом появляется полная, невысокая женщина, в черном полушубке, валенках, пуховом платке.
В ответ на вопросы судьи женщина словоохотливо объясняет, что она Попова Клавдия Семеновна, проживает последнее время в соседнем городе, а сюда прибыла специально на суд. Она так и говорит «прибыла». И для убедительности добавляет:
— Вот тут написано «прибыть». И передает судье аккуратно сложенную телеграмму.
Ирина Павловна пробегает телеграмму глазами.
— Кто же вас вызвал?
— А сам начальник, Юрий Филиппович, — не без гордости отвечает свидетельница. — Сначала к телефону меня вызывал. Я, говорит, беседовал с защитницей, — с вами значит, — оборачивается Клавдия Семеновна к адвокату, — нам, говорит, обязательно надо быть. А потом и телеграмму отбил.
Так же словоохотливо рассказывает Попова и о том, что она, по просьбе Нины, продала на ручном рынке две пары поношенных туфель. «У одних еще каблук сбился. Да я сумела их так поставить, что и заметно-то не сразу. Надо ведь суметь, чтоб туфельки или там платьишко, пальтецо какое понравилось, а уж потом-то неважно, потом кто хочет купить на изъяны-то и не смотрит».
Тимофей заметил, что показание Клавдии Семеновны несколько оживило интерес к делу. Это был штрих в пользу подсудимой. Штрих, хотя и не очень значительный, но все-таки заметный. Ждут теперь второго свидетеля, приглашенного по ходатайству адвоката. Невысокий пожилой мужчина оказывается б главным ухгалтером горпищеторга.
— Скажите, свидетель, знаете ли вы Михаила Сазоныча Кокорина.
— Да, он работал два года назад в нашей системе возчиком-экспедитором.
— Как он себя проявил?
— Плохо проявил. От молодых продавцов поступило несколько заявлений, что он склоняет их к хищению. За что был уволен.
Адвокат просит разрешения задать несколько вопросов свидетелю Кокорину.
— Гражданин Кокорин, вы утверждаете, что не имели никаких личных счетов с Казанцевой?
— Да, я утверждаю это.
— Почему же тогда другим вы предлагали сделки, а от сделки с Казанцевой отказались?
Сазоныч что-то мычит, запустив руку в нечесаную гриву.
— Встал на честный путь, — выдавливает он.
— Ах, на честный путь! Это очень хорошо, — опять хвалит Сазоныча адвокат. — А я-то полагала тут личные счеты.
На этот раз Тимофей замечает, что улыбается даже Ирина Павловна. Это бывает нечасто.
— Никаких у нас счетов нет, — твердит Сазоныч.
— А вот мы спросим Казанцеву, — говорит адвокат.
— Скажите, Казанцева, не рассердился ли на вас за что-нибудь гражданин Кокорин? Нет? Тогда остается предположить, что гражданин Кокорин действительно либо отказался от старых привычек, либо ему почему-то выгодно опорочить Казанцеву, у него есть какая-то цель.
Тимофей начинает понимать дальний прицел адвоката. Как ни казались в один из острых моментов суда убедительными улики против Нины Казанцевой, все-таки не покидало ощущение, что в деле есть какие-то неясности. Сейчас это ощущение перешло почти в убеждение. Какие-то тени мельтешатся вокруг Нины, кому-то выгодно опорочить ее…
Из суда Нина шла вместе с Ритой и Леночкой. Не успели они зайти в Нинину комнату, как прибежали Галка и Верочка, только что окончившие работу.
— Значит, дело передали на доследование, — с порога закричала Галка.
— А ты откуда знаешь? — удивилась Нина.
— Звонила Юрию Филипповичу. Он считает, что это неплохо, я — тоже.
— Конечно, неплохо. Мы же говорим ей, — подтверждает Леночка Штемберг. — Да мы еще не познакомились. Мы старые подруги Нины.
— А мы новые подруги Нины.
Девушки весело смеются.
— Итак, — заявляет Галка, — я считаю, что достигнут первый успех. Дело отправлено на доследование. Стало быть, у этого самого Дырина ничего не получилось.
— Но… — начинает, было, Нина.
— Подожди, не перебивай предыдущего оратора. Я предлагаю отпраздновать успех. Имеются две бутылки лимонада.
Галка достает из сумки лимонад и кое-какую снедь.
Нина вспоминает все, что произошло на суде. И еще сейчас невольно закрывает лицо руками. Как ей было стыдно и Михаила Борисовича, и Ивана Савельевича, и подруг, и того рыжего парня, с которым она танцевала тогда в клубе. А он сочувствовал ей, этот Рыжий. Хотел подойти после суда. Но ее окружили все свои, и он, видимо, не решился. Только так же, как тогда в клубе, потоптался, будто спутанный.
А Горный только кивнул ей издалека и быстро ушел. И на суде, хотя он и защищал ее, а все-таки в истории с часами решил и себя обезопасить. Нина не знает, как другие, а она-то поняла. За последние дни она не раз перебрала всю историю своего с Горным знакомства, от первой встречи, когда новый заведующий укрощал мерзавца Сазоныча, и до последней — в суде. И ей вдруг показалось, что никогда он не был по-настоящему искренен, за исключением разве вспышек непонятного раздражения, а всегда немного играл, всегда что-то представлял. Но нет! Ей только кажется. Конечно, только кажется. Александр Семенович не может быть таким… И Галка тоже верит ему…
— Ну, что ты, Нина, ну, не грусти, — ластится к ней Верочка.
— Легко говорить. А мне опять ходить к этому Дырину. Вы бы знали, как он разговаривает.
— А может быть, другого назначат? — предполагает Леночка. Ведь в постановлении суда сказано, что следствием не выяснены все обстоятельства дела.
— Вот он и будет выяснять, — возражает Рита Осокина.
— Другого назначат. Мы добьемся, — заявляет Галка. — Что мы все — слабее Дырина?
…Иван Ларионович Дырин абсолютно не понимал, чего от него хотят. Он, Дырин, провел следствие по делу о хищении в семнадцатом продуктовом магазине. Провел, что называется, без сучка, без задоринки. Комар носа не подточит. И вдруг оказалось, он же что-то недодумал и недоделал, ему же все время тычут в нос какой-то непонятной его виной.
Впрочем, его-то, Дырина, не просто объехать на кривой или обвести вокруг пальца. Он, слава богу, не какой-нибудь несмышленыш. У него есть нюх, и он чует, откуда ветер. Продавщица эта — дочка какого-то известного в городе доктора. Доктор хотя и умер, но у него остались друзья. Недаром, когда начальник отдела вызвал его, они сидели там всей оравой. И старики, и девушки из этого же семнадцатого магазина, и два парня. Один невысокий, щуплый, а другой коренастый. Этот коренастый был особенно неприятен Ивану Ларионовичу. Он смотрел куда-то мимо него, словно Дырин действительно был пустым местом. Ну, да этим Ивана Ларионовича не возьмешь. Хуже, что вмешался райком партии. Сам, говорят, секретарь звонил. Вот наши-то и всполошились.
Впрочем, и раньше, когда прокурор ознакомился с делом, он все морщился и кривился, как будто под языком у него лежала раздавленная кислица. Но Иван Ларионович обстоятельно все пояснил, не пожалел, правда, темных красок для характеристики Нины. Да чего их жалеть, расхитителей казенного добра! К ним всякий советский человек должен быть беспощаден. И, главное, конечно, не в том, главное, хищение налицо, И прокурор согласился передать дело в суд.
А теперь вот все шумят, что это была ошибка. А в чем ошибка? Оказывается, в том, что он, следователь Дырин, не до конца раскрыл дело. Отнесся к нему поверхностно. В чем же поверхностность? А, видите ли, в том, что недостаточно ясна психология подсудимой. Поскольку, дескать, она, подсудимая, так и не признала свою вину, следовало четко обозначить контуры ее преступления. Следовало проследить, когда это началось, как развивалось, что было толчком.
Вот оно куда пошло! «Психология», «контуры». Что он, Иван Ларионович, им всем — доктор, что ли? Он им не доктор. А начальник еще выводы делает: «Не идет у вас, товарищ Дырин. Не идет».
Самому Прокопьеву поручили заняться делом. Конечно, у Прокопьева нюх, первым следователем числится. Но тоже всяко может обернуться. Он как-то изловчился, Кокорина арестовал. Поймали, говорят, на месте преступления. Сбывал продукты какие-то. Но Кокорин что? Прокопьев, ясное дело, к Горному подбирается. А кто Горный?
…Для доктора Шумакова началась полоса огорчительных, досадно неприятных событий. Доктор с изумлением и неприязнью к себе замечал, что менялась даже его манера держаться. Прорывалась в ней неуверенность и даже подчас робость просителя.
С тех пор как еще юношей с новеньким, чуть похрустывающим, когда его раскрывали, дипломом Миша Шумаков пришел в туберкулезный диспансер, у него никогда не было по-настоящему свободного времени. Были, конечно, и выходные дни и отпуска, случалось ему к ездить к а курорты. Но и по выходным дням приходил он в свой стационар, чтобы кого-то осмотреть, за кем-то проследить, кому-то сделать укол или изменить назначение, и с курорта то и дело слал он письма, а часто и телеграммы с наказами «не упускайте из виду такого-то» или «не выпишите раньше срока такого-то», «не забудьте перечислить деньги за рентгеноаппарат, приобрести вентилятор, сообщите, завезено ли топливо».
Вся жизнь его шла в орбите этих забот. Огромный труд, знания, одаренность дали ему немалую власть над людьми, приучили говорить негромко и неторопливо, сделав его слова значительными и весомыми.
И вдруг доктор Шумаков вступил в какой-то новый неведомый мир, где слова его не имели привычной цены. Так деньги, на которые час назад можно было все, что угодно, купить, становятся бесполезными, как только человек пересек границу и оказался в чужой стране.
Все качалось в день суда над Ниной, когда ранним утром запыхавшаяся Любовь Ивановна, как всегда, длинно, с ненужными подробностями, рассказала ему о Нининой беде. Михаил Борисович телефонировал в больницу, что не будет на утреннем обходе.
— Что? — переспросил удивленный дежурный врач. — Не понял вас! — За много лет работы с Шумаковым он не помнил подобного случая.
— Чего тут не понимать! Я не буду на утреннем обходе, — раздраженно повторил Михаил Борисович.
Через полчаса он сидел в скромном кабинете судьи.
Ирина Павловна выслушала доктора Шумакова внимательно. Вот тут-то Михаил Борисович впервые с досадой убедился, что его слова не имеют привычной силы.
Судья довольно сухо сказала ему, что обычно родственники и друзья подсудимых считают их невиновными, но, к сожалению, это обстоятельство вряд ли имеет особое значение для суда. Узнав о том, что Михаил Борисович только сегодня услышал о деле Казанцевой, судья заговорила еще суше.
— Если Казанцева дочь вашего покойного друга, то это свидетельствует только о том, что мы не всегда выполняем долг перед друзьями…
С удивлением и горечью Михаил Борисович понял — он ничем не смог помочь Нине. Больно было ему видеть Нину на скамье подсудимых. Странным и оскорбительным казалось, что судят дочь его друга, судят, даже не принимая во внимание того, что он, доктор Шумаков, вступился за нее, сказал за нее свое слово.
История с подарками Горному и сдачей выручки неприятно поразила Михаила Борисовича. Оказывается, действительно все не так-то просто; оказывается, Нина очень скрытная девушка. Ведь не только он, доктор Шумаков, не только Иван Савельевич, но даже Рита и Леночка ничего не знали о Горном.
Михаил Борисович не раз видел человеческое горе, И тяжелые недуги, и подчас идущие рядом материальные лишения, растерянность и даже отчаяние были хорошо знакомы ему. Но никогда он сам не испытывал с такой силой противного вязкого чувства беспомощности. И доктор Шумаков растерялся. Он не знал, что говорить Нине, и бормотал что-то невнятное, когда посла суда подошел к ней. Чем помочь Нине? Михаил Борисович не знал. Но это было еще полбеды. В глубине души он понимал, что не знал и саму Нину. Он был другом доктора Сергея Артамоновича Казанцева. Бок о бок с ним вел суровые сражения за жизнь и здоровье людей. И верил ему, как себе.
Где-то рядом росла хорошенькая девочка, дочь доктора Казанцева. Он слышал когда-то, что девочка немного капризна, что у нее нет подруг, но пропускал это мимо ушей. И поскольку она была дочерью доктора Казанцева, она была близка ему; и он не допускал мысли, что она может быть плохим человеком. Да, теперь он понял, что не знал Нину. И это было настоящей бедой, потому что, не зная ее, он не мог с полной убедительностью защищать ее, не мог решить даже для себя, виновата ли она и если все-таки виновата, то насколько велика ее вина.
После суда они вместе с Иваном Савельевичем беседовали с прокурором и адвокатом. И прокурор и адвокат, которые не хотели верить в виновность Нины, говорили, что необходимо хорошенько разобраться. В судебной практике встречается всякое. В руки девушки попали деньги. Сегодня не сдаст в кассу десять рублей — надо срочно что-то купить, завтра пятнадцать: после отдам, после рассчитаюсь. А долг все растет и растет. К тому же девушка скрытная, болезненно самолюбивая.
Михаил Борисович пробовал возражать, говорил об отце Нины, его высокой порядочности, щепетильности. Его вежливо выслушивали, но он чувствовал, что слова эти никому не интересны, бесполезны. «Откуда у меня такой тон? — сердился на себя Михаил Борисович. — Тон чуть ли не профессионального просителя». Домой Михаил Борисович шел разбитым и подавленным. Даже походка сделалась менее уверенной и твердой.
Ночью доктор Шумаков уснул только перед рассветом. Приснился Сергей Артамонович Казанцев. Он шел по коридору диспансера веселый, молодой.
— Воздух и питание дают результаты. Посмотрите на Чеботарева, на нем пахать можно. — И вдруг спохватился: — А портфель куда я задевал? Там же для Ниночки книги, Леонида Мартынова стихи.
Он ведь и не знает, что Нина под судом. Как же теперь, сказать ему или нет?
С этой мыслью Михаил Борисович проснулся. Больше уснуть он не мог.
Куда идти? Как разобраться? Как помочь Нине?
Михаил Борисович решил, что идти нужно в райком партии. Там его поймут.
Верочка сокрушалась: Нину опять вызывают к следователю.
— Ну и что же? Этого надо было ждать, — возражала Галка.
— Надо было ждать? Легко нам рассуждать-то…
— А что же мы можем…
Девушки собрались вовсе не за тем, чтобы говорить о Нине. Галя пришла к Верочке сделать ей горячую завивку. В парикмахерской были большие очереди, и Верочка никак не успевала туда попасть. Они, словно по уговору, пытались сегодня ненадолго уйти от этой грустной истории. И все равно заговорили о том же.
— Эх, ты… — Верочка изобразила на своем круглом добродушном личике презрительную усмешку. — Комсорг так рассуждает… — И, сделав большие глаза, вскочила: — Плойка-то перекалится.
— Одна ты сознательная… — принимая из ее рук горячую плойку, возмутилась Галя. — Что толку от твоих рассуждений! Там факты давай, факты!
Короткое «там» означало для девушек следствие, суд и все другие инстанции, от которых теперь зависела судьба их подруги.
— А факты разные — я с адвокатом говорила. Несессер Горному преподнесла? Преподнесла. Часы преподнесла?
— Ой, ты не дергай волосы-то! — вскрикнула Верочка.
— Преподнесла, — не обращая на нее внимания, повторила Галка. — Шубку купила?
— А я знаю, — вдруг выпалила Верочка. — Александр Семенович один раз бестоварную фактуру получал.
— Да что ты? — встрепенулась Галя.
— Честное слово! Я одна в магазине была, выручку подбивала. Фактуру привезли на песочное печенье… Восемь ящиков. Я думаю: вот завтра возьму триста граммов. У меня мама это печенье знаешь как любит. Назавтра спрашиваю у Нины, а она говорит: песочного мы не получали. Я даже к Александру Семеновичу пошла, а он рассердился и говорит: «Зачем вам? Думайте о том, что продать, а не о том, что купить».
— Что ж ты молчала, умница! — Галя встала, поправила прическу, прошлась по комнате. — От кого была фактура?
— Кажется, Саморуковская.
— Кажется или точно?
— Не знаю.
— Не могла запомнить! Идем!
— Да ты кончай с завивкой-то.
— Я кончила.
— Вот тут еще.
— Ладно. Идем!
Верочка покорно, быстро надела шубку. Только на улице спросила:
— Куда?
— В райком. К Андрею. Он вечерами сидит.
Зуб был один. Он читал «Советский спорт» и, довольный прочитанным, улыбался. Увидев девушек, сразу помрачнел.
— Проворонила комсомолку, а теперь ходишь и плачешься, — недобро глядя на одну Галю, пробасил он.
Верочка поняла, что у них уже не первый разговор о Нине. Она смущенно теребила свою сумочку. Но Галя была невозмутима, она знала Зуба.
— Не плакаться, а советоваться, — сказала Галя.
— Ну, давай советоваться. Что вы стоите-то? Вырасти, что ли задумали? — рассердился секретарь.
Девушки сели.
— Понимаешь, Андрей, — начала Галя, — вот Верочка почти уверена, что Александр Семенович, ну, Горный, наш заведующий, получил бестоварную фактуру на печенье. Восемь ящиков…
— Подожди, — прервал Зуб. — Бестоварная фактура. С чем, как говорится, ее едят?
Галя переглянулась с подругой. Верочка впервые смело посмотрела на Зуба. То, что он не знал такой простой вещи, делало его менее грозным и недоступным.
— Бестоварная… — начала объяснять Галя. — Вот я завскладом. У меня не хватит восемь ящиков печенья — продала налево. И тут узнаю — должна нагрянуть ревизия. Я звоню: Андрей, пришлю тебе фактуру. Ты расписываешься, отсылаешь мне. Ревизор смотрит — печенье отфактуровано нашему магазину. А отфактурована только бумажка.
— Понятно, — басит Зуб. — Дальше.
— Вот Верочка видела, как однажды привезли такую фактуру.
— Так вы что — подозреваете Горного? — прямо спросил Зуб.
— Нина не такая… — впервые открыла рот Верочка и тут же осеклась, словно испугавшись своего голоса.
— Хорошо, но как у ней образовалась недостача?
— Не знаю.
— В том и беда, что не знаешь. Человек живет рядом, а вы не знаете. Вот теперь и сообразите, кого винить. Я ведь с твоими предположениями к прокурору не пойду. Ему нужны факты. — Секретарь помолчал. — Ну, а Горный не мог все это…
— Не похоже, — задумчиво протянула Галя. — В магазине порядок навел, — вслух соображала она. — На войне был. Орденоносец. Передовые методы внедряет…
— Он все правильно делает, — Верочка неодобрительно и смешно насупилась.
— Правильно, а вам как будто не нравится? — спросил Андрей и выжидающе замолчал.
— Будто души в нем нет, будто не настоящий он… — загорячилась Верочка.
Галя удивленно и уважительно взглянула на подругу. «Вот тебе и Верочка! Как она определила!»
— Придется пойти в райком партии, — сказал Зуб в заключение. — Самим нам тут, пожалуй, не разобраться.
Тимофей часто думал о Нине. Странно, перед встречей в суде он почти забыл о ней. А теперь вспоминал вновь и вновь. Вспоминал не ту, которую встретил в суде, которая была с тем, с Горным, а все ту, с которой познакомился на танцах.
Были минуты, когда откуда-то являлась томящая и жгучая ревность. Незнакомое, тяжелое, это чувство стирало краски, опресняло все окружающее.
Но, пожалуй, еще томительнее было другое. Девушка, очевидно, ни в чем не виновата. Она просто не может быть воровкой. Недаром тот пожилой артист сказал о ней на суде, что такие играют Джульетт. А приходится ей принимать такой стыд, такую муку. И сейчас, наверное, опять не дают ей покоя следователи, прокуроры?
Он должен вмешаться, он должен помочь ей… После суда Тимофей хотел пойти к Нине, но ее окружили друзья, он понял, что будет здесь лишним. Несколько раз хотел прийти к ней домой, но не решился. С чем он придет, что скажет?
Иногда Тимофею страстно хотелось с кем-то поделиться, кому-то рассказать обо всем. Но с кем? Если бы кто из его товарищей знал Нину, спросил его о ней. Но ведь никто из бригады не знал ее.
И вдруг Тимофей услышал о Нине. Услышал совершенно неожиданно.
К ним в клуб строителей на диспут о любви и дружбе приехал секретарь райкома комсомола Зуб. Тимофей не любил подобные диспуты: никогда не читал статей на тему о любви в газетах. Не представлял, как можно громко, с трибуны, в полном зале разглагольствовать о том, о чем и с близким другом, может быть, решишься потолковать один раз в жизни. Как можно писать статьи о тех чувствах, воспевая которые, даже великие поэты подчас только расписываются в своем бессилии.
И сегодня Тимофей решил остаться на диспут единственно из любопытства — что будет говорить Андрей Зуб.
Остальных выступлений он почти не слушал, листая свежий номер «Юности».
К удовольствию Тимофея, Зуб как раз начал с того, что он лично не большой сторонник таких диспутов. Главное — общие мысли всем ясны, а в конкретных случаях на диспуте вряд ли разберешься… Но коли его пригласили, то ему просто хочется привести несколько примеров из жизни наших комсомольцев.
— Недавно в кондитерском отделе одного магазина обнаружили недостачу. Продавщица там была девушка, окончившая среднюю школу. В магазине семь человек, из них шесть комсомольцев. Все они уверены, что девушка не виновата в недостаче. Но никто толком не может помочь этой девушке. Но никто толком не знает, как она жила. А спроси их, в один голос скажут: коллектив у нас дружный…
«Значит, и в магазине тоже не верят в ее вину. Интересно? Надо потолковать с Зубом».
С трудом дождался Тимофей окончания диспута. До Зуба было не так-то легко добраться. Комсомольцы: спорили о кинофильме «Иваново детство», что-то кричали о Ремарке, кто-то возмущался: «Заткнись со своим кубизмом! Правильно Никита Сергеевич сказал — хвостом осла рисуют».
— А Пикассо, Пикассо? — вмешалось сразу несколько голосов.
— Вот это все и делайте темами диспутов, — пробасил в заключение Зуб. — И вообще спорить — о спорном. О том, сколько дважды два — спорить не надо: уже известно.
— Мне нужно поговорить с вами, — наконец-то протиснулся к Зубу Тимофей.
Они вместе вышли из клуба.
— А почему она тебя интересует? — выслушав сбивчивый вопрос Тимофея, спросил Зуб.
— Я был народным заседателем на суде, когда ее судили.
— Вот как! — даже приостановился в свою очередь заинтересованный Зуб. Внимательно, снизу вверх посмотрел на Тимофея. — И как тебе показалось?
— Не знаю. Длинная история.
— Давай всю длинную. Ко мне с короткими-то нечасто обращаются.
Тимофей попрощался с Зубом очень поздно, около часа ночи.
— Сложно, — басил на прощание Андрей. — Тут тебе не диспут о любви и дружбе. Надо, по-моему, там присмотреться и к заведующему. В райкоме партии я уже говорил. Ну, бывай…
— Может, ревизию к нему? — уже пожав руку Андрею, предложил Тимофей.
— Не стоит, пожалуй. Только спугнем. Подумаем…
Нинины неприятности Любовь Ивановна восприняла по-своему. Ей было очень жаль Нину. Ясно же видно, что девочка ни в чем не виновата. Кое-как сводила концы с концами. Что они там не могут понять, кто прав, кто виноват. Тоже начальники!
С другой стороны, ее возмущало Нинино упрямство. Сразу же после обыска она собралась бежать к Михаилу Борисовичу. Человек солидный, главный врач, еще депутат городского Совета, он может сказать за Нину свое слово. Оно не мало весит. Он и деньгами может Нине помочь, наверное, зарплату-то немалую получает. Но Нина категорически запретила соседке идти к Михаилу Борисовичу или к кому-либо другому из друзей отца.
«Вот с детства такая упрямица! — возмущалась Любовь Ивановна. — Уж что скажет — все должно быть по ее. Все по ее! А у самой ведь скоро есть будет нечего. Гришу одной картошкой кормит. Ну и пусть! На меня пусть не рассчитывает! У меня не столовая чужих кормить!»
Однако, возмущаясь и ворча, Любовь Ивановна не только все время совала Грише разные ватрушечки, пироги, компоты, но не упускала случая накормить и Нину.
И с каждым днем, по мере того, как усугублялись Нинины беды, она становилась все щедрее и радушнее. Расходы ее увеличились. Но Любовь Ивановна успокаивала себя: «Ладно. Мое не уйдет. Нина потом рассчитается. А нет — скажу Михаилу Борисовичу». Когда Нина получила повестку в суд, Любовь Ивановна не спала всю ночь. Тут уж отошли на второй план все материальные соображения. Любовь Ивановна до слез жалела свою Ниночку. «Господи, как-то она там будет, с ее-то гордостью, да перед судом. Видел бы покойник Сергей Артамонович! Нет, так нельзя. Нельзя больше слушать Нину. Молода она еще. Гордости много!»
Утром Любовь Ивановна побежала к Михаилу Борисовичу…
Главный врач, прощаясь с ней, спросил между прочим:
— Как она там? Может быть, нужны деньги?
— Что вы! Что вы! — возразила Любовь Ивановна. — Если нужно, у меня для Ниночки найдутся.
Вернувшись, Любовь Ивановна решительно вошла в кухню, передвинула столы и начала переставлять посуду.
За этим занятием и застал ее пришедший с работы муж.
— Что за государственный переворот? — поинтересовался он.
— Ниночкин стол. Временно брала, на место ставлю.
Один за другим приходили к ней люди, принимавшие участие в судьбе Нины — школьные подруги, Михаил Борисович, Галя и Верочка, бывшие пациенты Сергея Артамоновича. И всегда, встречая их, Любовь Ивановна переживала незнакомое ей доселе высокое чувство удовлетворения нелегко давшимся, но правильным поступком.
Снова нехотя одеваясь, с трудом передвигая враз отяжелевшие ноги, Нина собирается в прокуратуру.
«Будет ли когда-нибудь конец всему этому? — думает она. — Развеется ли когда-нибудь серая наволочь».
Нине кажется сейчас, что за нее борются какие-то две силы. Одна непонятная и темная, но, очевидно, очень цепкая, все время влечет ее куда-то, ни за что не желая отпускать. А другая, светлая, хорошая, ходит вокруг и никак не может найти ту темную, чтобы побороть ее, чтобы вырвать от нее Нину.
Все реже возвращаются к ней те злые и невеселые мысли об одиночестве, о том, что никто не поможет в глухом горе. Нина знает теперь, как прогнать их. Стоит подумать о Гале, Верочке, о Ленке, Рите, о Михаиле Борисовиче, Иване Савельевиче, Юрии Филипповиче, о многих других. Они теперь все время с ней, каждый день навещают ее, стоит вспомнить о них, и эти черные мысли рассеиваются, как дым на свежем ветру.
Ничего, хватит ей бояться Дырина! В сущности, ведь он ограниченный, даже тупой человек. И он не верит людям. А кто не верит людям, тот нищий духом. Так не раз говорил отец. И как она, Нина, могла не верить людям? Ведь так можно уподобиться тому же Дырину. Нет, сегодня она найдет в себе силы поговорить по-иному с этим чванливо развалившимся в кресле человеком. Сегодня она выскажет ему все.
С таким намерением Нина постучала в кабинет следователя. Но что это? В кабинете совсем другой хозяин.
— Вероятно, мне не сюда? — растерянно спросила Нина.
— Нет, нет, сюда, — высокий полный мужчина приветливо поздоровался с Ниной.
Странно было видеть этого спокойного, доброжелательного человека на месте Дырина. На столе перед ним лежала объемистая папка. А слева — книга.
«Даниил Гранин. «Иду на грозу», — прочитала Нина.
— Знакомо? — поймав ее взгляд, улыбнулся следователь.
— Нет, еще не читала, но слышала. Говорят, хорошая.
— Очень. У нас ведь так об ученых пишут, вообще о специалистах, мыслей их не раскрывают, поисков, а просто изображают педантами, смешными чудаками.
— Папа тоже так считал, — вставляет Нина.
— А здесь, действительно, какой-то интересный мир открывается, — продолжает следователь. — Вы непременно прочтите.
— Обязательно прочитаю. Я вообще Гранина люблю. «Искатели» и «После свадьбы»…
Нина осеклась. «Что это я, так разболталась! Совсем забыла, где и с кем. Как будто я его сто лет знаю»…
Следователь тоже помолчал. Очевидно, понял ее состояние.
— Что ж, приступим к делу…
— Есть лишний билет в кино. Фильм — люкс. «Три мушкетера». Если заплатишь, возьму с собой.
— Зови Ваню. Он, как человек воспитанный, за оба заплатит. А я на один едва наскребу.
— Ладно уж, где наше не пропадало… Пусть за один…
Вечером Тимофей ждал Юльку на том же углу, где когда-то они встретились, чтобы пойти на танцы.
— Прогресс! — весело крикнула Юлька. — Смотрел в мою сторону. — И, как всегда, просунула ему под локоть свою маленькую руку. — Я тебя не случайно взяла. Французы. Галантность. Малость образуешься.
Юлька вежливо кивнула какому-то мужчине.
— Здравствуйте, Александр Семенович.
— Ты… Ты знаешь Горного?
— С незнакомыми пока не здороваюсь, — рассудительно ответила Юлька.
— Откуда ты его знаешь?..
От Юльки Тимофей узнал немного. У них на квартире жил некий Михеич, какой-то спившийся торговый агент, одинокий, больной старик… К нему-то иногда, правда нечасто, заходил Александр Семенович.
Юлькина бабушка удивлялась, что общего у такого солидного, симпатичного человека с потерянным пропойцей Михеичем. Александр Семенович однажды объяснил: они были однополчанами. «Фронтовая дружба крепче каната. К тому же Михеич, хоть и опустился, но человек израненный, заслуженный».
Однажды, когда Михеич долго не платил за квартиру, старуха даже бегала в семнадцатый магазин. Александр Семенович посетовал на Михеича и сам отдал за него деньги. Вообще, он иногда поддерживал Михеича материально.
Бабушке надоел Михеич, и она ему отказала. Однако Михеич не уходил, буянил и оскорблял бабушку. Тут вновь вмешался кстати подоспевший Александр Семенович. Он сказал, что квартира — дело добровольное: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». И увел Михеича. Квартирует Михеич теперь в том же районе, у женщины по прозвищу «Шея». Говорят, совсем запился, работать бросил.
Тимофей решил познакомиться с Михеичем. Через него наверняка можно многое узнать о Горном. Если Горный замешан в каких-нибудь черных делах, он не может делать их один. У него должны быть помощники.
Но как познакомиться? Если зайти и спросить: «Не живет ли здесь» — и назвать любую первую попавшуюся фамилию… Ну, а что дальше? Встречаются, конечно, люди, которые в ответ на такой вопрос перечислят всех жильцов и расскажут их биографии. Но Михеич вряд ли из таких. Скорее он буркнет «не живет», и надо уходить.
Если явиться с приветом от Горного?.. Шито белыми нитками. Нет, надо зацепиться покрепче, привариться так, чтобы и шва не видно.
Лучше всего посоветоваться с Юлькой. Может, она найдет предлог. Вдруг Михеич забыл у них какую-нибудь вещь?
— Ты ко мне? Обь назад пойдет. Ну, проходи, проходи.
Юлька даже слегка задохнулась от волнения. Через кухню, где копошилась бабушка, провела Тимофея в небольшую комнатку. Стены были чисто-чисто побелены, кровать застелена снежно-белым покрывалом. Все небогатое убранство дышало чистотой и свежестью.
В этой девичьей светелке ничего не было от той суматошной и насмешливой Юльки, которая была у всех на виду. Здесь жила другая Юлька, та, что на стройке открывалась одному Тимофею, да и то несильно, чуть-чуть. Здесь была Юлька под стать убранству своей комнаты — домашняя и белоснежно чистая.
«У кого-то хорошая жена будет», — странно позавидовал Тимофей.
Он рассказал ей все о Нине, о цели своего прихода.
Юлька притихла, погрустнела. Не то ей жаль Нину, не то себя — Тимофей окончательно отдалялся от нее.
— Горного я не знаю, судить о нем не могу, — Юлька задумчиво водила указательным пальцем по скатерти, — но с Михеичем тебя сведу. Нет, вещей он у нас не оставлял. Какие там у него вещи. Да и не нужно. Мы можем без всяких предлогов сходить к нему, проведать..
— А не подумает… — начал было Тимофей.
Но Юлька убедила его, что ничего не подумает.
— У него, знаешь, где-то есть дочь. Он утверждал, что я на нее похожа. Звал меня «дочкой». И вообще, даже один раз угостил мороженым.
На улице тепло и тихо. Под ногами похрустывал весенний ломкий ледок. Юлька не ершится, не задирает Тимофея. Только на этот раз не сует ему под локоть свою маленькую руку.
Они входят во двор. С резким стуком захлопывается калитка.
«Как хлопка!» — думает Тимофей, вспоминая клетки, которые он в детстве развешивал по деревьям, чтобы ловить осенних цветастых птиц. Дверцы этих клеток были на пружинах, захлопывались с характерным стуком, и ребята называли их хлопками.
Даже Нина, вероятно, не узнала бы в квартирной хозяйке Михеича томную, в белых перчатках покупательницу, когда-то вымотавшую ее своими капризами. В ситцевом платке, в стареньком потертом платье, вытянув и без того длинную красноватую шею, она возилась возле огромной кухонной печи.
— Михеич-то дома. Где же ему быть, если он не просыхает. Окосеет, поспит и опять…
На пороге своей комнаты появился Михеич. Крутя в руках штопор, он то улыбался, польщенный приходом Юльки, то хмурился, бросая злые взгляды на хозяйку.
— Проходи, дочка, проходи. И вы, товарищ…
Михеич гостеприимно распахнул двери своей комнаты. Пропустив вперед гостей, он прошипел:
— За язык тебя тянут, Шея.
Юлька была уже в комнате и не слышала его слов. Зато Тимофей оценил меткость прозвища. «Действительно, шея у нее — высотное сооружение».
В комнате у Михеича — стойкий спиртной запах. Кровать аккуратно застелена. Это, видимо, усилия хозяйки. Зато на столе хозяйничает сам Михеич. На клеенке обломанный со всех сторон кусок хлеба. Консервная банка, кусок колбасы. Клеенка вся в пятнах и мутных озерках каких-то напитков.
— Садитесь, — суетился Михеич. — Как ты надумала-то, дочка, а? У меня тут… Я сейчас приберу маленько.
Дряблой ладонью старик сгребает со стола. Юлька отстраняет его. Она уже успела приметить где-то салфетку. Наводит на столе порядок.
— Вот так. Вот так, дочка.
Михеич силится занять гостей разговором, но только выкрикивает междометия, возбужденно топчется вокруг стола.
— Жених, а? — нелепо ухмыляясь и кивая на Тимофея, спрашивает он Юльку. — Ну, не красней, не красней. Ишь вспыхнула как! Дело житейское.
Разговор не клеится. Михеич снова переходит на междометия. Потом выпаливает:
— А как бабушка? Бабушка здорова?
И радостно вздыхает. Вновь нашел о чем спросить.
— Хорошо, хорошо. Здоровье — главное. Особенно, если человек пожилой.
Михеич расспрашивает о бабушке, сколько позволяет ему небогатая фантазия. Наконец, стремительно опускает руку под стол, извлекает оттуда бутылку столичной.
— Тебя Тимофей, говоришь? Тима, стало быть. Давай по одной для знакомства. И ты, дочка, с нами.
Юлька, морщась и закрывая глаза, выпивает полрюмки. Тимофей, преодолевая отвращение, вслед за Михеичем опоражнивает тонкий стакан.
— Да ты, брат, того — можешь. Ты, брат, из наших, — одобряет захмелевший Михеич. — Я уж вижу. Я ее, проклятой, цистерну выпил.
Тимофей сует Юльке хрустящую бумажку. Юлька понимающе скрывается за дверью.
— Хорошая дочка. Хорошая, — растроганно повторяет Михеич. — А я лишен, ты знаешь, я лишен…
«Чего он лишен? А где Юлька? Ах да, я же ее послал. Неужели уже пьянею? Такой медведь — с одного полстакана!»
Тимофей выпрямляется на стуле, шумно вдыхает воздух.
— А я лишен, — доносится откуда-то издалека.
«Лишен, и черт с тобой! Как к главному, к главному подобраться?»
— Ты закуску-то, закуску не забывай. Ту вот или эту.
«Старый черт забыл, наверное, как еда-то называется. Ему что колбаса, что консервы — все равно закуска. И суп, наверное, тоже закуска… Все чепуха. Как начать, как начать?»
Начала Юлька.
— В магазине никакого порядка, — ставя водку на стол, затараторила она. — Кассирша куда-то испарилась, а народ ждет.
— Ждет? — пьяно спросил Михеич.
— Ждет, — развела руками Юлька. — То ли дело у Александра Семеновича! Там уж всегда…
До чего же наивен переход к Александру Семеновичу. А самый тон Юльки, подозрительно естественный и беззаботный…
«Совсем не может врать!», — презрительно подумал Тимофей. Однако ринулся на поддержку.
Морщинистое лицо Михеича добродушно улыбалось. Один глаз был полузакрыт, а другой глянул трезво и жестко.
«Нет, тут вправду что-то непросто, — мелькнуло у Тимофея. — А может, все это только померещилось?»
Старик опять бестолково восхищался «дочкой» и горестно повторял: «А я лишен».
Они опорожнили еще бутылку. Михеич захмелел и хрипел полулежа на столе:
— Сам сочинил, — внезапно соврал он и, пошатываясь, выбрался из комнаты.
— Заметил, как он глянул, когда… — шепнула Юлька.
Тимофей кивнул. Значит, и она заметила, значит, не померещилось…
— Я тебе покажу одеколон лакать! Я тебе покажу! — хозяйка вошла, грубо подталкивая Михеича. Не желая замечать гостей, она оглядела своего постояльца.
— Пожалуй, уже пора. — Это было сказано деловито, как о тесте, которое подошло.
Тимофей и Юлька недоуменно переглянулись. Но Михеич, очевидно, понял значение ее слов. Он опасливо вскинул руку:
— Ну ты, Шея!
Хозяйка уже была возле него. Ловким, очевидно, не раз проверенным сочетанием подножки и удара в грудь она молниеносно повергла Михеича на пол. Села ему на живот, вытянула нескладные длинные ноги.
— Шея! Разоденется, расфуфырится. Интеллигенция! Голой рукой не бери. А здесь что выкомаривает! Здесь что…
Михеич обличал долго, но все менее связно и задорно. Наконец, он пробормотал: «А я лишен» и замолк, окончательно покорившись своей участи.
Раздались первые переливы храпа.
— Все! — сказала хозяйка, быстро вставая.
— А что он все бормочет — лишен, лишен? — спросил Тимофей.
— Лишен отцовства, — не взглянув на него, ответила хозяйка.
— Они, видать, с Горным волки матерые… Вот черт. Извини, Юля. — Тимофей запнулся и чуть не растянулся на тротуаре. Голова его была ясной, но ноги отказывались подчиняться.
Юлька взяла его под руку.
— Эх ты, Шерлок Холмс, из народных заседателей. Тоже мне, берется распутывать нити!
Юлька насмешничала без обычной веселости, один раз даже тяжело вздохнула. Тимофей слабо защищался:
— Если я Шерлок Холмс, то ты доктор Ватсон. Ну, а что делать? — вдруг спросил он. — Что посоветуешь делать? Отступиться, бросить все?..
— Да нет, уж ты от нее не отступишься, — снова невесело пошутила Юлька.
— Да разве в ней дело! Разве только в ней? Я же ее судил. Понимаешь, судил. На то меня выбирали, что же я отмахнулся и все? Ты не думай, что я пьяный. Я трезвый, еще не столько…
— Я и не думаю, — перебила Юлька. — Только с Михеичем пить — многого не добьешься.
— Так я с Зубом разговаривал. Он в райкоме партии был.
— Другое дело!
— Если ничего не выяснит, я сам туда пойду.
Михеичу не спалось. Возбужденный страхом, склеротический его мозг рождал какие-то смутные догадки, предположения, сомнения.
Арестовали Сазоныча. Захватили на месте преступления. Сазоныч не раз передавал краденое ему, Михеичу. Но есть ли ему резон сейчас выдавать Михеича и Александра Семеновича? Он только закопает себя. Мужик он опытный. Должен понять.
Но как его схватили? Может, не случайно? Может, там уже догадываются? Вот и парень какой-то к нему приходил с Юлькой. Однако не зря он приходил. А может, и просто. Пуганая ворона, известно, куста боится. Нет, говорил он Александру Семеновичу, не связывайся с этим стариком, ненадежен. А тот со своей усмешечкой: «Кто надежный-то ко мне пойдет? У нас не государственное предприятие. Вот и на тебя гляжу, надежен ли, нет — не знаю».
Эх, сколько раз он, Михеич, в трудные-то моменты думал бросить все к черту да пойти с повинной. А как отпустит, опять все идет прежним порядком. Он, может, и пьет через это. Вот и сейчас бы пойти рассказать, какой веревочкой-то их судьба связала.
Память одну за другой воскрешала перед Михеичем картины нескладной его жизни, как двойной провод, переплетенной с жизнью Александра Семеновича Горного.
…В блиндаже тесно. С бревенчатого потолка, надоедливо шурша, неторопливыми струйками ползет песок. Песок хрустит повсюду — на полу, на зубах, в затворах винтовок. Потолок тоже постоянно напоминает о себе. Больше всех достается сержанту Гунько. Казалось, он и вымахал только для того, чтобы разбивать затылок о нетесаные бугристые бревна.
Стукнувшись, сержант длинно и беспомощно ругается. Разветвленную, как старое кряжистое дерево, окопную брань он перемешивает с жалобами на солдатскую долю.
— Подняться нельзя, ровно в гробу, и песок сыпется, как в могиле.
Сержант вообще любит жаловаться. Плаксиво кривя лицо, ноет в ухо соседу — щуплому ефрейтору Яковенко: «Судьба наша, и пожить-то не успели! Я вот перед войной велосипед купил марки «БСА». Да что велосипед! Мне двадцать пять лет… Что я видел? Только жениться успел, и на вот, пожалуйста. Оставляй жену дяде… А теперь что?.. Теперь крест на себя надо ставить. Да и креста-то не будет. Конечно, все говорят — мы герои, защитники. Память о нас… А какая память? В прошлых войнах сколько полегло. Генералов давно забыли, а уж солдат…
Однажды ефрейтор Яковенко не выдержал. Забрав винтовку и вещмешок, он перебрался на другой конец нар, к самой двери, откуда несло буранным холодом.
— Ты чего туда? — поинтересовался Виктор Востриков. — Жарко тебе?
— Погоди, и ты сюда перейдешь, — хрипло ответил Яковенко. — Теперь ты рядом с сержантом оказался. А от этой плакальщицы на край света сбежишь.
С тех пор сержанта Гунько так и звали плакальщицей. В отделении знали, что командир взвода решил заменить его, но медлил — со дня на день ожидалось пополнение из школы младшего комсостава. И хотя сержант продолжал свое нытье, вопреки предсказаниям Яковенко, Востриков не сбежал от Гунько.
В каждом отделении есть свой, на редкость ладный, удачливый солдат. Он умеет лихо и находчиво отрапортовать командиру. И шинель, и сдвинутая набок шапка сидят на нем, как влитые. И на кухне ему достается лишний кусок.
Таким был Витя Востриков. Правда, обычно у таких ребят полно друзей, Востриков же держался со всеми ровно, но близко почему-то ни с кем не сходился.
Востриков слушал Гунько внимательно и даже сочувственно.
«Как из него лезет, — размышлял он, — без перерыва, как тот песок сверху. Однако это ничего, пусть болтает, с меня не убудет».
Востриков поддакивал сержанту, а иногда даже притворно восхищался.
— Голова-то у тебя, видать, не для шапки! С такой головой не здесь сидеть.
— А куда денешься? — вздыхал Гунько.
— Ничего, с головой из любой ямы можно выбраться.
— Как вылезешь? — недоверчиво спрашивал сержант.
— Кумекаем, кумекаем, — уклончиво отвечал Востриков. — Держись за меня, хоть я и не командир… Со мной не пропадешь.
Случилось странное. Когда командир взвода вызвал добровольцев идти за «языком», Востриков сказал:
— Пойдем мы с сержантом Гунько.
В таких случаях обычно каждый говорил за себя. А что касается сержанта Гунько, то он упорно молчал, отводя глаза в сторону.
Комвзвод немного стеснялся своих солдат. Он был младше большинства из них. Год назад еще сидел за школьной партой, вставал, когда входили взрослые. Теперь, после окончания офицерских курсов, взрослые люди торопились вскочить при его появлении. Младший лейтенант делал замечания солдатам, только видя в этом крайнюю необходимость. Но и он однажды сказал сержанту:
— У Горького есть такие слова: «Безумство храбрых». Это не про вас.
Сейчас он был доволен. Кажется, Гунько понял его замечание.
Пока собирались, слушали инструктаж незнакомого штабного капитана, Гунько все заглядывал в темное скуластое лицо Вострикова: «Что он надумал? С ним еще попадешь, не выкарабкаешься».
По лицу Вострикова бродили тени от мигающего огонька неисправной керосиновой лампы. Они делали лицо непроницаемым, поминутно меняя его выражение.
Немцы в первые годы войны зимой обычно располагались по деревням. И здесь они разместились в деревне, за широкой полосой леса, который темнел впереди позиции батальона. На опушке у них стояли доты, а сам лес был ничейной землей.
Заговорить начистоту Гунько решился только, когда разведчики в вечерней тьме, выскочив из траншеи и пробежав несколько сот метров по снежной целине, оказались в лесу.
— Что это тебя за «языком» потянуло? — отдышавшись, спросил сержант.
Востриков, очевидно, ждал вопроса, но по своему обыкновению прямо отвечать не стал.
— А ты что, по блиндажу соскучился? — Востриков хрипло засмеялся, но лицо его оставалось серьезным.
Жаркий прокуренный блиндаж сейчас действительно казался сержанту Гунько родным домом.
— Ты скажи толком, посоветоваться надо, — просительно протянул он.
— Чего советоваться? Слыхал, что капитан говорил.
Они вышли на лесную тропку. Взошла луна. Оледенелые сосны словно готовились стеклянно зазвенеть своими бесчисленными иголками.
Солдаты шли, не замечая красоты леса, не чувствуя бодрящего запаха хвои.
«Где тут собака зарыта? — усиленно пытался понять Гунько. — Или вправду его в разведку потянуло? Хотя не похоже. С виду-то лихой, а так хитрый, расчетливый и, однако, трусоват. Только скрывает… Может, решил к немцам податься, а мне в последний момент: — Руки вверх, да и представит, как пленного. Может, остановиться, заставить его сказать, что задумал? Я все-таки командир!»
Востриков остановился сам.
— Слушай сюда, сержант… — Несмотря на то, что вокруг никого не было, Востриков говорил тихо и даже раза два оглянулся. — Нам из нашей ямы две дороги: либо в могилевскую, либо в госпиталь. По второй-то я думаю все ж-таки лучше, а? — В голосе его забулькало и оттуда вырвался нервный смешок. — Давай-ка постреляем друг друга. Легонько. В руку, в ногу — и айда в госпиталь. Я бы сам, да одному нельзя — следы остаются. Ожог, понимаешь. У врачей глаз наметанный.
— А как узнают? — испуганно прошептал Гунько. Губы его тряслись, лицо сделалось плаксивым.
— Как могут узнать? Ты, что ли, болтнешь? Тогда — вышка.
— Какая вышка?
— Ну, высшая мера. Расстрел перед строем. Устраивает?..
Сержант молчал.
— А как ребята? — плаксиво заговорил он.
— Ах, тебе ребят жалко? Тогда идем за «языком».
Гунько смятенно посмотрел на Вострикова. «Вот связался! Если немцы не убьют, он пристрелит. Что делать?»
— Я согласен, — боязливо прошептал он.
Они вышли на поляну. Было светло. Снег под луной казался золотисто-синеватым. Востриков встал за дерево и выставил левую руку.
Сержант отошел на середину поляны, прицелился, загремел выстрел. Гунько оглянулся вокруг и бросился к Вострикову.
— Ну как? — крикнул он.
И вдруг замер от испуга, Востриков, ловко вскинув винтовку одной рукой, наводит на него дуло.
— Ты что, ты что? Погоди, я встану…
Раздался выстрел. Сержант упал. Востриков подбежал к нему. Гунько лежал ничком, уткнувшись лицом в золотисто-голубой снег. Востриков взял его руку. Пульса не было. Он отпустил руку, и она деревянно упала в снег.
— Так-то лучше, — пробормотал Востриков. — А то с тобой трибунала не минуешь.
Он перезарядил винтовку и, отводя глаза от трупа товарища, зашагал к лесной тропке. Он шел по ней в обратном направлении, придерживая раненую руку и морщась от боли.
…Михеича подобрала разведка соседнего полка. Он долго валялся в госпиталях, копя бессильную злобу на Вострикова и боясь заявить на него.
Через два года после войны, далеко от родимых мест, бывший сержант Гунько повстречал бывшего рядового Вострикова. И с тех пор окончательно перекосилась, завихрилась его жизнь. Так и не решившись донести на Вострикова — это ведь было бы доносом и на самого себя, Гунько шантажировал своего неудачливого убийцу. А Востриков вершил одно темное дело за другим. И вершил не без его участия. Он крупно жульничал во время денежной реформы. Работая главным бухгалтером, организовал хищения на межрайбазе одного облпотребсоюза, занимался нелегальной торговлей автомашинами.
Были за ним и судимости, и побеги, приходилось не раз менять фамилию, пользуясь подложными документами, чужими паспортами, даже орденами.
Михеич всюду следовал за ним. Он спился, опустился, развелся с женой и любил повторять, что он «лишен», так как был лишен отцовства.
За ночь Михеич так и не сомкнул глаз.
Вставало пасмурное зимнее утро. За окном низко и плотно нависали облака. Маленькие домишки с непременным пышным хвостом дыма из трубы, возвышающиеся над домишками голые, с тонкими ветвями тополя — все это казалось немудрящей картинкой, нарисованной на тетрадном листочке неискусной детской рукой.
И Михеича вдруг неодолимо потянуло к простой, обыкновенной, немудрящей жизни, жизни без хитрости, без обмана, без постоянного страха.
«Пойду сейчас и расскажу все, все, — решил он. — Пусть делают, что хотят. Пусть отсижу пять, даже десять лет. Зато выйду человеком. Поселюсь в таком же домишке, никого не буду бояться. Хоть самая старость, хоть закат пройдет спокойно».
Надо идти. Прямо сейчас. В милицию.
«Прямо сейчас», — бормотал Михеич, но продолжал лежать на своей неширокой железной койке. В глубине души он понимал, что никуда не пойдет, что не хватит у него для этого ни совести, ни решительности.
Около полудня в комнату заглянула хозяйка.
— Новое расписание — дрыхнуть до обеда, — проворчала она.
И в эту минуту раздался резкий хлопок калитки.
— За мной! — Михеич решил так твердо, что даже сказал вслух.
И на этот раз он не ошибся…
…Ваня Латкин уезжал в отпуск. Председатель постройкома пригласил его к себе.
— Советую вам задержаться на неделю. Имеется бесплатная путевка на Южный берег Крыма.
Председатель весело улыбался, поглаживая объемистую лысину, потирая руки. Его радовала собственная щедрость.
— Н-не надо, — сказал Ваня.
— Как — не надо?
— Н-ни в коем случае! — подтвердил Ваня.
— Почему?
— Я еду в Красноярск. Там перекрытие, и я т-тороплюсь.
— Что вам там делать?
— К-как что? Смотреть.
— Смотреть?
— А к-как же!
Председатель оглядел оттопыренные Ванины уши, взъерошенные волосы. Ваня скользнул взглядом по гладкой его лысине, округлому животику. У обоих мелькнуло: «Вот чудак». Ваня вежливо попрощался.
На вокзал мастера провожала почти вся молодежь участка. Не было только Юльки. «Не хочет давать ему никаких надежд», — подумал Тимофей.
А Ваня все оглядывался. Все ерошил свои без того взъерошенные волосы. Но потом, как это чаще всего с ним бывало, завязал какой-то теоретический спор. Вокзальное радио уже объявило об отправлении поезда. Все давно вошли в вагоны. А Ваня с уплывающей подножки все еще кричал, все еще в чем-то убеждал своих неподатливых оппонентов.
— Т-только дискуссия! — кричал он, взъерошивая слова. — Она необходима для прогресса. Пусть спорят даже единомышленники, даже единомышленники. Не будет этого, все з-застынет, з-замрет…
Тимофей намеренно отстал от товарищей, шумной гурьбой проталкивающихся в калитку с надписью «Выход в город». Он любил вокзальную сутолоку. Она не стихала. Шла посадка на какой-то другой, стоящий на третьем пути, поезд. Вокзальный шум будоражил, куда-то звал, напоминал редкой точности строки:
Тимофей подошел к туннелю и остолбенел. Навстречу ему спешил Горный. В одной руке у Александра Семеновича огромный кожаный чемодан, в другой — сетка, очевидно, с продуктами.
«Куда это он? А вдруг удирает? Не я ли спугнул его, когда был с Юлькой у Михеича? Как же теперь? Ведь уйдет. А что если подойти, заговорить? Мол, мы встречались тогда на суде. Как он поведет себя? Глупо, конечно, а все-таки…»
Тимофей шагнул к Горному, на секунду взгляды их встретились, и Тимофей понял, что Александр Семенович узнал его. И как раз в эту минуту из туннеля вырвался людской поток. Тимофея оттеснили. Когда люди прошли, Горного уже не было. Тимофей бросился к поезду, несколько раз обошел перрон, но нигде не обнаружил и следа Александра Семеновича.
Промелькнул какой-то человек, похожий на него, тоже с чемоданом и сеткой. Тимофей догнал его. Нет, не Горный.
Тимофей пошел к выходу. Неужели прозевал?
Гриша спит. Он лежит на спине. Ручонки закинуты под голову. Мягкие светлые волосы упали на высокий выпуклый лоб. Тихо-тихо, чтобы не разбудить, Нина целует его в мягкие теплые губы, поправляет волосы.
Как он похож на папу! Папа, что было, папа! Какой шквал пронесся надо мной.
Нина проходит по комнате, садится возле аквариума.
Гурами, что ты все шевелишь своими плавниками? Куда ты спешишь? Как ты поживаешь? Помнишь, я звала тебя Любовью Ивановной?
Любовь Ивановна! Болтливая, корыстная, мелочная. А стряслась беда — и вот она какая, Любовь Ивановна. Доброты и бескорыстия в ней куда больше.
Нина нажимает выключатель. И в маленьком гроте, в центре аквариума, загорается свет. Вмиг оживает крошечное подводное царство.
А ты, дания розовая? Ты же — Тимофей. Ты так же пронизана, пропитана солнцем. Оказывается, ты искал меня, искал после того вечера. Вот чудак! Но ты хороший. Ты не поверил, что я… что я могла взять чужое. Спасибо тебе за все, за все!
Здравствуй, лялиус — Иван Савельевич! И вам спасибо. Вам спасибо за Гришу. Не зря папа называл вас настоящим другом.
Я была неправа, папа. Я была очень неправа. Много-много хороших, много настоящих людей, и бессильны против них даже такие хитрецы, как Горный. А он еще прислал письмо. «Не считай меня злодеем. Я действительно обманывал тебя, но надеялся все перекрыть. Это ведь мелочи для меня. А ревизию сделали внезапно. И мне ничего не оставалось, как подставить тебя. Тут удачно подвернулся случай с часами. Уверяю тебя, когда я просил сделать надпись, ничего об этом не думал. Если будешь работать, лучше смотри, когда получаешь продукты с тарных весов. На них ведь вес каждой гири увеличивается в десять раз. И вообще, будь внимательна. А лучше тебе не ходить в торговлю…»
Мерзавец и шут! Фигляр, как любил говорить папа о таких людях. Он всегда играл. И с часами. Разыгрывал влюбленного, а сам строил свои подлые расчеты. И сейчас где-нибудь играет и комбинирует, если еще не попался.
«Не ходи в торговлю»… Нет, она пойдет. Пойдет! Дело ее теперь прекращено. Сегодня следователь, заменивший Дырина, извинился пред ней. За Дырина, за все причиненные ей неприятности.
Нет, Нина пойдет в торговлю, пусть там трудно, пусть там не все еще делается так, как нужно. Она пойдет туда. Хотя бы для того, чтобы таким, как Горный, как Алла Петровна, стало там тесно.
Нине кажется, что она видит, как наигранно-лениво улыбается своей фальшивой улыбкой Александр Семенович: «Страшно, когда надвигается такая грозная сила».
Будет страшно! Будет! Потому что сила-то грозная, все-таки грозная. Не одна она, Нина, — сила, а вместе с Галей, с Верочкой, с Юрием Филипповичем…
Вместе со всеми!