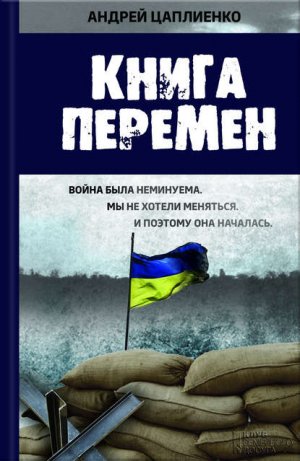
Преисловие
Брусчатка возле стадиона Лобановского, архангел Михаил в дыму, кровь на Майдане, зеленые человечки и «поребрики». В памяти все еще слишком свежо. Мы не забыли, как приближалась война. В своей книге Андрей Цаплиенко показывает нам это особенно, изнутри, с другой стороны, в незнакомом для большинства ракурсе. Глубоко и пошагово. Каждый рассказ – это эмоция. Она куда понятнее и ближе, чем сводка новостей. Я, кстати, не оговорился – Андрей именно показывает, а не рассказывает. Ему удалось, на мой взгляд, главное – текст полностью переносит тебя в книжную реальность. События происходят уже не с героями, а с тобой, читателем. Каждый рассказ ты невольно проводишь через себя. Можно сказать – проживаешь. В голове четкая визуализация. Читаешь и чувствуешь, как твоя одежда пропахла костром. А потом сердце бьется все чаще. Еще бы – не каждый день, когда на тебя объявили охоту, ты в джипе малознакомого человека ночью нарушаешь границу и несешься по Луганской области. Понимаешь, что готов ко всему. И, проезжая блокпост, за которым неизвестность, слышишь характерный «клик-клак» в исполнении автомата, которому в патронник досылают патрон. Клик-клак, приближающий войну. Ее приближало многое.
Я хорошо помню 17 июля 2014 года. Первые сообщения про сбитую «птичку», как выразился на своей странице в Интернете тот, кто ее сбивал.
Это была реальность, в которую мозг просто отказывался верить. Очень много боли и эмоций. Лично меня в тот день просто «убила» одна из фотографий. Нет, не тел, пристегнутых ремнями к авиакреслам. И даже не детских игрушек среди обломков. Меня парализовал снимок знаменитого путеводителя «Lonеly Planet», который просто лежал на траве неподалеку от кресел. «Bali, Lombok» – было написано на обложке. Я смотрел на фото и представлял себя на месте вполне конкретного, хорошо понятного и близкого мне человека. Он мечтал об Индонезии, копил деньги, отпрашивался у руководства, составлял маршрут. И был уже на пороге мечты, когда щелкнул застежкой своего ремня безопасности в кресле Боинга с тремя семерками на борту. И умер счастливым. С путеводителем в руках. Предвкушая мечту. Умер практически мгновенно – разгерметизация салона на высоте почти десяти километров не дала понять, что жизнь и мечту оборвали подлая тактика и война, о которой он не раз слышал в новостях. Но не представлял, что на этой войне погибнет.
Тогда я представлял себя на борту МН-17 в первый раз. Больше чем через год Цаплиенко неожиданно вернул мне эти ощущения, причем глубже, чем в первый раз. Творческая реконструкция последних часов жизни Боинга переносит тебя в17 июля 2014 года. Прямо в салон Боинга. Чтобы переживать и бояться до конца, несмотря на то что знаешь, каким он, конец, будет. Этот рассказ – основа для фильма, который соберет на фестивалях много премий. А книга – альтернативный учебник истории, в котором правда останется не в цифрах и фактах, а в эмоциях, понятных каждому.
Дмитрий Комаров, телеведущий, путешественник
Тем, кто, навсегда оставшись в нашем прошлом, определяет наше будущее
Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением.
Махатма Ганди
Четверо выходят из ломбарда
Война была неизбежна. Если бы мы вовремя изменились, она бы легким призраком мелькнула где-то рядом и растворилась в воздухе, не оставив следа. Но мы не хотели меняться. И поэтому она случилась. Я не знаю, как это объяснить. Я не уверен, что у меня это получится. Но попробую.
На площади перед старым ломбардом стоял огромный монумент, поставленный в честь тех, кто, не спросив у людей разрешения, объявил Украину советской. И сама площадь носила громкое название – имени Советской Украины. Вот здесь-то я и увидел странного человека в облезлой ондатровой шапке и стеганом ватнике нараспашку, махавшего кулаками перед монументальным зданием.
Приближался холодный советский праздник. Руки рабочих споро сколачивали трибуну для городского начальства, а толстые милиционеры приплясывали на месте, пытаясь сосредоточиться на мыслях о тепле и водке. Они даже не сразу поняли, откуда доносится крик:
– Отдайте мои деньги, суки!
Человек в лысой ондатре на голове был в стельку пьян. В сжатых до синевы кулаках он держал по камню.
– Суки лживые! Забрали все!
Я вижу, как он машет своими плетьми-руками, раскручивая их, как две пращи, и, когда степень вращения достигает своего максимума, разжимает кулаки. Слышен звон разбитых стекол. А потом раскаты безумного смеха, перемешанного с хрипотцой и бранью. Они разносятся над площадью, заглушая напрочь песни советских композиторов, льющиеся на головы и в уши прохожих из динамиков. Стучавшие молотками рабочие замерли и притихли.
– Где мои деньги?! Где мои вещи?! Где мое счастье?! – смеялся обладатель распахнутого ватника.
– Щас и свободу отнимем! – крикнул ментовский старшина. – А ну, хлопцы, вяжите его!
– Да вы и так ее отняли! Уже давно!
Смех над площадью не смолкал. Еще раз весело звякнули стекла.
– Да заткните же этому алкоголику рот!
Дюжие милиционеры принялись ловить пьянчужку, но это оказалось не так уж легко. Он уворачивался от них на своих нетвердых ногах, продолжая издевательски хохотать на всю площадь.
– Вы, суки, не заберете у меня мою свободу! До вас уже забрали! Эти!
Еще один камень полетел, теперь уже в сторону каменных апологетов Советской Украины.
– Так ты еще и поэт, сука! – орали милиционеры, выкручивая рукава стеганого ватника, в которых, конечно же, оставались руки нетрезвого декламатора-пересмешника.
Моя бабушка в это время говорила: «Не смотри туда» – и тянула меня внутрь набитого автобуса. Я пялился на милиционеров и крикливого алкоголика, а взрослые пассажиры старались как можно быстрее занять свои места в автобусе, втянув шеи в одинаково серые воротники бесформенных пальто.
Я всегда просил свою бабушку взять меня на демонстрацию седьмого ноября. День переворота в семнадцатом году был самым ярким праздником в Харькове. Центральная улица, Сумская, наполнялась красной рекой транспарантов и флагов, качавшихся над головами людей, и мне тогда хотелось стать частью этой реки, влиться в нее одним из притоков. Казалось бы, это дело нехитрое. Стоило только попросить бабушку взять меня с собой на работу, в профтехучилище, где она проработала много лет подряд. Там обычно формировалась колонна учеников, которая потом выдвигалась в центр города, чтобы соединиться с другими притоками красной праздничной реки людей.
Но бабушка, которая часто возила меня с собой на дежурство, никогда не брала меня на демонстрацию или на парад. До сих пор не знаю почему. Возможно, она боялась толпы. Боялась, что собранные в большом количестве люди могут затоптать ребенка, если толпу охватит паника. Хотя нет, вряд ли она боялась именно этого. Ведь к ней на работу мы ездили вдвоем, на желтом «Икарусе» номер тринадцать, от конечной до конечной. Выстояв неимоверно долгую и многолюдную очередь на площади Советской Украины, мы набивались в автобус, как селедки, и вместе с остальными селедками-горожанами принимали странные позы, в которых приходилось находиться аж до конца проспекта Гагарина, где большая часть пассажиров сходила, и в опустевшем салоне можно было посидеть две-три остановки.
Харьков семидесятых и восьмидесятых был полон противоречий. Увидев в новостях, как на площади Советской Украины открывали памятник коммунисту Артему в частности и Советской Украине вообще, я был неимоверно горд тем, что живу в городе, который показывают по телевизору. И меня совершенно не смущало, что этот памятник сразу окрестили длинным прозвищем «Четверо выносят из ломбарда холодильник, а пятый тормозит такси». В этом «пятом» узнавался сам Артем, в кожаной комиссарской тужурке и с усами под каменным носом.
– Мам, а почему памятник называют именно так?
– Ну, понимаешь, сынок, он же стоит перед ломбардом…
– Да, это я понимаю. Но почему ВСЕ взрослые его так называют? И смеются?
Все наши знакомые хоть раз в жизни имели дело с ломбардом. Нужны деньги – сдаешь что-нибудь ценное в залог. Хочешь вернуть – плати больше, чем тебе дали. Из-за фасада показного коммунизма выглядывала, ухмыляясь, реальная экономика. Взрослые это понимали. Я – нет. Поэтому про холодильник из ломбарда им было смешно, а мне непонятно. Причем вдвойне непонятно было, когда мама тревожно попросила не задавать таких вопросов «чужим дядям и тетям» и не употреблять в адрес монумента слово «холодильник», хотя бы в местах большого скопления людей.
Мы смеялись, но не хотели, чтобы с нами смеялись чужие. Мы боялись, что наш смех и наше чувство юмора оценят другие люди. Однажды мне попалась книжка «Тим Талер, или проданный смех», и я запомнил одну очень важную фразу оттуда: «Смех – это внутренняя свобода». Но к тому времени меня еще не научили шутить.
– Бабушка, а ты член партии? – спросил я, поедая аппетитную жареную картошку, желто-поджарыми дольками лежавшую на чугунной сковородке. Я любил картошку и любил, когда эта огромная закопченная сковородка устанавливалась на проволочную подставку посреди стола и над ней поднимался ароматный пар простого и обильного обеда. Моя любовь к бабушкиной картошке была притчей во языцех, и я всячески подыгрывал образу фанатичного поклонника чугунной сковородки. Однажды, когда она, как языческая реликвия, взгромоздилась на стол и ритуал священного чревоугодия подходил к своей кульминации, я с криком «Картошечка моя любимая!» поцеловал серый чугун. Я, конечно же, шутил. Но очень скоро мне стало не до шуток. Чугун был еще горячим, и мои губы превратились в два красных вареника раньше, чем я успел закричать от боли. Дальше были нудные дни, проведенные в пределах двух наших комнат в коммунальной квартире, и тошнотворная мазь, которой мне смазывали ожоги. Мне кажется, тогда я понял, что у шутки должны быть свои пределы.
Вот не помню, спрашивал ли я бабушку про партию до горячего поцелуя сковородки или после.
– Нет, внучек, я не член КПСС, – ответила та, улыбнувшись.
– Не член? Но ведь ты коммунист, правда? – настаивал я.
Моя простая и прямолинейная бабушка на этот раз промолчала, а мама, посчитав мой вопрос неловким, торопливо ответила за нее:
– Да, да, она коммунист, конечно.
«Коммунист» – это звучало круто. Это был знак принадлежности к элите. И я с детства знал, что можно быть коммунистом и не быть членом Коммунистической партии.
Да, меня не научили шутить. Не рассказали, когда нужно смеяться над хорошими шутками и как отличать их от плохих. Поэтому я всегда думал, что «не-член КПСС» вполне может быть коммунистом.
Мне хотелось совершать подвиги. С красным флагом над головой идти освобождать другие народы от капиталистического ярма. Дарить счастье коллективизации страдающим от проклятых латифундистов фермерам Северной и Южной Америк. Мне грезилось, как я в зеленой каске с красной звездой иду по улицам освобожденного Парижа и над Эйфелевой башней радостная толпа французов поднимает транспарант «Слава советским воинам-освободителям». Я не мог понять, почему загнивающий Запад не видит своего счастья в той славной перспективе, которую им сулит союз равноправных народов, раскинувшийся на одной шестой части планеты, и почему продолжает загнивать. Учитель истории с кривым носом и лягушачьими губами объяснил, что Запад будет загнивать вечно, если мы ему не поможем. Я был вполне согласен с ним.
Вот только почему так трепещет неокрепшее сердце от альбомов, в которые мои дворовые друзья собирали этикетки от жвачек? Какой у них ароматный клубничный запах! Запах сказочных стран, где все счастливы и богаты. И почему мне так нравится, когда из огромных колонок «Радиотехники» в квартире у приятеля разносится на всю улицу:
И даже надпись иностранными буквами на латвийской стереосистеме, кажется, немного приближает этот так красиво загнивающий мир. Я не мог понять, чего мне хочется больше: научить весь мир жить в коммунальной квартире, такой же точно, как у меня? Или иметь собственное пространство, в которое окружающий мир может проникнуть только с моего личного разрешения?
В метрику мама записала меня русским. Мне кажется, ради моего благополучия. Тогда, видно, перед человеком со словом «русский» в пятой графе двери открывались чаще и шире. Кем же я был на самом деле? Мамины мама с папой родились в многодетных крестьянских семьях под Курском и Орлом. Так ни разу мне и не удалось съездить и посмотреть на жизнь своих родственников в среднерусской полосе. Еврейские и татарские корни в генеалогии моего отца переплетались с тоненьким ростком, тянувшимся из Запорожской Сечи. Но, видно, был он слишком настырным, этот запорожский росток. Любимая книга детства – «Тарас Бульба». «А поворотись-ка, сынку. Экий ты смешной в этом жупане». Записано по-украински, но русскими буквами. Я был, как автор Бульбы, полон противоречий. Украинская душа, заключенная в русские формы. И первый раз заплакал я над книгой, когда наткнулся на рассказ одного писателя о первой российско-украинской войне. Главная героиня, девушка-лазутчица, бежит от большевиков, безуспешно пытаясь перейти через линию фронта, к своим. Мне было жалко эту девушку, умную и красивую, вынужденную спасаться от страшной орды освободителей. Мне хотелось влюбиться именно в такую девушку и вместе с ней, убегая от зла, перейти на сторону добра. Рассказ этот, помнится, мне попался тоже на русском.
Украина во мне росла очень медленно. Юношей я спорил с ровесниками, пытавшимися доказать мне, что украинская литература скучна, украинское искусство примитивно и что кино делится на хорошее, плохое и киностудии Довженко. Аргументы у меня были слабые. Кроме, конечно, автора Тараса Бульбы. «Но он писал на русском!» – говорили мне умные сверстники. И тогда у меня не оставалось аргументов. На самом деле сейчас, набрасывая на белый лист эти строки на русском, я понимаю, что язык – не аргумент. Главное не то, на каком языке ты пишешь, а над какими книгами плачешь.
Однажды мой лучший друг сказал мне: «Украина будет независимой». В крови играли молодые гормоны. От этого краски мира казались ярче, музыка громче, а девушки красивее. Сначала я не понял, о чем вообще говорит друг, и не знал, что ему ответить. И тогда он предложил напечатать листовки с призывом бороться за независимость Украины. Я сказал да, хорошо, давай напечатаем. Но печатать их надо было много. Как? Мы не знали тогда ни ксероксов, ни принтеров и целую ночь напролет писали от руки воззвания к землякам и соседям, разделив усеянные квадратиками странички из тетради по математике на две половинки. Слева писали на русском, справа на украинском. Вместо слова «товарищи» как-то непривычно и романтично было выводить «панове». Старались писать печатными буквами – опасались, что КГБ устроит графологическую экспертизу. Да что там опасались! Откровенно боялись. До девяносто первого года было еще очень далеко, и о независимой Украине говорил разве что Збигнев Бжезинский в далекой Америке, но он был ястребом и антисоветчиком. А о Стусе и Черноволе мы тогда еще не знали. К чему я это? Да, пожалуй, к тому, что, рассовывая по соседским почтовым ящикам самодельные листовки, я на самом деле ни о какой независимой Украине не думал. На сей патриотический акт меня толкал врожденный авантюризм и желание посмотреть, что будет с крамольными бумажками после того, как они попадут в руки знакомых, малознакомых и незнакомых людей. Но на самом деле не произошло ничего. Утром в Харькове все так же звенели трамвайные рельсы, когда тяжелые вагоны поворачивали на перекрестках, люди торопились на заводы и в конструкторские бюро, а КГБ не спешил арестовывать ни меня, ни моего школьного друга. Жаль, что все наивные листовки разошлись. Интересно было бы проверить грамматические ошибки в тексте и оценить с дистанции сегодняшнего дня радикализм воззвания.
Я вспомнил о листовке лет тридцать спустя, в тот момент, когда мой лучший друг, уезжая в Крым, вынимал из петлички серого пиджака сине-желтый значок. Он шел по перрону киевского вокзала и грубо подшучивал над русскими войсками на Крымском полуострове, а рука в это время снимала эмалированный украинский флаг. Я не осуждал и не осуждаю его. Рассовывать листовки по квартирам было интересно, но ты не глядел смертельной опасности в лицо. А когда видишь ее стальные зрачки, широко раскрытые, как у жадного до «ширки» наркомана, быть героем непросто. Настоящая наша родина рождалась в боли и страхе, причем в большей степени в страхе. Холодном, как гусеницы неподвижного танка.
Я все это вспоминаю, и у меня возникает совершенно иррациональное чувство, что война была предопределена всей нашей жизнью, всей нашей официальной историей, лживой и плаксивой, как рассказы проституток. И всей нашей неофициальной историей, громкой и сумбурной, как предсмертные крики жертв инквизиции. Как стихи о синем вине на морозной площади.
Если бы Харон был волонтером, он бы сменил свою лодку на рефрижератор. Такова наша война.
Майдан TV
Поначалу я не понимал, ради чего люди, пропахшие костром, стоят на Майдане. Мне не нравился хаос котлов с дымящимся борщом и бочек с догорающими обломками мебели, которую, скорее всего, вынесли из Дома профсоюзов. После ремонта жена сказала мне: «Отдай старый паркет на Майдан», и я передал мешков этак с восемь древесины на главную площадь нашей мятежной страны. Вот и весь вклад в революцию. Мне было жаль мерзнущих людей на площади. Но мне в то же время было жаль и того спокойного образа жизни, в ритме которого существовал дореволюционный Киев.
Впрочем, как журналист я не мог позволить себе контрреволюционную роскошь брызгать ядовитой слюной в адрес тех, кто в самый лютый холод не хотел уходить с Майдана. Я должен был объективно и беспристрастно рассказывать о том, что видел и слышал вокруг себя.
В Дом профсоюзов мы пришли, чтобы снять очень забавного революционера по прозвищу Цезарь. Парня звали Юрием. Отличное сочетание, не правда ли? Юрий Цезарь. Яркое цыганское лицо этого веселого человека обрамляли длинные кудри. Слово «Цезарь» было выведено золотой краской на инвалидной коляске, самоходным троном возвышавшейся в фойе революционного здания. Юра был инвалидом. Надевая на обрубки ног стоптанные кроссовки, он нагло и грубо, не спрашивая разрешения, перешел со мной на «ты»:
– Слышь, помоги подняться!
И я, конечно, помог. И тоже фамильярно сократил дистанцию наших отношений:
– Слышь, Юра, а почему ты Цезарь?
– Ну, понимаешь, это мой любимый актер, – сказал он и рассмеялся. Его смех чем-то напоминал хохот автора «Синего вина» из моего детства. Очень уж громко смеялся Юрий Цезарь. Оказалось, он действительно думал, что Цезарь – это имя киноартиста. К чему тогда смеяться? Юра ездил на своем троне по Майдану, накинув на плечи украинский флаг.
– Я приехал в Киев чинить скутер, – скутером он называл свой автономно передвигающийся мини– трон, – ну и решил остаться. Меня взбесило то, что менты избили семнадцатилетних пацанов. Теперь пусть меня изобьют. На все воля Божья. Будем стоять до победы.
У Юры была и собственная мотивация участия в революции. Личная.
– Я был владельцем небольшого магазинчика в Евпатории. И вот его у меня отобрали. У меня и моего друга. Побили нас сильно, – весело рассказывал он, проезжая мимо котлов с борщами и кашами.
Хитрая улыбка не сходила с Юриного лица. Его друг, тернопольский паренек, подошел к нам и, пожав руку, восторженно заметил:
– Юрко реально заводить. Ми серйозно сиділи біля бочки з дровами цілу ніч з ним. Він підбадьорював людей. Чуваки, кажу, з ним весело! Йому завжди потрібна допомога, але ми хлопці ніби не горді. Допомагаємо.
И вместе с таким же, как и он сам, юным майдановцем взял под руки Цезаря и спустил его на землю. А рядом проходил долговязый революционер с охраной, которому вскоре история найдет место в премьерском кресле.
– Эй, Арсений, как вас там? Петрович! – закричал Юра. – Я за вас голосовал!
«Вот как, – отметил я про себя, – со мной на “ты”, а с Петровичем так на “вы”».
Длинный, как жердь, Арсений Петрович был вынужден присесть на корточки рядом с инвалидом, чтобы его глаза оказались на уровне Юриных.
– Я за вас голосовал, – повторил Цезарь и без пауз и стеснения добавил: – А можно ваш телефон?
Яценюк смутился, но быстро нашелся:
– Ты знаешь, Юра, мой номер у охранников, я его… эээ… не помню, они его… эээ… тебе дадут.
– И ты, ты дай, – сказал Цезарь, повернувшись ко мне.
Я, в отличие от Петровича, свой номер помнил. Пришлось сообщить настырному инвалиду свои контакты.
Майдан кипел весельем, которое бурлило вокруг инвалида.
– О, глянь, сколько жира! – смеялся Юра, вдыхая аромат борща.
– Ти спробуй, друже, який смачний! – протягивал хозяин казана огромную ложку безногому Юре.
– Слава Украине, – вместо благодарности пробормотал Юра, проглатывая борщ, и у него получилось что-то вроде «Слава Украины».
– Ні, друже, правильно не «Слава України», а «Слава Україні».
– Та я знаю, знаю. Просто борщ у тебя очень вкусный. Героям слава!
– Ну, тепер вже молодець! – похвалил Юрка повар.
Мягкий пластиковый стаканчик со свесившимся через борт хвостом чайного конверта обжигал руки. Над каменным архангелом поднимался дым.
Юра подкатил к палатке с надписью «Донецк» и остановился возле бочки. Веселый огонь бился в ней, облизывая сломанные ножки старого стула. Невысокий средних лет человек подбрасывал в бочку дрова и, вглядываясь в причудливую игру огня и холода, мечтательно улыбался своим мыслям.
– Это Толя! Из Донецка! – крикнул Цезарь, даже не глядя на меня. – Привет, Толя, как дела?
– Да ничего, нормально, – сказал Толя, продолжая улыбаться. Что-то очень хорошее и честное было в его улыбке.
– Он из Донецка, – сказал мне Цезарь так, словно открывал страшную тайну Толиного происхождения. – Он герой! Бросил все, и теперь ему назад дороги нет. Там же все бандиты, в этом Донецке, ну, ты знаешь.
Толя тихо, но настойчиво перебил его:
– Ну, во-первых, бандиты там не все. У нас очень хорошие люди. Вся палатка из Донецка, тридцать человек. А во-вторых, какой я герой? Просто хочу жить честно и хочу, чтобы всем жилось лучше. Как-то так. А закончится Майдан, вернусь в село.
– В какое село?
Для Юры это была новость. Человек из Донецка живет в селе. Цезарь думал, наверное, что в Донецке все шахтеры. «Вышел в степь донецкую», и все такое.
– Я же из-под Опытного, там земля моя, трактор. Там дед мой еще пахал.
– Так ты донецкий колхозник, значит? – Даже в том, как Юра удивлялся, сквозила беспардонность, которую собеседник мог счесть оскорбительной. Но Толя нисколько не возмутился, а еще больше улыбнулся.
– Да, Юра, именно так. Донецкий колхозник.
– Ну, бывай, колхозник, – попрощался с ним Цезарь и величаво двинулся на своем троне дальше по Майдану.
Я глядел на Юру и думал о том, что с ним будет, когда он вернется к себе в Евпаторию. И сможет ли вернуться на дедовскую землю донецкий колхозник Толя?
Цезарь давил на кнопку, бормоча еле разборчиво: «Залипает, стерва, едет только вперед… Надо чинить».
Двое молодых людей, парень и девушка, что-то шептали друг другу, слегка соприкоснувшись теплыми балаклавами. Революция, как умная и не слишком красивая женщина, еще не влюбила меня в себя, но уже заинтересовала.
Дома жена, чмокнув меня в щеку, впервые не ругала за пропахший дымом воротник куртки. Мне снова захотелось прийти на Майдан и увидеть сине-золотое море флагов над веселой смеющейся толпой. Смех Майдана был совершенно искренним. Не истошным клокотанием порванных нервов в горле полоумного алкоголика, придавленного откормленными милицейскими телами. И не сытым хохотом патриция, развращенного неограниченной властью. Майдан смеялся от избытка свободы. И он готов был поделиться ею с каждым новичком, робко проходившим на главную площадь страны мимо рядов сложенных горкой шин и раскаленных от огня железных бочек. Языки пламени лизали закопченные жестянки. А смех свободы озарял чумазые лица точно так же, как мерцающий огонь. «Побратим, друже, товарищ», – так говорили тебе незнакомые люди, и ты не сомневался ни минуты в искренности этих удивительных слов. Эти люди, казалось мне, двигались только вперед, потому что в их жизни навсегда сломалась опция «Задний ход». Как в повозке-троне, на котором Юра кружил по площади.
Но, как только ты покидал площадь, тебя охватывали сомнения. Перегороженные мешками дороги мешали ездить по городу. Черный от копоти снег никто не убирал на Крещатике, и он спрессовывался в черный лед. В троллейбусах ворчали немолодые женщины в беретах, называя революционеров «понаехавшими». Впрочем, они так же рьяно ругали и президента, но в наших троллейбусах в принципе не любят президентов, так что этот жанр вербальных протестов не удивлял слуха своей новизной. А вот привычная белая картинка центра Киева, перекрашенная в огненные и черные тона, слегка раздражала, не скрою. Ну, а потом все начало меняться так стремительно, что из телевизора чуть ли не каждый день звучала фраза о том, что «сегодня мы проснулись в новой стране». Причем день ото дня она становилась новее и новее. Сначала упал Ленин. И я оказался рядом практически случайно.
– А не съездить ли тебе, Андрей, на Майдан?
Это мой главный редактор, человек осторожный и воспитанный. Свои приказы он раздавал вот в таком, завуалированном виде. Отказ не принимался. Было нечто иезуитское в том, что, казалось бы, формулировка предполагала вольный выбор ответа. Но притом отказаться невозможно. Все знали это. И признавали образность высказываний главного человека в редакции добротой. Но доброта не являлась главной его добродетелью. Он был остроумен, расчетлив, опытен и благодаря этим вышеперечисленным качествам умел манипулировать людьми. Если кто-то вам скажет, что управлять людьми несложно, не верьте этому человеку. Легко управляет людьми лишь тот, кто хорошо знает человеческие слабости и понимает, что сущность личности определяют не сильные, а слабые ее стороны. Почти как в электронике, где качество любой сложной системы определяется по низшим, а не по высшим параметрам. Проводя брифинги с журналистами, главред любил использовать парадоксальные сравнения, разбирая структуру отснятого сюжета:
– Вот, например, пиво… Фещенко, ты любишь пиво?
– Конечно, люблю. А кто ж его не любит?
– Жена моя не любит. Это к слову, так сказать… М-да.
– Так, а при чем здесь пиво?
– А при том. Представь-ка себе пиво. Оно наливается в стакан, стекая по краям бокала, играя на солнце холодным янтарем. И ты предвкушаешь, как дурманящая прохлада заливается тебе прямо в пересохшее нутро. Представил?
– Да.
Кадык журналиста Фещенко рефлекторно дернулся. А редактор продолжал:
– Это подводка. Ведущий в студии создает ощущение того, что зрителю обязательно надо посмотреть именно твой сюжет. Идем дальше. Пиво уже в бокале. Видишь пену?
– Вижу.
– Видишь, какая она пушистая, объемная, похожая на пенку для бритья?
– Вижу. Чего вы меня мучаете этим пивом?
– Погоди, старик, сейчас ты поймешь. Что ты обычно делаешь – пьешь пиво с пенкой или без?
– Без пенки.
– Ждешь, когда она осядет, наверное?
– Жду, конечно. А что, надо дуть на нее?
И тут главный начинает кричать, да так, что стены дрожат:
– Так какого хрена ты начинаешь свой сюжет с унылого говна?! Это все равно что стать напротив зрителя, показать ему пиво и дунуть так, чтобы пенка ему в рожу полетела!!! Вот будет с тобой после этого бухать зритель? Нет, не будет! Иди и думай, как снимать!
Главный не был алкоголиком. Но, поскольку алкоголизм – это профессиональная болезнь журналистов, он знал, как найти путь к уму и сердцу любого из своих подчиненных через их слабости. В этом и состоит великое и ужасное искусство манипуляции.
Меня он ловил на желании экспериментировать. «Понимаешь, никто этого не делал. Сомневаюсь, что получится», – озабоченно качал он головой. А я говорил: «Получится». И старался делать так, чтобы все у нас получалось. А слабо тебе взять камеру и в прямом эфире пройтись по Майдану и вдоль Крещатика?
Это на первый взгляд кажется делом простым. Ну что тут сложного? Иди себе и рассказывай, что видишь. Правда, слова должны очень ловко соскакивать с языка и точно попадать в сердце зрителя. И права на ошибку ты не имеешь, потому что дублей не будет. Это ведь прямой эфир. Кроме того, нужно успеть задать интересные вопросы самым ярким революционерам и при этом моментально выбирать тех, кто не медлит с ответом, а станет на ближайшие несколько минут интересным собеседником. К тому же все время надо быть в движении: быстро передвигаться от памятника Ленину напротив Бессарабского рынка к центру Майдана Незалежності. Это было похоже не на журналистику, а на спорт. Разговорно-беговое атлетическое троеборье на пересеченной местности. Ну как я мог за него не взяться?
Старт был намечен возле памятника Ленину. Но, когда мы подъезжали к Бессарабке, я заметил толпу, которая двигалась в направлении памятника.
– Валят! Валят! – кричали люди.
Я сначала опешил.
– Кого валят? – спрашиваю.
– Ильича валят! – И улыбка, смешанная с белым паром, уносилась куда-то вперед, туда, где нерушимое становилось хрупким и временным.
Каменный вождь считался очень ценным произведением искусства. Говорили, что памятник внесен в некий список особо ценных объектов культурного наследия. Не удивлюсь, если на этом настояли отечественные коммунисты, чей авторитет держался только благодаря символам. Сам памятник выглядел довольно стандартно и скучно.
А тут – такое агрессивное веселье.
Неужели он упадет, и все изменится? Мы пытались пробиться через толпу к эпицентру события. Это было почти невозможно. Желто-голубые ленточки на сумках возбужденных девиц хлестали меня по щекам, и кто-то громко ругался, ударившись о штатив камеры, который я тащил на своем плече. Мы едва успели на событие.
Слева от монумента стояла группа солдат в синей форме. К ним подошел священник и спросил:
– Вы не будете стрелять?
Молодые парни растерянно посмотрели сквозь пластиковые забрала своих черных шлемов и переглянулись. Робко пожали плечами.
– Благословляю вас, ребята, – сказал священник и осенил шеренгу крестом. Он принял движение плеч за знак согласия.
Кто-то уже взобрался на постамент и даже еще выше и набросил на Ленина стальной трос. Другой конец троса был прикреплен к мощному трактору. Тракторист рассчитывал одним движением сорвать глыбу мрамора с постамента. Не получилось. Вождь мирового пролетариата пошатнулся, но устоял. И тогда толпа приняла правильное, с точки зрения физики, единственно верное решение сей задачи: раскачать статую. Явление резонанса никто не отменял. Мрамор все больше раскачивался. Амплитуда движений «вперед-назад» росла, пока наконец вождь не сорвался вниз, чуть не пробив головой отполированную тротуарную плитку на площадке перед монументом. Земля вздрогнула. Толпа закричала в едином порыве восторга. Бульвар Шевченко, мчавший в обе стороны потоки машин, взвыл десятками клаксонов.
В этот момент меня посетило видение. Из глубин памяти восстал апрель в Ираке. Вождь на постаменте опоясан стальным, как и в холодном декабрьском Киеве, тросом. Трактор, так и не сваливший его с первого раза. Согнутая арматурина внутри памятника, удерживавшая его от фатального и живописного падения. А потом обломки статуи в центре Багдада и отбитый зубилом в сильных руках гигантский бетонный нос.
Потом было много фотографий с низложенным халифом. И много войны и крови.
Зима в Киеве не похожа на весну в Багдаде. Так я сказал себе, отогнав неприятные мысли. Мне хотелось перемен. И верилось в светлое будущее.
– Сегодня произошло то, что дает нам сигнал, что завтра мы с вами проснемся уже в другой стране, – говорил я в микрофон, глядя в камеру, перебарывая страх, и восторг, и морозный воздух, мешавший говорить. А за моей спиной сильные революционные руки с помощью молотка и зубила отбивали ленинский мраморный нос. Разве вы не знаете, что все самые важные вещи на земле происходят за спиной у журналиста?
Дальше бег по пересеченной местности. Знакомая баррикада с надписью «Поймите. Нас достало!» Набитая горящими дровами железная бочка.
– Добрый день! Скажите, а вы готовы к встрече силовиков?
– Готовы.
– А если они захотят разогнать Майдан?
Пауза. Потом ответ:
– А мы их встретим чаем. Вот у нас какой вкусный чай. Ароматный. Мы всех здесь угощаем. Бесплатно. Хотите?
Никогда не думал, что пластик может так приятно обжигать руки.
Идем к палатке. Заходим внутрь большого брезентового шатра.
– Ого, как здесь тепло! А где вы спите?
Камера снимает матрацы, на которых, как на передовой бойцы, не раздеваясь, спят майдановцы.
– А что вы едите?
– Да вот, приготовили бутерброды с чаем.
Камера панорамирует по холмам всевозможной снеди на столе. Миллионы людей в Украине и за ее пределами видят на своих широких экранах эту снедь революции и слышат мой голос:
– Спасибо за угощение, но чаем нас уже напоили.
Как это трогательно, мирно и весело – мерзнуть на Майдане.
«Меняйте локацию», – слышу в наушниках.
А дальше внезапный телевизионный бросок к елке. О, нет, не так! К «йолке», ведь это слово в таком виде выговорил президент, которого свергали прямо сейчас, в моем прямом эфире, мирные люди с чаем и бутербродами.
Короткие и веселые интервью пришлось закончить внезапно, после слов режиссера: «Финальные титры! Все молодцы!» Мы сделали это. «А ты крутой, дружище», – услышал я голос своего тщеславия, говоривший интонациями главного редактора. Он манипулировал мной, я понимал это хорошо, но в тот момент мне это очень нравилось. Ломая одни стереотипы, ты подчиняешься другим. Майдан стал новой формой телевидения.
И это открытие вдохновило многих телевизионных менеджеров, которым важно было конвертировать рейтинг в деньги. А уж конвертировать буйную казацкую республику Майдана в рейтинг было делом несложным. Бегая со своими рюкзачками-передатчиками по спринтерскому участку Крещатика от Богдана Хмельницкого до Стеллы Независимости, журналисты больших денежных каналов зачастую сами не понимали, что становились конверторами. Передвижными мобильными конвертационными центрами. Правда в эмоции, эмоции в информацию, информация в рейтинг, рейтинг в деньги. Хотя в моменты прямых включений об этом не думал ни один из тех, кто посреди костров протеста пытался достучаться до остальной страны, болезненно оживавшей от мерзлой полудремы. «Завтра мы проснемся в совсем другой стране, послезавтра в третьей, а еще через день в четвертой», – так полушутя ворчал главный редактор, пародируя месседжи своих ведущих, у которых замирало в эфире сердце от ощущения реальной свободы слова.
Судя по репликам из администрации президента, немногословный лидер страны не знал, чем дышит Майдан. Мороз и дым не долетали до правительственного квартала. А зря. Возможно, если бы дважды несудимый человек в дорогом костюме открыл окно и послушал шум улицы, он тогда понял бы, что следующим с гранитного постамента слетит он, пусть не физически, не буквально. Он уже падал вниз, глупо моргая выпученными глазами, но, падая, дал команду своим цепным псам и запустил маховик войны, о которой мы, его народ, ничего не слышали и в которой ничего не понимали.
Но я увидел, как над огромной страной джинном, выпущенным из бутылки, вьется она, будущая война, хотя сразу и не понял, кто именно ее выпустил.
Они не любили телевидение. Считали его продажным и лживым. Отчасти это так и было. Но всякий раз, когда видели камеру, они надеялись на то, что им удастся достучаться в башню из слоновой кости, на вершине которой восседала единственно верная, горячо любимая непогрешимая личность. Закопченный парень со щитом прикрыл меня, когда я выходил в прямой эфир. Пластиковые пули стучали по деревянной поверхности щита, светошумовые гранаты отскакивали, как теннисные мячики, и, падая, гулко взрывались. А эхо взрывов морозный киевский воздух быстро растаскивал по улицам и переулкам древнего города. Он в своей башне не мог этого не слышать. Я видел тысячи людей на склоне холма напротив входа в стадион. Горели автобусы поперек улицы Грушевского. Горели билеты в каменной пристройке, где была касса самого знаменитого стадиона города. И тут я заметил молодых людей – парней и девчонок, разбиравших тротуарную плитку возле стадиона и на аллее парка, уходившей куда-то вниз, к днепровским берегам. Они действовали четко. Как часовой механизм. В движениях их рук не было ни суеты, ни страха, ни эмоций. Они выполняли задачу. Эта задача была проста – пробить брешь в рядах блестящих черных шлемов, стоявших перед толпой. Те, кто бросал камни, подходили цепочкой, прикрываясь щитами, среди которых было немало трофейных. Левая рука на плече впереди идущего товарища, правая держит щит над головой. «Раз, два, раз, два!!!» – бодро покрикивал командир этой группы. Они шли вперед без страха, как легионеры, штурмующие городище варваров, хотя однообразием почерневшей от копоти одежды и оружия не отличались. А когда легионеры оказались прямо перед линией горящей техники, появились знаменосцы с сине-желтыми флагами. И люди, выковыривавшие плитку, выстроились в цепь. Это была настоящая армия революции. Она была серьезно намерена победить.
И тут я услышал хлопки выстрелов. Стреляли с той стороны баррикады, образованной остовами сгоревшей техники. Кто-то согнулся, словно сломанное пополам дерево. Кто-то упал на колени, закрыв руками лицо. Пальцы рук почти черные от копоти, и вот между черными и заскорузлыми, как корни старого дуба, пальцами сочится красная жидкость. Вязкая, как масляная краска. Я не верю до конца, что это кровь. Я не могу поверить, что это кровь, потому что это происходит в Киеве, в центре стольного града, именно там, где я недавно прогуливался с семьей и думал о самом удивительном и спокойном городе в мире. А к человеку с кровавой маской вместо лица уже подбегают люди в оранжевых жилетах и зеленых касках времен Второй мировой. И лица под касками тоже с тех времен, такие же закопченные и усталые. И только по красным крестам на шлемах можно понять, что это медики.
В ухе работает подслушка:
– Не говори, что внутренние войска применили пластиковые пули. Это неправда, МВД опровергает.
Я не знаю, что там опровергает МВД, но я вижу своими глазами, как сраженные и покалеченные милицейским пластиком люди падают на холодную, еще не выковырянную революционной армией брусчатку, добавляя к серо-белым оттенкам мятежной зимы артериальные тона красного. Мелькают зеленые каски, оранжевые жилеты смешиваются с дымом. Закопченная, твердая как камень рука насыпает мне в ладонь пластмассовые серые шарики. Дробь, заряженную в спецпатроны для спецружей, из которых по толпе палят спецподразделения. Грохот стоит неимоверный. Я не хочу войны, но я вижу ее призрак и слышу добрый спокойный голос, обещающий простой способ того, как ее можно избежать. До эфира пять минут. На ладони серый бисер пластиковых пуль.
– Не стоит говорить, что они стреляют, ведь травмы несущественны. А ты знаешь, сколько ребят из милиции они отправили в больницу своими булыжниками? Ты видишь, им нужна кровь!
Я сжал ладонь в кулак и снова раскрыл ее. Обычные серые пластиковые шарики. Голос в наушниках просит меня назвать белым не черное, а всего лишь серое. И, если хорошо подумать, не то чтобы назвать, а скорее не назвать, что в корне меняет дело.
– Да, и скажи про радикально настроенных молодчиков.
И тут я увидел, как в протестующих полетели черные шары с шипами, похожие на свернувшихся в клубок ежей. И эти шары взрывались со страшным грохотом, ослепляя глаза вспышками света. Один из демонстрантов, пожилой человек с небритым лицом, в строительной каске и брезентовой куртке с закатанными по локоть рукавами, схватил черный шар. Он хотел его отбросить в сторону, подальше, но не успел – светошумовая граната взорвалась прямо в его руке. И я вижу, словно в предутреннем бредовом кошмарном сне, как лицо человека исчезает в пятне яркого света, но лишь на мгновение, а потом из брезентового рукава, ломаясь возле локтя, выпадает рука и падает на мостовую. Наяву! Белый до тошноты сустав блестит из обрывков кожи, а потом медленно, как в замедленной съемке, покрывается розовой краской, и она становится все краснее и краснее. Я не слышал крика боли этого старика, да, я думаю, это был старик, за шестьдесят точно. Я не слышал даже взрыва гранаты. И я до сих пор надеюсь, что мне это привиделось, что я чего-то не рассмотрел в толпе, штурмующей черные шеренги, но это не главное. Главное было потом. На меня посмотрел парень, вооруженный битой и деревянным щитом. Посмотрел, скептически оценив мой шарфик, и закрыл меня собой. От черных оглушительных гранат. От пластиковых пуль. Тех самых, о которых мне предстояло через пять минут сказать, что их нет.
И я не смог не сказать неудобную правду, хотя было можно промолчать. Сказал, что эти шарики есть. И мне стало легко. Все равно, что будет потом, сейчас надо суметь наслаждаться правдой этой минуты. Здесь и сейчас.
А потом нас накрыло неизвестным газом, и мое нутро, как мне показалось, вывернулось, словно старая перчатка, и зловонная жидкость полилась из меня на холодный камень тротуара. Моего оператора, старого верного друга, затрясло в лихорадке, и он сказал, что не может снимать дальше, даже понимая, что мы получили бесплатный билет в первый ряд действа, которое собирает зрителей лишь один-единственный раз в истории. Это как уйти с первого тайма чемпионата мира по футболу и второй досматривать по телевизору, дома. Дальше капельница и диета. И достаточно много времени, чтобы понять, на чьей ты стороне.
Крымнаш
– То, что с тобой произошло, это как… словно… – Собеседник искал подходящее сравнение, перебирая столь любимые им сочные образы.
Циничный политтехнолог и сибарит, но вместе с тем свободолюбивый либерал и эстет. Странная комбинация качеств для человека, работающего на толстосумов. Он играл смыслами, передвигая их, как иные двигают фигуры на доске. Его интересовали деньги. Но больше, чем деньги, его возбуждала мысль, что он влияет на некие геополитические процессы. А сейчас, видно, он искренне был удивлен. Понял, знать, что на процессы влияют совсем другие люди. Не он. И оставалось только сменить кресло главного режиссера на обычный билет в партере. Это, похоже, понимали и его работодатели.
Но во времена перемен яркие слова разлетаются со скоростью трассирующих пуль.
Политтехнологу хотелось сказать что-то яркое. Он задержал руку журналиста в своей тонкой ладони и сказал:
– Это, как бы точнее сказать, было так, словно мимо тебя пролетала птица гражданской войны и чуть-чуть коснулась оперением.
«Типичный русский либерал, все дело именно в этом, – недоверчиво подумал журналист о собеседнике. – А русский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос».
Вообще-то он слушал политтехнолога не очень внимательно, думая о сломанных ребрах и результатах анализов. Красивое сравнение понравилось многим из тех, кто стоял и слышал этот разговор. В медийном сообществе принято ценить острое слово и яркое сравнение, особенно если оно ни к чему не обязывает. Но никто не мог предположить, что опальный политтехнолог оказался прав.
Ребра сломались после первого удара. Острая боль пронзила правый бок, и в легких как-то резко стало не хватать кислорода для вдоха. Он захрипел, глотая уходящий воздух.
– Да не хрипи ты! – лениво и раздраженно сказал здоровяк, сломавший ему ребра.
«Весенний асфальт, оказывается, бывает теплым», – сделал он открытие, уткнувшись в шероховатое дорожное покрытие трассы Севастополь-Ялта. Он, конечно, ошибался. Теплой была кровь, стекавшая на дорогу из узкой раны над бровью. Человек, избивавший его, носил ботинки со стальной пластиной в подошве. «Ткнешь таким ботинком в живот – и тебе сразу каюк», – вспомнил он фразу из документального фильма о наемниках в Африке, любивших такую обувь. Он смотрел этот фильм в ранней юности и даже не думал, что однажды, спустя много лет, жизнь докажет на деле, насколько это кино было честным.
– Никогда не думал, что попаду в кино! – сказал его веселый друг, греческий журналист Костас, когда за их машиной обнаружилась погоня. Сначала в зеркале заднего вида появилось два злых фонаря. Потом еще два загорелись голодным волчьим огнем хищника, почуявшего кровь. Сидя в машине, беспомощно и загнанно удиравшей от вооруженных хищников, ни он, ни Костас не знали, что их атакует целая стая. Если бы они слышали переговоры на таксистской волне, то наверняка удивились бы слаженности работы четырехколесных волков.
«Они почему-то едут медленно, со скоростью сорок-пятьдесят километров в час!»
«Свернули от заправки. Едут в вашу сторону».
«Берите их на кольце. Оружие не применять. Камеру и всю технику убить».
За ними ехали два внедорожника, прижимая белую «рено» к обочине шоссе. «Рено» не могла ехать быстрее. Мощности двигателя не хватало, чтобы вытянуть на подъем пятерых пассажиров и водителя и оторваться от преследователей. Перед лобовым стеклом вдруг мелькнула коричневая «девятка», и человек в шапке-кубанке, с желто-черной ленточкой на зеленом камуфляже яростно саданул по капоту палкой. Водитель остановился.
В своем малолитражном «рено» он вез пятерых журналистов. Один – украинский репортер. Другой – колумнист из греческой газеты. С ними молодая женщина. Вроде как местная, из Симферополя. Но она уже давно работала на большой киевский телеканал и поэтому внезапно стала врагом для своих земляков, надевших «кубанки» и нацепивших ленточки. Именно такие были на куртках крепких парней, только что выскочивших из своих мощных джипов и обступивших белую «рено».
– Выходите! – заорали они и для убедительности стали бить кулаками по стеклам. Выходить очень не хотелось, но украинский репортер знал, что это неизбежно. Он насчитал десяток вооруженных крепышей. Они действовали очень слаженно, точно определяя свое местоположение относительно остановленной машины прессы: напротив каждой из четырех дверей стояло по одному молодчику, и еще несколько человек – со стороны капота и багажника. Украинский репортер заметил, что все они вооружены одинаковыми пистолетами.
«Вряд ли это бандиты, – промелькнула у него мысль. – У тех оружие было бы вразнобой». К тому же пистолет Макарова бандиты не любили. И, словно в подтверждение мыслей, украинский репортер услышал звук выстрела. Хорошо знакомый «макаровский» хлопок. Потом еще один.
Человек стрелял в асфальт. «Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы запугать и деморализовать», – подумал репортер и внутренне успокоился. Терять присутствие духа он не собирался и в то же время понимал, что проявлять излишний героизм не стоит: против десятка вооруженных людей пятеро безоружных журналистов ничего не смогут сделать, тем более что среди пятерых была одна женщина.
Ее не тронули и даже не положили вниз лицом на асфальт. Хотя и могли. Видно, в душах этих хищников еще сохранились рудименты чести и представления о правилах хорошего тона. Она стояла и наблюдала за тем, как журналисту из Греции одним мощным ударом сломали нос, как били ногой по лицу и ребрам худощавого оператора и швыряли оземь камеру с широкоугольным объективом, очень дорогую штуковину, позволявшую делать невероятной красоты кадры, если она попадала в руки мастера.
Эти, которые яростно выполняли приказ «убить камеру», тоже были мастерами своего дела. И украинец догадался об этом, отмечая поведение стаи вооруженных хищников. Они стояли так, чтобы в случае чего прикрывать друг друга. А значит, все же готовы были применить оружие на поражение.
За час до этого журналист отметил, как технично эти люди разогнали толпу операторов, снимавших захват украинской воинской части. Солдаты без опознавательных знаков, в российской зеленой форме, штурмовали часть и не обращали внимания на журналистов. Видно, не было у них приказа стрелять в репортеров. А тех собралось под воротами около тридцати. Ворота попытался таранить грузовой «Урал» без номеров. Попытка не увенчалась успехом. Только железный бампер содрал с ворот полосу серой краски.
– Да у них давно уже эта полоса на воротах! – завизжали две вредные бабы, подъехавшие внезапно на корейской малолитражке к репортерам.
– Зачем же вы врете? – спросила их журналистка, которая некоторое время спустя оказалась в белом «рено».
– Это вы все врете! Украинские журнализды! – ехидно крикнула ей низкорослая девица с черными вьющимися волосами. Она стучала своими каблуками, как приземистая степная лошадка копытами. От неприятного коверкания, рифмующегося с бранным соленым словечком «журнализды», стало тошно.
– В чем же мы врем? – спросил барышню репортер-киевлянин.
– А чо ты к ней пристаешь? – подскочила и вторая, блондинка с визгливым голосом. – Или жениться хочешь?
Жениться на такой красавице никому из журналистов не хотелось, но репортер-киевлянин сказал на всякий случай, что при других обстоятельствах рассмотрел бы предложение. Шутка была веселой и вполне мирной, но блондинку она почему-то разозлила.
– Да чо с ними разговаривать, Вика? – сказала она черноволосой. – Па-аехали! Звони «волкам»!
Кто такие эти «волки», стало ясно ровно через пятнадцать минут. Они приехали на мощных внедорожниках, на борту одного из которых красовалась надпись «Смерть фашистам». Хотя, откровенно говоря, фашистами показали себя именно они, люди с георгиевскими ленточками. Они рассредоточились между операторами. Некоторое время стояли, присматриваясь к разношерстным представителям мировой прессы. Выбирали себе жертв. А потом, словно по команде, с криками «Чо сымаем, твою мать?!» набросились на операторов. Избивали их руками, валили на каменистую севастопольскую землю, добивали ногами. Оператор, работавший с женщиной-журналисткой, получил болезненный удар в челюсть. Она вместе с греком затащила покалеченного парня в «рено». Ее собственный водитель незаметно исчез, быстро сообразив, в какую неприятную сторону разворачиваются события перед частью. В верное «рено», оставшееся на поле боя, набились целых две съемочных группы. Нужно было срочно искать больницу для оператора. И они не знали, что больница вскоре понадобится им всем. За ними была погоня.
«Какая у них машина?»
«Белый “рено”, я их днем видел возле Стрелецкой бухты».
«Куда они сейчас едут?»
«В сторону вокзала».
«Блокируйте их там!»
Возле вокзала им повезло. «Волки» подскочили к машине, рванули заднюю дверь и выхватили у оператора камеру. Тот не стал сопротивляться и позволил им забрать ее. Преследователи вцепились в нее, как африканские гиены в антилопу. Пущего сходства добавляли подобные звериному рычанию звуки, которые они издавали, ломая нежное телеоборудование. Журналисты выиграли несколько секунд, успели захлопнуть дверь и рванули с места настолько быстро, насколько им позволяла мощность двигателя.
Правда, они не могли догадаться, что в охоте, кроме тех, кого называли «волками», участвуют еще и таксисты. Они следили за машиной весь день и сообщали информацию о перемещениях женщине-диспетчеру, которая милым голосом передавала ее исполнителям.
«Мальчики, надо уничтожить все видео с регистраторов и камер наблюдения. Ну, сами понимаете…»
«А у меня регистратор и так сломан».
«Вот и хорошо».
Журналистка понимала, что в Севастополе им нельзя оставаться.
– Тут все против нас, – сказала она. – Надо выехать из города и найти больницу в другом месте.
А в это время репортер-киевлянин говорил по телефону со своим товарищем, коренным севастопольцем, у которого пытался выяснить, как лучше выехать из города.
– Сейчас прямо, – передавал он водителю то, что слышал в телефонной трубке, – чуть позже будет кольцо, и на кольце надо уйти налево.
Именно на кольце их поймали. Похоже, шансов уйти не было.
– Какой-то голливудский боевик! – пробормотал греческий колумнист перед тем, как его вытащили из машины и сломали нос.
Репортер из Киева смотрел на крепких вооруженных парней в масках, на их ментовские повадки и ментовские неказистые «макаровы», и понимал, что это продолжение того жестокого карнавала, который начался не сегодня, перед украинской военной базой ПВО, а значительно раньше. Тогда, когда впервые на улицах Симферополя и Севастополя появились одинаковые «зеленые человечки», люди с автоматами и пулеметами, одетые в новенькую российскую форму бойцов спецопераций. Все знали, что это российские солдаты и офицеры. Все знали: проверь номера их оружия, и окажется, что оно из России! Но при этом все делали вид, что парни в зеленом – это местные крымские ребята, решившие сохранить порядок и законность на полуострове. Самооборона, как они себя назвали.
«Мы хотим свободно говорить на русском языке! Мы хотим быть частью великой культуры Пушкина, Толстого, Достоевского!»
Так скандировали те, кто создавал шумовой фон для агрессии против украинских военных. Все роли в карнавале были расписаны. Пожилые ветераны и женщины в вязаных беретах громко кричат, называя имена великих писателей. Зеленые одинаковые люди штурмуют воинские части. А крепкие обученные парни в гражданке бьют журналистов.
Вот кто им больше всего мешал! Журналисты! Это они задают неудобные и неуместные вопросы «зеленым человечкам».
«Вы кто, вы откуда?»
«Мы местные».
«Тогда скажите, в каком районе Севастополя вы сейчас находитесь?»
«Не знаю».
«Какие же вы местные?»
«У меня приказ».
«Чей приказ?»
«Не могу сказать. Но вообще-то мы из России».
Это они, журналисты, заставляют визгливых теток в беретах признаться, что ни Пушкин, ни Достоевский с Толстым их не интересуют и, в общем, никогда не интересовали. А хотят они, чтобы пенсии у них были, «как в Москве». Да и многие украинские военные, из тех, кто внутренне уже согласился изменить присяге, не могли дождаться того момента, когда этих нахальных соотечественников с телекамерами уберут из города. А еще лучше – с полуострова. Изменять присяге перед камерой как-то неловко.
Им разбили камеры. И переломали кости.
Репортер из Киева был спокоен до того самого момента, когда его греческого товарища стали паковать в багажник. Долговязый грек в тяжелом кожаном реглане плохо умещался в багажнике. Ему помогли тумаками. Затем ударами загнали туда и тщедушного оператора. Тот держался за бок и тяжело дышал, глядя на пистолет, направленный прямо ему в лицо.
«Когда стреляют рядом с головой, это не страшно, – подумал репортер. – Значит, пугают. Когда засовывают людей в багажник, значит, хотят куда– то вывезти. А дальше конец. Похоже, что так».
Он поднялся и облокотился о бампер машины. Надо было что-то сделать. Хотя бы пошутить. Пусть неловко. Он понимал: надо попытаться разрядить обстановку, чтобы его товарищи остались в живых.
– И ты лезь туда, сволочь фашистская! – крикнул здоровяк в маске, направляя пистолет на репортера.
– А, понятно, – пробормотал журналист. – Вы, наверное, думаете, что мы бандеровцы.
– Бендеровцы, бендеровцы! Кто же еще?
И эти коверкали слово «бандеровец». «Почему же, – недоумевал репортер, – поборники великой русской культуры так не по-русски произносят его, превращая сторонников национализма в жителей молдавского города Бендеры?»
– Странно. А вот некоторые нас называют «москалями». За то, что говорим по-русски.
– Да иди ты! Рассказывай больше!
Это не был контакт или диалог. Скорее обмен фразами. Но и его, видимо, было достаточно, чтобы снизить градус жестокости.
– Ладно, езжайте!
Похоже, импровизация с багажником и вывозом в неизвестном направлении отменялась.
– Только запомните: мы знаем, кто вы и откуда, мы знаем, где ваши семьи, так что живите и бойтесь!
Репортер из Киева не хотел бояться. Он разозлился. Эти люди, «волки», попытались ударить журналистов в самое болезненное место.
Еще недавно он приезжал в белый город у моря, чтобы побродить его улицами и послушать шум моря возле Графской пристани. Он хорошо знал, что где-то рядом, на морском дне, навеки осталась мачта линкора «Новороссийск», взорвавшегося при странных обстоятельствах, и он еще совсем недавно пытался в этих обстоятельствах разобраться.
Он рассказывал своим детям о Балаклавской битве, о том, что фраза «тонкая красная линия», означавшая упорство и мужество военных, появилась именно здесь, когда первый в истории журналистики военный репортер Уильям Рассел, сидя на холме, наблюдал за разгромом шотландского отряда в красных мундирах, выстроившегося в яростно отстреливающуюся цепь.
Он любил к месту и не к месту цитировать Альфреда Теннисона, написавшего об этом разгроме свое знаменитое: «Yours not to reason why, yours but to do and die». Он с детства помнил и описания солдат первой севастопольской обороны, сделанные графом Толстым. И точно как один из увиденных графом воинов пытался в детстве есть арбуз с хлебом. Вкус ему сразу не понравился, но он сказал себе: «Толстой считает, что это вкусно!» – и с помощью великого писателя запихал в себя черную плоть хлеба и красную плоть арбуза.
Он вместе со своими детьми перелезал через забор, чтобы попасть в Херсонес, – как заправский, настоящий севастополец, – и рассказывал им об Ифигении, о греческих колонистах, о фильме «Приключения Буратино» и о князе Владимире. А потом его дочь, закутавшись в клетчатый теплый плед, сидела за колоннадой на белой веранде и, вдыхая аромат травяного крымского чая, смотрела, как по поверхности Артбухты скользит белый парус.
Он был счастлив в этом городе. Но город его предал, на что, как оказалось, не требуется много времени. Это так же легко, как поменять присягу. Чтобы потом, на старости лет, пенсия, как в Москве. Он думал, что Севастополь вечно молодой, а город оказался старым военным пенсионером, коротающим свой век в грезах о несбывшемся вчера.
«Они, наверное, считают себя героями, – пытался понять репортер, – но герои идут в бой с открытыми лицами, а не закрывают их масками». Эти, в масках и с георгиевскими ленточками, оставив себе кошельки и документы, спрятали свои коротконосые «макаровы» и убрались восвояси на мощных джипах.
– Это вас, милая девушка, с Восьмым марта! – криво усмехнувшись, сказал журналистке милиционер на ближайшем посту между Севастополем и Симферополем. Здесь явно знали о происшествии со стрельбой.
– Они все против нас! Они все заодно! – прошептала девушка, размазывая слезы по щекам.
Диагноз ее спутникам смогли поставить только в Киеве. Сломанные ребра, пробитое легкое, травмы головы.
Через несколько дней она сидела в вагоне. Поезд увозил ее в Киев. Она была не одна. Ее мама обреченно смотрела в мокрое от дождя окно, а ее дочь перелистывала разноцветные страницы детской книги. «Меня не били, – думала журналистка, – но убили морально». Ей нужно было привыкать к новому для себя положению. «Беженка, – впервые сказала она себе. – Наверное, первая беженка». Ей казалось, что беженцы – это герои репортажей о войне. А за окном все-таки была не война, а дождливая ранняя весна. Журналистка не знала, что война уже идет. Поезд убегал от неизбежности в неизвестность. Но это была неизвестность не темной, а светлой стороны. «Все будет хорошо-хорошо-хорошо», – уверенным тамтамом отбивали колеса. И она задремала под этот ритм с блуждающей улыбкой на лице. А над степью, за окном, кружила птица, широко загребая крыльями воздух, в котором внезапно стало много кислого привкуса металла. Так здесь бывает перед грозой.
Взведенный автомат
Кофе возле памятника Тарасу Шевченко был самым вкусным в городе. Украина, мне казалось, цеплялась за уплывающий город всеми способами, всем тем, что было в ее арсенале красивого и комфортного. Даже кофе участвовал в борьбе за симпатии. Открытая веранда, сколоченная из дерева, и плотная серая бумага, на которой было напечатано меню, – от всего этого веяло стабильностью и достатком. И девушка, терзаемая нашими вопросами о рецептах блюд, не хмурилась, а мило и даже, пожалуй, задорно улыбалась. Только что у меня было прямое включение с человеком по имени Вадим. Его напористость, характерная для донецких степей и терриконов, могла поначалу испугать чересчур интеллигентных собеседников. О чем бы ни шла речь – пускай даже о рецептах блюд в кафе, – он всегда говорил жестко, весомо и даже агрессивно, четко обозначая и защищая территорию своих интересов. Такова была форма самозащиты, столь необходимая для выживания в этой непростой и жестокой части Европы. Так здесь привыкли говорить многие, и с этим ничего не поделаешь. Но за несколько тяжелой манерой разговора Вадима можно было разглядеть мощный интеллект, образованность и патриотизм – те качества, которые могли сделать его лидером. Он был человеком слова, открытым для дружбы с новыми людьми.
В общем, он мне понравился. В этот вечер случилось так, что все наши луганские съемочные группы оказались в нужное время в нужном месте. Вернее, в удобное время. Почему бы не выпить чашечку кофе? Или, может быть, чего-то покрепче? Ведь рабочий день и эфир закончились.
Все складывалось как нельзя лучше. Это я понял уже потом. А сразу мне не очень понравилось, что милая официантка предложила нам деревянную веранду вместо зала внутри кафе. Все-таки апрель на дворе, как-то зябко. Но дерево было приятное на ощупь, и куртка на плечах не давала замерзнуть. И девушка достаточно мила, чтобы я с ней согласился.
Нас было шесть человек, но ребята решили отвезти свои камеры на съемные квартиры, в которых жили обе наши группы. Они взяли старый, серебристого цвета седан «ниссан», исправно катавший нас по донбасским дорогам. Вадим припарковал свой огромный черный «патрол» чуть дальше веранды кафе. Гена, единственный из моих коллег, кто не поехал отвозить технику после прямого включения, отправился в одиночестве в темноту переулков звонить по телефону, вероятно, своей девушке. Мы с Вадимом ожидали кофе.
В городе было тревожно. В здании службы безопасности Украины засели вооруженные люди, объявившие себя «Луганской Народной Республикой», но тогда, в конце апреля, границы этой республики были обозначены стопками покрышек да спиралью колючей проволоки, в которую обмотался муравейник захваченного здания. На территории «республики» было довольно вольготно. Бутерброды, водка рекой, свобода слова – мощного, крепкого, нецензурного. И ненависть ко всему украинскому вообще, а к столичному телевидению в частности. Но на площади возле памятника Шевченко развевался сине-желтый флаг, и к нам, журналистам, подбегали быстрые озорные студентки с ленточками цвета неба и пшеницы. Брали автографы, знакомились, просто болтали. Возле Кобзаря было спокойно и весело.
Ну вот, ждем мы с Вадимом кофе и обсуждаем его прямое включение. Я тогда считал, что нужно как можно больше показывать местных донбасских бизнесменов, которые могут стать лидерами мнений. Мне казалось, патриотично настроенный жесткий человек, сидевший напротив меня, именно такой. Вадим рассказал, как передал пограничникам две легкобронированных машины. И собирается передать еще. Я его слушал и думал о своем. Надо было закончить статью и найти для этого немного времени. И в этот момент я заметил стаю молодых людей, проходившую мимо кафе.
Их было человек пятнадцать. В спортивных костюмах, которые в темноте казались абсолютно одинаковыми. В кепках и бесформенных шапках. Примерно двадцатилетние. У каждого в руке по бите или просто короткой дубине.
Это был первый раз, когда я увидел, как люмпенская республика выплескивается за шинно-проволочный периметр.
Они проходили достаточно близко от веранды, чтобы до меня донеслись обрывки их разговора:
– Его «патрол» стоит ниже, а выше серебристый «ниссан». И где-то там должен быть этот…
– Цап? – невнятно переспросил говорившего товарищ.
И они пошли дальше. Как раз туда, где развевался флаг и огромный Кобзарь грустно смотрел на прохожих со своего постамента.
«Патрол», «ниссан» – мне это что-то напомнило. Но реакция Вадима оказалась быстрее:
– Вот как, эти тебя «цапом», оказывается, называют?
И у меня сложилась картина. Они видели включение. После него прошло около четверти часа. Как раз приблизительно пятнадцать минут нужно, чтобы определить место включения и добраться от здания СБУ до центральной площади Луганска пешком. Они шли за мной, за всей нашей группой.
Вадим не стал ждать моей реакции.
– Они прошли вперед. Быстрее в машину, поехали!
Нас спасло только то, что на месте не оказалось ни серебристого «ниссана», ни остальных ребят с техникой. Тех, кто искал меня, это ввело в состояние ступора. Пока они искали «ниссан», мы запрыгнули в джип Вадима и принялись кружить по луганским улицам, пытаясь определить, есть ли за нами «хвост». Погони не было. Я набрал номер оператора на съемной квартире:
– Быстро собирай вещи! Надо валить из города.
Моего тезку Андрея не надо было просить дважды. Через пять минут он уже стоял со своим и моим рюкзаком возле коричневой двери луганской многоэтажки.
– Быстро, быстро! – подгонял его Вадим. – Я их знаю. Они нас будут искать.
Еще один круг по городу. Я успел предупредить товарищей, чтобы ни в коем случае не возвращались на площадь.
– Почему?! – со злостью стукнул Вадим по рулевой колонке. – Почему я, как заяц, должен бежать отсюда?!
Это была его родина.
Мы направлялись на выезд из города. Я сделал еще один звонок – предупредил местного журналиста, с которым успел подружиться, о том, что за нами охотятся. Он, темпераментный молодой человек, воскликнул в сердцах:
– Давай я позвоню в милицию! Давай скажу начальнику, что вам угрожают! Начальник наш, он патриот!
Я переглянулся с Вадимом. Тот отрицательно помотал головой. К милиции доверия не было. Один, пусть даже очень хороший, начальник больше не мог отвечать за всех своих подчиненных.
– Скажи мне, в каком направлении вы едете? – кричала телефонная трубка. Я прикрыл микрофон.
– Скажи ему, что мы едем в сторону Тореза, – одними губами выговорил Вадим.
– Выезд в сторону Тореза, – сказал я в телефон, – мы едем туда.
– Понял, – весело сказала трубка. Мой товарищ искренне хотел мне помочь. Но в искренности намерений его друзей из милиции я сомневался. Если бы не местная милиция, то не было бы в городе пьяных людей с оружием и мрачных штабелей из покрышек вокруг захваченных зданий. Нетрудно предположить, что из города мы выехали по другой дороге.
Ночь подмигивала за окном желтыми огоньками редких встречных машин. Наш джип подбрасывало на ухабах. Каждый раз, когда машина принималась считать ямы, Вадим ругался. Но злился он не на дороги.
– Я же тут учился, потом работал. Я знал здесь всех, и все знали меня. А теперь я должен думать, как свалить из этого городка.
Но это были эмоции. А рацио подсказывал, что нужно искать дорогу, которая минует блокпосты с триколорами и георгиевскими ленточками. Других, правда, в округе Луганска и не было.
– Поедем в сторону российского кордона, – решил Вадим. И я не стал с ним спорить. Раньше он служил здесь в погранслужбе и лучше, чем кто бы то ни было, знал все тайные стежки-дорожки местных контрабандистов.
Мы метались по пустым деревням с перекошенными хатами. Луч света периодически выхватывал из темноты согнутые дорожные знаки. А потом, оказавшись на краю неведомого населенного пункта, мы вылетели прямо в степь и увидели перед собой неказистый столб с табличкой «Государственная граница Украины». Ничего, кроме этой надписи, не говорило о том, что в этом месте заканчивается одна страна и начинается другая. Ни забора, ни перекопанной контрольно-следовой полосы. Просто ночная степь, открытая для всех. И мы рванули по степи.
– Мы нарушители государственной границы, – сказал я спокойным голосом.
– Это Россия? – спросил немного встревоженно оператор.
Вадим был спокоен как удав.
– Нет, ребята, эта степь считается нейтральной полосой. Да не волнуйтесь. Тут местные нарушают границу по несколько раз в день.
Машина снова влетела в какое-то село. Я очень надеялся, что это не русское село. Но и родное, украинское, не сулило ничего хорошего. Впереди мы заметили блокпост с российским флагом.
– Сепаратисты, – сказал Вадим.
– Жаль, – попробовал пошутить я. – Мой доктор сказал мне, что я должен избегать тех мест, где людей бьют по голове.
Вадим подмигнул:
– Попробуем следовать рекомендациям доктора. – И потянулся рукой за кресло.
Я разглядел, как из кожаной сумки он достает коротконосый автомат.
– Ребята, вы не против, я буду стрелять в том случае, если нас остановят?
Никто из нас не стал спорить с Вадимом. Он надавил на педаль газа, и я услышал, как автомат щелкнул, досылая патрон в патронник. Клик-клак. Поймал себя на мысли, что в первый раз слышу на родной украинской земле, как автомат готовят к стрельбе боевыми патронами не в тире, не на стрельбище, а на проселке. И я почувствовал, что вот сейчас, в этот момент, мирное время заканчивается и начинается какое-то другое, название которому в тот момент я еще не мог придумать.
Вадим действительно был готов к любому повороту событий, если вдруг его остановят. Но джип пролетел через блокпост, даже не притормозив, и я краем глаза успел лишь заметить, как из-за мешков с песком выползает шатающаяся фигура с берданкой на плече. Казалось, сейчас время такое. И в каждом уважающем себя донбасском селе обязательно должен быть блокпост и человек с ружьем на плече. Как же иначе?
Через несколько минут Вадим сообразил, что мы едем не туда. Он приостановился. На улице пусто. Никого.
– Куда ехать? – спросил Вадим, адресуя вопрос больше себе, чем нам.
И тут из ближайших ворот выглянул мужичонка неопределенных лет, быстрый и, надо полагать, любопытный.
– А вы, это, кого здесь ищете? – поинтересовался он.
– Не кого, а что, – поправил его с донбасской напористостью Вадим. – Дорогу ищем. На Алчевск.
– А-а-а, – с уважением протянул мужичонка, признав в Вадиме своего. – Так вам, это, назад.
– Через блокпост, что ли? – уточнил Вадим.
– Ага, через блокпост и дальше вали по прямой до асфальта. А потом, как увидишь знак, едь по главной, понял?
Это полувопросительное, полуугрожающее донбасское «понял?», сказанное с неповторимым, как грохот угольной вагонетки, нажимом, ни с чем не перепутать.
Мы переглянулись и вздохнули. Развернулись, и, когда машина отъехала от нашего ночного информатора, Вадим снова достал свой автомат. По-другому никак. Через блокпост. Мимо человека с ружьем.
Шатающийся часовой с берданкой, пропустив такую славную возможность досмотреть подозрительный джип, уже было вернулся к ночным сновидениям. И тут джип на полной скорости возвращается. Мы снова пролетели укрепление из мешков, а часовой даже не снял ружьишко с плеча. Понял, видно, что не успеет.
Через час или около того мы стояли возле самой высокой точки в луганской степи. Над обелиском сквозь тучи пробивалась луна, и мы, ожидая верных товарищей Вадима, переминали слова невнятного разговора о стране и о расколотом народе.
Когда к нашей машине подъехали друзья Вадима, я перебросил свои вещи из его джипа в их внедорожник и крепко обнял человека, о существовании которого не знал еще утром. И вот, вечером, он уже спасал нас от скорой расправы.
Дальше обошлось без приключений. Ребята смогли отправить нашу группу в Киев.
И уже в Киеве я узнал, что на выезде из Луганска – как раз на той дороге, что шла в Торез, – нас ждали люди с оружием и георгиевскими ленточками. Тогда мне казалось, что все еще можно исправить. Тогда я верил, что суровые донбасские мужики, сложив оружие, снова примутся выяснять отношения исключительно с помощью напористых слов. Не со зла. А потому что здесь все так говорят. Даже украинские патриоты.
Тысяча восемьсот двадцать три плюс один
Граф Сен-Жермен не считал Майдан тем местом, где ему было хорошо. Со стороны он видел все то, что обитатели казачьего куреня старались не замечать. Уродство мешков, наваленных поперек самой лучшей улицы самого лучшего города на земле. Чад из прокопченных бочек, разъедающий глаза. И пьяные колхозники, настырно пытающиеся примазаться к революции. Он был воином и любил порядок. Именно поэтому Сен-Жермен не любил революций. Он думал, что будет наблюдать за ней со стороны. Но однажды ему предложили принять участие в разгоне бунта. И он, хорошенько подумав, понял, что и контрреволюция не его стихия. Тем более что люди, защищавшие законную власть, с упоением срывали и топтали государственные флаги, с которыми шли на площадь покрытые копотью хозяева палаток.
Этого он не мог понять. Любой дипломированный психолог назвал бы ход мыслей Сен-Жермена заковыристыми словечками «когнитивный диссонанс». Но пусть к психологам обращаются экзальтированные барышни с толстыми любовниками и маленькими собачками. Наш герой предпочитал до всего доходить своим умом. Он не хотел быть похожим на воина армии клонов и потому отказался стоять в строю одинаковых людей в черном. Хотя братьями по оружию считал именно их. Тех, в кого летели «коктейли Молотова» и кто бился бэтээром о баррикаду, как тараном, что пробивается в деревянные ворота горной крепости.
Тогда он еще не был Графом Сен-Жерменом. Это прозвище, входящее в резонанс с вечностью, дал ему один украинский генерал. Единственный из генералов, кого воин считал смелым и отчаянным. Настоящим, не паркетным.
– Ну, ты, видно, живучий, как граф Сен-Жермен, мать его! – весело и по-хулигански выругался генерал, когда боец рассказал ему, что задумал. – Собираешься жить вечно? Посмотрите, вылитый граф!
Смотреть на бойца никто не пожелал. Рядом ни одного военного. Разговор был не для чужих ушей. Генерал сидел на бетонном блоке, как простой солдат. Бетон царапал задницу даже сквозь черные гвардейские штаны. Но ни генерал, ни его молодой собеседник на это не обращали внимания.
– А кто такой этот граф Сен-Жермен? – спросил генерала парень.
– Да был, знаешь, один француз, который говорил, что живет уже тысячи лет. Бессмертный, вроде этого. – И генерал улыбнулся.
Парень уважительно покачал головой. Уважение относилось не к легендарному французу, а к генералу.
«Так он, оказывается, еще и книжки читать умеет. А говорят, что у генералов одна извилина, да и ту фуражкой натерло, – подумал молодой гвардеец. – Ну что ж, граф значит граф».
И впрямь было что-то графское, породистое в его независимой манере общаться с товарищами. В прямоте осанки. В поворотах головы. Его носу с горбинкой мог позавидовать любой потомок по линии Валуа. А главное, дерзость того, что задумал гвардеец, была поистине мушкетерской.
Но об этом чуть позже. А сначала о том, почему он стал гвардейцем.
– Я военный. Профессиональный военный. Я себя не вижу вне армии, вне структуры, – так он говорил своему товарищу, разведчику Толику, с которым разоткровенничался на позиции возле Дебальцево. – Я не любил Майдан, не понимал его. Но я видел, как разваливают армию и силовые структуры. Разваливают все те же люди, которые с наслаждением топтали флаги своей страны. А я ей давал присягу, своей стране. И родина для меня не Донбасс или Киевщина. Родина – это ведь вся Украина.
Парень жил в Славянске. Здесь его хорошо знали. Милиция, спецслужбы, чиновники. Никто из его знакомых не удивился, когда молодой человек уволился из внутренних войск. Но тут произошел крутой вираж в его судьбе. Впрочем, он сам вошел в поворот на полной скорости отчаянного болида.
Вежливые «зеленые человечки» захватили милицию в Славянске. Потом здание службы безопасности. Потом сменили власть в городе, оттеснив всех сторонников Украины «за поребрик». Ох как парень не любил это слово. Чужое, заносчивое. Бородатые дядьки, танцующие с автоматами в ресторанах. Боевые машины десанта с «триколорами» на глазах равнодушных водителей «ланосов». Это все то, от чего он должен был защищать свою страну, ведь присягу никто не отменял.
Он долго думал, почему именно его город они избрали в качестве мишени. Обычный донбасский городок со следами промышленной депрессии ничем не отличался от других одноэтажных городов украинского востока. Железнодорожная станция? Так ведь есть рядом и Дебальцево, и Краматорск. Полезные ископаемые? Соль, газ? В соседнем Артемовске соли побольше, а добычу газа не так-то просто организовать с нуля, особенно если кто-то могущественный ставит палки в колеса прекраснодушным геологам.
И Графа внезапно осенило. Единственное, чего не было нигде на Донбассе, но было в его городе, это название. Все дело в названии города. Славянск. Они же хотят сколотить новую империю, возбужденные идеей панславизма. Освобождение славянских земель от укров должно начаться отсюда, из Славянска. Вполне в духе сытых политтехнологов, руливших этой войной в первые ее дни. Его родной город, не спросив сотню тысяч жителей, круглолицые московские дядьки просто назначили сакральной жертвой.
И вот тогда он вернулся добровольцем. Туда, где из активистов Майдана сколачивали необученные батальоны. В Национальную гвардию.
Идея возникла сразу. Обсуждать ее было не с кем. Младшие командиры слишком молоды и неопытны. Старшим он не доверял. И только громкоголосый высокий генерал с первого взгляда внушал уважение. Этот генерал был какой-то особенный. Планировал операции легко и изящно, а потом ходил на боевые выходы вместе с обычными солдатами, чтобы убедиться в правоте своей тактики. Со стратегией у генерала тоже все было в порядке. Но для выполнения стратегических задач у страны не хватало сил. Для того чтобы блокировать Славянск, нашли только пару тысяч воинов. Да и то лишь после того, как враги расстреляли капитана Геннадия Биличенко. Впрочем, Сен-Жермен еще до этого расстрела понимал, что на его родине идет война. Капитан – ее первая жертва, случайная и оттого еще более трагичная.
– Я смогу войти в город и остаться там, – говорил молодой человек, а генерал внимательно слушал. – И, если повезет, присоединиться к банде. У вас есть информаторы в банде?
– Нет, – ответил генерал. – Такое впечатление, что в этом городе все против нас.
– Но я же оттуда. И я не против, я за, – спорил с генералом упрямый боец.
– Почему ты думаешь, что у тебя получится?
– Я местный. Я служил в ВВ. А ВВшники и майдановцы друг друга не любят.
– Это так, – согласился генерал. Он часто и сам становился буфером между отчаянными бойцами площадных сотен, изобретательными конструкторами катапульт, ловкими метателями коктейлей и офицерами внутренних войск, так упорно не желавшими называться гвардейцами. Но генералу нравилось слово «гвардия». И его дерзкому собеседнику тоже.
– Они все знают обо мне. Знают, что я уволился. А им наверняка нужны бывшие вояки, у которых зуб на Майдан. Но они не знают, что я служу снова.
– Послушай, дружище, – сказал настырному парню генерал, но не по-отечески, а скорее по-товарищески, как будто старший дворовой хулиган давал наставления младшему, – а как ты назад выходить будешь? Залезть на соседскую яблоню легко. Весь фокус в том, чтобы слезть с нее.
– Ничего, генерал, разберемся, – он подмигнул старшему воинскому начальнику, и тот очень постарался не услышать, как исчезло перед высоким званием уставное обращение «товарищ».
Генерал не обиделся. Наоборот, рассмеялся.
– Ну ты, парень, точно граф Сен-Жермен!
Так у бойца появился свой позывной.
Первую добычу он принес через три дня. Это была схема расположения блокпостов боевиков. Сен– Жермен пришел в балаклаве.
– Правильно, Граф, – сказал ему генерал. – Так и приходи. Не снимай ее, кто бы ни просил. Считай, что родился в балаклаве. А докладывать будешь лично мне. Как понял?
Сен-Жермен уже стремительно делал карьеру среди сепаратистского воинства. Он, записавшись в «ополченцы», неделю простоял на блокпосту на въезде в город. За неделю произошел некий апгрейд в его вооружении и амуниции. Начинал карьеру с охотничьей двустволкой. Потом сменил ружье на пистолет Макарова, отжатый в райотделе милиции. А когда его назначили старшим блокпоста, то выдали АК-74 с подствольным гранатометом, что в начале этой войны еще было сравнительно редким явлением. Худой как спичка Сен-Жермен смотрелся с автоматом и потешно, и грозно одновременно. Но, впрочем, так выглядела добрая половина мятежного воинства. От одних подчиненных Графа веяло с завидным постоянством сивушными запахами. А расширенные зрачки других давали основания думать, что в ходу здесь не только водка с пивом.
Спустя неделю его командир-сепаратист узнал, что Сен-Жермен умеет ставить «растяжки». Повышение не заставило себя ждать. Парня поставили тренировать боевиков, минировавших подступы к блокпостам на «Славянском курорте» и на дороге, что вела в центр от комбикормового завода. Он увидел, что вместе с ним этой непростой работой озадачены еще несколько бородачей.
– Вы из Чечни, ребята? – спросил их осмелевший Сен-Жермен.
– А тебе все бородатые чеченцами кажутся? – ответил один вопросом на вопрос. Остальные засмеялись.
– Из Осетии мы, брат. Южной. Цхинвал знаешь, если чо? – так сказал другой.
Не стоит говорить о том, что все карты и схемы растяжек вскоре оказались у генерала. Но решено было их сразу не снимать, а обезвредить при входе в город. Он с самого начала планировался.
А Сен-Жермен уже искал способ выяснить пути поставок оружия в город. Украинские журналисты трубили о том, что кольцо вокруг Славянска сжимается, но это было не так. Осада города, как прогрызенный мышами мешок, пропускала в город боеприпасы для минометов, снаряды для пушек БМДшки, боевой машины десанта. Нацгвардейцы изо всех сил стремились подловить «Нону», наводившую ужас на бойцов. Ее, помнится, отобрали у нерешительных и деликатных украинских десантников. Впрочем, в начале войны украинская армия слабо владела наукой побеждать.
После докладов о том, что самоходный миномет уничтожен, коварная «Нона» воскресала и продолжала кошмарить украинские позиции. Сен-Жермен выяснил, что той, трофейной, захваченной «Ноны» давно уже нет. Через российско-украинскую границу в районе Луганска в город завезли уже третью установку, выдавая ее за трофейную. Это было очень удобно. За ширмой трофейного оружия можно было скрыть не только объем российских поставок, но даже сам факт участия России в войне. Это Большой Брат воюет с нами. Граф это сообразил одним из первых. И даже мог бы это доказать.
– Интересная тактика, – задумался после его доклада генерал. – Они, скажем, отжимают у нас один миномет. А завозят десяток. Так же поступают с БМП и другой гусеничной техникой.
– А еще у них обязательно появятся ПЗРК, – добавил Сен-Жермен.
– Я знаю, – вздохнул генерал. – Я их прошу разрешить вертолетам летать с ракетами на подвесках. Но они говорят своим пилотам: «Только разведывательные полеты. Это не война». А это война! – Генерал стукнул кулаком по газете, лежащей на столе.
Летчики ему не подчинялись. Зато подчинялся Сен-Жермен. Граф стоил целой эскадрильи воздушных разведчиков. И генерал знал настоящую цену этому парню. Он протянул широкую мясистую ладонь, и Сен-Жермен с большим трудом сумел пожать ее так же сильно в ответ.
– Иди, дружище, и будь осторожен.
– Есть, товарищ генерал, – сказал Сен-Жермен.
Осторожность не относилась к числу добродетелей отчаянного гвардейца. Он совал свой любопытный нос с горбинкой туда, где его могли прищемить. И это могло стоить ему не только свободы, но и чего-то большего. Но Сен-Жермен уже испытал прилив адреналина, когда задумал раздобыть схему оружейных складов на территории города. Один из них, как он выяснил, находился в подвале протестантской церкви, где служил пастор с библейским именем Петр. Боевики облюбовали ее и отобрали у Петра ключи от церкви. Он явно был не в курсе содержимого прохладных кладовых молельного дома. Петр старался вывозить беженцев из города. И об этом Сен-Жермен хорошо знал, наблюдая, как Петр чуть ли не ежедневно за рулем бусика проезжал через блокпосты сепаратистов. Наверное, склады были и в других местах. А Сен-Жермен, сообщив о том, что знает, решил подобраться поближе к человеку с белогвардейскими усиками и манерами киношного штабс-капитана, который и верховодил всей вооруженной братией в городе. Первый – так его здесь называли.
Сен-Жермен тренировался за зданием службы безопасности. Там была устроена тюрьма. А за ней полигон, на котором отрабатывали приемы захвата автомобилей и прочей колесной техники, для чего выгнали во двор старый «ГАЗ-53», повидавший много водителей и много дорог. А перед СБУ был ресторанчик, где этот человек, Первый, обедал со своими ближайшими помощниками. Дорога от ресторана к штабу сепаратистов была надежно прикрыта снайперами и охранниками. Сен-Жермен стал одним из них. Мешки с песком, выложенные в полный человеческий рост, закрывали от сторонних наблюдателей дорогу, по которой человек с белогвардейскими усиками курсировал между штабом и своей лежкой. Дорога занимала пять минут, но вычислить алгоритм перемещений штабс-капитана было очень сложно. Единственным местом, где Первый по дороге чувствовал себя не совсем уверенно, была труба теплоцентрали, через которую арестованные работяги перекинули мостки. Чтобы перебраться через трубу, нужно было подняться по деревянным ступенькам. В этот момент Первый оказывался выше мешков. Поэтому рядом всегда находился внимательный боец, наблюдавший за окрестными зеваками и отпугивавший их своим грозным видом. Иногда на этот пост выставляли и Сен-Жермена. Навесив на себя бронежилет и разгрузку с магазинами, Граф мог произвести серьезное впечатление. Однако, снимая амуницию, он снова оказывался худощавым донбасским парнем, таким же, как и тысячи других боевиков, назвавшихся ополчением. «А кстати, сколько их всего, ополченцев?» – задал себе однажды вопрос Граф. И решил раздобыть списки.
У Первого все записывалось. Учет и контроль были сутью философии штабс-капитана. В ведомостях о жалованье и материальном довольствии бойцы ставили свои подписи. В списках подразделений ополчения каждый боевик был пронумерован. Оставалось только получить эти списки. Или хотя бы взглянуть на порядковый номер в конце документа. Сен-Жермен тихо ждал. И дождался своего часа. Это был поистине звездный час лазутчика. Перед ним был кабинет Первого. Карта на столе, несколько личных дел и стопка исписанной бумаги формата А4. Ну как было не войти?
И он вошел. Через несколько секунд он знал, что боевиков в городе тысяча восемьсот двадцать четыре человека. Это с ним. Целая бригада хорошо организованных и мотивированных солдат воинствующего сепаратизма, причем значительная часть сепаратистов носила в карманах российские паспорта. Остальные, как правило, представляли собой популярное на Донбассе полукриминальное сословие, которое в народе именовали «гопник». Эти люди торопились успеть на социальный лифт, который включается в смутное время, чтобы поднять наверх все то, что раньше находилось на дне. Дали автомат – и крутись как хочешь. Таков несложный ход мысли среднего гопника. Штабс-капитан, с упорством маньяка насаждавший учет и контроль, честно пытался сломать их отношение к пребыванию в рядах ополчения. Но в итоге сломался сам. И потерял бдительность, предоставив Графу Сен– Жермену широкие возможности по выявлению военных секретов. Итак, тысяча восемьсот двадцать три. С такими данными можно смело идти к генералу. И Сен-Жермен, надев балаклаву, отправился к своим.
А генерал принял решение с группой спецназа вертолетом долететь на гору Карачун. На горе стояла телевышка, отбитая украинскими бойцами у сепаратистов. Их постоянно пытались выкурить оттуда вражеские минометы. Но ни один из штурмов боевики не смогли провести для себя удачно, и позиция на горе была их главной проблемой. Генерал летал туда вертолетом. Он сидел с автоматом, как обычный бортовой стрелок, у открытой двери и следил за движениями на земле.
Его вертолет сбили ракетой. С клеймом «Сделано в России». В тот момент, когда винтокрылая стрекоза зависла над Карачуном, стрелок, поджидавший свою добычу, нажал на спуск, и из трубы на его плече вылетела с шипением смертоносная коварная сигара. Генерала не стало, и Сен-Жермену показалось, что разговаривать за блокпостом больше не с кем.
– Эй, воин, а ну сними балаклаву! – потребовал новый начальник лазутчика, но Сен-Жермен не стал этого делать.
– Мне разрешили не снимать ее, – спокойно и твердо ответил он.
– Кто? Кто тебе разрешил? – заводился офицер на блокпосту. Он кричал так, чтобы его услышали все, кто находился на дежурстве.
Этот офицер относился к той категории людей, которые могут возвыситься только за счет унижения подчиненных.
– Разрешил тот, до кого тебе расти и расти. И не только по службе, – с благородной убежденностью настоящего графа парировал гвардеец.
– Да я тебе… – дернулся было офицер. Но его остановили те немногие, кто догадывался, зачем и к кому приходит Сен-Жермен.
Тысяча восемьсот двадцать три человека выходили из Славянска, оседлав свою сепарскую броню. Лишь одна украинская пушка попыталась остановить – и остановила – заблудившийся хвост колонны боевиков. Десяток машин, не больше. Остальные вместе со штабс-капитаном вышли почти всей мятежной бригадой. Танки, грузовики, бронетранспортеры несколько часов подряд спокойно выползали из города, и с украинских позиций по ним не стреляли. Они ушли по шоссе, унося войну в сторону Донецка. Тысячная толпа людей, зараженных вирусом войны, ехала в миллионный город. В Славянск вернулся сине-золотой флаг.
– Но, ты знаешь, я так и не понял, – говорил Граф Сен-Жермен своему другу Толе, – почему их выпустили и почему в официальных сводках написано, что город взят штурмом.
Они говорили о том, что было, глядя из окна наблюдательного пункта на Дебальцево. Городок подмигивал желтыми огоньками.
– И вот тогда я просто разучился мечтать, – зачем-то сказал Сен-Жермен, чуть отвернувшись в сторону от товарища.
Боинг три семерки
– Извините, могу я подвинуть вашу сумку?
Она услышала голос, оторвалась от книжки и посмотрела на обратившегося к ней человека. Улыбчивый парень со смуглой кожей и хорошим английским. В Амстердаме полно таких, приехавших из южных стран и осевших в Северной Венеции. Из расстегнутого ворота рубашки «поло» выглядывала крепкая шея. Напряженные жилы на руках, пытавшихся удержать тяжелый рюкзак. Широкие плечи. «Наверняка он понравится многим моим подругам», – решила она про себя. А еще решила не относить себя к большинству и придала лицу выражение, которому могла бы позавидовать даже Снежная Королева.
– Да, конечно, – выдавила она из себя и снова вернулась к «Пятидесяти оттенкам серого». Книга не увлекала. Но она старательно вчитывалась в крупный шрифт, которым обычно печатают книги для тех, кто только научился читать. «Еще бы и ударения проставили», – мысленно проворчала она, но сейчас были хороши любые способы отвлечься от парня.
А он и не навязывался. Аккуратно подвинул ее сумку и засунул наконец свой баул.
– Надо было сдать в багаж, – улыбнулся он, усаживаясь в кресло.
Зубы у него были белые и одинаковые, как на рекламе зубной пасты. А возможно, они просто казались такими по контрасту с темной кожей.
– Пожалуйста, пристегнитесь, – заметила, торопливо проходя мимо, немолодая стюардесса. – А вы, пожалуйста, выключите свой телефон, сейчас взлетаем. – Голос стюардессы уже звучал откуда-то сзади.
– А можно я картинку отправлю? Быстро? – взмолился пассажир.
– Ну хорошо. – Она услышала, как смягчилась хозяйка эконом-класса. – Только быстро. Уже взлетаем.
Парень сел в кресло у прохода. Она сначала хотела было пересесть к окну, чтобы между ней и соседом оказалось пустое сиденье, но тут вернулась пожилая стюардесса, которая вела за руку девочку лет семи.
– Вы не возражаете, если мы к вам подсадим соседку? Рейс полный. Все места заняты. А малышка первый раз летит самолетом. Хочет посмотреть в иллюминатор. Но, впрочем, если вам неудобно, то…
– Нет-нет, – поспешно ответила она.
А парень сказал:
– Я могу пересесть на место девочки. Там же летят ее родители?
– Только мама, – сказала девочка. – А папа будет ждать в Коала-Лумпур.
– Коала – это животное, – с улыбкой поправил парень, – а Куала – город.
«Ах, самое лучшее, что есть в нем, это все-таки улыбка», – решила она и отложила наконец книжку с длинным названием.
Мама девочки сидела в самом неудобном и тесном среднем ряду и даже не спрашивала, могут ли поменяться с ними счастливцы, оказавшиеся возле иллюминаторов. Но поскольку в салоне нашлось одно свободное место у окошка, то почему бы этим не воспользоваться?
– Ты в первый раз летишь? – спросил парень девочку через соседку, чуть наклонившись к ней так, что их локти чуть коснулись. Ее словно пробило электрическим разрядом, но она сделала неимоверное усилие, чтобы не вздрогнуть и остаться в образе Снежной Королевы.
– Ага, – кивнула малышка, не обращая внимания на тетю, сидевшую с каменным лицом между ней и парнем.
– Тогда ты сейчас увидишь, как машины проезжают под самолетом.
И действительно, вскоре самолет, выходя на рулежную полосу, миновал эстакаду, по которой неслись автомобили. Забавно все-таки построен этот аэропорт. Машины проезжали по шоссе, проложенному под самой рулежкой.
– Кла-а-асс! – восхищенно взвизгнула девчушка. – А можете щелкнуть меня?
– Конечно! – задорно ответил парень. – У тебя есть телефон?
– Держите, – протянула свой аппарат девочка.
И тут появилась строгая стюардесса.
– Я буду вынуждена отобрать телефон до самого Куала-Лумпура! – заявила она. – Вы что, не видите, мы уже взлетаем?!
И тут девушка, сама от себя не ожидая такого альтруизма, взмолилась:
– Ну послушайте, дайте малышке щелкнуться на память! Один кадр.
Стюардесса примирительно хмыкнула. Надо ее додавить.
– Раз уж вы ее мне подсадили, а?
Похоже, сработало!
– Ну ладно. Прямо сейчас.
– Ура! – крикнула семилетняя соседка, показав выщербленные зубы, а парень успел нажать кнопку.
Еще один снимок. Первый не получился: слишком пересвеченным оказался иллюминатор. Пришлось включить «флеш».
– Отлично, – сказала девочка, рассмотрев снимок, и забрала телефон. – А теперь я хочу увидеть, как ты его выключишь.
«Cabin crew, take your seats», – прозвучал в динамиках вежливый приказ командира, и пожилая стюардесса унеслась в конец салона.
– Может, еще один снимочек? – заговорщицки подмигнула смуглому парню наглая семилетка.
– Да нет, хватит, дружок, – сказал тот, – ты же не хочешь оказаться в полиции? Вот я точно нет.
Такая перспектива девочке не подходила. Хотя, судя по ее нахальному характеру, явно не помешала бы.
Самолет взлетел как-то незаметно резко. Девочка разочарованно сообщала молодому человеку о том, что здания слишком быстро стали маленькими, что все вокруг белое, как молоко.
– О, вот и солнце! – сказала она, когда самолет вынырнул над облаками. И тут же добавила: – Кла-а-ас!
Видно, это было ее любимое слово.
Прошло минут десять полета, а девушка уже стала ревновать парня к девочке. Ее мозг пытался лихорадочно придумать повод для разговора, но выбранный с самого начала полета образ холодного равнодушия не давал возможности начать его первой. «Надо было начать, когда он сумку двигал, дурочка», – ворчало ее альтер-эго. «Надо-надо!» – мысленно передразнила его она.
– Вам плохо? – вдруг спросил парень.
– Ну… А почему вы так решили?
Это ж надо! Она же мысленно скривилась. А вышло взаправду.
– Знаете, у вас такое выражение лица… Может, зуб у вас болит? Есть обезболивающие.
Ура! Это повод. Убиваем двух зайцев: выходим из затруднительного положения и завязываем знакомство.
– Да, вы знаете, разболелся. А что у вас?
– Сейчас-сейчас! – И парень, расстегнув замок ремня безопасности, вскочил с места.
Тяжелый баул с легкостью выскользнул из багажной ячейки над креслом. Одно движение – и раскрывшаяся змейка ослабила готовые лопнуть бока сумки. Жилистые руки нырнули на ее дно. И тут же вынырнули с аккуратно упакованной коробочкой.
– Вот, – сказал он, протягивая пластинку.
– Что это? – спросила она. – Пейн-киллер?
– Да, – ответил он. – Но наш, производства Индонезии.
Она недоверчиво на него посмотрела. Во-первых, у нее ничего не болело. Во-вторых, запихивать в себя гадость производства Индонезии не особо хотелось. Но чего только не сделаешь ради интересного знакомства.
– Ну как, помогло? – спросил он через полчаса.
К этому моменту она уже знала, что парня зовут Бамбанг и что живет он в Джакарте. А она сообщила ему, что летит путешествовать по островам и особых планов у нее нет, потому что об Индонезии она знает только то, что там есть Бали, а на Бали есть пляж.
А он ей принялся рассказывать о том, что Бали – это для ленивых туристов, и все там, как в Амстердаме, только жарче и дешевле, и что полжизни не хватит, чтобы узнать хотя бы десятую долю всех чудес в Индонезии.
– Бамбанг, а у вас пересадка в Коала-Лумпур? – спросила девушка.
– Не коала, а Куала, он же, тетя, раньше это сказал, – оторвавшись от любования облаками, вставила свое наглое замечание девочка. – Вы что, не слышали?
– Нехорошо делать замечания взрослым, малыш, – мягко сказал Бамбанг. – Если бы я знал, что ты такая вредная, я бы тебя не сажал возле иллюминатора.
Девочка скептически посмотрела на него и назидательно проговорила:
– Взрослые тоже делают много чего нехорошего! А им вообще никто замечаний не делает.
Бамбанг с этим вынужден был согласиться.
Девушка тихо радовалась. В Куала-Лумпуре у них была пересадка на один и тот же рейс до Джакарты. «Как же все-таки хорошо, что я не купила билет до Бали», – подумала она, продолжая слушать о чудесах острова Сулавеси.
– Вы знаете, – говорил Бамбанг, – очертаниями он похож на осьминога, и там до сих пор есть люди, которые не знают, что такое автомобили. Они живут в густых лесах, и всех, кто до них добирается, они почитают как самых дорогих гостей. Правда, есть в этом и минус. Они так любят гостей, что иногда даже удерживают их насильно, долго не отпуская от себя.
– О, это то, что мне надо! – воскликнула она.
Жизнь в Амстердаме давно казалась ей скучной. «Пятьдесят оттенков серого, – подумала она, взглянув на название книжки, – это про меня».
А он рассказывал ей про народы, которые живут на острове-осьминоге.
– Есть там одно удивительное племя со странным обычаем. Когда рождается человек, они плачут. Когда умирает, смеются. Своих мертвых они хоронят в пещерах, на большой высоте. А в соседнем племени еще более странный обычай – людей хоронят в деревьях. Выдалбливают пустоты и помещают туда тела. Представьте себе прогулку в этой чаще!
Она представила. И даже вздрогнула от той картинки, которую создало ее яркое воображение.
– У вас снова заболел зуб? – учтиво спросил Бамбанг.
– Нет, все в порядке. А есть что-то менее драматичное в вашей стране?
– О да! Вы, конечно, знаете, что Индонезия в основном мусульманская страна?
Она не знала, но на всякий случай утвердительно кивнула.
– Но мало кто знает, что до того, как принять ислам, мы были буддистами. И самый крупный в мире буддистский храм находится на острове Ява. Имя его Боробудур. Он был построен в центре озера двенадцать веков тому назад, но однажды на острове случилось извержение вулкана. Вода из озера ушла. Храм засыпало пеплом. И только в девятнадцатом веке англичане смогли раскопать его. Когда поднимаешься по его ступенькам, то думаешь о том, что жизнь требует напряжения. А когда стоишь на вершине, то чувствуешь невероятный прилив сил. То ли оттого, что видишь панораму гор. То ли потому, что выше подниматься некуда и мышцы болеть уже не будут.
Она засмеялась и хлопнула Бамбанга по смуглой руке. Ей понравилось это тактильное ощущение рельефной плоти индонезийца. Он снова улыбнулся белозубым частоколом, не знавшим стоматолога. «Интересно, зачем ему пейн-киллер?» – мелькнула у нее мысль.
– А еще у нас есть самая высокая гора…
– В мире? – вставила она быстро.
– Ннет… – замялся Бамбанг, – самая высокая в мире – это Эверест. Я имел в виду, на островах. Ни один остров мира не имеет столь высокой горы, как Пунчак Джайя. Почти пять километров высоты. Кстати, гору открыл ваш земляк.
– Голландец?
– Да, Ян Карстенс. Гора имеет форму конуса. И за это ее часто называют Пирамидой Карстенса. Только добраться туда непросто. Сначала нужно плыть через пролив. Потом две недели идти через земли каннибалов. А дальше ждать хорошей погоды, чтобы взобраться на вершину. Но каннибалы у нас платные.
– Как это? – И одна из ее красивых бровей от удивления стала выше другой.
– Ну, за деньги они из злых дикарей превращаются в добрых носильщиков. Но, если надо, могут рассказать целый ворох страшных историй.
Для пущего эффекта Бамбанг скорчил страшную рожу. Правда, никого не испугал. Девушка рассмеялась. А малолетняя соседка у иллюминатора, сообразив, что внимание этого приятного собеседника полностью захватила коварная соперница, показала язык им обоим. И отвернулась глядеть на облака.
– Когда наконец принесут обед? – прозвучал скрипучий голос за спиной у Бамбанга. – Третий час летим.
Он заглянул в просвет между креслами и, опершись на подлокотник, подмигнул одинокому старику в заднем ряду.
– Когда у нас Рамадан, обедают после заката. – Улыбка не сходила с лица Бамбанга.
– Рамадан осенью, – проворчал голодный старик, – не рассказывайте мне басни, молодой человек.
– А вы только представьте, что сейчас осень, и сразу станет легче ждать.
В его словах не было грубости. Только желание поделиться хорошим настроением. И старик это понял. Но понял по-своему.
– У меня, молодой человек, теперь всегда осень. Вы это тоже однажды поймете. Но не скоро.
А она слушала, как журчала речь Бамбанга, и, слог за слогом, его слова превращались в образы и видения, постепенно заставлявшие работать ее воображение с новой силой. «Да что же это? – спрашивала она себя. – Неужели так действует обезболивающее?» Потом она поняла, что воображение начинает ее уводить по извилистой дорожке беспечного дорожного сна.
– Вы хотите вздремнуть? – Это были последние слова, которые она услышала от спутника.
– Да, немножко. Но, надеюсь, не до Куала-Лумпура. У нас с вами там пересадка. Вместе, правда?
Как он красиво улыбается!
Ей виделся огромный вулкан, извергавший лаву. Лава текла рекой, обходя стороной холм, на вершине которого сидел невозмутимый Будда из серого камня, а в его глазах из драгоценных камней плясали красные огоньки отраженного пламени. Она стояла возле Будды и заметила, что лава подходит к ее ногам. И тогда кто-то взял ее за руку. Она обернулась и увидела белозубую улыбку Бамбанга. Ее спутник не боялся лавы. Зато лава боялась его. Она превратилась в густой лес, через который им почему-то во что бы то ни стало нужно было прорваться. Из-за каждого дерева на них смотрели голодными глазами каннибалы. Они облизывались и корчили рожи, а Бамбанг все тащил ее за руку.
И вот лес перед ними расступился, и тогда она увидела сияющую пирамиду, на вершине которой стоял человек в походном сюртуке и с кремниевым ружьем в руке. «Ян Карстенс», – представился он так громогласно, что с пятикилометровой высоты его было слышно даже у подножия пирамиды. И каннибалы, услышав этот голос, перестали корчить свои страшные гримасы. Они вышли из леса. В руках у многих были диковинные фрукты, которые они клали к подножию пирамиды. «Не мне, – скомандовал Ян Карстенс, – а гостям!» О, а это еще кто? Рядом оказался старый знаток восточных традиций из заднего ряда, который весело проскрипел: «Ну вот, наконец-то принесли обед!»
Сквозь сон к ее сознанию пробился голос командира из динамика: «Дамы и господа! Мы летим на высоте тридцать три тысячи футов, это чуть больше девяти километров. Температура за бортом минус пятьдесят два градуса. Мы находимся в воздушном пространстве Украины. Сегодня семнадцатое июля две тысячи четырнадцатого года. Местное время шестнадцать часов двадцать минут».
Человек в зеленом камуфляже, глядя на круглый монитор внутри своей установки, видел не самолет, а светящуюся точку, беззвучно пересекавшую линии разметки на экране. Находясь за километры от «трех семерок», он не мог слышать, о чем говорят внутри самолета. Но даже если бы мог, то все равно ни слова бы не понял. А если бы и понял, то все равно не смог бы не выполнить приказ.
Рем как «Ремингтон»
Рем ослеп на исходе третьего дня своего плена. Не думал не гадал, что такое с ним может произойти. Ну, сломанные кости. Гематомы. Отказывающие почки. С этим всем можно свыкнуться и жить дальше. Но глаза! Это было для него главное. С потерей зрения смириться невозможно. Весь мир, рельефный, красочный, объемный, превращался в скучное черное пятно, оставляя возможность догадываться о происходящем вокруг лишь по звукам. С ними тоже произошла интересная трансформация. Они всегда имели смысл и значение. Шум двигателя проезжающей машины. Скрип открывающейся двери. Мощный фортепианный аккорд из соседского окна. Но, потеряв связь с изображением, осмысленные звуки превратились в какофонию. Так бывало в кино, в детстве, когда в кинопроекторе перегорала лампа и зрителям оставалось только, глядя на черный экран, слушать разговоры главных героев. Но в кинотеатре можно было посвистеть, покричать механику: «Сапожник!» – и тот, очнувшись от алкогольной дремоты, легко и непринужденно снова превращал радио в кинематограф. Сейчас возвратить изображение на экран жизни вряд ли получится. И он переживал вдвойне бессилие неизбежности. Ведь зрение – это его главный инструмент. Без зрения на войне он никто. Он же был снайпером. Причем великолепным.
Он не любил свое настоящее имя. И постарался отвыкнуть от него еще и по соображениям безопасности. Близких друзей у него не было. Коллеги по непростой работе называли его Рем. Это был его позывной. Он сам себя решил назвать так в честь снайперской винтовки с отличным прицелом, лежавшей в багажнике старенького минивэна. О, каким тонким и вместе с тем надежным инструментом смертоубийства был спрятанный в тайнике возле запаски «Ремингтон»! Он был словно продолжением руки и воли хозяина. Это не Рем стал сокращенным вариантом от слова «Ремингтон», это винтовка множила возможности снайпера, чтобы тот мог дотянуться до противника с расстояния тысячи метров. Оружие идеально слушалось хозяина и платило ему верной безотказностью на поле боя. Но иногда такой нужный и услужливый инструмент мог оказаться опасным для самого обладателя. Особенно когда противник на короткой дистанции. Когда лицом к лицу. И когда не оружие помогает выжить и победить, а правильно подобранные слова.
– Это что у тебя в чехле? – с нажимом спросил человек с помятым морщинистым лицом в канадском камуфляже. Автомат с трехцветным цевьем болтался у него на груди.
– А ну, доставай! – прикрикнул напарник. Они стояли на блокпосту посреди второстепенной дороги, на которой, если верить данным разведки, боевиков быть не должно. Он еще спросил гвардейцев, контролировавших перекресток, можно ли ехать дальше. «Можно», – лениво ответили солдаты, и Рем спокойно двинулся вперед, с уверенностью, что сепаров дальше нет. Но они на ней были. И неприятного развития событий теперь не избежать, понимал Рем. Тем более что убедительную легенду он не приготовил.
– Ребята, может, не надо, там снасти. Леска запутается, кто ее потом будет разматывать? – бормотал он с блуждающей на испуганном лице улыбкой, а сам пытался хладнокровно понять, как следует применить оружие. И следует ли? Силы были неравные. Два человека возле машины. Еще четверо перед стеной из бетонных блоков на расстоянии пяти метров от автомобиля. Сколько человек стояло за блоками, он не видел, но догадывался, что они там есть.
Как только приклад показался из чехла, двое возле машины передернули затворы.
– Ни хрена себе снасти, – воскликнул один.
– А ну давай вниз! – закричал второй. – Мордой в асфальт! И не смотреть. Не смотреть на меня!
Ох и больно же бьют по бокам тяжелые ботинки! После каждого удара дыхание словно отключалось и Рем, как рыба, брошенная на причал, хватал воздух. Он знал, что это только начало его мучений, и понимал, что дальше будет еще больнее. Но все же быть пленным – это лучше, чем не быть вообще. И, превозмогая боль, Рем принялся выдумывать легенду, которая позволила бы смягчить его долю. «Эх, надо было заранее придумать», – сказал себе он, пожалев, что расслабился, разленился. Ведь раньше, во время спецопераций на Ближнем Востоке, он лучше готовился к всевозможным неожиданностям.
Винтовка заставила боевиков понервничать.
– Дорогая, наверное! – сказал один в тот самый момент, когда вокруг головы Рема чьи-то руки заматывали широкую ленту скотча. – Сколько она стоит?
Руки были опытными. Под скотчем был целлофановый пакет. Он плотно закрывал глаза, оставляя возможность для дыхания. А оно еще не полностью восстановилось после мощных ударов по ребрам.
– Такая стоит тысяч пятнадцать, – подсказал голос постарше.
– Гривен? – переспросил боевик, чье любопытство было обратно пропорционально знаниям.
– Дурень, – ответил напарник. – Долларов.
И в этот момент Рем получил еще один удар по ребрам. А дальше машина. В путь.
С него сняли шапку и обмотали голову скотчем, да так, что липкая лента больно давила на глазные яблоки, и у него перед глазами стояли обжигающие сознание оранжевые круги на черном фоне. Где-то на затылке зудела кожа, ему казалось, что под скотчем ползет коварный муравей. Смахнуть его оттуда не было ни малейшей возможности. Связаны руки. Тонкий пластиковый шнурок боевики примотали так зверски, что кожа начала кровоточить, а кисти стали фиолетовыми. И этот муравей все полз.
Но он сумел превозмочь боль. Переключить сознание на абстрактные мысли. Этой науке его неплохо обучили.
Рем попытался сориентироваться, куда его везут. Его взяли в самой южной части дебальцевского кармана. В этом направлении украинские войска пробивались к границе и остановились за Дебальцево, с трех сторон окруженные сепаратистами и регулярной русской армией. Дорога, которой стремились завладеть противоборствующие стороны, вела в сторону Красного Луча и дальше, к российской границе. Если бы ее удалось захватить, то все связи с Луганской и Донецкой республиками были бы перекрыты. «Мы смогли бы наконец разрезать Лугандон!» – говорили командиры. Но сделать это пока не получается. И вот Рем, с больно сдавленной головой и невидящими глазами, пытается вычислить, куда его везут. На север, назад, к своим, эта машина вряд ли двинется. Потому что те, кто был своим для Рема, для этих чужие. Значит, она едет вглубь территории, подконтрольной боевикам. В сторону Красного Луча. Там его не оставят, это точно. Повезут к высшему командованию камарильи. Слишком дорогое ружье нашли у заложника. Подозрительно дорогое. Если автомобиль повернет направо, то Рема везут в Донецк. Если налево, то в Луганск.
По дороге машина остановилась. Боковая дверь с грохотом отъехала в сторону и снова захлопнулась. В этот момент внутрь ворвался шум большого населенного пункта. «Не мегаполис», – анализировал Рем характер урбанистических звуков. В мегаполисе интенсивность шумового фона такова, что порой не различаешь звуки отдельных машин. Здесь же Рем мог не только отличить один от другого звуки машин, но и определить их марку. И расстояние до них.
В городе простояли около часа. «Злобный, похоже, городок, – грустно констатировал про себя пленник. – Здесь все против нас». Почему – догадаться несложно. Боевики оставили его в машине одного, не позаботившись насчет охраны. Считали, что здесь некому помочь сбежать заложнику, пусть даже и такому важному, как Рем.
В тихую утробу машины снова ворвался шум города и ругань боевиков. Они получили приказ ехать дальше, и это им не очень нравилось. Машина за городом свернула налево. Рем понял, что его везут в Луганск, и немного успокоился, как будто понимание, в какой пункт назначения направляется транспорт, вселяло надежду на скорое освобождение. Но на самом деле его мучения только начинались. «Все будет хорошо, – твердил он. – Слова материализуются». Правда, когда это произойдет, он не знал. Нужно было взять себя в руки, вот и все. Думать о чем-нибудь хорошем даже в такой, почти безнадежной ситуации.
Ему сразу не понравилось, что его везут в Луганск. Из двух вариантов этот был самый худший. В Донецке было полно российских фээсбэшников. Они не питали излишних сантиментов в отношении врага, но при этом были профессионалами, обученными искусству получать информацию от противника. По крайней мере, они бы предпочли разговор примитивной пытке.
А в Луганске публика была местная, менее образованная. Соответственно, показания в ЛНР предпочитали выбивать, а не получать. Били луганские боевики очень жестко, ломая и калеча пленных укров.
Через пару часов его довезли до Луганска. Всю дорогу боевики молчали. Он даже успел немного расслабиться, вздремнуть. И проснулся от резкого крика:
– А ну, вставай! Конечная!
Ему больно заломили руки за спину и потащили вверх по лестнице внутрь неизвестного здания. В помещении было много людей. Он постоянно натыкался головой на чьи-то животы, обвешанные военной амуницией.
– Куда прешь! Не видишь, что ли?
Он через ленту скотча не видел. Но людей, на которых он налетал, как шар на кегли, не интересовало, что прет он не по своей воле, а по воле дюжих молодцов, скрутивших ему руки.
– Давай вниз!
Это была команда, и он понял, что его ведут в подвал. Два лестничных пролета по одиннадцать ступенек. Совсем как в его старой школе, построенной в тридцать восьмом году, насколько помнил Рем. Значит, это бывшая школа, а если не школа, то какое-нибудь строение, имеющее официальное назначение. В Луганске, последнем реликтовом городе, не желавшем расставаться смеясь со своим советским прошлым, таких зданий полно.
– Стоять!
Его плотно поставили к шероховатой стене, пахнущей старой масляной краской. Загромыхал ключ в старом замке. Тяжело скрипнула дверь. Его втолкнули в комнату с затхлым воздухом. Снова звякнул металл замка, отрезая путь назад.
– Здесь пока посиди!
Сидеть было не на чем. Рем со связанными руками совершил тур по периметру комнаты и не обнаружил никакой мебели. Каморка оказалась не больше старого лифта. Он наткнулся на какие-то палки, свалил их, и они с грохотом упали ему под ноги. «Швабры, что ли?» – догадался Рем и понял, что находится в подсобке, где складывают свои инструменты уборщицы. А вслед за швабрами покатились и пластиковые бутылки. Тут же каморку заполнил едкий запах старой мочи, и Рем смекнул, что до него здесь кого-то уже держали и помещение уже не первый раз используют не по назначению. А вскоре его вывели на допрос. «На дознание», – как громко называли последующую процедуру его тюремщики.
Дознание началось с избиения. Били его по голове, не снимая скотча, да так сильно, что перед глазами стояли огненные круги. Избивавшие Рема люди после каждого удара кричали «Говори!», но было совершенно ясно, что даже после признания побои не прекратятся. Поэтому снайпер терпел и ждал. Часа через полтора его мучители устали, но в голове Рема больно гудело. Он решил, что похож на колокол, в который усердные звонари били, били, но потом утомились, а колокол продолжал вибрировать и гудеть. Ну что ж, пришло время что-то сказать.
– Что вам от меня надо? – выдавил он сквозь красную соленую субстанцию в носоглотке.
– Имя?! Фамилия?! Позывной?! С каким заданием отправили?!
Рем выплюнул сгусток крови.
– Твою мать! – услышал он и получил затрещину. – Ты смотри, куда плюешь!
Видно, плевок угодил в кого-то из дознавателей. Но пожелание было откровенным издевательством: на глазах у Рема по-прежнему была повязка из скотча.
– Говори!
Южнее Дебальцево стоял отряд российских морпехов. Их направили сюда из Мурманска. Рем получил задание присоединиться к добровольческому батальону, изучить обстановку и выдвинуться в тыл врага. Его целью должен был стать командир морпехов, этнический украинец, согласившийся за очень большие деньги повоевать на своей исторической родине. На время боевого выхода Рема обещали усилить двумя опытными спецназовцами, так что их группу можно было назвать снайперской тройкой. Но до этого не дошло. А теперь, когда стало ясно, что задание так и останется невыполненным, он знал, что рассказывать о нем не следует ни при каких обстоятельствах. Иначе изобьют до смерти. Лучше перетерпеть такую боль, помня о том, что, какой бы сильной она ни была, в случае признания она окажется смертельной.
Рем придумал себе имя и объяснил, что он обычный волонтер, который возит на фронт образцы стрелкового оружия. Иногда отдает его, а иногда продает военным по ценам ниже рыночных. Избиение прекратилось, и его отправили назад, в невыносимо тесную каморку. После мучений затхлый запах испражнений показался ему признаком спокойствия. Как говорится, в спокойной, дружеской атмосфере.
Но спокойствие длилось недолго. Тот, кто постарше и поумнее его дознавателей, выслушав результаты допроса, справедливо решил, что пленник врет, и приказал своим подручным бить захваченного человека до тех пор, пока он не расскажет всю правду о задании.
А Рем решил правду не говорить. Поэтому ему заводили руки за спину, связывали ремнем и подвешивали к потолку. Пока он кричал, его били по ребрам. В подвешенном состоянии держали недолго, но, впрочем, повторяли пытку несколько раз в день. Кроме того, его раздевали догола и клали на панцирную сетку, к которой подводили ток. В зависимости от того, насколько интенсивно он кричал, увеличивали силу тока, а когда замолкал от бессилия, меняли наказание на порку с водкой. Пруты, вымоченные в горячительном напитке, рассекали тонкую кожу до крови с первого удара и оставляли следы на спине, похожие на красные поля в тетрадке первоклассника.
– Жалко на него водочку тратить! – говорили боевики.
И, при всем этом разнообразии, его не прекращали бить по голове. Это продолжалось три дня без перерывов. Несколько часов сна в вонючей каморке не в счет. Даже когда он забывался коротким и тревожным сном, он не прекращал через ватный сон чувствовать все нарастающую боль. Больнее всего было в голове, и никуда не уходили огненные кольца перед глазами. Но на третий день пыток они почему-то исчезли.
Когда с головы сняли скотч вместе с прилипшими волосами, он понял, что ослеп. Он получил легкий, почти дружеский, подбадривающий подзатыльник. Голова дернулась вперед и назад. Но это не изменило ничего. Его окружала темнота, и он не увидел лиц своих мучителей. Различил только их голоса.
– А что у него с глазами? Типа как стеклянные, что ли.
– Не знаю. Может, выделывается. Эй, лупоглазый, ты решил приколоться?
– Хорош его бить! Он, по ходу, не видит.
– Типа, как?
– Типа, не видит ничего. Типа, слепой.
Он надеялся, что, когда боль пройдет, зрение вернется к нему, но оно не возвращалось так быстро, как хотелось бы, и Рема отправили в больницу. Теперь он лежал на койке в неизвестном городе и думал о том, что и по эту сторону линии фронта люди умеют проявлять сострадание. Чья-то заботливая рука поправляла хрустящую простыню на его груди, а он слушал и радовался крикам раненых. Грохот колес тяжелых каталок, скрипучих, как сплетни старых медсестер, наполнял его сердце жизненной силой. Больничные звуки давали ему надежду на то, что пытки больше не повторятся.
Рука еще несколько раз за первый день, проведенный в госпитале, касалась его лба. Потом женский низкий голос просил его повернуться на живот.
– Не больно? – спросила женщина, смазывая пахнущей дегтем мазью его раны.
По сравнению с тем, что он чувствовал еще позавчера, это было не больно. И Рем решил, что обладательница низкого голоса и нежных рук была медсестрой.
– Так, а что с этим? – спросил уверенный мужской голос.
«Этот важный, пожалуй, доктор», – подумал Рем.
– Сильно избит. Били по голове и спине. Видимо, пытали током, – доложила медсестра.
– Я не спрашиваю, что с ним делали, – раздраженно оборвал ее доктор. – Я спрашиваю, от чего его надо лечить.
– Он ослеп, – кратко объяснила медсестра.
Насыщенный голос женщины стал несколько сухим. А тон, которым говорил доктор, деловым и раздраженным.
– А ну-ка привстань. Можешь?
– Могу, – ответил Рем и, застонав, приподнялся.
– Так, что мы тут видим? – бормотал голос доктора, пока его крепкие пальцы, причиняя боль, блуждали по телу раненого пациента. – Видим многочисленные синяки от ушибов. Так, ну это не страшно. Гематомы, царапины. Руки-ноги целы – и порядок. А вот ребра? Ребра не целы. Есть трещина или перелом. Отправим на рентген. Дальше что?
Руки ползли вверх, к голове.
– Голова вся в ушибах. Сплошная гематома. Ну что ж, бывает и такое в больнице. Так. А ну-ка открой глаза.
Они у Рема и так были открыты и при этом ничего не видели.
– Ничего не видишь? – спросил врач.
– Ничего, – подтвердил заложник.
– Маша, укропа на рентген! Ребра! А потом давай его в кабинет к офтальмологу, – рявкнул врач, и Рем сообразил, что осмотр закончился. А еще он понял, что медсестру зовут Маша. «Хороша Маша, да не наша», – пошутил про себя пациент. Грустно, зато точно.
– Сергеевна! – позвала Маша техничку, открыв двери палаты. – Сюда каталку!
– Не надо, – услышал Рем из коридора окрик сурового доктора. – Сам дойдет.
Маша помогла ему подняться. Он пытался понять, что с ним происходит, и словно осматривал себя изнутри воображаемым медицинским зондом. Странное ощущение! Делая шаги по больничному полу, нащупывая дорогу в гулком коридоре, он чувствовал каждую свою мышцу, каждый вывернутый сустав и сухожилие, каждую гематому и сломанную кость. Он видел себя, как на разноцветной картинке из медицинского атласа. Ему даже показалось, что в руках палачей его тело не так болело, как сейчас, когда заботливые ладони медсестры Маши аккуратно поддерживали его под локти. И он догадался, что подсознательно его организм занижал болевой барьер, чтобы не погибнуть от шока, но теперь все заглушки сорваны, и нестерпимые болезненные ощущения сполна нахлынули на него. Кажется, что Машины ладони, как громоотвод, забирают часть болевых разрядов. Спасибо вам, Машины ладони. Теперь, шаркая по коридору изувеченными ногами, Рем решил понять, как можно добраться до своих. То, что доктор его назвал укром, многое объясняет.
– Вас Маша зовут, да? – спросил он медсестру.
– Да, я Маша, – спокойно ответила она. – А вас как?
– Разве это сейчас важно? Зачем вам знать имя человека, которого через пару дней вообще придется вычеркнуть из списка.
Она совсем не поняла этой фразы:
– Из списка пациентов? Так ведь у нас выписывают, а не вычеркивают. Фамилия остается в журнале.
– Маша, скажите, а как называется этот город?
Она чуть не опешила от этого вопроса. Он почувствовал, как ее рука вздрогнула, словно через нее прошел электрический разряд.
– Это… Это же Луганск. А вы не знаете?
«Луганск, – думал про себя Рем. – Луганск – это хорошо. Наши совсем недалеко отсюда. А может, меня хотят обменять на сепаров и внесли в списки пленных?»
Но никто ни в какие списки его не вносил. В том случае, когда пленных готовили на обмен, выясняли их имена, фамилии и прочие данные, для того чтобы противоположная сторона могла удостовериться: человек, которого хотят конвертировать в жизнь другого человека, действительно существует. Рема не искали. Он сам знал, что его миссия была неофициальной, а его командировка не фигурировала в документах структуры, отправившей его на Восток. Рем – это фикция. Его не существует документально, а значит, и фактически. А эти в госпиталь его отправили лишь затем, чтобы подлечить и попробовать вытянуть из него важную информацию. Дело в том, что сепаратистов стали очень сильно беспокоить никому не известные мстители, действовавшие в тылу многочисленных сил боевиков. То несколько гаубиц ни с того ни с сего подорвутся, то исчезнет в полном составе блокпост под Красным Лучом, то посреди Донецка займется пламенем микроавтобус с боеприпасами.
Сначала подозревали, что это издержки междоусобных конфликтов между вооруженными бандами, называвшими себя разными громкими именами. Но после долгого выяснения и разбирательств контрразведка сепаратистов выяснила, что минимум третья часть этих атак произошла при странных обстоятельствах, причины которых остались тайной за семью замками. И хотя специалисты местной контрразведки в прошлом хорошо умели открывать чужие замки фомками и отмычками, здесь они оказались бессильны. Из их бессилия и родился миф об украинских партизанах. Боевики не были настолько наивными, чтобы не предположить, что таким партизанам помогает регулярная армия. И Рема считали чем-то вроде связного. Эмиссаром между антироссийским подпольем и «материковой» Украиной. Надо признать, это было не далеко от истины, вычислить которую было нетрудно. Война порой бывает проще арифметики.
– Садитесь! – сухо и довольно грубо сказал окулист. – И не шатайтесь на стуле!
Медсестра Маша усадила Рема. Он отметил про себя, что медсестры в этом заведении добрее, чем врачи, стоящие на более высокой ступени в медицинской иерархии. По требованию врача и при помощи Маши пациент вплотную приложился к прибору, состоявшему из двух окуляров и массы металлических поверхностей, холод от которых Рем моментально почувствовал на своем лице. Врач долго возился с прибором, ворчливо сообщая медсестре, что он ничего не понимает. Итак? Глазные яблоки целы, зрачки неподвижны, полная потеря зрения в результате неустановленной причины. Временная или навсегда? Будем наблюдать пациента. Все, забирайте его.
Маша забрала Рема и повела его на рентген. Было больно прижиматься к холодному экрану, пока доктор заряжал фотопленку в аппарат. Потом на Рема надели тяжелый передник.
– Не дышать! – услышал он команду. Рем перестал дышать. – А теперь дыши, глубоко! – И он снова вдохнул полной грудью воздух, до боли распиравший его сломанные ребра.
Четыре ребра, если быть точным. Ничего серьезного, объяснил врач на следующий день, всего лишь трещины, даже бандаж одевать не стоит. Заживет через три недели.
Он быстро научился исследовать окружающий мир с помощью немногих оставшихся ему чувств. Он различал шаги докторов и санитарок. С первого раза Рем определял Машины шаги, а она обычно стремительно и легко проносилась по коридору, и, когда притормаживала, он знал, что сейчас она войдет к нему в палату и скажет абсолютно формальное «Доброе утро! Как самочувствие?» с таким теплом, что сердце начнет выбиваться из ритма и пациенту можно будет смело ставить диагноз «тахикардия».
Она шла по коридору не одна. Рядом с ней скрипели две пары крепких ботинок. Его слух после потери зрения необычайно обострился, и он расслышал едва уловимое позвякивание металла в такт шагам. Ему хорошо знаком этот звук. Обладатели крепких ботинок были вооружены, они успели рассовать по карманам разгрузок снаряженные магазины и гранаты. Кроме того, от них пахло потом и ружейным маслом. Эти двое ни о чем не спрашивали Машу, они просто вошли вместе с ней в палату.
– Вот он, – испуганно сказала она.
– Ходить может? – спросил пропитый и суровый голос.
– Плохо, – уклончиво ответила медсестра и после паузы добавила: – Через недели три уже нормально пойдет.
– Надо раньше, – тоном, не терпящим возражений, сказал обладатель сурового хриплого голоса.
Ботинки развернулись и вышли из палаты. А вслед за ними застучали и невысокие каблучки медсестры.
Он не знал этих людей. Не слышал раньше их голоса. Но обладатели крепких ботинок и те, кто пытал его, связаны друг с другом, это и глупцу было понятно. Маша боялась их. Вон как дрожал ее голос, когда она отвечала на один-единственный короткий вопрос «крепких ботинок». А они привыкли здесь командовать. Шагали по-хозяйски. В долгие разговоры не вступали. В общем, важные ребята. И значит, им он нужен для чего-то очень важного. В любом случае ничего хорошего визит этих парней слепому пленнику не сулил. «Но надо все-таки понять, для чего я им нужен живой и относительно здоровый», – решил про себя Рем.
Утром следующего дня в его палате снова топтались ботинки, но не так уверенно и более суетливо. Человека три, определил Рем, и одна из них молодая женщина. Она была главной. Остальные двое ее все время спрашивали о том, что делать, и она им раздавала команды.
– Петличка? – спрашивал ее мужской голос.
– Нет, динамического хватает.
– Штатив или с плеча?
– Со штативом очень похоже на постановку. Давай с плеча.
– Но, Ирада, – взмолился мужчина. – Мы же никуда не торопимся. Оно же все будет вверх-вниз дергаться. Есть же время сделать красиво!
– Я сказала тебе с плеча, значит, с плеча. Делай, что услышал, – твердо заявила женщина, которую назвали Ирада.
Комната наполнилась хаосом звуков. Сумки и кофры ставились на пол, снова поднимались и снова ставились. Змейки с противным визгом то открывались, то закрывались.
– Ирада, а свет ставим?
– Какой на фиг свет! Я же сказала, делаем максимально просто и репортажно.
«Ничего себе! Это же телевидение», – догадался Рем. По тому, как Ирада и ее ребята распевали гласные («Ка-а-кой на фиг») и коротили согласные («делай, чо услышал»), пленник понял, что съемочная группа из Москвы. Они не спрашивают у него, согласен ли он сниматься. Значит, разрешение получили в любом случае. И даже если он упрется рогом и откажется отвечать на вопросы, – а эта Ирада наверняка начнет задавать вопросы, – то они все равно его снимут. И все, что он скажет или не скажет, используют против него. Но в разговоре с этой вредной теткой можно хотя бы попытаться выяснить конечную цель телесъемки. Нужно понять, для чего его готовят.
Ирада пользовалась какими-то очень резкими женскими духами. Так казалось Рему, у которого с потерей зрения все остальные чувства невероятно обострились. Любая дополнительная информация об окружающем мире помогала ему выжить. Он никогда не разбирался в женских парфюмах, но, лежа на больничной койке, научился различать подходивших иногда к нему медсестер не только по звуку шагов, но и по шлейфу духов. Женщины, даже на войне, хотят оставаться привлекательными. Машин запах, например, слепому пленнику казался таким же ласковым, как и ее руки.
А у Ирады духи были агрессивными. Они привлекали внимание и одновременно подавляли всякое желание иметь точку зрения, отличную от мнения обладательницы аромата. «Я здесь хозяйка», – словно говорила она, закодировав слова в запахи, и с ней никто не спорил. Но это срабатывало лишь в том случае, когда запах был едва уловим. А для слепого Рема, у которого обоняние обострилось, как у бродячей собаки, концентрация аромата ее духов была слишком большой. Теперь это был явный перебор, вызвавший раздражение и тем самым освобождавший Рема от подсознательного желания подчиняться. Мысли его были свободными.
– Скажите, сколько времени вы находитесь в плену и как с вами обращаются в госпитале? – спросила Ирада нарочито громким голосом. Она не сочла нужным поздороваться и сразу перешла к интервью. Рем понял, что камера уже работает.
– В госпитале нормально, – ответил он, с легким нажимом произнеся слово «госпиталь», – мол, там, где его держали до госпиталя, ничего хорошего с ним не происходило. – А сколько нахожусь здесь, не помню.
«Нужно быть осторожным, – подумал он. – Эта Ирада наверняка пришла вместе с боевиками».
Действительно, телевизионщики пришли в сопровождении вооруженных людей, только те не стали входить в палату, а остались ждать в коридоре. Из-за двери потянуло запахом сигаретного табака.
– Вы кадровый офицер украинской армии? – продолжала Ирада опрос, похожий на допрос.
– Нет, я доброволец, – спокойно ответил Рем.
– Из какого батальона?
– Я не успел присоединиться ни к какому батальону.
– Тогда почему же вас задержали на территории Луганской Народной Республики, да еще и со снайперским ружьем?
– Я просто заблудился. А ружье купил… – он хотел сказать «в военторге», как любил говорить Великий Пу, но лишь улыбнулся, – …купил…и с ним приехал на фронт. Вот и все.
– Но у нас есть… – Ирада запнулась, – …у ополченцев есть подозрение, что вас отправили сюда со специальным заданием.
– Каким? – искренне удивился Рем. – Проверьте мою винтовку, из нее не сделано ни единого выстрела.
Пауза.
Ирада вышла из палаты. Рем напряг свой слух и уловил приглушенный разговор журналистки с людьми, стоявшими за дверью.
– Он говорит, что не стрелял ни разу из винтовки. Это правда?
– Ну, не стрелял. В тот день не стрелял. Ствол чистый. Значит, раньше стрелял… – неохотно промямлил мужской голос.
– Но это в принципе меняет дело, – вскипела, как кофейник, Ирада.
– Да ничего это не меняет! – рявкнул на нее обладатель командного голоса.
– То есть как?
– А вот так, – уверенно и слегка раздраженно объяснил мужчина. – Зарядим ружьишко, выстрелим два раза, и все. Дело сделано.
– Но ведь это же… – возмущенная Ирада подбирала слова. – Это же… вранье!
– Ира-ада, мила-аая, – словно запел ее собеседник примирительным тоном. – У вас есть ваше нача-аальство. И вы зна-ааете, что оно вам сказало. И я-ааа знаю. Поэтому делайте, что велено. Добро?
Пауза.
Рем переваривал услышанное, и оно ему очень не понравилось. На него хотят повесить какое-то дело. Два выстрела из винтовки. И еще сюда приглашают российское телевидение. Значит, дело для них очень важное, если они хотят превратить его в телешоу.
Дверь в палату снова открылась. Люди Ирады, которых она оставила без надзора, болтали о каких-то двух симпатичных девчонках, которые живут на улице Коцюбинского. Но тут вдруг телевизионщики замолчали. Рем по звуку шагов понял, что в палату Ирада вернулась не одна.
Молнией мелькнула правильная мысль о том, что сейчас любые варианты ответов на вопросы Ирады будут не в его пользу. И, не дожидаясь, пока журналистка скомандует своим начать съемку, Рем затрясся в припадке.
Конечно, это была обычная и незатейливая симуляция. Но он не знал, что делать, и придумал самый простой выход.
– Что с ним? – вырвалось у Ирады. – А вы чего стоите? Снимайте!
Это было адресовано ее группе. Зашуршали куртки, заработала камера.
– Вы! Вы! Что с вами? Скажите, когда вы последний раз стреляли из винтовки? – Ирада рассыпала вопросы так, как опытный сеятель рассыпает зерна. – Стреляли вы когда-нибудь в человека? А человека с какого расстояния вы можете поразить из своей винтовки?
Она явно подбирала вопросы так, чтобы получить на них любой ответ, который может считаться утвердительным. Она была мастером манипулирования вопросами. Гроссмейстером шахматной игры в вопросы и ответы. Но все ее усилия были тщетны. Ее визави играл не в шахматы, а в «Чапаева», своим поддельным припадком разрушая ее планы, ломая строй ее фигур.
– Вы говорить можете? – почти кричала она.
– Да может он, ссуко, может! – крикнул молчавший до этого мужчина.
В голове загудело. Это Рема ударили наотмашь кулаком. За первым ударом посыпались еще и еще. Снова стали возвращаться знакомые ощущения пыточной. Рему было больно и смешно. Он бился в искусственном припадке и одновременно смеялся, выплевывая кровавую пену изо рта. С-с-с-с-с!!!
– Говори, ссуко! – орал грозный мужик. – А вы не снимайте!
Вот как? Эти двое любителей местных девочек не выключили свою камеру. Очень хорошо!
– Не снимайте! – взвизгнула Ирада.
Один из ее подчиненных испуганно переспросил:
– Так снимать или не снимать?
– Я же сказала, не снимать! – зашипела Ирада.
– Так ты же до этого сказала мне снимать. – Этот голос, похоже, принадлежал оператору. Он сопел и кряхтел.
– Ты идиот или прикидываешься? – осадила его Ирада вопросом, который явно не требовал ответа. Она, как змея, шипела от злости. Чувствовала, что теряет контроль над ситуацией.
Рема продолжали бить. Смех распирал его изнутри и помогал терпеть боль.
– Что вы делаете? – услышал он знакомый голос. Это говорила Маша. Лютый мужик – так прозвал про себя своего мучителя Рем – приостановился. Маша подбежала вплотную к Рему и положила свои ладони на плечи. Она закрыла его собой, понял Рем. Собой!
– Этот человек укроп! – закричал мужчина. – Он снайпер хунты! Его послали застрелить Первого! А вы его защищаете.
– Этот человек пациент, – ответила агрессивному мужчине Маша. – Его сначала нужно вылечить!
Она хотела добавить «…а потом бить», но передумала. Решила, что это небезопасно. Испугалась, в общем.
– Ладно, – смилостивился ее жестокий собеседник. – Но после того, как вы его вылечите, мы с вами больше поговорим.
«Первый? – начал размышлять про себя Рем. – Значит, его подстрелили, что ли? Не похоже. Иначе они бы меня в больнице не оставили».
И после того, как посетители – одни гремя сапогами, другие срывая штукатурку тяжелыми сумками – вышли из дверей палаты, Рем подождал немного, прежде чем спросить.
В палате была тишина. Но Маша оставалась здесь, чувствовал Рем. Она никуда не уходила.
Маше казалось, она перестает быть частью своего города, частью того уклада, в котором привыкла жить. Это было как затянувшийся прыжок в пропасть. Ее сердце было готово разорваться от ужаса непонимания, и голос измученного Рема вернул ее к реальности.
– Что случилось, Маша? – спросил ее Рем.
Маша ответила не сразу. Пауза, которую она держала, была долгой. Но очень правдивой, в отличие от тех пауз, которые делают люди в телевизионных выступлениях.
– Там еще были несколько журналистов.
– И что? – лениво переспросил ее Рем.
– Ничего, – сказала Маша. – Теперь их нет. Застрелили. Все ищут снайпера. Да, жалко, конечно. Они интервью у Первого брали, когда это случилось. Так что из Первого делают героя. А тут и ты подвернулся.
Она перешла на «ты». «Это хорошо», – тихо пробормотал Рем. Но сам не решился фамильярничать. Теплые Машины слова, это близкое, почти что родное «ты», облегчали его страдания.
– Почему они меня сюда привезли, Маша? – задал он ей вопрос, который мучил его все время, пока он валялся на больничной койке. Этот вопрос обжигал его, как чистый спирт края открытой незаживающей раны, и оголенные нервные окончания пылали нестерпимым огнем резкой боли, за которой должно было наступить облегчение. И оно пришло вместе с ответом медсестры:
– Они хотят тебя увезти. В Россию.
– Зачем? – искренне изумился Рем.
– Не знаю точно, – задумалась Маша. – Может, что-то выведать у тебя?
«Выведать». Не «вытянуть», не «выбить». А такое старомодное и деликатное – «выведать». Чаша его чувств была сухой и бездонной, но это старинное слово, звучавшее нелепо в Луганске, в больнице, моментально наполнило ее теплом чего-то такого необычного и доброго. Что это? Он боялся себе признаться. Боялся даже мысленно назвать одним словом сложные и одновременно простые тектонические сдвиги чувств, происходившие сейчас в его душе, мятежной и, в сущности, черствой.
«Эх, Машенька. Я не знаю, как ты выглядишь, и, возможно, никогда не узнаю. Но ты необыкновенная женщина. Ты женщина из прошлого. Из того времени, когда врага вызывали на дуэль, а не пытали в подвалах. Ты ищешь себе друзей среди книг, а не в дымных пивных. Ты помнишь прошлое, мечтая о будущем. И мне все равно – да, клянусь, мне все равно! – как ты выглядишь. Я вижу тебя так, как не видит ни один человек в этом городе».
Его представление о женщине с детства складывалось из хороших романов, классической живописи и фильмов «про любовь». Он с самой юности всегда возносил женщину на пьедестал и глядел на нее как на священный символ, в то время как его ровесницы не желали лезть на постамент, требуя более приземленного отношения. Сначала он не мог понять почему, а когда наконец до него дошло, что женщины в целом и общем хотят того же, что и мужчины, вот как раз в этот момент пьедестал и разрушился. Сам собой. Если разобраться, то и военным Рем решил стать оттого, что не разглядел ни в одной женщине той, которой стоило бы посвятить себя целиком. В армии он нашел для себя идеальное общество. Простота и честность отношений в армии его дисциплинировали. Книжки забыты, фильмы вычеркнуты из памяти. Женщины? Хорошо, когда есть. Еще лучше, когда их нет. Спокойнее. И вдруг…
«Выведать». Что же такое ты, Маша, вдруг выведала обо мне, что я готов тебе раскрыть все свои секреты?
Так он подумал. А вслух позволил себе только удивиться:
– Выведать? Все, что они могут выбить из меня в Москве, они могут выбить и здесь.
Логика железная. Сказать было нечего. Маша могла его оставить и прервать странный разговор двух людей, которым обстоятельства назначили быть по разные стороны баррикады. Но Маша продолжала говорить, размышлять и нащупывать стежку к разгадке.
– Я, кажется, догадалась, – сказала она.
Он слышал ее взволнованное дыхание. И ему казалось, что он видит, как поднимается от нервных придыханий ее грудь.
– Тебя не хотят убить. – Она помолчала. – Тебя хотят судить.
Он попытался оценить правоту этих слов. Застрелены мирные российские граждане. А вот он, их убийца. Кровожадный укр, фашист и «бендеровец» в пятом колене. Посланный киевской хунтой на кровавое дело. Вместе с натовским «ремингтоном» в безжалостных руках. Он идеально подходил на роль монстра. Надо было ее только получше выписать. Для чего и пригласили к нему в палату девушку с жестким именем Ирада в компании оператора с ассистентом.
Целую ночь, пока боль утихала в его уставшем организме, сознание продолжало работать. Он не знал, что делать. Рем был согласен – как будто его кто-то спрашивал – оставаться в плену, терпеть избиения. Но стать подсудимым в России он не мог. Он был достаточно сообразителен, чтобы понять, что россияне его вину докажут. А командование никогда не признается в том, ради чего его отправили в тыл врага. Доказать невиновность он не сможет. Пятно ляжет не только на него, но и на всю страну. И даже больше. Для всего мира он, согласившийся пойти на рискованный шаг, готовый на запредельное геройство, теперь будет подлецом, ублюдком и монстром. Хуже не придумаешь. И как выходить из ситуации, он не знал.
Наступило хмурое утро, которое он чувствовал только по звукам. Одинокое эхо стонов бессонных раненых сменилось суетой, беготней, криками медбратьев и медсестер, железным грохотом допотопных каталок и далеким рычанием автомобилей, там, в городе, на свободе.
Он понял, что нужно сделать.
Но для этого нужна была помощь единственного человека, которому он мог доверять в кромешной тьме, наполненной враждебными звуками.
– Маша! – тихо позвал он.
Ответа не было. Она еще не пришла. Примерно через полчаса он снова позвал:
– Маша!
– Я здесь, – услышал он ее ответ. Она уже была в комнате, незаметно и неслышно войдя в дверь.
– Маша, я хочу тебя о чем-то попросить. Сделаешь?
– Я не могу согласиться заранее.
– Можешь, – жестко сказал он.
Она молчала. «Значит, она сделает», – подумал Рем.
– Ты должна убить меня, – сказал он вслух.
Она громко вскрикнула:
– Что? Что ты сказал?!
– То, что слышала, Маша, – ответил он, стараясь, чтобы его тон был жестким, но не грубым.
– Но зачем? Зачем? – И он услышал, как Маша расплакалась.
– Они хотят размазать меня и смешать с дерьмом. Я потом вряд ли отмоюсь. Но самое главное – они хотят смешать с дерьмом мою Родину. А у меня, кроме Родины, сейчас ничего нет. И моего доброго имени. Что может быть хуже?
– Что ты хочешь? – спросила Маша.
– Ничего. Почти ничего. Один укол чего-то сильнодействующего, чтобы сердце остановилось. Желательно без боли. Можешь?
В воздухе повисла тяжелая пауза. Маша расплакалась.
– Ты знаешь… ты знаешь, что за эти дни я поняла, что могу быть нужной. Мне бы хотелось, чтобы ты всегда был раненым, сидел в своей инвалидной коляске или в чем-нибудь еще, а я бы ухаживала за тобой, и мне бы от этого было хорошо. Странно, а я ведь даже не знаю, как тебя зовут. Ты был хорошим человеком до этой проклятой войны, но она ведь когда-нибудь закончится. И не важно, как будет называться страна, в которой ты живешь. Главное, что ты живешь.
Вздох. Пауза. Слово.
– Важно, Маша. Как страна называется, важно. Мы не можем быть ордой, кочующей с места на место. Значит, где ты и кто ты, важно. Я присягу принимал, можешь понять?
– Ой, да тут полгорода принимали одну присягу, потом вторую и третью.
– Машенька, так нельзя. Мне не будет прощения. А правда затеряется в истории.
– Ты же калека! Инвалид! Какая может быть история?!
Она почти кричала.
– Тише, Машенька, тише, – зашептал он. – Давай оставим этот спор. Я не поеду в Россию и не сяду на скамью подсудимых. Точка.
В палате повисло молчание. Они были одни. Его решили держать отдельно от других пациентов, словно он был особо ценным жертвенным животным. Но он твердо решил не идти на моральное заклание.
– Ты сделаешь? – переспросил он.
Снова пауза. Но Маша больше не плакала, а, наоборот, стала строгой и собранной.
– Тише. Дай подумать.
Рем дал ей подумать и принялся про себя отсчитывать секунды. Дошел до шестисот.
– Маша! – послышался голос врача из-за двери. Далекий и требовательный.
Она приоткрыла дверь и крикнула в коридор:
– Сейчас! – А потом перешла на шепот: – Тебе не надо умирать. Я тебя вывезу отсюда.
– Куда? – с унылой иронией спросил он.
– К своим, – сказала она и тут же поправилась: – К твоим.
Он покачал головой. Каждое незначительное движение причиняло ему боль.
– Они увидят, что меня нет, и порвут тебя на куски.
– Не порвут, – твердо вымолвила она. – Не увидят.
Ее план был очень прост. Она сказала, что в морге достаточно много невостребованных тел, одно из которых вполне можно выдать за Рема. И особого труда это ей не составит.
– Мне поможет главврач, – сказала она.
Рем, вспомнив доктора, называвшего его укропом, искренне засомневался.
– Не волнуйся, – заверила его Маша. – Есть способы давления на него.
Он не стал уточнять какие, но подумал, что у них с доктором, должно быть, застарелый рецидив романа. Долгая история. Или, наоборот, короткая офисная связь.
Через несколько часов его положили на каталку и вывезли в коридор. Он чувствовал, как всякий раз, когда кто-либо проходил мимо, простыня на его лице шевелилась от дуновения ветра.
Потом кто-то с решимостью тореадора схватил ручки каталки, как быка за рога, и толкнул ее вперед. Он слышал, как за ним захлопнулись складные дверцы, и, дернувшись, лифт повез его вниз. Вытолкав его в больничный двор, крепкие руки при помощи еще одной пары менее крепких рук затащили его внутрь чего-то тесного, жесткого и железного. Он успел лишь глотнуть немного свежего воздуха, сулившего близость свободы, но металл дверей глухо щелкнул и машина, в которой он оказался, тронулась с места. По звучанию мотора и по неподражаемой тряске он безошибочно узнал армейскую «таблетку» – старый медицинский микроавтобус, в котором было предусмотрено все, кроме удобства пассажиров и пациентов. Рем не знал, кто его везет. Он не слышал Машиного голоса, но знал, что она здесь. Водитель, судя по голосу, пожилой покладистый мужчина, спрашивал:
– Сюда? Вот туда? Налево? Снова налево?
Тот, кто показывал дорогу, видимо, делал это знаками, молча.
– Стрелять не будут? – услышал Рем, и после паузы, во время которой водитель получил утвердительный знак, снова донеслось с переднего сиденья: – Хорошо.
Рем даже успел задремать, несмотря на тряску, а проснулся от криков: «Стой, стой!»
– Шановний, ви що, не вмієте читати? Стій. Чекай на команду військових. Потім вирушай, – спокойно выговаривал нерасторопному водителю незнакомый человек. – А то я ж можу з переляку зіпсувати вам фари.
«Наши!» – радостно забилось сердце в груди у Рема от ощущения свободы. Она уже была близко.
– Що там у вас? – спросил военный на блокпосту.
– Раненый! – сказал водитель. – Ваш раненый!
– Паша! – крикнул военный кому-то. – Тут поранений! Кажуть, наш!
Через минуту Рема снова клали на носилки, вытягивали, перегружали и снова загружали. Спасительный металл военных «медичек» громыхал по-домашнему, обнадеживающе, и голоса людей, что суетились вокруг него, звучали как хор, исполнявший самую приятную музыку на свете – марш свободы.
И в этой радостной суете он почувствовал тепло рук на своей груди. Знакомое тепло ладоней.
– Никому не говори, кто тебя вывез. Никому и никогда. Иначе они сделают со мной то, что хотели сделать с тобой.
Она шептала ему это на ухо, а он чувствовал на щеке ее дыхание.
– И с врачом. И с водителем.
Он не совсем улавливал смысл того, что она говорила. Вернее, смысл-то Рем понимал, но вот отдельные слова разобрать не мог. Близость свободы пьянила его.
– И запомни. Я люблю тебя. Люблю. Тебя. Одного.
Она быстро прижалась к нему, надавив ладонями на его грудь. На теплой коже ее щеки оставалась влажная дорожка от слезы. Он подумал, что у нее останется раздражение от его щетины.
– Я тоже. Люблю тебя. Машенька, – отрывистые, как текст телеграммы, слова неожиданно легко слетели с его губ. Но он не знал, услышала ли она их. Он больше не чувствовал ни ее кожу, ни теплую силу ее ладоней. Она ушла. А ее место в сознании очень быстро заполнила свобода. Долгожданная и неожиданная соперница, с которой ни одной женщине в мире не стоит тягаться, как бы сильно она ни старалась сделать мужчину счастливым. И Рем почти моментально забыл, кто ему эту свободу подарил.
Прошел месяц. Его раны окончательно затянулись. Ушла боль. Но зрение так и не вернулось. Он учился жить в темноте и воспринимать мир на слух. И этот мир звуков оказался честнее, чем мир визуальных образов. Он слышал – буквально слышал! – где проходит граница между правдой и враньем, и улавливал многообразие интонаций разговоров, на которое раньше не обращал внимания. Впрочем, хороший снайпер тоже умеет слушать. А Рем еще недавно был хорошим снайпером.
Ему хотелось быть нужным, и его каждый день возили на полигон, где он общался с теми, кто вскоре должен был ехать на фронт. Он не мог больше показать свое умение, но зато он мог многое рассказать. Звуки и ощущения в работе снайпера оказались очень важны. Он считал, что поступает правильно. Ведь он никому не давал обещания не воевать.
Он осторожно спрашивал своих друзей, не видел ли его кто-нибудь на «рашистском» телевидении, пока он был в плену, и друзья отвечали отрицательно. Он постепенно перестал думать о плене и о своем увечье, так круто изменившем его жизнь. Он был при деле.
На работе. И это главное.
Спецслужбы им активно интересовались, и он не отказывался от изматывающих бесед, справедливо понимая, что умный следователь сможет вытянуть из него нечто такое, что он сам оставил бы без внимания. Он хотел, чтобы рассказанное им сохранило жизни тех, кто идет на фронт после него. Вместо него. И ради этого готов был к многочасовым разговорам в прокуренном кабинете.
Он говорил и о Маше. Подробно, как и обо всем, что пережил в Луганске. Но как-то отстраненно. Ничего, абсолютно ничего личного.
А потом появились они, люди из телепередачи. Телевизионные ребята искали именно его. Сказали, что занимаются расследованием пыток и других нарушений Женевской конвенции, на которую сепаратистам было глубоко наплевать. Его очень сильно и настойчиво попросили прийти в прямой эфир. «Лучше, чем на вашем примере, – сказали, – мы не проиллюстрируем бесчеловечность и героизм этой войны». Ему пообещали, что его интервью обязательно увидят в Европе и Соединенных Штатах и, ужаснувшись, мир наконец поверит, что у нас идет война, и поможет ее выиграть.
Интервью получилось очень хорошим. Это был телемост с американскими конгрессменами, у многих, как заметил оператор, во время рассказа о пытках белели костяшки на сухих руках и блестели выцветшие пожилые глаза. «Программа была интересной, полезной. И очень ко времени», – так сказал режиссер, выдававший эфир.
Маша программу не видела. В Луганске отключили украинское телевидение. Но содержание интервью ей очень подробно пересказал безжалостный обладатель командного голоса и тяжелых ботинок, однажды навещавший Рема в палате.
Одноразовый воин
Как назвать этого симпатичного русского парня, не знаю. Пленный? Но ведь у нас война с Россией не объявлена. Какие могут быть пленные, если нет войны? Может, он просто заблудившийся человек с оружием? Нет, он не заблудился, он ехал в Донецк, чтобы воевать против Украины. Впрочем, и тут есть противоречие. Он говорит, что против Украины ничего не имеет, а хотел помочь защитить русскоязычных украинцев от злобных бандеровцев, фашистов из «Правого сектора» и иностранных наемников. То, что в Украине сам он иностранный и почти наемник, в голову ему не приходит.
– Подождите здесь. Я буду по одному их приводить, хорошо?
Офицер СБУ встретил нас в управлении спецслужбы в Мариуполе, там, куда привезли пленных боевиков. Нам разрешили говорить с ними на любые темы. Хоть о войне, хоть о погоде.
– Вам помещение подходит или поискать другое?
Я оглянулся. Два мягких пузатых кресла, мечта обладателя двухкомнатной квартиры в спальном районе, хорошо смотрелись бы в начале девяностых на фоне полированного серванта с хрусталем и глянцевыми корешками классики зарубежной литературы. А в узкой квадратной каморке, в которой окна заложены мешками с песком, да еще и проделаны бойницы, бурый искусственный мех, гордость закарпатских мебельщиков, выглядел довольно странно. Но выбирать не приходилось. Для меня важна не комната, а тот, с кем меня в ней оставят наедине. Или те.
– Вам кого первого привести?
Первым в комнату зашел парень лет тридцати. Полные губы, вопросительный взгляд. Тянет простреленную ногу, опираясь на костыли. Садится в кресло и рассказывает о себе. Ничего особенного. Дима. Соотечественник, из Константиновки. Был водителем, стал боевиком. Или ополченцем, как он сам себя называет. Его в составе группы из шести человек отправили искать наемников на украинских блокпостах в районе Марьинки. Они были уверены, что Донецк обстреливают фашиствующие молодчики из Восточной Европы. Так разъясняло ситуацию растерянным горожанам местное телевидение.
– Вы считали, что украинцы бомбят Донецк? – переспрашиваю его еще раз.
– Я не говорю, что украинцы. Наемники, – уверенно отвечает Дима.
– Ну а какие наемники, кто? – настойчиво пытаюсь я добиться от него описания образа врага. Но в ответ слышу невнятное объяснение.
– Я не знаю, я их еще не видел, – после долгой паузы отвечает боевик Дима.
– Ну а в ваших средствах массовой информации говорят о каких-то наемниках. Откуда они?
Вопрос оказался очень неудобный.
– Ну, поляки какие-то там, не поймешь, – говорит Дима, словно отмахиваясь от назойливого, как овод, вопроса. И, вслушиваясь в собственный ответ, понимает, насколько глупо он звучит.
А еще я вижу по его глазам, что он начинает понимать: задание, на которое его послали и которое забрало у него здоровье, тоже было глупым.
– Узнать, есть там наемники или нет. Услышать говор, там, иностранный. Засекли нас, начался обстрел, выжило нас три человека из шести.
Они были одноразовыми солдатами. Их отправляли на задание, выдав минимум оружия и даже не предложив надеть бронежилеты. Когда те, кто выжил в ходе этого бесполезного рейда, рассказывали о нем, у меня не осталось сомнений, что боевики сменили партизанскую тактику «ударь и беги» на «ударь и умри». Камикадзе, елки-палки. Только не знавшие, что вместе с боекомплектом получили билет в один конец. Хотя второй земляк, Юра из Чернигова, видимо, это понимал. Он волком смотрел на меня в упор и, пропустив мимо ушей полтора десятка вопросов, ответил на единственный.
– Рассчитываете ли вы когда-нибудь вернуться домой? – спокойно произнес я.
И тут он широким жестом рук, скованных стальными браслетами, резко указал на пол.
– Минус два уровня, минус два я вернусь! – выкрикнул он.
Я, честно говоря, растерялся, и он понял, что его ответ нуждается в пояснении.
– Минус два уровня земли. В гроб! – снова почти закричал боевик.
Он был уверен, что живым отсюда не выйдет. Ему было очень жаль себя. Злые сероватые глаза наполнялись слезами. А может быть, ему просто хотелось плакать от ненависти к тем людям, которым он проиграл. Они оказались правы. Он – нет. Вполне достаточный повод для ненависти.
Третий боевик, не похожий на первых двух. Именно он был главной целью нашего визита в Мариуполь. Россиянин, из Воронежа. Ходили слухи, что это матерый диверсант и что ДНРовцы, пытаясь отбить его, в тыл нашим войскам высылали еще одну диверсионную группу. Но это, к моему журналистскому сожалению, оказались всего лишь слухи. Воронежский парень был таким же, как и его товарищи, одноразовым солдатом без бронежилета. И вот он сидит передо мной, двадцатипятилетний смышленый строитель из российской глубинки. С хорошей улыбкой и добрыми глазами. Сидит, рассказывая о том, что никогда не думал, насколько сильна бывает фантомная боль.
– Вот нет ноги, понимаете, а она болит. Болит иногда так безумно, что выть хочется. Читал когда-то об этом, думал, что это писательские фантазии. А оказалось правда.
У него очень правильная, почти литературная речь. Насыщенная образами, а не матерными междометиями. Сразу видно, он большой любитель поговорить. У таких, как он, есть редкий талант, как говорится, «ездить по ушам» красивым девушкам. Не врать, а именно искусно плести нить рассказа, привлекая внимание и к повествованию, и к себе. Кстати, о своей девушке он говорит в прошедшем времени, так, как будто потерял ее вместе с ампутированной ногой.
– Александр Пашков. Саша, – улыбаясь, представился он. – Обнаружили нас под Марьинкой. Мы ушли на Гранитное. Именно там нас отработали и обработали. А дальше помню все какими-то фрагментами. Была у меня с собой граната. Думал, надо ее взорвать, потому что слышал из нашего телевидения, что украинцы над пленными издеваются. Думаю, живым не сдамся. Но душку, видимо, не хватило. Ранения почти не почувствовал. Такое легкое покалывание, словно пчелка меня укусила. А потом страшная усталость. Чувствую, несут меня куда-то. Принесли в какой-то подвал, стукнули пару раз, записали на видео. Дальше не припоминаю. Вышел в астрал. Вернулся, смотрю – лежу на койке в больнице. Снова отключился. Потом опять прихожу в себя. Доктор мне говорит: «А мы, дружок, тебе ногу ампутировали». Я говорю: «Да ну, вы меня разыгрываете». Поднимаю одеяло и вижу, что ноги нет. Снова отключаюсь. И так дня три подряд. А потом уже привык. Нога у меня, как мишень «дартс» была, вся утыкана шприцами. Только сейчас на костыли встал.
Я спрашиваю Александра о том, что двигало им, когда он решил приехать на чужую войну. Он медленно, с паузами, отвечает, и я понимаю, что врать он не хочет, но и правду говорить боится.
– Сейчас, без ноги, в плену, или я не знаю, как это назвать, – в заточении? – не скажу, не скажу вам сейчас, зачем я сюда ехал. Ехал помочь. За идею, не за деньги. От души ехал. Готов был умереть. Думал, что вернусь живой или мертвый, но вышло что-то посередине, ни живой ни мертвый. Как-то так.
– Ты слова подбираешь настолько тяжело!
– Я не знаю, что и как вам отвечать. Морально разбит. Подавлен. Все, ноги нет. Что дальше делать? Вот отпустят меня – и что дальше? Я не знаю, что делать. Я не знаю, чем я дальше буду заниматься. Был здоровым парнем, а сейчас я инвалид, и все. Призываю ли кого-нибудь идти на войну? Нет, никого не призываю.
Он слишком много смотрел российское телевидение перед тем, как отправиться в Ростов, в учебный центр, где готовили и продолжают готовить боевиков для украинской войны. Конечно же, ни офицеры-инструкторы, ни сами курсанты этого центра себя боевиками не считают. Александра учили партизанской войне. Впрочем, минимальная подготовка у него была и до антиукраинской «учебки» в Ростове. Срочную он служил кинологом.
– Но с собаками в ДНР ты дело не имел?
– Нет, собак там не было, – усмехается Саша. Почему мой вопрос вызывает у него улыбку? Он хочет что-то сказать, но внезапно замолкает. Собственная мысль ему явно показалась крамольной. Иногда собаки бывают добрее людей, а люди злее собак. А еще человеческие создания, как крысы, идут за дудочником-крысоловом и синхронно пританцовывают под его простую, но коварную мелодию.
– Я знал, что Нацгвардия и «Правый сектор» не сделали людям ничего хорошего. Они женщин насилуют, пьяные с оружием ходят.
– Это все, что ты о них знаешь?
– Ну, в общем-то, все.
– То есть конкретики никакой, будем так говорить?
– Все так и оказалось, – незлобно улыбается Александр.
– Ну, а ты сам видел, как украинские военные ходят пьяные с оружием и насилуют женщин?
Я не идеализирую украинскую армию. На любой позиционной войне есть на фронте проблемы с алкоголем. Но про насилие над донбасскими женщинами я слышал только из репортажей российского телика. И, похоже, мой собеседник тоже.
– Я сам ничего не видел. Я был с той стороны в ополчении, а с этой стороны в плену, и я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что батальоны и «Правый сектор» – хорошие ребята. – Тут он снова задумался и вспомнил еще один источник информации. – О таком известно только со слухов. Я же говорю, никто из мирных жителей ничего хорошего о них не говорит.
– Ты можешь какую-то конкретику дать? Не абстрактные слухи, а факты? – Я начинаю медленно закипать от вязкой нелепости его ответов. У меня возникает ощущение, что я прорываюсь сквозь поролоновую стену неимоверной толщины. Пытаюсь до него докричаться, а он, мой визави, стоит с той стороны и мило, невинно улыбается.
– Да как-то я еще у вас… – И тут он заговорил без пауз: – Вот если бы вы ко мне домой приехали, то я бы вам ответил на все вопросы откровенно. А я сейчас здесь сижу, и бог его знает, чем все может закончиться.
Я смотрю на него, на его единственную ногу и на костыли.
– Как это может хуже закончиться? – вырвалось у меня. – Ты уже без ноги.
– Ну, вторую отрежут. Я не знаю! – смеется Александр нервно и неуверенно.
И тут меня осенило:
– Погоди, но ты всерьез веришь, что тебе могут отрезать вторую ногу?!
– Ну, бог его знает, что здесь может быть.
Что же это? Он абсолютно искренне убежден, что за лишнее слово, сказанное журналисту, его могут пытать. Саша, ты не за поролоновой стеной стоишь, тебя со всех сторон окружает непробиваемый поролон! Я не пробьюсь к тебе, не докричусь до тебя, пока ты живешь в поролоновом мире без свежего воздуха! Ну как это так? Человек был врагом, это правда. Но только на поле боя. Украинские солдаты пытались его спасти, перетянув жгутом кровоточащую ногу, и это было абсолютно нормально. Врачи в украинском госпитале боролись за остатки его здоровья. И это тоже было обычным делом, потому что клятву Гиппократа никто не отменял. А он с той стороны баррикад глядел на украинцев и видел кровожадных монстров. Поедающих детей. Насилующих женщин. Получающих рабов вместо боевых наград.
Но нет дыма без огня, подсказывает мне опыт. И я расспросил парня о причине недоверия к украинской медицине. А он довольно охотно ответил:
– Понимаете, нас сначала привезли в госпиталь в Волноваху. Они к нам там хорошо отнеслись сначала, но когда спросили, откуда мы, я не стал обманывать. Сказал, что из ДНР.
– А они?
– Они перепугались и засуетились. И, в общем, отказались от нас. И нас привезли в Мариуполь. Здесь, конечно, все по-другому. Медсестры за мной ухаживали.
Саша мечтательно улыбается. Думаю, медсестрам он нравился. Даже без ноги.
А он смотрит на пол, туда, где рядом с правым ботинком нет левого, и говорит о новеньких берцах, которые получил перед своим единственным рейдом.
– Мы когда пошли наемников искать, у нас и вооружения нормального не было. Ни бронежилетов, ни боекомплекта нормального. Я дополнительные рожки с патронами по всей казарме выпрашивал. В общем, берцы и автоматы. Все.
– Но вас реально послали на убой, ты же понимаешь это? – говорю. – Выдав какое-то непонятное вооружение неподготовленным людям, вас просто послали на убой. Что, собственно, и произошло, ты не находишь?
– Произошло, – глядя в пол, глухо отвечает парень. – Без ноги остался.
И тут я вспомнил случай, о котором несколькими днями раньше узнал в селе Крымском.
Там, на линии соприкосновения с украинскими войсками, стояли то ли казаки ЛНР, то ли замаскированные под казаков регулярные российские войска. А скорее всего, и те и другие, вместе взятые. И вот во время одного из боев солдаты двадцать четвертой бригады замечают, как над промерзшим полем встает в полный рост человек. Он оторвался от холодных и твердых, как ледяные торосы, комьев земли, и солдаты увидели зеленую трубу на его плече. «Муха», переносной гранатомет, был в боевом положении, и оставалась лишь секунда до того момента, когда человек на вспаханном поле нажмет на спуск. Ракета, нацеленная на солдат, могла принести смерть, и те открыли огонь на поражение. Они научились видеть опасность и реагировать на нее без рефлексий, как это делают люди, привыкшие к войне и уставшие терять своих товарищей в бессмысленных позиционных стычках.
Человека с зеленой трубой на плече опрокинуло, и он снова лег на пашню, теперь уже неподвижно. Взведенный гранатомет так и не выстрелил. Солдаты выждали, пока бой затихнет. За телом гранатометчика с той стороны не пришли. И тогда они сами вышли на поле. Когда военные подошли к неподвижному противнику, солдаты удивились. Обычно у человека, стреляющего из «Мухи», есть и автомат. «Муха»-то ведь оружие на один раз. Выпустил гранату – и выбросил пустой тубус. А у этого гранатометчика не было ничего, кроме одноразовой трубы. И бронежилета тоже не было. Значит, и сам он был солдатом на один выстрел. Выстрелил и забыл. Солдат выстрелил, и командир о нем забыл.
– А ще ми знайшли при ньому записку на картоні, – говорит мне Назар, парень, который участвовал в том бою.
– Що там було написано? – спрашиваю.
Назар пожал своими круглыми плечами и сказал:
– Ходімо. Сам побачиш.
Мы пришли на сельское кладбище. Нет более унылого зрелища, чем кресты на мерзлой земле, над которыми свинцовым покрывалом нависает серое небо. Один, свежесрубленный, кажется почти белым на фоне старых надгробий и сумрачных горизонтов.
Назар останавливается, не доходя до белого креста. Молчит с полминуты. Потом рассказывает:
– Тут лежить сєпаратист. Його гнали на забій, як скотину, бачте, ми його слова відобразили, які були у тій записці, що він мав при собі.
Солдат указал на табличку, и я понимаю, что предсмертная записка стала эпитафией для человека, приехавшего сюда издалека, за несколько тысяч километров, и оставшегося в той самой мерзлой земле, на которой он стоял и целился в украинских воинов. А Назар, один из тех, кто был для гранатометчика мишенью, стал читать вслух эпитафию на табличке. Вот что было в записке россиянина: «Из записки погибшего. Сразу бы застрелили! Кондратенко Дмитрий Викторович, Россия, Иркутск. Осознал, послали на убой, как быка. Батальон “Заря”, Луганск, прибыл 12.11.2014 года».
Он знал, что погибнет, знал, что назад его не ждут. Камикадзе необъявленной войны.
– Так як ми християни і він, напевно, також християнин, хлопці прийняли колективне рішення його поховати і збоку поставити хрест.
Полноватый Назар сейчас абсолютно не производит впечатления воинственного супермена. Он вообще не похож на военного человека, особенно теперь, когда его глаза влажны. То ли от сочувствия, а скорее всего, от зимнего ветра.
– Знаєте, він воїн, і ми воїни. Може, й вони поступлять з нашими бійцями так, як ми поступаємо з їхніми.
Через пару часов мы ехали в Мариуполь, чтобы встретиться с одноразовым солдатом, которому повезло остаться в живых.
Пленный Саша называл себя ополченцем, но ровно до тех пор, пока я не попросил объяснить, в чем смысл слова «ополченец». Он не смог. И тогда я попытался это сделать вместо него:
– Посуди сам. Ты в другой стране. В чужой стране. Вот как ты себя охарактеризуешь? Находясь в чужой стране, нелегально, с оружием в руках, кто ты?
Он тяжело, очень тяжело подбирал нужные слова. Это была самая трудная для него часть разговора.
– Ополченец? Не знаю… Тяжело мне сейчас на многие вопросы ответить.
Картина его мира сыпалась на глазах.
– Ехал с чистыми намерениями… От души… Все оказалось по телевизору преувеличено… Что с одной стороны, что с другой…
«Про две стороны это он на всякий случай, – понял я. – Так легче. Быть неправым в одиночку очень тяжело. Если неправ, то весь мир». А его мир продолжал рассыпаться.
– Морально подавлен. Без ноги. В плену, в чужом государстве. Что я могу сказать? Сейчас я за мир, не надо воевать.
Я не знаю, что этот парень, возвратившись к себе домой, будет рассказывать про украинцев, но я точно могу сказать, что на войну, в отличие от других освобожденных пленных, он больше не пойдет. Правда, он сам боится даже думать о возвращении. Тяжело поднимается на костылях и говорит:
– Вот наговорил вам столько, и теперь уж не знаю, что дальше… Дома… Там, в Воронеже… – И улыбается, улыбается виновато.
– Оставайся здесь, – говорю полушутя, в тон его неуловимой улыбке. – Съездишь во Львов, посмотришь на бандеровцев поближе. Поймешь, что тебе все наврали о нас. Может, книжки будешь писать.
А он сутуло висит на двух костылях и, вежливо прощаясь, ковыляет на выход. Ни мертвый, ни живой, ни свой, ни чужой. Одноразовый солдат, сломанный человеческий механизм. Через собственную боль и страдание растерявший колесики и винтики. Получивший шанс снова оказаться человеком.
Тараканы
«Мы по ним валим и валим, а они лезут изо всех щелей, как тараканы!» – вперемежку с бранью шипела радиостанция, поймав сепарский канал.
– Командир, они нас тараканами называют! – крикнул Ромка, одним движением сбрасывая пустой магазин и тут же вставляя полный. Так лихо перезаряжать автомат его научил один знакомый израильтянин. На первый взгляд, манипуляция выглядела довольно странно. Полный магазин в правой руке. Нажимаешь им на рычаг сброса, ставишь новую обойму вместо старой. А затвор приходится передергивать левой, как бы перекидывая ее сверху автомата. Казалось бы, неудобно, ведь у «калаша» затвор справа. Но в ближнем бою дорога каждая доля секунды, и, оказывается, так боец стреляет без перерыва, не давая противнику высунуться из-за укрытия. Бой продолжался несколько часов. Боевики и наемники-россияне второй день штурмовали село с дурацким названием Редкодуб. Дурацким оно казалось Ромке из-за того, что ни одного дуба он здесь не видел. А видел степь, испещренную лоскутками «зеленки», протянувшуюся от Дебальцево до Углегорска. Открытое пространство, по которому с трех сторон Ромку и его товарищей обходили наглые русские «семьдесят двойки». Оборона Редкодуба тоже была дурацкой затеей, но они, вся первая безбашенная рота, ни разу этого не сказали вслух. Надо значит надо.
Когда добровольцы заходили в этот поселок, здесь уже никого из местных жителей не оставалось. Убогие развалюхи рассыпались, как грибы у подножия дуба, вокруг двух или трех внушительных построек.
– В эту хату закиньте БК! – крикнул командир, указав на ближнюю, когда БМП, на которой он восседал вместе с товарищами, на полной скорости въехала в село.
Ромка заметил, что здесь командир первой роты стал каким-то другим. В тылу он был мягким, компанейским человеком. Приказы он отдавал доброжелательным голосом, отчего они походили больше на дружеские просьбы.
А в Редкодубе все изменилось. В голосе командира появился металл. Его движения стали быстрыми и четкими, как у хищника. Он отдавал приказы, которые никто не обсуждал. Они были правильные, потому что ротный так сказал.
– А часть боекомплекта перенесем в соседний флигель. Вот в этот. Это чтоб не остаться совсем без «бэка», если прилетит оттуда какая-нибудь хрень, – распорядился командир, махнув рукой в сторону противника.
Ромка не просто наблюдал за ротным. Он его снимал на портативную камеру, которую постоянно включал, когда приходилось отбивать атаки сепаратистов.
«Для меня честь сражаться с рядом такими людьми, как вы», – сказал ротный во время боя, когда с той стороны все-таки «прилетело» и угодило в тот самый дом, где сначала был устроен склад боеприпасов.
«Так у него и чуйка, как у хищника», – отметил про себя Ромка, направляя объектив камеры на командира. Тот не любил сниматься. Все к этому привыкли. Но здесь, во время боя, он решил поднять дух своим бойцам, которые понимали: чем меньше боеприпасов, тем меньше шансов удержать этот растреклятый поселок.
Дом, набитый патронами и боеприпасами для гранатометов, пылал. Взрывчатка еще не рвалась, но это обязательно случится, если пламя перекинется на ящики с армейской маркировкой. Командир не долго думал. Он первым зашел в горящий дом и через мгновение вышел оттуда с тяжеленным «цинком» зеленого цвета. Внутри были патроны. Любой момент для командира мог стать последним, и это понимали все бойцы, которые кинулись на подмогу ротному. Впрочем, кроме одного.
«Этот-Парень» – так его стал называть Ромка, даже мысленно не произнося ни его имени, ни даже позывного. Наложил для себя запрет на персональные данные Этого-Парня. Полное табу. И вот почему. Боец отказался выносить боеприпасы. Ослушался. Не выполнил приказ.
Ротный, пока надо было действовать и спасать боекомплект, не сказал Этому-Парню ни слова. Потом, когда основная часть ящиков оказалась в безопасном месте, он спросил отказника:
– Что случилось?
Но тот, вместо того чтобы ответить, принялся валять дурака и всячески изображать приступы тяжких недугов.
Конечно, это был спектакль. Ромка не сомневался. Да и командир, честно говоря, тоже. Правда, ротный не задавал вопросов. А Ромка не удержался. Спросил. Когда гудели от взрывов бетонные перекрытия подвала, где отдыхающая смена забывалась коротким сном перед тем, как идти на передок.
– Понимаешь, Ромка, – ответил Этот-Парень дрожащим голосом, – когда я беру автомат в руки, я сразу теряю всякий контроль над собой. Просто белое поле перед глазами. Падаю в припадке.
– Странно, – заметил Ромка. – А в лагере никаких припадков у тебя не было. Даже когда ты там брал автомат. Обеими руками.
И Этот-Парень заткнулся. Все его падения на спину с пеной у рта для Ромки не более чем сцена из спектакля по заявкам зрителей. Просто не желает человек идти на передовую. А командир в проблеме разобрался сразу же, без долгих расспросов и бесед. Отстранил его от выходов на передок и приказал сидеть в подвале. «Хотя я бы его, – думал Ромка, – как раз на передке бы и держал. Глядишь, его бы и попустило».
Этот-Парень не замечал, что командир изменился. Мягкую обертку сняли, а под ней оказался железный стержень. Тяжелый и прямой, как лом. Парень все надеялся на мягкость и человечность своего ротного. Ротный поймет и простит. С кем не бывает.
А ротному было просто не до труса. Нужно организовать оборону и постараться сделать так, чтобы каждый из полсотни его бойцов вернулся с передовой.
По Редкодубу валили из чего-то тяжелого. Один выстрел – и минус одна хата. Когда снаряд попадал на подворье, деревянные заборы срывало с места и болтало ударной волной, как листки из школьной тетради. Если входило в крышу, то глиняные стены бедных домов рассыпались и складывались внутрь. Лишь бетонные подвалы домов местного начальства, построенных на совесть, выдерживали удары артиллерии. У командира от этих ударов словно открылся третий глаз. Он видел село не так, как его видят бойцы, – дома, улицы, заборы, – и не так, как его рисуют картографы на топографической карте. Внезапно он ощутил, что Редкодуб для него стал объемным, как компьютерное изображение, и он с этим изображением мог делать что угодно. Мог повернуть его по часовой стрелке и против нее. Мог увидеть село в ракурсе сверху и проникнуть взором в каждый подвал и каждую щель. Одновременно он видел всех своих бойцов до одного, каждого на своем участке обороны. Но видел он и противника, который подходил к селу с трех сторон. И хотел стереть его с лица земли, чтобы не дать украинским солдатам возможности закрепиться, зацепиться в этой морозной серой степи.
– Ну что, тараканы, отобьемся? – спрашивал командир веселым голосом по рации.
– Отобьемся, командир! – хрипела уверенным смешком станция.
И тараканы, выдержав обстрел, выползали изо всех щелей, чтобы отбросить противника назад. Времени на то, чтобы серьезно закрепиться, не было, но они успели накопать неглубокие окопы, из которых их не могли вытравить своей артой обезумевшие ДНРовцы. Они не жалели снарядов и сыпали так, как будто рашистский гумконвой подвозил снаряды прямо в поле, где стояли их «САУшки». Били и минометами. Как раз когда Ромка снимал командира, в руинах соседней хибары сухо разорвалась мина от «восемьдесят второго». Она подлетела неслышно, в отличие от «стодвадцатки», которая свистит так, что от ее свиста по спине бегут мурашки. «Восемьдесят вторая» упала посреди дома с выбитыми окнами без крыши. Осколками сыпануло по железным воротам, а над ободранными стенами серым облаком поднялись пыль и дым. Ротный даже не повернул в сторону взрыва головы, лишь сказал: «Ромка, через пару минут сюда прилетит еще, давай менять точку». И он не ошибся. Как только укропы отошли от разрушенного дома, они услышали сухой хлопок, а на том самом месте, где они стояли, возникла неглубокая воронка. «Отличная у ротного чуйка», – мысленно поставил командиру галочку Роман.
Все было предсказуемо. После артобстрела на Редкодуб медленно и уныло, как утюги по гладильной доске, поползли русские танки. За танками неуверенно бежала пехота. Танков было немного, всего три. Но они скрежетали и рычали так, что хотелось спрятаться, забиться в щель, как настоящим тараканам.
У нормального человека инстинкт работает правильно. Если где-то громко стреляют, то нормальный человек разворачивается спиной к источнику звука – и вперед, подальше от стрельбы! Но у таракана первой роты что-то не в порядке с настройкой инстинктов. Он бежит не от источника, а как раз прямо в то место, где стреляют. При этом вес и количество разных предметов, навешанных на таракана, исключают, казалось бы, в принципе движение в режиме бега. Но он все-таки бежит, перебирая всеми конечностями. Туда, где в него будут целиться враждебно настроенные существа. А на таракане Ромке, кроме боеприпасов, автомата и бронежилета, болталась еще и сумка с камерой и планшетом.
Как же ему пригодился этот планшет! К переднему краю тараканьей обороны зловеще подползал танк-утюг. Надвигался, как неотвратимая судьба. Зеленый, в грязных комьях, зверь ворочал башнями и гусеницами, словно обещая раздавить любого, кто попадется ему на пути.
– Ну, Ромка, смотри сюда! – подозвал его старший расчета. – Сейчас мы его вальнем дуплетом.
В сторону монстра были направлены две трубы на станинах.
– Парни, у нас есть два выстрела и одна попытка! – крикнул старший, указав на танк. – Если мы промажем, то он нет! Бьем под башню. Как поняли?
– Поняли, – спокойно ответили гранатометчики.
– Выстрел!!! – пронеслась над степью команда.
Грохнуло так, что у Ромки заложило уши. Когда рядом стреляет могучий гранатомет СПГ, по правилам нужно быть в наушниках. Но кто их соблюдает, эти правила? И где взять эти наушники, если даже тяжеленные станковые пулеметы приходили на фронт без станков?
Сначала выстрелил один гранатомет. Ромка лишь успел включить планшет, когда громыхнуло другое орудие. Боец знал, что будет дальше, и высунулся с планшетом из окопа. Он видел происходящее на экране, и от этого оно казалось не совсем реальным.
– Куда лезешь? – крикнул старший гранатометчик. – Сейчас они ответку дадут.
– Ничего, успею, – ответил Ромка, а сам, забыв об осторожности, снимал, стоя в полный рост.
Они попали в танк. Прямо под срез башни. Активная защита не помогла. Многотонный купол сорвало взрывом и подбросило вверх. Там, где только что была башня, поднялись вертикальные струи пламени.
– Сдетонировал боекомплект, – отметил Роман, продолжая снимать.
Планшет зафиксировал, как башня перевернулась в полете и упала на мерзлую пашню вниз люками.
– Есть, – сказал старший гранатометчик. – Такая у них, у танкистов, судьба. Сидят на снарядах, как в железном саркофаге, и ждут, когда попадет.
Ромка выключил камеру. Его съемки будут еще одним доказательством того, что их рота уничтожает танки, и теперь они должны получить обещанную премию за спаленную вражескую броню. Но погибших сепаратистов ему снимать не хотелось. Обманутые люди, которых сюда послали, как на убой. Глупые, с промытыми мозгами, но ведь они чьи-то мужья, братья, и какая-то женщина будет лить слезы над письмом, которое принесет черную весть.
– Выбрось это из головы, – сказал ему ротный, когда Ромка поделился с ним своими рефлексиями. – В танках не местные сепары. В экипажах почти наверняка россияне, граждане Эрефии, зарабатывают на нашей смерти деньги.
– Откуда у них к нам такая ненависть? – в очередной раз спросил себя Роман.
– Нет у них ненависти, – ответил командир. – Есть у них только любовь к деньгам. А стрелять по нам или танками давить, им без разницы.
Мысль, высказанная ротным, несколько остановила бесполезные размышления. Тем более что нужно было отбиваться и думать, как выжить на передовой.
«Здесь либо мы их, либо они нас», – сказал себе Роман.
В тот день было еще три атаки. И все три тараканы смогли отбить. Почти без потерь, если не считать двоих раненых, которых удалось перебросить в тыл через узкий перешеек своей земли, соединявший Редкодуб с тылом. Медичка, вывозившая раненых, не вернулась назад. По рации сообщили, что у нее порваны осколками задние колеса и пробит радиатор.
Наступила передышка. Ночевал Ромка в подвале рядом с Этим-Парнем. Бойцы набились в подвал, чтобы перекусить и упасть в крепкие, но краткие объятия сна. Вокруг отказника, как вокруг прокаженного, образовалось пустое пространство. Санитарная зона, которую никто из тех, кто вернулся с передка, не хотел сокращать. Но Ромке было интересно, что думает этот человек, и он подтащил спальный мешок поближе к Этому-Парню.
– Ну, как ты, не выздоровел? – спросил он ехидно.
– Нет, мне все еще плохо, – ответил Этот-Парень.
– Знаешь, – сказал Ромка, махнув в сторону гранатометчиков, которые завернулись в мешки так, что оттуда торчали лишь всклокоченные бороды, – сегодня эти люди спасли и тебя, и меня, и командира. Если бы они не подбили танк, нас бы всех размазали по асфальту, как повидло. Ты это знаешь?
– Нет тут асфальта, – глупо ответил Этот-Парень. – Это село неасфальтированное.
Он боялся сепаратистов, россиян, боялся своего командира и боялся своих товарищей. Особенно этого сумасшедшего Ромку, который вместе со своей камерой лезет туда, куда ни один нормальный человек не полезет. С такими лучше молчать. Но Ромка явно его провоцировал на открытый конфликт:
– Слушай, а чего ты вообще на фронт пошел?
В ответ на Ромкины слова молчание, которое его никак не устраивало. И боец продолжал давить вопросами соседа:
– Я хочу спросить, что ты будешь делать дальше? Если выживешь?
– Уеду домой, – сказал отказник. – В Киев.
Он понял, что молчанием не отделаться.
– И дальше? – не унимался Ромка.
– Забуду это все.
– А если танки приползут в Киев?
– Ну, тогда попробую еще раз. В смысле, еще раз попробую воевать.
Ромка ухмыльнулся. Он давно уже понял, что второго раза не будет.
– Я скажу тебе, что ты сделаешь. Добро? – сказал Роман.
Тот кивнул: «Добро».
– Если они доползут до Киева, ты сбежишь во Львов. А если до Львова, то ты сбежишь из Украины.
– Я вернусь и буду волонтерить. Собирать деньги на армию, – искал себе оправдание Этот-Парень. Наверное, он даже верил в то, что говорил. Но ему не верил Ромка.
– Не надо было тебе ехать сюда. Вообще, – подвел он резюме. Затем встал и, забрав свой спальник, вытащил его за пределы санитарной зоны. Но поспать у него не получилось. Сначала дом тряхонуло, а потом раздался голос ротного:
– Подъем, парни!
Снаряд угодил рядом с грузовиком, на котором только что завезли с Большой Земли боекомплект. Языки алого пламени облизывали резину на колесах грузового «Урала». Огонь грозил перекинуться на зеленые ящики с боеприпасами. Все, включая Ромку и Этого-Парня, стояли и смотрели, как завороженные, на горящий грузовик. Но вот кто-то из добровольцев не раздумывая нырнул в люк БМП, завел машину и принялся таранить объятый пламенем «Урал». Он с первого раза не поддался. Нервно дергаясь, боевая машина пехоты откатилась назад и снова ударила носом в корму «Урала». Деревянный борт грузовика открылся от удара. Вверх взлетел фейерверк огненных искр. «Урал» слегка отодвинулся от ящиков, но Ромка заметил, что огонь перекинулся на БМП. Чему там гореть, неизвестно, но времени на догадки не было. Они могли лишиться единственной гусеничной машины.
– Гасим «бэху», парни! – крикнул командир роты, и все, кто стоял, принялись тушить БМП. Кто бросал комья земли вперемешку со снегом, а кто, скинув с себя бушлат, лупил что было сил по алым цветам, распустившимся на горячей броне.
– А ты чего стоишь? – рявкнул комроты на Этого-Парня. Тот, как и остальные бойцы, понимал, что «бэха» вполне может рвануть, но оставался стоять на месте. Только присел. Словно попытался вжаться в землю. Его разъедала трусость. Она, как рак, уже сожрала его сущность и взяла на себя управление его мыслями и чувствами.
Когда бойцы наконец потушили бронированную машину, командир спрыгнул с брони и схватил Этого-Парня за шкирку. Бойцы ждали, что будет. Ротный втащил отказника в пустой подвал. Еще минута – и оттуда послышатся крики избиваемого человека. Или выстрелы, за которыми тишина. Но ни криков, ни выстрелов не было.
На следующий день первая рота вышла из Редкодуба. Командир ругался, получив по рации приказ оставлять позиции. Он сыпал жесткими словами, нажимая на тангенту, и клялся, что они закрепились так, что никакими танками их оттуда не выдавить, что им нужно только забросить боекомплект и что боевой дух высокий. Выше некуда. Но со старшим воинским начальством не поспоришь. Они хотя и добровольцы, а все же должны выполнять приказы.
Этот-Парень тоже вышел вместе со всеми в относительно безопасный тыл. Солдат разместили в заброшенной школе. Первой роте отдали целый класс на третьем этаже. Добровольцы аккуратно раздвинули парты и расставили армейские раскладушки. А на доске чья-то озорная и творческая рука нарисовала мелом бравого таракана, подпоясанного широким кушаком, из-за которого выглядывала кривая сабля. Усы у таракана залихватски скручивались в кольца. А над ними огромными буквами было написано: «Первая рота». Чувство самоиронии – это не только свидетельство присутствия интеллекта. Тот, кто умеет посмеяться над собой, всерьез принимает боль других. Он, смехом исцеляя ненависть, может быть милосердным и к своим, и к поверженным врагам.
Отказник в классе с нарисованным тараканом появился лишь раз. Он быстро собрал вещи и спросил ротного, где можно оставить свой автомат. Все необходимые бумаги были готовы. На парня никто не обращал внимания. Было темно. Бойцы спали. Командир чуть пригасил огонек фонарика, державшегося на голове на резиновых лямках.
Командирская койка стояла рядом с Ромкиной. Ромка, улучив момент, отважился узнать, а что же произошло в подвале уцелевшего дома в Редкодубе. Он ожидал, что ротный стальным голосом пошлет его куда подальше с его вопросами, но командир, привычным движением раскатывая свой спальник, неторопливо и буднично ответил:
– Я хотел его расстрелять, но когда спустился в подвал и посмотрел на него, то вспомнил, что должен всех вас привезти назад живыми. Даже трусов. И мне в тот момент стало ясно, что именно в этом состоит мой самый главный долг.
Ротный быстро расстегнул мешок и, сняв берцы, забрался внутрь.
– Ну, и я сказал ему, что вытащу его отсюда вместе со всеми. А дальше дело за ним. Если может побороть страх, пусть остается. Если нет, то на дембель.
– И все? – разочарованно спросил Ромка.
– И все, – ответил командир. – Да спи ты. Кто знает, в какую дыру нас завтра отправят.
Выход
Его глаза мне казались ироничными. Но сейчас, когда он надел балаклаву, скрывшую лицо и оставившую только глаза, я вижу в них злость и усталость. Усталость от бесконечного ожидания появления адекватных полководцев. Злость от того, что те, которые есть, знали о слабых местах обороны. И не сделали ровным счетом ничего, чтобы их устранить.
– Сепары, как дурные, ломились в Новогригорьевку, думали, что там наше слабое место. За один день наступления они потеряли пять танков под Новогригорьевкой. И все равно продолжали пробивать нашу оборону с севера. А потом совершенно случайно их диверсионно-разведывательная группа зашла с другой стороны, с юго-запада, в Логвиново. И они поняли, что наших там нет.
Я говорю с Зеленым. Такой у моего товарища позывной. Цвет, вселяющий надежду. Зеленый уникальный человек. Талантливый офицер. Профессионал. Его группа артиллерийских разведчиков корректировала огонь изношенных орудий по колоннам противника, не давая окончательно превратить Дебальцевский карман в смертельное кольцо. Я раньше часто приезжал в Дебальцево и видел, как работает группа Зеленого. Их слаженность и четкость вселяли уверенность, что Дебальцево мы удержим. Осенью, показывая карту «кармана», он говорил: «Теоретически они могут взять Дебальцево, если у них будет раз в семь больше сил, чем у нас. Но, поверь, для этого им нужно стянуть все, что у них есть, на других участках фронта, а на это они вряд ли пойдут. Войск у нас здесь очень много. И, кроме того, им нужно заменить местных гопников и казаков на регулярные войска».
Так случилось, что невозможное стало возможным. Количество наших войск на плацдарме сократилось. Значительно ухудшилось качество. И противник смог создать необходимый семикратный перевес. А о том, что на той стороне россияне сколачивают регулярную армию, подтягивая наемников и уничтожая местных несогласных казаков, было известно уже в ноябре. Я хорошо помню, как один из офицеров, Скорпион, докладывая об этом, сообщал, что вожаки группировок, хлебнув для храбрости и взяв гранаты в руки, приходили на наши блокпосты и предлагали вместе «е…нуть по этим русским». Все случилось так, как говорил Зеленый. И вот, вспоминая свои слова, он тяжело признает: «Не ожидал, что я окажусь прав».
– Понимаешь, там, с юго-западной стороны, от Коммуны и до Луганского, практически не было войск. Можешь представить? На почти двадцать километров чистого поля всего три наблюдателя. Больше никого наших. Они просто не могли поверить, что это так. А когда зашли туда, то искренне удивились: «О, повезло!» И начали закрепляться в селе. Подтягивать ротно-тактическую группу и формировать опорный пункт.
– Скажи мне, а возможно ли было их оттуда выбить? – спрашиваю. Ведь всего одна ошибка в военном планировании, и, наверное, думаю я, ее можно было бы исправить. А Зеленый говорит, что ошибки нужно не исправлять, их надо избегать.
Оказывается, накануне военной катастрофы он примчался в штаб сектора «С» и разбудил командующего сектором. Было три ночи. Разведчик обрисовал полковнику ситуацию и сказал, что если немедленно не решить вопрос Новогригорьевки, то мышеловка захлопнется. Зеленый увидел, что на карте у командующего было отмечено Логвиново. То есть в секторе знали самые слабые места обороны. Новогригорьевка и Логвиново – два единственно возможных направления, со стороны которых можно было захлопнуть мышеловку. И тогда в ней окажется вся украинская группировка в Дебальцево. К слову, командующий быстро понял суть ночного доклада и пообещал, что тут же будет звонить начальнику Генерального штаба.
– Позвонил? – спрашиваю Зеленого.
– Не знаю, – пожимает плечами артразведчик, – не видел. Но думаю, что да. Я видел его карту. Я же говорю, у него были отмечены и Калиновка, и Логвиново, то есть степень риска он и до этого понимал.
Но события развивались так, словно не было никакого звонка. А может быть, этот звонок просто ничего уже не решал.
Это было в три ночи. Несколько часов спустя, рано утром девятого февраля, российский Т-72 обстрелял машину с офицерами горнопехотной бригады. Выехал в районе автобусной остановки с надписью «Логвиново» и открыл огонь. Замполит бригады получил тяжелые ранения. Казалось бы, все это вместе с докладом Зеленого должно было заставить штаб сектора принять быстрое решение. Но еще почти сутки после этого никаких активных действий со стороны украинских войск не наблюдалось.
Через сутки возле Луганского мы наткнулись на три грузовика с бойцами батальона «Донбасс». Оказалось, они из Логвинова. Зашли при поддержке двух танков. И танки эти были сожжены боевиками. Судя по тому, что рассказали участники неудачной операции, их отправили на зачистку. Хотя сутки спустя, когда рашисты подтянули силы, нужна была не зачистка, а штурм. Даже из такого небольшого села, как Логвиново, – тридцать дворов, не больше, – выбить слаженную группу с помощью «полицейской» зачистки невозможно. И не стоит надеяться, что опыт противника уступает нашему, во всяком случае, в районе Дебальцево.
Грузовики с «Донбассом» стояли не очень долго. Подъехал офицер и, не выходя из своего уазика, скомандовал машинам ехать на Артемовск. И снова потянулось время бездействия, каждая минута, каждая секунда которого, как оказалось, стоила жизни бойцам в котле, крышка над которым почти закрылась.
– Зеленый, скажи, пожалуйста, а операция по выводу воинов из Дебальцево была спланированной?
Он подумал и сказал:
– Ну конечно спланированной. Другое дело, что планированием операции занимались не те люди, которым это поручила Родина. Планированием операции занимались офицеры среднего звена. Высшим командиром был комбриг 128-й бригады. То, что Дебальцево держалось две недели, было не благодаря, а вопреки действиям Генерального штаба. Штаб сектора играл лишь одну роль: был приоритетной целью для артиллерии противника. В управлении войсками он не принимал никакого участия. Хорошо хоть, что не мешал командирам это делать.
В эту группу офицеров входил и он. Я уже знал и о многих десятках погибших при выходе бойцов и о том, что с «Поляны», из расположения 128-й бригады, люди уходили по трупам своих товарищей. Перед тем как встретиться с Зеленым, в Луганском мы нашли группу бойцов из 128-й бригады, которым пришлось прорываться, оставив по дороге грузовики с «двухсотыми». Я даже отдал свою аптечку солдатам – у парней не было медикаментов.
«Цілий “Урал”, ціла машина “двохсотих” там стоїть, і їх звідти ніхто не забере, тому що там вже сєпари. Ми попадали вже в кільце, – говорили они, не стесняясь слез, которые оставляли светлые следы на их покрытых копотью боя лицах. – Там, в “Уралах”, лежать “двохсоті” наші хлопці, і їх вивезти ніхто не хоче».
Но я хотел понять, что же происходило внутри той группы офицеров, которые выводили людей. И кто должен нести ответственность за Дебальцево. Более откровенно, чем Зеленый, мне об этом вряд ли кто-нибудь другой смог бы рассказать.
Когда стало ясно, что из Дебальцево надо уходить, но Генштаб при этом не дает никаких указаний, командиры бригад и батальонов стали разрабатывать план отступления. В авральном порядке. Ключевым местом сбора была «Поляна», лагерь закарпатской бригады. Но к «Поляне» нужно было незаметно для противника подтянуть людей с разбросанных по периметру Дебальцево позиций. Были определены промежуточные точки сбора. Делалось это в режиме строжайшей секретности. Если бы командиры батальонов и дивизионов связывались друг с другом через штаб сектора и Генштаб, то операция провалилась бы и печальный список жертв был бы несоизмеримо длиннее. Так считает Зеленый:
– Между нами, командирами, было два штаба – Генеральный и штаб сектора. Но, слава богу, их не было, мы их исключили из схемы, поэтому операция прошла успешно. Мы разработали способы связи, коммуникации, уничтожали резервы, которые собирались отрезать группировки противника. Операция смогла быть успешной, потому что разрабатывалась на горизонтальном уровне, без участия вышестоящих штабов.
Все частоты прослушивались противником. Все позывные и топонимы были рашистам известны. Но офицеры смогли придумать такую схему связи, которая позволяла держать в секрете перемещения украинцев и вводить противника в заблуждение. Люди Зеленого до последнего оставались на своих местах, прикрывая отход колонн. Один из его артразведчиков, Андрей Кравченко, корректировал огонь по колоннам противника с осколком в груди. Он не покидал позицию. Видел, что от него зависят сотни людей, и готов был отдать свою жизнь за других.
О том, что котел будет, говорили после потери Углегорска. Одним из последних в безопасное место вышел Артем Рафальский, тот самый командир позиции с позывным Скорпион.
– Мне скрывать нечего, – признался Артем сразу же после выхода из котла. – Вот представь. Я наблюдал в течение последней недели шесть колонн противника по десять-двенадцать машин. Танки, бэтээры, БМП. Когда я давал точку, чтобы нанести удар по колоннам или разрушить мост, мне говорили: «Мы не можем туда стрелять». Это командование сектора говорило. В том, что мы оказались в окружении, виновато командование сектора, которое серьезно не относилось к нашей информации. Они даже не владели текущей информацией. Например, я «заказываю» артиллерию по определенной точке, а командование сектора говорит, что там стоят наши. А наших там нет уже неделю. То есть командование сектора не знает, что наши бросили эту позицию неделю назад. В окружении виноват не президент или вооруженные силы, как это хотят представить. Виновато командование сектора, которое приехало себе звезду заработать.
Пару часов спустя, немного остудив свой гнев боевого командира, который не понимает бездействия штабистов, Скорпион берет в руки гитару. Поет. У него хороший голос. И почти мирный репертуар. «Мы еще сюда вернемся», – он подмигивает в паузах между песнями. Но Зеленый так не думает. Его слова оставляют после себя тяжелое молчание, как оставляют следы в пыли берцы отступающих солдат.
– Мы не скоро отобьем Дебальцево. Если это вообще в планах. Невозможно, не имея резервов, планировать наступательные операции. Невозможно силами офицеров среднего звена рисовать укрепления на карте, которые более эффективны с точки зрения обороны. И выстраивать между ними коммуникации. Наступательные действия невозможно планировать, не имея эффективных штабов. Генштаб не работает. Поэтому на сегодня Украина не способна вести наступательные действия вообще! Структура, которая в состоянии планировать успешные боевые операции, у нас отсутствует.
Меня как ведром ледяной воды окатили. И у меня вырвался вопрос. Наивный, простой и единственно возможный:
– Что же делать тогда, Зеленый?
– Делать?! – едва не взорвался он. – Я скажу, что делать. Надо менять начальника Генерального штаба немедленно, потому что не только он беда, но беда все те, кого он назначает. Абсолютно некомпетентных, непатриотичных, паркетных генералов и полковников, которые сидят в блиндажах, играют в свои карты и делают вид, что они участвуют в боевых действиях. Я всерьез думаю о том, чтобы перейти в добровольческие подразделения. «Правый сектор», «Азов» или какие-нибудь другие. Под руководством этих бездарей из Генштаба воевать не хочу и людей на смерть не поведу.
И мы начинаем говорить о том, кто, хотя бы теоретически, мог бы возглавить Генштаб и сделать успешной его работу. Вспоминаем командиров бригад. Ведь есть же среди них те, кто с самого начала на этой войне и имеет опыт успешных операций.
– А знаешь, – говорит Зеленый, – парадокс состоит в том, что когда от военных зависит будущее всей страны, то на ключевые должности нужно ставить не пятидесятилетних, а тридцатилетних. Так было в Израиле в сорок восьмом, так было в Турции за тридцать лет до того. И там и там все было на грани тяжелейшего поражения. И именно тридцатилетние командиры во главе армий побеждали противника, у которого был многократный перевес. Потому что мыслили нестандартно. Могли отказаться от шаблонов. И полностью игнорировали советы политиков.
Я пожимаю плечами. Не знаю, где же искать таких тридцатилетних. Но пессимист Зеленый оказывается оптимистом:
– Я их тоже не знаю. Лично. Но это пока. Такие люди у нас есть. На фронте сорок тысяч человек. Достаточно, чтобы найти таланты среди командиров, у которых в подразделениях дисциплина, нет пьянства, не большие потери, а на счету успешные, может быть, дерзкие операции. Наше спасение не в «Джавелинах», САУ и «Ф-16», вернее, не только в них. Нам нужны настоящие полководцы. И чем раньше они придут, тем быстрее закончится война.
Я молчу. Сектор «D», Луганский аэропорт, Иловайск, Новоазовск, Донецкий аэропорт, два блокпоста на Бахмутской трассе, теперь Дебальцево. Казалось бы, в этой невеселой топонимике войны уже должно бы появиться имя. Не мессии. Не лидера. А просто командира. Командующего. Полководца.
– Зеленый, не слишком ли долго мы ждем? Страна ждет?
Но Зеленый лишь подмигивает в ответ. В его глазах пропадают злость и усталость, он снова становится ироничным, каким и был до дебальцевского отступления.
Кстати, артразведчик остался на фронте. Значит, Зеленый, ты все же ждешь перемен!
Ненависть
Роза любила ездить в Оренбург поездом. Долгая дорога всегда давала ей возможность собраться с мыслями. Она серьезно относилась к этому процессу. Так опытный грибник, срезая белые и подберезовики, складывает их в корзинку, чтобы потом, придя домой и сняв пахнущий влажным лесом дождевик, достать свою добычу и, отделяя хорошие грибы от испорченных, любоваться формой каждого гриба. Вот так и Роза, доставая из корзинки своей памяти воспоминания, с любовью откладывала хорошие в сторону от плохих и как-то незаметно ловила себя на мысли, что наслаждается и теми и другими. Она любила человека, к которому ехала через степь, через снега, через унылые межгосударственные границы.
Роза наслаждалась ожиданием, вспоминая, как выглядит мужчина, который будет ждать ее на вокзале. Высокий и худой, с благородной осанкой, которую подчеркивало его любимое синее пальто. Огромная лисья шапка с болтающимся сзади хвостом делала его похожим на охотника из детской книжки про индейцев. Он так и называл это шапку – «зверобойка», и, хотя, приходя домой, небрежно забрасывал ее на вешалку, она знала, что к ней он очень привык. Иначе бы он не носил рыжую шапку на протяжении всех долгих зим их знакомства. И еще борода. У него была изумительная борода, в которую можно запустить длинные ногти и легонько царапать щеки любимого мужчины. Роза помнила, что совсем еще недавно борода была черной, и вот она почти вся белая.
Она говорила ему, что это не повод для грусти. Вот благородные кони, например, седеют в самом расцвете своих сил. И мало кто знает, что белый конь победителя – это просто поседевший конь. А он смеялся, потом театрально придавал лицу сердитое выражение и говорил:
– Так я, значит, жеребец?!
Роза смешно кивала головой, и он тут же обнимал ее, словно заворачивал в свои худые широкие плечи.
Она разводила лошадей под Астаной. Он под своим именем писал учебники по физике и под чужим – поэмы для толстых литературных журналов. Ну а когда литературные журналы перестали покупать, он поселился в Интернете, размещая свои стихи на поэтических форумах.
Она вспоминала, как он объяснял ей, почему Есенина следует считать новатором в поэзии, а Рождественского, наоборот, традиционалистом.
– Пойми, Есенин мыслил образами. Ты читаешь его и видишь калейдоскоп различных картин.
– Но Пушкин тоже мыслил образами. Ты читаешь его и тоже видишь калейдоскоп образов, – иронично повторяла его слова Роза.
– Роза, дитя степей широких, – улыбался он, щурясь, и глаза его становились почти такими же раскосыми, как у нее, – поэт Есенин не просто мыслил картинками, он их, как сказали бы кинокритики, монтировал, таким образом создавая новые эмоции и смыслы. Если стихи Есенина использовать в качестве сценариев, то фильмы, снятые по ним, получали бы призы на самых престижных кинофестивалях.
– А Рождественский?
– А Рождественский – это просто словесный конструктор. Поэтический «Леголэнд» для взрослых.
– Но у него же есть и про любовь.
– А не важно, о чем писать. И вообще, о любви никто лучше Бернса не написал.
Она считалась богатой женщиной. Лошади приносили больше денег, чем физика. Наверное, поэтому они встречались вот уже двадцать лет, но так и не стали жить под одной крышей. Смолоду он был рабом стереотипа о настоящем мужчине, который непременно должен зарабатывать больше своей женщины. К старости он так и не избавился от вериг детских комплексов и юношеских бравад. Она все понимала, все прощала. Сначала он говорил, что нужно дождаться, пока сын вырастет. Он воспитывал сына от первого брака и ни разу за все время их двадцатилетнего романа не рассказал, почему ушла и куда делась его первая жена. И вот сын вырос. Поступил в артиллерийское училище. Закончил его. И даже дослужился до капитана. А она все так же садилась на поезд и ехала, ехала к нему холодными степями, чтобы через месяц безграничного счастья вернуться назад. Она пыталась разобраться в себе, почему она живет именно так и не меняет ни свою жизнь, ни его. Но, не ответив на те вопросы, которые задавала себе, Роза продолжала плыть по течению извилистой реки отношений с любимым мужчиной.
Она ехала на помолвку его сына. Молодой капитан вернулся из длительной командировки. Ему дали короткий отпуск. «Женись – и назад», – сурово сказал командир артиллерийского полка. Но капитан решил не жениться, а всего лишь обменяться обещаниями верности и кольцами с невестой. А жениться уже потом. После командировки. Роза слышала, что эта командировка была секретной и опасной.
Поезд опоздал на три часа, что было обычным делом на конечной станции в Оренбурге. Мороз усиливался, но, выйдя на платформу, она по привычке удивилась, что здесь холод ощущается меньше, чем в продуваемой всеми ветрами Астане. О, вот и он! Лисья зверобойка с болтающимся хвостом мелькала среди толпы в желтом свете вокзальных фонарей. И борода, милая седая борода.
– Ты моя степная красавица, – обхватил он ее стройную талию. Для своих почти пятидесяти у нее была идеальная ладная фигура, и красное пальто, застегнутое на большие пуговицы, удачно подчеркивало привлекательные линии ее тела.
Она хотела тут же запустить свои пальцы в милую седую бороду, но не сделала этого, оставив на потом. Роза прижалась к его груди щекой, зажмурилась от счастья и улыбнулась.
Обнимаясь на заднем сиденье такси, они ехали к нему домой и произносили милые глупости. Она наслаждалась звучанием его голоса, а он просто говорил о том, что думал, а думал только о том, как приедет домой, и снимет с нее это красное роскошное пальто, и одним движением бросит его не глядя на вешалку, на спинку кресла или просто на пол.
– Как сын? – спросила она.
Он стал серьезным:
– Да так. Сама увидишь.
Сын оказался дома. Поэтому красное пальто не стали бросать на пол, а вместо этого аккуратно повесили на вешалку в прихожей.
– О, Роза! Как здорово, что ты приехала, – воскликнул молодой человек в форме артиллерийского капитана. Они с первого дня знакомства обращались друг к другу на «ты».
– Рассказывай, – потребовал капитан.
Она принялась рассказывать все то, о чем обычно говорила год за годом. Степь, лошади, новостройки в Астане, тенге, Назарбаев. Они слышали от нее это в сотый раз, но искренне охали и ахали, как в первый. В крайнем случае во второй.
– А почему ты решил обручиться с девушкой, а не сразу жениться? Ты не уверен в ней? – спросила Роза.
– Я не уверен в себе, – вздохнул капитан. И, как показалось Розе, со злостью.
– Он сейчас с Донбасса, – аккуратно шепнул его отец.
Он хлопнул в ладоши и потер их, как это делают алкоголики перед первой рюмкой.
– Ну что, братцы, за стол? С невестой будем знакомиться завтра. Ага?
Они пошли на тесную, но уютную кухню, где их ждал квадратный стол, уставленный всевозможными яствами. Все выглядело так вкусно и по-домашнему, что Розе, утомленной железнодорожной едой, захотелось съесть ну просто все. От соленых огурцов до блинов с маком, томившихся на чугунной сковородке.
– Ну, за встречу! – поторопился поднять рюмку с водкой молодой капитан.
Он резким движением отправил содержимое рюмки в горло и даже не поморщился. Отец с осуждением покачал головой, но ничего не сказал. Сын часто переворачивал в себя рюмку, не дожидаясь тостов. Не мудрено, что капитан быстро захмелел и его диалоги с легкостью переходили в монологи.
– Там полное дерьмо. Сначала мы жили в гостинице. Потом нас перевели в бытовой комбинат. Проще говоря, заводская какая-то баня. Говорят, не показывайтесь на улице, чтобы местные не знали, что вы российские офицеры. Но как не показываться? То одно нужно, то другое. И потом, глядя на одни и те же рожи вокруг себя, можно с ума сойти.
– А невеста-то кто? – спрашивала Роза, но капитан отмахивался.
– Завтра все увидишь… А там девушки делятся на тех, кто на тебя бросается, и на тех, кто в тебя хочет бросить чем-нибудь тяжелым.
– Не любят вас?
– Кто любит, кто не любит… Какая разница? А за что нас любить? – воскликнул вдруг капитан. – Вы верите телевизору, да? Нас там нет? Так вот, я вам правду скажу. Это мы обстреливаем Донецкий аэропорт. И это мы стреляем по Донецку.
Тут Роза ойкнула, а отец офицера налил себе рюмку.
– Как это вы стреляете по Донецку?
– А так.
И тут молодой человек пододвинул к себе тарелку огурцов.
– Смотри. Это аэропорт. Оливье – это Донецк. Между ними стоит моя батарея, – он поставил между оливье и огурцами заварной чайник, развернув его носиком к зеленым соленьям. – Это моя артбатарея. Она бьет по аэропорту сто двадцать вторым калибром. Сто двадцать два миллиметра. Час-два поработаем, а потом приходит новое целеуказание. И мы разворачиваем системы в сторону новых целей.
Капитан развернул чайник на сто восемьдесят градусов:
– Вот так. Что теперь перед нами?
– Оливье, – робко сказала Роза.
– Донецк, – поправил ее отец капитана.
– Молодец. Правильно, Донецк, – похвалил отца за сообразительность офицер. – И мы получаем приказ на залп в эту сторону. Я командую «триста тридцать три», и мы выпускаем рупь двадцать два по донецким кварталам.
– Сколько?
– Ну, это мы так калибр наш величаем. Чтобы проще было.
Отец хмурился. Роза смотрела на капитана так внимательно, словно пыталась запомнить незнакомое лицо.
– Получается, телевизор врет?
– Да, Роза, да! – воскликнул парень. – Телевизор и Путин врут. Мы колпашим по Донецку. Мы, а не укры. Они, наверное, тоже стреляют. Но не думаю, что они целенаправленно накрывают мирные кварталы. Они говорят, что соблюдают соглашения, а по факту просто достать не могут. Только их диверсанты заходят. Путин врет, что нас там нет. Путин врет, что мы не стреляем по Донецку, а делаем мы это для того, чтобы местные ненавидели укров. Десять выстрелов по огурцам, один по оливье! Понимаете? И все эти ужасные картинки, все это дерьмо, эта ненависть, эти жертвы, разорванные троллейбусы – все делаем мы. Все делаю я, капитан российской армии.
Роза остановилась. Ей страшно расхотелось брать с тарелки огурцы.
– Послушай, может быть, ты не вернешься туда? – робко предложила она свой вариант решения проблемы. – Ты же, наверное, доброволец?
– Доброволец, – грустно усмехнулся он. – В добровольно-принудительном порядке.
– Так бросай это все. И поехали в Астану, ко мне.
И вдруг печальная улыбка сошла с лица офицера.
– А как же мои ребята? Они ведь там. Моя батарея. Знаешь, сколько их погибло? Знаешь, сколько моих бойцов хохлы под Донецком положили?
Он внезапно стал злым. Злобным.
– Хохлы моих парней тоже пачками колпашили. Я не успевал развернуть батарею, как они давали залп по нам. У них был где-то хороший корректировщик. А еще на маршах нас, бывало, встречали их партизаны. Сволочи, как же точно они нас били! Как же я их ненавижу, нациков этих, укров!
Она попыталась найти здравое разумное зерно в его словах и сделала так, чтобы и молодой капитан его тоже увидел. Разумное, здравое.
– Послушай, это же вы к ним пришли.
– А мне это без разницы, Роза. Кто к кому и куда пришел. Все просто. Они положили моих, и я их ненавижу. Этих салоедов, хохлов, укров. Суки, свободы они захотели! Болт вам, а не свободу, поняли?!
Это он крикнул в пространство и ударил кулаком по столу так, что звякнули хрустальные рюмки.
– Ненавижу!
Отец капитана поднялся из-за стола и приподнял молодого человека за плечи.
– Так, сынок, тебе пора спать, – по-отечески ласково сказал он. – Завтра важный день.
Они остались вдвоем на кухне. Роза сложила руки на столе и пусто, бессмысленно глядела на миску с оливье. Отец капитана длинными пальцами крутил ободок рюмки. Оба молчали. Наконец мужчина прервал молчание:
– Он очень там изменился, ты видишь. Это похоже на алкоголизм. Он понимает, что делает нечто во зло себе, но не может остановиться.
Розе на мгновение показалось, что она чужая на этой хорошо знакомой кухне. Но мгновение прошло. А мужчина искал слова оправдания для сына:
– Он понимает, что неправ. И я понимаю, что он неправ. Он там убивает других людей. Он захватчик и оккупант. Сам он себя не называет оккупантом, но я знаю, что вещи иногда хотя бы мысленно надо называть своими именами.
Роза положила голову на руки. Она продолжала слушать.
– Самое для меня страшное, Роза, это то, что я готов туда отправиться. Я готов туда поехать вслед за ним. И вместе с ним ненавидеть хохлов.
– Но почему? – вырвалось у нее.
– Почему? – задумчиво переспросил он.
С полминуты он молчал. Потом продолжил:
– Все потому, что он мой сын, и я его люблю. И еще вот эта фраза, которую он произнес. Ты слышала, с какой болью и с какой гордостью он сказал, что он капитан российской армии?
Ночь была скомканной, как несвежая простыня. Ей с ним не было плохо, но и прежней легкости взаимного проникновения как не бывало. Не хватало какой-то очень важной детали, одного штриха, как будто музыкант, играя в ресторане чью-то любимую песню на заказ, внезапно остановился и не сыграл окончание. Ее мужчина этого не заметил. Он заснул, повернувшись к ней лицом, так что свет луны падал через окно и ложился благородным серебряным оттенком на седину его бороды.
Она смотрела на него и думала о том, что от любви до ненависти один шаг. И что в его случае ненависть – это форма созависимости. Он хотел страдать вместе с дорогим ему человеком, подчиняясь инстинктам, а не разуму и логике. И все, что он написал, прочитал и создал, ненависть смывала с файлов его сознания, оставляя лишь злобные животные инстинкты. Есенин, литература, поэзия, физика. Все это больше не имело значения.
Сегодня он готов ненавидеть хохлов только потому, что их ненавидит его сын. Но пройдет время, и он так же будет ненавидеть пиндосов, чухонцев, чурок. Если с ненавистью смотреть на мир, то даже улыбка любимого человека может показаться гримасой дикаря. Она ведь чурка, так? С раскосыми монголоидными глазами? Чем она лучше хохлов? Или, может быть, хуже, какая разница?
Рядом с ней лежал пятидесятилетний мужчина и тихо, довольно посапывал во сне.
Она неуловимыми бесшумными движениями собрала вещи и, прикрыв за собой дверь, спустилась на улицу. Вскинула руку перед одиноким «запорожцем» и через час была в зале вылета аэропорта. Прямого самолета в Астану не было, ей пришлось купить билет до Алматы. «Ну ничего, даже так все-таки быстрее, чем поездом», – мысленно сказала она себе и выключила мобильный телефон.
Терминатор
Поле тянулось до самого горизонта и медленно волновалось рядами золотых колосков, повинуясь малейшему дуновению ветра. Небо было чистым и безоблачным.
Он давно заметил, что синева небес в этих краях бывает разной. На рассвете насыщенной, густой. Днем белесой, как лазурный шелк, выцветший на солнце. А перед самыми сумерками небосвод – ему казалось – блестел в лучах заходящего светила, как поверхность авто модного цвета «синий металлик».
Машины он не любил. Хотя какое-то время ему пришлось поработать таксистом. Надо было заработать деньги, и как можно быстрее. Зато он любил комбайны. Ему снилось, как дед протягивает ему, подростку, руку и помогает взобраться в кабину комбайна. «Ну что, Толя, полетели?» – говорит седой бородач, улыбаясь. «Почему это полетели?» – переспрашивает Толя, а дед вместо ответа хитро улыбается и выводит комбайн в поле. Золотое море качает огромную махину на своих волнах, и дед, как взаправдашний капитан, крутит огромный штурвал комбайна. Редкие облака белеют, как нарисованные эмалью на фоне утренней синевы. Дед говорит: «Смотри» – и тянет руль комбайна на себя. Руль медленно поддается, и вот комбайн отрывается от пшеничной волны и поднимается вверх. Ух ты! У Толика захватывает дух от резкой перегрузки. Взгляд с трудом охватывает золотое море пшеницы. Оно в дальней дали смыкается с горизонтом, но чем быстрее туда летит комбайн-самолет, ведомый дедом, тем дальше отодвигается лазурный небосклон. Колючий и терпкий запах убранной пшеницы заливает все вокруг, поднимая настроение, добавляя сил. Дед подмигивает Толику: «Хочешь, научу на этой штуке летать?» И, завороженный, Толик лишь кивает в ответ. Он хочет быть комбайнером. А дед, посадив комбайн возле крыльца старой побеленной хаты, подталкивает его вперед, к дверям. Из дверей выходит бабушка и выносит глиняный кувшин с молоком цвета эмалевых облаков. И пахнет от кувшина травами.
– Толя! Толя! Проснись! – настойчиво будит его Джексон.
Толя долго лежит и смотрит в потолок. Ему кажется, что слышит он гул дедовского комбайна. Но это один за другим падают невдалеке «рупь-пятьдесят-два», снаряды калибром сто пятьдесят два миллиметра, и стены здания, в котором расположился наблюдательный пункт украинской артиллерии, гудят и вибрируют от разрывов. Реальность слишком давно и бесцеремонно вторгается в его сокровенные мечты. Уже нет ни страха, ни ненависти.
– Толя, они сюда пришли. Что будем делать?
Он сделал усилие над собой и, нехотя отогнав сон, спросил:
– Сколько их пришло?
– Двое, – ответил Джексон. – С флагом. Белым.
Здесь, на позиции, в окружении, они остались без старшего офицера, и неформальным командиром стал Толик. Его природная интуиция и уверенность в правоте Высших Сил, граничащая с фатализмом, внушала уважение товарищам. К тому же он не боялся брать ответственность на себя. А другие не боялись на него полагаться.
– С белым флагом? – переспросил Толя, хотя все сразу понял. – Держи их на прицеле, а я сейчас к ним выйду. Поговорим.
Они надежно удерживали бетонную конструкцию учебного комбината на окраине Дебальцево. Ни «Градами», ни минометами их оттуда невозможно было выкурить. «Нас выбьют отсюда только в том случае, если подтянут “тюльпаны”, но наши им этого сделать не дадут», – настраивал своих бойцов Толя. Правда, всему бывает предел. У них в избытке было терпения и патриотизма, а вот боекомплект подвел. Почти закончился. Ни патронов, ни гранат им подвезти уже невозможно. Весь город представлял собой яростно отстреливающиеся руины. Локальные очаги сопротивления, окруженные боевиками. Холодный и черствый стиль сводок сообщал о превосходящих силах противника. И вот Толик видит двух представителей этих сил, подошедших под белым флагом к распаханной площадке с переломанными, как спички, соснами, которая еще недавно была небольшим городским парком на окраине Дебальцево. Под стволами деревьев темнели зеленые камуфляжи погибших российских диверсантов. Именно за мертвыми товарищами и пришли люди под белым флагом.
– Здравия желаю! – сказал старший из двух парламентеров.
Толя держал руки за спиной, чтобы не спровоцировать рукопожатие. Парламентеры, впрочем, руки не подавали, но держали ладони так, чтобы Толе было видно: у них нет ни гранат, ни пистолетов. Он тоже решился показать пустые ладони, но сделал это ненавязчиво. Пришельцы оценили его жест. Он заметил на их лицах удовлетворенные гримасы. И только затем начался разговор.
– Мы хотели бы забрать наших «двухсотых», – сказал грузный человек в кубанке и с седой бородой. Он показал на сломанные стволы деревьев, под которыми лежало несколько тел в российском «цифровом» камуфляже, накрытых белыми простынями.
– Забирайте, – спокойно сказал Толя, глядя в глаза противнику. Его люди были все на месте, все целы, и от осознания этого факта настроение у артразведчика было на высоте. Для поднятия духа этого было достаточно.
– А вы представьтесь сначала, – слегка агрессивно подал голос из-за спины бородача другой россиянин, моложе и злее, чем его старший товарищ в кубанке.
Толя не испугался. Две недели выживания под «Градами» и пушечными снарядами полностью выжгли из его сердца многие чувства, оказавшиеся лишними на этой войне. В том числе страх.
Человек с седой бородой повернулся к тому, второму, и осадил его:
– Ты не стартуй так. Видишь, они накрыли тела наших людей. Значит, не глумятся над воинами, уважают.
Толя отметил про себя, что старший парламентер, тот, который с бородой, чем-то похож на его деда. И сделал вид, что не заметил сказанной фразы. Впрочем, она его почти не касалась. Нужно было продемонстрировать уверенность в себе.
– Вы первые пришли. Вам надо. Значит, вам первыми представляться, – спокойно ответил он агрессивному парню.
Тот хотел было что-то возразить, но бородач в кубанке поднял руку и охладил пыл товарища.
– Не вопрос. Представлюсь, – согласился обладатель кубанки. – Зотов Владимир Петрович. Атаман. Пятьдесят восемь лет. Раньше работал в префектуре, в Москве, потом вернулся на родину, в станицу. А сюда приехал по зову сердца.
– Анатолий Адамовский, боец двадцать пятого батальона, – отрекомендовался Толя.
– Просто боец?
– Просто боец. Да, кстати, а чего сердце именно сюда позвало?
Человек, назвавшийся Зотовым, не уловил нотки иронии в Толином голосе.
– Я видел, что сюда идут бандеровцы, понял, что они творят в Славянске, и я не мог оставаться в стороне. Надо было любой ценой остановить фашистов. Конечно, донецким надо было между собой разбираться, но русский язык нельзя было трогать. Мы ж один народ.
Толя перевел взгляд на разбитый пятиэтажный дом за наблюдательным пунктом. Ему стало смешно. О фашизме он слышал много раз от русских пленных, которых, предварительно накормив и напоив, передавали спецслужбам. «Что они там курят, в этой России?» – искренне удивлялся его товарищ Джексон тупому упрямству, с которым тысячи россиян шли в Украину убивать своих соседей. А «борода» в кубанке продолжал как по писаному:
– Ты понимаешь, я сегодня двоих детей вывозил из подвала. Просидели там под снарядами. Разве это можно допускать?
Толя внимательно посмотрел в глаза парламентеру.
– Ты знаешь, Владимир Петрович, – сказал он, – все, что ты видишь вокруг, сделали ваши снаряды. А здесь, в Дебальцево, я из подвалов вывез десятки детей. И их родителей. Они сидели под вашими снарядами. Под вашими, атаман, а не под нашими.
Спутник атамана пританцовывал на месте от желания закончить этот разговор, но Зотов был очень любопытен и говорлив, как любой милицейский чиновник на пенсии.
– Ладно, Толя, давай договоримся, – почти дружелюбно сказал Зотов. – Ты своим передашь, чтобы не били по жилым кварталам, а я своим. Хорошо?
– Хорошо, – пожал плечами разведчик. Он и так знал, что в Дебальцево украинская артиллерия не стреляет по районам, где есть мирные жители.
– А ты сам откуда? – подал голос второй парламентер.
– Я-то? – улыбнулся Анатолий. – Я отсюда. С Донбасса. Километров тридцать от Дебальцево. И я, наверное, бандеровец. Только я никуда не уходил. Я был здесь, и восемь поколений моих предков были здесь. Это вы пришли. Так-то оно получается.
– Так ведь бандеровцы… – начал было атаман.
– Распинают детей и насилуют монтажной пеной старушек? – перебил его Толя. – Знаешь что? Езжай к себе в Москву, меняй паспорт и приезжай к нам через погранцов в Чернигове, а я тебя встречу на переходе. И потом отвезу во Львов. Узнаешь, какими бывают бандеровцы, как вкусно готовят в кнайпах и как любят принимать гостей. Может, поменяешь мнение.
– Это вряд ли, – сказал из-за спины атамана его спутник.
«Ну, вряд ли значит вряд ли», – подумал Толя спокойно.
– Да, есть и такой вопрос, – сменил тему атаман. – У вас наш человек. Пленный. Отдадите?
– Отдать не отдадим, а поменяем. У вас тоже есть один из наших.
– А фамилия? – спросил второй и достал карандаш и блокнот. «Он у атамана, похоже, вместо начальника штаба», – оценил Толя. И сказал:
– Позывной Горняк.
– Понял, – кивнул «начальник штаба». Он, судя по всему, знал о существовании человека с таким позывным.
– Вы хоть с нашим обращаетесь нормально? – спросил атаман.
Толя подумал об испуганном парне, который отсыпался в каморке под охраной Джексона. Джексон только что сменил другого часового, и Толя даже позавидовал военнопленному, чье право на здоровый сон никто не собирался ограничивать.
– С ним порядок. Женевская конвенция и все такое. Найдете Горняка, и мы отдадим вашего. Сразу же.
– Понял, – кивнул бородатый атаман. – Ну, до встречи. Руки, думаю, жать не будем?
Фраза прозвучала как легкая шутка, но Толя даже не улыбнулся, пошел ко входу в здание, на втором этаже которого двое бойцов держали под прицелом гостей.
– Погоди, Толя, – остановил его атаман.
– Что еще?
– Я знаю этого вашего Горняка.
«А я и не сомневался в этом», – мысленно сказал себе Адамовский. Конечно, и атаман, и его помощник были в курсе.
– Там с этим Горняком не все в порядке.
И Толя застыл на месте. Он давно решил сделать все возможное, чтобы вытащить побратима из плена. Но предел возможностей на войне всегда ограничен непредсказуемостью ситуации.
– Понимаешь, он у бородатых. У кавказцев, – сказал атаман так, как будто это объясняло невозможность обмена. Толю это объяснение не устраивало.
– Ну и что, что он у бородатых? К чему это ты? Говори скорее, – торопил собеседника Толя.
– Они ему пальцы отрезали. Восемь. Говорят, чтобы больше не стрелял. Оставили только два. «Чтобы поссать мог», – это мне их командир сказал.
– Понятно, – выдавил из себя Толя.
– Но вы же с нашим так не сделаете? – спросил «начальник штаба», выйдя из-за спины атамана.
Толя внимательно посмотрел в его глаза. И представил себе, каким его сейчас видит этот чужак. Худощавый человек маленького роста с многодневной седой щетиной. В грязном камуфляже. Типичный фашист. Жестокий укр.
– Нет, – ответил Толя резко. Как отрезал. И вернулся к своим, в здание.
– Я тебе верю! – крикнул Зотов напоследок.
Снайпер с третьего этажа из разбитого окна с обгорелой рамой наблюдал за тем, как россияне сносили тела своих товарищей. Белые и темные пятна мелькали между сломанных деревьев.
Ночью по ним опять била артиллерия. Здание вибрировало и, казалось, готово было рассыпаться в любой момент. Но Толя был спокоен. Он знал, что бетон выдержит и прямое попадание тяжелых снарядов. Джексон на крыше наблюдал за разрывами и очень точно сообщал координаты батарей противника.
– Ох, ні фіга собі! – сказала радиостанция его голосом и замолкла.
– Джексон, где ты? – крикнул Толя, нажав тангенту. Радиостанция не отвечала. Тогда Толя решил надеть бронежилет и подняться на крышу, туда, где сидел Джексон. В тот момент, когда он толкнул перед собой дверь, радиостанция снова заговорила:
– Пряме попадання! Ще плюс три дірки у нашому даху!
– Джексон! Немедленно вниз! – закричал Толя в радиостанцию.
– Та нічого, дядя Толя, я ще тут побуду. Воно ж двічі не прилітає. Ти ж знаєш.
Толя слушал эфир. Сначала взрывы доносились с улицы, а потом радиоэхом звучали в динамике. «Очень интересный эффект, – думал Толя. – Если вдруг убьют, то жалко будет работу немецких врачей».
И он вспомнил прошлую зиму и собственную кровь, заливавшую его одежду.
В феврале четырнадцатого боли не было, только слабость. Он с сотнями других, отчаянных и отчаявшихся ждать, шел вверх по Институтской. Он был полон решимости добиться перемен. За спиной пылала кострами площадь, само название которой обещало, что долгожданная свобода близко. Стоило лишь сделать один рывок – вперед на подъем, – и настанет день добра и справедливости. Они шли вперед, а люди в черных формах, сдерживавшие волю протеста, отступили. И он бежал, вперед, вверх.
Рядом с ним, прикрываясь деревянным щитом, двигался мальчишка лет восемнадцати. Страх и возбуждение играли красными оттенками на его щеках, блестели озорным огнем в его глазах. И тут Толя увидел, как возле его ног начала подниматься разрывами земля. «Да это же по нам стреляют!» – догадался он еще до того, как до разгоряченного адреналином сознания докатились звуки выстрелов.
Толя увидел мусорный бак. Жестянка, конечно, но и она могла спасти от пуль. Он схватил возбужденного юнца – одной рукой за шиворот, другой за щит. И потащил за жестяной контейнер.
– Давай сюда! Быстро!
Мальчишка не стал сопротивляться. Но Толя не успел его втянуть за укрытие. Он почувствовал удар в левую руку. Сильный. Боль была не резкой. Скорее, глухой. Но почему стало так темно в глазах? Толя хотел посмотреть на свою руку, но не смог ее поднять. Он с удивлением отметил, что не сидит за баком, а лежит на земле. И только тогда, когда синий лоскут неба над ним перекрыла голова юноши с раскрасневшимися щеками, он перевел взор на левую руку. Куртка была разорвана. Из дыры вытекала темно-красная кровь. И тут Толя почувствовал настоящую, невыносимую боль. Чужие руки, незнакомые лица, красные кресты на куртках и мелькающие черные ветки – все вокруг завертелось в невероятном калейдоскопе. К нему подошел священник. «Отец Роман», – услышал раненый его имя. И заскорузлая рука легла на его лоб. «Он точно сельский священник. Батюшка, видно, пашет на своем огороде», – мелькнула странная для раненого человека мысль. Вспышка. Еще одна. Это щелкал фотограф в велосипедном шлеме и желтых тактических очках. «Все будет хорошо», – сказал врач. И тогда Толя отключился.
Ему повезло и не повезло одновременно. Руку спасти, казалось бы, невозможно. Кости предплечья были полностью раздроблены. Отечественная медицина подняла руки, но активисты, помогавшие революции, не сдавались. Толя попал в число пяти «майдановцев», которых отвезли в Германию. И там немецкие хирурги вставили пациенту металлическую пластину вместо кости. Толя лежал в одноместной палате и с удивлением разглядывал рентгеновский снимок своего плеча. Железяка, прикрученная к суставу обычными шурупами. Неужели рука будет действовать?
– Доктор, у меня рука будет работать? – спрашивал он веселого немецкого хирурга в круглых очках.
Тот и без переводчика понимал смысл вопроса.
– Конечно, – говорил эскулап уверенно. – Вы, уважаемый Анатоль, будете, как этот… из фильма… терминатор! Железный человек.
И смеялся, своим хорошим настроением вселяя в Толю невероятную уверенность в том, что все будет хорошо.
Правда, при выписке Толе рассказали о перечне ограничений. Нельзя делать резких движений рукой. Нельзя носить тяжелые предметы. Нельзя давать руке серьезные нагрузки, даже после того, как костная ткань нарастет на металле титанового штифта и шурупов. В общем, ограничения во всем. И он поехал в Киев.
А в Киеве расслабленный народ не заметил, как началась война. Нормальный среднестатистический человек войны, ясное дело, не хочет. Киев – город среднего класса. Средний класс в массе своей готов жить в новой стране, а умирать не готов, и поэтому с начала войны так не хватало людей в армии. Толя видел, как самые лучшие и честные люди уходили на фронт. Хотя и фронта тогда не было. Восток загорался гневным пламенем дикого протеста против всего украинского. «Донбасс никто не ставил на колени! Донбасс порожняк не гонит!» Он терпеть не мог все эти милые местные прибаутки. Он помнил, что восемь поколений его предков жили на этой земле и говорили на певучем языке тогда, когда не было здесь шахт и заводов и когда еще не огораживали солдаты в островерхих буденовках села, отбирая до последнего зерна все, что хранили его прадеды в амбарах. Синее небо и золотое поле. Его сердце кровоточило и болело гораздо сильнее железной руки.
Он жил в палатке на Майдане, который изменился до неузнаваемости. Его прекраснодушные товарищи отправились на восток, с оружием и безоружными, и до него доносились рассказы об их подвигах и потерях, а люди в камуфляже вокруг него были незнакомыми. Они громко кричали лозунги о смене страны, но могли изменить собственное сознание лишь при помощи водки. Потом бродили по площади, выясняя отношения друг с другом, с милицией и со случайными прохожими. Ни одного их этих «героев революции» не было на Майдане в момент расстрела, в этом Толя мог бы поклясться. Он понимал, что результатами революции часто пользуются негодяи, но не думал, что они так скоро появятся. И вот он решил отправиться к тем, кого хорошо знал. К своим товарищам. На фронт. Толя знал, что там, под огнем, ежедневно рискуя получить сепаратистскую пулю, он будет на своем месте. Брезент палатки давно уже пах не костром, а миазмами алкогольного дыхания и нестиранного белья. А как же рука? А рука уже двигалась. Толя даже поднимал кое-какие тяжести и делал зарядку, так что мышцы, закрепившиеся за титановую пластину, понемногу набирали силу. На востоке был его дом. Его поля.
Они превратились в поля сражений. Спираль войны раскручивалась, виток за витком, поднимая все выше и выше градус страдания. Толя шел к себе, на родину, на восток. Но чем ближе он подходил к дому, тем дальше дом отодвигался от него.
Он стал разведчиком. Не агентом, сидящим в тылу врага и раскрывающим тайные планы противника в кафе с тремя слониками на стеклянной двери, а настоящим полевым разведчиком. Он почти ежедневно подходил к боевым порядкам противника, рискуя быть обнаруженным и схлопотать пулю. «Пуля дура, – шутил он, едва заметно улыбаясь. – А здесь мой дом. Мне мои поля помогают возвращаться. Целым и невредимым». И он снова водил группу в рейд.
Однажды он повел в тыл противника своих разведчиков. Главное качество участника таких рейдов – это умение стать незаметным. Никто из товарищей Толи не был слишком заметным человеком. Никто не выделялся яркими чертами лица или выдающейся физической силой. Они были выносливыми людьми, это так. Но внешне незаметными. Если бы внимательный наблюдатель находился рядом с Толей в толпе других людей, его взгляд скользнул бы по лицу разведчика, и только. Так вот, осенью он взял с собой в рейд молодого добровольца. Физически крепкого, чрезвычайно выносливого. Смелого. Мастера рукопашного боя и любимца батальона. Звали его Сергей. Он давно просился в разведку, но Толя постоянно ему отказывал. Невнятное чувство тревоги одолевало его всякий раз, когда Сережа наседал на него. Оснований для отказа, казалось бы, не было. Сергей и впрямь неплохо подготовлен для глубинных рейдов. «Подготовься еще немного», – убеждал его Толя. Боец, улыбаясь, соглашался. Любой на его месте после третьего отказа оставил бы тщетные попытки стать разведчиком. А этот оказался упорный. И у него хватило сил сломить внутреннее сопротивление Толи.
Они нарвались на засаду в пяти километрах от окраины Дебальцево. Почти дошли до «зеленки», когда Толя заметил черные тени, мелькавшие среди деревьев. Рация не работала. Командира разведчики видели плохо. Толя хотел было свистнуть, чтобы его люди поняли – нужно прятаться или убираться отсюда. Но, не дождавшись Толиного свиста, над головой засвистели снайперские пули. Группа была раскрыта. Но при этом и украинская группа раскрыла своих противников, российских диверсантов в черной форме. Прятаться было негде. Надо было падать там, где стоишь. Залегли мгновенно.
– Они уходят к посадке, – сказал Сергей.
Толя так не думал.
– Иваныч, дай мне тепловизор, – попросил разведчик товарища, такого же бывалого и опытного, каким был сам. Иваныч, как и Толя, прошел Майдан, но пули на Институтской пощадили его.
Иваныч протянул прибор. В их группе тепловизор был на вес золота. Бойцы берегли его, а он берег их жизни. Толя заглянул в видоискатель и увидел горящие белым светом силуэты на темном фоне посадки. Они двигались, казалось бы, хаотично. Но если приглядеться, то в этом движении наблюдалась определенная систематичность. Они, эти светлые фигурки, не сокращали дистанцию между собой так, чтобы не оказаться на линии огня. «Тренированные ребята», – отметил про себя Толя, насчитав не менее дюжины бойцов.
– Они двигаются в нашу сторону, – вырвалось у Сергея.
Толя лишь досадливо поморщился. Ну как сказать этому горячему и напористому парню, что лучше сейчас помолчать?
Невдалеке замигал желтым огнем ствол пулемета. Над головами неприятной мелодией засвистел воздух.
– Дядя Толя, я вижу одного. Я сейчас его возьму! – И Сергей поднялся над землей.
– Не лезь! – крикнул Толя, но Сергей, не дождавшись ответа, уже рванул вперед.
Внезапно Толя сообразил, что это была попытка спровоцировать их, чтобы определить, кто где находится. Как говорят разведчики, вскрыть огневые точки. Он хотел остановить Сергея. Набрал полные легкие, чтобы крикнуть: «Назад!» Перекричать ветер. И опоздал. Эти люди в посадке на самом деле были профи. И у них на группу было несколько винтовок с прицелами, работающими по принципу тепловизора. Сергей хотел вскинуть автомат, чтобы открыть огонь по пулеметчику, и для этого привстал на одно колено. Он не успел ни выстрелить, ни вскрикнуть. Снайпер прятался в «секрете». Он работал в паре с пулеметчиком. Патрон был настолько мощный, что от пули не смог бы спасти даже кевларовый шлем, который молодой разведчик и так не любил одевать на боевые выходы. И когда Толя увидел, что в его группе одним бойцом меньше, он отдал команду сворачиваться и возвращаться на свои позиции.
Сергея они несли на себе. Скорбный груз перекладывали с одних плеч на другие, приговаривая «Осторожно, осторожно, прости, брат!», как будто Сергей что-то мог простить. Двигались почти незаметно, стараясь быть бесшумными, насколько может быть бесшумной обнаруженная разведгруппа. Шли, сохраняя дистанцию между бойцами. С каждым днем, с каждой каплей крови, потерянной на поле боя, они становились все опытнее. Ненависть к врагу уходила из их сердец, но вместо нее сердца заполнял холодный расчет, единственный надежный помощник в поединке с гораздо более мощным противником. Толя вдыхал запах осеннего поля. Он пьянил разведчика и тем самым отвлекал от мыслей о погибшем товарище. Нога ступала по влажной ниве, уходя по щиколотку вниз, и он думал о том, что скоро поле накроет снегами и наступит время отдыха для земли. А Толе некогда отдыхать. До тех пор пока не окончится война. И всякий раз, когда его спутники говорили мертвому товарищу «Извини, братан!», дядя Толя чувствовал, как болит его покалеченная на Майдане рука. А может, болело еще глубже, в самом сердце.
Тело Сергея лежало за старой школой, которая служила разведчикам казармой. К нему подходили попрощаться братья по оружию. Темное небо пересекали трассеры. Со всех позиций, где стояли украинские войска вокруг Дебальцево, был открыт огонь. Но не по врагу, а вверх. То тут, то там вспыхивали огни выстрелов. В этот момент бойцам было абсолютно все равно, что сепары на той стороне могут обнаружить огневые точки. Донбасская ночь рассыпалась на части. Трассеры указывали дорогу в небо уходящей душе. «Хватит, ребята, помянули», – скомандовал по рации командир роты, и через несколько секунд над холодной степью снова повисла ночная тишина. Звезды равнодушно смотрели на землю. Да и как смотрели? Ведь Земля – это песчинка в космосе, и его масштабы слишком велики, чтобы звезды замечали страдания обитателей этого микромира на окраине Вселенной. Толя сказал себе, что будет помнить Сергея, и слово он умел держать.
Когда разведчик вернулся в укрытие после переговоров с атаманом Зотовым, он понял, что Дебальцево украинцам не удержать. Он вспомнил мертвого Сергея, чья смерть никого не спасла и врага не остановила, и попробовал со стороны посмотреть на живых товарищей. Отстраненным взглядом досужего наблюдателя. Иваныч, занявший позицию со снайперской винтовкой возле окна, ждал команды. Он не выпускал казаков – или кем там они были на самом деле? – из поля зрения, внимательно следя за ними сквозь оптический прицел. Джексон лежал на крыше с биноклем, считая артиллерийские разрывы и хладнокровно докладывая о возможных координатах вражеских батарей. Сен-Жермен вымерял на карте координаты и сбрасывал их в штаб.
Толя связался с командиром группы артразведки.
– Ко мне только что приходили русские с казаками. Казаки, правда, тоже русские, – сообщил Толя начальнику. Тот, помолчав с минуту, переспросил:
– Зачем приходили?
– Забрать своих «двухсотых». Они у нас перед наблюдательным пунктом лежали. Семь тел. Ближайшее на дистанции сто пятьдесят метров.
Радиостанция зашипела помехами. Оба – и Толя, и его командир – знали, что сейчас их слушают чужие.
– Скажи, а что ты думаешь по ситуации? – услышал Толя голос командира.
Адамовский давно разучился впадать в истерику и при этом приобрел умение реально оценивать обстановку. Очень важное свойство на войне.
– По ситуации. Между мной и Новогригорьевкой вклинивается батальонно-тактическая группа россиян. В подвале депо диверсионно-разведывательная группа. Они там уже несколько дней. Закрепились, короче говоря. Со стороны центра города по мне бьют минометы. Похоже, «Васильки». А «Грады», ты знаешь, уже давно сюда насыпают.
Радиостанция опять замолчала. Толин командир думал. Но не очень долго.
– Слушай сюда. Главное – качество работы. Принимай решение самостоятельно. Качество. Ты понял?
Толя вздохнул.
– Плюс, – произнес он, подтверждая, что понял.
Они знали, что их радиостанции на прослушке. И, кроме того, Россия подогнала под украинские позиции очень мощное оборудование радиоэлектронной борьбы. Противник мог сутками напролет слушать всю телефонную связь украинских солдат и офицеров в Дебальцево. Тем более это касалось ключевых наблюдательных пунктов, на одном из которых Толя оказался за старшего. И вот разведчики разработали систему кодовых словечек. Направление, время, названия используемой на поле боя техники – все имело свой шифр. В их лексиконе невинное слово «качество» обозначало «отступление». Причем не просто, а со сворачиванием всех позиций.
Отступать Анатолию не хотелось. Здесь, на окраине Дебальцево, он провел несколько месяцев. Наблюдательный пункт стал его домом. Среди местных у разведчика были друзья. А один из его людей собирался взять в жены симпатичную молодую женщину, которая жила в пяти минутах ходьбы от позиции. И когда короткая прогулка на свежем воздухе превратилась в опасный квест с риском попасть под обстрел, солдат вывез свою невесту из города.
Город спешно покидали те, кому было невмоготу прятаться в подвалах под обстрелами артиллерии. Странным образом были устроены люди в городе. У многих на стороне боевиков, называвших себя то ополченцами, то казаками, то вооруженными силами ДНР или ЛНР, были близкие родственники. Их, людей, пытавшихся успеть на социальный лифт внезапно открывшихся возможностей, здесь считали своими. И то, что в них стреляют «свои», воспринималось абсолютно нормально.
– Вы бы ушли отсюда, – говорили они украинским военным, – и наши перестали бы по нам стрелять.
Звучало абсолютно безумно. «Свои», то есть ополченцы, несли сюда смерть. Но их ждали, как принято говорить, с хлебом-солью. Город жил благодаря украинским военным. Но их мечтали прогнать. Город, как самоубийца, подсознательно стремился к смерти. Коллективное безумие было неизлечимо.
Толя был и свой, и чужой одновременно. Он не хотел участвовать в массовом помешательстве. Просто не мог. Восемь поколений его предков, поливавших тяжелыми каплями селянского пота эти степи, не давали ни права, ни возможности сойти с ума вместе с миллионами людей. Его корни были здесь. Они держали дерево его жизни. Иногда он задумывался, сомневаясь в собственной правоте. Но всякие сомнения исчезли, когда однажды он наблюдал за эвакуацией беженцев из Дебальцево. От центральной площади, возле казенного серого здания городской управы.
В город зашли два конвоя автобусов. Один с украинской стороны, под охраной военных. Другой, из подконтрольного боевикам Донецка, прибыл в сопровождении новеньких машин с надписями «Полиция ДНР». Дюжина огромных автобусов шла разноцветной колонной и останавливалась возле развалин, чтобы журналисты, пристроившиеся к веренице, могли сделать живописные кадры. Ведь это так наглядно иллюстрирует избавление от страданий. Эти ДНРовские машины все же разрешили запустить в Дебальцево. Для Толи факт присутствия боевиков во время спасения людей стал еще одним признаком грядущего отступления из города.
Но тут обнаружилась интересная закономерность. Из семисот человек, пожелавших покинуть Дебальцево, лишь полсотни согласились ехать на территорию, подконтрольную боевикам, и «полицейским» из дюжины автобусов не удалось наполнить даже один. А остальные несколько сотен людей вместе со своими нехитрыми пожитками набились в скромные потертые «коробки», направляющиеся вглубь украинской территории. Беженцы, сделавшие свой выбор в пользу материковой Украины, могли ненавидеть ее, наверняка у них были родственники, которые стреляли в украинских солдат. Но, занимая места в украинских автобусах, они делали выбор в пользу стабильности и мира. Свой личный выбор. И Толя Адамовский это понял на свой лад. Как хороший знак.
Как только две колонны разошлись в разные стороны, с новой силой начались обстрелы. Противник методично окружал позиции украинцев в Дебальцево. Да и как могло быть иначе, если в городе и на окраинах оставалось не больше трех тысяч военных, на которых надвигалась пятнадцатитысячная армада, оснащенная новеньким российским вооружением?
Чеченцы, осетины, буряты. Кого только не было в рядах армии ополченцев. С криками «Аллах акбар» сторонники «русского мира» взяли штурмом отделение милиции. Несколько часов спустя боевики сумели захватить железнодорожный вокзал. Город переставал быть украинским по частям, как разум пораженного страшной болезнью человека терял контроль над остальными органами. Вот ноги отказываются ходить. Вот перестают шевелиться пальцы на руках, а потом повисают беспомощными плетьми руки. Но голова оставалась светлой до конца. «Качество». Это слово было как приказ. Мы должны уйти.
На крыше Джексон, наблюдая за разрывами, не выпускал телефона из рук. Он звонил друзьям, рассказывая о том, что видит вокруг. Толя разрешал ему звонки, понимая, что это, возможно, способ не сойти с ума. Нестабильная телефонная связь была единственной ниточкой, связывающей окруженных людей со спокойным внешним миром.
– Что ты видишь, Джексон? – спрашивал наблюдателя друг в телефонной трубке.
– Я вижу, как попали в соседний дом. Вот еще одно попадание. Ты помнишь, ты был у нас осенью? Рядом пятиэтажка. Так вот, в нее попали.
– До вас не долетело, друже? – спрашивал голос из спокойного мира.
– Нет, пока все в порядке, – смеясь, ответил Джексон, но тут в воздухе послышался резкий свист. Так обычно на парадах свистят ракетницы фейерверка, выпущенные в небо, чтобы распуститься в нем огненными цветами. Свист был предвестником «Града», и у Джексона оставалось всего лишь несколько секунд, чтобы найти укрытие. Он вскрикнул и выронил телефон, откатываясь в сторону вентиляционной трубы. Над трубой был козырек. Ненадежная, но единственно возможная защита. Телефон остался на просмоленной поверхности крыши.
– Джексон! Джексон! Отвечай! – кричала телефонная трубка.
Джексон лежал под козырьком, слушая, как падают кассеты. Громкие звуки разрывов приближались все ближе, одна из кассет разорвалась прямо возле здания, обсыпав Джексона бетонной крошкой и штукатуркой.
– Ох, елки-палки! – воскликнул наблюдатель, все еще слушая воздух. Он сообразил, что залп закончился и больше ничего в сторону наблюдательного пункта не прилетит в ближайшие несколько минут. Тогда Джексон нашел трубку, безумно вопившую голосом далекого товарища.
– Друже, не хвилюйся, – спокойно произнес Джексон.
– Как же мне не волноваться! – сказала телефонная трубка. – Я слышал твой крик, а дальше лишь грохот разрывов. Это по вам так валили?
– Так, по нам, – как можно спокойнее подтвердил Джексон. – Але, знаєш, друже, що довше ми тут сидимо, то більше я розумію, що ми стаємо абсолютно безпорадними. Ми даємо координати ворожих позицій, а наша артилерія мовчить. Цьому нема пояснення. Наразі, в мене.
Объяснение было у Толи. Он знал, что большая часть украинской техники вышла из строя. Стволы, давно выработав свой ресурс, не менялись. Артсистемы отказывали после нескольких выстрелов. А вражеская армада работала смертельной каруселью. Одни системы, отстреляв боекомплект, возвращались в тыл, другие становились на их позиции.
Надо было уходить. Когда Джексон, поговорив с товарищем, вернулся с крыши, Толя решил его не менять. «Уходим», – скомандовал он своим людям. Они не долго думая принялись собираться в путь. Всего несколько километров до безопасной зоны, но их еще нужно было суметь пройти.
– Что берем, Толя? – спросил командира Иваныч.
Толя подумал и сказал:
– По паре банок консервов. Литр воды. И чтобы у каждого была аптечка. Бинокли. Радиостанции. Самое главное. Боекомплект, как можно больше. И вот что, Женя, – сказал Толя Джексону, назвав его не по позывному, а по имени. – Ты пленного отпусти.
– Як відпустити? – удивился Джексон. – Він же про нас все розкаже.
– Не успеет. Нам он уже не нужен. Меняться они не будут, им не до этого. Им надо нас отсюда убрать как можно быстрее, это и так понятно.
– Ні, командире, я його не відпущу просто так. Нехай сидить у каморці, поки його свої не звільнять.
Толя не раздумывая согласился.
– А що робити з «Фаготом»? – подал голос Джексон.
– Подорвать, – пожал Толя плечами, как будто это было нечто само собой разумеющееся.
Через три минуты на крыше раздался негромкий взрыв. А еще через три бойцы грузились в пробитый осколками микроавтобус без стекол, единственный транспорт, который можно было завести.
Разведчики двигались по окраине Дебальцево в расчете пробиться к «Поляне», условленному месту сбора, где формировались колонны разных подразделений, пытающихся пробиться из кольца. Они проезжали мимо поворота на Новогригорьевку, когда Иваныч увидел людей с оружием.
– Движение! Справа! – крикнул он, и Толя схватился за бинокль.
На рукавах «зеленых человечков» он рассмотрел белые ленты. Чужие.
– Это сепары! – крикнул он. – Дави на газ, – скомандовал Толя водителю, но это было лишнее. Боец за рулем выжимал из «коробки» все возможное и невозможное. Остальные разведчики прикладами превращали остатки пробитых стекол в хрустящую крошку. Они спешили, пока их не обнаружили. Но их обнаружили.
Толя услышал шум двигателя. За ними на всех парах мчался бэтээр с людьми на грязной броне. «Зеленые человечки» орали на незнакомом языке и стреляли во все стороны.
– Это чечены, кадыровцы! – воскликнул Толя. – Будут с нами бодаться до последнего, ребята.
По жестяным бортам автобуса ударили пули, прошивая их с легкостью дырокола, пробивающего стопку канцелярской бумаги.
– Не будут, – спокойно ответил Иваныч, вскидывая свою СВД. Он нажал курок. Видно было, что выстрел оказался точным. Пуля вошла в резину колеса. Но погоня не прекратилась. Колес у бэтээра было восемь. Минус одно не составляло большой проблемы. И тогда Джексон вскинул трубу «мухи», которую взял с собой. Граната, выпущенная из трубы, с шипением полетела в сторону преследователей. Толя услышал хлопок и взрыв. Выстрел пришелся как раз по тому колесу, в которое попал Иваныч, но граната смогла остановить бронетранспортер. Несколько «зеленых человечков» со страшными криками слетели на землю с брони. Что с ними происходило дальше, Толя не стал выяснять. На это просто не было времени. Главное для него – надо успеть к месту сбора.
И он успел. Но то, что он увидел, его, повидавшего многое на этой войне, шокировало. Лагерь горнопехотной бригады на местном жаргоне называли «Поляной». Он был полностью разбит. То тут, то там, возле блиндажей, лежали тела погибших, и солдаты, пытавшиеся сбиться в колонны, часто спотыкались о неподвижных товарищей.
– Живые! – раздавались крики. – Артдивизион, кто есть живой! Выдвигаемся!
Толе вдруг стало не по себе. Не от страха за собственную жизнь, а от мысли, что и он мог бы лежать на холодной промерзшей земле, мешая другим бежать от артобстрелов.
Земля грохотала, рассыпаясь мерзлыми комьями, когда ее грязно-белую кожу вскрывали воронки новых взрывов. Из-под бревенчатого потолка блиндажа, прорезанного очередным вражеским снарядом, доносились крики раненых. Они молили о спасении, но многие не успевали дождаться помощи. И живым нужно было думать о живых.
– Семь «коробок» пойдет по расписанию! – сказала радиостанция интонацией командира бригады.
По расписанию. Значит, около восьми вечера, через полтора часа после того, как окончательно стемнеет и появится шанс уйти, пробиться к своим. В это время колонны машин можно будет засечь только с помощью тепловизора.
– Пусть мои «филины» тоже уходят, – услышал Адамовский скрипучий голос своего вышестоящего офицера.
Речь шла об артиллерийских наблюдателях.
– Плюс, – выдохнул комбриг.
Артиллерия противника валила по «Поляне» изо всех калибров. Толя и его товарищи лишь успевали нырять в блиндаж, который, к счастью, оставался целым. Время перетекало очень медленно, как замерзшая водка из бутылки в стакан.
– Все, ребята, пойдем! – скомандовал Толя, когда колонна была готова к выходу. Пять «Уралов», БМП и бронетранспортер, выключив фары, готовились вывозить в темноту и неизвестность груз человеческих жизней, которые так не хотели стать скупой статистикой потерь войны за независимость. Первыми погрузили раненых. Одни стонали, другие посмеивались и балагурили, стараясь хотя бы показной бравадой поддержать товарищей. Третьи хмуро молчали.
– Командиры! Немедленно разведите своих людей по «коробкам», – кричал незнакомый майор.
– Что делать с «двухсотыми», товарищ майор? – тихо спросил его молодой паренек с перевязанной рукой.
– Не знаю. Задай себе этот вопрос, – нервно произнес офицер. Ни паренек, ни другие солдаты этого вопроса больше не задавали. Ни себе, ни другим.
Толя подошел к майору и настойчиво спросил:
– Ты, майор, знаешь, как пойдут машины?
– Конечно, – ответил тот. – Через Лозовое.
– Я не про это, – поморщился Толя. – С этим мне все ясно. Я про то, кто пойдет первым, а кто будет замыкать конвой.
Послышался свист. Толя вместе с майором нырнули под грузовик. Разрывы мин слышны были совсем рядом. Толе показалось, что осколки рассыпались по правому борту грузовика. Но стонов он не услышал. Значит, все невредимы.
– Командуй, – сказал он майору, чувствуя на щеке тяжелое дыхание испуганного человека. – Надо ехать. Как стоим, так и надо ехать. Быстрее.
Колонна двинулась вперед. Толе казалось, что машины мчатся с предельной скоростью. Зимний степной ветер обжигал холодом его лицо. Его машина ехала наобум. Впереди рвал воздух двигатель бронетранспортера и еще одного грузовика. Где-то рядом рычал мотор боевой машины пехоты. Водители давили на педаль так уверенно, словно у каждого был тепловизор или в крайнем случае прибор ночного видения. Но это была лишь иллюзия уверенности. Просто каждый, кто пытался вырваться из котла, хотел одного. Выжить и дотянуть до своих.
Ночь была звездной и прозрачной. Это хорошо: путь можно было рассмотреть и при выключенных фарах. Но плохо было то, что цепь уходящих машин видел противник. Звезды горели стабильно и равнодушно. Но вот справа замерцали прерывистым огнем точки. Свет дошел до бойцов раньше, чем звук работающих пулеметов. Но быстрее звука до передовых машин колонны долетели пули. Они глухо вошли в деревянные борта, и вместе с острыми ударами Толя услышал крики раненых.
– Всем занять места! – попытался он изо всех сил перекричать вопли в кузове. – Всем огонь! Прикрывайте «трехсотых»!
– Огонь! – услышал Толя вдалеке голос незнакомого майора, с которым прятался от обстрела под грузовиком.
Уходящая колонна зло и неистово огрызалась. Водители, оглушенные адреналином, ехали вперед. Движимые интуицией, страхом или азартом, они выжимали все, что возможно было выжать из моторов, колес и мостов. И вдруг противник перестал стрелять. Это было подозрительно, но солдаты подумали, что они отбили атаку сепаратистов. Или, возможно, русских «регуляров». Ночь светила спокойными огнями звезд. Но недолго. Впереди раздался мощнейший взрыв. От вспышки Толя ослеп на мгновение и тут же пришел в себя. В воздухе запахло разлитым дизелем. Грузовик с ранеными со всей силой врезался в препятствие, и те, кто еще был цел и невредим, спрыгнули с его бортов. Они кинулись врассыпную. В ночь. В поле. Но из темной жестокой глубины до разведчика донеслись глухие, не слишком мощные разрывы, смешавшиеся с болезненными криками и стонами. «Не разбегаться, не бежать, там растяжки!» – завопил Толя, но его никто не слушал и не слышал.
По ним не стреляли. Значит, это просто минное поле, предположил Адамовский. Сепаратисты рассматривали вариант возможного ухода армии именно по этой дороге, но людей, чтобы перекрыть ее, у боевиков просто не хватало. А пулеметная точка, от которой отбилась колонна, стояла невдалеке на всякий случай.
Толя подошел к разорванной броне бронетранспортера и заглянул внутрь. Искореженная сталь, растерзанная человеческая плоть, и никакой, даже слабой, просьбы о помощи.
– Есть кто живой? – осторожно крикнул Толя. От острых, как нож, краев разорванной стали пахло сельской бойней. Противотанковая мина смяла бронелист, словно фольгу от шоколада. Внутренности бронетранспортера молчали.
– Офицеры! – снова крикнул разведчик. – Есть в живых офицеры?!
Незнакомый майор молчал. Не хотелось думать, что офицер испугался. «Контужен», – решил про себя Толя.
– Джексон, ко мне! – скомандовал разведчик.
Ночь ответила знакомым голосом:
– Я здесь, командир!
– Что у тебя?
– Много «трехсотых». И Сен-Жермена зацепило.
Они вдвоем обследовали товарища. Он сидел возле грузовика и еле дышал.
– Как ты? – спросил Толя.
– Нормально, – ответил Сен-Жермен. – Только бок сильно болит. И вдыхать тяжеловато.
Все было ясно и без медиков. Три сломанных ребра. Одно из них пробило легкое. Пневмоторакс, самый легкий из всех возможных вариантов. Который, впрочем, без быстрого медицинского вмешательства мог оказаться самым тяжелым.
– Сейчас мы тебя отправим, дружище Граф!
Бойцы собрали раненых и подтянули их к уцелевшим машинам.
– Что нам делать, дядя Толя? – спросил Адамовского парень с завязанной рукой.
Вариантов оставалось не так много. И Толя постарался их быстро озвучить.
Первый. Идти вперед, как есть, одной колонной. С риском всем вместе подорваться еще на одном минном поле. Второй. Погрузить раненых на уцелевшие машины. Каждому из экипажей самостоятельно искать выход к своим. А для тех, кто мог идти пешком, выбор был уже определен так или иначе. Идти пешком.
– А «двухсотые» как же? – послышался голос из темноты. Толя смолчал, и его поняли.
На «Поляне» в машины село около сотни человек. Из этой сотни только семеро могли идти пешком. Остальным – раненым, контуженым, травмированным во время обстрела колонны – нужно было снова забраться в уцелевшие грузовики. И побыстрее уезжать из западни, пока их не обнаружила разведгруппа противника и не вызвала артиллерийский огонь по их координатам.
Среди криков раненых, среди смрада горящих машин Толе нужно было оставаться спокойным и уверенным. Он не знал, есть ли среди раненых офицеры. Возможно, были. Но времени, чтобы искать тех, кто по своему званию должен принять на себя ответственность за живых, не было. Снова, как и на своем наблюдательном пункте, он оставался за старшего. И когда машины, у которых был шанс прорваться, разъехались каждая в поисках своей дороги жизни, разведчик собрал всех, кто имел силы для пешего марша.
– Консервы есть в рюкзаках? – спросил он. – У кого остались, выбросьте. Оставьте только воду и шоколад.
– А ты, дядя Толя? – спросил Джексон.
– А у меня рюкзак был в той машине, – ответил Адамовский, указав на горящий бортовой «Урал». – И боекомплект! Соберите его у «двухсотых», кто может! Быстро!
Время то растягивалось, то сжималось стальной пружиной, чтобы разжаться в самый неподходящий момент. Казалось бы, вечность прошла после того, как разбитая колонна попала в западню, но на самом деле минуло несколько минут. Горстка людей цепочкой, выключив мобильные телефоны и сменив частоту на рациях, шла по промерзшему руслу высохшей реки. Толя смотрел на небо. Самая яркая звезда – это Полярная. Глядя на нее, можно выйти на север. Но почему– то все звезды казались яркими, и можно было запросто ошибиться.
– Ух, елки-палки! – выкрикнул парень за его спиной.
– Что у тебя? – спросил Толя.
Парень громко ругался.
– Да тут лед тонкий. А под ним вода.
– Он по грудь ушел в воду, дядя Толя, – сообщил Джексон.
– Так помогите ему выбраться, разве это непонятно? Чего смотрите? – рассердился Анатолий.
Несколько пар сильных рук ухватили бедолагу за промокший камуфляж и вытянули на хрустящий лед.
– Автомат не оставил там?
– Нет. Вот он, со мной.
– Идти можешь?
– А разве есть другие варианты?
Их не было. Только один – идти вперед. Но под ногами хрустел лед, и Толя понял, что река не совсем высохла, что местами подо льдом остались участки воды, смешанной с грязью. Неизвестно, сколько времени им понадобится на то, чтобы выйти к линии фронта, сместившейся на север. А промокших насквозь бойцов крепкий мороз может вывести из строя не хуже вражеских растяжек или диверсантов.
Через каждые полчаса пути Толя устраивал перекличку, считал своих людей. Все семеро были на месте. После двух таких перекличек он заметил, что промокшего бойца начало лихорадить.
Вскоре восходящее солнце приоткрыло багровый край зимней ночи. Темная полоса на востоке – это посадка. На военном языке «зеленка». Там вполне могла находиться позиция противника. А группа Толи шла по открытому полю. Значит, пузом вниз и вперед. Ползти по-пластунски. Что Толя и сделал сам, показав пример другим. «В бронежилетах это было бы почти невозможно, – подумал проводник. – Эх, знал бы немецкий доктор, что я вытворяю с его титановой костью, наверное, ни за что не выпустил бы меня из клиники». Эта странная, нелепая мысль заставила его улыбнуться и даже подняла настроение. Он полз вперед и продолжал мысленно развлекать себя.
«Вот у машин и механизмов бывает тест-драйв. Правильно? Значит, это тест-драйв для моей железной руки. Справится или не справится. Как там доктор меня назвал? Терминатор, человек-механизм? Значит, надо этот механизм проверить».
Жесткие замерзшие обрубки убранных злаковых царапали руки и лицо, оставляя красные следы.
«Наверное, за время войны это поле успеет хорошо отдохнуть, – думал Толя, – и даст отличный урожай».
Он тянул за собой свой ручной пулемет и ругал себя за глупые мысли, которые приходили ему в голову. И снова переключался на смешные нелепости, не забывая контролировать пространство слева и справа. Его люди ползли за ним, стараясь не стонать. Хотя от усталости хотелось не то что стонать, а выть безумным воем доведенных до отчаяния существ.
«Год постоит под паром. А потом можно и подсолнечник. А чего ж нельзя? Семечка должна хорошо пойти», – думал Толя.
– Что? – переспросил его ближайший к нему боец.
– Ничего, все в порядке, – ответил старший. Наверное, в такт мыслям незаметно для себя заговорил.
Поле заканчивалось еще одной посадкой. Группа остановилась. В посадке мог находиться «секрет». Но чей, свой или вражеский, нужно было выяснить.
– У кого бинокли, смотрим, – скомандовал Толя.
Он поднес свой бинокль к глазам. Картинка была нестабильной. Натруженные руки дрожали. Но Адамовский все же смог приспособиться, опершись на какой-то пласт промерзшей земли, вырванной лезвием плуга. Он сумел рассмотреть зеленые шлемы. Один, два, три. До полутора десятков. Значит, не «секрет», а, скорее всего, полноценная позиция. Как понять, своя или чужая? Расстояние около километра. Надо рассмотреть, что у них на рукавах.
Лежащие на поле бойцы ждали около часа, пока над бруствером в посадке не поднялась фигура. По грудь поднялась и снова спустилась вниз.
– Успел что-нибудь заметить? – спросил Толя.
– Да, успел. Вроде желтый скотч.
У своих на рукавах должны быть намотаны желтые ленты скотча. У чужих – белые полосы бинтов.
– Вроде или же точно?
– Вроде, – с сомнением ответил наблюдатель.
– Тогда смотрим дальше, – рассудил Толя.
Они пролежали еще час, и вот на том краю поля встал в полный рост военный, чтобы, развернувшись спиной к полю, справить малую нужду. На обоих рукавах у него были широкие желтые полосы скотча. Такие же точно обмотаны вокруг колен.
– Вот придурок, – сказал боец слева от Толи. – Кто же к противнику спиной поворачивается?
– Так мы ж не противник! – громко сказал Джексон.
– Ага, – включился и Анатолий. – Только он об этом не знает.
И все его семеро бойцов, успевшие за одну ночь стать одним целым, дружно рассмеялись. Самая длинная ночь в их жизни превратилась в хмурое, опасное утро, которое хоть немного отогрел спасительный день. Отступление закончилось на краю поля.
Дальше он позволил себе уйти в странное полусонное состояние, в котором все происходящее в реальности как будто превращается в подсознательные фантазии, смешивается с неглубоким сном. В таком состоянии человек говорит, общается с окружающими и даже активно действует, но при этом словно видит сны наяву, уходя по полям своих грез все дальше, все быстрее. Прочь от реальности. Наверное, так можно достичь буддистского Просветления, но Толя мечтал лишь об отдыхе.
Черно-белое поле с неровными зубцами высокой «зеленки» развернулось за его спиной, и он не знал, своя это «зеленка» или уже чужая. А там, где он стоял, поле уже зеленело поднявшимися озимыми. И дед его, с белой окладистой бородой, как у атамана Зотова, говорил ему поучительно: «Ты не железный. Это комбайн железный. Ему все равно, что убирать. А ты простой обычный человек. Должен думать, чем поле засевать». И Толя, не отставая от деда, мерявшего широким шагом оттаявшую землю, согласно поддакивал старику: «Человек, человек я». Ноги в стоптанных берцах погружались в мягкий чернозем. Толе было тяжело поспевать за дедом. Но он старался. А дед все больше ворчал: «И не надо эти деревья “зеленкой” называть. Что это еще за слово такое – “зеленка”? Мы ведь не в аптеке. Деревья – это не “зеленка”, а посадка, роща, лес. Так ведь?» И Толя не раздумывая соглашался: «Так, так». Теперь он был спокоен за себя и за своих людей. Теперь он знал, что вернется.
Зима еще долго будет бороться, цепкими холодными руками сковывая доверчивую землю. Но, отдохнув от боли и потерь, она вновь расцветет невероятными красками. И золотые поля сомкнутся на горизонте с синевой небес, следуя вечным, как мир, законам жизни и любви. Теперь он снова был спокоен.
К своим
Вдоль всей извилистой линии фронта мир переходил в войну плавно и незаметно. Придорожные старушки одинаково бойко торговали мелкими яблоками в ведрах на фоне уцелевших заборов перед слегка разрушенными домами. Винно-водочные палатки гостеприимно ждали и укропов, и сепаров, и, ориентируясь по мелкой коммерции, можно было случайно заехать прямо на позиции военных. Но здесь граница боевых действий была хорошо заметной. Недостроенный мост – достаточно удобное сооружение для того, чтобы прятаться от мин и «Градов». Под мостом два-три внедорожника, танк и зеленые армейские фургоны, между которыми горели костры. Мчись, выжимая все возможное из своей колымаги, по дороге от Карловки, не оглядывайся, услышав подозрительные звуки, но обязательно остановись под мостом. Спроси, как там, впереди, сегодня дела. Сколько было с утра обстрелов, чем-то легким, чем-то тяжелым… Вздохни, угости ребят сигаретами или водой, перекрестись. И езжай дальше. На самой полной скорости.
Мост был абсолютно четкой границей между войной и миром. Ясной и понятной. Это вовсе не означало, что, оставаясь перед мостом, ты не рисковал попасть под обстрел. Но, проехав под бетонной секцией, ты автоматически становился мишенью для снайперов сепаратистов. А двигаясь дальше, ты получал все больше шансов услышать, как свистят мины и как они после глухого, сухого взрыва рассыпают осколки. Быстрее, быстрее, резкими движениями руля заставляя машину вилять влево и вправо по дороге, усеянной стальным мусором войны. Вот так нужно было ехать на базу добровольцев в центре села.
Слева, в разбитом окне пробитого осколками «мерседеса», появилась церковь. Издалека она казалась нетронутой, но, подъезжая ближе, можно было рассмотреть дыры в золотых куполах храма, тянувшихся в небо.
Комроты Леопард, проезжая мимо церкви, крестился. При этом не выпускал из поля зрения полотно заснеженной дороги. Особенно правую сторону. Оттуда могли щедро набросать ВОГов вражеские диверсанты, выходившие из Донецка в длинные посадки между позициями боевиков и добровольцев.
«Танками звідси вони не попруть, – думал Леопард, оглядывая дорогу, – але я про всяк випадок поставив би зліва мінне поле та з пару еспегешок».
Так он говорил себе всякий раз, проезжая участок трассы от моста до своей позиции. Его останавливало только понимание того, что сепары по этому полю уже разбросали свои мины и ловушки-растяжки. Посылать бойцов и рисковать ими Леопард никогда бы не стал, не имея на то более серьезных причин, чем свои подозрения.
Открытое пространство слева наводило на мысль о том, что сейчас кто-то держит тебя под прицелом. Впрочем, и с правой стороны, той, что была «своей», за пробитым и побитым «мерседесом» наблюдали внимательные глаза снайперов. О тех, кто провожал проезжающую машину спокойным взглядом из руин по левую сторону дороги, Леопард вообще не думал. Чего волноваться, они же свои. Он думал лишь о том, как не проехать мимо едва заметного переулочка, образовавшегося между двух соседских домов. Проезд можно было и проскочить. Угловая хибара развалилась от прямого попадания снаряда, и деревянный забор отбросило так, что он почти перекрыл дорогу. Но оставался промежуток, его вполне хватало для проезда одной машины. Две здесь бы не разошлись. Поэтому переулок тоже следовало проезжать быстро. Две неразъехавшиеся машины могут стать случайной мишенью для крупного калибра.
«Мерседес» быстро юркнул в этот промежуток. Его несколько раз подбросило на ухабах. Под днищем что-то грохнуло, конечно, не так сильно, как ВОГ, выпущенный из подствольника, но достаточно громко, чтобы напрячься. «Маячня», – сказал себе Леопард, но на всякий случай сразу же загнал машину в укрытие, как только заехал на базу пятого батальона. «База», правда, это слишком громкое слово для брошенного дома с выбитыми окнами, главное достоинство которого – глубокий подвал с бетонными перекрытиями. Зато во время обстрелов здесь было спокойно, тихо и тепло. Горела буржуйка, на газовой плите кипел чайник и успокаивающе, как большое мирное домашнее животное, ворчал генератор. На столе лежал хлеб, пластиковый пакет с растворимым кофе и копченое сало, от которого в любой момент каждый из бойцов, возвращающихся с задания, мог отхватить кусок и утолить первый порыв голода. А потом налить себе миску горячего борща с ароматом зелени и дома.
Повар, невысокий мужичок средних лет с кучерявой, окладистой, как у ассирийского царя, бородой, готовил невероятно вкусно. Вообще-то он по специальности был стрелок-пулеметчик, но в первом же своем бою впал в панический ступор. А Леопард никогда не упрекал своих людей в трусости. Ничего он не сказал и бородачу, только отправил его на кухню изучать кулинарные премудрости. И коротышка превзошел все ожидания. Он научился готовить так хорошо, что сумел вернуть уважение товарищей, которые были с ним в одном бою и видели, как он панически вцепился в пулемет, так и не сделав ни единого выстрела. Повар тоже нужная военная профессия. И не менее важная, чем стрелок.
Сейчас борща не было. Люди Леопарда с мрачными лицами сидели за столом, время от времени хватая заскорузлыми пальцами хлеб.
– А ты борщику, командир? – с надеждой спросил повар. Но Леопард, поглядев на лица побратимов, отказался. Они ждали его ответа.
– Они? – спросил его заместитель по прозвищу Мозес. Он любил хрипло, на армстронговский манер, напевать «Go down Moses», из-за чего и получил такой псевдоним.
– Вони, друже Моїсеюшка, – вздохнул тяжело Леопард. В ответственные моменты, когда комроты давал своему заместителю опасные поручения, он называл его именно так, доверительно, «Моїсеюшка». Но сейчас никаких поручений не было. Долговязый, с большими глазами и пухлыми губами, Леопард производил впечатление человека мягкого, хотя за небоевой внешностью скрывались решительность и коварство прирожденного воина, ценившего своих, беспощадного к чужим.
– Вони в Селідовому, у шпиталі.
– А это точно они? – переспросил Мозес.
– Вони, Мойсей, немає жодних сумнівів. У Вовка тату на руці, у Вікінга молитовник. Той самий, що з Майдана.
Мозес кивнул и положил рядом с собой кусок хлеба, который уже собирался поднести ко рту. Есть не хотелось.
Два дня назад рота попыталась атаковать позиции сепаратистов и отбросить их от села хотя бы на километр. «Чтобы они АГСами нас не доставали», – сказал тогда Леопард. Вылазка была удачной. Боевики отодвинулись от села. Но когда рота возвращалась с боевого задания, бронетранспортер нарвался на скрытую позицию сепаратистов. По броне ударили из гранатомета, и от взрыва несколько бойцов слетело с машины на землю. Двоих, побратимов с позывными Викинг и Волк, так и не смогли найти. Потом через комиссию по обмену пленными сообщили об их гибели и отдали. Но Леопард рассказал неизвестные детали.
– Я приїхав до Селідового, хлопці, і одразу ж поїхав до цього шпиталя. Мені навіть двері було не хотіли відчиняти. Але ж я сказав, що я їхній командир. Проте жодних документів. Це тут ми орли, а там – просто божевільні з рушницями. Та й то правда, що Селідове повне латентних сєпарів. Що там казати?
Леопард вздохнул и отхватил кусок от горбушки свежего черного хлеба. Медленно пожевал, видно, собираясь с мыслями. Заполнил хлебом паузу в словах.
– Це були вони. Але нам казали, що сєпари їх взяли вже загиблими. Це неправда. Їх вже потім зробили «двохсотими», я вам сто відсотків даю! Спочатку вони були «трьохсотими».
Он сыпал этими «сотнями», как судья приговорами.
– Почему ты так считаешь? – спросил Мозес.
– Та тому що у Вікінга на горлі слід від дроту. Його душили, просто душили дротом. А Вовк весь ніби обпалений і такий понівечений, що навіть той сєпарський лікар, що їх привіз, відводив від мене очі. Наш медик каже, що його били. Дуже сильно били. А потім облили кислотою. Хотіли, мабуть, випалити тату з тризубом. Ось таке.
Леопард замолчал, и в подвале стало тихо. Вдалеке послышался одиночный винтовочный выстрел.
– Да, – сказал боец с позывным Биатлон. – Этого, в принципе, и следовало ожидать.
– Так, друже Біатлон, – согласился Леопард, – ми для них потвори, але кожен, хто йде в «Правий сектор», це знає. Чи не так?
– Так, – кивнул Мозес. – Нас в плен не берут.
Впервые за всю войну люди, сидящие за столом, осознали, что означают эти слова – «не берут в плен». Они не боялись идти в бой, но в этот момент, когда Леопард сдержанно рассказал им о предсмертных мучениях товарищей, каждый в глубине души испугался перспективы оказаться взятым в плен. И, хотя никто из них не подал и виду, Леопард почувствовал, как от скрытого всплеска страха воздух в подвале стал плотным и тяжелым.
– Так, хлопці, я нагору, покурити.
Курение, как и хождение в туалет, было делом рискованным, требующим определенных навыков. Стоять на крыльце недостроенного дома нужно было так, чтобы не высовываться из-за мешков, плотно заполненных песком. А сигарету держать указательным и большим пальцами, прикрывая остальными предательски тлеющий огонек, чтобы не засек снайпер. На мешках, рядом с пепельницей, лежала пуля крупного калибра, попавшая в бетон. Леопард сам положил ее туда в качестве напоминания беспечным курцам о постоянной опасности. Правда, командир, бывало, и сам забывал о том, что противник иногда подходит очень близко к базе, на несколько сот метров.
Леопард выдыхал дым через ноздри, как огнедышащий дракон. Так было проще прогнать прочь комок слез, мешавший говорить, думать и действовать.
Утром им нужно было выходить на усиление девяносто третьей бригады. Конечно, бойцы «Правого сектора» были добровольцами и формально никому не подчинялись. Но фактически они были очень важной составляющей украинской обороны, и, понимая это, любую просьбу о помощи со стороны военных добровольцы воспринимали как приказ. Только вот Леопард чувствовал, что именно сейчас, когда его люди узнали о страшной судьбе пленных побратимов, он не может приказывать. Просить – да, но не приказывать.
Когда он спустился, они все так же сидели за столом и жевали хлеб. Бородатые мужики с тяжелыми, как гири, ручищами, с лицами, словно вырезанными из коричневого дерева. Ждали его, своего командира.
– Хлопці, ви знаєте, що нам треба підтримати «дев’яносто третю», в них замало бійців, що знають місцевість за монастирем. Я не хочу наказувати. Не маю права, бо техніки у сєпарів там сила-силенна. Кажуть, десь там захована «арта», треба це підтвердити. Отже, хто піде?
Мозес почесал рыжую короткую бороду.
– Ну, то треба так треба, – сказал он спокойно.
Леопард вздохнул с облегчением, не услышав от остальных ни слова возражения.
– Тільки треба добре поїсти, хлопці, перед виходом, – с благодарностью в голосе сказал он бойцам.
– Вот так бы сразу, парни! – воскликнул царь-повар, размахивая черпаком, как скипетром. От кастрюли шел ароматный пар.
Леопард отобрал пятерых. Черкес, Мозес и Апостроф давно просились на операцию.
– Цим по півтарілки, – строго сказал царь-повару командир.
– Да что они голодные пойдут? – застыл с черпаком бородач.
– Друже, – пояснил комроты. – Якщо в живіт прийде, то не треба, щоб він був повний. Так лікарі кажуть.
Черкес вздохнул с легким сожалением. Грузный серьезный мужик был не прочь хорошо поесть. Черкес отвоевал с россиянами и первую, и вторую чеченскую, но нелюбовь к государству Российскому не мешала ему любить русскую литературу, великую и прекрасную. Правда, когда Черкес начинал главами цитировать Булгакова и Толстого, не обращая внимания на скучные лица побратимов, комроты понимал, что кавказец засиделся без дела.
Апостроф, восемнадцатилетний сорвиголова, кажется, никогда не был знаком с чувством страха, и поэтому Леопард всегда отправлял его на задания с кем-то постарше и рассудительнее.
«Ідеальний варіант для хлопця – це, мабуть, Мойсеюшка», – подумал комроты, глядя на спокойное лицо Мозеса, проверявшего магазины и гранаты в бесчисленных карманах разгрузки.
Варан был прекрасным снайпером. А Эсквайр отлично знал все позиции боевиков, поскольку каждый день, используя доклады разведки, вносил изменения в электронную карту линии соприкосновения. День за днем эта линия все больше искривлялась, сжимая кольцо вокруг упорной твердыни небольшого поселка.
– Хлопці, – сказал командир, рассматривая карту на мониторе. – Наше завдання – пройти через мінне поле. Це наше поле. Проходи отут. Їх два. Запам’ятайте обидва, бо, якщо треба буде швидко тікати, треба знати куди. Ми маємо зрозуміти, де їхній укріпрайон. Але це не просто шанці. Вони там розгорнули ціле будівництво. Купа бетономішалок та кран.
– Может, элитный дом строят? – попытался пошутить Эсквайр. – Надо поинтересоваться, почем квадрат.
– От і поцікавимося, – серьезно заметил командир. – Нам потрібна детальна карта цього будівництва. Маємо зрозуміти, нащо воно їм.
– Якщо готуються до глухої оборони, то нехай готуються! – резонно заметил Апостроф.
– А якщо ні? – посмотрел ему в глаза Леопард. – Якщо звідси вони почнуть закривати котел і поженуть нас просто на ці кляті стіни?
Он хотел предусмотреть все возможности.
– І, до речі, це прохання суміжників. Хто знає, може й незабаром наступ, – предположил Леопард.
Они все хотели наступления. Сидеть под огнем, на хорошо пристрелянных боевиками позициях, было не очень приятно, особенно когда возникало ощущение, что крышка котла может захлопнуться. В такие моменты кажется, что война придумана генералами по обе стороны линии фронта для того, чтобы сохранять свои жирные тела в мундирах, а мундиры в креслах, а кресла в кабинетах. Впрочем, когда армия стоит, как мишень, и не маневрирует, тема генеральской подлости становится главной. Она занимает почти все пространство в мыслях и разговорах рядовых солдат. А от фразы, сказанной Леопардом, повеяло надеждой и победой.
Они проверили снаряжение и дождались полночи. В темноте, ориентируясь на местности при тусклом свете звезд, прошли по улице вдоль разбитых домов. Перед ними зловещей чернотой расстелилась ночная степь, то тут, то там мигавшая редкими трассерами, рычавшая далеким движением техники.
– Сєпари, – беззлобно сказал комроты.
– Сепары, – эхом ответил Мозес.
– Эй, коллеги, нельзя ли потише? – донеслось до них из окопа.
Они вышли на передовые позиции девяносто третьей бригады, хорошо замаскированные и удачно расположенные. И уверенный голос командира армейской роты с позывным Лысый обещал несколько минут безопасности.
– Спускайтесь в окоп, коллеги, – пригласил их Лысый, который еженощно проверял, не спят ли его солдаты на постах. Они боялись своего капитана с круглым безволосым лицом, как у сказочного злодея. Заснувшему на посту солдату Лысый вместо побудки мог и заехать по зубам, после чего сонливость как рукой снимало. Хоть Леопард и Лысый давно знали друг друга, а традиционный обмен паролями все же довелось произвести. Лысый был человеком старой армейской закалки. Он уважал правосеков за бесшабашность и дисциплину, но в то же время был не в восторге от их вольницы. «Человек с оружием должен быть в армии, – спорил он с Леопардом. – А вы кто такие? Ни армия, ни Нацгвардия. Ни авторитета, ни генералитета. Сами по себе, гайдамаки какие-то».
Но сейчас времени на дискуссии на тему устройства армии не было.
– Чаю? – спросил Лысый.
– Пили вже, – отказался за всех Леопард. – А ви тут гарно накопали собі.
Он с легкой завистью посмотрел на траншеи, которые при смутном свете звезд, казалось, уходили в бесконечные степи.
– А то, – согласился Лысый. – Ты же знаешь, солдат либо стреляет, либо копает. Если ни то ни другое, то в голову лезут дурные мысли, а в руки стакан с белой. Как-то так.
Леопард усмехнулся. В «Правом секторе» проблем с алкоголем не было. В отличие от регулярной армии, о чем он хотел сказать своему армейскому коллеге. Но тут, впереди, километра за три от окопов, заработал пулемет.
– Они сегодня или пьяные, или дурные. Стреляют без причины в разные стороны, – заметил капитан.
– А вы отвечаете? – поинтересовался Моисей.
– Нет, – сказал ротный. – Зачем светить свои позиции? А так мы знаем, что у них перед монастырем.
– Так-то воно так, – заметил Леопард, – але що далі, ви не знаєте. А нам треба саме туди, до монастиря.
Лысый пил чай из термокружки, опершись локтем на станок автоматического гранатомета. Он раздумывал несколько секунд. Потом скрылся в блиндаже. А когда вышел, то заявил:
– Ладно, коллеги, они сегодня пьяные, а я трезвый. Значит, сбегаю туда с вами.
– А кто твоей ротой покомандует? – улыбнувшись, спросил Апостроф.
Солдат, если он к тому же безусый, как Апостроф, обратившись к ротному на «ты», рисковал остаться со сломанной челюстью. Но Лысый был достаточно умен, чтобы признавать другую схему отношений у смежников. Они даже к старшему по возрасту обращались фамильярно, лишь добавляя традиционное слово «друг».
– Мой зам, – сказал ротный. – Я его уже разбудил. И, кстати, Леопард, возьми «муху» на плечо.
Офицер протянул зеленый тубус одноразового гранатомета, еще один закинув себе на спину резким движением. Но правосек удивленно пожал плечами, мол, зачем мне еще эта обуза.
– Возьми, возьми, – настаивал Лысый. – Пригодится.
Сначала они шли в полный рост. Лысый, нисколько не волнуясь, объяснял, что у них есть метров восемьсот, пока они доберутся до территории, откуда их могут увидеть через прибор ночного видения наблюдатели противника.
– Но там есть неубранное поле подсолнуха, – весело успокоил товарищей офицер. – Если что, мы там спрячемся.
Пока шли до подсолнухов, время тянулось медленно– медленно, словно нехотя. Но когда от ударов ботинками зашуршали стебли, оказалось, что пустое вспаханное поле они прошли-пролетели быстро и незаметно для себя.
– Тише, – сказал Лысый. – Здесь могут быть их «секреты». Нам лишний шум не нужен.
– А як ми тоді пройдемо через кущі? – удивился Леопард.
– А ніяк, – передразнил его Лысый. – В подсолнухах будем прятаться, если придется бежать. А так обойдем слева и доберемся до их укрепки.
Неубранные заросли закончились так же внезапно, как и начались. Апостроф зашагал было в полный рост, обходя угол подсолнечного поля, и вдруг упал как подкошенный, больно ударившись лицом о морозное поле. Это Леопард смыкнул его за ботинок.
– Ложись! – рыкнул он на бойца. – Здесь нас могут увидеть.
Разбитые губы болели, но Апостроф вовсе не держал зла на командира. Вежливость и галантность не относятся к числу добродетелей, почитаемых на фронте. Вся группа двинулась вперед по-пластунски. Они ползли друг за другом, как стая хитрых ящериц, стараясь держаться края поля. Крайние подсолнухи сухо шуршали над ними, если чья-то нога случайно касалась плотных стеблей. Но гораздо чаще ботинок впереди ползущего товарища ударялся о кевларовый шлем того, кто извивался сзади, несанкционированно набирая скорость.
Сосредоточившись на себе, каждый тем не менее вслушивался в холодную ночь, опасаясь пропустить тот момент, когда боевики будут достаточно близко, чтобы слышать их разговоры. Первым услышал противника Леопард. Люди во вражеском окопе говорили спокойно и четко. Обсуждали порядок дежурства, понимая, что важно этой ночью быть бдительными.
«Щось не схоже, щоб вони були п’яні», – отметил про себя Леопард. Он включил тепловизор, хотя понимал, что излучение могут и заметить. Но что поделаешь, нужно было понять, что впереди. А впереди была стена из бетонных блоков, сложенных в два яруса. Кое-где в стене имелись бойницы, из которых в сторону украинских порядков зло выглядывали стволы крупнокалиберных пулеметов. Не пройти.
Группа подползла к командиру. Заговорили шепотом, по очереди. Устраивать дискуссию, упираясь головой в кусок промерзшей земли, конечно, не очень комфортно, но, с другой стороны, когда рядом нет более подходящей дискуссионной площадки, в таком положении как-то легче найти общий язык в споре. Особенно если тема спора касается вопроса, идти или не идти на пулеметы. Леопард считал, что надо идти. Капитан под псевдо Лысый доказывал, что надо повернуть назад. Они шипели друг на друга в промозглой ночной тишине, рискуя себя обнаружить, пока Леопард не прошептал:
– Та чого ж ти з нами пішов, капітане? Якщо йти сенсу немає?
Капитан подумал. Он вообще-то очень быстро соображал. И, хотя ясно понимал, что ползти на бетонные сооружения довольно бесперспективно, догадался, что именно это и хотят сделать его товарищи из «Правого сектора». Если он откажется, они все равно пойдут вперед. А раз вышел с ними, значит, с ними и должен вернуться.
– Ладно, парни, ползем дальше. Только не подумайте, что струсил. Плюс?
– Плюс-плюс, – улыбнулся Леопард. – Я тут дещо роздивився. Нам треба доповзти до їхнього бруствера і рухатись вздовж нього. Там, праворуч, де блоки закінчуються, чорна пляма, і я думаю, що це болото. Я бачив його на карті. За болотом уже монастир. Тож, хто бажає холодної освіжаючої ванни?
Каждый из группы разведчиков засмеялся. Но беззвучно. Чтобы смешок предательски не слетел с обмороженных губ.
– Тепер слухайте сюди, – продолжал командир. – Ми не знаємо, що там далі. Але наразі знаємо, як ми будемо відступати. Двоє мають залишитися тут, щоб прикрити наш відступ. Снайпер та картограф. Друг Варан та друг Есквайр. Ясно?
Ни тот ни другой не хотели останавливаться на полдороге, но приказ есть приказ. Леопард, несмотря на отчаянный характер, прекрасно разбирался в людях и знал, на что способен каждый из его бойцов. А они отлично понимали командира и бесконечно ему доверяли. Если Леопард сказал, значит, приказал. А если приказал, значит, на то есть веские основания.
Ну, а логика командира была очень простой. Снайпер может оборудовать себе позицию, спокойно определить цели и, значит, вовремя прикрыть группу при отходе. А картограф единственный, кто в его роте мог вносить изменения чужих позиций в компьютерную карту. Его надо сберечь. Им всем нужны его способности.
– Друже Черкес, тобі не важко? – спросил Леопард.
Он очень корректно намекал на лишний вес бойца.
– Да ты что, командир, – ответил тот. – В горах мы таскали на себе минометы и просто летали с ними, как птицы. А миномет с «бэка» весит почти как я.
«Це правда, але тоді ти був років на п’ятнадцять молодший», – про себя подумал командир.
Они удачно проползли под носом у противника до самого болота. План был на грани срыва с первых минут, потому что в это время года коричневая жижа могла замерзнуть или хотя бы покрыться ледяной коркой, которая громко трещит, ломаясь под весом тела. Но, чудесным образом нарушая все законы природы, вязкое болото не замерзло.
– Нельзя в одну и ту же реку войти дважды, – сказал себе тихо Черкес.
– Це в ріку не можна, а в багнюку можна, – прошептал Лысый.
Они шли через вязкое болото, стараясь не шуметь и не вызвать и малейшего всплеска. Это у них получалось, хотя местами грязевая масса доходила до груди. Апостроф хотел было снять с себя разгрузочный жилет, чтобы не замочить боекомплект, но Леопард остановил его, положив ему руку на плечо:
– Не варто, воно не встигне відсиріти.
– Они нас не увидят? – спросил Мозес.
– Звідки ж я знаю, – честно ответил Леопард, с сомнением разглядывая в тепловизор заросли камышей, окаймлявшие болото.
Вода не сразу пропитала штаны. Сначала ногам стало просто холодно, а потом еще и мокро. Влага коварно и постепенно затекала в берцы, месившие скользкое дно, и до противоположного края болота они добрались до шнурков промокшие.
– Вот и все, – промолвил Лысый, – мы в тылу у сепаров.
– А можно точнее? – попросил Мозес.
– Монастир, – уточнил Леопард. – Чотириста метрів від нас. А попереду має бути колектор. Туди ми й прямуємо.
Они, пригибаясь, добежали до бетонного колодца с открытым люком и не глядя нырнули в темноту, из которой тянуло зловонной сыростью.
– Опять купаться, – проворчал Черкес. Но, на удивление, дно колодца оказалось сухим, а зловонный запах, похоже, исходил от липких стен коллектора. Группа шла вперед, неторопливо нащупывая дорогу. Леопард время от времени включал тепловизор, осматривая путь. Здесь высока была перспектива нарваться на растяжки, хотя бравые сепары, будучи уверенными в том, что укры не настолько сошли с ума, чтобы забраться в их тыл, могли просто полениться устроить ловушки в коллекторе.
Что-то темное попискивало и шуршало, разбегаясь под ногами Леопарда. Командир не обращал внимания. Он еще раньше заметил в видоискателе тепловизора движущиеся пятна. Но встреча с мелкими грызунами пугала его меньше, чем стычка с двуногими животными.
Лазутчики по бетонной трубе дошли до следующего колодца и заметили, как в круглом проеме над их головами сереет небо. Наступал рассвет. Им нужно искать место, где они могли бы незаметно закрепиться и определить, что здесь есть, в арсенале противника.
– Я полезу наверх, – предложил Апостроф.
– Я с тобой, – сказал ему Мозес.
– Ишь какой! – ухмыльнулся юноша. – Хочешь примазаться к моему подвигу? Ну ладно, Мозес, валяй со мной.
Милостиво позволив товарищу следовать за собой, Апостроф полез наверх, по-обезьяньи цепляясь за ржавые скобы, вбитые в стены колодца.
– А я пройду дальше по трубе, – сказал Черкес и грузно двинулся в темноту.
– Почекай, – остановил его Леопард, – візьми тепловізор.
Он протянул товарищу пластиковую трубу.
– А мы что? – спросил Лысый.
– Будемо чекати з тобою тут, капітане, хто з них перший повернеться.
Первым вернулся Черкес.
– Там, с той стороны, тоже колодец. Но выходит он возле частного сектора. И все. Эта труба тупиковая. Я не могу понять, где сток из монастыря. Тупиковый он, этот коллектор, что ли?
Леопард скривил губы в сомнении. Он не боялся неизвестности, но очень не любил нелогичность. Огромная бетонная труба длиной в сотни метров, по которой мог свободно гулять человек выше среднего роста, должна была иметь свое предназначение, свой вход и выход. А так получается, что тонны высокопрочного бетона закопали в землю непонятно зачем.
Его размышления прервал голос Апострофа. Голова бойца почти закрыла круглое отверстие.
– Вылезайте, здесь никого нет.
– Лисий, друже, пройди з Черкесом вперед по цій трубі, прикрий той другий колодязь, – бросил капитану Леопард и полез наверх, туда, откуда доносился голос бравого юноши.
Наверху уже все было видно. Солнце пробивалось сквозь серые тучи и словно ощупывало лучами златоглавую колокольню монастыря.
– Там никого нет, Леопард, и Мозес уже пошел туда, – кивнул на колокольню Апостроф.
– Добре перевірили? – спросил больше для проформы Леопард и двинулся к колокольне. – А ти, друже Апостроф, залишайся контролювати вихід із цієї труби.
– А можно я с тобой? С тобой мне веселее, – попросил Апостроф.
– Добре, пішли, – милостиво согласился Леопард, не желая выслушивать нудные причитания бойца, которые, как он разумно предвидел, обязательно прозвучат после отказа.
В монастыре было пусто. Под ногами трещало битое стекло. В воздухе висел неподражаемый запах плавленого воска. Перед алтарем, на подставках, оставались желтоватые свечи. Сколько они стояли тут, неубранные, чернея потухшими фитилями, неизвестно. Мозес был здесь. Он достал зажигалку, подпалил фитиль одной из свечей и, глядя на грустные лики святых, перекрестился.
– Ану, загаси її негайно! – крикнул Леопард, и эхо пустого храма многократно повторило командирский приказ. Мозес не ослушался. Его заскорузлые, натруженные войной пальцы даже не почувствовали ожога от пламени. Ничто не должно было выдать присутствие лазутчиков.
Они поднялись на колокольню. Деревянные ступени ворчливо поскрипывали в такт каждому шагу бойцов. Поднявшись наверх, разведчики устроили себе удобную лежку и, достав бинокли, принялись наблюдать на три стороны.
Отсюда хорошо просматривался аэропорт и все подходы к нему, вплоть до передовых украинских позиций. Серая громада разбитого терминала молчаливо лежала возле взлетной полосы, как туша выброшенного на берег кита, обглоданная дикими собаками. Взгляд опытного военного мог разглядеть на местности следы массивного укрепрайона, связавшего сетью окопов и блиндажей линию обороны сепаратистов. Леопард вытащил из нагрудного кармана пластиковый файл, в который были аккуратно завернуты блокнот и коротенькая ручка. Он принялся записывать координаты, сверяя их с портативным навигатором, и рисовать схемы укреплений. То же самое делали и его бойцы. И вдруг из-за посадки рыкнул мощный мотор.
До посадки было около километра. Никто не разглядел за деревьями тяжелый бронированный механизм, который вдруг завелся и поехал. Да, может, и не стоял он вовсе, а просто незаметно для разведчиков подъехал к высоким деревьям. Звук мотора приближался к монастырю. Вскоре бойцы смогли определить, что моторов было как минимум три. На колокольню принесло запахи масла и сожженной солярки.
– Они едут сюда, – шепнул Апостроф, но Леопарду это и так было ясно.
Техника медленно сворачивала с проселочной дороги на пустое монастырское подворье. Машин и в самом деле было три. Первым заехал разрисованный зелеными и черными пятнами немецкий джип с высокими колесами. Рядом с ним остановился более скромный уазик с брезентовой крышей. А за ними двигался необычный агрегат исполинских размеров.
Он был похож на танк. Его гусеницы тяжело и безразлично переворачивали покрытую инеем землю. Двигатель выпускал клубы вонючего дыма. Но вместо башни у него была совсем странная конструкция, напоминавшая ракетную установку с несколькими пусковыми блоками. То, что это какое-то мощное оружие, становилось ясно с первого взгляда. Бойцы на колокольне нервно зашептались.
– Что это? – спросил Мозес.
– Не знаю, – покачал головой Апостроф.
– Я знаю, – заметил Леопард. – Ця фігня крутіша від атомної зброї. Це «Град» та вогнемет, два в одному, як то кажуть. Залповий термобаричний вогнемет. Випалює все.
– Весело, – сказал невеселым голосом Мозес. – И до наших позиций может достать?
– Легко, – ответил командир.
– А что мы можем? – Вопрос Апострофа явно был адресован самому себе. – А мы можем это только снять и показать всему миру, чем нас россияне сжигают.
Он засунул руку в разгрузку и достал оттуда маленькую камеру в прозрачном чехле, похожем на походную мыльницу. Камера легко крепилась на шлеме, для чего, собственно, там уже был предусмотрен кронштейн, и Апостроф присоединил к нему чехол одним легким движением. Боец старался не слишком быстро мотать своей головой, чтобы картинка получалась четче и стабильнее.
Гигантская установка была российской. На вооружении украинской армии не было таких систем, и поэтому у разведчиков не оставалось сомнений, откуда сюда затащили гусеничного исполина.
Из пятнистого джипа вышли двое в российском камуфляже. Один, оставив автомат в машине, направился к зданию главного монастырского храма.
– Ждите меня здесь! – крикнул он остальным двум экипажам. – Оставайтесь в машинах! А ты, Николаич, куда?
Тот, кому это было адресовано, торопился к люку бетонного колодца, из которого до этого выбрался Леопард с двумя бойцами. Второй сепар – или, может, и не сепар вовсе, а российский офицер – вытащил из разгрузки круглую гранату, разжал острый металл усиков и, сорвав кольцо, бросил ее в открытый люк. Через пять секунд раздался громкий хлопок, а над люком выросло облако дыма и пыли.
– Зачем это ты, Николаич?
– Береженого, майор, Бог бережет.
Мозес перекрестился. Бойцы на колокольне переглянулись. И без слов было ясно, что он молится, чтобы парни в коллекторе остались живы. И не раскрыли себя.
Тот, кого назвали Николаичем, вернулся к машине.
– А ты почему автомат в машине оставил? – крикнул он товарищу, который уже был у входа в церковь.
– Так ведь в храм с оружием нельзя, – ответил тот.
Мозес кивнул, словно в знак согласия, и в то же время крепче сжал свой автомат.
Майор в российском камуфляже вошел в храм и приблизился к алтарю. Он трижды торопливо осенил себя крестом и прошелся по храму, кроша разбитые стекла крепкими подошвами ботинок. Он как будто выбирал перед каждым шагом, куда ставить ногу. В его движениях было что-то от большой домашней птицы, разгребающей лапой траву в поисках рассыпанных зерен. Сходство с курицей добавляла длинная шея и сравнительно маленькая голова, качавшаяся в такт осторожным шагам. Человек-птица побродил под главным куполом и вернулся к алтарю. Его взгляд прошелся по иконам, с которых на него смотрели внимательные глаза святых, и вдруг остановился на тяжелом подсвечнике. Он всего лишь несколько секунд раздумывал, а потом быстро выскочил в монастырский двор.
Майор трусцой подбежал к машине и, схватив автомат, передернул затвор.
– Что случилось? – спросил Николаич.
– Здесь кто-то есть, – ответил майор. – Свечи пахнут дымом. Свежим дымом.
Николаич слегка напрягся и посмотрел на колокольню. Но разведчики хорошо замаскировались, и с земли их было не видно.
– Так давай свалим отсюда, пока не поздно, – предложил Николаич решение, которое лежало на поверхности.
Майор не задумываясь отклонил это предложение:
– Нельзя. Если здесь кто-то есть, мы должны убедиться, что он не видел нашу лялю. – И он кивнул на установку. – И сделать так, чтобы о ней никто не знал, понял?
– Понял, что тут непонятного, – согласился Николаич.
С колокольни хорошо было видно, как из машин выходят люди и быстро осматривают свое оружие.
– Их восемь, нас трое. Что будем делать? – спросил Мозес командира шепотом.
– Їх більше. Почнемо стріляти – нас почують в укріпрайоні. Та впіймають, як тих зайців.
Сказав это, Леопард поглядел на Мозеса. Он достаточно долго был на этой войне, чтобы понять, как противник заподозрил неладное. И Мозес это тоже понимал. Но ни слова упрека не услышал от командира.
– Маємо те, що маємо, – резюмировал Леопард. – Треба пробиватися до колектора.
Люди внизу совещались, время от времени указывая в сторону храма черными от грязной фронтовой работы пальцами.
– Не пробиться, – сказал Апостроф. – Я их отвлеку, а вы уйдете. Это наш единственный шанс спастись.
– А ти ж як? – спросил Леопард.
– А я от них сбегу.
Он постарался улыбнуться и отогнать от себя воспоминания о Волке и Викинге. Снял со шлема пластиковый чехол с камерой и сунул его Леопарду.
– На, командир. Это важнее всего.
И, не пытаясь даже услышать слова возражения, Апостроф с быстротой молнии сбежал вниз. Они услышали треск битых стекол в главном зале храма. Но и сепары его тоже услышали. Они метнулись к дверям церкви. Апостроф оказался проворнее. Он пулей выскочил из храма и прямо под носом у майора с куриной походкой помчался за церковь к посадке.
– Укроп, укроп! – закричали военные во дворе и открыли огонь изо всех стволов. Частые пули били почти у ног Апострофа, поднимая брызги мерзлой почвы, но он словно уворачивался от свинцового града, петляя, как быстрый заяц, затравленный псами.
Разгорячившись, сепары лупили по парню изо всех стволов. Тот, кого называли Николаич, запрыгнул за руль «немца» и, зло надавив на газ, стартовал на перехват Апострофа. Тот бежал изо всех сил.
– Сафари, твою мать! – сплюнул майор, вскидывая свой ствол. Бойцы щедро расходовали свой боекомплект по бегущей мишени.
Апостроф бежал к посадке, превращаясь в маленькую точку. Машина с Николаичем шла ему наперерез. Офицер изо всех сил давил на педаль газа. Он вращал руль правой рукой, а левой нажимал на спусковой крючок, оперев автомат на чуть приподнятое стекло. Стекло вибрировало, стонным визгом сообщая наглому водителю, что в любой момент готово расколоться. Но тот не обращал внимания на стенания стекла и давил, давил на курок, пытаясь попасть в бегущего человека.
Леопард понимал, что у Апострофа слишком мало шансов. «Божевільний хлопець, – промелькнуло у комроты, – але він рятує не тільки нас. Треба донести додому ось це». Рука Леопарда сжимала маленькую камеру, а глаза продолжали следить за петляющей в поле точкой. И чем меньше она становилась, тем спокойнее чувствовал себя Леопард. Если он уведет россиян и сепаров от монастыря, то они смогут выйти отсюда живыми.
Еще. Еще чуть-чуть! Беги, Апостроф, добеги, черная точка, скройся, спрячься в черных голых стволах деревьев! Сохрани живым и себя, и товарищей. Но расстояние между бойцом и машиной сокращалось. Оставалось всего лишь несколько метров. Один рывок, один прыжок. И Апостроф уже готовился его сделать. Он перестал петлять и помчался к спасительным деревьям по кратчайшему расстоянию. По прямой. Как вдруг тупой капот автомобиля закрыл его от взглядов наблюдателей. А когда машина отъехала, черная точка больше никуда не двигалась, просто оставалась неподвижной на морозном поле. Люди возле монастыря перестали беспорядочно стрелять. Из динамиков сепарских радиостанций послышалась команда, и люди с оружием двинулись к посадке, до которой так и не добежал украинский боец.
Теперь бежали они, хотя можно было бы сесть на уазик и рвануть вперед, к деревьям, не тратя силы на бесцельный бег по мерзлым донецким степям. Но, видно, люди в российском камуфляже решили, что лишний раз не стоит заводить чудо поволжского автопрома. Не ровен час откажет в самый неподходящий момент.
– Что там? – спросил Моисей командира.
– Немає більше Апострофа, – холодно вымолвил тот.
Он сдерживал слезы и берег эмоции.
Забрать погибшего не было возможности. И это понимали оба.
Во дворе монастыря оставались уазик и страшная термобарическая установка. Находился ли кто-нибудь внутри гусеничного монстра, с колокольни не было видно. А рядом с рашен-джипом стоял майор. Его так и подмывало заглянуть в церковь, туда, откуда выбежал этот быстрый укроп. Майор с походкой курицы рассчитывал найти снайперскую лежку бойца, но вместо этого увидел нечто другое. Его длинная птичья шея выгнулась от страха, когда глаза уперлись в ствол автомата.
– Сюрприз, – показалась над стволом улыбка Мозеса. – В церкви не стрелять, однако.
Майор с птичьей походкой, не дожидаясь команды, стал вынимать оружие и документы и осторожно, медленно класть их на осколки разбитого церковного стекла.
Мозес, сложив дудочкой губы и напряженно подняв вверх подбородок, спросил врага:
– Местный?
Майор отрицательно мотнул своей головой. Даже это движение у него вышло по-птичьи.
– Россиянин?
Теперь уже человек-птица кивнул головой утвердительно.
– Ясно, – сказал Леопард, спустившись с колокольни.
– Кто в машине? – спросил Мозес.
– Никого, – ответил майор.
– Тоді вперед, – Леопард указал ему на дверь.
Они тихо вышли во двор и двинулись к машинам.
– Не стоит, Леопард, – сказал Мозес. – На ней мы не вырвемся.
Командир согласился.
– Стой здесь, – сказал он майору по-русски, и офицер понятливо кивнул. Они остановились возле машин.
Направив оба ствола на российского офицера, бойцы «Правого сектора» пятились к коллектору. Они осторожно ступали по земле и так же осторожно, прикрывая друг друга и не отводя стволов от россиянина, один за другим принялись спускаться вниз, в бетонный колодец. Стрелять в майора не стали, но не по гуманным соображениям. Он оставался живым и невредимым из-за нежелания правосеков поднимать шум. Леопард скрылся в люке, за ним туда полез и Мозес.
И тут вдруг любитель классических джазовых напевов попросил командира:
– А дай мне «муху», Леопард.
Командир мог отказать. И наверняка отказал бы в более спокойной ситуации. Если бы успел подумать о последствиях. Но сейчас его мозг, перевозбужденный адреналином, страхом и азартом, не смог понять, что хочет делать Мозес с зеленым тубусом.
Леопард был на дне бетонного колодца, когда услышал от бойца невнятное «Вальну-ка я по этой дрезине». Леопард безошибочно определил, что речь идет вовсе не о зеленом «бобике», а о тяжелой установке. Был у бойца соблазн одним ударом покончить со страшной машиной. Но это вряд ли могло получиться. Слишком массивной она была для одноразового гранатомета.
– Вот и пригодилась труба, – сказал Мозес, взводя гранатомет. Леопард снизу увидел, как ноги бойца, наполовину высунувшегося из люка, ищут точку опоры. Но все снова пошло не так. В этот момент во двор монастыря вернулся Николаич на джипе. Он по дороге пособирал своих бойцов, и теперь они недолго думая открыли огонь в сторону Мозеса. Сразу несколько пуль вошли в слабую человеческую плоть, и тело задергалось в конвульсиях. Он погиб почти мгновенно, но рука уже мертвого солдата нажала на спуск гранатомета. Снаряд, издав страшный грохот и шипение, вырвался из трубы и помчался в сторону цели. Конвульсии вынудили его поменять первоначальную траекторию, и вместо гусеничной установки он вошел в распахнутую дверь уазика. Снизу Леопард услышал взрыв, но видел над головой только черно-красные клубы и ноги Мозеса. Они соскользнули с металлических скоб и безвольно повисли почти что у самого края колодца. Разгрузка Моисея, зацепившись за выступ арматуры, не дала упасть ему на дно колодца и тем самым спасла жизнь командира.
– Лисий, Черкес! – крикнул он в темноту гулкого тоннеля. – Сюди!
Тело Мозеса уже оттягивали от люка, и Леопард понимал, что будет дальше. В колодец полетит граната, и если она их не порвет, то наверняка контузит. И тогда они вряд ли дойдут к своим. Но если он решился оставить мертвых на поле боя, то с живыми так поступить он не мог. И Лысый с Черкесом успели подбежать по тоннелю до того, как вход в колодец открылся перед противником. Вперед! Опасность оставалась позади.
– Что там? – спросил Лысый, экономя слова и дыхание.
– Обидва «двохсоті» вони. Але ми маємо щось дуже важливе. Друг Апостроф записав, Царство йому небесне. – И, почти незаметно крестясь, тяжело и прерывисто дыша, комроты помахал на бегу пластиковой камерой. – Тільки твоя «муха», Лисий, нас не врятувала, а, навпаки, не вберегла Мозеса. Ех, Мойсеюшко.
Сзади разорвалась граната. Но они были уже достаточно далеко от колодца. Лишь осколки визгливо чиркнули по стенам тоннеля, да ударная волна чуть толкнула их вперед, помогая уйти от преследователей. Так на мгновение показалось Леопарду. По тоннелю он шел первым. За ним Лысый. Замыкал их маленькую группу Черкес.
– Кажется, оторвались, – сказал Черкес.
– Зарано радіти, – с сомнением прокомментировал его слова Леопард.
И он опять пожалел, что оказался прав. За их спинами слышались грохот и шум. Но гранаты больше не рвались, и это все означало, что сепары решили спуститься в коллектор.
– Быстрее, парни, быстрее, – сипел Лысый, борясь с одышкой. – Зря я забил на физо!
Черкес засмеялся. Сейчас он отлично понимал офицера. Его живот, размерам которого мог позавидовать сам Гаргантюа, абсолютно не мешал, когда его владелец стрелял из гранатомета или крупнокалиберного пулемета, но создавал массу проблем при беге. И Черкес ждал, когда можно будет перейти с бега на шаг. К тому же бежать в трубе, пускай и большого диаметра, – это не утренняя пробежка трусцой на свежем воздухе. Двигаться приходилось, постоянно пригибаясь, словно выполняя на физкультуре ненавистное всем неспортивным студентам упражнение «походка уточкой». Черкесу казалось, что колени цепляются за его живот и скоро протрут хорошую немецкую разгрузку, которую привезли волонтеры. И что магазины с грохотом стукнутся о бетон. Его мысли вернул к реальности совсем другой грохот. Автоматной очереди.
В бетонной трубе автомат грохочет, как пушка. Пули цепляют бетон и с неприятным визгом теряются в темноте. Противник уже на дне колодца.
– Не зажигай факел, – донеслось до беглецов. – Можем задохнуться.
– Они нас тут поймают, как зайцев, – сказал Лысый.
– Не поймают, – возразил Черкес. – А ну, Лысый, дай свою трубу.
И, не дожидаясь ответа, он подтянул к себе офицера, схватившись за гранатомет на его спине, и, с изяществом силача-эстета, одним движением высвободил Лысого из лямки. Дальше все произошло в течение нескольких секунд.
Черкес направил гранатомет в сторону злых вспышек автоматных очередей.
– Аллах акбар! – крикнул он, нажимая спуск. Это были его последние слова. От взрыва дрогнули железобетонные стены трубы. Резкая боль в ушах не помешала бойцам услышать дикие вопли преследователей. Но шок у них прошел быстрее, чем ожидал Черкес, хватаясь за гранатомет. С той стороны коллектора застучали автоматы. Теперь они стреляли точнее. Они видели вспышку и смогли оценить расстояние до беглецов. Пули с глухим ударом вошли в большое и сильное тело Черкеса, и он молча упал на колени, а потом свалился на левый бок, так и не выпуская пустой зеленый тубус из рук.
Но огромный Черкес, даже мертвый и молчаливый, прикрывал и спасал своих товарищей. Преследователи были очень сильно озадачены тем, как оттащить в сторону Черкеса и продолжить дикую погоню. Он мешал им идти вперед.
– Прости, друг, что оставляем тебя, – тихо произнес Лысый.
Он понял, что мертвый Черкес остановил погоню.
– Колись ми ще повернемось за тобою, друже Черкес, хоч я і не знаю коли, – быстро перекрестился Леопард, не сбавляя шага.
Они выбрались из коллектора, оглянулись. Потом короткими перебежками помчались в сторону болота.
– Два гранатомета, – бормотал Лысый. – Оба пригодились.
– Та ні, друже Лисий, – обескуражил его правосек. – З першого Мойсеюшка шмальнув і розкрив нас. Якби не той перший, то й другий не став би у нагоді. Що я можу сказати? Хто зна, може, й хлопці тоді б вціліли. Хто зна…
Но он заставил себя не продолжать этот разговор. Времени для пустых слов не было. Холодная вода вязким грязным киселем цеплялась за ноги. Леопард на ходу замотал драгоценную камеру в целлофановый пакет, который всегда носил с собой, и спрятал ее в нагрудный карман.
Болото становилось все более вязким. Сверху поверхность уже покрылась тонкой корочкой льда, и Леопард, как ледокол, уверенно рассекал ее мощной грудью. А илистое дно так и норовило стянуть хорошие канадские берцы. Леопарду на мгновение показалось, что он спит и, как это было в детстве, видит страшный сон. За ним гонятся злые люди, а он хочет от них убежать и не может пошевелить ни рукой ни ногой. Наконец из последних сил он переставляет ватные ноги, но преследователи уже тут как тут. Вот они тянут к нему свои корявые руки, еще мгновение – и они схватят его, и… Он просыпается. Так было в детстве. Во сне. А сейчас не детство и не сон, а реальное болото и реальные злодеи за спиной.
И над головой. Лысый ткнул его кулаком в широкое плечо:
– Посмотри наверх, Лео.
Леопард поднял голову и увидел небольшой самолет. Нелепый, несуразный, как детская игрушка, он кружил над ними, издавая смешное жужжание, от которого у комроты мурашки просто стаей пробежали по спине.
– Безпілотник. Це вони нас шукають, Лисий.
– Если они беспилотник ради нас запустили, значит, мы им очень нужны. Очень.
– Навіщо? Вони ж не знають, що ми цю залізну арбу зняли, хай би їй грець.
– Какую арбу? – удивился Лысый.
– Термобаричний залповий вогнемет. Щось типу того. Я жодного разу такої дури не бачив. Апостроф відзняв. А я тепер маю донести це відео.
Лысый посмотрел вверх, на смешные пируэты жужжащего самолетика.
– Значит, мы ее видели. Арбу, как ты говоришь. Им важно любыми способами скрыть факт ее пребывания на Донбассе. Беспилотники они используют только во взаимодействии с артиллерией. Что это означает на сей момент?
– Що, друже?
– А это означает, что они могут болото накрыть «артой» или выжечь тем же залповым огнеметом. Я бы на их месте именно так и сделал. Представь всю эпичность ситуации. Украинские бойцы гибнут от того самого оружия, весть о наличии которого торопились передать своим товарищам.
– Лисий, як на мене, ти дуже розумно розмовляєш. Не базікай зайвого, – возмутился Леопард. – Я не збираюсь прямо тут…
– И я не собираюсь, – перебил его Лысый, – но нам нужно решить, что делать.
Двое загнанных людей в грязном камуфляже пытаются выжить и проводят военный совет посреди болота в тылу у противника. А всевидящее око беспилотника наблюдает за ними. Ехидно жужжа, посланец смерти напоминает бойцам о своем присутствии.
– Они будут бить сюда. Через несколько минут, максимум через полчаса.
– Давай його зіб’ємо?
– А смысл? Он нас уже нашел.
– Твоя пропозиція, Лисий?
– Разделиться. Ты – левее, я – правее. Беспилотник один. Не будет же он метаться между тобой и мной. Мы разделим шанс на выживание. Поделим его на двоих. Пятьдесят на пятьдесят. Либо ты, либо я. А иначе мы получим сто процентов вероятности… ты сам знаешь чего…
– Так-то воно так, – сказал Леопард, и это означало, что он думает.
А думал он быстро.
– Хто візьме камеру? – спросил он Лысого и загадал про себя: «Як цей хлоп скаже, так і буде».
– Какая разница, кто ее несет. Это же лотерея, – бросил Лысый. – Хочешь, неси ты.
Они крепко сомкнули загрубевшие ладони и обнялись. Две разгрузки глухо звякнули магазинами.
– Прощавай, друже Лисий. Побачимось… колись…
«Колись», – грустным эхом отозвались у Лысого в сознании слова побратима.
Страшный детский сон все не кончался. Преодолевая мягкую силу болота, Леопард шел вперед и не оглядывался на Лысого. А Лысый решил повысить свои шансы на выживание и двинулся в сторону сепарских блокпостов в надежде, что по своим противник стрелять не будет.
Когда в небе что-то мощно свистнуло, Леопард инстинктивно втянул голову в плечи и сгруппировался.
За свистом последовал взрыв, далекий, единственный. Он думал, что бить будут «саушки», но оттуда прилетела одиночная «градовская» ракета.
Леопард догадался, что это был пристрелочный выстрел. Дальше они положат как минимум пакет. Об этом несложно было догадаться. Вопрос только, кому достанется море огня – Лысому или Леопарду.
Комроты шел и шел. Ему казалось, что целая вечность прошла между пристрелочным выстрелом и основной порцией выстрелов «Града».
«Хто? – гудело в его голове. И он пытался унять этот гул, увещевая самого себя: – Це не важливо хто. Це лотерея. Мовчи, боягузе, мовчи».
Страшно было молчать. Но страшно было и думать. «Хто?! Він чи я?! Він?! Чи я?!»
Он готовился к тому, что его сознание должно отключиться, как выключают свет, только вся разница в том, что и темноты он не ощутит.
«Ні, – перекрикивал разум ползучую гидру страха. – Там щось є. Я в це вірю, я до церкви хожу. Там щось є!»
А страх кричал и каждой клеткой напоминал о себе.
«Хто? Він?»
И когда в стороне от него вверх поднялись столбы воды, он понял, что ему достался спасительный шанс. Вода кипела. Воздух неистово шипел. От грохота содрогалась земля. Его трясло то ли от ужаса, то ли от ярости. Ракеты ложились туда, где он распрощался с Лысым. Он время от времени нырял с головой в холодную ледяную крошку, но не переставал считать ракеты. Один, два, три. Они падали, как дождь. Как наказание за существующие и несуществующие грехи. Десять, пятнадцать. Как последнее веское слово царя соседней страны. Тридцать девять.
Их было сорок. Он насчитал. Даже пакет не пожалели.
Целый пакет на одного-единственного человека, отводившего смерть от Леопарда. «Дякую тобі, брате, тепер я в довічному борзі перед тобою!» Вот что думал Леопард.
Он не помнил, как добрался до снайперской лежки возле подсолнухов. Она вроде бы не понадобилась, и Варан с Эсквайром лежали без дела, разглядывая подходы. Они слышали грохот и затаились. А потом, когда огненная буря прошла, из воды вылез человек. Ни Варан, ни Эсквайр не смогли быстро определить, кто это, и Варан как самый молодой и самый горячий из двоих хотел использовать свое снайперское умение, но Эсквайр попросил того не стрелять. И Варан сделал так, как попросил старший.
Он не стрелял. И Леопард добрался до своих. Лежа на спине, он засунул руку во внутренний карман и потом, достав целлофан с камерой, передал ее Эсквайру.
– Что это? – спросил картограф, покрутив в руках пакет.
– Ти розумний, друже Есквайр, розберешся.
Леопард приказал товарищам уходить и оставить его на позиции. Бросить. Они хотели его тащить на себе, но Леопард понял, что это невозможно. Они никак не могли понять, что с ним происходит, почему он не может идти. Ведь он не ранен, не контужен, все цело, руки-ноги двигаются, почему ж не идти? А он уже не мог объяснить им, что он просто выжал из себя все, что только возможно. Вязкий сон еще не отпустил его, а батарейка уже села. Некстати.
И тут Эсквайр увидел два БМП. Они двигались на них, медленно вращая башнями из стороны в сторону. Когда до снайперской лежки им оставалось не более четырехсот метров, задние двери боевых машин открылись и на морозное поле высыпала пехота. Бойцы двигались профессионально, с перекатами, то рассредоточиваясь, то собираясь в одну точку, чтобы скоординировать свои действия с командиром их небольшого отряда. Перекаты, короткие аритмичные перебежки… Это были не ополченцы-боевики, а профессиональные солдаты. Ясно без слов.
Варан уже загнал патрон в патронник и стал выбирать свою первую цель.
Леопард остановил его:
– Не треба. Бо ми всі тут загинемо. Хтось має донести це відео. Друг Апостроф встиг зняти. Не заради мене, не заради Апострофа… Заради братів. Рідних. Дойдіть, донесіть, хлопці. Всі мають це побачити.
БМП, деловито вращая гусеницами, продвигались к подсолнухам. Когда они добрались до лежки, командир отряда ополченцев увидел одинокого неподвижного бойца, лежавшего на спине и смотревшего в серое безразличное небо, сложив широкие ладони. Сначала он подумал, что укроп давно мертвый, и потерял к нему интерес, но его солдаты заметили, что грязная форма шевелится. Боец дышит. И что-то шепчет. Тогда командир вернулся к укропу и наклонился, чтобы расслышать шепот. Укроп, спокойно улыбаясь небу с чуть прикрытыми глазами, бормотал что-то абсолютно невнятное.
– Апостроф, Мойсеюшко, Черкес, Лисий, пробачте мені. Простіть мене всі. Скоро побачимось, Лисий. Ми переможемо. Ми вже перемогли.
А потом он со знакомым щелчком раскрыл ладони, и у командира ополченцев оставалось только мгновение, чтобы с ужасом рассмотреть, что укроп держит в руках две гранаты. На обеих не было колец.
Цезарь
Огромный мохнатый кавказец совал свой влажный нос в пахнущую порохом ладонь. Видно, хотел спросить: «Эй, человек, ты же умный. Скажи, когда закончится война?» Но человек не знал. Он смотрел вокруг, пытаясь увидеть хоть одно целое здание на улице. Построенные со вкусом дома глядели на человека и пса черными глазницами окон с выбитыми стеклами. Разрушенные стены, вырванные с корнем заборы. Битый кирпич на улице. Рваный металл осколков. Всего этого становилось больше день ото дня. Человеку нечего было ответить собаке.
Пес к бойцам прибился случайно. Возможно, когда-то он был надежным сторожем хозяйского дома с богатым интерьером, грозой воров. Но хозяин убежал от войны, бросив пса на милость судьбы. Да и дома тоже не было. Руины. Пес догадался, что его спасение в человеке. И он не ошибся. Люди в грязном зеленом камуфляже любили его, мохнатого и подобревшего зверя.
– Да, все вокруг меняется, – посмеивался невысокий человек в черной шерстяной феске. – На войне звери добреют, а люди, наоборот, звереют.
Этот человек пах порохом, машинным маслом и массой других всевозможных запахов, которые раньше пес терпеть не мог. А вот теперь, едва уловив ароматы незнакомого человека, он тут же выскакивал из-под согнутых створок металлических ворот и бежал навстречу. Человек приносил ему еду и приятно трепал за ухом. С ним можно было поиграть, встав на задние лапы и уперев передние в грудь. Пес раскрывал пасть и нежно покусывал человека за предплечье. Он мог бы запросто одним щелчком челюстей переломить руку, но не делал этого.
– Ага, не кусай руку дающего, – смеялся человек в шерстяной феске и трепал толстую шею зверя.
Вскоре, после очередного обстрела, пса пришлось забрать из этого дома в соседний. Таких людей, в камуфляже и фесках, там было много. От каждого пахло маслом, порохом и металлом. Лязгая своим снаряжением, они ходили туда-сюда, то покидая здание, то возвращаясь в него. Движение не прекращалось ни днем ни ночью, как не прекращался гул и грохот от обстрелов в поселке. Но пес даже в этом калейдоскопе звуков и запахов безошибочно находил тот, который принадлежал его другу. Впрочем, все люди в этом доме стали его друзьями. Этот, в феске, был его первым, а значит и главным.
– Как же нам звать тебя? – спросил, глядя в собачьи глаза, его друг.
– Кажется, его Цезарем звали, – с сомнением подсказал другой боец.
– Ты Цезарь? Цезарь? – позвал главный друг.
Пес, высунув язык, преданно глядел на него.
– Ну, значит, будешь Цезарь, – твердо сказал друг.
Пес дружелюбно махал хвостом, словно соглашаясь с тем, что человек всегда прав, что бы он ни решил.
Мохнатый Цезарь чувствовал себя все увереннее и увереннее с людьми в камуфляже. Они перестали обращать внимание на далекие разрывы, и пес вместе с ними сохранял спокойствие.
– Идем, Цезарь, пройдемся, – бывало, приказывал ему главный друг, повесив на плечо автомат.
Небольшая группа людей совершала прогулку по поселку. Двигались перебежками, от дома к дому, часто прокладывая свой маршрут не по улице, а через развалины. И Цезарь послушно трусил за ними, то плетясь след в след, то забегая вперед. А иногда, услышав издалека мерзкий свист, люди падали на землю там, где шли. Обычно после этого что-то хлопало. Люди, послушав отголоски взрывов, поднимались. Перебежками двигались дальше.
Прогулка длилась долго.
Но гораздо больше времени главный друг Цезаря мог проводить возле машин. Они все время нуждались во внимании, часто выходя из строя. Машины оставались без стекол или возвращались к дому с порванными колесами. А чаще всего их подтягивали на буксире и оставляли во дворе. И тогда человек в шерстяной феске вздыхал и, вооружившись всевозможными железными штуками, залезал в середину испорченных механизмов, после чего они, кряхтя и чихая, заводились. Иногда на это уходил час. Иногда целый день. Сколько бы ни длился ремонт, верный Цезарь крутился рядом с другом. Ну, правда, отлучался ненадолго по своим собачьим делам. Но вскоре возвращался, чтобы дождаться, когда его друг забудет о машине и примется трепать большую мохнатую голову за уши. Тогда можно встать на задние лапы, покусывая человека за плечо. Конечно, не сильно, не всерьез.
– Ах ты, зверюга, – смеялся друг.
Он пытался прижать Цезаря к земле. И это у него не получалось. Кавказец был сильным и быстрым зверем, умеющим подчиняться, но не любившим проигрывать.
Однажды вожак этой пятнистой человеческой стаи пришел домой в плохом настроении.
– Что случилось? – спросили его товарищи.
– В крайнем доме я увидел свежую лежку. Матрац перед окном. Рядом кирпичи. Стоят, как упор, возле матраца. Есть консервы. Что будем делать?
– Снайпер, – сказал человек в феске.
– Ясно, что снайпер, – подтвердил вожак. – Предлагаю на него поохотиться.
Люди в зеленом камуфляже принялись обсуждать, как лучше и правильнее охотиться на чужака. Решили выходить двумя группами, обходя крайний дом с флангов. Была зима, и бойцы приготовили белые маскхалаты, чтобы надеть их поверх камуфляжа. Они поднялись до восхода солнца и проверили свое снаряжение.
– А давайте Цезаря с собой возьмем, – предложил человек в шерстяной феске. – Он же сторожевая собака. У него нюх ого-го какой! Может пригодиться.
– Отличная идея, – сказал вожак, и все с ним согласились.
– Смотри, Цезарь, не залай, не выдай нас, – потрепал его за ухом человек в черной феске.
Шли двумя цепочками, стараясь двигаться бесшумно. Цезарь неторопливо семенил рядом со своим другом. Обычно во время таких прогулок он потрепывал пса. А тут впервые не обращал никакого внимания на четвероногого товарища. И пес не совал ему нос в ладонь – чувствовал ответственность момента.
Две группы подошли к дому. Вожак приказал занять позицию и наблюдать. Бойцы выключили рации. Они заранее договорились, кто и как будет действовать в режиме полного молчания. Вокруг было тихо. Ночь показалась людям непривычно спокойной.
Дом стоял на окраине села. Это было довольно большое строение, целая усадьба с бассейном, зимним садом и чугунными химерами, примостившимися на каменных тумбах перед входом в дом. Здесь не было ни одного целого стекла, но, в отличие от соседних домов, крыша уцелела во время частых обстрелов. Бетонные перекрытия делали его надежным убежищем для военных. Но они сюда сначала заходили лишь для проверок. А потом перестали наведываться вообще. Однако свежие следы на снегу говорили о том, что в доме бывают и другие посетители. Надо только понять, есть ли сейчас кто-нибудь внутри.
Люди остановились и прислушались к звукам ночи. Они подходили, пробираясь через соседние разрушенные дома. Через дыры в бетонных и кирпичных заборах. Они знали этот поселок как свои пять пальцев и старались как можно больше знать о новых разрушениях. К обстрелам поселка относились как к стихийному бедствию, неизбежному, но предсказуемому, от которого спасали надежные перекрытия в подвалах. В этом доме были именно такие. Но дом стоял на краю села. И, значит, был риск первыми встретить нападение со стороны врага. Но, с другой стороны, здесь нужно было делать наблюдательный пункт, чтобы вовремя засечь врагов. «Снова подтверждается главное правило позиционной войны, – думал командир, – если ты не занял удобную позицию, то ее займет противник».
Цезарь, конечно же, не мог знать, о чем говорят и думают люди. Но его мудрые и сильные друзья всегда были правы. Он с ними, поэтому у него была еда и теплое место. Он знал глаза каждого из них. Он мог любого из своих могущественных друзей узнать по звуку шагов и помнил их запахи, у каждого свой.
И вот он почуял, что где-то недалеко есть чужой. Этот чужой носил одежду, похожую на ту, в которой ходили его мудрые друзья. Его руки пахли порохом и маслом, как у человека в черной феске. Но при этом Цезарь уловил, что этот человек был злым. Он был охотником, пришедшим за добычей. А добычей могли стать его друзья. Чужой охотился за ними.
Люди притихли, затаились. Цезарь вместе с ними постарался стать бесшумным, чувствуя важность момента.
Ветер подул со стороны большого города и принес запах дизельных моторов. Где-то далеко стреляли автоматы одиночными и короткими очередями. Рядом было удивительно тихо. Но так думали люди. Цезарь слышал, как внутри здания дышал чужой. Чужой тоже старался быть незаметным и неслышным. Цезарь посмотрел на людей. Они этого чужого не слышали. И он решил ждать.
Для человека время ожидания тянется медленно. Звери ощущают время по-другому. Человек думает, что он хозяин мира, вершитель судеб, царь природы, и поэтому нетерпелив. Он не любит ждать, он считает, что все должно происходить так, как он хочет, а не так, как должно происходить. Животные чувствуют, что они – это часть природы, и не торопят события, а просто ждут. Известны случаи, когда собаки ждали своих хозяев годами. Многие это считают проявлением нечеловеческой верности. Но что есть верность, как не терпение и ожидание? У некоторых людей, кстати, тоже так получается. Если бы все так умели терпеть и ждать, возможно, не было бы этой войны.
Окно на втором этаже озарилось вспышкой. Цезарь внезапно увидел черный силуэт чужого в красном пламени выстрела. Темнота разразилась грохотом. Потом крик:
– А-а!
– У нас раненый! – громко сказал вожак человеческой стаи. – Он в доме! Видит нас!
– У него тепловизор, – услышал пес голос своего друга в феске, но, конечно, ничего не понял. Он плохо разбирался в том, что говорят люди, зато хорошо понимал, что они чувствуют. А они чувствовали азарт. И немножко страх. Ровно настолько, чтобы контролировать опасность, сохраняя способность действовать.
Они открыли огонь. Сначала одна группа, потом вторая. Послышался грохот выстрелов и шорох бетонной крошки. Люди включили фонарики. Смысла прятаться уже не было.
– Забросай его ВОГами! – крикнул командир одному из тех, кто был поближе к дому. От грохота разрывов Цезарь вздрогнул и почувствовал запах дыма. На втором этаже, там, откуда по людям стрелял чужой, что-то загорелось. Люди бежали в сторону дома. Трескотня автоматов становилась все яростнее. Им казалось, чужой на втором этаже принял вызов. Но собака поняла то, в чем не разобрались люди. Чужой решил сбежать.
– Куда ты, Цезарь? – крикнул его друг в феске, когда пес кинулся прямо под автоматные выстрелы. Но он не стал забегать во двор, а побежал что было сил по улице вдоль бетонного забора.
– Цезарь! – еще раз крикнул человек, но так и не бросил свою стаю, чтобы остановить обезумевшего пса.
Однако Цезарь был в полном порядке. Он почувствовал, что чужой сбежал. И он понял своим собачьим чутьем, откуда и куда будет бежать его добыча. Люди вскоре догадались, что в ответ из дома им никто не стреляет, но сами продолжали стрелять. Это адреналин в их крови заставлял с силой нажимать на курок, и к грохоту выстрелов добавился какой-то посторонний звук. То ли стон, то ли рычание.
– Прекратить огонь! – приказал вожак стаи.
Автоматы замолчали, перестали плеваться свинцом. Да, действительно. Кто-то и стонал, и рычал одновременно.
– Это за домом! – догадался командир. – Двое за мной, остальные здесь!
Побежали по улице, завернули за дом. Рычание было слышно отчетливо. Стон чуть приглушен. Стон, визг и еще какое-то причитание. Люди включили фонарик и увидели лежащего на земле человека с окровавленными, неестественно изогнутыми кистями рук. На его груди, придавив ее передними лапами, стоял мохнатый разъяренный пес. Его зубы почти сомкнулись на горле лежащего на земле чужого. Тот неловкими движениями пытался сорвать, столкнуть с груди зверя, но окровавленные руки его плохо слушались. Рычал пес. А чужой визжал. И, судя по звукам, пес не дожимал свои смертоносные челюсти до конца, оставляя добычу в живых.
– Цезарь, ко мне! Иди сюда!
Это скомандовал человек в черной феске. Услышав знакомый голос, пес спрыгнул с груди своей добычи. Дружелюбно помахивая хвостом, он побежал к своему товарищу, который, хоть и не сообразил сразу, где находится чужой, все же в конце концов пришел на подмогу, да еще и с остальной стаей. Добыча далеко не ушла. Чужого крепко связали и отнесли в подвал того дома, в котором жила человеческая стая. А спустя некоторое время он, с искусанными перебитыми руками, появился на пороге дома в сопровождении людей в камуфляже. Он и сам пытался замаскироваться под людей, тоже был в камуфляже, таком же потном и грязном, как и у всех в этом селе, но все его ухищрения не имели смысла. Он был чужим. И, глядя на пробегавшего мимо Цезаря, издал какой-то шипящий звук. Очень неприятный и злой. Да, несомненно, это был чужой. Его увезли, и Цезарь чужого больше никогда не видел.
А потом к этому дому с теплым подвалом прибилась черная робкая овчарка. Она вертелась возле ворот, боясь подойти. Ее пугал суровый и грозный вид Цезаря, и, чтобы она не боялась, Цезарь медленно и с достоинством помахал хвостом. Овчарка поняла, что ее не прогоняют, и обнюхалась с Цезарем. Пока она сканировала его морду и шею, Цезарь, не издавая ни звука, стоял и ждал. И лишь слегка косился на ее нос. Он пытался контролировать ситуацию. Кто знает, что на уме у бродячих овчарок? Но ее запах мохнатому кавказцу понравился. В этом запахе было отчаяние, страдание и даже голод, но не было страха. Разве что немного. Как у людей.
– Ого, тут еще собака крутится! Черная! – воскликнул его друг в феске, когда, спустившись с небольшой лестницы, увидел, как Цезарь знакомится с овчаркой.
– И что? – спросил вожак человечьей стаи.
– Может, оставим?
– У нас что, питомник? – поинтересовался кто-то из бойцов.
Человек в черной феске вздохнул, потом набрал полные легкие воздуха и на выдохе, чтобы звучало уверенней, сказал:
– Цезарь взял диверсанта. Значит, ему полагается награда. Считаю, что он заслуживает поощрения.
– Но мы ж ему дали…
– Что «дали»? – заступился за друга человек. – Еды? Так он съел и забыл. А так им вдвоем будет веселее.
– Ладно, – сказал вожак. – Но если вдруг пойдут щенки, ими будешь заниматься ты. Плюс?
– Плюс-плюс! – радостно согласился человек в черной феске.
А овчарку назвали Мухой. Теперь она всегда и везде была рядом с мохнатым Цезарем. И если на разбитой снарядами улице появлялся чужак, или пес, или человек, то с громким лаем на него неслись два клубка собачьей энергии – коричневый, Цезарь, и черный, Муха.
Прошло совсем немного времени. В селе, казалось бы, меньше стало грохотать и неприятный свист не так часто резал чуткий слух собак. Да и люди стали менее напряженными. По улицам они уже ходили ровно, не пригибаясь и не перемещаясь от здания к зданию перебежками. В доме людей стало больше. Часто приезжали и такие, на ком не было зеленых пятнистых штанов, а поверх курток были наброшены белые широкие балахоны. Они не пахли порохом и маслом. От них исходил запах вкусной еды. И страхом от них пахло больше, чем от пятнистых друзей Цезаря. Человек в черной феске часто ходил вместе с ними по улицам села и показывал развалины. А однажды во время таких прогулок раздались взрывы. Много взрывов. Страшный грохот поднялся в селе.
– Мины! – кричали черные шипящие прямоугольнички, которые люди носили на куртках. Они прятались.
Друг Цезаря потащил его в укрытие. Это был подвал, где обычно спали люди и где во время обстрела они прятали собак. Дом дрожал, как будто его лихорадило от страшной неизлечимой болезни.
– Это бьют по нам! – сказал вожак человеческой стаи. Но, пожалуй, слова были лишними. Все и так понимали, что происходит. Звенели последние уцелевшие стекла. Сверху доносились крики и брань. Неистово и бессмысленно трещал пулемет.
– Вот сволочи, – почти беззлобно бросил человек в черной феске.
Мохнатый пес рыскал по подвалу между кроватями, сложенным оружием и канистрами с водой. Не обращая внимания на встревоженных людей, он крутился у них под ногами в поисках чего-то более важного, чем еда и возможность спрятаться в безопасном месте.
– Цезарь, ты куда? – крикнул его друг, когда пес, так и не найдя то, что искал, побежал наверх, к выходу, и выскочил во двор. – Ты куда? – кричал могущественный и мудрый друг, так и не сумев понять, что Цезарь бросился на поиски Мухи, которой не было в подвале.
Тяжелые мины визгливо свистят. Менее тяжелые подлетают едва слышно. Они ложились по домам и по улице. Комья бурой земли взметались вверх столбом. Воздух грохотал и пах металлом. Цезарь искал Муху, не обращая внимания на железные болванки, и только рычал, поворачивая пасть с острыми клыками в сторону дымящихся воронок. Человек выскочил во двор.
– Цезарь, ко мне!
Но пес его уже не слышал. Рядом с ним разорвалась стальная мина, отбросив пса назад и обсыпав его металлом. Цезарь замолчал мгновенно. Его шерсть почти слилась с бурым цветом земли перед домом.
– Цезарь! – сильно, как зверь, кричал человек в черной феске. Мины продолжали падать, но неподвижный пес уже не обращал на них внимания.
Командир отряда добровольцев, узнав новость, приказал своим бойцам похоронить смелого пса с офицерскими почестями.
– Он вместе с группой выходил на задание. Он отличился во время поиска снайпера. Значит, он достоин награды, – так решил офицер.
– Он словно зубами хотел поймать эти мины наших врагов! Он защищал поселок вместе с нами как мог. Ведь говорят, не можешь стрелять – грызи врага зубами. Правильно, друзья? – произнес речь над могилой героического пса его друг, боец в черной шапочке-балаклаве на голове. И пятеро автоматчиков вскинули свое оружие, чтобы сделать залп. Тройной. Именно так военные прощаются с военным.
Дом, в котором под обстрелом прятались добровольцы, пришлось оставить. От попадания снарядов его крыша развалилась, и солдаты решили найти более удобное место для ночлега. Человек в черной феске иногда наведывался сюда, чтобы забрать всякую житейскую мелочь, уцелевшую после обстрелов. Миски, походные газовые горелки, консервы.
В один из таких визитов он услышал, что, кроме него, в развалинах есть еще кто-то. До него доносились писк и тихое рычание. Он пошел на этот звук, на всякий случай передернув затвор автомата. Но, войдя в центральную комнату, над которой через дыру в потолке проглядывало дождливое хмурое небо, тут же отставил его в сторону и засмеялся. Скорее удивленно, чем радостно.
На полосатом матраце лежала черная овчарка и внимательно смотрела на него, навострив смешные уши-локаторы. А рядом, возле ее теплого живота, повизгивая в борьбе за мамино молоко, ползали и толкались семеро круглобоких щенков.
Вечер (Вместо послесловия)
Варан и Эсквайр сидели на плоской крыше полуразрушенного дома и глядели на укрепрайон противника сквозь глазок тепловизора, друг другу передавая драгоценный прибор. Уже несколько дней с той стороны не стреляли, и бойцы с удивлением вслушивались в тишину, ожидая подвоха. Но в то же время тишина расслабляла, соблазняя возможностью поболтать на невоенные темы. Как говорится, почесать языком. Варан оторвался от глазка:
– А знаешь, Эсквайр, я с удивлением обнаружил, что украинский флаг изначально выглядел несколько иначе. Есть даже фотографии начала прошлого века, где желтый вверху, а синий внизу. Некоторые говорят, что именно поэтому у нас сейчас многое не ладится. Это же мистика символов! Стоит перевернуть флаг, и мы сразу станем успешными. И все станет на свои места!
Эсквайр, опершись ладонью на станок гранатомета, подумал несколько секунд, прежде чем ответить:
– Возможно, это так и есть. Но тысячи парней проливали кровь именно за этот флаг. За эти неправильно расположенные прямоугольники. За золотой снизу и синий сверху. За поля и за небеса. И даже если ты прав, друже, даже если некогда все было по-твоему, то сейчас все иначе. Они уже освятили этот флаг своей жизнью. И смертью. Все меняется, друг Варан, все постоянно меняется.
Вечер наваливался медленно и неизбежно. Он дышал тревогой, но ее отгонял звонкий лай щенков вдалеке, а степной ветер подхватывал и уносил прочь от этого места. Туда, где не дают уснуть ну разве что соловьиные трели да треск цикад под огненными трассерами сорвавшихся звезд, исполняющих любые желания.