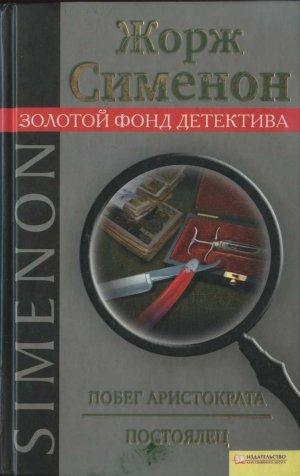
Персонажи и события, о которых здесь рассказано, полностью вымышлены и не имеют ни малейшего отношения к каким-либо реальным лицам, ныне живущим или умершим.
1
Было пять часов дня, самое начало шестого — большая стрелка часов едва начала склоняться вправо, когда мадам Монд ворвалась в приемную полицейского комиссариата вместе с волной ледяного воздуха — дело происходило 16 января.
Она, должно быть, выскочила из такси или, может, из частного автомобиля, черной стремительной тенью пересекла улицу Ларошфуко, вне всякого сомнения, споткнулась на скверно освещенной лестнице, а дверь толкнула так властно, что заставила всех изумленно оглянуться на грязно-серую створку, снабженную системой автоматического закрывания. Медлительность, с которой та возвращалась на место, по контрасту с мадам Монд выглядела до того смехотворной, что простолюдинка в платке, без шляпы, которая, так и не присев, томилась в очереди уже больше часа, подтолкнула одного из карапузов, цепляющихся за ее юбку, и шепнула ему:
— Иди закрой дверь.
До этого вторжения все шло обычным порядком, по-свойски. По одну сторону балюстрады располагались нижние чины в полицейской форме или попросту в пиджаках, кто строчил, кто грел руки у печки; по другую ждали посетители, стоя или сидя на длинной скамье у стены; когда очередной, раздобыв нужную бумагу, направлялся к выходу, прочие на шаг приближались к цели, а первый освободившийся клерк поднимал голову. И хотя пахло здесь неважнецки, две лампы под зеленым абажуром светили тускло, однообразное ожидание и чернила с фиолетовым отливом, которыми надо было заполнять анкету, наводили уныние, все воспринимали это мирно; нет сомнения: если бы непредвиденная катастрофа на какое-то время отрезала комиссариат от внешнего мира, люди, собравшиеся здесь, в конце концов зажили бы сообща, словно некое племя.
Никого не задев, женщина прошла мимо очереди и встала впереди — вся в черном, с очень белым, густо напудренным лицом, разве что нос слегка отливал синевой под слоем пудры. Пальцами, затянутыми в черные перчатки, жесткими, словно из мореного дуба, и уверенными, как клюв хищной птицы, она рылась в сумочке, не бросив ни взгляда вокруг. Все ждали, все уставились на нее, она же простерла над балюстрадой руку с визитной карточкой:
— Не угодно ли доложить обо мне комиссару? Будьте так любезны.
Хотя, кажется, времени разглядеть ее было достаточно, это не давало ничего, кроме самого общего впечатления.
— На вдову похожа, — пояснил чиновник, зайдя в полную сигарного дыма контору полицейского комиссара, по-соседски болтающего с секретарем-распорядителем одного из музыкальных театров.
— Одну минуту.
И тот, вернувшись, прежде чем сесть на свое место и взять протянутую ему пачку документов, эхом повторил:
— Одну минуту.
Она осталась стоять. Обе ее ноги в изящной обуви на неимоверно высоких каблуках, вне всякого сомнения, упирались в грязный пол, но, тем не менее, создавалось впечатление, будто она, как цапля, стоит только на одной. Пришедшая никого не замечала. Ее неподвижный взгляд, устремленный в пустоту, быть может, холодно, свысока созерцал клочья пепла, выпадающего из печки, а губы подергивались, как у старух в церкви, бормочущих молитвы.
Но вот дверь отворилась. Появился комиссар:
— Мадам?..
Закрыв за ней дверь, он указал на стул, обитый зеленым сукном, сам же, держа в руке ее визитную карточку, неторопливо прошелся по своему кабинету в стиле ампир, потом сел и произнес отчетливо вопрошающим тоном:
— Мадам Монд?
— Мадам Монд, да. Я живу на улице Баллю, дом 27-бис.
И она устремила полный ядовитой иронии взор на раздавленную в пепельнице сигарету комиссара — та слегка чадила, недотушил.
— Соблаговолите сообщить, чем я могу быть вам полезен?
— Я пришла уведомить вас, что мой муж исчез.
— Очень хорошо… То есть… гм… прошу прощения.
Придвинул блокнот, взял посеребренный автоматический карандаш.
— Итак, вы сказали, что ваш супруг…
— Мой муж исчез три дня назад.
— Три дня… Значит, это случилось 13 января.
— Именно: 13 января я видела его в последний раз.
Ее каракулевое манто распространяло легкий аромат фиалок, и тонкий носовой платок, который она теребила затянутыми в перчатки пальцами, был пропитан теми же духами.
«На вдову похожа», как выразился секретарь.
Стало быть, все же не вдова или, по крайней мере, определенно не была ею вплоть до 13 января, ибо на это число муж у нее еще имелся. Комиссару подумалось, что эта дама заслуживает вдовства, — странная мысль, с чего бы, кажется?
— Прошу меня извинить, но я не знаком с господином Мондом, я всего несколько месяцев как получил назначение в этот квартал.
И он выжидающе замер, готовый записывать.
— Моего мужа зовут Норберт Монд. Вы, несомненно, слышали об экспортной и посреднической фирме Монда, конторы и склады которой находятся на улице Монторгёй?
Комиссар утвердительно кивнул, впрочем, скорее из вежливости.
— Мой муж родился в том же особняке на улице Баллю, где мы живем и поныне. Он всегда там жил.
Комиссар снова отвесил легкий поклон.
— Ему было сорок восемь лет… Кстати, мне вдруг пришло в голову: он исчез в тот самый день, когда ему исполнилось сорок восемь…
— В день рождения, тринадцатого… И у вас нет никаких предположений?
Надутая мина непреклонной посетительницы без слов возвестила ему, что о предположениях речи быть не может.
— Полагаю, вы хотите, чтобы мы предприняли розыск?
Ее пренебрежительная гримаска могла с равным успехом означать, что это само собой разумеется или, напротив, не имеет для нее абсолютно никакого значения.
— Скажем, вот что… В этот день, 13 января… Прошу прощения, что задаю такой вопрос, но… Не было ли у вашего мужа каких-либо причин желать смерти?
— Ни малейших.
— Его финансовое положение?..
— Фирма Монд, основанная в 1843 году его дедом Антоненом Мондом, — одна из самых солидных в Париже.
— А в спекуляции ваш муж не мог пуститься? Или проиграться? Он не игрок?
Черные мраморные часы на камине за спиной комиссара на веки вечные остановились в пять минут первого ночи. Почему именно ночи, это же могло случиться и днем? Но при взгляде на них почему-то всегда приходила мысль именно о полуночном часе. Рядом тикал громогласный будильник, он-то показывал точное время и находился в поле зрения мадам Монд, но она все-таки снова и снова, выворачивая свою длинную жилистую шею, поглядывала на крошечные часики, висевшие у нее на груди в виде медальона.
— Коль скоро мы исключаем денежные затруднения… У вашего супруга, мадам, едва ли можно предположить наличие каких-либо забот интимного свойства, но все же… Извините, если я вторгаюсь…
— У моего мужа не было любовницы, если вы это имеете в виду.
Есть ли любовник у нее, он спросить не осмелился. К тому же такое допущение было бы слишком неправдоподобно.
— А проблемы со здоровьем?
— Никаких. Он в жизни не болел.
— Хорошо… Превосходно… Очень хорошо… Не могли бы вы описать, как ваш муж проводил время в тот день, 13 января?
— В семь утра он встал, как обычно. Он всегда и ложился, и вставал рано.
— Простите, но… у вас общая спальня?
Сухое, злобное «да» выпало у нее изо рта, будто она держала его в зубах, как камень.
— Он встал в семь и отправился в свою ванную комнату, чтобы наперекор… ладно, неважно… чтобы выкурить свою первую сигарету. После чего спустился…
— А вы оставались в постели?
Еще одно твердокаменное «да».
— Вы разговаривали?
— Он каждое утро говорит мне «до свиданья».
— И вы не вспомнили, что это был день его рождения?
— Нет.
— Так, вы сказали, он спустился…
— Он позавтракал у себя в кабинете. Это комната, где он никогда не работает, но держится за нее. Там большие готические окна, украшенные витражами. Меблирована в несколько вычурном стиле.
Похоже, она терпеть не могла ни пристрастия мужа к готике, ни витражей. Или мечтала о каком-то ином применении этой комнаты, а он упорствовал, сохраняя ее в качестве кабинета.
— У вас много прислуги?
— Чета привратников, но эту работу в основном исполняет жена. Муж — дворецкий. Еще у нас есть кухарка и горничная. Не говоря о Жозефе, это шофер, но он женат и живет отдельно. Я обычно встаю в девять, но сначала даю Розали указания, что делать в течение дня… Розали моя горничная. Она поступила ко мне на службу еще до моего замужества… Второго замужества.
— Значит, господин Монд — ваш второй муж?
— Первым был Люсьен Гранпре, он четырнадцать лет назад погиб в автомобильной катастрофе. Каждый год для собственного удовольствия участвовал в автопробеге «24 часа Ле Мана».
В общей приемной люди, ожидающие в очереди, ерзая на засаленной скамье, снова и снова передвигались на одно место вперед, а кто-то тем временем робко, едва приоткрыв дверь, выскальзывал наружу.
— Короче говоря, в то утро все шло как обычно?
— Именно. Около половины девятого я услышала, как отъехала машина, отвозившая моего мужа на улицу Монторгёй. Разбирать почту он желал непременно сам, потому и отправлялся в контору так рано. Его сын ушел пятнадцать минут спустя.
— Выходит, у вашего мужа есть сын от первого брака?
— Так же, как у меня. У него еще и дочь, она замужем. Какое-то время эта пара жила с нами, но теперь переехала на набережную Пасси.
— Очень хорошо… Прекрасно… Ваш муж действительно прибыл в свою контору?
— Да.
— К полднику он вернулся домой?
— В это время он почти всегда посещает ресторан у Центрального рынка, это недалеко от его работы.
— Когда вы начали беспокоиться?
— Вечером, около восьми.
— Так что, выходит, с утра 13 января вы его больше не видели?
— Я звонила ему вскоре после трех часов дня, просила послать ко мне Жозефа с машиной, мне надо было съездить за покупками.
— По телефону он говорил с вами нормально?
— Нормально.
— О том, что он намерен вернуться домой попозже, речь не заходила? Он не намекал на возможность какой-нибудь поездки?
— Нет.
— Иными словами, он просто-напросто не явился вечером к ужину? Так?
— Так.
— А в котором часу он покинул улицу Монторгёй?
— Около шести. Мне он об этом не говорил, но я знала: у него была привычка, вместо того чтобы сразу отправляться домой, заходить на улицу Монмартр и выпивать стаканчик портвейна в баре «Сентра».
— В тот вечер он там был?
— Это мне не известно, — с достоинством обронила она.
— Позволительно ли мне осведомиться, мадам, почему вы только сегодня, то есть спустя три дня, решили сообщить нам об исчезновении господина Монда?
— Я все время надеялась, что он вернется.
— У него были в обычае отлучки подобного рода?
— Раньше с ним такого не случалось.
— А чтобы его внезапно вызвали по делам в провинцию — этого тоже не бывало?
— Никогда.
— И тем не менее вы ждали целых три дня?
Не отвечая, она в упор смотрела на него маленькими черными глазами.
— Полагаю, вы сообщили об этом тревожном обстоятельстве его дочери, той, которая, как вы говорили, замужем и живет на набережной Пасси?
— Да она сама только что заявилась ко мне в дом! И повела себя так, что я была вынуждена указать ей на дверь.
— Стало быть, вы не ладите с падчерицей?
— Мы не встречаемся. По крайней мере, последние два года.
— Но ваш муж продолжал видеться с ней?
— Это она приставала, бегала к нему в контору, когда ей нужны были деньги.
— Если я правильно понял, недавно они снова потребовались вашей падчерице, и она отправилась к отцу на улицу Монторгёй, чтобы их попросить. Он ведь ей не отказывал, я полагаю?
— Да.
— Там-то ей и сказали, что господин Монд куда-то пропал.
— Вероятно.
— И она бросилась на улицу Баллю.
— Где рвалась в кабинет, норовила порыться в ящиках.
— Что, по-вашему, она рассчитывала там найти?
Молчание.
— Короче, если предположить, что господин Монд мертв, хотя лично мне это представляется маловероятным…
— Почему?
— …маловероятным. Тем не менее возникает вопрос, оставил ли он завещание. На каких условиях был заключен ваш брак?
— На условиях раздельного владения имуществом. У меня самой есть состояние, собственный дом на авеню Виллье…
— Как ваш пасынок воспринял исчезновение отца?
— Никак. Он на это не отреагировал.
— Он по-прежнему живет на улице Баллю?
— Да.
— Перед своим исчезновением ваш муж отдавал какие-либо распоряжения? Относительно своего бизнеса, к примеру. Нужны ведь, наверное, какие-то оборотные средства, чтобы дело не застопорилось…
— У господина Лориса, кассира, есть право подписи.
— Он проверил состояние банковских счетов? Все как всегда?
— Нет. Это совершенно точно. Тринадцатого января около шести вечера муж посетил банк.
— Разве в этот час он не должен уже закрыться?
— Для обычной публики — да. Но не для него. Клерки работают допоздна. Он вошел через служебный вход. И снял с текущего счета триста тысяч франков — все, что было.
— Таким образом, уже назавтра кассир столкнулся с ошеломляющей проблемой?
— Не назавтра, нет. В тот день не предполагалось значительных операций. Только вчера, когда потребовалось выплатить некоторую сумму, он обнаружил, что средства были изъяты.
— Если я правильно понял, ваш муж исчез, не оставив денег ни на нужды бизнеса, ни вам с детьми на жизнь?
— Не совсем так. Основная доля его состояния, выраженная в акциях и других ценностях, хранится в его банковском сейфе. Так вот: за последнее время оттуда ничего не изымалось, директор меня заверил, что муж даже не заходил туда. Что касается ключа, он по обыкновению хранится дома, в ящичке его письменного стола.
— А доверенность у вас имеется?
— Да.
— Ну, если так… — Он не позволил себе небрежно пожать плечами, но в интонации нечто подобное невзначай проскользнуло.
— Я обратилась в банк. Обещала кассиру передать средства в его распоряжение. Но мне было отказано в доступе к сейфу под тем предлогом, что я, согласно установленному правилу, не могу доказать, что мой супруг жив.
Комиссар облегченно вздохнул, рука сама невольно потянулась к портсигару. Теперь все ясно. Наконец-то.
— Значит, вы хотите, чтобы мы произвели расследование?
В ответ снова — один безмолвный взгляд в упор. Затем дама встала. Изогнув шею, покосилась на свои часики.
Еще мгновение, и она прошествовала через приемную, где тетка в платке, клонясь влево под тяжестью младенца, которого держала на руках, смиренно объясняла, что мужа у нее вот уже пять дней как взяли за драку, а в доме-то ни гроша…
Мадам Монд процокала каблуками по тротуару, испещренному красными отблесками фонаря, висящего над входом в полицейский участок, остановилась, шофер Жозеф распахнул дверцу автомобиля, учтиво придержал, захлопнул, и она назвала ему адрес своего поверенного, с которым рассталась час назад. Теперь он ждал ее снова.
Все то, что она рассказала комиссару, было правдой, да только правда подчас фальшивее любой лжи.
Господин Монд проснулся в семь утра и бесшумно, не позволяя прохладному воздуху проникнуть под одеяло, соскользнул с кровати, где недвижно возлежала его супруга. Он всегда так поступал. Каждое утро притворялся, будто думает, что она спит. Не зажигая лампу у изголовья, огибал широкое ложе в потемках, чуть заметно прочерченных тоненькими полосками света, сочащегося сквозь щелки в ставнях. Со шлепанцами в руках босиком крался к выходу. Однако знал: стоит ему бросить взгляд на подушку и он увидит маленькие черные глаза жены.
Добравшись до ванной, он наконец глубоко, шумно вздыхал, до отказа открывал краны и тотчас включал в сеть электробритву.
Он был дородным. То, что называется «крупный мужчина», так будет точнее. Его светлые волосы поредели, но, вздыбившись хохолком после сна, придавали его румяной физиономии что-то ребяческое.
Все то время, пока он, бреясь, смотрелся в зеркало, даже его глаза — голубые — сохраняли по-детски удивленное выражение. Будто каждое утро, очнувшись от сна, в котором наш возраст исчезает, господин Монд недоумевал, увидев в зеркале мужчину средних лет, чьи веки уже помяты, а под внушительным носом топорщится маленькая щеточка бледно-рыжих усов.
Чтобы кожа под бритвой натянулась, он корчил гримасы. И неизменно забывал, что ванна наполняется, и кидался закручивать краны, только услышав шум льющейся через край воды, который через дверь достигал также и ушей мадам Монд.
Покончив с бритьем, он еще какое-то время смотрел на себя, испытывая от этого занятия удовольствие пополам с горечью. Ему никогда уже не стать прежним толстым простодушным мальчишкой, жаль, но он старался не морочить себе голову раздумьями о том, что больше не молод, жизнь клонится к закату.
В то утро, войдя в ванную, он вдруг вспомнил, что ему исполнилось сорок восемь. Ни больше ни меньше. Ему сорок восемь лет. Без малого пятьдесят. Он почувствовал себя утомленным. Потягиваясь под струями горячей воды, он старался изгнать из своих членов усталость, накопившуюся за столько лет.
Он был уже почти совсем одет, когда трезвон будильника, раздавшись у него над головой, возвестил, что его сын Ален сейчас тоже встанет.
Господин Монд не спеша закончил одевание. В заботах о своем туалете он был тщателен. Любил одежду безукоризненную, чтобы ни лишней складочки, ни пятнышка, белье накрахмаленное, но вместе с тем мягкое; на улице и в конторе ему случалось с удовлетворением любоваться блеском своих штиблет.
Ему исполнилось сорок восемь лет. Подумает ли об этом жена? А сын? Дочь? Да что там, яснее ясного: никто и не вспомнит. Разве что господин Лорис, старый кассир, занимавший эту должность еще при его отце, скажет с важным видом:
— Примите наилучшие пожелания, мсье Норберт.
Теперь надо было пересечь спальню. Проходя, он наклонился, коснулся губами лба жены:
— Машина тебе не нужна?
— Сегодня утром — нет. Если понадобится позже, позвоню в контору.
Странный у них дом. Этот дом был для него единственным в мире. Его приобрел дед господина Монда, и к тому времени особняк уже успел сменить несколько владельцев. И каждый видоизменял его по-своему, так что уже не разобрать, каким был первоначальный план этого строения. Одни двери заделывались, другие в разных местах прорубались. Из двух комнат сделали одну, пол настелили заново поверх прежнего, привели в надлежащий вид коридор с его непредсказуемыми поворотами и еще более внезапно подстерегающими на пути ступенями, на которых спотыкались гости, да и самой мадам Монд все еще случалось оступаться.
Даже в самые солнечные дни здесь царил мягкий полумрак, словно в воздухе висела пыль времен, пахнущая, надо признать, немножко затхло, но сладостно для того, кто дышал ею всю жизнь.
На черной лестнице еще сохранился газовый рожок, трубы проходили прямо по стенам, а на чердаке дремали, сваленные в кучу, керосиновые лампы всех мыслимых эпох.
Несколько комнат стали вотчиной мадам Монд.
Чуждая, безликая мебель примешивалась к старинному убранству дома, порой вытесняя в чуланы предметы былого обихода, но кабинет остался невредим — прежний, каким Норберт знал его с детства, с теми же красными, желтыми и голубыми витражами, которые вспыхивают поочередно в зависимости от положения плывущего по небу солнца и будят в углах комнаты крошечные огненные блики, такие живые, разноцветные.
Завтрак для госпожи приносит не Розали, а кухарка. Так происходит в силу сугубо четкого распорядка, введенного мадам Монд, согласно которому всяк в доме обязан занимать место, на этот час дня за ним зафиксированное. Впрочем, тем лучше: господин Монд не любил Розали, девицу сухопарую и болезненную, наперекор ассоциациям, навеваемым цветочным именем, да к тому же полную злобы, которую она распространяла на весь свет, за исключением своей хозяйки.
В тот день, 13 января, он читал за завтраком газеты, макая круассаны в кофе. Он слышал, как Жозеф открыл ворота гаража, намереваясь вывести машину. Немножко подождал, глядя в потолок, будто надеялся, что сын успеет собраться и выйти из дому одновременно с ним, но так не получалось, можно сказать, никогда.
Когда он вышел из дому, на улице подмораживало. Над Парижем вставало бледное зимнее солнце.
В те минуты господин Монд был еще невинен: даже в мыслях не имел бежать.
— Добрый день, Жозеф.
— Добрый день, мсье.
Сказать по правде, это начиналось словно грипп. В автомобиле он ощутил озноб. Он был чрезвычайно подвержен насморку. Случались зимы, когда простуда донимала его неделями, он так и жил с карманами, полными влажных носовых платков, его это унижало. К тому же в то утро он чувствовал себя разбитым, все тело ломило — спал в неудобной позе, или вчерашний ужин оказался тяжеловат?
«Как бы грипп не подхватить!» — подумал он.
Потом, точно в момент, когда автомобиль пересекал Большие бульвары, он, вместо того чтобы машинально взглянуть на уличные пневматические часы, как делал всегда, поднял глаза и увидел на бледно-голубом небе розовые дымки из каминных труб, а рядом с ними — проплывающее в вышине крошечное белое облачко.
Это напомнило о море. Сочетание розового с голубым всколыхнуло в его душе волны средиземноморского прибоя и внезапную зависть к тем, кто в это время года живет на юге и разгуливает в белых фланелевых брюках.
А навстречу уже плыли запахи Центрального рынка. Автомобиль остановился перед аркой, над которой желтели буквы: «Норберт Монд, экспортно-посредническая фирма, основана в 1843 году». По ту сторону арки простирался старинный двор под стеклянной крышей, придававшей ему сходство с вестибюлем вокзала. Вокруг и вправду были надстроены платформы, где складские рабочие в синих комбинезонах валили на грузовики тюки и короба. Когда кто-нибудь из кладовщиков пробегал мимо, катя перед собой тележку, он мимоходом бросал:
— Добрый день, мсье Норберт.
Рабочие кабинеты тянулись по одну сторону, тоже как на вокзале: череда застекленных дверей, над каждой — номер.
— Добрый день, мсье Лорис.
— Добрый день, мсье Норберт.
А поздравление с днем рождения, благие пожелания? Нет. И этот не вспомнил. А между тем листок на календаре уже оторван. Господин Лорис, мужчина семидесяти лет, не распечатывая, рассортировал почту и разложил перед своим патроном письма — несколько маленьких стопок.
Стеклянная крыша над двором в то утро была желтой. Солнца она никогда не пропускала, мешал скопившийся на ней слой пыли, но в погожие дни она желтела, почти светилась желтизной, хотя в апреле месяце, скажем, когда туча внезапно закрывала солнце, могла стать такой темной, что приходилось зажигать лампы.
От этой проблемы солнца в тот день многое зависело. А еще от запутанной истории с клиентом из Смирны, явно недобросовестным типом, склока с которым тянулась уже более полугода и который всегда находил способ увильнуть от исполнения своих обязательств, да так ловко, что хотя был кругом не прав, возьмет в конце концов верх, придется уступить ему просто от усталости.
— Товар в Бордо для фирмы «Мезон Блё» отослан?
— Вагон отправится с минуты на минуту.
Около двадцати минут десятого, когда все служащие уже были на своих местах, господин Монд увидел Алена — тот прошагал мимо, направляясь к себе в отдел по зарубежным связям. Ален как-никак приходился ему сыном, но к отцу не заглянул, не поздоровался. Вечно одно и то же. Но привыкнуть господин Монд так и не смог, он страдал от этого. Каждое утро. И каждое утро ему хотелось сказать: «Ты все же мог бы заходить ко мне в кабинет, когда являешься сюда».
Нет, не решался. Удерживало что-то вроде стыдливости. Он стеснялся своей чувствительности. Не говоря о том, что сын мог истолковать такой демарш в дурную сторону: еще примет за попытку контроля, за намек на его вечные опоздания. Кстати, один бог знает, с чего бы ему так опаздывать! Могли бы приезжать вместе на машине, для этого парню всего-то и надо выходить минут на пять пораньше.
Или все дело в жажде независимости, потому он и ездит на службу один, на автобусе или метро? Однако когда год назад, убедившись в очевидной неспособности сына сдать экзамен на бакалавра, господин Монд спросил его, что тот намерен делать, Ален сам, первый сказал:
— Работать в конторе.
Лишь около одиннадцати господин Монд, будто невзначай, зашел в отдел по зарубежным связям, небрежно потрепал Алена по плечу, буркнул:
— Добрый день, сын.
— Добрый день, отец.
Ален был нежным, как девушка. Его длинные загнутые девичьи ресницы хлопали, словно крылья бабочки. Он неизменно носил галстуки пастельных тонов, и отцу не нравился декоративный кружевной платочек, кокетливо торчащий из его нагрудного кармашка.
Нет, это был не грипп. При всем том сегодня господин Монд нигде себе места не находил. В одиннадцать ему позвонила дочь. У него в кабинете сидели в это время два важных клиента.
— Вы позволите? — сказал он им, берясь за трубку.
А она на том конце провода проговорила:
— Это ты?.. Я в городе… Можно я зайду к тебе в контору? Да, прямо сейчас.
Он не мог ее принять сию минуту. С клиентами дел хватит еще на добрый час.
— Нет, сейчас я не могу…
— Тогда я забегу завтра утром. Это может потерпеть…
Наверняка речь пойдет о деньгах. В который раз! Она замужем за архитектором. Двое детей. Вечно в стесненных обстоятельствах. Не поймешь, как сводят концы с концами.
— Завтра утром, ладно.
Гляди-ка! И она не вспомнила о дне рождения. Она тоже.
Завтракать он пошел в ресторан, где у него был свой столик и официанты называли его «мсье Норберт». Солнечный свет падал на скатерть, преломлялся в графине.
Когда девушка-гардеробщица подавала ему тяжелое пальто, он посмотрел на себя в зеркало и нашел, что постарел. Хотя зеркало, похоже, было плохое, недаром в нем он всегда видел себя с кривым носом.
До завтра… Почему это слово прицепилось, будто крючком, застряло в памяти? Год назад, да-да, точно, в этом же месяце он почувствовал себя усталым, потерявшим вкус к жизни, его стесняла даже собственная одежда, совсем как сейчас. Он поговорил об этом со своим другом Букаром, врачом; они частенько встречались в «Сентра».
— А ты уверен, что не теряешь свои фосфаты заодно с мочой?
Он тогда, никому ничего не сказав, потихоньку взял на кухне баночку, помнится, из-под горчицы. Утром помочился в нее и увидел пляшущие в золотистой жидкости мелкие частички, что-то вроде белого порошка.
— Тебе надо бы взять отпуск, развеяться. А пока поглотай-ка вот это, одну утром, одну вечером…
Букар нацарапал ему рецепт. С тех пор господин Монд больше не решался писать в баночку; да кстати, он тогда же выбросил ее на улице, позаботившись разбить, чтобы никто не вздумал ею воспользоваться. Он прекрасно знал, что дело не в фосфатах.
В три часа того дня, не чувствуя никакого желания работать, он вышел во двор, стоял под застекленной крышей на одной из платформ, рассеянно глядя, как мимо снуют туда-сюда кладовщики и шоферы. Из грузовика, крытого брезентом, слышались голоса. Почему он навострил уши? Говорил мужчина:
— Да это все сын патрона, он за ним хвостом таскается с предложениями… Вчера цветы ему принес.
Господину Монду почудилось, будто он весь побелел, застыл, как неживой, с головы до пят, а между тем услышанное не стало для него таким уж открытием, он давно подозревал неладное. Речь шла о его сыне и шестнадцатилетнем подручном кладовщика, которого наняли на работу три недели назад.
Значит, это правда.
Он вернулся в кабинет.
— Вам звонит мадам Монд.
Это из-за автомобиля, надо его послать ей.
— Скажите Жозефу…
Вот он, тот момент, после которого он больше не раздумывал. Никакой внутренней борьбы. Можно смело утверждать, что принимать решение не было нужды, он обошелся без всяких решений.
Его лицо теперь стало непроницаемым. Господин Лорис, сидевший за столом напротив, несколько раз украдкой бросил на него взгляд и нашел, что патрон выглядит лучше, чем утром.
— А знаете, мсье Лорис, мне сегодня исполнилось сорок восемь!
— Боже мой! Простите, мсье, я совсем забыл. Эти дела со Смирной так мне голову заморочили…
— Пустяки, мсье Лорис, все это сущие пустяки!
Какое-то непривычное легкомыслие прозвучало в его голосе, задним числом господин Лорис это припомнил. Впоследствии он, случалось, говаривал старшему кладовщику, работавшему в фирме почти так же давно, как он сам:
— Странное дело. У него был такой вид, будто он избавился от всех забот.
В шесть он отправился в банк, прямиком в кабинет директора агентства. Тот встретил его по обыкновению приветливо.
— Не могли бы вы посмотреть, какой суммой со своего личного счета я могу располагать?
Там было триста сорок тысяч франков, да еще несколько тысяч кредита. Господин Монд подписал чек на триста тысяч, которые ему выдали пятитысячными купюрами. Он рассовал их по разным карманам.
— Я мог бы их вам переслать с курьером… — предложил заместитель директора.
Позже он понял — или вообразил, будто понял, что в тот момент господин Монд на самом деле еще колебался, не оставить ли деньги, взяв лишь несколько тысячефранковых банкнот. Но так ли это, никто никогда не узнает.
Господин Монд подумал о ценных бумагах в сейфе. Их там больше, чем на миллион.
«С этим, — сказал он себе, — они проживут без хлопот».
Ведь он знал, что ключ у него в кабинете и жене известно, где именно он спрятан, доверенность у нее на руках. С ней все будет хорошо.
Поначалу он хотел уйти без денег. Ему казалось, что взять их — это трусость. Это все испортит. Выходя из банка, он так краснел за свою слабость, что едва не повернул назад.
А потом он решил больше об этом не думать. Просто шагал по улицам. Иногда поглядывал на свое отражение в витринах. Приблизившись к Севастопольскому бульвару, заметил третьеразрядную парикмахерскую, вошел, занял очередь, и когда наконец сел в кресло на шарнирах, велел сбрить усы.
2
Он таращил глаза, ребячливо надувал губы, стараясь не видеть в зеркале отражений других клиентов, полностью сосредоточиться на своем собственном образе. Ему казалось, что он очень отличается от всех здесь, что, смешавшись с ними, он их в чем-то обманывает. Еще немножко, и он попросил бы у них прощения.
Но мальчишка-парикмахер обходился с ним без каких-либо эмоций. Когда господин Монд откинулся на спинку кресла, мальчишка только стрельнул глазом на своих товарищей так стремительно, так машинально, обойдясь без улыбки, что это могло бы сойти за масонский знак.
Вправду ли он был так непохож на них со своим изнеженным телом, в одежде из тонкого сукна, в обуви, изготовленной по ноге на заказ? Он считал, что это так. Ему не терпелось как можно скорее измениться полностью и окончательно.
И в то же время он страдал при виде прыща, вспухшего на затылке парня под розовым пластырем, предназначенным для того, чтобы скрыть мерзкий синеватый фурункул. Еще его корежило при виде мелькавшего перед глазами желтого от табака указательного пальца брадобрея, противно было вдыхать здешний тошнотворный воздух, где смешались запахи никотина и мыльной пены. Но вместе с тем эти мелкие страдания доставляли ему радость!
Он был еще слишком новым сам для себя. Его метаморфоза не завершилась. Он не хотел смотреть ни направо, ни налево, на этих людей, что выстроились в ряд у него за спиной, — они все читали спортивные газеты, время от времени вскидывая равнодушный взгляд на занимающих кресла и отражаясь в зеркале, стекло которого пятнали надписи мелом.
Некогда, в день первого причастия (церемония имела место в престижном столичном коллеже Станислас), он, не поднимая глаз, робкими шагами вернулся на свое место, замер в неподвижности, закрыл лицо руками и долго ждал обещанного преображения.
То, что происходило с ним сейчас, было настолько существеннее! Он не смог бы никому этого ни объяснить, ни даже логически осмыслить наедине с собой.
Когда он только что принял такое решение… Да нет же, ничего он не решал! Ему и не надо было ничего решать. То, что он переживал, не было для него совершенно ново. Наверное, он часто грезил об этом, столько передумал, что теперь ему казалось, будто он повторяет то, что уже делал раньше.
Он смотрел на свою физиономию со щекой, оттянутой пальцами брадобрея, и говорил себе: «Вот и все! Жребий брошен!»
Без удивления. Он этого ждал давно, нет, всегда. Просто его ноздри не привыкли к запаху дешевого одеколона и дрянных духов, в таких дозах он никогда их не вдыхал, разве что пахнёт изредка, если мимо проходит рабочий при параде по случаю воскресенья. Вот и желтый от табака палец его шокирует, и пластырь, и салфетка сомнительной чистоты, которой парикмахер обмотал ему шею.
Это он не к месту, словно пятно, он, впадающий в недоумение при виде десятерых персон, погруженных в чтение одинаковых газет о спорте, это на него должны показывать пальцем, спрашивая, что он здесь забыл, не так ли?
Если ему пока не удается ощутить безумный восторг освобождения, это потому, что перемены еще только наметились. Все для него слишком ново, да.
— Втираем?
Он понял, что его спрашивают о креме после бритья, но сразу ответить не сумел, потом выдохнул поспешно:
— Прошу прощения… Да… Если угодно…
Эти усы щеточкой, что сейчас исчезли с его лица, — он их уже однажды сбривал. Давным-давно, через год или два после своей второй женитьбы. А потом заявился на улицу Баллю такой радостный, с ощущением, что помолодел. Жена уставилась на него маленькими черными глазками, уже тогда жесткими, и произнесла:
— Что это вам в голову взбрело? Вы непристойны.
Непристойным он не был, но он выглядел другим человеком. В его физиономии внезапно появилось что-то простодушное. Все дело было в выступающей верхней губе, все время придававшей его лицу не то умоляющее, не то обиженное выражение.
Он расплатился, неуклюже пробрался к выходу, каждый раз извиняясь, когда задевал скрещенные вытянутые ноги ожидающих.
Инициации всегда мучительны, а сейчас ведь происходит инициация. Он вышел на улицу, побрел куда глаза глядят — эти кварталы были ему едва знакомы. Преследовало ощущение, будто все смотрят на него, он чувствовал себя виноватым, к примеру, уже в том, что сбрил усы, словно преступник, боящийся, что его узнают, да и карманы, раздувшиеся от трехсот тысяч франков, рождали в нем чувство вины.
А вдруг вон тот полицейский на бульваре у перекрестка остановит его и спросит…
Он выбирал улицы потемнее, самые таинственные, такие, где освещение несколько напоминало прежнее, привычное.
Разве это не потрясающе — в сорок восемь лет, ровно в сорок восемь совершить то, что когда-то попытался проделать в восемнадцать, стало быть, тридцать лет назад?
Он ясно помнил ту первую попытку. Как и теперь, был зимний вечер. Он жил на улице Баллю, ведь он нигде больше никогда и не жил, но в то время он занимал комнату на третьем этаже, над кабинетом отца, ту, где теперь спальня Алена. Освещение тогда было еще газовое.
Вероятно, время шло к одиннадцати вечера. Он ужинал наедине с матерью, женщиной очень нежной, с тонкими чертами лица, с матовой кожей и печальной улыбкой. В тот вечер она казалась еще бледнее обычного, с красными заплаканными глазами, и чудилось, будто просторный дом вокруг них опустел. Слуги ходили неслышно, говорили шепотом, как если бы стряслась беда.
Отец все еще не вернулся. С ним это часто случалось. Но почему в пять часов он прислал кучера за своим чемоданом и меховым пальто?
Любовниц его родитель имел всегда. В последнее время это была актриска, чьи изображения красовались на всех стенах Парижа. Она казалась более опасной, чем прежние.
Отец неизменно пребывал в прекрасном настроении, одет с иголочки, по утрам к нему в особняк каждое утро являлся парикмахер, а затем он нырял в круговорот дел, чтобы к вечеру снова возникнуть на пороге в серой шляпе и во фраке.
Может быть, он ушел навсегда?
Норберту очень хотелось утешить мать.
— Иди спать, — сказала она с жалобной улыбкой. — Ничего, все это пустое.
В тот вечер он долго стоял у окна своей спальни, прижавшись лбом к стеклу. Потушил свет. Смотрел, как моросит мелкий дождь. Улица Баллю была пустынна, в потемках осталось всего два источника света: газовый фонарь в полусотне метров от дома да красноватый прямоугольник окна, где за шторой, как на экране, порой мелькала одинокая тень.
Неподалеку, на улице Клиши, кипела жизнь, Норберт Монд знал это; он прижимал разгоряченный лоб к стеклу, а самого трясло от желания урвать себе долю этого живого кипения. Тишина за его спиной воцарилась такая глубокая, невозмутимая, такая абсолютная, что брала жуть. Ему почудилось, будто все это — фамильный особняк, комнаты которого так знакомы, предметы, что он видит здесь изо дня в день, — полно угрожающей потаенной жизни, неподвижность которой дышит злобой. Сам воздух стал живым, таил опасность.
Это был темный призрачный мир, обступивший его, чтобы любой ценой удержать, не выпустить на волю, не позволить познать новую жизнь.
Тут по улице прошла женщина. Он видел только ее черный силуэт под зонтиком. Мокрый тротуар блестел, она шла быстро, рукой приподнимая подол. Сейчас повернет за угол, вот и повернула. Его охватило желание бежать, вырваться из дому, показалось, будто еще не поздно сделать это, надо лишь собрать все силы и получится. Только бы оказаться за порогом, и он спасен.
Он бросится вперед, очертя голову нырнет в поток жизни, бушующей вокруг этого застывшего дома.
Тут дверь отворилась, бесшумно, во мраке. Он содрогнулся от страха, от такого дикого ужаса — хоть кричи. Уже и рот открыл, чтобы завопить, но мягкий голос произнес тихонько:
— Ты спишь?
В тот день у него еще был выбор. Он проворонил час выбора.
И снова проворонит, позже, уже в пору своего первого брака.
Как до смешного сладостно и вместе с тем жутко думать об этом сейчас, когда он наконец осуществил то, что было предрешено с самого начала!
Ему было тридцать два года. Он успел стать довольно массивным — как сейчас, если не толще. Да что там, товарищи еще в школе дразнили его Резиновым Мячиком! Однако рыхлым он не был, отнюдь.
Это случилось в воскресенье, и снова зимой, но, насколько он помнил, на сей раз в начале зимы, в ее самую темную пору, когда она еще пахнет осенью, а о весне нет и помину.
Почему дом на улице Баллю в тот день пустовал? Слуги отлучились. Очевидно, именно потому, что день был воскресный. Но его жена Тереза, которая выглядела такой хрупкой, наивной, она-то куда подевалась? Она же… Хотя, в конечном счете…
Дети болели, оба. Нет. Только дочь, ей тогда было пять лет, она подхватила коклюш. Что до Алена, он, годовалый, в том возрасте отрыгивал все, что ни выпьет.
Тем не менее их матери не было дома. Что она ради этого измыслила, неважно. Ее бы тогда живой в рай пустили, до того она была мила, никто бы не усомнился, что…
Короче, он остался совсем один. Еще не стемнело. Морозило. Не только дом, но и весь Париж казался опустелым, разве что откуда-то издали подчас слышалось, как по мостовой проезжает автомобиль. Малышка кашляла. Иногда он заставлял ее проглотить ложечку сиропа из бутылочки, стоявшей на камине, и еще мог возвратить бутылку в точности на прежнее место: было достаточно светло.
Накануне, даже еще сегодня утром, всего час назад, он обожал свою жену и ее детей.
Сумерки заполнили комнату пеплом, он забыл зажечь лампы, так и слонялся взад-вперед, снова и снова подходя к окну, завешенному гипюром в крупных разводах. Тут его настигло еще одно ощущение, возникшее с ошеломляющей четкостью: гипюровый четырехугольник, что вторгся между его лбом и прохладой стекла.
Внезапно он увидел мужчину в зеленоватом пальто, который зажигал на улице тот единственный газовый фонарь, что был в поле его зрения, и испытал чувство отрешенности от всего на свете; его дочь закашлялась, а он не оглянулся, его сына, лежащего в колыбели, может быть, снова вырвало, а он смотрел вслед удаляющейся мужской фигуре и рвался туда, с неудержимой силой жаждал уйти, тоже шагать вот так, в темноту…
Только бы идти — неважно куда!
Он даже спустился в свой кабинет — без причины, или, может быть, собрался уйти? Он долго стоял там неподвижно, будто в растерянности, и вздрогнул, когда кухарка — та самая, что присутствовала при его рождении, теперь-то она умерла, — вбежала, еще не сняв шляпу, в митенках, с застывшими на морозе руками:
— Да вы что, оглохли, не слышите? Маленькая так кричит, что сердце разрывается!
И вот теперь он был на улице. Он шагал. Почти с испугом смотрел на тени, что проскальзывали мимо, чуть не задевая его, по этим темным улочкам, кишащим невидимой жизнью, перепутанным, уводящим в бесконечность.
Еще ему запомнилось, как он прошел наискось через площадь Вогезов, как перекусил где-то рядом с площадью Бастилии в маленьком ресторане, где мраморные столы были покрыты бумажными скатертями.
— До завтра!
Потом он прогулялся вдоль Сены. И в этом тоже было что-то от невольного исполнения ритуала, заданного давно.
Им все еще владело смущение, он испытывал неловкость. Он и вправду был еще слишком незрелым. Чтобы действовать как надо, чтобы идти до конца, ему следовало спуститься по одной из этих каменных лестниц, ведущих к воде. Каждый раз поутру переезжая через Сену, он бросал взгляд под мосты. Это он тоже делал, чтобы оживить одно очень давнее воспоминание, еще из времен учения в коллеже Станислас, откуда он, случалось, возвращался пешком; вот так брел однажды небрежно, не торопясь, и под Новым мостом увидел двух стариков, двух типов без возраста, взлохмаченных и седых, словно заброшенные статуи. Они сидели на груде камней, один жевал колбасу, другой обматывал себе ступни хлопчатобумажными портянками.
Он понятия не имел, который час. Ни разу не побеспокоился об этом с той минуты, как вышел из банка. Улицы пустели. Автобусы проходили все реже. Потом стали появляться группы людей, которые переговаривались очень громкими голосами, должно быть, возвращались из театров и с киносеансов.
Согласно своему замыслу, он должен был подыскать гостиницу низшего разряда вроде той, которую он недавно видел в переулочке близ площади Вогезов. Ему все еще претили подобные заведения. Наверное, из-за его костюма и трехсот тысяч франков.
Недалеко от бульвара Сен-Мишель он зашел в скромный, но приличный отель. Оттуда пахло кухней. Ночной сторож в шлепанцах долго перебирал ключи, наконец выдал ему один:
— На пятом… Вторая дверь… Постарайтесь не шуметь…
Впервые за сорок восемь лет — можно сказать, что это его подарок себе на день рождения, о котором все забыли! — он был совершенно один. Но человеком с улицы он еще не стал.
Снова его томил этот вечный страх кого-то шокировать, оказаться не на своем месте. Нет, это была не робость. Он не стеснялся себя, но боялся стеснить других.
Вот уж добрых десять минут он бродил вокруг тесного домика, отыскать который стоило немалого труда. День выдался солнечный; мясные и молочные лавки ломились от пахучих товаров, рынок улицы Бюси наводняла суетливая толпа домашних хозяек и торговцев, такая густая, что он насилу пробивался сквозь нее.
Невольно стыдясь этого инстинктивного жеста, господин Монд снова и снова щупал свои карманы, проверяя, на месте ли банкноты. А в самом деле, как быть, если придется переодеваться в присутствии посторонних?
Какое-то время он обдумывал этот вопрос. Выход нашел, но требовались бумага и веревка. С бумагой затруднений не предвиделось. Достаточно купить в первом попавшемся киоске несколько газет. Но не смешно ли покупать целый моток веревки, когда нужен лишь какой-то обрывок?
Однако придется. Господин Монд не торопясь прошелся по этому кварталу, но здесь всюду торговали одними продовольственными товарами. Наконец он набрел на магазин канцелярских принадлежностей.
Не мог же он сделать это у всех на глазах! Зашел в бистро, заказал кофе, спустился в туалет. Он находился в подвале, возле полок с бутылками. Дверь не запиралась. Внутри ничего не было, кроме дырки в сером цементном полу, а закуток был такой тесный, что приходилось задевать плечами стены.
Он завернул деньги в бумагу, основательно обмотал пакет веревкой, сбросил в дыру остатки бумаги и веревочный моток, а когда спустил воду, она хлынула с такой силой, что забрызгала его штиблеты и брюки.
Он забыл выпить заказанный кофе. Ему казалось, что он выглядит подозрительно, и он оглянулся, чтобы проверить, не провожает ли бармен его глазами.
Теперь надо было войти в тот тесный домик с крашеным голубым фасадом, на котором чернели буквы:
Продажа и прокат одежды
— Вам известно, что делает Жозеф с одеждой, которую вы ему отдаете?
Такой вопрос, причем агрессивным тоном, в один прекрасный день задала ему жена.
— …Он ее перепродает фирме на улице Бюси. Поскольку вы все отдаете почти новым…
Это было преувеличением. Она всегда все преувеличивала. Сам факт денежных трат доставлял ей страдания.
— Не понимаю, с какой стати мы обеспечиваем ему этот дополнительный доход при том, что он получает плату, и плату щедрую. Ему достается куда больше, чем он заслуживает…
Он вошел. Маленький человечек, скорее всего армянин, встретил его без удивления, какого он ждал и опасался. Господин Монд залепетал:
— Я бы хотел костюм… очень простой костюм… неброский… Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать…
— Но тем не менее добротный, не так ли?
Если бы хватило смелости, он сказал бы: «Костюм, как у всех».
Они были развешаны по всему дому, во всех комнатах — костюмы для улицы, выходные костюмы, одежда всех видов, на все случаи, для верховой езды и даже две униформы полицейского, одежда — это же главное.
— Достаточно темного цвета, верно?.. И не слишком новый…
Потом пришлось поволноваться, ведь его повели на третий этаж, а сверток он оставил в первой комнате. Что, если его украдут?
Ему показывали костюмы, но почти все были либо тесноваты, либо со слишком длинными рукавами и штанинами. Он стоял посреди комнаты в кальсонах, когда вошла женщина, жена продавца. Ей надо было что-то сказать своему мужу, а на него она и внимания не обратила.
За кого они его принимают? Наверняка за субъекта, который скрывается. За вора, убийцу, несостоятельного должника! Он страдал. Такая метаморфоза мучительна. Ничего. Зато не пройдет и часа, как он станет свободным.
— Вот пиджак, будто на вас сшит. Только не уверен, что к нему найдутся брюки. Жаль, но нет. Хотя, постойте… Примерьте-ка эти, серые…
Он подчинялся, не смея возражать. Костюм выглядел немного лучше, чем ему бы хотелось. В нем он походил на исправного служащего, какого-нибудь аккуратиста-бухгалтера.
— Может быть, посмотрите и обувь? А белье вам не нужно?
Он все это купил. Его и фибровым чемоданом снабдили, маленьким, тоже поношенным, противного коричневого цвета.
— Вы так в этом и пойдете?
— Если вас не затруднит, я бы даже хотел оставить вам свою прежнюю одежду.
Он заметил, какими глазами армянин посмотрел на марку его портного, и подумал, что совершает ошибку. Не потому, что боялся преследования. Такая мысль ему в голову не приходила. И все же его раздражало, что он оставляет за собой след.
Уходя, он нашел свой пакет на месте. Продавец взял его и протянул владельцу. Не угадал ли он на ощупь, что там купюры?
Было десять часов. В это время… Ну, нет. Он больше не желает вспоминать, что делал в другие дни в тот или иной час. Пиджак оказался узковат в плечах. Зато появилось чувство легкости — благодаря пальто, сшитому из куда более хлипкой ткани, чем прежнее.
Почему он без колебаний направился в сторону бульвара Сен-Мишель, к остановке автобуса, идущего к Лионскому вокзалу? Он не задумывался об этом. Не говорил себе, что намерен поступить так-то или так-то.
Снова, уже не в первый раз, он последовал замыслу, намеченному заранее, да только намечал его не он. Ведь и вчера ему не потребовалось принимать решение. Все это шло издалека, было предначертано с самого начала.
Взойдя на площадку автобуса, он пощупал свои карманы. Потом наклонился, чтобы взглянуть на свое отражение в стекле. Оно его не удивило. Но он все еще, как после первого причастия, с надеждой ждал чего-то особенного, что пока не совершилось.
Забавно было войти вслед за толпой в вестибюль вокзала, не имея в руках ничего, кроме чемоданчика, подобно большинству уезжающих, которых он видел вокруг, встать в очередь к кассе, потом, оказавшись перед окошечком, мягко произнести:
— До Марселя.
Его не спросили, какой класс. Дали билет в третий, лилового цвета. Господин Монд с любопытством рассмотрел его.
Итак, он по-прежнему шел туда же, куда все. В общем-то, ничего больше и не требовалось, толпа сама его несла. Его толкали, пихали, он получил удар чемоданом в лодыжку, какой-то ребенок на машинке с размаху врезался в его ноги, громкоговоритель выкрикивал команды, поезда гудели, и он, как другие, залез в вагон третьего класса, в купе, где уже расположились и принялись за еду трое солдат.
Что его особенно стесняло, так это пакет, который он не додумался уложить в чемодан. Правда, тот был уже полон, но он открыл его, поднажал, сверток втиснулся, и ему стало легче.
Теперь жизнь наконец-то начнется? Этого он не знал. Боялся задавать себе вопросы. Пока в нем нарастало то же ощущение, что при виде пластыря мальчишки-парикмахера и его порыжевшего пальца, запах купе тяготил его, и когда поезд тронулся, он вышел в коридор.
Великолепное зрелище, великолепное и омерзительное, являли собой эти высокие коробки почерневших домов, у подножия которых поезд пробивал себе путь, сотни, тысячи открытых и закрытых окон, с болтающимся на веревках бельем, с телеантеннами, с чудовищной скученностью кишащей там жизни, целиком заполонившей строения во всю их ширину и высоту, но вот поезд внезапно вырвался из этих тисков, и только на улице, уже более похожей на шоссе, мелькнул последний бело-зеленый городской автобус.
Потом господин Монд больше не размышлял. Ритм несущегося вперед поезда захватил его. Это было похоже на монотонную музыку, в которую вместо слов вплетались обрывки фраз, воспоминаний, образов, мелькавших перед глазами: лачужка, совсем одинокая в чистом поле, возле нее полная женщина, стиравшая белье, начальник станции, машущий своим красным флажком, словно фигурка на платформе игрушечной железной дороги, люди, без конца проходящие у него за спиной в туалет и обратно, ребенок, орущий в соседнем купе, один из военных, уснувший в своем углу, солнечный луч, падающий ему прямо в открытый рот…
Он понятия не имел, куда направляется, что намерен делать. Он уехал. У него ничего больше не оставалось позади. И впереди пока тоже ничего. Он — в пути, в пространстве. И все.
Захотелось есть. Все кругом жевали. На вокзале он купил подсохший сандвич и бутылку пива.
Когда подъехали к Лиону, там уже наступила ночь. Он чуть не сошел с поезда, сам не зная зачем: вдруг показалось соблазнительным нырнуть в темноту, испещренную огнями, но поезд тронулся, не дав ему времени решиться.
Было множество вещей, в которых еще надо разобраться, он поставит все на свои места потом, когда привыкнет, когда поезд остановится, когда наконец придется выходить.
Ему не было страшно. Он ни о чем не жалел. В большинстве купе уже потушили свет. Люди, чтобы поспать, привалились друг к другу, их дыхание, их запахи — все смешалось.
Он еще так не мог, не осмеливался. Несмотря на усталость, остался стоять в коридоре, там гуляли сквозняки. И старался не смотреть в сторону соседнего вагона, где успел заметить красные ковры.
Авиньон… Он тупо уставился на большие часы, которые почему-то показывали всего девять… Время от времени он бросал взгляд в купе, где оставил свой багаж, он валялся там вместе с другими пожитками, тоже перевязанными на диковинный манер веревками…
Марсель, вокзал Сен-Шарль.
Он сошел с поезда, неторопливо побрел пешком к порту. Большие закусочные на проспекте Канебьер были еще открыты. Он смотрел на них с легким недоумением, особенно любопытными ему казались люди, сидевшие за столиками в освещенных залах, за стеклом: ему словно бы не верилось, что жизнь продолжается, идет своим чередом.
Эти люди сидели за своими привычными столами, как каждый вечер. Они не уезжали никуда на поезде. Они приходили сюда поиграть в карты и на бильярде или потолковать о политике, они подзывали официанта, да этот официант, чего доброго, еще и знал их по именам, а сейчас вышел, дабы объявить, что заведение закрывается.
Некоторые из них уже начали выходить. Они останавливались у края тротуара, чтобы закончить начатый разговор, пожать друг другу руки, а после разойтись в разные стороны. Каждый шел к себе домой, к жене, чтобы лечь и уснуть в своей постели.
Перед входными дверьми падали металлические шторы. И маленькие бары в квартале Старого порта тоже закрывались.
Он смотрел на воду. Она была совсем близко, маленькие суденышки жались бортами друг к другу, дыхание моря тихо приподнимало и опускало их. Блики дорожкой тянулись вдаль, там кто-то греб, да, и этот кто-то был не один, слышалось перешептыванье. Может, влюбленные? Или контрабандисты?
Он поднял воротник пальто, этого пальто, которое еще не успело стать привычным, его прикосновение отдавало чужим. Он запрокинул голову к небу, там мерцали звезды. Женщина, проходя, задела его, сказала что-то и быстрым шагом удалилась, свернула вправо. Там, в узкой улочке, он приметил освещенный подъезд отеля.
В вестибюле отеля было жарко. У стойки из красного дерева респектабельный господин в черном осведомился:
— Вы один?
И протянул ему пачку бланков. Поколебавшись секунду, он вписал туда какую-то фамилию — первую попавшуюся.
— У нас осталась одна свободная комната с видом на Старый порт.
Служитель взял у него чемодан, и господину Монду стало неловко. Не удивило ли этого человека убожество его багажа?
— На третьем этаже… Только лифт в этот час уже не работает… Проходите здесь, пожалуйста…
Комната была уютной. Кабинка туалета отделена стеклянной перегородкой. Над камином большое зеркало. Господин Монд внимательно, серьезно всмотрелся в свое отражение, кивнул, подавил вздох, затем сбросил пиджак с тесноватыми рукавами, галстук, рубашку.
Потом осмотрел эту комнату, где ему предстояло провести одинокую ночь, и сам себе не решаясь в том признаться, немного пожалел, что ничего не ответил женщине, заговорившей с ним на берегу.
В конце концов он улегся и натянул одеяло до самого носа.
3
Слезы струились из-под его зажмуренных век, набухавших от сочащейся влаги. Это были не обычные слезы. Они лились без конца, теплые и безупречно текучие, рвались наружу из глубокого источника, копились, теснясь под ресницами, и наконец, освобожденные, скатывались по щекам не отдельными каплями, а извилистыми ручейками, какие можно порой увидеть на оконном стекле в дни больших ливней; а на подушке, у подбородка, все шире расползалось влажное пятно.
Это доказывало, что господин Монд не спал, не грезил, недаром же он подумал не о песке, а о подушке. И однако мысленно он в эти минуты лежал не в номере гостиницы, даже названия которой не помнил. Его разум оставался прозорливым, но то было не повседневное здравомыслие, каким смертные кичатся, а, напротив, зоркость того рода, за которую назавтра краснеют, должно быть, потому, что она обнаруживает в вещах, удобно признаваемых заурядными, величие, какое придают им поэты и религия.
То, что через глаза вытекало ныне из его существа, было усталостью, накопленной за сорок восемь лет, и эти слезы были сладостны, ибо они означали, что испытанию пришел конец.
Он был оставлен всеми. Он больше не боролся. Он бежал из дальней дали — не на поезде, поезда не существовало, было одно лишь великое движение бегства, — и вот прибежал к морю. Оно, широкое и синее, самое живое из всего, что живет, душа мира, безмятежно дышало рядом с ним. Ибо несмотря на подушку, реальность которой не имела значения, он в конце побега распростерся у предела водной стихии, упал близ нее, измученный, но уже умиротворенный, растянувшись во весь рост на теплом золотистом песке, и во всей вселенной у него не было ничего, кроме песка и моря. И жажды говорить с ними.
Он говорил, не раскрывая рта, ведь теперь в этом не было надобности. Он рассказывал, как у него все болит, как он безмерно разбит — не вагонной тряской, а долгим житейским странствием.
У него больше не было возраста. Он мог позволить своим губам надуваться по-детски горестно.
— Я все исполнял, всегда, столько, сколько требовала моя совесть, это так трудно, такое громадное усилие…
Здесь он не старался выражаться точнее, как приходилось раньше, когда он пробовал пожаловаться на что-нибудь своей жене.
Когда он был совсем маленьким, разве слуги не шептались между собой, что он-де никогда не сможет ходить нормально, слишком толстый? Ну да, ноги у него еще долго оставались кривыми.
А в школе он мучительно, не отрывая глаз, пялился на буквы, белеющие на черной доске, но учитель окликал его:
— Опять вы спите!
Наверное, так и было, он в конце концов и вправду засыпал против собственной воли?
— Его не заставишь учиться, это бесполезно…
Он вновь увидел себя в коллеже Станислас, когда другие школьники носились вокруг, а он стоял столбом в углу двора. И в классе — за партой, забытого учителями, которые всегда его презирали.
Но экзамен на бакалавра он ценой терпеливой, яростной усидчивости сдал все-таки.
Боже мой, но как он устал! Теперь он осознавал это. И отчего так вышло, что хотя он никому никогда не делал зла, именно на его плечи вечно валился самый тяжелый груз?
Его отец, к примеру, отродясь ничем себя не обременял. Играючи наслаждался жизнью, деньгами, женщинами, жил только ради собственного удовольствия, поутру неизменно вставал бодрячком, и сын видел, как родитель проходит мимо, насвистывая и лучась предвкушением приятностей, которые намеревался испытать, и воспоминанием о тех, что были испытаны накануне.
Таким манером он прокутил приданое жены, но та не сердилась на него за это. Он едва не разорил фирму, унаследованную от отца и деда, и его сыну пришлось год за годом гнуть спину, чтобы заново поставить ее на ноги.
И тем не менее, когда этого человека наконец сразила болезнь, все близкие толпились вокруг него, а преданность его жены не знала предела. Она, загубившая свою жизнь в вечном ожидании непутевого мужа, ни единым упреком ему об этом не напомнила.
Все это было огромно, непомерно, не укладывалось в слова, не поддавалось осмыслению в масштабах моря и солнца. Господин Монд ощущал себя кариатидой, наконец избавленной от своей ноши. Он не жаловался. И не упрекал. Он ни на кого не сердился. Просто теперь, когда все кончено, он в первый раз позволил своей усталости вольно течь по стеклу и почувствовал, как в его теле прибавилось тепла и покоя.
Ему захотелось тихонько шепнуть на ухо соленой стихии: «Почему ты была ко мне такой жестокой?»
А как он стремился делать все по-хорошему! Женился, чтобы иметь домашний очаг, детей, чтобы быть не бесплодной смоковницей, а щедрым плодоносящим деревом. Но однажды утром жена ушла; он остался с младенцем в одной кроватке и маленькой дочерью в другой, не зная, не понимая, что происходит; он бился головой обо все стены. Те, кого он спрашивал, посмеивались над его простодушием, а потом он наконец нашел забытые в ящиках стола мерзкие рисунки, похабные фотографии, нечто такое, чему названия не было, но теперь он понял, каким созданием была эта женщина, что казалась ему такой невинной.
В глубине души он не рассердился на нее за то, что в ней жил этот демон, ему было жаль ее. И он женился снова, чтобы дети не остались одни.
Он с облегчением всем телом вытянулся на песке; маленькие сверкающие волны подкатывались совсем близко, лизали берег, скоро, может быть, какая-нибудь и до него добежит, дотронется, приласкает?
Свое бремя он тащил до тех пор, пока сил хватало. Как все это было уродливо! Его жена, его сын, дочь… И деньги!.. Чьи деньги — его, их? Он больше не знал этого, не желал знать… Зачем? Ведь все кончено, и он этого ждал…
Чьи-то шаги. Они приближались, грубо проникали в сознание, пол злобно вибрировал, дверь отворилась, хлопнула, в наступившей тишине было что-то пугающее. Он чувствовал, что где-то совсем рядом два человека сейчас сверлят друг друга глазами, замерев на пороге трагедии.
— Нет!
Он провел ладонью по лицу, лицо было сухим; потрогал подушку и не нашел у подбородка влажного пятна. Веки, правда, пощипывало, но это от усталости, а может, от поездной угольной пыли, и что все тело ломит — это тоже, наверное, все еще сказывается поездка.
Кто сказал «нет»? Он сел на кровати, выпрямился, пошире раскрыл глаза и обнаружил тоненькую светлую щелку под дверью. Это была дверь, соединяющая его номер с соседним. Ну да, он в Марселе, в гостинице, только название вылетело из головы.
Мужчина, выкрикнувший «Нет!», ходил теперь большими шагами взад-вперед за перегородкой. Потом раздался щелчок — кто-то раскрыл чемодан.
— Жан!
— Я сказал: нет!
— Жан! Я тебя умоляю!.. Послушай… Дай мне хотя бы объяснить…
— Нет!
Они пришли сюда с улицы, из темноты. Движения мужчины были резкими и четкими. По-видимому, сейчас он раскрыл шкаф, вытаскивает вещи, как попало засовывает в чемодан… А женщина наверняка цепляется за него, слышен мягкий толчок, потом стон. Он ее оттолкнул, она упала, бог знает, что там творится.
— Жан, ради всего святого…
Похоже, она совсем выбита из колеи. Для нее тоже перестали существовать маленькие условности повседневной жизни и уважение людей ничего больше не значит.
— Я все объясню… Клянусь тебе…
— Дрянь!
— Ты прав, да, я дрянь… Но…
— Весь отель хочешь перебудить, верно?
— Мне все равно… Пусть сюда сбегутся хоть сто человек, я и при них буду валяться у тебя в ногах, ничто мне не помешает просить прощения, умолять тебя…
— Заткни свою глотку!
— Жан!
— Глотку заткни! Ясно?
— Я же не нарочно, поверь…
— Еще бы! Это я все специально подстроил…
— Мне нужно было подышать свежим воздухом…
— Тебе просто был нужен мужик!
— Неправда, Жан… Я ведь три дня из этой комнаты не выходила, ухаживала за тобой, как…
— Как мать, а? Ну-ка скажи это, шлюха!
— Ты придаешь такое… Я же вышла всего на минутку…
— Дерьмо!
— Ты ведь не уйдешь, правда? Не оставишь меня совсем одну?.. Лучше бы ты меня убил!
— Оно бы неплохо, да, я бы тебя охотно прикончил!
— Что ж, хорошо! Убей…
— Незачем руки марать, ты этого не стоишь… Оставь меня… Отцепись, ясно?!
Должно быть, он снова ее оттолкнул, она скатилась на пол, затихла ненадолго, потом рыдания возобновились, превращаясь из патетически молящего призыва в некое монотонное нескончаемое завывание, уже отдающее пародийной театральностью:
— Жа-а-а-ан!
— Хватит блеять, надоело!
— Я не смогу жить без тебя…
— Ну и подыхай!
— Как ты можешь такое говорить? Неужели ты уже все забыл…
— Что я забыл? То, что ты сделала для меня, или то, что я ради тебя сделал? А?! Отвечай!.. Нет, лучше молчи… Куда ты к черту запихнула мои рубашки?
Тут в их спектакле словно наступил антракт, трагическая актриса вдруг нормальным голосом буркнула:
— Я три из них в стирку отдала… Остальные в ванной, в стенном шкафу, на нижней полке…
Но тут же, нащупывая утерянную интонацию, опять застонала:
— Жан…
Он не стал утруждать себя поиском новых реплик:
— Дерьмо!
— Что ты задумал?
— Не твое дело.
— Клянусь: с тех пор, как я узнала тебя, ни один мужчина меня не касался…
— Не считая того типа, с которым ты вышла из дансинга в тот момент, когда я вернулся!
— Я только попросила его меня проводить… Боялась возвращаться одна…
Он расхохотался:
— Вот это довод! Блеск! Ты превзошла себя!
— Не смейся, Жан… Если уйдешь, ты еще пожалеешь… завтра…
— Ого! Ты мне угрожаешь?
Угроза, напротив, исходила от него. И больше, чем просто угроза: послышался жесткий удар, вероятно, кулаком, снова мгновение тишины и стон:
— Ты не понял… Это не против тебя… Нет, стой! Я лучше покончу со всем прямо сейчас…
— Как знаешь.
Шаги. Дверь хлопнула. Но не та, что ведет в коридор, нет, это наверняка дверь ванной. Звук воды, льющейся в стакан…
— Что ты делаешь?
Она не ответила. Он засвистел. Теперь, видимо, силится закрыть переполненный чемодан. Обходит комнату, проверяя, не забыл ли чего. Наконец выкрикивает с нервным весельем:
— Прощай!
Дверь ванной тотчас распахивается, полный ужаса голос скулит:
— Жан! Жан! Пощади…
— А пошла ты!
— Одну минуту, Жан. Сейчас ты не можешь мне в этом отказать. Послушай…
Он направляется к двери.
— Послушай! Я умираю…
Он не останавливается. Она влачится по полу за ним вслед. Да, точно, она именно ползет, тащится на коленях по скверному красноватому гостиничному ковру. Господин Монд почти воочию видит, как она хватается за брюки мужчины, а он отшвыривает ее ударом ноги.
— Я клянусь тебе… клянусь… клянусь…
Она захлебывается плачем, невнятные звуки вырываются из ее рта:
— …что приняла яд…
Дверь распахнулась и снова шумно захлопнулась. Шаги протопали по коридору, удаляясь в направлении лестницы. Потом с первого этажа донеслись еле слышные отзвуки обмена репликами — уезжающий перебросился парой фраз со служителем в черном.
Господин Монд стоял в потемках посреди комнаты. Наугад нашарил на стене выключатель. Удивился, обнаружив, что он в одной рубашке и бос. Подошел к двери, смежной с соседним номером, прислушался — ни вздоха, ни рыдания.
Тогда, смиряясь с неизбежным, он взял брюки, висевшие в изножье кровати, — брюки, которых он не узнавал. За отсутствием домашних туфель надел ботинки, но зашнуровывать не стал.
Из комнаты он вышел бесшумно, постоял в колебании перед соседней дверью, робко постучался. Никто не отвечал. Пальцы сами взялись за ручку, повернули, но толкнуть дверь он все еще не смел.
Наконец послышался едва различимый звук, словно бы кто-то, задыхаясь, пытался глотнуть хоть немного воздуха.
Он вошел. Комната была такой же, как его собственная, разве что чуть просторнее. Застекленная дверца шкафа распахнута настежь, дверь в ванную тоже. Женщина сидела на полу, всем телом странно обмякнув, в этой позе она смахивала на буддийского монаха. Волосы платинового цвета падали ей на лицо. Глаза были красными, но сухими. Уставившись в одну точку, она прижимала обе руки к груди.
Появление незнакомца ее как будто не удивило. Тем не менее она его заметила, смотрела, как он приближался к ней, но без единого жеста, не проронив ни слова.
— Что вы сделали? — спросил он.
Он не подумал о том, на кого похож в своих расстегнутых брюках, с жидкими волосами, вставшими на макушке хохолком, как всегда по утрам, в незашнурованных, болтающихся на ногах башмаках.
Женщина шепнула:
— Закройте дверь.
Потом:
— Он ушел, верно?
И после паузы:
— Насколько я его знаю, теперь не вернется… Вот же идиотство!
Последние слова она выкрикнула с прежним лихорадочным жаром, вскинув руки к небесам, которые винила в мужской глупости.
— Жуткое идиотство!..
Она поднялась, опираясь на руки, так что был момент, когда он видел ее стоящей на ковре на четвереньках. На ней было очень короткое платье из черного шелка в обтяжку, открывавшее длиннющие ноги в телесного цвета чулках. Краска на ее губах и тушь на веках немного размазались, и из-за этого она походила на выцветшую куклу.
— Что вы здесь делаете?
— Я услышал… — пролепетал он. — Я испугался… Понимаете, вы…
Она скорчила гримаску, словно ее затошнило. И тихонько, не столько ему, сколько себе самой пробормотала:
— Мне необходимо сблевнуть.
— Вы чего-то наглотались, не так ли?
— Фенобарбитала…
Она заметалась по комнате, озабоченно морща лоб, прислушиваясь, что происходит у нее внутри.
— Я его постоянно таскала в сумочке, все из-за него, он же никак заснуть не мог… Боже мой!
Она стиснула руки, чуть ли не снова ломая их, настигнутая очередным истерическим припадком.
— Я никогда не умела блевать, у меня не получается!.. Да может, так и лучше… Небось, когда он узнает, что я и вправду…
Ей было страшно. Паника овладевала ею прямо на глазах. Наконец ее обезумевший взгляд остановился на непрошеном визитере, и она взмолилась:
— Как мне быть? Скажите, что надо сделать?
— Я вызову врача…
— Только не это! Вы же не знаете… Это было бы самое худшее… Его тогда сразу арестуют, он еще подумает, что я нарочно…
Она больше не могла оставаться на одном месте, без конца металась взад-вперед по тесному пространству комнаты.
— Что вы чувствуете?
— Не знаю… Мне страшно… Если бы я смогла выблевать…
Он и сам понятия не имел, что делать. Мысль оставить ее одну и бежать в аптеку за рвотным не пришла ему в голову или, вернее, это казалось ему слишком сложным.
— Сколько таблеток вы приняли?
Она вспылила, разозленная то ли его беспомощностью, то ли, может быть, просто видом этой смешной фигуры:
— Разве я знаю сколько?! Все, что оставалось в пузырьке… Шесть… или семь… Мне холодно…
Она накинула на плечи пальто, посмотрела на дверь — ее явно тянуло помчаться куда-то на поиски помощи.
— Как подумаю, что он меня бросил…
— Послушайте… Я хочу попытаться… Однажды мне удалось, когда моя дочка проглотила…
Они оба были одинаково растерянны и неуклюжи, а тут еще постояльцы с четвертого этажа, наверняка полагая, что их суета — не что иное, как продолжение все той же сцены, барабанили в потолок, требуя тишины.
— Ну же, откройте рот. Я попробую…
— Вы делаете мне больно!
— Ничего… Потерпите…
Он искал, чем бы пощекотать ей в горле, и в своей наивности чуть не сунулся туда с собственным носовым платком. Она держала в кулаке свой, очень маленький, скомканный, как жесткий шарик. Он расправил его, свернул в трубочку.
— Ах!.. Вы меня душите… Ах!
Ему пришлось твердой рукой придержать ее голову, и он слегка удивился тому, какой у нее выпуклый череп.
— Расслабьтесь, не напрягайтесь так… Моя дочь тоже напрягалась… Ага!.. Еще секунду… Чувствуете?
Спазмы сотрясали ей грудь, внезапно ее вырвало, причем она не остереглась, и часть блевотины обрызгала этого мужчину, которого она знать не знала. На глаза навернулись слезы, мешая видеть. Женщину рвало чем-то красноватым, а он удерживал ее за плечи, подбадривая, будто утешал ребенка:
— Вот!.. Вот!.. Увидите, теперь вам станет легче… Еще… Не удерживайтесь… Наоборот, дайте себе волю.
Она таращилась на него сквозь слезы, будто животное, которому вытащили кость из глотки.
— Вы чувствуете, что ваш желудок пуст? Или еще не совсем? Дайте-ка я попробую еще раз… Лучше перестраховаться…
Женщина замотала головой. Она вся обмякла. Ему пришлось помочь ей улечься на край кровати, свесив ноги, а она тем временем издавала слабое монотонное поскуливание.
— Если вы мне пообещаете не двигаться, вести себя благоразумно, я спущусь в контору… Там должна быть газовая конфорка или еще что-нибудь, на чем можно вскипятить воду. Вам нужно попить чего-нибудь горячего, промыть желудок…
Она знаком дала понять, что согласна, но он, прежде чем уйти, заглянул в ванную — проверить, нет ли там еще яда. Она обеспокоенно следила за ним глазами, недоумевая, что он там забыл. Еще больше она насторожилась, когда он стал рыться в ее сумочке, где лежали измятые купюры, губная помада и пудра.
Но нет! Вором он не был. Сумочку поставил обратно на ночной столик.
— Не двигайтесь… Я сейчас вернусь.
Пробираясь по лестнице, он старался производить как можно меньше шума. Его губы кривила горькая усмешка. С ним-то никогда никто так не возился! Всю жизнь, как бы далеко он ни силился заглянуть в прошлое, ему вечно приходилось помогать другим. Бывало, он мечтал заболеть, чтобы кто-нибудь склонялся над ним с нежной улыбкой, хоть на миг избавив его от тяжкого бремени бытия. Но это были только пустые грезы.
— Извините, что доставляю вам беспокойство. — Он всегда был преувеличенно вежлив, слишком боялся задеть ближнего невзначай. — Моя соседка неважно себя чувствует. Не будете ли вы так любезны вскипятить немного воды? А если бы какой-нибудь отвар…
— Пройдите здесь.
Стояла ночь. Отель спал. Но он слышал, как в потемках улицы проезжает тяжелая повозка, как возница то и дело щелкает кнутом, чтобы разбудить задремывающую на ходу лошадку.
— Вы их знакомый? — спросил служитель отеля, который мигом смекнул, что речь идет о постояльцах из двадцать восьмого.
— Нет.
— Подождите. Сейчас поищу спички.
В захламленной серой каморке, заменявшей кафетерий, имелась кофеварка, но газовая горелка оказалась уж очень мала. Служитель ее зажег с тем невозмутимым, несколько мрачным спокойствием, какое характерно для людей, которые вечно ведут одинокий ночной образ жизни, в то время как другие спят.
— Я был удивлен, когда увидел, что он уходит… Он несколько дней проболел… Она целыми днями сидела с ним в номере… Сама ему еду относила…
Господин Монд, сам себе удивляясь, полюбопытствовал:
— Он молод?
— Думаю, года двадцать два. Надо посмотреть в его анкете… Сегодня вечером они оба выходили, но не вместе — сначала она, он позже. Когда час спустя они вернулись, я понял, что там случилось какое-то тухлое…
Заключительное слово звучало похабно.
— Он ее терроризировал, не так ли?
Кофеварка уже запела. Служитель стал перебирать металлические коробки, нашел липовый цвет.
— Если хотите, я принесу ей отвар.
— Я сам могу это сделать.
— Сахара добавить?
— Пожалуй… Да… Благодарю вас.
Видимо, в том, что говорил этот человек, был какой-то намек, касавшийся ее. Зачем он сказал ему это? Заподозрил его в какой-то задней мысли?
— Если вам еще что-нибудь потребуется, не стесняйтесь. Я буду здесь до шести утра.
Когда господин Монд вернулся в номер с липовым отваром, женщина спала. Или притворялась спящей. Он смутился, потому что ее платье, задравшись слишком высоко, обнажило узкую полоску кожи выше чулка, на бедре. Желания он не испытывал, задней мысли не было.
— Мадемуазель…
Она открыла глаза, совершенно бессмысленные.
— Вам надо выпить это… А если у вас хватит храбрости, я вам даже советую ради перестраховки отдать обратно часть выпитого, очистить желудок…
Ее мутный отсутствующий взгляд встревожил его. Она не шевелилась. Он приподнял ее, усадил, поднес ей к губам чашку.
— Выпейте.
— Горячо…
Ее речь была невнятной, звуки выпадали изо рта вялые, аморфные, как если бы у нее язык распух.
— Все равно пейте…
Он еще раз вызвал у нее рвоту, практически силой, но потом ее долго сотрясала мучительная икота, и она, похоже, обозлилась на него за эти новые страдания.
— Зато теперь мы можем быть спокойны.
Наверное, потому, что задыхалась, она просунула руку к себе за ворот, под платье, расстегнула лифчик и жестом, который был ему незнаком, но шокировал, изловчилась снять его. Сдернув, швырнула на пол.
— Прилягте… Если хотите раздеться, я на минуту выйду…
Не давая ему на это времени, она все с тем же равнодушным видом сбросила платье через голову так, что оно скользнуло по ее телу, словно отслужившая кожа. Он отвернулся к стене, но все же видел ее — она отражалась в зеркальной дверце шкафа. Под платьем на ней не было ничего, кроме крошечных розовых трусиков и еще более узкого пояса, к которому все еще были пристегнуты чулки. Когда, снимая их, она наклонилась, ее маленькие острые груди словно повисли в пустоте.
Она и трусики скинула, от их резинки на коже осталась розоватая полоска. Теперь она застыла, совсем нагая, с легкой тенью на животе у основания бедер, и, поколебавшись, двинулась на цыпочках в сторону ванной, держась так, будто не сознавала присутствия мужчины в смежной комнате.
Возвратилась она оттуда в голубом выцветшем пеньюаре, глаза у нее все еще были мутными, рот брезгливо кривился.
— Мне плохо… — выдохнула она, падая снова на кровать.
Потом, когда он подоткнул одеяло, чтобы не соскальзывало, шепнула:
— Не могу больше…
Заснула она мгновенно, свернувшись калачиком, ее голова сползла с подушки, так что теперь он видел только ее обесцвеченные волосы. Еще минута-другая, и она захрапела, а господин Монд, стараясь не шуметь, прокрался к себе в номер, чтобы надеть пиджак и накинуть пальто. Его знобило.
Он расположился в кресле у кровати. Прошло совсем немного времени, и он заметил, что щели в ставнях посветлели. Звуки понемногу просыпались, одни внутри здания, другие на улице. Особенно резкими были уличные — треск моторов, которые не сразу заводились, и лодочных тоже, а еще было слышно, как хлопают по воде весла, как в Старом порту со скрежетом трутся боками лодки; раздался заводской гудок, вдали, у грузового пирса, неумолчно выли сирены.
Тогда он погасил электрическую лампочку, которую до того оставил включенной, и дневной свет, прорывающийся сквозь щели, полосами отпечатался на стенах.
Там светило солнце. Ему захотелось выглянуть наружу. Стоя у окна, он силился проникнуть взглядом сквозь решетчатые ставни, но различал не предметы целиком, а лишь узенькие отрезки картины — мелькнула, например, штанга трамвайного токоприемника, груда каких-то розовых и сиреневых раковин на маленькой тележке…
Женщина больше не храпела. Одеяло с головы она отбросила, стало видно лицо — щеки раскраснелись, губы припухли, черты мученически сведены, кожа залоснилась от пота, и все это так не вязалось с искусственным цветом помады, будто перед ним была другая женщина. Лицо казалось более человеческим, в нем проступило что-то совсем юное, очень жалобное и немножко вульгарное. Она, наверное, родилась в трущобах предместья, младенцем ползала с голым задом, вся в соплях, по каменному крыльцу, после уроков в начальной школе болталась на улице…
Проезжающие один за другим покидали гостиницу, по улице мчались автомобили, все бары наверняка уже открылись, в закусочных, пока еще пустых, официанты посыпали серые полы опилками и протирали стекла разведенным в воде порошком мела.
Однако ему пора было привести себя в порядок, одеться. Убедившись, что его новая приятельница все еще спит, он прошел к себе в номер. Там, несмотря на пронизывающую утреннюю прохладу, он во всю ширину распахнул ставни и, чувствуя прилив свежих сил, смотрел на голубую воду, на белые скалы вдали, на пароход с трубой, окантованной поверху красной полосой, — пароход уходил в открытое море, оставляя позади чарующий своей белизной пенный след.
Уже забылись ночные грезы с их беспредельным морем, приснившийся морской песок под солнцем, нашептывавший ему горькие признания, и если бы в горле еще остался едва уловимый привкус тех слез, он бы их устыдился.
С какой стати ему выделили комнату без ванной? Ведь так хочется всем телом ощутить струящуюся, очистительную прохладу воды! Наверное, в том, что с ним обошлись столь небрежно, повинна его одежда, убогая, дурно сшитая, вот и теперь она его стесняет…
У него не было с собой ни бритвы, ни мыла, ни зубной щетки. Он позвонил. Посыльный не замедлил явиться — раздался стук в дверь. Прежде чем дать ему поручение, господин Монд на миг заколебался, стесняясь того, что уже отрекается от вчерашних, еще столь близких мечтаний.
— Ступайте и купите мне…
В окно он видел, как этот парень в униформе выскочил на тротуар и вприпрыжку куда-то затрусил. В ожидании его возвращения господин Монд снова засмотрелся на море, которое днем выглядело совершенно иначе: теперь оно четко обрамляло пирсы, само служило их продолжением. Моторные катера бороздили его, рыбаки закидывали сети в его воды.
Жмурясь от слепящего утреннего солнца, он долго глазел на заслонявший горизонт гигантский металлический каркас трансбордера[1] с едва угадывавшимися на нем хлопотливыми фигурками людей.
4
Господин Монд ждал, поскольку всякий иной образ действия ему представлялся невозможным. Время от времени он подходил к двери, ведущей в номер соседки, прижимался к ней ухом, затем снова занимал свой наблюдательный пост у окна, а так как холод пробирал до костей, он накинул пальто и засунул руки в карманы.
Было около десяти, когда ему пришло в голову, что когда его окликнут из соседнего номера, шум города и порта может заглушить этот зов. Не без сожаления он затворил окно. В этот момент на сердце легла тяжесть. Со странной улыбкой он посмотрел в зеркало. Там в чужом пальто рядом с измятой постелью стоял посреди гостиничного номера он сам. Стоял и не понимал, что теперь делать.
В конце концов он, словно в зале ожидания, опустился на стул подле пресловутой двери и принялся, опять-таки как в зале ожидания, перебирать в уме предположения, возможные опасности, досчитал до ста, потом до тысячи, сыграл в орла и решку, пытаясь таким образом решить, оставаться здесь дальше или нет, но вдруг дернулся, будто спящий, которого внезапно разбудили, потому что и в самом деле, похоже, вздремнул. За дверью слышались шаги, и ходили там уже не босиком, а на высоких каблуках. Они звонко постукивали, хотя походка была вялой.
Он кинулся к двери, постучал.
— Войдите!
Женщина была уже совсем одета, на голове маленькая красная шляпка, в руке сумочка — она собралась уходить. Еще несколько секунд, и он бы ее упустил. О своем туалете она позаботилась тщательно, будто ровным счетом ничего не произошло: макияж был полностью завершен, странно смотрелся нарисованный крошечный ротик — оттого, что он был меньше ее настоящего рта. Его бледно-розовые края выглядывали из-под алой помады, будто нижняя юбка из-под верхней.
Без тени замешательства она бросила на него острый взгляд через плечо, будто проверяя, вправду ли это тот же господин, что был здесь ночью, — видно, лица совсем не запомнила, — и принялась озираться, ища, где перчатки; зато он, напротив, смущенно замер в дверях.
— Вам лучше?
— Есть хочу, — обронила она.
Отыскала наконец свои перчатки, такие же красные, как шляпка, и вышла из номера, не удивляясь тому, что он идет к лестнице за ней следом.
Отель между тем сменил обличье. При свете дня его вестибюль стал больше напоминать зал приемов — он выглядел почти шикарно. Служитель, восседающий на месте администратора у стойки красного дерева, был во фраке, стены, как он только теперь рассмотрел, обшиты деревянными резными панелями, по углам зеленые растения в кадках, и посыльный у двери тоже в зеленом.
— Такси не угодно?
Не он, а женщина сказала «нет», между тем как господин Монд, сам не понимая почему, старался не встречаться глазами со служителем у стойки администратора, хотя видел его впервые в жизни. По правде сказать, господина Монда стеснял его убогий костюм. В нем он чувствовал себя неуклюжим. Может быть, ему и усов уже не хватало?
На улице он пристроился слева от своей спутницы, она же куда-то уверенно зашагала, не обращая на него внимания, но и не удивляясь, что он идет с ней рядом. Внезапно она свернула направо, потом они очутились у Старого порта, на углу авеню Канебьер. Женщина толкнула стеклянную дверь ресторана, вошла и с видом человека, которому все тут привычно, двинулась вперед, огибая столики.
Господин Монд шел за ней по пятам. Здесь было три этажа, на каждом — просторные залы с застекленными отсеками, и всюду ели. Сотни людей, теснясь друг к другу, без устали жевали, а в это время между столиками, по коридорам, по лестнице сновали официанты и официантки, разнося лангустов, буйабес[2] и блюда с горами моллюсков.
В оконные проемы лились потоки солнечных лучей. Они здесь достигали пола, как в больших магазинах с громадными витринами, так что снаружи сотрапезники были видны с головы до пят. Все поглощали пищу. И поглядывали друг на друга, кто с любопытством, кто бездумно. Иногда кто-нибудь, теряя терпение, взмахивал рукой и звал:
— Гарсон!
От густого запаха чеснока, шафрана и ракообразных першило в горле. Над всеми ароматами превалировал дух лангуста. Пронзительная нота: лангусты были всюду — на подносах в протянутых руках официантов, почти на каждом столе, а еще на тарелках едоков, собравшихся уходить: там от них оставались голые опустевшие панцири.
Молодая женщина нашла два свободных места у стены. Когда сели, господин Монд оказался напротив, лицом к лицу с ней. И тотчас с удивлением заметил, что она чрезвычайно внимательно всматривается в нечто, расположенное у него за спиной. Оглянувшись, он обнаружил, что там зеркало.
— Я такая бледная… — вздохнула она. — Гарсон!
— Вот! — Пробегая мимо, официант подбросил им на стол гигантское меню, размноженное явно на ротаторе — все в фиолетовых и красных пятнах типографской краски.
— Гарсон!
— Мадам…
— Колбаски сегодня хорошие?
Господин Монд поднял голову. В это мгновение его осенило. Если бы он задал подобный вопрос — черт возьми, сомнения нет! — то официант, любой официант мира сего, разумеется, ответил бы, что колбаски превосходны, ведь таково его ремесло. Только вообразите официанта, который говорил бы клиентам: «Блюдо плохое! Не ешьте его!»
Этот, само собой, тоже ответил «да» на вопрос молодой женщины, но это было не абы какое «да». Чувствовалось, что ей он не солжет, к ней у него совсем иное отношение, не то, что к сотням клиентов, кишащих на всех трех этажах огромной фабрики по поглощению пищи.
Гарсон держался с ней почтительно и вместе с тем фамильярно. Он признавал, что среди таких, как она, иные кое-чего стоят. Эту он уважал за успешность. Не хотел причинить ей вред. А значит, следовало осмыслить ситуацию. Он повернулся к господину Монду, пытаясь оценить, что за птица:
— Если позволите дать вам совет…
При этом он не терял контакта с женщиной. К чему слова, если им достаточно незаметного знака? Казалось, он спросил ее: «Крупная дичь?»
Поскольку она сохраняла равнодушную мину, он склонился над меню, отчеркнул ногтем несколько блюд:
— Для начала, наверное, подойдут мидии… Не стоит труда приезжать в Марсель, если не лакомиться мидиями… А как насчет морского ежа?
Он умышленно утрировал свой акцент южанина.
— Потом славный домашний буйабес с лангустом.
— Мне вы подадите просто лангуста, без супа! — перебила она. — И без майонеза. Соус я готовлю сама…
— Затем колбаску…
— А корнишоны у вас есть?
— Что будете пить?
Ему вспомнился один ресторан в районе шоссе д’Антен, имевший немало общего с этим: там тоже можно было, поглядев с улицы, увидеть за стеклом множество персон, пережевывающих пищу. Господину Монду случалось им завидовать, бог знает почему. В сущности, он и сам не вполне понимал, чему именно завидовал. Вероятно, этой возможности смешаться с толпой, стать как все, чувствовать локоть соседа, испытывать уютное ощущение банальности, понежиться в приятной атмосфере дешевого блеска.
Клиенты этого заведения в большинстве своем, вероятно, заезжие провинциалы или малоимущие, в кои-то веки принявшие решение «раскошелиться на хороший обед»…
За соседним столиком, освещенная ярким солнцем, восседала женщина средних лет и неимоверных пропорций. Меховая накидка делала ее еще массивнее, крупные бриллианты, настоящие или фальшивые, переливались у нее в ушах, другие сверкали на пальцах. Она зычным голосом отдавала распоряжения, пила в три горла и громко хохотала в обществе двух молодых людей, которым вряд ли исполнилось двадцать.
— Вы не шпионили за нами?
Он содрогнулся. Его спутница, имени которой он все еще не знал, смотрела на него, наморщив лоб, в этом взгляде было столько ледяной проницательности, что он покраснел.
— Лучше бы вы сказали правду. Вы из полиции?
— Я? Клянусь вам…
Ей хотелось в это поверить. И парней из полиции она, должно быть, знала. Но тем не менее настаивала:
— Как получилось, что вы там оказались именно в эту ночь?
И он ответил смущенной скороговоркой, будто застигнутый за неблаговидной проделкой:
— Я только вчера прибыл из Парижа… Не мог заснуть… Только-только задремал… А потом услышал… — Он был слишком честен, чтобы соврать: — Все, о чем вы говорили…
Их стол уже ломился от закусок, подносы с моллюсками, теснясь, налезали друг на друга, а белое вино им подали в ведерке со льдом из тех, в каких приносят шампанское. Господин Монд недоумевал. Значит, его скромная одежда не обескуражила официанта? Или, может, сюда принято приходить именно в таком виде, когда собираешься задать пир?
— Я сказал шеф-повару, чтобы позаботился о ваших колбасках, — проворковал официант, наклоняясь к уху молодой женщины.
А та, поднося к губам ложечку зернистой бледно-розовой массы, в которую поварское искусство превратило морского ежа, обронила:
— Вы женаты…
И взглядом показала на обручальное кольцо, которое господин Монд не додумался снять.
— С этим покончено, — сказал он.
— Вы бросили свою жену?
— Вчера…
Она скорчила презрительную мину:
— И что, надолго?
— Навсегда.
— Все так говорят…
— Уверяю вас…
Тут он покраснел, сообразив, что дело выглядит так, будто он похваляется своей свободой и намерен ею воспользоваться, а ведь это совершеннейшая неправда…
— Все не так, как вы думаете… Гораздо сложнее…
— Ну да. Знаю.
Что она может знать? Она посмотрела на него, потом перевела взгляд — все такой же жесткий — на свое отражение в зеркале, оттуда — на женщину в бриллиантах, с двумя юнцами… Вздохнула:
— Может, зря вы меня вытащили… Лучше бы оставили. Сейчас все уже было бы кончено.
Однако креветки продолжала очищать, с большой тщательностью вылущивая их своими длинными ногтями.
— Вы здешняя? — спросил он.
Она пожала плечами. Дурацкий вопрос, женщина вроде нее такого бы не задала.
— Я с севера, из Лилля. А вы из Парижа, верно? Чем занимаетесь?
Ее изучающий взгляд скользнул по его костюму, галстуку, рубашке. А поскольку он, смутившись, медлил с ответом, она осведомилась изменившимся голосом, чуть ли не с угрозой:
— Надеюсь, вы не удрали, прихватив кассу?
Он запнулся, не понимая смысла этого наскока, и дал ей время продолжить:
— Потому что мне это обрыдло! Сыта по горло!
— Я не служащий.
— А кто же вы?
— Рантье.
Она снова оглядела его. Что-то в наружности собеседника ее успокоило — интересно что?
— Ладно…
— Мелкий рантье.
Должно быть, эти два слова женщина истолковала в смысле «скупой»: она странно покосилась на стол, ломящийся от подносиков с ракообразными и бутылок дорогого вина.
Господину Монду кровь бросилась в голову. Ничего не пил, едва омочил губы в запотевшем бокале, и все же он слегка захмелел от слепящего света, в лучах которого мелькали люди, слишком много людей. Захмелел оттого, что все эти лангусты такие красные, а гарсоны без конца носятся взад-вперед, так что голова кружится, и шум голосов тоже пьянил, и разговор, а может статься, еще то, что люди орали, пытаясь перекричать и друг друга, и звяканье вилок, и звон тарелок.
— Я все голову ломаю, спрашиваю себя, где он сейчас.
По наивности он, не подумав, умудрился спросить, кто именно. Она только пожала плечами, окончательно и бесповоротно составив мнение на его счет.
— Он на этом больше потеряет, чем я…
Теперь ею овладела потребность поговорить о случившемся. Не обязательно именно с ним — с кем угодно. Подали лангуста, и она принялась составлять соус, тщательно подбирая ингредиенты и смешивая их у себя на тарелке.
— От майонеза меня мутит. Не знаю, почему бы не сказать вам, как все это случилось. Имею право после того, что он сотворил! Я перед ним на коленях ползала, никогда бы ни с одним мужчиной до такого не дошла, а он меня каблуком саданул вот сюда… Видите? След остался!
Это была правда. Если смотреть вблизи, на верхней губе слева под слоем помады угадывался синячок.
— Тип, которому грош цена… Сын овощного торговца, он и сам еще недавно с тележкой по улицам таскался… И добро бы я сама бегала за ним! Так нет, мне вообще ничего не нужно было… Вы знаете Лилль?
— Бывал проездом.
— В «Красный шар» не заходили? Маленькое такое кабаре в подвальчике, рядом с театром. Хозяин еще до того кабачок держал на площади Пигаль… Фред его зовут… Туда сплошь завсегдатаи ходят, серьезные люди, которые не желают показываться невесть где… В основном фабриканты из Рубэ, из Туркуэна. Представляете уровень? По вечерам танцы, ну, и номера… Я там дебютировала как танцовщица, три года назад…
Ему хотелось узнать, сколько ей лет. Но спросить не решился.
— Гарсон! Поменяйте-ка мне бокал, будьте так любезны! Я уронила туда кусочек лангуста…
Не теряя нить своего рассказа, она по-прежнему время от времени посматривала в зеркало и, похоже, одновременно еще прислушивалась к разговору женщины в бриллиантах с двумя ее спутниками. Вдруг спросила:
— Как по-вашему, кто они?
— Не знаю. Вряд ли это ее сыновья…
Она прыснула:
— Ну да, как же! Жиголо! И встретилась она с ними недавно. Может, даже ничего еще и не было, вон как они злобно друг на друга поглядывают, выходит, пока неясно, кому достанется выигрыш… она то есть. И знаете что? Держу пари, у нее магазинчик в приличном квартале, рыбный или колбасный, и дело идет хорошо… Она два раза в месяц так шикует на побережье.
Господину Монду подали бифштекс.
— А ваша колбаска будет готова через минуту. Она на подходе!
И молодая женщина продолжила:
— Меня зовут Жюли, это настоящее имя. А танцевала я под именем Дэзи. Эти господа угощали аперитивом, приятная такая компания, потому что шлюх там не было. По-дружески себя держали. Хотите верьте, хотите нет, они со мной серьезно вели себя… в основном. Они туда приходили поговорить, поделиться… о своей конторе рассказывали, о семье… Понимаете?
Она умолкла, но тут же заговорила снова:
— Был там один тип, самый шикарный из всех, толстый, ну, вроде как вы, он за мной ухлестывал месяца три, не меньше… Я понимала, к чему он клонит, но мне-то не к спеху… Он был из Рубэ. Известная семья, богачи… Он до ужаса боялся, как бы не увидели, что он выходит из кабаре, вечно посыльному поручал сперва посмотреть, не идет ли кто по улице… Хотел, чтобы я больше не танцевала. Снял мне хорошенькую квартиру на тихой улице, где дома сплошь новые… Я бы до сих пор могла так жить, если бы не Жан… Он, когда приходил меня повидать, притаскивал всякие вкусности, все самое лучшее, что мог найти, ну, вот лангустов, раз в десять толще этого, ананасы, раннюю землянику в коробочках с прокладкой из ваты, шампанское… Мы такие ужины закатывали на двоих…
И внезапно переменив тон:
— Ага! Что я вам говорила?
Он не понял. Тогда Жюли, подмигнув, глазами указала на соседний столик и зашептала, пригнувшись:
— Она с гарсоном говорила о рыбе, сейчас — только что! — спросила, не купит ли он ее за такую-то цену! Я была права! Это рыбная торговка! Что до тех двух малышей, есть шанс, что они еще до вечера расцарапают друг другу рожицы, как пара котов… Так о чем я говорила? Ну вот, хочу, чтобы вы поняли: этому Жану я ничем не обязана. Наоборот! Он заглядывал ко мне в «Красный шар»… как клиент. У меня там было несколько хороших друзей… Но я серьезная девушка. Можете мне поверить: если я что говорю, это правда… Мы с Жаном там и встретились. Он тогда работал в скобяной лавке, но поначалу пыжился, притворялся важной шишкой. Все, что он зарабатывал, уходило на одежду и плату за коктейли. А какой он красавец, прямо слов нет! Вот я и поддалась, на свою беду. Сама не пойму, как это вышло, но я влюбилась. Вначале он клялся, что убьет себя, если я не соглашусь, сцены мне закатывал по всякому поводу… Такой ревнивый, что я уже и за порог выйти боялась… Даже к моему другу заревновал, да так, что жизнь стала невозможной… «Тем лучше! — твердил. — Уедем, и ты будешь только моей!» Но я-то знала, что он зарабатывает всего две тысячи франков в месяц, да еще матери вынужден что-то отдавать…
Она шумно перевела дух:
— Ну вот! Он как говорил, так и сделал. Однажды вечером примчался весь бледный… Я была с моим другом. Он меня вызвал через квартирную хозяйку, она жила на первом этаже. Приходит и говорит: «Не могла бы мадемуазель Жюли спуститься на минуточку?» Она сразу по его лицу поняла, что дело серьезное. Он ждал в коридоре. Как сейчас его вижу: стоит возле вешалки, под лампой с цветными стеклами, та его освещает… Прорычал сквозь зубы: «Он здесь?» «Что с тобой? — спрашиваю. — Совсем спятил?» А он: «Нам надо бежать! Сейчас же! Захвати все, что сможешь! Едем ночным поездом в 12.10!» Потом как дохнет на меня — слышно, что выпил, — и шепотом: «Я кассу взял!»
Помолчала, понурившись, вздохнула:
— Вот как все вышло. Что мне было делать? Я ему велела подождать меня, прогуляться пока по улице. Поднялась к моему другу, сказала ему: мне, мол, сейчас сообщили о том, что моя сестра ждет ребенка и просит, чтобы я немедленно приехала. Он, бедняга, ничего не заподозрил. Только расстроился, глаза вылупил от разочарования: ему в тот вечер, по правде сказать, ничего еще не обломилось… А я ему: «Полно! Я уже к завтраму постараюсь вернуться». «Да ладно, — говорит, — завтра так завтра». И ушел. Я штору подняла, смотрю — Жан под газовым фонарем на перекрестке мается, ждет. Чемодан вещами набила… не могла поступить иначе… Платья пришлось оставить еще очень приличные, обуви три пары… Мы успели на ночной поезд. Он ужасно трясся. Ему всюду мерещились полицейские. И в Париже еще не чувствовал себя в безопасности, даже в гостиницу не захотел пойти, боялся, вдруг потребуют удостоверение личности. Мы сразу сели в марсельский поезд. Как вы хотите, чтобы я ему перечила? Что сделано, то сделано… Когда приехали сюда, была уже ночь. Не меньше часа по улицам таскались с багажом, пока он решился пойти в гостиницу…
Она жадно впивалась зубами в колбаску, обмазанную горчицей, и время от времени с хрустом закусывала маринованным корнишоном.
— И тут же он свалился — заболел. Я его выхаживала, кто ж еще? По ночам у него начинались кошмары, он кричал, хотел встать, мне силой приходилось его удерживать, так он бушевал… Это продолжалось целую неделю. А знаете, сколько он взял? Двадцать пять тысяч франков… И с этим он собирался сесть на корабль, отплывающий в Южную Америку… Только в здешнем порту таких не бывает. У всех объявленных рейсов пункт отправления Бордо… Ну а вчера вечером я стала задыхаться, с меня было довольно, мне хотелось глотнуть свежего воздуха, вот я ему и сказала, что выйду пройтись на часок. И нет бы сообразить, что раз он такой ревнивец, он за мной проследит… Да может, я и догадывалась… Но это было сильнее меня. Как только вырвалась на улицу, мне даже оглядываться не захотелось. За два квартала отсюда — не знаю, как называются эти улицы, — я увидела свет, совсем такой же, как в «Красном шаре», и услышала музыку… Мне так захотелось потанцевать, что невозможно удержаться. Я вошла.
Она вдруг резко обернулась, будто ей показалось, что человек, о котором она вспоминает, стоит у нее за спиной, но это была всего лишь парочка. Оба такие свеженькие, напомаженные, улыбчивые, что с первого взгляда понятно — у этих свадебное путешествие.
— Вот я и спрашиваю себя, куда он мог податься. Насколько я его знаю, с него станется сдаться полиции. А если нет, если он все еще бродит по Марселю, мне в любую секунду грозит беда… Да ну, плевать! Короче, я танцевала. Один мужчина, очень милый, весь в оранжевом, предложил составить ему компанию. Когда мы с ним выходили из дансинга, я увидела Жана — он стоял у края тротуара. Он мне ни слова не сказал, повернулся и пошел. Я побежала вслед за ним, сразу бросила того, другого, я бы теперь его едва узнала, если бы встретила. Я кричала ему: «Жан! Послушай!» А он только зубы стиснул, сам белый весь, как простыня. Потом стал собирать свой чемодан… Обзывал меня всякими словами… И все равно, клянусь, я его любила. Мне даже кажется, я и теперь, если бы его увидела, кинулась бы за ним следом…
Вокруг столиков появлялось все больше пустых стульев. Дым сигарет заполнял залы, одновременно густели запахи спиртных напитков.
— Кофе, дамы и господа? Может быть, немного ликера?
Еще одно воспоминание внезапно пронзило господина Монда — картина, которую можно увидеть на парижских улицах, если заглядывать в окна ресторанов: трапеза закончена, на столе, покрытом испачканной скатертью и грязной посудой, чашки кофе, бокалы со спиртным, за столом мужчина средних лет, полноватый, раскрасневшийся, взгляд счастливый, но несколько беспокойный, а напротив — молодая женщина. Она подносит сумочку близко к лицу, чтобы, смотрясь в зеркальце, подчеркнуть помадой изгиб губ.
Он мечтал о таком. Завидовал… Жюли подправила макияж, порылась в сумочке, подозвала официанта:
— У вас есть сигареты?
И тотчас ее губы окрасили бесцветный кончик сигареты в телесно-розовый оттенок, более женственный, чем цвет обычной кроваво-красной помады.
Она все сказала. Исповедь закончена. Теперь опять она смотрится, опустошенная, в зеркало за спиной собеседника, и тоненькая морщинка, проступив на ее лбу, выдает озабоченность, которая снова гнетет ее.
Ей уже не до любви, пора решать другой вопрос — как выжить. Что у нее на уме? Ее стремительный взгляд снова и снова скользит по лицу и фигуре мужчины, эти якобы мимолетные касания оценивают его, измеряют и взвешивают пользу, которую тут можно извлечь.
А он в смущении, сознавая собственную глупость, мямлит:
— Что вы собираетесь делать?
В ответ — холодное пожатие плеч.
Как он завидовал тем, кто не заботится о завтрашнем дне, не ведает ответственности, которую другие взваливают себе на плечи!
— У вас есть деньги?
Щурясь от сигаретного дыма, которого сама же напустила, она взяла свою сумочку, молча протянула ему.
Прошлой ночью он уже заглядывал туда. С тех пор в сумочке ничего не прибавилось и не убавилось: все те же помада, румяна, огрызок карандаша, несколько мятых купюр, среди них одна тысячефранковая.
Она твердо смотрела ему в глаза, на ее губах медленно проступала презрительная усмешка, до ужаса презрительная, потом она сказала:
— Это меня не волнует, чего уж там.
Время было позднее. Теперь в опустевшем зале они оставались почти что одни, служители уже принялись наводить порядок, а в одном из углов официантки расставляли по столикам приборы для вечерней трапезы.
— Гарсон!
— Вот, прошу вас…
Цифры порхали, чернильный карандаш ловил их на лету и выстраивал в столбик на листке блокнота, потом этот вырванный листок лег на скатерть перед господином Мондом.
Денег у него в кошельке было много. Он их туда напихал, сколько поместилось. Ему стало неловко за такую набитую мошну; открывая ее, он невольно заторопился, словно скупец, норовящий скрыть свое добро от нескромных глаз, и сразу понял, что Жюли это заметила; увидев толстую пачку банкнот, она опять покосилась на него с подозрением.
Оба одновременно встали, вместе прошли вестибюль и вышли вдвоем на солнечную улицу, не зная, что делать, не понимая, прощаться им или они останутся вместе.
Побрели куда глаза глядят, очутились на набережной, машинально смешались с толпой, глазеющей на рыболовов — стариков и мальчишек с их удочками.
Пройдет еще час, и мадам Монд выйдет из автомобиля на улице Ларошфуко перед зданием полицейского комиссариата. А он даже не вспомнил о жене. Ни о чем не думал. Только ощущал себя движущейся частицей внутри безграничной вселенной. От его кожи, согретой солнцем, пахло весной. На штиблетах тонким слоем оседала пыль. Его преследовал аромат духов спутницы.
Так, без определенной цели, они прошли метров двести, потом она остановилась и объявила решительно:
— Не хочу ходить!
Тогда они повернули обратно, поравнялись с рестораном, на всех застекленных этажах которого жизнь замерла, лишь иногда мелькали белые и черные фигуры официантов. Они, само собой, двинулись дальше по авеню Канебьер. Перед закусочной, где назло времени года был натянут полосатый тент, господин Монд остановился, предложил:
— Хотите присесть?
Они расположились напротив большого окна, по обе стороны мраморного столика на ножке, он — над стаканом пива на круглой картонке, она — перед чашкой кофе, к которой не притронулась.
Ждала. Потом сказала:
— Я вас задерживаю, вам, небось, пора идти по своим делам.
— У меня нет дел.
— А, ну да. Вы же говорили, вы рантье. А живете где?
— В Париже. Но я уехал оттуда.
— Без жены?
— Да.
— Из-за юбки?
— Нет.
В ее глазах мелькнуло непонимание и, уже в который раз, настороженность:
— Тогда почему?
— Не знаю… Так…
— У вас нет детей?
— Да, собственно, есть…
— Выходит, вам ничего не стоит их взять да и бросить?
— Они уже большие… Дочь замужем…
Неподалеку от них два важных гражданина, сознающих собственную важность, играли в бридж, а двое совсем зеленых юнцов, ровесников Алена — на бильярде, эти всё ловили в зеркалах свое отражение.
— Не хочу возвращаться в ту гостиницу.
Она стремилась избежать тягостных воспоминаний. Он это понял. Но не ответил. Молчание затягивалось. Так они и сидели, неподвижные, подавленные, а между тем уже смеркалось. Скоро начнут зажигать лампы. Из окна закусочной, совсем близко, теперь падал свет, сбоку холодным пятном ложился на лица, оставляя другую половину в тени.
Жюли испытующе всматривалась в толпу, текущую мимо них по тротуару, то ли от нечего делать, то ли стараясь скрыть смущение, а может, все еще с надеждой — или страхом — ждала, что появится Жан.
— Вряд ли я задержусь в Марселе, — буркнула она наконец.
— Куда же вы направитесь?
— Не знаю… Куда-нибудь подальше отсюда. Может, в Ниццу? А может, забьюсь в какой-нибудь уголок на берегу моря, чтобы ни души… Мужчины мне опротивели.
В любую секунду оба могли встать и распрощаться, каждый пошел бы своей дорогой, чтобы никогда больше не встретиться. Похоже, они просто не знали, как бы это сделать, только потому и оставались сидеть.
Господин Монд, испытывая неловкость оттого, что так долго не расплачивался, заказал еще стаканчик. Она же, удержав гарсона, спросила:
— В котором часу идет поезд до Ниццы?
— Я вам сейчас принесу справочник.
Она передала его господину Монду, и он нашел два поезда — скорый, который отправляется из Марселя в семь вечера, и еще один, девятичасовой, но этот тащится вдоль берега со всеми остановками.
— Здесь жуткая тоска, вам не кажется?
В спокойствии этого места и впрямь чудилось что-то давящее, пустеющий зал выглядел безжизненным, воздух над редкими посетителями сгустился душной, слишком недвижной массой, в которой каждый звук выделялся, обретая сугубую значительность: восклицания карточного игрока, постукивание бильярдного кия, сухой звук, с каким гарсон постоянно выдвигал ящик для салфеток и полотенец, резко возвращая на место. Лампы зажглись, и одно это уже принесло облегчение, зато вид улицы, где сумерки, поглотив краски, все сделали черно-серым, стал мучительным: странное мельканье мужчин, женщин, детей, проходящих кто медленно, кто быстро, мимоходом задевая, но не зная друг друга, направляясь бог весть куда, а может, и никуда; и тут же снуют до отказа набитые двуногими жирные автобусы, тоже развозят свой груз.
— Разрешите?
Официант, подойдя сзади, задернул плотную мольтоновую штору, одним движением упразднив всю реальность внешнего мира.
Господин Монд вздохнул, не отводя глаз от своего стакана с пивом. Он видел, как пальцы его спутницы нервно стиснули сумочку. Но ему надо было пройти немалый путь сквозь время и пространство, прежде чем отыскались совсем простые, глупые слова, которые он наконец произнес, дав им раствориться в этой заурядной обстановке:
— Мы успеем на девятичасовой?
Она не сказала ни слова, но осталась с ним; ее пальцы, что впивались в крокодиловую кожу сумочки, разжались, и она закурила новую сигарету. А потом, около семи, когда закусочную заполнили новые клиенты, пьющие свой аперитив, они удалились, сосредоточенные и унылые, словно настоящая супружеская чета.
5
По временам он хмурил брови. Его светлые глаза часто застывали, устремившись в одну точку. Таковы были единственные признаки, по которым посторонний наблюдатель мог бы догадаться, что он встревожен, а между тем в эти моменты он терял почву под ногами и, если бы не сохранял некоторую долю человеческого самоуважения, чего доброго, постучал бы по лакированным перегородкам, проверяя, вправду ли они материальны.
Он снова оказался в поезде, и пахло здесь так же, как обычно пахнет в ночных поездах. В четырех купе вагона второго класса было темно, шторы задвинуты, но когда он в поисках свободного места отдернул наудачу одну из них, оказалось, там спали люди, он их побеспокоил…
Прислонившись спиной к перегородке с номером на эмалированной дощечке, он стоял в коридоре. Отдернул занавеску окна напротив — стекло было черным, холодным, склизким, изредка за ним проплывали огни маленьких береговых станций. На остановках его вагон, будто нарочно, всякий раз оказывался напротив двух освещенных табличек «Мужчины» и «Дамы».
Он закурил. Он остро ощущал, что вот курит, держит в пальцах сигарету, выдыхает дым, в этой осознанности каждого мгновения было что-то ошеломляющее, даже головокружительное; он видел себя ясно, как воочию, не нуждаясь в зеркале, замечал за собой характерные, только ему свойственные жесты, повадки, испытывая при этом ни на чем не основанную иллюзию узнавания.
Да, сколько бы ни рылся в памяти, он не находил в своем прошлом ничего похожего на эту ситуацию. Да чтобы он был еще и без усов! В поношенном костюме с чужого плеча!
Все ново, вплоть до этих машинальных реакций… Вот, полуобернувшись, он бросает взгляд на Жюли — она, забившись в уголок купе, то как будто дремлет, прикрыв глаза, то застывает, уставившись в одну точку, будто обдумывает важное решение.
Однако сама Жюли словно бы стала частью его воспоминаний. Ее присутствие рядом не вызывало в нем ни малейшего удивления. Он узнавал ее. Но противился, отказываясь верить в это прежнее существование.
А все же несколько раз, трижды или четырежды в месяц, в этом он был уверен, ему снился один и тот же сон, он вечно давал себе слово утром записать его, но так и не собрался… Он будто плыл в плоскодонной лодке, грести было трудно — весла слишком длинные и тяжелые, а вокруг простирался ландшафт, который он и проснувшись, и даже спустя долгое время помнил во всех подробностях, хотя наяву в своей взрослой жизни никогда его не видел: чередование зеленоватых лагун и холмов в голубых и сиреневых тонах, как на картинах старых итальянских мастеров.
Всякий раз, когда этот сон возникал снова, он узнавал местность и испытывал то особое удовлетворение, которое человек чувствует, возвращаясь в родные края.
Только сопрячь все это с поездом, с Жюли никак не возможно. Но он не терял хладнокровия. Он размышлял. Речь шла о сцене, которая являлась ему часто, хоть и в исполнении других актеров, — сцене, которую он, должно быть, так страстно желал пережить, что теперь…
Эта манера оглядываться на купе, это удовлетворение, согревавшее душу всякий раз, когда он убеждался, что его спутница задремала…
А ее вопрошающий жест, когда она вскидывала голову, услышав, что поезд шумно тормозит у платформы более значительного вокзала и орда новых пассажиров штурмует вагон, — жест, означающий: «Где мы?»
Поскольку стеклянная дверь купе была закрыта, он отвечал, выделяя каждый звук, чтобы она могла прочесть по губам:
— Тулон!
На всякий случай повторил:
— Ту-лон… Ту-лон!
Она же, все равно не понимая, знаком предложила ему войти, указав на свободное место с ней рядом, он вошел, сел и сам услышал, как по-новому звучит его голос:
— Тулон.
Она достала из сумочки сигарету:
— Дай прикурить.
В первый раз обратилась к нему на «ты», ведь нет сомнения: для нее тоже это момент, уже когда-то пережитый.
— Спасибо. Думаю, лучше все-таки доехать до Ниццы.
Она говорила шепотом. Напротив, вжавшись в угол, спал пожилой, уже совсем седой мужчина, рядом его жена, тоже старая — она приглядывала за ним, как за ребенком. Вероятно, он был болен, один раз она уже давала ему проглотить маленькую зеленоватую таблетку. Женщина смотрела на них. Господину Монду стало не по себе: что она может подумать? К тому же она наверняка сердита на Жюли из-за ее сигареты, дым которой, чего доброго, досаждает старику. Злится, но сказать не решается.
Поезд опять тронулся.
— Ты знаешь Ниццу?
На сей раз «ты» прозвучало не так непринужденно. У Жюли было время обдумать, как себя вести. Наверное, она использует это обращение из-за дамы, сидящей напротив: учитывая ситуацию, это выглядит естественнее, понятней.
— Немного… Весьма приблизительно.
Он бывал там несколько раз, ездил, сказать по правде, с первой женой три зимы подряд после рождения дочери: малышка каждый год болела бронхитом, тогдашние врачи в таких случаях рекомендовали Ниццу или Ривьеру. Они останавливались в большом солидном отеле на Английской набережной.
— А я ее совсем не знаю…
Они замолчали. Докурив сигарету и не без труда затушив окурок в узкой медной пепельнице, она принялась ерзать, ища удобную позу, клала то правую ногу на левую, то наоборот — ее ноги в голубоватом полумраке купе выделялись очень резко, — потеснее вжималась в мягкую обивку спинки, но в конце концов просто положила голову на плечо своего спутника.
Это тоже было одно из тех воспоминаний, которые… Но нет! Не себя, а других он видел в такой позиции, десять раз, сто раз! Все пытался представить, что они сейчас чувствуют, и вот теперь он сам одно из действующих лиц, а молодой человек, что стоит в коридоре — из вновь прибывших, видно, сел в Тулоне, — и смотрит, прижав лицо к стеклу, — это прежний он.
А эта процессия, что тянется, толкаясь, по вокзальному перрону, потом наискосок через пути, медлительно, равномерно продвигаясь к выходу, это обшаривание всех карманов в поисках билетов…
— Уверяю вас, вы их засунули в маленький жилетный карман, тот, слева.
Она снова обратилась к нему на «вы». Зазывалы на ходу выкликали названия гостиниц, но Жюли их не слушала. Она взяла бразды в свои руки. Зашагала вперед, продвигаясь в толпе куда быстрее, чем он, а добравшись до выхода, тут же заявила:
— Багаж лучше сдать в камеру хранения.
У каждого из них имелось всего по одному чемодану, но ее чемодан был и впрямь довольно обременителен — тяжелый.
Таким образом, стоило им выйти за пределы вокзала, как они перестали походить на приезжих. Они сразу же направились к центру города. Стояла прелестная ясная ночь, кафе еще не закрылись. Вдали светилась вывеска «Казино у пирса», отражаясь в воде залива множеством огоньков.
Жюли смотрела вокруг без восторга и удивления. Она слегка подвернула ногу — подвел высокий каблук, — и с этого момента опиралась на руку своего спутника, но все равно оставалась ведущей. Тянула его за собой, не тратя лишних слов, с невозмутимостью муравья, следующего велениям инстинкта.
— Это, что ли, и есть пресловутая Английская набережная?
Кованые фонари, сияющие в черной пустоте. Просторная, уходящая вдаль набережная, вымощенная маленькой желтой плиткой, ее пустые скамейки, череда автомобилей перед дворцами и казино.
Женщину не ослепляло все это. Она шагала, мимоходом бросая взгляд во все переулки, что попадались на пути, наконец свернула в одну из улочек, оглядела сначала закрытые шторами витрины закусочной, потом заглянула в щель приоткрытой двери.
— Попробуем переночевать здесь.
— Это же кафе, — удивился он.
Но она указала на дверь под вывеской, на которой белыми буквами значилось: «Отель» — рядом с кафе, в том же здании. Они вошли в освещенный зал, Жюли устало плюхнулась на пурпурную банкетку, но поскольку здесь были люди, начала с того, что раскрыла сумочку, поднесла к лицу зеркальце и залепила себе рот красным.
Потом обернулась к господину Монду:
— Есть будете?
Они не пообедали в Марселе — за час перед отправлением поезда, когда можно было это сделать, ни он, ни она еще не успели проголодаться.
— Что у вас есть?
— Великолепные равиоли. А для начала, если не возражаете, луковый суп. Или бифштекс с кровью.
Несколько столов были заняты, за ними ужинали посетители; вскоре приборы поставили и перед ними. Хотя круглые электрические лампы светили ярко, в воздухе была разлита томная, словно бы хмельная усталость. Присутствующие говорили мало, ели сосредоточенно, будто трапеза являлась для них серьезным делом.
— Смотрите! В углу, слева… — шепнула она ему.
— Кто это?
— Не узнаете? Это же Парсонс! Один из трех братьев Парсонс, воздушных акробатов на трапеции. А с ним его жена. В английском костюме! Небось, никогда таких не носила, она в нем похожа на баночку для табака. Она в их номере заменила одного из братьев, Люсьена, он разбился в Амстердаме.
Самые заурядные люди. Этот малый, с виду лет тридцати пяти, напоминал скорее не циркача, а принарядившегося рабочего.
— Наверное, у них здесь представление… Глядите! Там, дальше, через три столика…
Внезапно воодушевившись — всю апатию как рукой сняло, — чтобы подчеркнуть важность происходящего, она снова и снова хватала своего спутника за руку, побуждая разделить ее восторг:
— Жанин Дор! Певица…
Последняя была жгучей брюнеткой. Волосы, черные как вороново крыло, ниспадали маслянистыми прядями по сторонам бледного лица, на котором выделялись громадные запавшие глаза, обведенные темными кругами, и кроваво-красный рот. Она восседала за столиком одна, трагическая, презрительная, и ела спагетти.
— Ей уже, наверное, больше пятидесяти… А она все еще может больше часа продержать зал в напряжении, только песнями, совсем одна! Люди слушают, затаив дыхание… Глупо упускать такой шанс! Надо бы пойти, попросить автограф…
Она вдруг вскочила и направилась к хозяину закусочной, сидевшему за кассой. Зачем, господин Монд не понимал. Их ведь уже обслужили. Он ждал. Смотрел, как она уверенно говорит что-то, потом хозяин взглянул на него, казалось, одобрительно, и она подошла к столу:
— Дайте мне квитанцию из камеры хранения.
Отнесла ее и вернулась:
— Есть свободный номер на двоих. Надеюсь, вас не стеснит?.. Да у них, может, и не нашлось бы двух одноместных… К тому же это могло бы показаться неестественным! О, гляньте! Те четыре девушки справа от двери… Это танцовщицы!
Жюли ела так же старательно, как в Марселе, но зорко посматривала вокруг, ничего не упуская из виду.
— Хозяин сказал, что сейчас еще не время… Только мюзик-холлы закончили работу, а казино и ночные забегаловки начнут закрываться не раньше трех. Вот я и думаю, не следует ли мне…
Он понял не сразу. На лбу молодой женщины прорезалась морщинка. По-видимому, она думала, как получить ангажемент.
— Кормят здесь хорошо и недорого. Да и комнаты, похоже, чистые.
Они допивали свой кофе, когда явился посыльный с сообщением, что их багаж прибыл и уже доставлен в номер. Жюли, несмотря на все тяготы минувшей ночи, больше не выглядела сонной. Острым взглядом проводила Жанин Дор, которая через маленькую дверь направилась к гостиничной лестнице.
— Они все здесь ночуют. Через час новые набегут…
Но час, столько пустого времени — нет, это слишком долго. Она выкурила еще одну сигарету и, зевнув, встала:
— Поднимемся к себе.
Любовью они занялись только на третий день. Три беспорядочных дня… В их комнате, выходящей окнами на узкий дворик, были лишь несколько старых выцветших стульев, на полу сероватый ковер, до того потертый, что виднелась основа, кресло, покрытое гобеленом, бумажные обои на стенах, скорее коричневые, чем желтые, да в углу ширма, скрывающая туалет и биде.
В первый вечер Жюли разделась за ширмой, откуда появилась в пижаме с голубыми полосками. Но брюки в ту же ночь сбросила, они ее стесняли.
Спал он плохо. Кровати стояли рядом, разделяемые ночным столиком и ковриком. Ужин никак не желал перевариваться. Господин Монд прислушивался к звукам, доносящимся из закусочной, и несколько раз спускался вниз, чтобы попросить соды.
Около восьми он встал, оделся, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить свою спутницу, которая во сне сбросила с себя одеяло — батарея раскалилась, в комнате было жарко и нечем дышать. Может, именно это так угнетало его всю ночь?
Господин Монд вышел из номера, оставив на видном месте свой чемодан, чтобы Жюли не подумала, будто он ушел насовсем. Зал кафе был пуст, там не нашлось никого, кто бы его обслужил, и он позавтракал в баре, полном клерков и рабочих, потом прошелся вдоль морского берега и даже не вспомнил о том, другом море, близ которого когда-то лежал и плакал во сне.
Может быть, он все еще не освоился? Очень голубое, по-детски ясное небо не уступало морю, синеющему, словно на ученической акварели, чайки носились над водой, гоняясь друг за другом, ослепительно-белые на солнце. Поливальщики оставляли на мостовой влажные полосы.
Вернувшись около одиннадцати, он постучал в дверь — не хотел появиться без предупреждения.
— Войдите.
Она не могла знать, что это он. И все же на ней были только трусики да лифчик. Подсоединив провод электрического утюга к ламповой розетке, она гладила свое черное шелковое платье.
Спросила его:
— Хорошо выспались?
Поднос с завтраком стоял на туалетном столике.
— Я буду готова через полчаса. Сколько времени? Одиннадцать? Подождите меня внизу, если хотите.
Он ждал, читая местную газету. Уже привык ждать. Они перекусили еще раз, вдвоем. Потом вышли на улицу, двинулись в сторону Английской набережной, и как только дошли до «Казино у пирса», она снова велела подождать ее, а сама юркнула в казино.
Затем потащила его на одну из центральных улиц Ниццы:
— Подождите меня…
На эмалевой дощечке стояла греческая фамилия с пояснением «импресарио».
Оттуда Жюли вернулась в ярости, не пускаясь в дальнейшие объяснения, пробормотала: «Свинья!» и, переведя дух, предложила:
— А может, вам пока где-нибудь прогуляться по своему вкусу?
— Вам надо куда-то пойти?
— Еще по двум адресам сбегать…
И, взбешенная, стиснув зубы, снова двинулась в путь по городу, которого знать не знала, расспрашивая встречных полицейских, взбегая на этажи, чтобы вскоре опять выйти на улицу, вытаскивая из сумочки новый клочок бумаги с очередным адресом.
— Самое время для аперитива. Я знаю, куда нам надо отправиться…
Оказалось, речь шла об элегантном баре «Сентра». Прежде чем туда войти, Жюли подправила макияж: она хорохорилась, но ей было не по себе. Даже страшновато, что в заведении такого класса не сумеет держать себя должным образом, но это не помешало ей, садясь на высокий табурет, закинуть ногу на ногу и властно распорядиться:
— Бармен, два «розовых»!
С вызывающим видом грызя оливки, она оглядывала зал, оценивающе, в упор присматривалась к мужчинам и женщинам. Ее злило, что вокруг ни одного знакомого лица, что она здесь не более чем залетная пташка, что публика удивленно косится на ее коротенькое платьице ценой в четыре су и манто, лишенное шика.
— Давайте пообедаем.
Адресом места, где можно пообедать, она тоже успела запастись. Потом пробормотала не без смущения:
— Вы не против вернуться один?.. О, совсем не потому, что вы подумали… Пожалуйста, верьте мне: после всего, что я пережила, довольно с меня мужчин, я больше никому на удочку не попадусь. Просто не хочу быть вам в тягость. У вас ведь своя жизнь, разве нет? Вы были так добры… Уверена: стоит мне только заглянуть за кулисы, и я там найду знакомых. В Лилле я встречала многих артистов, они туда все приезжали на турне.
Вместо того чтобы вернуться в гостиницу и прилечь, он принялся бродить по улицам в одиночестве, потом, когда хождение его утомило, зашел в кинотеатр. И тут снова — знакомый эпизод, всплывающий из старых, таинственных глубин его памяти: одинокий пожилой мужчина вслед за билетершей, освещающей себе дорогу фонариком, входит в темноту зала, где фильм уже начался: звучат зычные голоса, на экране жестикулируют мужчины неправдоподобно мощного телосложения.
Входя в «У папаши Жерли» — так назывались и приютивший их отель, и закусочная, — он увидел Жюли, сидевшую за столом с группой акробатов. Она его тоже заметила. Он догадался, что разговор шел о нем. Поднялся в номер, она появилась там минут через пятнадцать и тотчас стала переодеваться ко сну. На сей раз не прячась от него.
— Он обещал замолвить за меня словечко… Шикарный тип. Его отец был итальянцем, каменщиком, он и сам когда-то занимался этим ремеслом…
Миновал еще день, потом другой, и господин Монд стал привыкать: ему уже удавалось ни о чем не задумываться. В то утро после завтрака Жюли решила:
— Вздремну часок. Я вчера поздно легла, уже ночью… А у вас что, не бывает сиесты?
Да, правда, ему тоже хотелось спать. Они поднялись в номер — сначала Жюли, через минуту он. Шагая по ступеням, он снова мысленно увидел парочку, много, целые сотни парочек, вот так же идущих по лестнице. И тут по его коже скользнуло легкое дуновение тепла.
Комнату еще не убрали. Две не заправленные кровати откровенно белели тусклыми складками мятых простынь, наволочка на подушке Жюли была испачкана красной помадой с ее губ.
— А вы не хотите раздеться?
Обычно, когда ему случалось устраивать сиесту — в Париже, в прежней жизни он время от времени себе это позволял, — он растягивался на постели одетый, подложив газету под башмаки. Теперь он снял пиджак, потом жилет. Она уже знакомым ему извилистым движением стянула платье со своего длинного тела и сунула его себе под голову.
Она не слишком удивилась, когда он, тараща смущенные глаза, подошел к ней. Судя по всему, она этого ждала.
— Задвинь шторы.
И, ложась, оставила ему место рядом с собой. Но думала о чем-то другом. Всякий раз, взглянув ей в лицо, он видел на лбу знакомую морщинку.
В глубине души она была не против. Так оно естественнее. Однако возникали новые проблемы. Ей вдруг расхотелось спать. Опершись на локоть, она приподнялась и посмотрела на него с новым интересом, как если бы отныне у нее появилось право предъявить ему счет.
— Короче: чем ты занимаешься?
И, заметив, что смысл вопроса до него не вполне доходит, уточнила:
— Тогда, в первый день, ты сказал, что ты рантье. Знаешь, рантье не тот тип, чтобы где попало бродяжить в одиночку. По мне, если и так, тут кроется еще что-то. Кем ты был до того?
— До чего?
— До того, как сбежал?
Она пробивалась к правде так же неуклонно, как, только что выйдя из поезда в Ницце, глубокой ночью разыскивала «У папаши Жерли» — гостиницу, где могла почувствовать себя на своем месте.
— Ты женат. Говорил, что и дети есть. Как же ты уехал?
— Да вот так!
— Поссорился с женой?
— Нет…
— Она молода?
— Примерно моих лет.
— А, понятно.
— Что вам понятно?
— Тебе захотелось гульнуть, чего уж тут! А как прокутишь денежки и устанешь…
— Вернусь? Нет. Это все не то…
— Тогда в чем дело, что там стряслось?
И он, краснея, особенно стыдясь того, что вынужден все опошлить словами, заведомо глупыми, и того, что объясняться придется здесь, на этой смятой постели, глядя на груди, которых от него больше не прятали, но и желания они уже в нем не будили, промямлил:
— Мне все осточертело. Сыт по горло.
— Ладно, как знаешь! — вздохнула она.
Этот момент она использовала, чтобы помыться — сразу после любви она этого не сделала, поленилась. Потом из-за ширмы донеслось:
— Чудной ты все-таки тип…
Он оделся. Спать уже не хотелось. Он не чувствовал себя несчастным. Эта тошнотворная житейская серятина тоже была частью того, что он надеялся обрести.
— Как по-твоему, — продолжала она, появляясь из-за ширмы нагишом, с полотенцем в руке, — это будет забавно — взять да и остаться в Ницце?
— Не знаю…
— А тебе, часом, не осточертела уже и я?.. Видишь ли, такое надо говорить начистоту. Я же все время голову ломаю, как могло получиться, что мы вместе. Это не в моем стиле… Парсонс обещал, что займется мной. Он на короткой ноге с художественным директором «Пингвина». У меня все вот-вот уладится.
О чем она толкует? Собралась покинуть его? Этого ему не хотелось. Он попытался высказать ей это:
— Мне сейчас очень хорошо… так, как есть.
Она смотрела на него, пытаясь натянуть на плечи бретельки лифчика, и вдруг расхохоталась — это был первый раз, когда она при нем рассмеялась.
— Ну, ты шутник! Давай договоримся. Когда тебе захочется уйти, ты мне скажешь… И вот еще что: можно дать тебе совет? Купи другой костюм… Ты случайно не скупердяй?
— Да вроде нет.
— Тогда имело бы смысл одеваться прилично. Если хочешь, я пойду с тобой… У нее что, совсем нет вкуса, у твоей жены?
Она снова растянулась на кровати. Раскурила сигарету, пустила клуб дыма к потолку.
— А если проблема в деньгах, не бойся сказать мне об этом.
— Деньги у меня есть…
Пачка банкнот, завернутая в газету, по-прежнему лежала у него в чемодане. Господин Монд машинально покосился на него. С тех пор как они обосновались в заведении папаши Жерли, он не запирал чемодан на ключ, опасаясь, что это обидит его спутницу. Притворившись, будто ему надо что-то оттуда достать, он исподтишка проверил, на месте ли пакет.
— Ты уходишь? Не хочешь зайти за мной часиков в пять?
В тот день после полудня его можно было видеть на Английской набережной, он сидел, склонив голову и жмурясь от солнца, на скамейке, лицом к лицу с синим морем и чайками, мелькавшими порой белыми искорками в поле его зрения.
Он не двигался. Рядом с ним ребятишки играли в мяч, катали серсо, временами то обруч прерывал свой бег, подкатившись к его ногам, то мяч ударялся о колено. Можно было догадаться, что этот человек дремлет. Его лицо словно бы расплылось, черты стали мягче, рот приоткрылся. Несколько раз он вздрагивал: ему чудилось, будто его окликает кассир фирмы господин Лорис. Он ни одной минуты не думал о жене, не вспоминал о детях, но образ пунктуального старого служащего тревожил его сон.
За временем господин Монд не следил, и не он пришел к Жюли, а она к нему:
— Я знала, что найду тебя здесь. Так и есть: развалился на скамейке…
Почему знала? Откуда? Этот вопрос встревожил его, и надолго.
— Пойдем купим тебе костюм, пока магазины не закрылись… Видишь? Я не о себе хлопочу, а о тебе…
— Я должен зайти в гостиницу за деньгами.
— Ты оставляешь их в номере? Напрасно… Особенно если там крупная сумма…
Она подождала его внизу. Он взял пачку с десятью тысячами франков, чтобы не отстегивать булавку. Уборщица мыла пол в коридоре, но она не могла его видеть: дверь он закрыл. Однако слова Жюли продолжали беспокоить его. Он встал на стул и засунул пакет на верх шкафа.
Жюли повела его в английский магазин, где продавалась одежда готовая, но элегантная. И сама выбрала для него брюки из серой фланели и двубортный пиджак цвета морской волны:
— Теперь ты похож на владельца яхты. Не хватает только каскетки.
Она хотела, чтобы он приобрел также две пары кожаных летних штиблет, светло-коричневые и белые.
— Это сделает тебя совсем другим. Знаешь, иногда я спрашиваю себя…
Она осеклась, договаривать не стала, только взглянула искоса, украдкой.
В баре «Сентра» она, похоже, успела побывать одна, поскольку, когда они вошли, бармен сделал ей какой-то почти незаметный знак, а один молодой человек подмигнул.
— Что-то вид у тебя невеселый…
Они пили. Ели. Зашли в казино, где Жюли провела около двух часов, играя на бильярде. Сначала выиграла две или три тысячи франков, потом проиграла все, что оставалось у нее в сумочке.
Раздраженная, она скомандовала:
— Возвращаемся!
У них уже возникла привычка ходить рядом. Когда уставала, она цеплялась за его локоть. За несколько метров до отеля они машинально замедлили шаг, словно люди, что вернулись к себе домой.
Зайти в закусочную она не пожелала.
Они закрыли за собой дверь. Жюли вставила ключ в замочную скважину — она никогда не забывала об этой предосторожности.
— Где ты прячешь свои деньги?
Он молча указал на гардероб.
— На твоем месте я бы мне не доверяла…
Господин Монд встал на тот же стул, пошарил рукой, но не нащупал ничего, кроме толстого слоя пыли.
— Ну? Что ты там делаешь?
Изумленный, он застыл на месте. Она окликнула нетерпеливо:
— Да что с тобой? Ты превратился в статую?
— Пакет исчез.
— Деньги?
Недоверчивая от природы, она и этому не поверила:
— Дай-ка я посмотрю!
Ей не хватало роста, даже когда она встала на стул. Она сбросила со стола все, что его загромождало, и взобралась на него.
— Сколько там было?
— Около трехсот тысяч франков. Немного меньше…
— Что ты сказал?
Он тотчас почувствовал стыд за величину этой суммы.
— Триста тысяч…
— Надо немедленно сообщить хозяину. И вызвать полицию.
— Подожди… — Он удержал ее. — Нет. Это невозможно.
— Почему? Ты спятил?
— Не надо… Я тебе все объясню… И к тому же это не страшно… Я все улажу… Распоряжусь, чтобы прислали еще денег…
— Ты такой богач?
Теперь она чуть ли не обозлилась. Похоже, не могла ему простить, что он ее обманывал. В постель улеглась, не сказав ни слова, повернулась к нему спиной, и на его «спокойной ночи» отозвалась только невнятным ворчанием.
6
Это было горько и одновременно сладко, как те страдания, которые человек лелеет, окружает проникновенной заботой, боясь их утратить. Господин Монд принимал ситуацию без гнева, без протеста, без сожаления. К своим четырнадцати-пятнадцати годам, после конфирмации, еще в коллеже Станислас, он на какое-то время впал в мистицизм, причем в острой форме. Его дни и отчасти ночи проходили в духовных упражнениях во имя обретения совершенства. С той поры случайно сохранилась фотография — групповая, ведь он тогда с презрением отверг бы соблазн запечатлеть свой образ. Осунувшаяся, немножко жалобная физиономия с кроткой улыбкой, которая впоследствии, когда реакция на собственные подростковые иллюзии определилась, стала казаться ему нарочитой.
В другой раз, много позже, после второй свадьбы, жена дала ему понять, что когда дыхание мужчины отдает табаком, ей это претит. Он тогда полностью упразднил не только курение, но и малейшее употребление алкоголя, вплоть до легкого вина. Такое умерщвление плоти доставляло ему острое, чуть ли не хищное чувство удовлетворения. На этот раз он снова похудел, да так, что спустя три недели пришлось обратиться к портному, чтобы подогнал его костюм.
Теперь уже не имело значения, что его одежда изначально была выбрана по фигуре: за последние два месяца он отощал еще больше. Зато стал подвижнее. И хотя цвет его лица, еще недавно румяного, сделался серым, он, когда подворачивался случай, с удовольствием разглядывал в зеркалах свои черты, в которых читалась не только успокоенность, но и тайная радость, почти патологическое упоение.
Самым тягостным в его нынешнем положении была необходимость бороться со сном. А он к тому же всегда был обжорой. Теперь же, например, в четыре часа ночи приходилось пускать в ход всякие мелкие трюки, чтобы не клевать носом.
Впрочем, именно в это время жизнь в «Монико» цепенела, словно кто-то распылял в воздухе мельчайший снотворный порошок всеобщей усталости. А тут еще господин Рене, именующий себя художественным директором, агрессивно сверкающий зубами, безукоризненно элегантный в смокинге с белоснежным пластроном, вторично появлялся в официантской.
Господин Монд видел, как он шествует через зал: совсем рядом, на уровне его глаз, имелся маленький круглый дверной глазок, дающий возможность наблюдать если не за клиентами, то за персоналом.
Господин Рене не отказывал себе в удовольствии мимоходом улыбаться направо и налево, подобно властителю, расточающему милости. Таким манером он плыл в жарком свете дансинга к двустворчатой двери, с одной стороны обитой алым бархатом, с другой — вульгарно обшарпанной и грязной. В тот с безошибочной точностью рассчитанный момент, когда он привычным жестом толкал ее, улыбка разом гасла, из виду исчезали великолепные зубы уроженца Мартиники, чьи волосы были зализаны до гладкости почти совершенной, но голубоватые ногти выдавали скрываемую примесь в крови — четверть, должно быть.
— Дезире, который час?
В зале часов не было, ведь глупо выставлять циферблат на обозрение публики в месте, предназначение которого — заставить забыть о времени.
Что до Дезире, это имя господин Монд выбрал для себя сам. Дезире Клуэ. Оно явилось на свет еще в Марселе, когда они с Жюли сидели в закусочной на авеню Канебьер и спутница спросила, как его зовут. Застигнутый врасплох, он ничего не смог придумать. Взял да и прочел имя, желтыми буквами начертанное на вывеске лавки на противоположной стороне улицы. Там значилось: «Дезире Клуэ, сапожник».
Теперь он был Дезире для персонала среднего звена и господином Дезире для нижестоящих. Официантская являла собой весьма узкую и длинную комнату, некогда служившую кухней при частных апартаментах. Стены, выкрашенные зеленой масляной краской, отдавали желтизной, местами достигавшей оттенка табачной жвачки. В глубине имелась дверь, ведущая на служебную лестницу. Поскольку это давало возможность, покидая помещение, выйти не туда, где главный вход, а на соседнюю улицу, клиентам случалось проходить через обиталище господина Дезире.
По преимуществу здешних посетителей привлекала игра, на грязь и беспорядок им было плевать. Их мало заботило, что кухня «Монико» состоит из скверной газовой плиты, от которой вечно отскакивает подводящая газ труба из красного каучука, и служит эта плитка лишь для того, чтобы разогревать блюда, доставленные сюда из ближайшего бистро. Для мытья посуды ничего не было приспособлено. Липкие, грязные тарелки и столовые приборы сваливали в корзину, набивая ее до отказа. Здесь же, на месте отмывали только бокалы, помеченные литерой «М», расставляя их затем в стенном шкафу.
На полу, под столом, ждали своего часа бутылки шампанского, и наконец на самом столе были сдвинуты вперемешку откупоренные консервные банки с фуа гра, ветчиной, кусками холодного мяса.
Рабочее место Дезире располагалось вплотную к стене дансинга, на возвышении вроде эстрады, где был установлен пюпитр. Он отозвался:
— Четыре часа, господин Рене.
— Как тянется время!
Если не считать наемных танцовщиц, в зале оставалось всего с полдюжины настоящих клиентов, да и те больше не танцевали, джаз-оркестр подолгу отдыхал, затягивая паузы между номерами, так что господину Рене приходилось призывать музыкантов к порядку, посылая им издали едва заметные угрожающие знаки.
Господин Рене кушал. Он почитай что каждый раз, заходя в официантскую, что-нибудь съедал: трюфель, выудив его пальцами из банки с фуа гра, кусок ветчины, ложечку икры; на сей раз это была трапеза посерьезнее — он вылил в свой стакан вино из недопитой бутылки, соорудил солидный сандвич и уплетал его медленно, засучив рукава и присев бочком на краешек стола, который он для этой цели вытер.
Подчас выпадали такие моменты, и довольно продолжительные, когда Дезире было нечего делать. Его приняли сюда на должность эконома. Он ведал хозяйством, то есть должен был приглядывать за всем, что находится в официантской: за напитками, съестным, аксессуарами для танцев. Следить, чтобы ничто не выходило из этих стен неучтенным, было со всей точностью отражено в счетах, да еще потом проверять, глядя в круглое оконце, тот ли счет подают клиенту или норовят подсунуть другой, ведь все гарсоны жулики; в иную ночь ему приходилось кого-нибудь из них раздевать догола, чтобы отыскать деньги, которые тот прикарманил, а признаться не желал.
Жюли была там, в этом зале, выдержанном в оранжевых тонах. Ее клиенты разошлись. Она сидела у стола вдвоем с Шарлоттой, толстой блондинкой. Женщины лениво переговаривались, притворяясь, будто пьют, и всякий раз, когда господин Рене проходил мимо, многозначительно щелкая пальцами, вставали и принимались танцевать друг с другом.
Это она, Жюли, устроила Дезире в «Монико». В тот вечер, когда пропали его деньги, он хотел уйти. Куда — неважно. Ему было все равно. А вот она возмутилась, видя, как он легко смирился. Она была неспособна понять, что при таком повороте событий можно испытать даже что-то похожее на облегчение.
И все же он чувствовал именно так. Это должно было случиться. Тогда, в Париже, он совершил ошибку, запасся крупной суммой денег просто от неуверенности, можно сказать, из трусости. Сделав это, он нарушил закон, нигде не записанный, но тем не менее существенный. Недаром, решив уйти, он не был ни поражен этим, ни взволнован, он знал: сбывается то, что должно произойти. И напротив, отправившись в банк, чтобы снять со счета триста тысяч, он испытывал смущение, чувство вины.
В те два предыдущих раза, возмечтав о бегстве, разве он думал о деньгах? Нет. Ему следовало оказаться одному, без гроша, на улице.
Теперь все стало наконец так, как надо.
— Подожди-ка секундочку. Мне нужно сказать пару слов хозяину.
Жюли побежала вниз. Вернулась через несколько минут и объявила:
— Я была права! Куда тебе идти? На седьмом этаже, под крышей, есть свободный номер. Вообще это каморка уборщицы, но Фред имеет обыкновение ее сдавать помесячно и берет за нее недорого. Я оставлю за собой этот номер еще на день-два, а если ничего не найду, сама на седьмой переберусь. Только я уверена, что найду!
И она действительно нашла — сначала место наемной танцовщицы в дансинге «Монико» для себя, а несколько дней спустя для него должность, на которой он работает уже без малого два месяца.
В принципе между ними больше не было ничего общего. Изредка, если Жюли оставалась одна, они поздней ночью возвращались вдвоем к себе в отель. Она рассказывала ему всякую всячину о Рене, о патроне всего заведения господине Додевене, о своих товарках и клиентах; он терпеливо слушал, кивал, блаженно улыбался. Она порой даже из себя выходила:
— Да что ты за человек такой?
— А что?
— Я прямо не знаю… Ты вечно всем доволен… С тобой что ни делай, тебе хоть бы хны! Одно то, что ты тогда в полицию не обратился, чего стоит! И добро бы потому, что ты боишься легавых, так ведь нет! Да что там, я еще не то заметила! Когда ты встречаешь ее на лестнице, эту хиппи, которая тебя обокрала, ты говоришь ей «Добрый вечер»!
Она была уверена — и он охотно разделял это мнение, — что пакет с деньгами, засунутый на шкаф, украла уборщица с их этажа, уродливая девица с жирными волосами и большими рыхлыми грудями. Это и впрямь была особа, имевшая привычку шпионить за постояльцами, подслушивать у дверей, поэтому она вечно шныряла по коридорам, для вида вооружившись тряпкой или веником.
Жюли выяснила, что у нее есть любовник, музыкант из казино, который обходится с ней грубо и пренебрежительно.
— Деньги наверняка у него, держу пари на что угодно. Но он слишком хитер, чтобы сразу начать их тратить. Он подождет до окончания сезона…
Это было возможно. И что тогда?
Здесь он снова узнавал что-то, знакомое по давним грезам. Может быть даже, то самое, ради чего он все бросил? Он часто задавал себе этот вопрос. Еще молодым человеком, встречая впотьмах, а тем паче на какой-нибудь грязной улочке женщин определенного сорта, он чувствовал, как сильно его пробирает дрожь. Проходя, он нарочно задевал их, но когда они его окликали, никогда не оглядывался, напротив, бежал прочь, ускоряя шаг.
Ему случалось покидать свою контору на улице Монторгёй, чтобы минут пятнадцать, особенно зимой, под мелким дождиком, желательно по грязи, побродить по улицам в окрестностях Центрального рынка, где от иных фонарей исходил дух порочной тайны.
Всякий раз, когда он ехал один или с женой куда-нибудь на поезде, — да, именно всякий раз, господин Монд прекрасно это помнил, — он, сидя в вагоне первого класса, завидовал людям, которые уезжали с убогими пожитками невесть куда, равнодушные к тому, что их там ждет.
У него на улице Монторгёй был ночной сторож. В прошлом — лицейский преподаватель, лишенный своего положения из-за интрижек с девчонками. Это был плохо одетый, взъерошенный субъект. По вечерам он являлся на место своей службы с литровой бутылкой вина в кармане, располагался в маленьком чуланчике и там же ужинал, разогревая принесенную с собой снедь на спиртовке.
Несколько раз, когда господину Монду ради срочного дела случалось приезжать на службу рано утром, он заставал там сторожа, собирающего свои пожитки, спокойного, невозмутимого; он с безразличным видом в последний раз обходил территорию фирмы, дабы убедиться, что все в порядке, а потом ускользал за поворот улицы, озаренной первыми лучами новорожденного солнца.
Куда он уходил? Никто так и не узнал, где он обитает, в каком углу прячется, словно зверь, чтобы проспать до самого вечера.
Господин Монд завидовал сторожу. Да, и ему тоже.
Теперь господин Дезире мало-помалу начинал походить на него.
— Чего тебе, малыш?
Посыльный торопливо вбежал в их закуток и, разумеется, сразу обратился к господину Рене, все еще поглощенному едой:
— Хозяин наверху?
— Зачем он тебе?
— Да тут коп заявился, хочет с ним поговорить. Коп, которого я впервые вижу.
Ягодица господина Рене мигом отлепилась от края стола, сандвич исчез, как не было, он обтер пальцы, отряхнул зад от пыли, проделав все это так быстро, словно единым жестом, и устремился через зал к выходу, удерживаясь, чтобы не перейти на рысь. Его даже хватило на то, чтобы мимоходом улыбаться клиентам.
Он как раз приблизился к большой двери, выходящей на мраморную лестницу, когда она распахнулась и вошел тот, навстречу кому он так поспешал. Полицейский был в пальто — не пожелал раздеться в гардеробе.
Дезире следил за ним глазами. Жюли и ее подруга, сидевшие за столиком, не двинулись с места. Сразу все поняли. Через маленький глазок можно было видеть, как господин Рене пригласил инспектора присесть за стол, расположенный в отдалении от танцевальной площадки, но полицейский остался стоять, качая головой, и произнес несколько слов, после чего господин Рене скрылся за другой дверью, той, что вела в игорный зал. Другие полицейские, из числа завсегдатаев заведения, имели туда свободный доступ, но поскольку там вечно что-нибудь не так, допускать туда блюстителя порядка, который здесь новичок, было нежелательно.
Это был рослый, сильный мужчина лет тридцати пяти, в ожидании он рассеянно оглядывал банальное убранство дансинга. Но вот появился Рене в сопровождении хозяина, господина Додевена. В прошлом нотариус, тот сохранял повадки, исполненные важности.
Он тоже предложил полицейскому посидеть, на сей раз в каморке Дезире, распить бутылочку шампанского.
— Проходите сюда, прошу вас, — убеждал пришельца господин Додевен. — Там мы сможем спокойно, без помех побеседовать… Рене!
— Да, мсье?
И сообразительный Рене живо отыскал среди бутылок шампанского ту, что получше, достал из стенного шкафа два бокала, протер их.
— Как видите, мы ютимся в такой тесноте…
И господин Додевен, чья физиономия приобрела красивый, ровный беломраморный цвет, сбегал на минуточку в зал, притащил оттуда два стула, обитых алым бархатом.
— Садитесь же! Вы из Ниццы, из отряда специального назначения? Нет? Мне кажется, что мы с вами никогда раньше не встречались…
Дезире не смотрел на них. С профессиональной добросовестностью наблюдал за залом, где все служащие нетерпеливо ожидали, когда уберутся последние клиенты, которые норовили задержаться, тем самым мешая двум десяткам человек пойти спать.
Жюли, не имея возможности увидеть лицо Дезире, издали посылала ему знаки, полные беспокойства: «В чем там дело? Что-нибудь серьезное?»
Он ничего не мог ей ответить. Да это было и неважно. У Жюли возникла потребность время от времени перебрасываться с ним словом или хотя бы досадливо сморщить носик, если ей, к примеру, слишком досаждал плохой танцор или смешил навязавшийся в партнеры дурак.
Услышав, что собеседники, переговариваясь вполголоса, упомянули Императрицу, он навострил уши.
— Неужели? Выходит, она умерла? — пробормотал бывший нотариус, придав своему голосу подобающее случаю унылое звучание. — Такая необыкновенная женщина… И вы говорите, умерла, как только вышла отсюда? Ужас, конечно, настоящий удар судьбы, но я не вижу, с какой стороны это может…
Еще вчера Императрица была здесь, в пяти метрах, если не ближе, от Дезире, который, оставаясь невидимым, мог разглядывать ее, сколько вздумается.
Кто дал ей это прозвище? Теперь уже трудно сказать. По всей видимости, оно давно закрепилось за ней на Ривьере. Около десяти дней назад посыльный Флип примчался и так же, как только что, когда спешил предупредить о визите полицейского, кинулся к Рене:
— Шик! Там Императрица, вот!
Дезире видел, как она вплыла в зал, огромная, тучная, желтая от избытка жира, в меховом манто, распахнутом на мощном бюсте, который весь как бы струился, переливаясь драгоценными камнями. Ее глаза смотрели из-под припухших век так равнодушно, что казались мертвыми.
Она запыхалась, поднимаясь по лестнице, ведь «Монико» расположен на втором этаже. Войдя, остановилась, как настоящая королева, ждущая, чтобы ее персоной занялись сообразно протоколу. Рене бросился навстречу, изнемогая от улыбок, ежесекундно отвешивая поклоны, предложил один стол, потом другой, наконец подвел ее к дивану, между тем как подруга Императрицы шла следом скромно, как подобает компаньонке, неся на руках собачку породы пекинес.
Дезире в тот вечер и глазом не моргнул, сидел тихо. Разве что улыбался чуть печальнее обычного.
В спутнице Императрицы он узнал Терезу, свою первую жену, которую не видел восемнадцать лет. Как бы она ни переменилась, он узнал ее. Никакой ненависти он к ней ни испытывал, ни малейшего ожесточения, но на его плечи помимо прежнего, и так уже гнетущего бремени легла лишняя тяжесть, стряхнуть которую он даже не пытался.
Терезе теперь, видимо, перевалило за сорок, но совсем недавно, когда он на ней женился, ей было восемнадцать. Она выглядела старше своих лет. Лицо казалось застывшим. Кожа по-прежнему розовела, но была, видимо, покрыта толстым слоем пудры и румян, они-то, наверное, и придавали чертам такую ошеломляющую неподвижность.
Тем не менее, когда она улыбалась, а это несколько раз с ней случилось, улыбка была почти прежняя, узнаваемая: робкая, пленительно детская, наивная, та самая улыбка, что годами вводила господина Монда в заблуждение, мешая разглядеть истинное лицо своей жены.
Держалась она скромно, чуть склонив голову, умышленно стушевавшись, и ее голосок был безукоризненно нежен:
— Как тебе угодно…
Или еще:
— Ты же знаешь, я люблю все, что нравится тебе…
У нее вызывал содрогание любой резкий жест, казалось, она так деликатна, что готова надломиться от малейшей грубости, а между тем в ее секретере хранилась коллекция похабных фотографий — тех, что на бульварах суют иностранцам подозрительные типы; она своей рукой приписывала к ним комментарии, тщательно перерисовывала их карандашиком, преувеличивая на этих копиях размеры половых органов; и она же — в этом ее супруг, не пожелавший раскапывать все до конца, почти уверился впоследствии, — липла к их тогдашнему шоферу, навещала последнего в его мансарде, зато и он, когда возил мадам по городу, тормозил по ее приказу у сомнительных меблирашек и обо всем помалкивал.
А она, возвращаясь после этого домой, склонялась над кроватками их детей, сияя невинной улыбкой!
Ее веки поблекли, но и в этом было свое очарование — они напоминали те цветочные лепестки, что, сморщившись до последнего предела, истончаются и обретают в конце концов небесную прозрачность.
Инспектор между тем пригубил поднесенное ему шампанское, взял гаванскую сигару, которую Дезире не преминул тотчас внести в список трат, ведь в том и состояли его обязанности, причем их реестр следовало представлять на подпись главному патрону лично.
Как объяснил полицейский, обе дамы жили в отеле «Плаза», в великолепном номере, окна которого выходят прямо на Набережную. Невозможно даже вообразить грязь и беспорядок, которые они там развели. Персоналу гостиницы они запретили туда входить. У них был слуга — чех, словак или кто-то в этом роде. Он забирал поднос с едой, который для них оставляли под дверью, и сам подавал — чаще всего не на стол, а в постель, где они нередко лежали часов по тридцать подряд.
— Когда мы с напарником туда вошли, — закончил он, — во всех углах валялись дырявые чулки, грязное нижнее белье вперемешку с драгоценностями и мехами, деньги были раскиданы по креслам, стульям, диванам…
— От чего она скончалась? — поинтересовался господин Додевен.
И тут же знаком велел Рене удалиться, поскольку тот все еще переминался у них за спиной. Инспектор же вынул из кармана металлический футляр, извлек оттуда разобранный шприц и, не отрывая глаз от лица собеседника, показал ему это.
Бывший нотариус и глазом не моргнул.
— Нет, это — никогда, — просто сказал он, качнув головой.
— Вот как!
— Могу поклясться головой моей дочери, что морфия сюда никто не приносил и никто не выносил его отсюда. Вы знаете наше дело не хуже, чем я. Не стану утверждать, что я всегда неукоснительно придерживаюсь всех правил, ибо это невозможно. Но ваши коллеги, которые частенько заглядывают ко мне повидаться, почитай что по-дружески, подтвердят вам, что я законопослушен. И за своим персоналом присматриваю тщательно. У меня есть для этого специальный служащий, — тут он указал на Дезире, — отдельный человек, следящий, чтобы в зале все шло как надо… Вот и скажите мне, господин Дезире, вы когда-нибудь видели морфий в этом доме?
— Нет, мсье.
— Вы наблюдаете за тем, как официанты, посыльный и торговцы цветами общаются с посетителями?
— Да, мсье.
— Видите ли, господин инспектор, если бы вы спросили меня о кокаине, я, пожалуй, не был бы столь категоричен. Я веду честную игру. Не пытаюсь заставить вас поверить тому, чего нет. Мы ведь принуждены брать на работу женщин, а когда имеешь дело с ними, это неотвратимо: рано или поздно вотрется среди всех одна, имеющая слабость к порошку. Это как зараза, быстро распространяется. Но маловероятно, чтобы я такого не заметил, — тут мне обычно хватает нескольких дней. Два месяца назад как раз это и произошло, я тут же попросил девушку освободить место…
Инспектор ему, вероятно, поверил. А может, и нет. Он с бесстрастным видом разглядывал обстановку, пригляделся, будто от нечего делать, и к Дезире.
Тому стало немного не по себе. Ровно через неделю после его отъезда из Парижа, на следующий день после пропажи пакета с деньгами в газетах появилась его фотография. Не на первой полосе, как бывает, когда ищут преступника, а на третьей, среди рекламных объявлений, так что могло показаться, будто снимок относится к одному из них. Да и оттиск был дрянной.
ЩЕДРОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВСЯКОМУ,
КТО СООБЩИТ СВЕДЕНИЯ О ДАННОМ ЛИЦЕ,
КАКОВОЕ, ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ,
СТАЛО ЖЕРТВОЙ АМНЕЗИИ.
Здесь же присовокуплялось описание одежды, которая была на нем в день исчезновения, а также парижский адрес личного поверенного госпожи Монд, того самого, что вот уже десять лет вел от ее имени тяжбу относительно дома, унаследованного ею наряду с кузенами.
Никто его не узнал. Ему же самому ни на мгновение не пришло в голову, что его разыскивают таким образом только потому, что ключ от сейфа оказался бесполезным, требуется его присутствие или, на худой конец, его подпись.
— У нее было состояние?
Речь шла об Императрице.
— Оставалось еще немало. Всего несколько лет назад ее капитал насчитывал десятки миллионов. На самом деле она американка, американская еврейка, дочь магната, разбогатевшего на производстве готового платья. Была замужем раза четыре или пять. Один из мужей был русским князем, ее потому и прозвали Императрицей.
— А вторая?
Дезире отвернулся и, все еще опасаясь внимательных глаз инспектора, предпочел смотреть на зал.
— Француженка, причем из довольно приличной семьи. Разведена. Она тоже всем этим баловалась. Когда Императрица с ней встретилась, эта дамочка проворачивала сомнительные махинации.
— Вы ее арестовали?
— Зачем? У нас достаточно проблем с мужчинами. А персонал гостиницы болтать не любит. Эти дамы приглашали к себе иногда по вечерам разных типов, но кого в точности, неизвестно. Да и где они теперь, эти субъекты, что собирались у них? Служители сталкивались с ними ненароком на лестнице, но старались их не замечать. Вы понимаете?
О да, бывший нотариус прекрасно понимал.
— Вчера вечером этот чехословацкий лакей спустился вниз, чтобы узнать номер телефона врача. Когда тот прибыл, Императрица была уже мертва, а вторая все еще находилась под воздействием наркотика и, по-видимому, ничего не сознавала…
— За ваше здоровье!
— И за ваше!
— Я был обязан прийти к вам. Мы пытаемся выяснить, откуда взялся морфий. Уже второй подобный случай за эту зиму…
— Я же вам сказал…
— Ну да, разумеется…
— Еще сигару? И возьмите еще несколько! Право же, они недурны.
Инспектор противиться не стал: засунул сигары во внутренний карман пиджака. Потом взял шляпу.
— Вы можете пройти здесь.
Дверь, выходящая на служебную лестницу, скрипнула. Хозяин заведения повернул выключатель и подождал, чтобы потушить свет, когда полицейский спустится вниз. Затем вернулся к столу, пересчитал сигары в коробке.
— Минус пять, Дезире.
— Записал, мсье.
И Дезире протянул ему карандаш, чтобы он расписался под списком в блокноте с отрывными листками.
— Только этой истории не хватало на мою голову! — буркнул патрон и пошел в зал к Рене. Они уселись там у выхода и принялись перешептываться.
Жюли возвела глаза к потолку и, скрестив ноги, покачивала левой, давая Дезире понять, что умирает от скуки. Официант влетел, как ветер, и выхватил из корзины, стоявшей под столом, две пустые бутылки из-под шампанского.
— Пора воспользоваться тем, что наименее пьяный отлучился в туалет!
Клиенты уже лыка не вязали, так что его трюк заметили только наемные танцовщицы. Две бутылки присоединились к тем, что клиенты успели осушить, и Дезире спокойно поставил в своем блокноте два крестика.
Он спрашивал себя, что станется с его бывшей женой. Когда она была юной, родители называли ее Бэби за ангельскую наружность. Императрица наверняка не оставила ей денег. Женщины такого сорта никогда не думают о том, чтобы составить завещание.
Никакого зла он больше на нее не держал. Но он ей и не простил. В этом не было надобности.
— Счет на девятый! — кричит метрдотель через приоткрывшуюся шарнирную дверь.
Как только посетители за девятым столом уйдут, работе конец.
Гардеробщица уже ждала, готовая накинуть пальто им на плечи. Она была такая молоденькая, свеженькая, в черном блестящем платьице и с темно-красным бантом в волосах. Куколка. Не девочка — игрушка. У нее есть жених, продавец из мясной лавки, но господин Рене ее заставляет спать с ним. Дезире подозревает, что и сам патрон следует его примеру, но она такая скрытная, что никто ничего не знает наверняка.
Уже послышался шум передвигаемых стульев, громкое хлопанье дверей; официанты, убирая со столов, допивали спиртное со дна бутылок, а кое-что и доедали.
— И мне стаканчик, мсье Рене!
Жюли захотелось пить, и Рене налил ей.
— Сколько мучений я вынесла за этот вечер! Туфли новые, не разношенные! Я уже с ног валюсь…
Она сбросила золоченые бальные туфельки, надела другие, для улицы, стоявшие возле газовой плитки.
Заканчивая свои расчеты, Дезире слышал шаги игроков, проходивших через зал дансинга к выходу. Это были люди солидные, сплошь мужчины, по большей части коммерсанты из Ниццы. Как таковым, им не полагалось появляться в игорных залах казино. На прощанье они пожимали друг другу руки, подобно чиновникам одной конторы, когда им пора расходиться по домам.
— Ты идешь, Дезире?
Шарлотта жила в той же гостинице, что они. На улице уже совсем развиднелось, но город еще был безлюден. На море белели рыбачьи лодки с зелеными и красными буртиками.
— Это правда, что Императрица умерла?
Дезире шагал посередине, две женщины по бокам. На перекрестке все трое машинально остановились перед маленьким баром, который только что открылся. От кофеварки, которую начищал хозяин в голубом фартуке, хорошо пахло.
— Три кофе…
В глазах у них немножко рябило. Во рту все еще держался какой-то особый привкус. И хотя вечерние платья обеих женщин скрывались под пальто, аромат ночного дансинга шлейфом тянулся за ними. В их общей разбитости, которую лицо выражает больше, чем движения тела, сквозило нечто специфическое.
Они двинулись дальше. В гостинице папаши Жерли дверь не запиралась всю ночь. Но ставни закусочной еще оставались закрытыми.
Троица стала медленно подниматься по лестнице. Жюли жила на третьем этаже. Комната Шарлотты была на пятом, а Дезире по-прежнему ютился в мансарде под самой крышей.
На пороге они приостановились, чтобы проститься. Без малейшего стеснения, которого, казалось, требовало элементарное человеческое уважение к подруге, Жюли подняла глаза на Дезире и спросила:
— Зайдешь?
Между ними это иногда случалось. Сейчас он отказался. Ничего не хотелось.
Дальше поднимались вдвоем. Шарлотта сказала:
— Жюли хорошая девушка. Обалдеть, какая милая!
Он кивнул.
— До вечера.
— До вечера.
И медленно побрел по ступеням один. Вспомнил: однажды на улице Баллю ему довелось вот так же плестись к себе в спальню вечером, одному, а там, наверху, его ждала жена. Вторая. И он вдруг невольно, без какого-либо умысла, повинуясь смутной потребности и внезапно накатившей усталости, остановился и сел на ступеньку, просто так, ни о чем не думая, покуда некий скрежет — может, всего лишь мышь прогрызала себе ход в перегородке, — не заставил его вскочить, и, стыдясь своей нелепой слабости, он торопливо продолжил восхождение.
Добравшись до последнего этажа, он открыл дверь своим ключом, запер ее за собой и, глядя на сотни крыш, которые громоздились на разных уровнях, краснея в лучах утреннего солнца, стал раздеваться.
7
Решетчатые черные спинки железной кровати были точь-в-точь такой же формы, как у парковых стульев на Елисейских полях и в Булонском лесу. Дезире лег и уставился в чердачный, с наклоном, потолок. Слуховое окно оставалось открытым. На карнизе гомонили и дрались птицы, грузовички, прибывающие издалека, с шумом катили по расщелинам улиц, скапливаясь у цветочного базара. Шумы так легко и четко прорывались сквозь эфемерную воздушную преграду, что казалось, с ними заодно сюда долетят вздохи полузадушенной мимозы и стиснутых фиалок.
Дезире уснул почти мгновенно; сначала, увлекаемый водоворотом, он отвесно заскользил вниз, но не без приятности: ему не было страшно, он знал, что не достигнет дна, а всплывет, как ареометр в сосуде с жидкостью, однако и всплывет не до самого верха, ему предстоит снова и снова опускаться и подниматься. Такое продолжалось часами, почти каждый раз — медлительные, жестокие спуски и подъемы от серо-зеленой придонной пустоты к той невидимой поверхности, над которой вершится жизнь мира.
Освещение было, словно в маленьких бухточках Средиземноморья, — солнечное — присутствие солнца он все время осознавал, — но размытое, рассеянное, порой оно преломлялось, как сквозь призму, вдруг становясь, к примеру, сиреневым или зеленым, но это был не просто цвет, а то идеальное сияние, что приписывают мифическому и неуловимому закатному зеленому лучу.
Звуки доносились до него, как они, должно быть, долетают до рыб в глубине, — он улавливал их не ушами, а всем существом, впитывая, переваривая так, что подчас это полностью меняло их изначальный смысл.
Сама гостиница долго хранила молчание, ведь все ее обитатели были людьми ночи, но вскоре снаружи, напротив, просыпался злобный зверь — автомобиль, который выкатывали из гаража всегда в одно и то же время. Его сначала обмывали у края тротуара трескучей струей воды, потом заводили мотор. В несколько приемов. Это нервировало. Дезире напрягшись ждал, когда его хриплый рык приобретет нормальное звучание и наконец — он никогда не знал, сколько минут на это уйдет, — раздастся гудение, отдающее запахом бензина, как он догадывался, синеватого. Что в это время делал шофер? Он был в каскетке, в одной рубахе — ослепительно-белой, — и невозмутимо драил никелированную обшивку, пока зверь разогревался.
Еще был трамвай, который всегда на одном и том же месте, наверняка на повороте, разгонялся сверх меры, да еще, похоже, задевал за край тротуара…
Опускаясь глубже, он слышал иные звуки, более разнообразные. Они навевали образы смутные, даже порой двоящиеся; таким, например, был звон льющейся воды около одиннадцати часов (возможно, это мылась женщина из соседней мансарды) в саду в городке под Нантером, где у родителей господина Монда имелось поместье; ребенком, приезжая на каникулы, он спал там при открытых окнах. Он ясно видел струю водопада, льющуюся на камень, мокрый и черный, но было что-то еще, неуловимое, — воздух, никак не вспомнить, на что был похож тот воздух каникул, чем он пахнул? Как будто жимолостью?..
Его снова несло вверх, легко, как воздушный пузырек, и опять он останавливался в то мгновение, когда уже готов был прорвать невидимую поверхность; тем не менее краем сознания он отмечал, что солнце начинает проникать в чердачное слуховое окно, разделив его надвое, луч скоро дотянется до изножья кровати, стало быть, можно нырнуть еще разок, игра не закончена…
В то утро у него, по обыкновению, пощипывало глаза, как у всех страдающих от недосыпания, кожа, будто поцарапанная, отзывалась на любое прикосновение, особенно на губах — то была сладкая уязвимость начавшей затягиваться раны. Он снова лег, без сопротивления дал водовороту утянуть себя в глубину, но тотчас всплыл, вынырнул и увидел — ведь глаза его были открыты — на фоне выбеленной известью стены черный силуэт своего пальто, болтавшегося на желтой деревянной вешалке с шарами вместо крючков.
Чего ради он позволил себе разволноваться из-за этой истории с Императрицей? Он закрыл глаза, умышленно стараясь снова погрузиться в глубину, но его порыву не хватило силы, он не смог заново обрести волшебную гибкость недавнего утреннего сновидения, опять был вытолкнут на поверхность и, бессознательно уставившись на висящее пальто, стал думать об этой Императрице, представил ясно, как воочию, ее черные глаза и волосы, нащупывал какое-то сходство. Это его изводило, и все-таки он знал: что-то общее есть — глаза… Ценой жестокого усилия он сделал это открытие: да, наперекор очевидности, вопреки маломальскому правдоподобию, Императрица походила на его вторую жену, ту, от которой он сбежал. Одна была сухопарой, как зонтик, другая раздутой и дряблой, но различия значения не имели. Суть в глазах. В неподвижности взгляда. В неосознанном презрении, в безмерном и величавом неведении, быть может, вообще всего, что не являлось ею самой, не было так или иначе связано с ней.
Он тяжело повернулся на жесткой, пахнущей потом кровати. К памятному с детства запаху собственного пота он теперь привыкал заново. Слишком много лет, большую часть своей жизни он провел, забыв этот запах, как и запах солнца и все прочие запахи жизни. Люди, поглощенные своими делами, их больше не обоняют, может статься, подумалось ему, именно поэтому все так…
Истина, открытие были совсем рядом, коснувшись их, он канул в глубину, завис было между двумя водными массами, охватившими его сверху и снизу, но тут же снова всплыл на поверхность. И подумал: «Не пойду».
Зачем? Для какой цели?
Он вспомнил свой страдальческий вид, свое детское растерянное «О!», когда он впервые овладел ею, ужасно неловко, мучаясь от стыда. И с тех пор каждый раз, да, каждый раз, когда занимался с ней любовью, пытался быть как можно легче и не смотреть ей в лицо, а все равно знал, что у нее сейчас тот же взгляд. Из-за этого близость вместо наслаждения становилась сущим наказанием.
Тут он заметил, что уже сидит на своем ложе. Буркнул «Нет!», хотел снова лечь, но через несколько минут спрыгнул с кровати, нащупывая босыми ногами растоптанные туфли.
Его крайне удивило, что уже десять. Знакомая панорама розовых крыш в этот час выглядела иначе, чем в другие дни. Он начал с бритья. Потом стал обуваться, со стуком уронил башмак, за что сосед, крупье из казино, субъект с густыми усами, отдающими синевой, не преминул призвать его к порядку.
Спустившись вниз, он на первом этаже столкнулся с уборщицей, которая украла его деньги и с тех пор зыркала на него так, будто не могла ему этого простить. Подчеркнуто дружелюбным тоном он сказал ей «Добрый день», получив в ответ только холодный кивок, которым она удостоила его, не переставая возить мокрой тряпкой по плитам пола.
Он дошел до «Плазы», но почувствовал, что язык еле ворочается во рту, и прежде чем войти, зашел в бар выпить кофе. Дворец сиял кремовой белизной, его многочисленные окна обрамлял орнамент, все это походило на огромный торт. Уверенности, что портье пропустит его, у Дезире не было. Правда, в этот час туда приходили в основном поставщики и люди из обслуги. Холл был просторен и прохладен. Он подошел к гостиничной стойке, торопливо забормотал:
— Я из «Монико»…
Но служитель, прижав к уху телефонную трубку, отвел глаза:
— Алло! Да… Они прибудут по дороге? Около двух? Прекрасно. Благодарю.
И тут же, обернувшись к Дезире:
— Что вам угодно?
— Патрон желает знать, что сталось с дамой, которая сопровождала Императрицу. — Бесполезная, смешная, ребяческая ложь.
— С мадам Терезой?
Смотри-ка! Она не изменила имя! Стала мадам Терезой, как он — господином Дезире. Но он-то слямзил имя с витрины…
— Она все еще здесь?
— Нет. Я даже не знаю, где ее теперь искать. С ней не церемонились…
— Кто? Полиция?
— Нет, они-то поняли, что человек просто зарабатывал на жизнь. Бедняжка! Она казалась такой нежной… Да вы, наверное, сами ее видели в «Монико». Я знаю, что инспектор из Парижа этой ночью там побывал. Но, само собой, без толку? Ничего не выяснил?
— Ничего.
— Если бы я в то время был здесь, позвонил бы вам, предупредил на всякий случай. Когда я об этом узнал, наорал на ночного портье: он тоже мог бы сообразить это сделать. Ведь никогда не знаешь…
— Благодарю вас. Я передам патрону… Так что там вышло с мадам Терезой?
— Они ее допрашивали часа три, не меньше. Потом велели принести ей поесть, она ведь была изнурена вконец. Уж не знаю, что инспектор решил на ее счет. Семью он предупредил… Я говорю о семье Императрицы, у нее в Париже брат, автомобилями занимается… По всей Франции распространяет одну американскую марку…
Но тут консьерж приметил миниатюрную англичанку в деловом костюме, твердым шагом проходившую мимо Дезире:
— Добрый день, мисс! Для вас письмо…
Он смотрел, как она удалялась. Дверь, повернувшись, впустила солнечный луч, отбросивший на стену широкий мазок.
— Короче, брата известили. Он сразу дал инструкции своему здешнему поверенному. Часа не прошло, как явились законники, настояли, чтобы все было опечатано. Коридорный, который несколько раз заходил в номер, напитки им приносил, рассказывает, что зрелище было странное. Они панически боялись, что пропадет какой-нибудь мельчайший пустяк. Сгребли чулки, носовые платки, непарные домашние туфли, заперли весь этот хлам в шкафы, наложили печати… Похоже, эти люди заставили полицейских обыскать мадам Терезу. Если бы могли, они бы и на нее печатей налепили! Вы же понимаете, это все из-за драгоценностей. Утверждают, будто они настоящие… Но их там столько, что бьюсь об заклад: наверняка это пробки от графинов. Вот несчастье, если мадам Тереза прихватила-таки какую-нибудь пробочку поменьше!
Словоохотливый консьерж перевел дыхание, но тут же заговорил снова:
— И знаете что? Тот звонок телефона, помните, когда вы вошли… Это звонили, чтобы сообщить: брат только что прибыл, а с ним поверенный. Они сейчас в пути, катят к открытой могиле…
Но тут новый звонок прервал его:
— Алло! Нет. Ее здесь нет. Как? Да нет, ее номер всегда за ней, просто она еще не вернулась…
И поскольку Дезире в его глазах являлся собратом по профессии, он прибавил, не поясняя, о ком речь:
— Вот тоже фрукт, эта особа! Никогда не возвращается раньше одиннадцати утра, а потом не встает с постели до десяти вечера. Ах да, вы, кажется, интересовались, что сталось с мадам Терезой? Не знаю… Когда они покончили со своими формальностями, они вышвырнули ее за дверь — другого слова не подберешь. Ничего не позволили взять с собой, даже ее личных вещей — их опечатали заодно с прочим. При ней только и было, что маленькая сумочка в руке. Она плакала… Я еще раз потом видел ее на улице. Было ясно, что она не понимает, куда податься. Будто потерявшееся животное… В конце концов она направилась к площади Массена. Но если вы не хотите нарваться на инспектора, вам лучше поспешить: к одиннадцати он должен быть здесь. Куда они отправили тело, я тоже понятия не имею. Этой ночью увезли в служебном фургоне. Похоже, собираются переправлять в Америку…
Дезире и сам постоял минуту-другую на улице, словно потерянное животное, потом так же, как его бывшая супруга, зашагал к площади Массена. Проходя, он машинально оглядывал террасы кафе. Народу под тентами было еще совсем мало, да и не было у него никакой надежды встретить там Терезу.
Наверное, она забилась в какую-нибудь дешевую меблирашку в старых кварталах, где на веревках, протянутых поперек узких улочек, сушится белье и по ступенькам подъездов ползают крошечные голозадые девчонки.
Он пересек цветочный базар, где уже сметали с мостовой охапки стеблей, бутонов, увядших лепестков, от которых попахивало прошедшим Днем Всех Святых.
Был ли у него хоть какой-то шанс разыскать ее? Он на это и не надеялся. Не знал даже, хочет ли этого. Однако ведь встречаешь порой людей, кого больше не думал увидеть, вот хотя бы только что на узком тротуаре он задел локтем инспектора, который стремительно шагал навстречу, видно, спешил в «Плазу» к одиннадцати. Тот на него оглянулся, пытаясь что-то вспомнить, и продолжал свой путь. Уж не выслеживает ли он тоже Терезу? Да нет, вряд ли. Он-то должен знать, где она.
Дезире шел все дальше и дальше. В полдень добрел до площади Массена и уселся на террасе большого кафе, где большинство посетителей, расположившись вокруг одноногих столиков, пили аперитив. Продавцы иностранных газет с криком предлагали свой товар. Автобусы, полные туристов в светлых одеждах, останавливались, трогались снова, за их стеклами виднелись ряды голов, всегда повернутых в одну сторону с одинаковым праздным любопытством зевак.
И тут он внезапно заметил в толпе Терезу. Он был так поражен, что остолбенел и едва не дал ей уйти. Она стояла у края тротуара, ожидая, когда поток машин остановится по знаку полицейского. А Дезире еще надо было заплатить по счету. Официант задержался где-то в глубине зала. Господин Дезире застучал монетой по стеклу. Его обуяла тревога, но уйти, не заплатив, он все равно не мог.
Постовой опустил свой жезл. Официант подошел с полным подносом в руках и принялся разгружать его на соседних столах, бросив беспокойному клиенту:
— Сейчас.
Кучка пешеходов на тротуаре растаяла, остался один запоздавший толстяк, он бегом пересек улицу, полицейский поднял жезл…
— У вас не найдется мелочи?
— Неважно, оставьте…
Слишком поздно. Ему пришлось снова ждать. Он пытался разглядеть ее в тени каштанов на бульваре. Вроде бы на миг фигурка в светло-сером смутно промелькнула вдали. И пропала.
Когда наконец смог перейти улицу, он рванулся вперед, толкая прохожих, сдерживаясь, чтобы не побежать со всех ног, и наконец метрах в пятидесяти увидел ее снова. Она шла медленно, словно человек, которому некуда идти. Вот он и притворяется, будто рассматривает витрины.
Он тоже замедлил шаг. Ведь ничего заранее не обдумал. Сам не понимал, что собирается делать. Шел все тише и тише. Теперь только десять метров разделяли их, нет, уже пять, а она, не подозревая ни о чем, усталая, может быть, искала ресторан. И что всего нелепее, последней витриной, перед которой она остановилась в тот момент, когда он поравнялся с ней, была витрина с трубками, а у него просто не хватило решимости отвернуться и пройти мимо. Он словно невзначай, машинально окликнул:
— Тереза?
Женщина вздрогнула, оглянулась, хмуря брови. Это было выражение, настолько характерное для нее, ей одной присущее, что следы минувших лет стерлись, он снова узнал ее всю, такую же, как встарь: хрупкое маленькое животное, беззащитное, застывающее в страхе от малейшего шума, сознающее, что все равно не убежать, вот и стоит, слегка втянув голову в плечи, глядит с кротким изумлением на зло этого мира, готовое ее сокрушить.
Она была до такой степени «все та же», что у него комок встал в горле, перед глазами на миг возникла туманная завеса, мешающая видеть ясно. Заново навести резкость изображения ему удалось в тот самый момент, когда и Тереза, лихорадочно роясь в памяти, наконец осознала, кто перед ней, и обомлела от изумления.
Ей все еще не верилось, что это не какая-то новая ловушка, она, казалось, готовая броситься бежать, только пролепетала:
— Ты…
Что ей сказать? Растерянность парализовала его. Они стояли посреди улицы. Солнце, пробиваясь сквозь листву платанов, рисовало на мостовой трепещущие китайские тени. Торопливо сновали прохожие. В двух метрах от них проносились машины. Все до единой трубки, выставленные на витрине, были отчетливо видны. Он заговорил:
— Я уже знал, что ты в Ницце… Не бойся… Я в курсе…
Сиреневые глаза стали огромными от недоумения. Значит, они сиреневые. Господин Монд спросил себя, такого ли цвета они были раньше. Правда, теперь у нее тени на веках — краска с крошечными посверкивающими блестками. Кожа на шее была заштрихована тоненькими морщинками.
Что она подумала, увидев его вновь? Поняла ли то, что он сказал?
— Я тебе все объясню. Но нам с тобой надо бы сесть где-нибудь и поговорить… Держу пари, что ты не завтракала!
— Нет…
Она это сказала не о завтраке. Прошептала сама себе, качая головой. Может быть, ей не верилось, что такое возможно? Или это был слабый протест, неприятие реальности подобной встречи?
— Пойдем.
И она последовала за ним. Он шел слишком быстро, приходилось то и дело останавливаться, ждать ее. Так и встарь бывало всегда, если они шли куда-нибудь вместе. Было похоже, будто он тащит ее на буксире, и, выбившись из сил, она просила пощады или просто останавливалась, запыхавшись, не говоря ни слова: он и так понимал.
— Извини.
Но немного погодя он опять бессознательно ускорял шаг. На углу улицы приметил маленький ресторан с несколькими столиками, выставленными наружу, один из них, под зеленым деревцем в горшке, свободен.
— Давай посидим здесь.
И подумал: «Какое счастье! Мы на улице, вокруг люди, официант подходит спросить, что мы будем есть, подхватывает два бокала из стоявших вверх дном на скатерти, переворачивает и пододвигает к нам. Какое счастье, что между нами все время что-нибудь постороннее, нам никогда не грозит опасность остаться лицом к лицу…»
— Подайте какое-нибудь блюдо, не важно что.
— Мидии?
— Как вам угодно.
— Есть треска по-провансальски…
Надо же! Он вовремя вспомнил, что она не любит треску, и отказался. Она глядела на него все еще удивленно, только теперь начиная видеть его таким, каким он стал. Их положение оказалось неравным: у него-то было время, он часами наблюдал за ней через глазок в «Монико». Особенно ее должен был озадачить его костюм, ведь, превратившись в господина Дезире, он снова предпочитал носить тот, купленный в Париже у торговца готовым платьем.
— Как у тебя идут дела?
— Потом объясню. Это не важно…
— Ты живешь в Ницце?
— Да. С некоторых пор…
Рассказывать обо всем было бы слишком долго, да и скучно. Он уже немного жалел, что показался ей. Это совсем не вязалось с его планами. Ему только хотелось узнать, где она живет, чтобы посылать ей немного денег. Он ведь зарабатывал их. И в карманах кое-что еще оставалось в тот день, когда его обокрали.
Он чувствовал себя не в своей тарелке, ее и подавно мучила неловкость. Она едва не перешла с ним на «вы». Но прежнее «ты» все-таки вернулось, принеся с собой смутное ощущение, будто они друг перед другом предстали нагишом.
— Вот, мсье-мадам… А как насчет вина?
Наплывающее воспоминание: розовое мясо креветок, серо-желтые моллюски (кажется, петушки), запах вина, которое им принесли, — ни дать ни взять тот, другой ресторан, марсельская трехэтажная забегаловка… Как далек Париж, какой путь пройден с тех пор! Он потрогал ладонью стол, пытаясь вернуть ощущение реальности. Накрашенные, постаревшие от помады губы Терезы дрогнули, она пробормотала:
— Ты очень страдал?
— Нет… Не знаю… Я не мог понять…
Она удивилась еще больше, ее глаза увядающей маленькой девочки, крошки с обветренными щеками, эти глаза наивно, вопросительно округлились.
«А теперь-то понял?» Она это хотела сказать? Скорее всего. Нет, конечно, не понял, это было невозможно. И однако он стал другим человеком. Потускнел, да, и он тоже. Щеки у него обвисли, как бывает с толстяками, когда они вдруг похудеют. Под жилетом на месте брюшка образовалась впадина.
— Ешь, — сказал он.
Подумал ли он, что она голодна, ведь со вчерашнего дня болталась по улицам без единого су? Впрочем, с виду ничего такого не было заметно. Ее легкое серое пальто не измялось. Должно быть, она куда-нибудь зашла, наверное, в казино, там ее знали, может, бармен ей дал чего-нибудь перекусить?
Она ела. Она очень старалась есть медленно, изящно.
А потом она сказала вот что:
— Если бы ты знал, как мне больно видеть тебя в таком состоянии!
Выходит, это она сострадала ему, находила его жалким. Вот опять наморщила лобик, посмотреть — ну совсем дитя:
— Как это случилось?
Он вглядывался в нее так напряженно, что забыл ответить. А она, стыдливая, добавила робко, почти боязливо:
— Все из-за меня?
— Да нет… Ничего страшного, уверяю тебя… Я счастлив…
— Я думала, ты снова женился.
— Да.
— И твоя жена…
— Нет, я сам ушел. Это не имеет значения…
Официант поставил перед ними блюдо жирной, сильно пахнущей требухи. Ей, изголодавшейся, это было нипочем, но господину Монду пришлось сделать над собой усилие, чтобы проглотить кусочек.
— Со мной только что стряслась беда… — проворковала она, словно оправдывая этим свой волчий аппетит.
— Я знаю.
— Откуда?
Внезапно ее осенило:
— Ты из полиции?
Он не засмеялся, даже не улыбнулся этому недоразумению. Ведь в своем поношенном костюме он и вправду выглядел под стать скромному пособнику полиции.
— Нет. И тем не менее я в курсе всей этой истории. Я с самого утра тебя ищу.
— Меня?
— Заходил в «Плазу», справлялся…
Ее передернуло:
— Они были так грубы… — призналась она.
— Да.
— Вели себя со мной, будто с воровкой…
— Знаю.
— Все забрали, что у меня было в сумочке, оставили только одну двадцатифранковую бумажку…
— Где ты ночевала?
— Нигде…
Зря он об этом заговорил: у нее так перехватило горло, что она больше не могла есть.
— Пей!
— Я все еще ломаю голову, гадаю, что ты здесь делаешь.
— Работаю. Я там устал от всего…
— Бедный Норберт.
Его вдруг обдало холодом. Не надо бы ей так говорить, да еще этим глупым сладеньким голоском. Он уставился на нее жестко, в упор. Разозлился. Они провели вместе каких-нибудь пятнадцать минут, в крайнем случае полчаса, и ей этого хватило, чтобы все низвести на уровень своего бабьего понимания.
— Ешь! — скомандовал он.
О, ему был вполне ясен ход ее мысли! Она, недолго думая, ставила себя в центр вселенной. Потому и скорчила эту виноватую мину, что уверена: это она всему причиной.
Ведь наверняка в глубине сознания, на самом его дне она прятала за удрученными ужимками победное торжество.
Это же она, не правда ли, своим уходом заставила его страдать? И как бы он ни старался восстановить свой разрушенный очаг, жениться снова, ему больше никогда не обрести счастья!
Ему хотелось заставить ее молчать. Сейчас он охотно ушел бы, подбросив ей сколько-нибудь деньжат на пропитание, только чтобы смогла выкрутиться.
— Она была злой?
На сей раз злым был он, когда буркнул сквозь зубы:
— Нет!
— Ох, как ты это сказал…
И между ними повисло тяжелое молчание. Она продолжала есть, но уже без аппетита, без удовольствия. Он позвал:
— Гарсон!
— Мсье?
— Подайте мне кофе.
— Без десерта?
— Десерт для мадам. Мне не нужно.
Она словно бы замарала что-то. И так хорошо почувствовала это, что пролепетала:
— Прости меня…
— За что?
— Я еще и сказала какую-то глупость, не так ли? Ты всегда меня упрекал, что я глупости говорю.
— Это не имело значения…
— Если бы ты знал, как потряс меня! Увидеть тебя таким! А все я, это моя вина… И потом, видишь ли, я-то уже давно привыкла… Мне не впервой попадать в такой переплет, как сейчас… Но ты!
— Не надо больше обо мне.
— Прости…
— Вероятно, полиция потребовала, чтобы ты не выезжала из Ниццы?
— Как ты догадался? Ну да, до окончания следствия… И невесть сколько всяких формальностей…
Он достал из кармана кошелек, мучительно краснея за этот жест. Плевать! Так надо. Оглянулся, дабы увериться, что официант, стоявший у двери зала, на них не смотрит.
— Тебе надо найти какое-нибудь пристанище.
— Норберт…
— Возьми.
Слезы навернулись ей на глаза, переполнили их, не проливаясь сквозь ресницы, не находя освобождающего выхода.
— Ты делаешь мне больно…
— Да нет же… Осторожно! На нас смотрят.
Она разок-другой шмыгнула носом и жестом, к которому он уже начал привыкать, поднесла к лицу открытую сумочку с зеркальцем, чтобы заново попудриться.
— Ты уже хочешь уйти?
Он не ответил.
— Ну да, конечно, у тебя же работа. Я даже не смею спрашивать, чем ты занимаешься…
— Это не важно… Гарсон!
— Мсье?
— Счет.
— Ты очень спешишь?
Что верно, то верно. Его нервы были на взводе. Он чувствовал, что одинаково способен и взбеситься, и расчувствоваться. Испытывал потребность остаться одному и, главное, больше не видеть ее перед собой — не видеть этих ее невинных глаз, этой морщинистой шеи.
— Сейчас же найди себе комнату и отдохни.
— Да.
— В котором часу ты должна явиться в полицию?
— Не раньше завтрашнего дня. Они ждут прибытия семьи…
— Я знаю.
Он встал. Расчет был на то, что она еще несколько минут посидит на этой террасе, допивая свой нескончаемый кофе. Это дало бы ему время удалиться. Легче легкого. Но она тоже встала, стояла перед ним с ожиданием на лице:
— Куда же ты направляешься?
— Туда. — Он махнул рукой в сторону площади Массена и ее отеля. Сам не понимая почему, он не хотел, чтобы она знала, где он живет.
Она снова тащилась за ним на буксире. Он шел быстро. В конце концов она поняла, что упорствовать не стоит, и замедлила шаг, подобно уличному приставале, который отчаялся и прекращает преследование, но успела еще шепнуть ему:
— Да ладно! Я тебя отпускаю. Пожалуйста, прости меня…
От вечной своей неловкости, оттого, что сам не знал, как ему быть, он не сказал ей «до свиданья». Уходя по солнечной улице, слышал, как стучит в висках. И сознавал, что повел себя жестоко.
«Пожалуйста, прости меня…» На этот раз он был уверен, что в ее словах не было намека ни на прошлое, ни на все то, в чем он мог бы ее упрекнуть. Она говорила о том, что случилось с ними сейчас, об их испорченной встрече, о ее бессилии вести себя так, как хотелось ему.
Он долго шел, прежде чем оглянуться, — хотел сначала отойти подальше. А она прошла всего несколько шагов и, сохраняя видимое самообладание, остановилась перед витриной галантерейного магазина.
Люди, идущие мимо, ничего не знали. Эта женщина казалась им такой же, как другие. Да ведь и он тоже не был тем мужчиной, просто спешащим на работу, за которого его принимали.
Подходя к закусочной «У папаши Жерли», он через большое открытое окно увидел Жюли: она завтракала в компании Шарлотты. Раз не оставалось возможности проскользнуть в гостиницу незамеченным, он прошел через закусочную. Не переставая жевать, Жюли спросила:
— Ты уже прогулялся? В такую рань?
Глянула пристальней, на лбу наметилась вертикальная морщинка:
— Что-то не так?
В ответ он только проворчал:
— Я иду спать…
— Ну, может, до вечера?
— Да.
Только потом, когда он уже топал по серой гостиничной лестнице, до него дошел смысл этого ее «Ну, может, до вечера?» Его охватило смятение. Почему она об этом спросила? Разве теперь все уже под вопросом?
У себя в номере он застал уборщицу, орудующую тряпкой, и выставил ее за дверь против обыкновения почти грубо. Лег, яростно зажмурился, но все уже сдвинулось с прежних мест, стали другими и свет, и тени, даже воробьи гомонили как-то не так, и все его существо томилось, пока он метался в сероватом полумраке.
8
Опиум — вот что такое была для них игра. Через свой глазок Дезире видел, как они проходили туда один за другим. Вначале крупье, черные, лощеные служители культа — эти шествовали напыжившись, как заправские чиновники, не удостаивая зал ни единым взглядом, прямиком туда, на свою «фабрику». Свои шляпы и пальто они не оставляли на вешалке. У них там, в святая святых, имелся шкаф, где они хранили также мыло, салфетки, а нередко еще и чистые рубашки на замену.
Потом входили клиенты, по большей части важные, уважаемые в городе персоны. В дверях зала, где танцуют, они появлялись, уже избавившись от верхней одежды, и потому выглядели непринужденно, как у себя дома. Официанты, вместо того чтобы устремляться им навстречу, спеша проводить к свободному столику, только здоровались по-свойски. При этом почти все сохраняли беспечный вид, словно сами пока не знали, чем бы заняться. Подходили к господину Рене, обменивались с ним рукопожатиями и парой фраз, этаким небрежным жестом приглаживали волосы…
Господин Монд знал теперь, что внутри у них все клокочет. Он с ними уже познакомился, со всеми. В тот вечер первым пришел крупный импортер апельсинов, человек, который, говорят, начинал то ли крикливым уличным продавцом газет, то ли чистильщиком ботинок на задворках Барселоны, а в тридцать пять уже ворочал миллионами. Он был красив и ухожен, словно женщина. Все наемные танцовщицы дансинга взирали на него с завистью и вожделением. Он улыбался им, скаля белые сверкающие зубы. Иногда в перерывах между партиями он заходил в зал, протанцевав разок с какой-нибудь из девушек, заказывал для них две или три бутылки шампанского — знак, что он выиграл, — но любовницы у него, если верить молве, не было.
Еще приходил мэр соседнего города, он врывался в дверь и мчался к игорному столу, как ураган, — уж очень боялся, что его увидят входящим в казино. Этот был так тощ, что выглядел изможденным. У рулетки его одолевали нервные тики, вдобавок он был суеверен.
С единственной женщиной, вхожей в это сообщество, все обходились почтительно, как с мужчиной. Ей было лет пятьдесят, она развернула внушительную торговлю модным товаром и, что ни вечер, неукоснительно приходила посидеть за зеленым столом.
Многие из этих людей, да почитай все — походили на господина Монда былых времен. Изнеженные тела, розовые, чисто выбритые лица, одежда из тонкого сукна, обувь, мягко облегающая ступни, и наконец, тот зрелый возраст, когда фигура обретает солидность, нередко даже такую, что бремя ответственности представляется естественным противовесом. Одни имели свои конторы, своих служащих и рабочих, другие, врачи и адвокаты, — обширную состоятельную клиентуру. У каждого тоже, как еще недавно у него, была жена, дети. Но каждый вечер все они в один и тот же едва ли не мистический час, будто околдованные, вставали со своих кресел и шли сюда. Никакая сила не могла их остановить.
И многие из них при этом, надо полагать, лгали, измышляли каждый раз новое оправдание, ссылались на всевозможные профессиональные необходимости, сетовали на светские обязанности. Другие, не сумев избежать домашней сцены, упреков, презрения и гнева жены, не желающей их понять, входили с наморщенным лбом, ежились и глядели исподлобья, стыдясь за себя, за то, что они здесь.
Откуда им было знать, что некто, похожий на них, наблюдает за ними сквозь круглый маленький глазок?
А еще забредали наивные простаки, фанфароны, иностранцы. Зазывалы приводили их, как на веревочке, сначала угощали выпивкой за столиком, потом мягко заталкивали на «фабрику», где их ждала более или менее жульническая партия.
И наконец, встречались посетители, которых игра не соблазняла. Эти, напротив, принимали всерьез только просторный зал, полный женщин, которые часами разжигали в них вожделение.
Господин Монд видел, как они раз по сто за вечер склонялись к своей случайной подруге — Жюли, Шарлотте или любой другой, — и знал, какие слова они в этот момент произносили. Скорее не слова, а слово:
— Пойдем…
А те отвечали, никогда не уставая от повторения, все с тем же невинным видом:
— Сейчас директор не позволит мне уйти. Он такой строгий! У нас же контракт…
Это служило поводом выпить. На столик снова и снова подносили бутылки шампанского, коробки шоколадных конфет, цветы. Нечестная игра: к тому моменту, когда долгожданный рассвет был на носу, мужчина уже не вязал лыка и его выставляли за дверь; изредка случалось, что женщина даже провожала его до гостиницы, благо он с перепоя уже не мог удовлетворить свою похоть.
В тот вечер господин Монд, на лету ведя счет бутылкам, уносимым официантами из кладовой, размышлял обо всех этих людях. О них и о себе. Еще он думал о Терезе. После полудня ему не спалось. В конце концов он встал, пошел пройтись, добрел до ресторана, где они утром завтракали вместе. Коль скоро они не договорились о новом свидании, это было единственное место, оставлявшее ему шанс встретить ее. Он предполагал, что она придет туда, движимая теми же соображениями. Расспросил официанта, но тот уже успел забыть, как она выглядит:
— В белой шляпе, верно?
Не то, все не то. Впрочем, неважно. К тому же он не знал, вправду ли хочет увидеть ее снова.
Он чувствовал себя измученным. К тому же старым.
Господин Рене, присев по своему обыкновению на краешек стола, что-то ел. Посыльный толкнул шарнирную дверь. Он ничего не сказал, только головой мотнул — это был знак, призывающий распорядителя танцзала на помощь.
Тот, прямой, безукоризненный, устремился в зал, вслед за посыльным спеша к парадному входу. В то самое мгновение, когда они его достигли, дверь отворилась и господин Монд увидел в проеме Терезу. Ее, которую отныне больше не желали допускать в «Монико». И не пустят, это было очевидно. Господин Рене как бы невзначай преградил ей дорогу. Она заговорила с ним. Смиренно, как просительница. Он качал головой. Чего она хотела, о чем могла просить его?
Наступая, господин Рене старался незаметно оттеснить ее за дверь, но она, разгадав его маневр, вильнула чуть в сторону. Женщины, заметив происходящее и, может статься, уже понимая его смысл, все разом повернулись к двери и глазели на эту сцену с любопытством.
Тереза еще пыталась умолять его, затем сменила тон, теперь она угрожала. Ей во что бы то ни стало нужно было войти, поговорить с кем-то другим, кто был здесь.
На сей раз господин Рене вспылил, горячая кровь африканца ударила ему в голову: он положил ей руку на плечо. Она его оттолкнула. Дезире прильнул к дверному глазку.
О чем она может кричать ему с таким жаром? И что творится с официантами, почему они так сгрудились за спиной своего шефа, готовые прийти к нему на помощь? Откуда им знать, что сейчас произойдет?
Господин Рене двумя руками медленно теснил ее к выходу, и тут ее лицо так исказилось, что не узнать, она внезапно завопила, изрыгая — в том не было сомнения — чудовищную площадную брань и угрозы.
Как это произошло, Дезире не уловил, но в следующее мгновение он увидел ее уже на полу, она буквально корчилась в страшнейшем нервном припадке, а они, метрдотели в черном и официанты в белых передниках, невозмутимо склонились над ней, подняли и вынесли наружу. Между тем музыка, как ни в чем не бывало, продолжала играть.
Господин Монд взглянул на Жюли и прочел на ее лице полнейшее безразличие. А гарсон, вошедший в официантскую незаметно для него, вздохнул и философским тоном изрек:
— Пусть уж лучше валяется со своим приступом на тротуаре. Ночевать ей придется в участке, это точно.
— Какой приступ?
— Ей морфия не хватает, пристрастилась к морфию…
Тогда господин Монд соскользнул с высокого стула, повернулся спиной к своему рабочему месту, этому подобию пюпитра, и поспешил к мерзкой, грязной служебной лестнице, все ускоряя шаг. На полдороге он уже попросту бежал, сообразив, что еще придется обходить здание, чтобы добраться до парадного входа. Вдали, в сумерках, он видел двух-трех парней из «Монико», которые, стоя на пороге, смотрели вслед удаляющейся фигурке, а она еще останавливалась, она оглядывалась и грозила им кулаком, выкрикивала ругательства.
Он взял свою бывшую жену за руку. Она дернулась, сначала не узнала его, попробовала отбиваться. Потом увидела его лицо и разразилась отвратительным хохотом:
— Тебе-то чего надо? Ты следил за мной, а? Ты еще большая сволочь, чем остальные!
— Молчи, Тереза…
Впереди на улице замаячили какие-то фигуры. К ним приближались прохожие, не миновать встречи. А что, если это полицейские?
— И правда! Мне остается только помалкивать! Ты же заплатил за мой завтрак! Я должна тебя благодарить! И ты дал мне денег… Ну же! Скажи, напомни мне, что ты денег дал… Но ты был так заботлив, что бросил меня посреди дороги… В конечном счете тебе плевать…
Он не отпускал ее руки, удивляясь тому, сколько в ней силы. Она все еще боролась, даже вырвалась, бросилась бежать, а когда он догнал ее и схватил, обернувшись, плюнула ему в лицо:
— Пусти, тебе говорят! Я найду… Мне необходимо найти… Иначе…
— Тереза…
— Мерзавец!
— Тереза…
Лицо ее подергивалось, глаза стали безумными. Она рухнула на тротуар, царапая ногтями мостовую.
— Тереза, я знаю, чего ты хочешь… Пойдем…
Она его не слышала. Какие-то люди, выйдя из-за угла и поравнявшись с ними, приостановились. Женщина пробормотала:
— Ни стыда, ни совести…
Вторая, постарше, сказала двум мужчинам, сопровождавшим их:
— Да пойдемте же!
И они нехотя удалились.
— Вставай! Пойдем со мной… Я тебе обещаю…
— Что? Он у тебя есть?
— Нет, но я найду.
— Ты лжешь!
— Клянусь тебе…
Она сдавленно засмеялась, видно, нервы совсем сдали. Смотрела на него болезненно расширенными глазами, колеблясь между надеждой и недоверием.
— И что же ты мне дашь?
— Морфия…
— Кто тебе рассказал?
Она поднялась, помогая себе руками. Сама того не сознавая, она двигалась как маленькая девочка. Ее шатало. Она плакала.
— Куда ты хочешь меня вести?
— Ко мне.
— Где это? Что значит «к тебе»? Ты уверен, что не потащишь меня в больницу? Со мной один раз уже сыграли такую шутку… Если что, я, знаешь ли… я способна…
— Да нет же! Пойдем.
— А это далеко?.. Давай лучше вместе поищем морфий…
— Нет. Когда ты станешь поспокойней… Даю тебе слово чести: я его принесу.
Все это было нелепо, трагично и безобразно. Сцена утратила первоначальную напряженность, припадок затих, какое-то время они шли по улице как обычные прохожие, потом Тереза опять остановилась. Она, будто вдрызг пьяная, уже забыв все, что он ей только что говорил, цеплялась, висла на нем. Один раз под ее тяжестью он чуть не упал.
— Пойдем же…
Они все же продвигались вперед. Но слова, что они произносили, становились с каждым шагом все бессвязнее, не только у нее, но и у него.
— Я всюду ходила… Пошла к врачу, который ее снабжал…
— Ну да… Пойдем…
— Она со своими деньгами могла получать, сколько захочет…
— Ну да… Ну да…
Дважды он чуть было не удалился широким шагом, бросив ее посреди улицы. Дорога казалась ему нескончаемой. Но в конце концов они увидели освещенный подъезд гостиницы папаши Жерли. Тут разыгралась новая комедия:
— Я лучше подожду тебя в кафе!
— Нет, поднимись в мою комнату.
Они долго препирались, оказалось, это головоломная задача — заставить ее войти. Но он был терпелив и уломал ее. Он никогда и вообразить не мог, что жизнь может принять до такой степени пошлый оборот. Поднимаясь по лестнице следом за Терезой, он подталкивал ее в спину. И вот наконец она, снова обуреваемая подозрениями, вошла в его каморку. Он догадался, что она попытается сбежать, и быстро выйдя за дверь, запер ее за собой. Потом, прижавшись ухом к перегородке, сказал вполголоса:
— Не волнуйся. И не поднимай шума. Через пятнадцать минут я вернусь и принесу его…
Она слишком измучилась? Было слышно, как она рухнула на кровать, поскуливая, как животное.
Тогда он спустился вниз. В закусочной он прямиком отправился к хозяину и вполголоса заговорил с ним.
Но тот покачал головой. Нет. У него нет. Это не в обычае заведения. Слишком рискованно. Надо быть очень осторожным.
— Тогда где искать?
Этого он тоже не знал. С кокаином и героином задача была бы проще. Поговаривали об одном докторе, но ни имени, ни адреса…
Он решил стучаться во все двери. Неважно, что о нем подумают. В «Монико» почти каждый вечер заходил врач, игравший по крупной, у него частенько бывали мутные глаза и очень бледное лицо. Неужели и с ним не удастся столковаться?
Ему, всего лишь простому служащему, было куда как мудрено проникнуть на «фабрику», приблизиться к зеленому столу.
Все равно. Он пойдет туда.
Хозяин закусочной поднял голову:
— Послушайте!
Хотя от мансарды их отделяли шесть этажей, оттуда доносился шум. Творилось неладное. Оба мужчины бросились вверх по лестнице. Чем выше они поднимались, тем явственнее слышались вопли, бешеный стук в дверь, голоса уборщицы и постояльца, который случайно оказался в этот час у себя: они через дверь пытались о чем-то спрашивать эту одержимую.
— Не надо бы вам приводить ее сюда, — вздохнул хозяин.
Что мог сделать теперь господин Монд? Он больше не видел выхода.
— Вызовите врача, ладно? Все равно какого. Так продолжаться не может…
— Вы этого хотите?
Он кивнул, отстранил уборщицу и постояльца, вставил ключ в замочную скважину. Они были бы не прочь войти вслед за ним, но присутствие при такой сцене свидетелей было ему отвратительно, и он, торопливо проскользнув в дверь, запер ее за собой.
О том, как прошли для него последовавшие за этим пятнадцать минут наедине с той, у которой когда-то были такие невинные глаза и с которой он прижил двоих детей, господин Монд никогда никому не рассказывал; может быть, ему даже удавалось не думать об этом.
Постоялец, музыкант из джаз-оркестра, уже несколько дней не выходивший на улицу потому, что подхватил плеврит, пошел к себе в номер прилечь. Уборщица осталась у двери одна. Услыхав на лестнице шаги врача, она почувствовала облегчение.
Когда дверь отворилась, Тереза лежала поперек кровати, свесив ноги, а Дезире, навалившись на нее сверху, всем весом своего тела насилу удерживал ее на месте. Окровавленной рукой он зажимал ей рот.
В этой странной позе он оставался еще несколько мгновений: бедняга очумел вконец, даже не сразу осознал, что раз пришел доктор, можно предоставить действовать ему.
Потом он встал, провел ладонью по глазам, зашатался. И, боясь потерять сознание, прислонился к стене, так что вся спина его пиджака побелела от известки.
Ему предлагали отвезти ее в больницу, но он отказался. Никто не понял почему. Укол утихомирил ее. Глаза оставались широко раскрытыми, но женщина лежала так тихо, с таким пустым взглядом, что казалось, будто она спит.
Отступив к порогу, он пошептался о чем-то с доктором.
И снова они остались один на один. Он опустился на стул. Иногда он чувствовал тяжелый стук в висках, по временам его одолевало головокружение, его будто засасывало в какую-то пустоту, это мешало думать. Порой он бормотал машинально:
— Спи…
Может быть, от звука собственного голоса ему становилось легче?
Он выключил свет, но лунные лучи струились в комнату сквозь слуховое окно, этот холодный свет корежил черты спящей, и он отвернулся, стараясь не смотреть на помертвевшее, почти бесплотное лицо с запавшими, как у покойницы, ноздрями.
В какой-то момент, когда он все же бросил на нее беглый взгляд, его пробрала дрожь: почудилось, что это не она лежит, а их сын Ален: у него ведь и черты почти те же, и кожа будто стеариновая, и тоже чересчур светлые, бледные глаза.
Наступил час, когда постояльцы возвращаются в гостиницу. Он прислушивался к их шагам, они, как правило, затихали на нижних этажах. Он машинально считал, на котором. Пятый… Шестой… На сей раз кто-то поднимался сюда, на седьмой. Женщина. В дверь постучали. Он понял, что это Жюли.
— Входи…
Ее поразили темнота, царившая в комнате, и странный вид этих двоих — женщины, распростертой на кровати с открытыми глазами, и мужчины, сидящего на стуле, обхватив голову руками. Она прошептала:
— Что это?..
И запнулась, не сразу решившись договорить:
— Похоже, она мертва?
Он покачал головой, с трудом встал. Теперь придется давать объяснения. Боже праведный, как все это сложно!
Он потянул ее к двери, увел за собой на лестничную площадку.
— Кто это? Ты ее знаешь? Мне рассказали в «Монико»… Патрон рвет и мечет…
Последнее сообщение оставило его равнодушным.
— Ну же! Ты знал ее раньше?
Он кивнул. И она тотчас угадала остальное:
— Это твоя жена?
— Моя первая жена…
Она не удивилась. Напротив. Похоже, она всегда подозревала, что у него в прошлом имеется какая-то история подобного рода.
— Что ты собираешься делать?
— Понятия не имею…
— Завтра же все начнется сызнова. Мы знаем, как оно с ними…
— Да.
— Кто дал тебе морфий?
— Врач.
— Когда придет ее время, она опять захочет…
— Знаю. Он оставил мне еще одну ампулу.
Это было невероятно: слова, фразы, даже факты, в конечном счете, сама реальность больше не имели для него ни малейшего значения. Голова была ясной, он владел собой и знал, что на все вопросы отвечает подобающим образом, держится как нормальный человек.
И в то же время он был очень далеко — вернее, высоко; он видел Жюли в вечернем платье на лестничной площадке, освещенную пыльной лампочкой, видел и себя — с взъерошенными волосами и расстегнутым воротом рубашки.
— У тебя кровь течет!
— Да ладно, ничего…
— Это она, верно?
Ну да, да! Только все это не представляло интереса. Только что он за несколько часов, если не минут — в точности он и сам не знал, когда это с ним случилось, — совершил такой колоссальный скачок, что мог теперь холодным проницательным взглядом свысока созерцать мужчину и женщину, шепчущихся на лестничной площадке гостиницы в час, когда готовится забрезжить новый день.
Разумеется, он отнюдь не развоплотился, не порвал с материальным миром. Он по-прежнему был господином Мондом или Дезире… скорее Дезире… Нет! И это тоже не важно. Он был человеком, который долго, сам того не сознавая, влачил свой человеческий удел, как иные таскают с собой свою болезнь, о которой не ведают. Он был человеком среди людей, таким же суетливым, как они, которые то мягко, то с остервенением заталкивали его в общую давку, мало интересуясь тем, куда он идет.
И вот теперь в этом лунном сиянии, будто под воздействием магических икс-лучей, он вдруг увидел жизнь по-другому.
То, что некогда считалось важным, более не существовало — все покровы, мякоть, вся плоть, уловки лицемерия, да и почти все, что творилось с ним и вокруг, тоже…
Но вот ведь что! Говорить об этом не стоило труда — ни с Жюли, ни с кем-либо другим. Это было непередаваемо.
— Тебе ничего не нужно? — спросила она. — Хочешь, я распоряжусь, чтобы тебе сюда кофе принесли?
Нет… Да… Ему было все равно. Вернее, что нет. Скорее бы его оставили в покое.
— Ты зайдешь рассказать мне, как пойдут дела?
Он обещал. Она поверила не более чем наполовину. Может быть, предполагала, что, проснувшись в середине дня, она узнает, что он уехал с этой женщиной, распростертой на железной кровати?
— Ну что ж! Держись!
Жюли уходила с сожалением. Ей хотелось выговориться… сказать ему… Что именно? Что она с самого начала поняла: у них это не навсегда. Что хоть она всего лишь бедная девушка, она угадывает некоторые вещи, что, в сущности…
Он видел, как она оглянулась у поворота лестницы, подняла голову, чтобы еще раз взглянуть на него. Потом вернулся в свою комнату, запер за собой дверь — и вздрогнул, услышав голос, пока еще невнятный:
— Кто это?
— Знакомая.
— Это твоя…
— Нет. Мы просто друзья.
Тереза уже снова созерцала наклонный потолок мансарды. Он опять уселся на стул. Время от времени он вытирал носовым платком кровь, все еще сочившуюся из губы, она ее прокусила очень глубоко.
— Он тебе оставил еще? — по-прежнему не двигаясь, спросила она монотонным голосом лунатика.
— Да.
— Сколько?
— Одну.
— Дай мне еще, сейчас…
— Нет, позже.
Она покорилась кротко, как малое дитя. Такая, как сейчас, она была одновременно и девочкой, и старухой в большей степени, чем тогда, когда он встретил ее поутру в городе. Да и он сам, когда, бреясь, проводил пятнадцать минут перед зеркалом, часто казался себе постаревшим ребенком. И бывает ли человек хоть когда-нибудь чем-либо иным? Толкуешь о прожитых годах, как если бы они существовали в действительности, а потом замечаешь, что между тем временем, когда ты ходил в школу, или даже тем, когда мама укрывала тебя перед сном, и этим, переживаемым сейчас, в сущности, ничего не было…
Луна еще слабо светилась на небосклоне, густая синева которого уже сменилась легкой голубизной утра, и белые стены комнаты стали выглядеть более по-человечески, не такими мертвенно-бледными.
— Ты спать не будешь? — спросила она еще.
— Не сейчас.
— А мне так хочется спать!
Ее бедные усталые веки трепетали, было видно, что ей ужасно хочется плакать, она стала еще намного болей тощей, чем раньше, это была старая женщина, уже почти бестелесная.
— Послушай, Норберт…
Он встал и пошел ополоснуть лицо, стараясь производить как можно больше шума, только бы помешать ей говорить. Так было бы лучше.
— Ты меня не слушаешь?
— Зачем?
— Ты очень сердишься на меня?
— Нет. Постарайся уснуть.
— Который час?
Он куда-то засунул свои часы, потребовалось некоторое время, чтобы отыскать их.
— Половина шестого.
— Хорошо…
Она ждала, послушная. Он не видел выхода. Что делать, куда приткнуться? Пытаясь отвлечься, он вслушивался в привычные шумы отеля, где знал уже почти всех постояльцев. Знал, кто когда возвращается, распознавал голоса, доносившиеся до его каморки лишь слабым отзвуком.
— Лучше было бросить меня умирать…
Врач его предупреждал. Только недавно, как раз когда пришел доктор, она уже разыгрывала перед ними эту комедию, но сгоряча, на пике припадка, она тогда бросилась к ножницам, которые валялись на полу, и попыталась пронзить себя ими за неимением кинжала.
Теперь она опять взялась за старое, но холодно, вяло, и это его не тронуло. Она не унималась:
— Зачем ты помешал мне умереть?
— Спи!
— Мне так не заснуть, я это точно знаю.
Тем хуже! Вздохнув, он отошел к слуховому окошку, оно вернуло ему красные крыши и шумы пробуждающегося цветочного базара. Это был час, когда на улице Монторгёй его ночной сторож разогревал у себя в чуланчике свой утренний кофе. Кофе он наливал в маленький голубой эмалированный кофейник. А пил из деревенской чашки с грубо намалеванными цветами. Центральный рынок в это время уже кипел в полную силу.
А потом он сам на улице Баллю долгие годы просыпался всегда в один и тот же час и тихонько соскальзывал с двуспального супружеского ложа, стараясь не разбудить тощую, жесткую женщину, которая не спала.
Когда он совершал свой утренний туалет с той же тщательностью, с какой делал все, за что брался, над его головой этажом выше включался будильник и большой мальчик с припухшим ртом и взъерошенными волосами, который приходился ему сыном, зевая, вылезал из-под одеяла, потягивался, вставал на ноги.
Поладила ли его дочь со своей мачехой теперь, когда его не стало рядом? Нет, чего-чего, а этого случиться не могло. Значит, когда ей нужны деньги, ей больше не к кому обратиться. Это скверно. У нее двое детей. Наверное, она любит их, как все матери, — или, может быть, это тоже пустая иллюзия? — так или иначе, она живет, не очень-то занимаясь ими, то и дело болтается где-то с мужем, возвращаясь домой далеко за полночь.
С момента своего бегства он впервые так сосредоточенно думал о них. Можно даже сказать, что все это время он вовсе о них не помышлял.
Он не расчувствовался, нет… Оставался холодным. Но они представились ему, каждый в отдельности, такими, какими были. Он видел их теперь куда яснее, чем прежде, когда встречал их каждый день.
И больше не возмущался.
— О чем ты думаешь?
— Ни о чем…
— Я хочу пить.
— Хочешь, я принесу тебе кофе?
— Если тебя не затруднит…
Он спустился вниз в домашних туфлях, в рубахе, все еще расстегнутой на груди. Закусочная была закрыта. Пришлось выйти на улицу. Вдали, в конце ее виднелся клочок моря. Он направился к маленькому бару.
— Дайте мне, пожалуйста, кружечку кофе и чашку. Я сию минуту принесу их вам обратно.
— Вы из заведения Жерли?
Здесь к этому привыкли. У постояльцев папаши Жерли то и дело возникали в самый неурочный час всевозможные непредвиденные нужды, заставляющие искать помощи где-нибудь по соседству.
В корзинке на стойке бара лежали горячие свежие круассаны. Сонно глядя в окно, он съел один, запил его кофе, потом захватил несколько круассанов для Терезы, кружечку кофе, чашку и вдобавок сунул в карман два кусочка сахара.
Утренние люди, встречая его на улице, оглядывались, безошибочно узнавая в нем человека ночи. Мимо проехал трамвай.
Поднявшись к себе в мансарду, он сразу понял, что Тереза вставала. Уж не легла ли она впопыхах лишь тогда, когда услышала на лестнице его шаги?
И выглядела она как-то иначе, чем раньше. Казалась посвежевшей — подпудрила лицо, конфетно-розовым цветом подрумянила щеки, заново подкрасила тонкие губы. Теперь она сидела на кровати, подложив под спину подушку.
Она улыбалась ему бледной благодарной улыбкой, а он уже все понял. Поставил кофе и круассаны на стул так, чтобы она могла дотянуться.
— Ты добрый, — вздохнула она.
Добрым он не был. Она следила за ним глазами. Оба думали об одном и том же. Ей было страшно. Он выдвинул ящик ночного столика, но, как и ожидал, ампулы не обнаружил. Шприц лежал там, еще влажный.
Скроив умоляющую рожицу, она пролепетала:
— Не надо на меня сердиться…
Он не сердился. Даже не сердился на нее. А через минуту-другую, пока она пила кофе, он и пустую ампулу углядел, она поблескивала на скате кровли чуть ниже слухового окна.
9
Уехать из Ниццы оказалось так же просто, как ранее из Парижа. Без внутренней борьбы: можно сказать, что и здесь снова не было нужды принимать решение.
Около десяти часов господин Монд бесшумно закрыл за собой дверь, спустившись на четыре этажа вниз, постучался в номер Жюли. Барабанить пришлось несколько раз. Наконец сонный голос раздраженно спросил:
— Кто там?
— Это я.
Он слышал, как она, спрыгнув с кровати босиком, побежала открывать. Потом, даже не взглянув на него, с полузакрытыми глазами бросилась обратно, в тепло своей постели. Уже почти сквозь сон — по лицу было видно, каких усилий ей стоит не погрузиться в него снова, — спросила:
— Чего ты хочешь?
— Было бы хорошо, если бы ты немного побыла там, наверху. Мне необходимо выйти…
И Жюли, почти уже спящая, любезно пробормотала:
— Подожди минутку…
Он понимал, что сейчас впервые проник в ее интимный мирок, полный крепких вульгарных запахов. От постели так и несло жаром. Белье, как обычно, скомканное, валялось на коврике.
— Налей мне стакан воды…
Тот же стакан, где была зубная щетка, но ей на это наплевать. Вставая, она спросила протяжным, как во сне, голосом:
— Плохи дела?
— Да нет. Она спит. Но все же думаю, что лучше не оставлять ее одну.
— Как тебе угодно. Мне необходимо одеться?
— Не имеет значения.
Она не стала надевать ни чулок, ни панталон, никакого нижнего белья. Только куцее шерстяное платьице на голое тело да туфли на высоких каблуках на босу ногу, тем и ограничилась. Зато, склонясь над зеркальцем, напудрила лицо, чтобы не блестело, и чуток подмалевала губы. На скорую руку расчесала спутанные волосы.
— Сказать ей что-нибудь, если проснется?
— Скажи, что я вернусь.
Она, послушная и ленивая, потопала вверх по лестнице, а он сошел вниз, в закусочную, где хозяин корпел над счетами. В то утро он сбросил свой привычный невзрачный костюм человека ночи, а надел тот, не в пример более элегантный — фланелевые брюки, пиджак в клетку, — что Жюли заставила его купить еще в первый день.
Он попросил соединить его с Парижем и в ожидании звонка зашел в закусочную, где ее хозяин считал выручку.
— Вы уезжаете?
Тому, как и Жюли, это представлялось очевидным.
Телефонный разговор вышел долгим. Доктор Букар на другом конце провода непрерывно ахал и восклицал. Господин Монд, понимая, насколько тот ошарашен, несколько раз повторил ему каждое из своих распоряжений.
Потом он отправился в магазин, где купил костюм, который был на нем. Там он подыскал себе другой, построже, более в стиле «мсье Монд», и заручился обещанием, что его еще до вечера подгонят по фигуре.
Вернувшись в гостиницу, он застал обеих женщин по-свойски сидящими рядышком на одной кровати. При его появлении они разом замолчали. Смешно, но во взгляде Жюли теперь сквозило что-то вроде почтения, если не покорности.
— Я должна одеться? — чуть ли не весело осведомилась Тереза.
И прибавила, капризно надув губки:
— Почему бы нам не позавтракать втроем?
Сейчас это его уже ни к чему не обязывало. Он шел навстречу всем их фантазиям, включая выбор довольно шикарного ресторана, где обед слишком смахивал на пир. Временами он читал в глазах Терезы нарастающую тревогу, ее лицо нервически подергивалось. Наконец она спросила, не сдержав дрожи:
— У тебя есть?..
У него был. В кармане. Зайдя в кафе, он протянул ей ампулу; она, прекрасно зная, как распорядиться тем, что зажала в кулаке, тотчас схватила сумочку и устремилась к раковинам туалетной комнаты.
Жюли проводила ее глазами и произнесла убежденно:
— Она везучая.
— Гм!
— Знал бы ты, как она счастлива! Все, что она сегодня утром успела мне про тебя рассказать, это же…
Он не улыбнулся, не нахмурился. В гостинице «У папаши Жерли» его ожидал телеграфный перевод от доктора Букара. Снова оставив женщин вдвоем, он сходил к портному, затем на вокзал — забронировать места. Поезд отправлялся в восемь. Жюли на вокзале не знала, смеяться или плакать.
— Ну и странно же все это на меня действует! — говорила она. — Ты будешь меня иногда вспоминать?
Когда поезд отошел от перрона, господин Монд и Тереза поужинали в вагоне-ресторане, потом отправились в свое купе.
— Ты дашь мне сегодня на вечер еще одну, а?
Он вышел в коридор, чтобы не видеть этого ее жеста, который и без того представлял слишком ясно, — четкого, скупого, едва ли не профессионального жеста руки, вонзающей иглу в бедро. Он по-прежнему не доверял ей и потому предложил устроиться на верхней полке. Сам он уснул с трудом, спал плохо, с частыми внезапными пробуждениями.
Он был очень собран, голова работала отменно. Он все продумал, все предусмотрел. Перед отъездом даже предупредил полицейского инспектора, что увозит Терезу в Париж.
На следующее утро их ждал другой город, другой перрон. Доктор Букар махал рукой, стоя у края платформы.
Господин Монд и Тереза зашагали вдоль состава, их толкали, пассажиров прибыло много. Она не осмеливалась взять его под руку. Увидев, что кто-то пришел их встречать, она насторожилась.
— Я на минуту отойду, можно?
Переговариваясь с доктором, который был не в силах скрыть изумления, он краем глаза наблюдал за ней.
— Иди сюда, Тереза. Познакомься, это господин Букар, врач, один из моих хороших друзей.
Ее недоверчивость возросла. Он предложил:
— Давай сначала выберемся из толпы.
Когда выбрались, он подвел ее к такси, усадил. Следом сел в машину и доктор.
— До скорого. Ты можешь ему доверять. Он не собирается тебя везти туда, куда ты думаешь.
Когда такси отъехало, Тереза уже была готова драться и кричать о предательстве.
— Не бойтесь ничего, — сказал Букар, растерянный и смущенный. — Норберт позвонил мне и попросил снять для вас удобную квартиру. Мне повезло, я сразу нашел в Пасси подходящую. Вы будете там у себя дома. Совершенно свободны. Насколько понимаю, для вас приготовлено все необходимое…
На заострившемся лице Терезы выразилось удивление, к которому примешивалось что-то похожее на ярость.
— Он вам обещал что-то другое?
— Нет.
— Что же он вам говорил?
— Ничего… я не знаю…
Она кусала губы, злясь на себя, что оказалась такой дурой. Ведь всего несколько минут назад, в поезде, когда в воздухе уже запахло Парижем, она коснулась руки Монда, готовясь разразиться слезами благодарности, может быть, броситься к его ногам. Они стояли вдвоем в коридоре, и только появление какого-то пассажира помешало ей так поступить.
— Я идиотка и больше ничего! — процедила она презрительно. Ведь она думала, что он вернулся ради нее!
В десять часов господин Монд, не заезжая на улицу Баллю, подкатил на такси к Центральному рынку и уже пешком преодолел небольшое расстояние, отделявшее его от магазинов улицы Монторгёй. Утро выдалось пасмурное. А может, в Париже небо так ни разу и не прояснилось за то время, что он провел на юге? В отсутствие солнца все предметы виделись даже четче, обнаженнее. Их контуры выделялись как-то особенно резко.
Из арки выехал грузовик, и он посторонился, уступая ему дорогу. Вошел во двор под стеклянной кровлей, повернул налево, в кабинет, который занимал вдвоем с господином Лорисом. Того аж затрясло от волнения, и не сосчитать, сколько раз он вскричал:
— Мсье Норберт!.. Мсье Норберт!..
Он заикался от избытка чувств, потом вдруг сконфузился и представил патрону субъекта, сидевшего на его собственном месте, которого он поначалу не заметил:
— Господин Дюбордье… Администратор, которого банк нам при…
— Понимаю.
— Если бы вы знали, в какой ситуации…
Он слушал. Он смотрел. Все это, включая и Лориса, и администратора, мрачного, словно служитель похоронной конторы, казалось фотографией, которую передержали в проявителе. Господин Лорис был весьма удивлен, когда он посреди разговора, не дав ему договорить, вышел из комнаты и направился к другим кабинетам…
Последним в их ряду был тот, где он увидел сквозь застекленную дверь своего сына. Сын, подняв глаза, тоже увидел его, выпрямился и, раскрыв рот, бессильно застыл.
Едва успев открыть дверь, господин Монд увидел, как парень побледнел, зашатался и лишился чувств. Отец подбежал к нему в то мгновение, когда он уже распростерся на пыльном полу, колотя по нему руками.
Позже, за завтраком, двое служащих, свидетелей этой сцены, болтали с кладовщиком, один из них рассказывал не без осуждения:
— Он и пальцем о палец не ударил. Глазом не моргнул. Стоял и смотрел сверху вниз, ждал, когда парень в себя придет. Можно было подумать, что он не в духе, взъелся за что-то. Наконец мальчишка открыл глаза, встал, трясется весь, а патрон только чмокнул его в лоб и говорит: «Здравствуй, сын!» И это человек, который три месяца был неизвестно где, все его давно похоронили!
Однако именно с сыном, с ним одним господин Монд пошел завтракать в свой привычный ресторан возле рынка. Звонить на улицу Баллю он не стал. И господину Лорису запретил.
— Ты действительно поверил, что я никогда не вернусь? А как поживает твоя сестра?
— Я с ней иногда вижусь. Украдкой. Дела там совсем плохи. Они по уши в долгах, да еще с мамой судятся.
Ален то и дело отводил глаза, но у господина Монда создалось впечатление, что со временем он сумеет приручить своего мальчика. В какой-то момент его взгляд невольно остановился на декоративном платочке с кружевом, торчавшем из жилетного кармана. Молодой человек заметил это и покраснел. Через минуту он вышел в туалет, а когда вернулся, платочка уже не было.
— Я вообще-то не в курсе, но, по-моему, все передряги начались из-за сейфа…
— Однако у твоей матери был ключ.
— Похоже, этого оказалось недостаточно…
Не теряя времени, господин Монд принялся наводить порядок. В три часа он посетил директора банка. И только в пять вышел из такси перед маленьким особняком на улице Баллю. Консьержка сочла уместным издать восклицание. А он просто вернулся домой, и не как путешественник после долгой поездки, ведь при нем даже багажа не было. Позвонил и вошел, как делал каждый день на протяжении многих, многих лет.
— Мадам наверху?
— Она только что уехала, взяла машину. Я слышала, как она велела Жозефу отправляться к ее поверенному.
Ничто не изменилось. На лестнице он встретил горничную — ту, что принадлежала исключительно его жене. Она вздрогнула и чуть не выронила поднос, который держала в руках.
— Знаете что, Розали…
— Да, мсье?
— Я не хочу, чтобы вы звонили мадам.
— Но, мсье…
— Я сказал, чтобы вы не звонили. Это все!
— Поездка мсье была удачной?
— Великолепной.
— Мадам будет очень…
Не видя смысла слушать дальше, он пошел к себе в комнату, где с видимом удовольствием облачился в собственную одежду. Потом спустился в кабинет, свой старый кабинет с многоцветными стеклами, служивший и его отцу, и деду.
По видимости ничто не изменилось, но он хмурил брови. Искал, что его здесь задело. Ага, пепельница! На письменном столе ее больше не было, как и двух трубок, которые он курил только здесь, у себя, в этой комнате. На их месте он увидел очки своей жены. А еще на бюваре лежала папка с деловыми бумагами, которые были ему неизвестны.
Он позвонил, вызвал Розали и передал ей эти предметы:
— Отнесите это к мадам.
— Хорошо, мсье.
— Вы не знаете, где мои трубки?
— Думаю, их переложили в шкаф, тот, внизу.
— Благодарю.
Он вновь примерял эту комнату на себя, как примеряют новый костюм, или, вернее, как примериваются к самому себе, надев костюм, которого давно не носили. Но в зеркало он не взглянул ни разу. Наоборот, прислонился лбом к оконному стеклу в том же месте, где всегда, снова увидел тот же клочок тротуара, те же окна напротив. В одном из этих окон, на четвертом этаже, маленькая старушка, годами не выходившая из дому, пристально смотрела на него сквозь занавески.
Он только что закурил трубку, в воздухе поплыл дым, придавая комнате малую толику тепла и уюта, когда к дому подъехал его собственный автомобиль: звук мотора он бы ни с чем не спутал. Машина остановилась у подъезда. Скрипнула открываемая Жозефом дверца.
В этот самый момент зазвонил телефон. Господин Монд снял трубку:
— Алло! Да, это я. Как вы сказали? Обошлось почти благополучно? Бедная женщина! Я не думал…
Шаги на лестнице. Дверь распахнулась. Он увидел свою жену, стоящую в дверном проеме. А голос Букара все еще звучал у него в ушах.
— Ну да, она привыкнет… Нет. Не приду. Как? Зачем? Теперь, когда у нее есть все, что ей нужно…
Мадам Монд не шелохнулась. Спокойно смотрела на него, разглядывала маленькими черными глазами, которые стали менее жесткими: она, может статься, впервые в жизни испытывала некоторое замешательство.
— Пусть будет так. Завтра? До завтра, Поль. Спасибо. Ну да. Спасибо.
Он невозмутимо повесил трубку. Жена приблизилась. У нее так пересохло в горле, что голос стал придушенным:
— Вы вернулись… — выговорила она.
— Как видите.
— Если бы вы знали, сколько я выстрадала…
Она спросила себя, надлежит ли ей броситься ему на шею. Шмыгнула носом. А он просто легонько коснулся губами ее лба и на секунду ласково сжал ей обе руки.
Сомнения не было, она уже все заметила: и пепельницу, и обе трубки, и исчезновение очков и папки. А потому сочла своим долгом отметить:
— Вы все такой же.
Он отозвался с тем спокойствием, которое принес с собой и за которым угадывалась головокружительная пустота:
— Напротив.
И только. Ни слова больше. Он был защищен. Податливый, текучий, как сама жизнь, он растворился в ее потоке. Помолчав, господин Монд прибавил без иронии:
— Я узнал, что у вас возникли сложности с этим сейфом. Прошу меня простить. Я ни разу не удосужился вдуматься в ту формулировку, под которой столько раз подписывался: «Удостоверяю, что моя супруга…»
— Замолчите! — взмолилась она.
— Почему? Вы же видите, я жив. Наверное, надо зайти в полицейский комиссариат, объявить об этом, коль скоро вы, несомненно, сообщили о моем исчезновении…
Итак, он заговорил об этом первым, без малейших угрызений, без смущения. Правда, больше ничего не прибавил, не дал никаких объяснений.
Чуть ли не каждую неделю Жюли слала ему письма на фирменных бланках гостиницы папаши Жерли или «Монико». Рассказывала ему о господине Рене, о Шарлотте, обо всех, кого он знал. Он ей отвечал.
Букар, тот встречался с господином Мондом почти каждый вечер в «Сентра», все толковал о Терезе, которой так хочется повидаться с ним.
— Надо бы тебе сходить туда хоть разок.
— Зачем?
— Только подумай, она ведь вбила себе в голову, что это из-за нее ты…
— И что с того?
— Она теперь так разочарована…
— А…
Букар не настаивал. Может быть, потому, что его, как и прочих, завораживал этот человек, который распростился со всеми химерами. Потерявший свою тень.
Слишком она неотразима, эта холодная безмятежность, с какой он глядит вам в глаза.
Сен-Месмен, 1 апреля 1944 года
1
— Закрой окно! — простонал Эли, до подбородка натягивая на себя одеяло. — С ума ты сошла, что ли?
— Все здесь провоняло больным! — отозвалась Сильви. Белизна ее нагого тела выделялась на сизом фоне окна, перед которым она стояла. — Это ж надо столько поту напустить, как ты за эту ночь!
Он шмыгнул носом, съежился под одеялом, стараясь, чтобы его тощее тело стало как можно меньше, а женщина скользнула в тепло ярко освещенной ванной комнаты, повернула кран, и горячая струя, бурля, хлынула на дно ванны. Говорить что-то еще стало бесполезно — шум льющейся воды на несколько минут заглушил все прочие звуки. Широко раскрытыми глазами Эли смотрел то на окно, то на дверь ванной. От окна несло холодом, за ним сквозила коварная белизна. Люди, вставшие рано утром, наверняка видели, как падал снег. Но сейчас, в одиннадцать, пушистые хлопья уже не срывались с желтоватого небосвода, нависающего над самыми крышами Брюсселя. Фонари, вереницей тянущиеся вдоль проспекта Жардэн-Ботаник, еще не были потушены, как и лампы в витринах магазинов.
Со своего места Эли прекрасно видел черный, влажно блестящий проспект и трамваи, идущие друг за другом наподобие каравана верблюдов. Ботанический сад в белых пятнах упорно не тающего снега тоже был виден отсюда, а еще пруд, наполовину замерзший, с тремя лебедями, недвижными на темной поверхности оставшейся им воды.
— Ты что, вставать не собираешься?
— Я болен!
Болен или нет, а все-таки в «С пылу, с жару!» они проторчали до трех ночи. Правда, Эли уже давно настаивал, что пора уходить: у него от непрерывного сморкания распух нос. Насморк был скверный, дело, чего доброго, пахло гриппом или бронхитом. Он весь взмок, влажная кожа раздражала. В такие моменты смертный чувствует себя беззащитным во враждебной вселенной.
— Закрой окно, Сильви.
Она аккуратно завернула краны, потом прошлась по комнате. Зеркало в ванной запотело от пара.
— А, небось, Ван дер Хмыр все еще дрыхнет! Это ж просто умора, что он тоже остановился в «Паласе», да еще под самым боком у нас! Ты не находишь?
Нет, в настоящий момент Эли Нажеар был не расположен находить уморительным что бы то ни было. Он проворчал:
— Я знаю, это из-за него ты меня вынудила проваландаться на ногах до трех ночи!
— Недоумок!
Тем не менее все так и было, но что толку спорить? В «С пылу, с жару!» уже и не было почти никого, кроме наемных танцовщиц, сидевших за столиками над пустыми бокалами. Оркестр и тот колебался, стоит ли усердствовать попусту. Сильви зевала. Но тут заявился этот голландец-толстосум в компании двух брюссельцев — сопровождающих лиц, — и все завертелось исключительно вокруг них.
Голландцу вздумалось поразвлечься. Он хохотал звонко, почти по-детски. Через несколько минут четыре женщины уже сидели за его столиком. Там пили шампанское, курили изысканные сигареты и гаванские сигары.
Сильви, стоя в баре рядом с Эли, глаз не сводила с этой шумной группы.
— Если ты разболелся, иди спать!
Ревнивцем он не был. И все же остался, может быть, просто чтобы ее позлить.
— Что, этот Ван дер Хмыр тебя впечатляет?
Прозвищем голландца наградила сама Сильви, так-то вот. Ее бесило, что другие бабы так смачно кутят с ним в то время, когда ей приходится тянуть джин-физ. Она находила, что они уродины.
— Хватит, пошли!
И вот, когда они пересекали вестибюль «Паласа», направляясь к себе в номер, они увидели, что Ван дер Хмыр тоже возвращается к себе. Женщины даже не сумели его удержать! Один спать пошел! Притом в лифте поглядывал на Сильви с лестным удивлением.
А ей приходится ложиться в постель с Эли Нажеаром, который потеет, разгуливает с распухшим носом и красными глазами, да и нет у него уже ни гроша!
— Уходишь? Что ты собираешься там делать в такой час?
— Сама не знаю, — обронила она, натягивая чулки. — Как бы то ни было, ты должен дать мне денег.
— У меня их нет!
По-настоящему освещенной до сих пор оставалась только ванная, а спальню словно бы заполнила туча серой пыли. Черными подвязками пристегнув чулки к поясу, Сильви повернула выключатель, и картина, что вырисовывалась в оконной раме, подернулась туманом, он едва мог различить ее контуры.
Зато апартаменты разом стали шикарными. На туалетном столике между двумя торшерами с розовыми шелковыми абажурами сверкали закупоренные флаконы туалетного набора. Голые груди Сильви исчезли под тонкой сорочкой.
— У тебя есть еще несколько сот франков.
— Тебе остается только продать свой золотой слиток, — пробубнил он, сморкаясь.
Прикосновение носового платка к воспаленной коже было так болезненно, что сморкаться приходилось с величайшими предосторожностями.
— Ты воображаешь, что я с ним расстанусь?
Да ничего он не воображал. У него больше не было никакого воображения. Пот так и лил с него. Его постель пропахла потом. Пижама липла к коже, от света болели глаза.
Сильви он повстречал две недели назад на борту «Теофиля Готье». Она возвращалась из Каира, где ей пришлось работать наемной танцовщицей в каких-то кабаре. А он плыл из Стамбула в Брюссель, где хотел попытаться провернуть дело с коврами: речь шла о распродаже миллиона ковров, арестованных таможней.
Ковры принадлежали не ему. Это дело тянулось месяцами. Им занимались два десятка посредников в стамбульском квартале Пера, в Афинах и даже в Париже, оно до того запуталось, что никто уже не знал в точности, кому принадлежит товар и какова доля каждого участника предприятия.
Эли Нажеар, имея связи в Брюсселе, ввязался в игру и был так убедителен, что получил аванс под будущие комиссионные.
Все было яснее ясного: если он продаст ковры, ему причитаются двести тысяч франков!
Сильви путешествовала вторым классом. С первого дня мужчины вились вокруг нее — четверо, если не пятеро ретивых поклонников. Вечерами она регулярно красовалась на палубе, задерживаясь там до двух-трех часов ночи.
Кто доплатил за ее каюту в первом классе? Во всяком случае не Нажеар, он в то время еще не сошелся с нею. Успеха он добился, когда прибыли в Неаполь, там она призналась ему, что у нее билет только до этого порта.
Он оплатил ей путь от Неаполя до Марселя. Повез ее в Париж, потом в Брюссель. Здесь они провели три дня, за это время стало очевидно, что затея с коврами безнадежна. Сверх того Эли расхворался, а в кошельке у него оставалось меньше тысячи франков. Прикрываясь одеялом, он исподтишка смотрел, как женщина размазывает по губам яркую помаду.
— Все-таки не пойму, что ты собираешься делать в городе в такое время дня?
— Тебя не касается.
— Небось, задумала поохотиться на Ван дер Хмыра!
— Почему бы и нет?
Он был не ревнив. На пароходе, правда, ревновал, но там он оказался одним из мужчин, осаждавших Сильви, все пассажиры были в курсе событий, а когда час за часом каждый твой шаг на виду…
Теперь он даже слишком хорошо изучил ее. Он видел ее в постели по утрам, когда веснушки у нее под глазами проступали особенно заметно, оттеняя все то плебейское, что таилось в ее плотском существе.
— Дай мне денег, — сказала она, одергивая узкое платье, не в меру плотно облегающее ягодицы.
Он не шелохнулся даже тогда, когда она вытащила кошелек из кармана его пиджака. Видел, как она отсчитывала четыре, пять, шесть стофранковых купюр и совала их к себе в сумочку. Трамваи с большими зажженными фарами без передышки сновали взад-вперед по проспекту Жардэн-Ботаник.
— Хочешь, я скажу, чтобы тебе принесли чего-нибудь поесть?
Обернулась к нему, подождала, протянула удивленно:
— Ну и пожалуйста! Не желаешь отвечать? Дурак!
Нет, отвечать он не собирался! Молча смотрел на нее одним глазом, и ей стало не по себе от того, что она не знает, о чем он думает.
— До вечера…
Он не двигался. Она набросила на плечи меховое манто.
— Ты не хочешь сказать мне «до свиданья»?
Она потушила в ванной свет, отыскала свои перчатки, бросила взгляд на унылую панораму Ботанического сада. Пожала плечами:
— Что ж, тем хуже!
Ведь и он уже не тот! На «Теофиле Готье» он выглядел молодым, элегантным. Это был парень тридцати пяти лет, очень тонкий, черноволосый, только нос был малость великоват.
— Ты турок?
— Португалец. По происхождению.
Он был остроумен или, вернее, отличался скептицизмом достаточно эффектного сорта. Когда Сильви сказала ему, что была танцовщицей, он поинтересовался, в каком из кабаре Каира она работала.
— В «Табарене»!
— Тысяча франков в месяц плюс процентная надбавка за шампанское, заказанное клиентом, — заявил он.
И ведь как точно! Да, он знал Каир. Он знал и Бухарест, где она два месяца проработала в «Максиме». Он болтал с нею о людях, с которыми она там кутила.
— Ты богатый?
— В Брюсселе меня ждут двести тысяч франков.
Как бы не так! Всему пришел конец! Он стал больным! Занудным! Уродливым!
— До вечера…
Свои вещи она оставила в номере. Проходя мимо двери Ван дер Хмыра, она мельком глянула на нее и приметила кипу голландских газет, торчавшую из переполненного почтового ящика.
Эли совсем не думал о ней. Смотрел на потолок, потом в окно, потом на потушенные лампы. Хотелось высморкаться, но он не решился, так это выходило больно. Он чувствовал, как капли пота медленно проступают сквозь кожу, стекают по телу.
— Мне бы машину, — сказала она портье.
— Такси?
— Нужно съездить в Шарлеруа.
— В таком случае я вам предложу большой наемный автомобиль.
Вестибюль тоже был ярко освещен. Сильви ждала, неторопливо прохаживаясь мимо витрин в медных рамах. Вскоре подкатило старомодное авто, за рулем которого восседал шофер в ливрее.
— Сначала в Бон-Марше.
В магазине низких цен горели матированные лампы. Ни день, ни ночь — этот Бон-Марше словно выпал из времени. Шарнирные двери, вращаясь, впускали холодный воздух. Продавщицы носили под платьем шерстяные трико.
Что именно она ищет, Сильви и сама не знала. Купила голубые кожаные домашние тапочки, свитер, пару трубок, чулки из искусственного шелка и сумочку. Корчила из себя важную даму, томно драпировалась в меховое манто.
— Это подарки, — объяснила она продавщице, которая последовала вслед за ней к автомобилю, неся пакеты.
Машина выехала из города и покатила к Шарлеруа через лес, где снег лежал и не таял. Стекла помутнели, Сильви протирала их ладонью, ей хотелось видеть пейзаж, особенно когда показались первые шахты угледобычи и шахтерские поселки.
Как только въехали в город, она раскрыла сумочку и подправила макияж. Потом скомандовала:
— Поверните налево. Еще раз налево. Теперь через мост. Дальше вдоль трамвайной линии…
На склонах огромных черных конусов каменноугольных шахт еще оставались снежные полосы, это смахивало на экзему. Машина ехала по нескончаемой улице, за окнами тянулись два ряда двухэтажных одинаковых домов из коричневого кирпича, от времени ставшего черным. Порой по протянутым над шоссе тросам проплывали вагонетки. Один раз, когда по пересекающей дорогу колее проходил маленький состав, она увидела работника, махавшего красным флажком.
Уже не город, но еще не сельская местность. Вот между двумя домами открылся просвет, что-то вроде пустыря, но то был не пустырь, а угольная шахта. Вокруг простирались нескончаемые индустриальные задворки. Слышалось пыхтение машинных моторов.
— Остановитесь напротив 53-го номера.
Дом ничем не отличался от всех прочих. На окне первого этажа очень белые занавески обрамляли медный вазон, из которого торчало зеленое растение. Шофер хотел позвонить в дверь.
— Нет! Возьмите пакеты…
Сильви потеребила почтовый ящик, используя его в качестве дверного молотка, и прильнула глазом к замочной скважине. Дверь открылась. Женщина лет сорока уставилась на посетительницу, а сама все вытирала мокрые руки своим голубым передником.
— Мама, ты меня не узнаешь?
Сильви обняла ее. Мать не воспротивилась, но казалась скорее очумевшей, чем растроганной. Глянула на шофера:
— А это еще что такое?
Застекленная дверь кухни дальше по коридору оставалась открытой. Там у кухонной плиты, грея подле нее ноги, сидел молодой человек с книгой на коленях.
— Это господин Моисей, — сказала мать.
И, словно бы запнувшись в колебании, представила:
— А это моя дочь, вот, из Египта вернулась… Ты ведь там жила в последнее время, в Египте, верно?
Но господин Моисей уже вскочил и рысцой устремился на второй этаж.
— А ты по-прежнему сдаешь меблированные комнаты?
— Как бы мы, по-твоему, жили, если бы не это?
На огне стояла громадная суповая кастрюля, рядом — кофейник, который всегда был полон. Сильви сбросила свое манто на стул матери, и та исподтишка пощупала мех.
— Несколько маленьких подарков. Дайте-ка их сюда, Жан. Поезжайте в город, позавтракайте, потом заедете за мной.
— Почему ты велела шоферу вернуться?
— Мне придется уехать.
— А… Ладно.
Мадам Барон налила дочери чашку кофе, машинально, как делала всегда, кто бы ни зашел. Она была в своей рабочей затрапезной одежде: старое темное платье, фартук из голубенькой ткани. Сильви стала распаковывать подарки, вытащила домашние туфли:
— Как они тебе? Нравятся?
Едва взглянув, мать буркнула:
— По-твоему, я должна теперь вырядиться, как на карнавал?
— А где Антуанетта?
— В комнатах убирается.
Как бы не так! Антуанетта уже спускалась по лестнице с ведром и тряпкой, она молча оглядела сестру, потом закричала:
— О-го-го!
— Что?
— Я сказала «о-го-го!» Ну ты и расфуфырилась!
Они сдержанно обнялись. Антуанетта покосилась на голубые домашние туфли:
— Это мне?
— Ну, если мама не хочет… Тебе я чулки привезла, комбинацию…
Свои пакеты Сильви развязывала без особого энтузиазма. Из одного выпала на пол пенковая трубка и дала трещину.
— А папа придет?
— Не раньше вечера. Его поезд сейчас идет сюда из Остенде. Надеюсь, ты его дождешься?
— Не сегодня. Я приеду еще.
Мать недоверчиво приглядывалась к ней. Сестра, присев на стул и задрав юбку так высоко, что обнажились тощие бедра, примеряла новые чулки. Пахло супом. Вода с монотонным бульканьем клокотала в кастрюле — огонь разгорелся на славу, тяга хорошая.
— Комнаты все заняты?
— Объявление висит, ты разве не прочла? Одна сдается, на первом этаже, она у нас, понятное дело, самая дорогая. Да только приезжие по нынешним временам совсем без гроша. Видела господина Моисея? Он приходит заниматься на кухню, чтобы сэкономить на отоплении! Антуанетта, накрывай на стол. Перекусим, пока постояльцы не вернулись…
— Ты их все еще берешь на полное довольствие?
— Двое из них к полудню придут сюда обедать. А если нет, просят у меня потом горячей воды для кофе или чтобы сварить яйца, едят у себя в комнате, только грязь разводят.
Мадам Барон была приземистой, на коротеньких ножках. Антуанетта — девушка с неправильными чертами лица и светлыми, вечно смеющимися глазами — ростом также уступала сестре, но и станом была тоньше.
— Ты теперь тоже наводишь макияж? — заметила Сильви.
— Почему тебе можно, а мне нет?
— Тебе это не к лицу. В твои годы…
— Можно подумать, ты не красилась в моем возрасте!
Мать отодвинула кастрюлю с супом на край плиты. Было жарко. В окне виднелся тесный дворик. На крыше дома таял снег, стекая с карниза большими прозрачными каплями.
В Брюсселе портье «Паласа» взял телефонную трубку, для вящей слышимости приставив к уху ладонь, и деликатным голосом оповестил:
— Алло! Мсье Ван дер Крэйзен, здесь внизу господин Бланки, он желает поговорить с вами. Пропустить? Вам угодно подняться, мсье? Пятый этаж, номер 413.
В конце концов Эли вылез из кровати с измочаленными влажным простынями, замотал шею шарфом, сунул ноги в шлепанцы, хотя не знал, что делать и куда себя девать. Из-за стены послышался голос, в соседнем номере кто-то говорил по телефону. Эли подошел к окну, постоял, глядя на серый грязный город, на пруд Ботанического сада и скучающих лебедей, послушал шум трамваев и машин, который отдавался в его опустевшей голове.
— Войдите!
Это там, за стеной. Между двумя номерами, когда-то составлявшими один, имелась дверь, запертая на ключ. Голос оттуда доносился так же ясно, как назойливое бренчанье трамваев.
— Как идут дела? Я задержался, пришлось зайти в банк…
Эли слышал, не слушая. Его бросало то в жар, то в холод. Хотел было принять ванну, но не рискнул.
— Вы не раздумали ехать сегодня ночью?
— Еду. Последним поездом на Париж. Что будете пить? Портвейн?
Голос отдал распоряжение: в номере имелся телефон прямой связи с сомелье.
Когда стало тихо, Эли в свой черед позвонил сомелье и заказал грог. Увидев себя в зеркале, сам удивился, как он уродлив. Ну, правда, он сегодня не побрился, к тому же сиреневый шарф вокруг шеи подчеркивал недостатки его наружности.
— Я взял французскими купюрами, как вы советовали…
Эли наклонился и заглянул в замочную скважину. Увидел маленького человечка, с виду похожего на бухгалтера. Тот выкладывал на стол гостиной банковые билеты — десять пачек.
— Пересчитайте.
Господин Ван дер Хмыр в черном шелковом халате и алых кожаных туфлях быстро вскрывал пачки одну за другой с ловкостью человека, привыкшего иметь дело с банкнотами. Затем открыл портфель из свиной кожи и затолкал деньги туда.
— Войдите!
Это явился сомелье, принес две бутылки — портвейна и рома. Ром был предназначен для Эли. Сообразив это, он отступил на три шага от двери и в свою очередь произнес:
— Войдите!
У мамаши Барон все приступили к завтраку, но сама хозяйка за стол не села: оставалась на ногах, словно что-то ее насторожило, и обслуживала своих дочек и двух только что подоспевших постояльцев. Новопришедшие, господа Домб и Валеско, с любопытством поглядывали на Сильви. Она же только посмеивалась над их удивлением и насупленной миной Антуанетты.
— Вы знаете Бухарест? — спросил Плутарх Валеско. Он был из Румынии.
— Не хуже вашего! Даже знакома почти со всеми тамошними министрами.
— Красивые там места, не правда ли?
— Может, и так, но люди там сплошь голодранцы…
Присев на ручку кресла, Эли пил из ложечки свой обжигающий грог и смотрел на проспект Жардэн-Ботаник, запруженный полуденной толпой. С желтого неба снова посыпался мелкий снежок.
— До свиданья. Добрый путь!
— Благодарю вас. До среды.
И в ванной комнате господина Ван дер Хмыра послышался шум льющейся воды.
Стемнело в тот день еще до половины четвертого. Темнота застала Эли лежащим на кровати. Он глядел в потолок, по которому метались отблески уличных огней.
В четыре портье видел, как он прошел мимо, и заметил, что постоялец небрит. Может быть, он даже чистой рубашки не надел, уж очень казался надломленным.
— Если придет мадам, что ей передать?
— Ничего. Я вернусь…
У него были воспаленные скулы, как у туберкулезника.
Автомобиль катил по дороге, его фары выхватывали из темноты уходящую вдаль полосу мокрого асфальта. Стекло между задним сиденьем и кабиной водителя было опущено.
— Я родился поблизости, в городке Марсинель, — объяснил шофер. — Ну, и воспользовался этим, чтобы брата повидать. Думал, вам не к спеху.
— Чем он занимается?
— Не бог весть что за работенка. Служащий в конторе газового завода.
Въехали в Брюссель. Миновали несколько освещенных кафе. Огибали «островки безопасности», где поблескивали впотьмах каски полицейских агентов.
— Мсье только что ушел, — сказал портье, когда Сильви направилась к лифту.
— Вот как? И ничего не сказал?
Когда он и к восьми не вернулся, она спустилась в гриль-бар и уселась за столик через два стола от Ван дер Хмыра. Заказала только салат из омара и, пока ела его, раз десять чувствовала на себе изучающий взгляд голландца. Но когда она вышла из бара и стала бродить по вестибюлю, переходя от одной витрины к другой, он за ней не последовал.
Она поднялась к себе. Чуть погодя услышала, как он запирал свои чемоданы и давал распоряжения коридорному:
— Нет, не спальный вагон. Там уже все занято. Спальное место в первом классе. Мне нужно одно по ходу поезда.
Она переоделась, тяжело вздыхая. Чувствовала себя усталой, чего доброго, и подавленной. Эли все не шел. Она пересчитала монеты, оставшиеся в сумочке: сто пятнадцать франков.
Сама не зная, куда собирается пойти, она направилась к лифту. Внизу приостановилась, передавая ключ портье.
— Жаль, что он должен уехать! — сказал ей портье так доверительно, будто они были старинными друзьями.
— Почему?
— Он спрашивал у меня, кто вы такая. Вы произвели на него большое впечатление. Но Эли ему не понравился.
Пожав плечами, она протянула ему сигарету — ждала, что он подаст ей огонька. В этот момент из лифта вышел Ван дер Хмыр. Поколебался секунду, приблизился к портье и сказал молодой женщине:
— Разрешите?
— Вы уже уезжаете? — спросил шофер в ливрее.
— Иначе никак нельзя.
Эти слова он произнес, глядя на Сильви. И одновременно протянул консьержу смятые в кулаке купюры:
— До свиданья. На той неделе вернусь.
Он прошел несколько шагов, опять помедлил в колебании, оглянулся, затем пожал плечами и направился к шарнирной двери.
— Это один из крупных амстердамских финансистов, — сказал портье Сильви. — Приезжает сюда каждую среду. Если на будущей неделе он вас еще застанет…
Похлопав ресницами, она вздохнула:
— Когда господин Эли вернется, скажите ему, что я в «С пылу, с жару!»… Нет, лучше ничего не говорите. Будет знать, как оставлять меня одну… Посыльный! Такси…
Снег валил с неба крупными хлопьями, они таяли, едва коснувшись асфальта. Раздавались гудки поездов: платформы Северного вокзала находились всего в сотне метров.
2
На углу улицы Нёв, перед витриной табачного магазина, среди толчеи вокруг парнишки, торгующего билетами вещевой лотереи, — вот где Эли, словно во внезапном озарении, постиг, какой путь он проделал с тех пор, как покинул Стамбул. Витрины чуть не лопались от избытка товаров, и среди прочих громоздящихся один на другой упаковочных коробов он приметил белые с надписью «Абдулла».
Так вот, в Стамбуле, на большой улице в квартале Пера находился модный ресторан с тем же названием. Накануне отъезда Эли ужинал там с друзьями. В «Абдулле» он знал всех завсегдатаев. Пожимал руки, переходя от стола к столу:
— Завтра я уезжаю!
— Счастливчик!
И надо же! Стоя здесь, на улице Нёв, засунув руки в карманы и пряча подбородок в воротник пальто, он не мог даже вспомнить по-настоящему ни Турцию, ни «Абдуллу».
Было легче легкого вспомнить это умом, теоретически. Но речь-то совсем о другом. Зачем, черт возьми, он уехал? Ведь знал же, что афера с коврами сорвется. А метался среди людей, всем трубил, словно о победе:
— Отплываю в Марсель!
Эту новую мысль он пережевывал, шагая по длинной улице, многолюдной в этот час, когда целые толпы неспешно прогуливаются здесь. Иной реальности не существовало — только этот снег, что грязной склизкой массой скапливался на тротуаре, стужа, лихорадка, боль в воспаленном носу и пронзительная усталость, засевшая где-то между лопатками.
— Дайте мне пачку турецких сигарет, — сказал он торговцу.
Голубой язычок газовой зажигалки заплясал перед его глазами. Торговец был жирный и багровый. За стеклом витрины мелькали темные силуэты прохожих.
— Сигареты не турецкие, — сказал он, взглянув на пачку.
— Это египетские. Они еще лучше.
— Египетского табака не существует.
— Так-таки не существует? Ну, знаете…
— В Египте нет своего табака, — втолковывал он сопящему от негодования толстяку. — Египтяне импортируют его из Турции и Болгарии.
Он и сам не понимал, чего ради заговорил об этом. Пошел дальше по улице Нёв, смешался с толпой, брел куда-то без цели, останавливался перед витринами, особенно теми, где были зеркала, — его снова и снова тянуло посмотреть на себя.
На нем были пальто из верблюжьей шерсти, шляпа из добротного сукна, ловко скроенный костюм.
Почему же он вдруг стал смахивать на какого-то отверженного? Из-за двухдневной щетины? Или потому, что лицо распухло от насморка?
Так или иначе, он сам себе казался жалким и неприглядным. Кто-то походя толкнул его. Он застонал, будто от удара.
Ему был нужен ювелирный магазин. Однако он миновал три таких, зашел только в четвертый. И выложил на стойку кусочек золота размером с лесной орех. Это и был слиток Сильви. Она два года таскала его с собой повсюду на случай, если окажется без гроша в чужом городе.
Ювелир дал за него тысячу триста бельгийских франков, и Эли снова оказался на улице. Ему предстоял долгий путь, не один час пешего хода.
О днях, прошедших на борту парохода, он не вспоминал. По крайней мере можно сказать, что они вспоминались ему как нечто, пережитое в ином измерении или, точнее, случившееся с кем-то другим.
Теперь же не было ничего, кроме Брюсселя, холода, насморка, этих узких тротуаров, с которых надо то и дело сходить, чтобы кого-нибудь не толкнуть, витрин, перегруженных съестными припасами — при одном их виде его мутило, — и этих кафе с мертвенно-белыми мраморными столиками.
Он не думал: «Сейчас я сделаю то-то! А затем то-то!»
Тем не менее он чувствовал, что предпримет одну вещь, и догадывался какую. Он был раздражен. Это озлобление уже проявилось в истории с сигаретами. А теперь дало о себе знать в связи с грогом.
Он вошел в закусочную на площади Брукер. Помещение напоминало вокзальный вестибюль. В центре возвышался пивной бокал высотой метров шесть-семь, над которым непрерывно вздымалась шапка молочно-белой пены, а вокруг за столиками сидели человек двести, если не триста посетителей. Играла музыка. Бокалы и кружки сталкивались, звеня. Рысцой пробегали официанты.
— Один грог! — скомандовал Эли.
— Грог у нас не с ромом, а с вином.
— И это вы называете грогом?
— К тому же спиртное запрещено продавать в розницу в количествах менее двух литров.
— Так продайте мне два литра.
— Это можно купить только в кафе.
— А, подите вы к черту!
В этом зале, освещенном резким слепящим светом, он не знал, куда приткнуться, как себя держать. Его кулак сжимался в кармане, будто рука вцеплялась во что-то. На бульваре Адольфа Макса он остановился перед витриной, где были выставлены инструменты, начищенные до блеска, будто украшения. Вошел в магазин и без колебаний заявил:
— Мне нужен разводной ключ.
Выбрал какой покрепче, взвесил на руке, будто собрался воспользоваться им как молотком. Это был разводной ключ американского производства ценой шестьдесят два франка.
В своем пальто он взмок от пота. И вместе с тем его трясло от холода! С голодом та же история: хотелось есть, но стоило приблизиться к колбасной лавке или ресторану, как к горлу подкатывало отвращение.
— Опубликован список победителей большой вещевой лотереи, состоявшейся…
Уличная толпа в своем безостановочном круговом движении казалась ему стадом, которое заблудилось и суетится без толку. Он зашел в вестибюль кинотеатра, поглазел на фотографии артистов. Одна из звезд приезжала в Стамбул, он тогда был в стайке молодых людей, сопровождавших ее в вечерней прогулке по городу. Но и это воспоминание уже утратило реальность.
Он знал, в котором часу отходит поезд. Тем не менее зашел на вокзал и проверил: отправление 0 часов 33 минуты.
К полуночи вокзал, опустевший, тускло освещенный, поступил в распоряжение уборщиков.
— Первый класс, Париж, — сказал он.
— Обратный?
Как он мог не подумать об этом заранее? Это его потрясло.
— Да-да, обратный!
Он остановился перед тележкой женщины, сдающей напрокат постельные принадлежности. Взял две подушки и одеяло. Пассажиров на платформе собралось не больше десятка. Вокзал погрузился в безмолвие. На железнодорожных путях среди мешанины зеленых, красных, желтых огней совсем близко маневрировал паровоз. По залу ожидания бродили сквозняки.
В вагоне он приметил посыльного из «Паласа», тот сторожил место. Он вошел в то же купе, занял место напротив.
Он был абсолютно спокоен.
Войдя, господин Ван дер Хмыр взглянул на Эли и, без сомнения, узнал молодого человека, которого видел в «С пылу, с жару!». Но не придал этому абсолютно никакого значения!
В купе имелось четыре лежачих места, два наверху, два внизу, но пассажиров было всего двое, верхние места остались незанятыми. То, что поезд шел на сей раз чуть ли не пустой, было чистой случайностью, но Эли этому не удивился. Как будто предвидел все заранее.
Господин Ван дер Хмыр начал с того, что подсунул портфель из свиной кожи под подушку. Затем раскрыл плоский чемодан, достал оттуда шерстяную пижамную куртку цвета морской волны, дорожные шлепанцы и бутылку минеральной воды из местной водолечебницы.
Это был мужчина рослый и довольно толстый, его красное лицо обрамляли светлые редеющие волосы.
— Ваши билеты, господа, если позволите.
Поезд тронулся. Ван дер Хмыр показал свой билет. Кондуктор заметил:
— Значит, в спальном мест не осталось?
Они были знакомы, служащий говорил с ним по-свойски, хоть и почтительно. А на Эли едва взглянул, пробивая дырку в его картонном билетике.
— Доброй ночи, господа…
И, прежде чем удалиться, задернул голубые занавески. Ван дер Хмыр в пижамной куртке и шлепанцах пошел в туалет, но портфель из свиной кожи прихватил с собой. Вернувшись, лег, спокойно отпил воды из бутылки, прополоскал ею рот, потом проглотил и поставил бутылку на столик на расстоянии вытянутой руки.
Затем, бросив последний взгляд на Эли, который лег не раздеваясь, он притушил лампу. Поезд мчался. Система парового отопления сверх меры прогревала купе, куда через невидимые щели уже проникали тоненькие струйки ледяного воздуха.
Правой рукой Эли сжимал в кармане разводной ключ, но при этом он по сути ни о чем не думал. Прикрыв глаза, смотрел на голубую лампу-ночник, в театральном сиянии которой все в купе обретало странные очертания.
Шум поезда стал равномерным, его ритмичная музыка была так полнозвучна, что напоминала даже не игру оркестра, а мессу на церковном органе.
Ван дер Хмыр лежал с открытым ртом, из которого вырывалось ровное сонное дыхание, его розовая, полная рука с квадратными ногтями свесилась, на ней были обручальное кольцо и перстень с печаткой.
Эли видел обручальное кольцо. Оно не произвело на него никакого впечатления. Он закрыл глаза, поддернул повыше ворот своего пальто из верблюжьей шерсти и принялся потеть.
Поезд уже тормозил. Люди забегали. Сквозь занавески брезжили огни. Среди громких голосов можно было расслышать слово «Монс».
Запыхавшаяся женщина ворвалась в соседнее купе, было слышно, как она с трудом заталкивала свои пожитки в багажную сетку.
Эли проснулся, когда дверь с шумом распахнулась и прозвучал голос:
— Граница! Паспорта, удостоверения личности…
Ван дер Хмыр, приподнявшись на локте, протянул удостоверение, оно было у него наготове.
— Большое спасибо.
Эли показал свой паспорт, служитель рассеянно пролистнул его.
— Спасибо…
Поезд покатил дальше, снова остановился, кто-то прокричал:
— Феньи! Пассажиры, следующие до…
— Французская таможня. С вами нет ничего, подлежащего декларации?
Румянец Ван дер Хмыра слегка поблек. В открытую дверь ворвался холодный сквозняк, мешаясь с перегретым воздухом купе. Сон еще не совсем рассеялся, глаза слипались.
Однако он все же протянул таможеннику кожаный футляр с полудюжиной дорогих голландских сигар.
— Хорошо. Больше ничего? А здесь, в чемодане?
— Предметы обихода.
Эли, у которого не было багажа, показал таможеннику свою пачку сигарет, и тот вышел, закрыв за собой дверь.
На перроне гомонила толпа. Бормотанье голосов, шаги, выкрики сливались воедино. Какая-то очумевшая женщина спрашивала:
— Поезд не отойдет прямо сейчас?
— Без двадцати пяти минут. Как в расписании.
Эли снова улегся, переключив лампу в режим ночника. Сон Ван дер Хмыра стал беспокойнее. Раза два или три он перевернулся с боку на бок. Но когда состав приблизился к Парижу, он снова подложил под подушку свой портфель и храп опять раздался из его глотки.
Глаза Эли оставались открытыми. Ладони у него так вспотели, что пальцы липли к металлу разводного ключа. Он неотрывно смотрел на голубую лампочку, ее нити накаливания просвечивали сквозь стекло.
На поворотах его тело всей тяжестью наваливалось на перегородку, в то время как его сосед, казалось, напротив, вот-вот свалится на пол.
Он распахнул ворот своего пальто, но холодный воздух, скользнув по разгоряченному затылку, вынудил его снова запахнуться.
— Сен-Кантен! Сен-Кантен! Пассажиры, следующие до Компьеня, Парижа…
Он тихонько выскользнул из купе. В коридоре его обдало ледяным холодом. Оконное стекло было опущено. Снаружи во мраке скоплением огней обозначился незримый город.
«Здесь снега нет», — отметил Эли.
Он прошел по коридору из конца в конец. Занавески во всех купе были задернуты. Он зашел в туалет, посмотрелся в зеркало. Пытался помочиться, но не смог, наверняка оттого, что слишком нервничал.
Когда он снова занял свое место, поезд уже тронулся, Ван дер Хмыр храпел, положив под голову портфель из свиной кожи, и тот временами чуть потрескивал под ее тяжестью.
Эли закурил сигарету. Вспышка большой «охотничьей» спички не заставила его соседа хотя бы поморщиться во сне.
Не скажешь, что он решился в какой-то определенный момент. Нет! Он сделал несколько затяжек, выпуская большие клубы. У сигаретного дыма был особый вкус, знакомый — когда куришь при насморке, дым всегда кажется таким. Эли бросил быстрый взгляд на занавески, отделяющие купе от коридора.
Разводной ключ нагрелся до температуры его тела. Поезд на всех парах несся по сельской местности. Привстав, но не полностью, а так, что его ягодицы еще касались края сиденья, Эли поднял свое орудие, подержал секунду в воздухе, чтобы получше примериться, и ударил в череп, в самую середку, так сильно, как только мог.
То, что за этим последовало, было так неожиданно, что он едва не разразился истерическим смехом. Веки Ван дер Хмыра медленно раскрылись. Он увидел глаза. Это был удивленный взгляд, пронизавший голубой полумрак купе, просто взгляд человека, не понимающего, зачем его разбудили. А в это время струя крови, протекая сквозь волосы, уже хлынула ему на лоб!
Он попытался двинуться, оглядеться, понять, что происходит. Эли ударил снова, два раза, три раза, десять раз, взбешенный этими дурацкими спокойными глазами, что продолжали смотреть на него.
Если он остановился, то лишь потому, что выбился из сил, просто не мог больше. Разводной ключ выскользнул из его мокрых пальцев. Он сел, пытаясь отдышаться, оглянулся на зеркало. И одновременно навострил уши, всем напряжением нервов пытаясь разрешить вопрос, слышно ли еще в купе чье-то дыхание, кроме его собственного. Он надеялся, что нет. Невмоготу было начинать заново. И запястье разболелось.
Не глядя на безжизненное тело, он опустил штору, потом оконное стекло. Заметил, что если в Сан-Кантене и не было снега, здесь, в полях, все белым-бело, насколько охватывал взгляд, а небо до того ясное, будто ледяное.
Пальто сковывало движения. Он сбросил его. Затем, избегая всматриваться, попытался поднять Ван дер Хмыра. Замысел состоял в том, чтобы выкинуть его из окна на щебень обочины. Он трижды брался, силился; если бы тело было прямым, он бы справился, но наперекор ожиданиям оно оказалось мягким, складывалось вдвое.
Когда Эли бросил свои попытки, торс сполз на пол, а ноги остались на сиденье.
Внезапно его затрясло, он снова надел пальто, раскрыл портфель из свиной кожи, вытряхнул пачки новеньких банкнот, рассовал по карманам.
Он не хотел больше ни минуты оставаться в купе. Не подумал даже о том, чтобы закрыть окно. Вышел, прошел по коридору, потом юркнул в междувагонную гармошку, где его прохватил холодный сквозняк, а на дверных петлях сверкали ледяные жемчужинки.
Так он прошагал насквозь весь состав, остановился только перед дверью багажного вагона. Тут-то до него дошло: «Я же забыл закрыть окно! В Компьене железнодорожники могут это заметить, проходя по платформе…»
Войти в одно из купе с задернутыми шторами он не осмелился. Заперся в туалете, где свет был очень яркий, — он тщетно пытался найти способ его как-нибудь пригасить. Там не было переключателя. Зато зеркало имелось, он волей-неволей все время смотрелся в него.
«Я забыл задернуть шторы… Я забыл задернуть шторы… Я забыл…»
Других мыслей не было. А эти стучали в голове в такт ритмичному перестуку колес.
«В Компьене кто-то может… В Компьене кто-то может…»
Он захлопнул откидную крышку унитаза, сел на нее, скрестив ноги, и откинулся назад, прислонившись спиной к перегородке.
Когда поезд остановился в Компьене, он вздрогнул — оказалось, задремал. Услышал топот бегущих ног. Раздавались крики. Но он твердо решил не трогаться с места. У него на это не было сил. Его клонило в сон. И лихорадило. Поезд тронулся снова.
«В Компьене кто-то может…»
Это больше не в счет. Компьень остался позади. Еще час — и Париж.
У него не было никакого плана. Он и не пытался ничего планировать. Ему нужно было только одно: лечь и уснуть.
«В Компьене кто-то может…»
Что за бред! Больше нет смысла думать об этом. У него все получится. Уже получилось. Поезд, наверное, достиг ближних пригородов.
Огромным усилием воли заставив себя выйти из туалета, он и вправду увидел, что поля кончаются, мимо поплыли четырех-, пятиэтажные дома, в некоторых окнах загорался свет: это рабочие, должно быть, вставали так рано.
Коридор был пуст. Проводник прошел мимо, не взглянув на него. Эли прислонился лбом к стеклу, но оно было таким холодным, что в голове словно что-то смерзалось, — пришлось отстраниться.
«В Компьене кто-то может…»
Дверь туалета толкнула Эли в спину — кто-то туда зашел. Послышался шум льющейся воды. Какая-то женщина подергала за ручку двери, хотя там было слово «занято».
Поезд проходил под мостами. За окном по мокрой мостовой ехал освещенный трамвай. Здесь тоже больше не было снега.
Состав замедлил ход. За спиной Эли пристроилась крестьянка, нагруженная чемоданами.
Шум усилился — вот и Гар-дю-Нор. Поезд подкатил к платформе. Эли открыл дверь еще на ходу, помедлил в колебании секунду-другую, а женщина у него за спиной пробормотала:
— Осторожнее…
Он спрыгнул. Не первым — какой-то пассажир с чемоданом уже бежал к выходу. Служитель взял у него билет, не сказав ни слова. Эли торопливо оглянулся. Рядом с его поездом стоял другой, в него уже входили люди. На щите он прочитал: «Намюр, Льеж, Кельн, Берлин».
На него никто не смотрел.
Он не размышлял. Просто бросился туда со всех ног. Поезд уже трогался с места, пока что короткими рывками. Он вскочил на подножку, вбежал в вагон третьего класса, там две женщины пили кофе из термоса.
Одно сиденье было свободно целиком. Он растянулся на нем, завернувшись в свое пальто из верблюжьей шерсти. А когда проснулся, уже совсем рассвело. Проводник тряс его за плечо:
— Ваш билет, пожалуйста.
Две женщины, обе в трауре, смотрели на него усмехаясь. Билет? Он растерялся, не сразу сообразил, что сказать. Потом вспомнил, как кассир в Брюсселе спросил у него: «Обратный?»
Он порылся в карманах. Рука наткнулась на пачки купюр. На самом дне он нащупал картонный прямоугольник. Контролер посмотрел на него, потом на пассажира:
— Это же в первый класс, — сказал он.
Ну разумеется. Эли ответил извиняющейся улыбкой. Две женщины поняли наконец, почему на этом типе такое дорогое пальто.
— Третий вагон от головы состава, — объяснил контролер. — Здесь вам придется выйти из вагона, чтобы пройти таможню, а первый класс таможенники посещают сами.
Ему хотелось пить. Шея одеревенела. Похоже, застудил. Он снова отправился в путь по вагонам. За окнами он видел заснеженные пустынные пространства, только то тут, то там мелькал низенький домик, из трубы поднимался дым.
С каждым вздохом он глотал новую порцию гуляющих по составу ледяных сквозняков. Вагон первого класса был абсолютно пуст. И, освещенный максимально приглушенным светом, выглядел довольно зловеще.
Который час? Далеко ли до границы?
«В Компьене кто-то может….»
Ему требовалось попить. Чего бы это ни стоило. Он устремился в туалет. На дне фаянсовой раковины чернели жирные разводы. Он повернул вправо маленький кран, хлынула струя кипятка. Крутанул краник влево — потекла теплая, мутноватая водица, он зачерпнул ее ладонью, жадно припал губами. Вода отдавала поездом и лихорадкой.
Состав остановился. Эли торопливо вышел из туалета, боясь, что его там застанут, и столкнулся с мужчиной в сером пальто.
— Вы из этого вагона?
— Да.
— Паспорт, удостоверение личности… Так. Отлично. Ничего подлежащего декларации? Есть ценные предметы, украшения, недавно купленные предметы?
— Ничего.
Он засыпал стоя. Чувствовал себя грязным. Его носовой платок превратился в маленький влажный комочек.
Мелькали за окнами станции. Жемон… Эркелин… Дома из красного кирпича… Окна с белыми занавесками и медными вазонами на подоконниках. Кабачок… «Кафе у вокзала»… Униформы цвета хаки вместо голубых…
Вот появилась и Мёза с вереницами кораблей, которые подтаскивали к шлюзам гудящие до изнеможения буксиры.
Открылась дверь. Молодой человек в темной униформе спросил:
— Завтрак? Обслуживание начнется сразу после Намюра.
— Благодарю.
На всякий случай Эли взял предложенный ему красный талончик в вагон-ресторан, но сошел с поезда уже в Намюре. Счет времени он потерял. Над вокзальной платформой огромные сине-зеленые фаянсовые часы показывали одиннадцать; их стрелки казались нарисованными китайской тушью.
— В котором часу поезд на Брюссель?
— В двенадцать минут первого.
У него не хватило смелости выйти за пределы вокзала. Он прошел в зал ожидания для пассажиров третьего класса, благо их там уже не было. Люди проходили здесь с мокрыми зонтиками, вода с них стекала на пол, оставив пятна сырости; лакированные скамейки запотели и тоже были влажны.
За стеклянной дверью пробегали официанты в белых передниках, разнося по столам подносы с блюдами.
Но сесть за стол Эли не решился. Подошел к буфету, указал на сандвичи.
— Пистолет? — спросила молоденькая полноватая девица.
— Почему вы их так называете? — раздраженно придрался он.
— Потому что это пистолеты.
— Это сандвичи! Дайте три штуки.
Но бродя по залу ожидания для третьего класса, он насилу смог сжевать меньше половины одного сандвича.
До Брюсселя он добрался, когда уже совсем стемнело. И не узнал вокзала — поезд прибыл на другой, незнакомый путь. На улице шел дождь или, вернее, в воздухе, делая его непрозрачным, стоял туман из мельчайших частиц талого снега.
— Такси! В «Палас», «Асторию», «Гранд-Отель»!
Он сделал крюк, чтобы не проходить мимо зазывалы из «Паласа». Потом, избегая широких улиц, свернул налево, еще раз налево и зашагал по узеньким улочкам мимо вереницы дешевых кафе и киосков, торгующих картофелем фри.
Какие-то люди, сидевшие на террасе перед кафешкой или пивной, коротали время в ожидании своего поезда.
— У вас есть телефон?
— Там, в глубине, справа… Жетон возьмете в кассе.
Как пользоваться жетоном, он не знал. В Турции нет жетонов. Хотя, по правде сказать, о Турции он теперь думал как о стране, которой в глаза не видел!
— Скажите, патрон…
— А, понимаю. Вы иностранец. Какой номер вам набрать?
— «Палас».
— Алло, «Палас»? Попросите к телефону мадемуазель Сильви. Что вы сказали? Ушла? Я скоро перезвоню… Нет, передавать ничего не надо…
Ему ужасно хотелось грога. Прямо навязчивая идея. Но делать было нечего: раз в бистро его не подают, он заказал стакан пива и сел с ним в уголок возле телефонной кабинки. Стенные часы оказались перед ним, только чуть наискосок, они висели над лакированной дубовой кассой. Подождав полчаса, он позвонил снова. Затем еще через полчаса.
В восемь вечера он сделал шестой звонок, и тут служащий отеля сказал ему:
— Кажется, я ее видел в гриль-баре. Не вешайте трубку…
Гриль-бар, такой мирный и комфортабельный, с маленькими розовыми лампами на столах, с букетами цветов в хрустальных фужерах, с сервантом, где поблескивает столовое серебро, с белоснежными скатертями и большущей серебристой тележкой, на которой метрдотель развозит блюда, когда проворным челноком снует между столами…
— Алло! Кто у телефона?
Он словно воочию видел ее в кабинке возле читального салона, где запрещается курить.
— Алло! — нетерпеливо повторила она.
Она все такая же! Наверное, на ней сейчас зеленое шелковое платье, такое узкое в бедрах, что он всегда помогал ей влезать в него.
— Алло…
Пора было наконец начать разговор.
— Это я… — прошептал он.
— Что? Эли? Ну, не скажешь, что ты ко мне торопился! Где тебя носит? Почему не приходишь?
— Тише! Я тебе все объясню… Встретимся у вокзала, в кафе… Постой…
Он со всех ног выскочил из кабинки:
— Как называется это кафе?
— «В добрый путь».
И он эхом прокричал в трубку:
— «В добрый путь»! Ты его легко найдешь… Сперва перекуси…
Она что-то проворчала. Потом досадливо буркнула:
— Ладно.
Теперь она проходит через вестибюль, недоумевая, что это ему в голову взбрело…
— Принесите мне чего-нибудь поесть, — сказал он хозяину.
— У нас только кровяная колбаса и ветчина…
Это было не важно. Он хотел есть. А выпил всего каких-нибудь полглотка, только скривившись от боли в шее, отозвавшейся на слишком резкое движение. Застудил…
И ни разу за весь день так и не вспомнил о Ван дер Хмыре!
3
В первый момент Сильви будто что-то толкнуло — захотелось повернуть обратно. Но она расплатилась с таксистом, глянув на вывеску кафе и убедившись, что это действительно «В добрый путь». Она как раз перешагивала через лужу на тротуаре, когда из темноты слева от освещенной двери выступила фигура и ее тихонько окликнули по имени.
Она узнала желтое пальто Эли. Узнала и его голос. Но, даже еще не видя его лица, почувствовала: что-то изменилось.
Необычным было уже то, что она последовала за ним без единого слова, хотя дождь не прекращался, а он увлекал ее все дальше по улице, ведущей под уклон вглубь пустынного квартала.
Пользуясь светом первого попавшегося им на пути газового рожка, она заглянула ему в лицо и заметила, что он отводит глаза.
— Ты что, не брился?
Освещенный круг остался позади. Надо было пройти в темноте метров пятьдесят, чтобы поравняться со следующим фонарем. Сколько хватало глаз, вся улица была освещена так же скудно, это монотонное чередование мрака и света только в одном месте нарушала витрина маленькой закусочной.
Сильви потуже завернулась в свое меховое манто. Высокие каблуки мешали идти быстрее, и брызги грязной воды шлепались ей на чулки, растекаясь, будто масляные.
— Еще далеко?
Он оглянулся. Улица у них за спиной была безлюдна. Рядом послышалась музыка — на втором этаже в комнате за розовыми шторами кто-то играл на пианино.
— Давай отойдем еще немножко, — сказал он.
Эли был взвинчен. Шагая рядом, положил было руку на локоть Сильви, но что-то не ладилось: может, потому, что они шли, не попадая в ногу? Или потому, что Сильви, слишком усердно кутаясь в манто, не давала ему возможности поудобнее взять ее под руку?
Женщина все еще приглядывалась к нему украдкой. Уже знала: дело серьезное. Пытаясь помочь ему заговорить, спросила:
— Где же тебя носило?
— Париж…
Он не мог понять почему, но дождь его стеснял, мешал разговору. Метрах в десяти от очередного фонаря он приметил арку ворот, довольно широкую, и увлек туда Сильви. Но не поцеловал. Не сжал в объятиях. Впрочем, ее манто так пропиталось водой, что дождевые капельки поблескивали на каждой ворсинке.
Оглядевшись по сторонам, он вытащил из кармана пачку денег и показал подруге, не спуская с нее тяжелого печального взгляда.
До нее не сразу дошло. Она потрогала пачку.
— У тебя их много?
— Сто тысяч…
Теперь она, избегая смотреть в лицо своего дружка, уставилась на его пальто. Шепнула:
— В поезде?
Они с трудом различали друг друга. Туман, клубясь вокруг газового рожка, создавал ореол, похожий на облако мошкары. Рядом по водосточному желобу с журчанием стекал ручеек.
— Да. Ван дер Хмыр…
Она медленно подняла голову. Удивилась. Но не слишком. В ее глазах все еще читался вопрос.
— Да, — повторил он, и его рука в кармане сжалась, будто стискивая разводной ключ.
Он первым отвел взгляд. Черная мостовая блестела, убегая куда-то в бесконечность.
— Пойдем, — предложила Сильви.
Когда в потемках пустой улицы уже гулко зазвучали их шаги, он пробормотал:
— Про это наверняка есть в газетах.
— Ты их не читал?
Он помотал головой, и она догадалась, что ему смелости не хватило их купить. В объяснениях не было необходимости. Она знала, что нужна ему, потому он и прибежал к ней. Теперь он ждал, и она понимала это.
— На границах, вероятно, охрана… — задумчиво протянула она. — Пойдем-ка быстрее. В конце улицы освещенная площадь, там должно быть кафе…
Он шел за ней, его руки бессильно повисли. Она размышляла. Не доходя до площади, окруженной сиянием фонарей, она приостановилась:
— Отдай мне часть!
Он передал ей все, что было в одном кармане, — примерно половину добычи. Она спрятала деньги в сумочку, как нельзя более обыденным тоном заметив:
— Французские.
Они подошли к тихому кафе, казавшемуся еще пустыннее из-за двух незанятых бильярдных столов. Хозяин сидел у окна вдвоем с мужчиной апоплексической наружности, хозяйка за кассой вязала крючком.
— Давай зайдем.
Там, внутри, царил такой покой, что им показалось, будто они нарушили гармонию безмятежного домашнего очага. Когда они уселись в глубине зала, по ту сторону бильярда, хозяин со вздохом встал и направился к ним.
— Два кофе, — распорядилась Сильви.
Потому что отныне командовала она. Так получилось само собой. Эли, подняв воротник пальто, смотрел в пол, посыпанный древесными опилками, которые образовали на нем разводы. Он видел, что молодая женщина встала, и даже не спросил себя зачем. А она подошла к столику, где были выставлены газеты, накрученные на деревянные лакированные стержни.
Хозяин обслуживал их в молчании. Кофе капля за каплей вытекал из серебряного фильтра. Апоплексический клиент сморкался, сидя в своем углу.
Сильви, вернувшись на свое место, читала газету. Хрустнула перевернутая страница.
— Положи мне два кусочка сахара…
Он сделал это. И выпил свой кофе. Для приличия.
— Заплати, — обронила она.
Хозяин разглядывал их издали, недоумевая, чего ради они заявились к нему в такой час. Сильви встала. Эли пошел за ней. Выйдя на улицу, она сначала сориентировалась, затем направилась к центру города.
— Ну?
— Контролер дал твое описание. Но он тебя плохо рассмотрел. В основном обратил внимание на желтое пальто…
Эли разом почувствовал себя неуютно в этом пальто, стал тревожно озираться, проверяя, не следит ли за ними кто.
— Он еще сказал, что у тебя иностранный акцент, но какой именно, не уточнил.
Не сбавляя шага, Эли переложил деньги, носовой платок и перочинный ножик в пиджачный карман. Когда проходили мимо ограды пустыря, он остановился, глянул на Сильви:
— Здесь?
— Если его найдут, станет ясно, что ты в Брюсселе. Надо дойти до канала, бросим его туда.
— А где это?
— В другом конце города.
Теперь они вышли на улицу, по которой время от времени проходил трамвай. Он отливал красным, внутри, словно в стеклянной шкатулке, сидели невозмутимые пассажиры.
— Возьмем такси, — заявила Сильви, которой становилось все труднее идти пешком.
— Думаешь, можно?
— Есть идея. Увидишь…
Она подозвала машину и, значительно посмотрев на шофера, произнесла:
— В лес Камбре. И езжайте потише…
Их примут за влюбленных, только и всего. Они сидели неподвижно. В машине было темно, на ходу ее металлический каркас постанывал во всех своих сочленениях. Эли стащил с себя пальто.
— Там есть водоем? — шепнул он.
— Большой пруд. Надо натолкать в карманы камней, чтобы не всплыло…
Должно быть, во всем обширном лесу, чьи высокие деревья медлительно роняли капли со своих ветвей, не было сейчас больше ни единого человеческого существа. Настал момент, когда Сильви постучала в стекло, и такси затормозило.
— Подождите нас несколько минут…
Шофер заколебался, наклонился, пробормотал что-то — слов Эли не расслышал. Когда они отошли подальше, он спросил молодую женщину:
— Что он тебе сказал?
— Предложил нам остаться в машине, а он, мол, пойдет прогуляться…
Улыбки это у них не вызвало. Они искали камни. Ради правдоподобия Сильви держала своего спутника за руку. Вот она нащупала ногой крупный булыжник:
— Подними.
Лес, полный запахов, дышал холодом, Эли трясся в своем сером пиджаке.
— Нужно еще несколько… Да обними же меня! Он наверняка смотрит…
Они шли мимо решетки, ограждающей пруд. Берег был крутой. Эли наклонился, стараясь забросить пальто подальше, Сильви придерживала его за руку. Всплеск вышел слабый, но они испуганно замерли, боясь, что сейчас подоспеет шофер, предположив самоубийство.
Затем они пустились в обратный путь. Эли шел впереди. Молодая женщина успокаивала:
— Не так быстро… Мы мало похожи на влюбленных!
В автомобиле она спросила:
— Замерз?
— Ничего…
Губы у него посинели. Плечи время от времени сотрясала дрожь. К тому же манто Сильви то и дело задевало его холодным промокшим мехом.
— Сейчас ты сделаешь вот что, — едва слышно заговорила женщина. — Сядешь на поезд до Шарлеруа…
Он замотал головой:
— Только не поезд!
Он был по горло сыт железной дорогой. От поездов его тошнило.
— Сядешь на что хочешь и отправишься в Шарлеруа. Улица Лавё, дом 53. Там сдают меблированные комнаты. Одна как раз свободна.
Он удивленно воззрился на нее. Но вопросов не задавал.
— Это мой дом, — просто сказала Сильви. — Скажешь моей матери, что ты от меня. Объяснишь ей, что у себя на родине ты занимался политикой и потому предпочитаешь не регистрироваться в полиции. Заплатишь за три месяца вперед. Тогда мамаша будет помалкивать.
Они уже въезжали в город, и шофер оглянулся, ожидая приказаний.
— В «С пылу, с жару!»! — бросила Сильви.
— Я не могу туда сунуться в таком виде!
— Ты — нет! Но мне-то надо туда вернуться. У меня свидание.
Он не протестовал. Послушный, как дитя, предоставил командовать ей.
Но все же спросил:
— Останешься в Брюсселе?
— Да. Приеду навестить тебя.
Она призадумалась, на лбу проступила складка:
— Послушай! Будет и того лучше, если ты не скажешь моей матери, что пришел от меня. Сделай вид, будто вообще со мной не знаком. С того момента, когда ты ей заплатишь, все прочее уже не…
— Но как я смогу узнавать, что у тебя творится?
— Я буду время от времени писать Антуанетте. Это моя сестра. Она станет рассказывать об этом за столом, а поскольку есть ты будешь с ними…
Такси остановилось. Портье «С пылу, с жару!» придерживал открытую дверь бара, потрясая красным зонтиком. Силуэт Эли, забившегося в дальний угол сиденья, был едва различим.
— До свиданья, — шепнула Сильви.
Она не поцеловала его. Только высунув голову из машины, откинулась назад, нащупала впотьмах его руку и быстро пожала.
— На вокзал, — сказал Эли шоферу, не имея в распоряжении иного адреса.
А Сильви на своих высоких каблуках и в манто, плотно облегающем бедра, уже пересекала тротуар. Портье семенил следом, держа зонтик у нее над головой. Из здания доносились звуки джаза, и было видно, как за шторами окон второго этажа скользят тени танцующих.
На мгновение она оглянулась. Улыбнулась, помахала рукой, и такси тронулось.
Эли снова остался один, без пальто, в выстуженном такси; у него возникло ощущение, будто он совсем голый.
— Вокзал закрыт, — сообщил шофер, указывая пассажиру на вестибюль, где лишь кое-где светились слабые огоньки.
— Да ладно, это неважно…
Он перепугался, сообразив, что у него не осталось мелких денег, одни тысячефранковые купюры. Впрочем, обшарив все карманы, он сумел набрать достаточно мелочи, чтобы заплатить шоферу.
Но теперь до самого утра он больше не сможет тратить деньги! Никуда не зайти, ничего нельзя ни съесть, ни выпить!
Было так холодно, что он перестал ощущать свой насморк. Он шагал куда-то без цели. Время от времени прислонялся к какой-нибудь двери, присаживался на чей-то порог, но едва заслышав шаги, шел дальше. В четырех разных кварталах он наметил себе ориентиры — башенные часы — и без конца прохаживался от одних к другим, высчитывая, сколько раз надо обойти их, пока не забрезжит рассвет. Его сопровождал только монотонный шум собственных шагов, но и это худо-бедно развлекало, так как на разных улицах шаги звучали не совсем одинаково. Это зависело от ширины шоссе, от высоты зданий, может быть, еще и от характера мостовой.
А Сильви танцевала. Он не был ревнив. Знал, что она в «С пылу, с жару!», мог бы ее подстеречь, посмотреть, с кем она выйдет, но это ему в голову не приходило.
Он с облегчением увидел, как мимо прошел первый трамвай, и, дождавшись семи часов, выбрал одно из такси, стоявших на площади Брукер:
— Отвезите меня в Шарлеруа.
Его бороде исполнилось трое суток. Пиджак обтрепался на плечах, брюки понизу разбухли от дождя. Шофер заколебался было, однако тотчас взбодрился, как человек, решивший, что ему повезло:
— Садитесь!
На полях больше не было снега. Земля почернела. Лес тоже. Вся вселенная, отсырев, исходила ледяной влагой. Когда проезжали через селения, на дороге никто не встретился.
— Остановите где-нибудь, где я смогу разменять тысячу франков, — сказал Эли, как только они въехали в Шарлеруа.
Было около девяти часов утра. Магазины уже открылись, но город, оцепенев от зимней стужи, как и сельская местность, оживал медленно. Дневной свет был синевато-зеленым, словно вода, и электрических ламп в большинстве магазинов не тушили.
— Пожалуй, высадите меня у парикмахерской.
Сдачи с тысячи франков у парикмахера не нашлось, и он сам побежал разменивать банкноту в Народный Дом, что находился напротив. Таксист получил плату и уехал. Парикмахер обернул накидку вокруг шеи Эли, и тот, глядя в зеркало, обнаружил, что глаза у него покраснели.
— Вы иностранец? Что за смысл в эту пору ехать сюда? Я вам и стрижку освежу, хотите?
Мимо проезжали грузовики. Пальцы парикмахера были желтыми от курева. Эли замутило от смешанного запаха мыла и табака.
— У нас здесь много иностранцев, особенно студентов, они приезжают, чтобы пройти стажировку на фабриках и угольных шахтах. Но сейчас все обеднели, что те, что эти. Одно слово — кризис! Кремом обработаем?
Вставая с кресла, Эли смотрел на себя с горечью. Усилия брадобрея, вместо того чтобы улучшить его внешность, выявили еще очевиднее бледность лица и неправильность черт. Может, еще и зеркало плохое? До сих пор он никогда не замечал, что нос у него кривой, а верхняя губа слишком тонка в сравнении с нижней.
— Отсюда далеко до улицы Лавё?
— Садитесь на трамвай номер три, остановка прямо здесь, только из двери выйти. Он вас довезет.
Дождь все еще шел, и по-прежнему это была мелкая морось. Трамвай был пустым, но Эли остался на площадке. Кондуктор предупредил, когда подъехали к его остановке, он вышел и побрел вдоль улицы, состоящей из домов, абсолютно ничем не отличавшихся друг от друга.
Какая-то женщина, повернувшись к улице спиной и наклонившись вперед, словно бюст тянул ее вниз, мыла крыльцо, невзирая на дождь, и тут Эли увидел на ее доме номер 53.
— Прошу прощения… Мадам Барон, не так ли?
— Верно, это я.
Держа в правой руке тряпку, она оглядела пришельца с головы до ног.
— Я насчет комнаты…
Он указал на пожелтевшее объявление, приклеенное к окну облатками для запечатывания писем.
— Входите, входите… Подождите на кухне.
Коридор был только что вымыт, красная и желтая плитка пола блестела. На бамбуковой вешалке он приметил три мужских пальто и один плащ. Эли постучался в застекленную кухонную дверь. Мужской голос отозвался:
— Войдите!
Молодой человек, который сидел, протянув ноги к зеву печи, поглядел на незнакомца с любопытством. Другой студент, свежевыбритый, набриолиненный, в пижаме с голубыми полосками, расположился за столом и делал себе бутерброд с вареньем.
— Садитесь. Вам нужна здесь комната?
В коридоре мадам Барон снимала сабо и вытирала фартуком мокрые руки. На втором этаже раздавались голоса. Дом был полон жизни, пока еще непонятной Эли.
— Ну вот! Я к вашим услугам… Вы без пальто?
— Я вам объясню… Мой багаж…
— Вы живете в Шарлеруа?
— Нет. Я приехал из Брюсселя.
Она машинально налила ему чашку кофе. Потом распахнула дверь и крикнула:
— Антуанетта! Пойди посмотри, в порядке ли передняя комната!
Она и минуты не просидела на месте. Не переставая говорить, заложила в печь новую порцию угля, передвинула кастрюлю, насыпала сахара в сахарницу.
— А вас, мсье Валеско, я уже просила не спускаться сюда в пижаме… Отодвиньтесь-ка чуток, мсье Моисей… Как по-вашему, могу я готовить, когда вы оба путаетесь у меня под ногами?
Тут дверь открылась, вошла Антуанетта и посмотрела вновь прибывшему прямо в глаза. На ней было черное трикотажное платье, оно подчеркивало все то, что было в ее фигуре незавершенного. Остренькие выступающие плечи. Маленькие, очень широко расставленные груди. Неоформившиеся ягодицы.
Чулки сползали с ее тощих ног. Над худым, испещренным веснушками лицом развевалась сумасшедшая грива жгуче-рыжих волос.
— Ну, что? Ты уже и здороваться разучилась?
Она пожала плечами, принюхалась к голове Валеско и заявила:
— Не люблю мужчин, которые душатся, как шлюшки.
Что до Эли, к нему она приглядывалась украдкой, изредка постреливая в его сторону глазами.
— Если хотите, я вам покажу комнату, — сказала мадам Барон. — Триста франков в месяц плюс плата за уголь и электричество. И лучше сразу вас предупредить, что проходной двор мне здесь ни к чему. Женщин в моем доме я не потерплю…
Хозяйка вышла в коридор, он последовал за ней; она толкнула дверь ближней комнаты, и оттуда пахнуло мастикой для натирания полов. К стене, оклеенной обоями в розовых цветочках, была вплотную придвинута медная кровать, покрытая стеганым одеялом, при виде которой Эли вдруг побледнел, голова закружилась…
В семь часов вечера, когда обитатели дома собрались на кухне, он все еще спал. Его рот был открыт, волосы липли к потному лбу.
4
Увидев, что господин Домб преспокойно расположился со своей металлической коробкой перед прибором, который она установила с таким тщанием, мадам Барон досадливо запротестовала:
— Это место господина Эли!
Господин Домб, рослый белокурый поляк с сухими чертами лица, одевался неизменно строго и безукоризненно. Его манера держаться отличалась некоторой торжественностью даже в те моменты, когда он, как сейчас, со старой коробкой из-под бисквитов в руках раздраженно ждал, что ему объяснят, где отныне будет его место за столом.
— Так где же мне прикажете сесть?
Кухонька была тесновата, и большую ее часть занимала плита, выкрашенная белой и золотой эмалевой краской. В дальнем конце стола, возле шкафа с посудой располагалось место господина Барона, ему единственному здесь полагалось сплетенное из ивовых прутьев кресло.
Прочие пристраивались где придется, в зависимости от того, кто приходил раньше, кто позже. Ведь никто никого не ждал. Время трапезы господина Барона, что ни день, менялось в зависимости от часа прибытия поезда, которым он ведал. Обслуживая его, мадам Барон челноком сновала между плитой и столом, изредка присаживаясь на краешек стула, чтобы проглотить кусочек, между тем как Антуанетта, положив локти на стол, балагурила с постояльцами.
В полдень ритуал несколько менялся, так как в это время мадам Барон подавала на стол для всех.
По вечерам постояльцы ели за свой счет. У каждого была своя металлическая коробка, где хранились хлеб, масло в бумажке, кусок ветчины или сыра. У каждого имелся также собственный заварочный чайник или кофейник.
Господин Домб неприязненно созерцал прибор, установленный на месте, которое он так часто занимал. Тут чувствовалось что-то новенькое, не в обычае этого дома. На стол выставили тарелки с розовыми цветочками, которыми ранее никогда не пользовались. На небольших блюдах красовались самые настоящие закуски: круги колбасы, сардины, маленькие копченые рыбки.
Сам господин Барон, уплетая свои бутерброды, которые он макал в кофе, странно поглядывал на это зрелище, и мадам Барон, заметив это, дала ему три копченые рыбки.
— Господин Эли на полном пансионе, — не без гордости пояснила она.
— Он еврей! — проворчал господин Домб, ставя сковороду на огонь.
— А вы откуда знаете? Вам всюду евреи мерещатся. И что вам с того, если он еврей?
Домб со скучающим видом рылся в своей коробке.
— Чего вам еще не хватает?
— Масла.
— Я вам уделю немного. Но это в последний раз. Вам вечно чего-нибудь недостает, такой уж вы человек! Брали бы лучше пример с господина Моисея.
Он положил на сковороду кусочек масла, разбил туда же яйцо, а мадам Барон в это время закричала, выглянув в коридор:
— Господин Моисей! Пора!
А Домб, жаря свое яйцо, с презрением взирал на котлету, которая подрумянивалась рядом, кастрюлю с картошкой и еще одну — с брюссельской капустой, которая здесь появилась исключительно на потребу новенького.
— На какой факультет он поступил? — спросил Домб, садясь рядом с Антуанеттой.
— Он давно закончил учение.
Тут вошел Моисей, его волосы топорщились в буйном беспорядке, глаза, которые с самого утра не отрывались от черных букв на белой бумаге, воспалились. Он был польским евреем. Его мать, прислуга из Вильно, не могла присылать ему деньги на пропитание, и он учился на средства израильской миссии.
Моисей тоже посмотрел на неуместный прибор, спрашивая себя, куда бы ему приткнуться со своей коробкой, ведь сесть рядом с Домбом он не мог. Последний старался никогда не заговаривать с ним и даже демонстративно игнорировал его присутствие.
— Садитесь сюда, господин Моисей, — приветливо обратилась к нему мадам Барон, так как он был ее любимчиком. — Держу пари, что вы опять загасили огонь у себя в комнате.
Она знала: это из экономии. Моисей занимался в пальто, иногда еще и одеяло поверху набрасывал. Когда он спускался в кухню, руки у него всегда были как лед.
— Я вам кипятку подлила в чай.
Он себе яйца не готовил, ел только хлеб с маслом. Одной лишь мадам Барон — она ведь шарила во всех комнатах — было ведомо, что у него нет носков.
— Ума не приложу: неужто он до сих пор спит? — пробормотала мадам Барон, имея в виду Эли.
— Как бы там ни было, манеры у него странные, — буркнул Домб.
— Да хватит вам придираться к людям! Вы никого не пропустите, о каждом что-нибудь скажете дурное. А при этом по-вашему выходит, будто поляки на голову выше всех прочих смертных!
И крикнула, выглянув в коридор, да так громко, что ее зов эхом отозвался во всем доме:
— Мсье Эли! Ужинать!
Плутарх Валеско тоже еще не явился, но он обычно опаздывал, а порой и вообще не приходил. Все знали, что у него есть в городе любовница.
— Похоже, господин Эли тоже еврей, — вздохнула мадам Барон.
— Левантийский, — уточнил Моисей. — Это разные вещи.
— Почему?
— Трудно объяснить. Но все равно: левантийский еврей — это совсем другое.
— Правда, он очень смуглый, а вы скорее блондин…
В коридоре послышались шаги. В застекленную дверь постучали. Вошел Эли Нажеар. Его в первый момент ослепил яркий свет и поразила такая концентрация жизни на столь маленьком пятачке.
— Моих постояльцев вы уже видели, не так ли? Разрешите вам представить моего мужа, он государственный чиновник, служит в железнодорожном ведомстве.
Господин Барон встал, церемонно протянул руку и потеребил свои сивые пышные усы. Свой пристежной воротничок он снял, и стала видна медная пуговка рубашки, блестевшая на его шее.
— Садитесь, мсье Эли. Вы, наверное, проголодались. С самого утра ничего не ели…
И он уселся в конце стола, напротив господина Барона. В этом сквозило что-то значительное, будто он вступал во владение… Домб, устремив взор в пространство, дожевывал последний кусок хлеба. Антуанетта про себя отметила, какие у вновь прибывшего темные круги под глазами. Что до Моисея, он просто спросил:
— Полагаю, вы из Стамбула?
— Собственно, по происхождению я португалец. Но родился в Стамбуле. А вы поляк?
— Это я поляк! — встрял Домб, приосанившись с таким видом, будто заиграли его национальный гимн.
Тут в дверь, как ураган, ворвался Валеско, а с ним волна холодного воздуха и запаха духов.
— Я опоздал?
— Вы всегда опаздываете.
Он остановился, увидев, что новичок занял лучшее место и перед ним стоят подносики. Учуял аромат котлеты и овощей. Поверх голов послал Антуанетте вопрошающий взгляд.
— Хоть теперь не медлите, садитесь за стол!
Было очень жарко. Режущий яркий свет озарял кухню, стены которой были выкрашены масляной краской. Сотрапезники задевали друг друга локтями. Коробка Моисея теснилась вплотную к подносу Эли, и Домбу пришлось придвинуться поближе к мадам Барон, чтобы освободить место для Валеско.
Последний вытащил из кармана пальто пакет, набитый разного рода колбасными изделиями, потому что зарабатывал больше прочих и к тому же, когда деньги кончались, находил способ перехватить взаймы.
— Вы бывали в Румынии?
— Я прожил год в Бухаресте, — отвечал Эли.
— Какой город! А Констанца! Здесь изо дня в день, год за годом шлепаешь по грязи…
— Тогда зачем вы здесь? — язвительно перебила мадам Барон.
— Не сердитесь. Спросите господина… Нажеар, так?.. спросите у него, возможно ли тут хоть какое-нибудь сравнение с Румынией. И там все можно иметь почитай что даром! Курица стоит несколько сантимов…
Эли чувствовал, что у него горят щеки. Его оглушали голоса этих людей, звяканье вилок и тарелок. Он не мог двинуться хоть на сантиметр, чтобы не толкнуть Моисея, сидящего справа, или Валеско — соседа слева. Голова не работала совершенно.
Медленно пережевывая свои овощи и мясо, он пялился на стол, на жестяные коробки, на бутерброды и чашки с кофе.
— Что вы привыкли пить? — осведомилась мадам Барон.
— У нас пьют раку. Вы, наверное, не знаете такого напитка. Я бы выпил воды…
Он ел без всякого аппетита. Нос весь горел. В висках стучало, как бывает, когда влезешь в слишком горячую ванну. Господин Барон, покончив с трапезой, отодвинул свое плетеное кресло от стола и развернул газету.
В общем, всяк занимался своим делом. Пока отец раскуривал пенковую трубку, головка которой достигала его груди, Антуанетта, пристроившись в уголке у печи, принялась мыть посуду.
Эли совсем не думал о Ван дер Хмыре! Он даже о Сильви не думал, даром что она всю свою юность провела в этом доме.
Сказать по правде, мысли его посещали странноватые. О том, что он старше всех этих студентов, что у него, не в пример им, полный пансион, что отныне он будет окружен почтением. И это было приятно.
— Я еще не знаю ваших привычек. Вы любите сыр?
— Да, но сегодня мне не хочется есть.
Он дал ей тысячу франков, новенькую купюру из пачки, в то время как установленная плата за пансион составляла восемьсот.
— Перечислите остальное на следующий месяц, — сказал он.
Он мельком просмотрел газету. Это был местный листок, «Газета Шарлеруа», на шершавой бумаге, со слишком крупным шрифтом.
Мадам Барон, как всегда, перекусила на ходу, не переставая хлопотать по хозяйству. Эли она обслуживала сама.
— Вы не доели ваше мясо?
— Спасибо, больше не хочу. Я все еще нездоров…
— Грипп лютует, — подтвердил господин Барон. — Я читал, что в Лондоне настоящая эпидемия, за последнюю неделю смертность возросла на тридцать процентов…
Он был невозмутим. Только его толстые усы трепетали всякий раз, когда он выпускал клуб дыма.
— Убийцу поймали? — спросила Антуанетта.
Эли не дрогнул, хотя вполне сознавал, что речь о нем. Поднял голову, любопытствуя в той же мере, как и все прочие, не больше, но и не меньше.
— Еще нет. Объявляют, что напали на след, скоро он будет арестован. В банке Ван дер Крэйзена сообщили номера выданных ему купюр.
Господин Барон огляделся с важностью, разом став другим человеком — тем, кто на пассажирских поездах бельгийской железной дороги ходит из купе в купе, проверяя билеты.
— Находятся такие, кто воображает, будто наша профессия не опасна! — сказал он. — А разве убийца не мог и кондуктора прикончить?
Легкая улыбка, скользнувшая по губам Эли, насторожила его, но тотчас угасла.
— Еще как мог бы! И вот, несмотря на это, нам увеличили пенсионный возраст до шестидесяти, уравняли с теми, у кого самая обычная сидячая работа!
Усмешка Эли была непреднамеренной. Чисто нервная реакция. На самом деле, пока господин Барон говорил, он наблюдал за хозяйкой. Заметил, как на ее лице промелькнуло нечто, похожее на сомнение, подозрение или, может статься, всего лишь колебание, мимолетная мысль. Он догадался, что это связано с той купюрой. И подумал, что банковый билет, который он ей дал, еще здесь, в доме.
— Кофе?
Он потратил пока всего два банковых билета: тот, что парикмахер разменял в Народном Доме, и второй, который мадам Барон сложила восемь раз и сунула в свой кошель.
— Благодарю. Кофе вечером — никогда.
— А знаете, сколько следов ударов на трупе? Восемнадцать!
Он сделал вид, что удивлен этим так же, как прочие.
— Восемнадцать ударов разводным ключом! Предполагают, что это механик или, в любом случае, человек, привыкший орудовать инструментами. Полицейский, проверявший паспорта, не помнит, какой национальности был пассажир, сидевший напротив голландца, ведь в том поезде ехали пятнадцать человек иностранцев. Он считает, что это был грек или итальянец.
Мадам Барон вынула из печи суп-пюре, приготовленный для Эли. Прочие уже покончили с едой. Домб, особенно молчаливый, закрыл свою коробку, встал и вышел. Его прощальные слова прозвучали воинственно.
— Он в бешенстве! — заметил Валеско.
— Почему?
— Потому что появился новичок, и этот новичок важнее, чем он. Не говоря уж о том, что вы еврей, а евреев он ненавидит!
— Но я-то разве ненавижу кого-нибудь? — спросила мадам Барон, вытирая тарелки, которые ей передавала дочь. — Пока человек никому не делает зла, я с ним всегда в ладу! Перед войной у меня здесь снимали комнаты русский и поляк. Два года в одном доме прожили, даже не здороваясь друг с другом!.. Антуанетта, подай пепельницу господину Эли…
Господин Барон читал. Его трубка потрескивала. Эли курил сигарету, положив локти на стол, и блаженное жаркое довольство переполняло его, проистекая опять-таки от насморка и лихорадки. Он ощущал пульсацию крови в своих сосудах. В ноздрях продолжало щекотать, и воспаленное горло было слишком чувствительным, это придавало табаку какой-то странный вкус.
— Мы у себя в Стамбуле ужинаем гораздо позже.
— В котором часу?
— Около девяти или десяти вечера.
— И что же вы едите? — осведомилась мадам Барон.
— Все, что угодно… Много разных маленьких вкусностей, закуски, их там называют «мезе». Потом баранину, овощи, уйму разных овощей и фруктов…
— А готовят там хорошо?
— Замечательно.
Он снова увидел себя в «Абдулле» накануне отъезда, окруженного друзьями, перед буфетом, ломящимся под тяжестью блюд.
— Взять, к примеру, фаршированные виноградные листья… — пробормотал он.
— Мне бы такое не понравилось.
В «Абдулле» он всем пожимал руки. А когда он сообщал, что уезжает, все говорили: «Ну и везет же тебе!»
— А на каком языке у вас там говорят?
— На французском.
— И другого языка нет?
— Есть турецкий. Но в хорошем обществе все говорят по-французски.
— Любопытно!
Антуанетта исподтишка присматривалась к нему. Чувствовалось, что она еще не составила представления о нем и это ее стесняет.
— В квартале Пера принято гулять допоздна, — вздохнул Эли. — Воздух такой теплый… На прогулках встречаются с друзьями. Заходят в маленькие кафе послушать турецких музыкантов…
— Совсем как в Румынии, — подхватил Валеско. — В полночь на улицах столько народу, сколько здесь в шесть часов вечера.
— Выходит, на следующее утро никто на работу не идет?
Поскольку Эли в этот момент сморкался, мадам Барон произнесла:
— Платок у вас совсем мокрый. Я вам дам другой на время, пока не доставят ваш багаж. Антуанетта! Ступай, принеси один из папиных носовых платков. Тех, что в шкафу, в выдвижном ящике слева…
Эли думал о двух банковых билетах — о том, что сейчас находится в Народном Доме, и о втором, спрятанном у хозяйки. Он не испугался. Просто подумал, что когда господин Барон дочитает газету, он ее попросит у него и сожжет в печке у себя в комнате. А в Народном Доме вряд ли станут заниматься проверкой банковых билетов.
— Вы из самого Вильно? — спросил он Моисея.
— Я жил там до прошлого года.
— А я дважды там был проездом, оба раза зимой. Ужасно унылый город.
— Летом там чудесно!
— Что вы изучаете?
— Химию. Уже закончил. Теперь взял еще один дополнительный год, чтобы изучить стекольное производство…
Моисей говорил с ним почтительно, хотя с примесью досады, как еврей из польского гетто — с евреем, которому повезло вырасти в Стамбуле.
— В последних новостях утверждают, — произнес господин Барон, делая затяжку, — что убийца не мог обойтись без сообщника или сообщницы. Мадам Ван дер Крэйзен прибыла в Париж и лично занялась перевозкой тела.
— Он был женат?
На миг у Эли перехватило дыхание. Он никогда об этом не думал. А теперь делал над собой усилие, пытаясь вообразить жену голландца.
— Вот ее фотография.
Оттиск был дрянной, грязно-серый. Однако позволял различить очень высокую, исполненную достоинства женщину, которая пыталась ускользнуть от фотокорреспондентов.
— Она моложе его… — проговорил он.
Женщина выглядела лет на тридцать пять. Переодеться в глубокий траур она еще не успела.
— Вот носовой платок, — сказала Антуанетта.
Эли воспользовался этим, принялся долго сморкаться, а когда наконец спрятал платок в карман, лицо у него побагровело. Мадам Барон заметила это:
— Я вам приготовлю славный грог, а перед сном примите две таблетки аспирина.
— Вы слишком добры.
— Я привыкла. Молодых людей нельзя оставлять без присмотра, они не умеют позаботиться о себе сами…
Его принимали здесь за такого же юнца, как прочие, а ведь ему тридцать пять. Моисей встал, невнятно буркнул «доброй ночи» и отправился в свою комнату. Мадам Барон прислушалась к его удаляющимся шагам и тщательно закрыла дверь.
— Взять хотя бы его! — вздохнула она. — Я сейчас попробовала отдать ему котлету, от которой вы отказались. Но он слишком горд! А ведь за целый день только и съедает, что одно яйцо да кусок хлеба.
— На что ему вообще учиться? — брякнул Валеско.
— А вам?
— Это разные вещи. Мои родители — люди весьма зажиточные.
— Вам бы не мешало быть таким транжирой, как он!
Она это сказала с ходу, без злого умысла, все еще продолжая мыть посуду. Господин Барон перевернул страницу своей газеты. Антуанетта, расставляя чашки и тарелки по полкам стенного шкафа за спиной своего родителя, толкнула спинку его плетеного кресла.
— Мне надо подвинуться?
— Да ладно, я заканчиваю.
Мадам Барон выплеснула грязную воду в кухонную раковину, сполоснула тряпку. Ее движения были быстрыми и четкими. Валеско встал, зевнул, потянулся.
— Надеюсь, вы не собираетесь еще прогуляться?
— Увы!..
— Как бы то ни было, предупреждаю: если вы, возвращаясь, опять устроите шум или снова забудете свой ключ, я с вами расстанусь. Эти ваши шашни с грязными девицами…
Валеско подмигнул Эли. Последний раскурил новую сигарету. Так как вокруг стало потише, он порой различал «тик-так» будильника, стоявшего на камине, между двумя медными подсвечниками.
— Доброй ночи, Антуанетта. Дамы и господа, приятных снов!
И Валеско направился к себе — душиться, пудриться, подправить прическу перед новым выходом в свет.
— Они же совсем мальчишки, — доверительно обратилась к Эли мадам Барон. — Мне приходится бранить их, как маленьких, иначе жизнь станет невыносимой. Вы — другое дело, сразу видать, что вы не такой шалопай. И как вам только на ум взбрело в ваши годы ввязаться в политику!
Ведь он, когда просил ее не сообщать о нем в службу по делам иностранцев, объяснил это тем, что изгнан из родной страны за политические убеждения.
— Кто хоть там у вас правит? Король? Президент?
— Диктатор.
Он улыбался. Все тело ломило, но недомогание не мучило, а доставляло наслаждение, близкое к эротическому. На этой бедной кухне он расслабился и смаковал минуты довольства почти совершенного. Время от времени он ловил беглые взгляды Антуанетты, становясь от этого еще счастливее, ведь ясно же: девчонка под впечатлением.
Чувство, что он у нее вызывал, не было восторгом. Напротив. Она вглядывалась в него недоверчиво, как если бы уже поняла, да, она и только она догадывалась, что в этом доме ему делать нечего.
Но разве это, по существу, не доказывало, что она боится поддаться его власти?
Он все не уходил. Пепельница наполнялась окурками. Со стола убрали. Он снова был застелен белой клеенчатой скатертью в синюю клетку. Сидя у печки, мадам Барон чистила картошку на завтра. Антуанетта штопала носки для Домба и Валеско.
— Кого я не люблю, — заговорила мадам Барон, — так это людей, которые презирают других. И знаете что? Все поляки, которых мне доводилось встречать… Жермен, почему бы тебе не налить господину Эли бокал чего-нибудь?..
Тот стремительно встал, вынул из стенного шкафа бутыль наливки из терна.
— И не говорите мне, что это невкусно! Я привез ее из великого герцогства Люксембургского, где каждую неделю бываю со своим поездом.
Напиток был сладкий, с отдушкой. Запах трубочного табака смешивался в воздухе кухни с более тонким ароматом сигарет. Со второго этажа порой доносились шаги Моисея.
— Он занимается по тринадцать-четырнадцать часов в день. А письма, что он получает от матери, она даже не может написать сама — не умеет. Это сосед за нее пишет, он консьерж и…
Хорошо бы все так и продолжалось, потихоньку-полегоньку… Эли не хотелось выздоравливать от гриппа. Даже легкая боль в застуженной шее и та была сладкой.
Он вспомнил улицу Лавё, моросящий дождь, низкие дома, почерневшие от угольной пыли, лязг железа и небо, затянутое тяжелыми мерзкими тучами.
Здесь, на светлой и теплой кухне, об этом можно было больше не думать. Антуанетта то и дело откидывала голову назад, стряхивая прядь рыжих волос, падавшую ей на глаза.
— Ну-с, что скажете? — господин Барон, с удовольствием отхлебнув наливки, вытер усы. — У вас на родине небось такой нет, а?
— У нас есть очень хороший напиток, он называется рака.
— Вы все эти страны повидали?
— Я объездил почти всю Европу. Мой отец занимался экспортом табака.
— Как господин Визер! — пояснила мадам Барон, обращаясь к мужу.
Эти слова она произнесла почтительным тоном. Между тем часы уже показывали десять минут одиннадцатого. Господин Барон первый зевнул, сложил свою газету и положил на стол.
— Вы позволите?
— Пожалуйста, берите. Но вы там мало найдете для себя интересного. Все больше вести из Боринажа. Стеклодувы говорят, что объявят забастовку. Еще стаканчик?
А Эли с блестящими глазами, раскрасневшимся лицом, ноющим затылком и распухшим носом чувствовал, что все глубже погружается во что-то горячее, мягкое.
— Ты хотя бы перестелила его постель, Антуанетта? Чего ты дожидаешься?
Было слышно, как девушка переворачивает тюфяк, расправляет простыни, взбивает перину.
— Выспитесь хорошенько! Не стоит вам рано вставать, к чему? А когда ляжете, я принесу вам грог и аспирин.
Когда он раздевался в комнате, пока незнакомой, его только одно тяготило: портрет мадам Ван дер Крэйзен. Она была слишком статной, слишком гордой, но главное, слишком молодой. Как ни плоха была репродукция фотоснимка, он догадывался, что она красива.
В дверь постучали. Голос госпожи Барон спросил:
— Вы уже в кровати?
— Одну секунду! Вот… Можете войти.
Еще держа в руках поднос, она наклонилась, чтобы поднять с пола брюки, которые он там оставил, и повесить на спинку стула.
— Пейте, пока горячий…
5
Сильви сошла с трамвая на остановке, что напротив бакалейной лавки, за три дома до собственного. Переходя улицу, стараясь не вступать в лужи, она вдруг спросила себя, узнает ли ее бакалейщица мадам Орисс, вечно сидящая, как в засаде, по ту сторону своей витрины.
Ей не пришлось стучаться. Сильви толкнула дверь, и та открылась, а сделав еще два шага, она обнаружила свою мать в первой комнате над развороченной постелью.
— Это ты? Ты меня напугала!
Мадам Барон машинально подставила щеку для поцелуя. Сильви легонько коснулась ее губами. На ночном столике еще стояла бутылка рома, рядом пустой стакан.
— Ты надолго в Шарлеруа?
Мать всегда смотрела на Сильви с недоверием. От нее ничто не ускользнуло: ни новенькая сумочка, ни то, что костюм на дочери довольно простого покроя, ни усталый взгляд, ни озабоченность, которую она в ней угадывала.
— Я бы выпила чашечку кофе, — объявила Сильви.
Она предполагала, что Эли занял именно первую комнату, но выяснять, так ли это, не решилась и направилась в сторону кухни, до отказа заполненной паром. У печи сидел мужчина. Она чуть не натолкнулась на него, не разглядев за этой густой пеленой.
— И вы допускаете, чтобы суп так выкипал! — вскричала она, бросаясь к плите, чтобы сдвинуть кастрюлю, стоявшую на слишком сильном огне.
Покуда Сильви искала конфорку, она увидела в круглом отверстии печи груду докрасна раскаленных, пылающих углей. Когда она обернулась, перед ней стоял Моисей со своим размноженным на ротаторе курсом лекций в руках. Он отвесил поклон.
Эли, сидевший за столом над яичницей с салом, здороваясь с ней, лишь немного привстал.
— Приятного аппетита, — сказала она. — Продолжайте есть, прошу вас.
Пар оседал на стенах и оконных стеклах. Воздух был такой, что не продохнуть, и Сильви пришлось распахнуть дверь. Она исподтишка приглядывалась к Нажеару. Он только что встал с постели. Свои заботы о туалете он ограничил тем, что махнул разок-другой гребенкой. Совсем как господин Барон, когда тот, возвратившись с работы, отстегивает воротничок.
Теперь, когда он снова принялся за еду, а Моисей возвратился к своим занятиям, Сильви показалось, будто своим внезапным вторжением она нарушила их мирное семейное согласие. Настолько естественно эти двое вписались в домашнюю обстановку.
— У вас грипп? — спросила Сильви, усаживаясь в плетеное кресло.
— Да. И остеохондроз вдобавок. Я шею застудил.
Она пристально смотрела на него. Все трое молчали, в этой тишине было нечто такое, что студент поднял голову, испытующе поглядел на Сильви, перевел взгляд на Нажеара…
— Вам здесь нравится?
— Да, ко мне все относятся очень мило.
Сильви растянула губы в улыбке, на сей раз ошибиться было невозможно: она злилась. То ли на этого польского еврея, которому не хватает сообразительности убраться отсюда, то ли на самого Эли.
— В конечном счете, постояльцы так и живут на кухне!
Моисей Калер безропотно встал, отворил дверь и скрылся в коридоре. Не желая терять времени, Сильви наклонилась к Эли и шепнула:
— У них есть номера купюр!
— Знаю.
Молния гнева сверкнула в ее глазах:
— Ты говоришь об этом так спокойно? Кушая яйца?
А он и вправду оставался спокойным! Сам не отдавал себе в том отчета, но теперь, когда она заставила его это заметить, он дивился собственной безмятежности. За ночь он сильно пропотел и теперь уже почти не ощущал насморка. Только окоченение в области шеи все не проходило, так что головой приходилось двигать с особыми предосторожностями.
— Ты заплатил моей матери вперед?
— Разумеется.
Метнув на него острый взгляд, она встала и открыла супницу, стоявшую на буфете. Собственно, супницей этот предмет никогда не служил, туда прятали старые письма, налоговые квитанции, лежал там серебряный колокольчик на голубой ленточке. В кошельке Сильви нашла тысячефранковый билет французского банка.
— Как ты намерен поступить?
И тут, в этот момент, обоим стало ясно, что они перестали понимать друг друга. Порой казалось, что до Эли вообще не доходит, о чем она толкует!
— Ничего не поделаешь, — сказал он.
Сильви закрыла супницу.
— Ты должен найти способ подменить эту купюру другой, понятно?
Она говорила слишком громко. Забыла об осторожности. Он приложил палец к губам и для вида принялся мешать в печи кочергой, как делал на его глазах Моисей.
— Я привезла твои вещи. Они в «Кафе у вокзала».
Эли налил себе вторую чашку кофе и, стоя с кофейником в руке, посмотрел на подругу с таким видом, будто спрашивал: «А вам не угодно ли?»
В это мгновение она заметила у него на ногах коричневые войлочные туфли своего отца, господин Барон ходил в них дома.
— Тебе нельзя здесь оставаться. Железнодорожный служащий заявил, что видел тебя на обратном пути в Бельгию. В Брюсселе ведется розыск.
— Но ты же все еще в «Паласе»?
— Дурак!
Она подошла к двери, открыла ее и увидела в дальнем конце коридора свою мать, которая, не жалея воды, мыла выложенный плиткой пол.
— Выходит, уже суббота? — пробормотала она. И, закрыв дверь, продолжила: — Я живу в номере вдвоем с подругой из «С пылу, с жару!». Она в курсе всего.
Он стоял, так плотно прислонившись к печке, что спину жгло, и смотрел за окно, на двор, где царили холод и покой.
— Кто из нас двоих умней, не знаю. Просто хочу, чтобы ты убрался отсюда.
Он отвел глаза, будто сконфуженный школьник, и буркнул:
— У меня нет денег.
— А мне какое дело? Ну, так и быть, вот тебе триста франков. Этого хватит, чтобы перейти голландскую границу.
Его невозмутимость выводила ее из терпения:
— Ну? Тебе больше и сказать нечего?
— Тише! Твоя мать…
Верно: в дверь, вытирая руки, вошла мадам Барон. Посмотрела на дочь, и, может статься, легкое подозрение промелькнуло в глубине ее глаз.
— Ваша комната готова, мсье Эли. Антуанетта, когда вернется, затопит у вас печь. А мне сейчас нужно вымыть кухню и начистить медную утварь…
Она поменяла местами кастрюли, подбросила угля в топку, глянула на часы и снова вышла. Ярость Сильви за эти минуты только возросла:
— Признайся: ты попросту решил не уезжать!
— Я не могу уехать с тремя сотнями франков. А здесь я никому не причиняю вреда.
Он скривился от боли — слишком резко повернул голову. Сильви никогда еще не видела его таким: воротничок с пуговкой на кадыке, обвисший костюм, ноги в тапочках слишком большого размера. И сверх того похоже, что он щеголяет в этом наряде не без аффектации, будто роль играет.
— Ты хотя бы сжег все остальные купюры?
— Нет еще. А ты?
— Я свои сожгла.
«Врет!» — подумал он. А вслух сообщил:
— Антуанетта вернулась.
Он уже узнавал ее шаги загодя, когда она шла по тротуару. Вот постучала легонько почтовым ящиком, и мать отперла ей дверь. Чуть погодя она вошла на кухню и застыла как вкопанная при виде сестры:
— А, это ты…
Она ходила в мясную лавку и теперь, выложив купленное мясо на стол, подставила Сильви лоб для поцелуя совершенно так же, как делала мадам Барон, затем подошла к печи погреть замерзшие руки. Поскольку никто не произносил ни слова, она, подождав с минуту, проворковала:
— Я вам не мешаю?
И устремила на сестру откровенно изобличающий взгляд.
— Ты спятила? — огрызнулась та.
— Когда снова привезешь мне чулки, позаботься, чтобы они не были наполовину из хлопка! Обещаешь? А вам, мсье Эли, лучше бы пойти полежать.
Но Эли не ушел. Нарочно остался, назло. Это можно было угадать по его заострившемуся лицу и вызывающей манере держаться.
— Позавтракаешь с нами, Сильви?
— Это вряд ли.
— Тогда зачем было приезжать? Мсье Эли, если хотите остаться на кухне, хотя бы сядьте! У меня голова кругом идет, когда погляжу, как вы тут стоите и нос воротите!
— А ты все такая же невоспитанная, — вздохнула Сильви.
— Чего ты хочешь? Я же не ношу чулки из настоящего шелка, как некоторые!
И воцарилось молчание. Суп опять закипел, в воздухе распространялся пар.
— Послушай, мне надо знать, останешься ты или нет. Ведь если да, я сбегаю за бифштексом.
— Не беспокойся.
Взгляд Антуанетты вдруг будто зацепился за супницу, стоявшую на буфете. Девчонка шагнула к ней, стрельнув глазами на сестру. Она заметила, что из-под крышки выглядывает уголок синей бумаги. Приподняла крышку, пошарила среди бумаг, обнаружила тысячефранковую купюру на месте и, казалось, успокоилась.
— Что это тебе вздумалось?
— Ничего. Такой вопрос надо бы задать не мне, а тебе. По-моему, это довольно странно — приехать из Брюсселя, только чтобы провести несколько минут на кухне, пахнущей гороховой похлебкой.
Сильви встала, пожав плечами, и бросила Эли:
— Дайте мне сигарету.
Сестра не сводила с нее глаз:
— Надо оставить вас вдвоем, не так ли?
— Ты ей что-то выболтал? — прошипела Сильви, когда убедилась, что девушка отошла достаточно далеко.
— Я?! Да никогда в жизни!
— Все равно, повторяю: я хочу, чтобы ты уехал. Понятно?
И, поскольку кто-то вошел, стремительно отскочила от него. В дверях появился одетый с иголочки господин Домб. Он щелкнул каблуками, галантно приложился к протянутой руке:
— Если бы знал, что здесь красивая дама, никогда не позволил бы себе ввалиться так бесцеремонно!
Он любил длинные фразы, тем паче что на женщин они производили впечатление.
— Полагаю, вы провели великолепную и оздоровительную ночь? — обратился он к Нажеару.
Даже не заметив нахмуренных физиономий этих двоих, он, вернувшийся с занятий, протянул свои белые ухоженные руки над теплой печкой и стал удовлетворенно потирать их.
— Уже вторично мне выпадают радость и наслаждение видеть вас, мадемуазель, и я не далее как вчера говорил госпоже вашей матушке…
— Вот и мне необходимо поговорить с госпожой моей матушкой! — отрубила Сильви и вышла из кухни.
Господин Домб всполошился:
— Да что с ней такое? Что я плохого сказал?
Окутанный дымным облаком от своей сигареты, нежась в жарком уюте кухни, Эли даже не услышал его.
— Так и быть! Раз ты уже заскучала, поезжай, дочка, — раздался из коридора голос мадам Барон. — У нас ведь даже цыпленка нет, тебя и угостить нечем.
Каблуки Сильви звонко застучали по плиточному полу коридора. Она вошла на кухню, глазами поискала свою сумочку и резким движением схватила ее.
— Вы уезжаете? — удивился господин Домб, который уже примеривался снова поцеловать ей руку.
Не ответив ему, она вышла, бросив напоследок угрожающий взгляд на Эли. Еще минута, и дверь, ведущая на улицу, громко захлопнулась за ней.
— Это очень, очень хорошенькая девушка, — повторял поляк. — Не знаю, заметили ли вы…
Эли в свой черед вышел из кухни и направился к себе в комнату. Антуанетта стояла на коленях перед маленькой круглой печуркой и ждала, когда дрова достаточно разгорятся, чтобы можно было подбросить угля.
Широкое венецианское окно выходило на улицу. Тротуары, почти совсем обсохнув, приобрели холодный серый цвет, но проезжую часть улицы в любое время года покрывала угольно-черная грязь, от мороза она подернулась тоненькой пленкой льда.
На трамвайной остановке напротив бакалейного магазина Сильви не было. Вероятно, она, подгоняемая яростью, зашагала к городу пешком. Откуда-то слева слышался шум, потом крики, быстрый топот, и наконец он увидел стайку бегущих детей. Это закончились занятия в школе. Часы показывали половину двенадцатого.
— Кстати, — заговорил Нажеар, — у меня к вам просьба…
Он не договорил, ожидая ободряющего знака Антуанетты, все еще коленопреклоненной.
— Ну? — поторопила она раздраженно.
— Я еще недостаточно выздоровел, чтобы выходить из дому. Если бы вы были так добры сходить за моим багажом…
— Вот еще! У вас и вправду есть багаж?
У него почва ушла из-под ног, и он, снова уставившись за окно, пролепетал:
— Я не знал, найду ли комнату, вот и оставил свои вещи в «Кафе у вокзала»…
— А почему бы не попросить Сильви принести их вам, раз уж вы с ней спите? И нечего делать такое лицо! Маме вы можете морочить голову сколько угодно, она всему поверит, но меня вам не провести…
Она осеклась: кусок угля со стуком покатился с совка в печь. Кончив возиться с углем, она оглянулась на Нажеара, но он, прячась от ее глаз, упрямо отворачивался.
— Чего она добивалась, моя сестрица? Признайтесь, она взбесилась из-за банковых билетов!
Девушка выглянула за дверь, проверяя, нет ли кого поблизости. Комната была уже приведена в порядок, кровать застелена, и тепло волнами поднималось от печки. Пламя гудело, разгоревшись разом, чуть только его зажгли. Красноватый пепел хлопьями оседал в выдвинутом ящике шкафа.
— Если вы мне не доверяете, то зря. Я, когда на кухню зашла, сразу смекнула, почему вы пялились друг на друга злобно, как собаки. Сильви хотела, чтобы вы уехали, так?
Сам того не желая, он поднял на нее взгляд. На него смотрели два горячих глаза, таких же рыжих, как ее волосы, по-прежнему растрепанные.
— Я свою сестру знаю лучше, чем вы. Что до купюры, не бойтесь. Я постараюсь ее разменять до понедельника. А газету я сожгла еще утром.
Так вот почему он ее не нашел! Ненадолго оставшись на кухне поутру один, он тщетно разыскивал ее. Какая удача, что газета не стала вторично публиковать номера купюр!
— Они тяжелые, эти ваши пожитки?
— Там два чемодана и саквояж. Надо взять такси.
— А в мою сестру вы не на шутку втюрились?
Он старался не покраснеть, но тщетно.
— Ладно, так или сяк, а за вашими вещами я зайду. Это вам поможет привести себя в божеский вид.
Он слышал, как она переговаривалась на лестнице с матерью. Потом поднялась на третий этаж. Эли прикинул, сколько всего комнат в доме. Рядом с его комнатой располагалась столовая, куда он и носа не совал. Там стоял сильный запах линолеума. На втором этаже комнат было всего две — одна прямо над ним, где жил Валеско, и другая, выходившая окнами во двор, — там обосновался Домб.
Что до третьего этажа, в строгом смысле слова его не существовало. Моисей Калер ютился в мансарде с одним подъемным слуховым окном на карнизе. Соседняя мансарда также была собственностью семейства Барон, в ней обитали супруги, Антуанетта же спала на чердаке, куда свет проникал только через оконце, пробитое в крыше.
Именно там, наверху, она должна была переодеться. Спустившись оттуда, она прошла по коридору, не останавливаясь, Эли увидел ее уже на улице, в жалком пальтишке из зеленого сукна, слишком туго облегавшем бедра.
Не зная ее, легко было бы принять эту девушку за маленькую бродяжку, столько вызова чувствовалось в ее манере надвигать шляпу на глаза и вздергивать худые плечи. Каблуки ее башмаков были сбиты набок, чулки морщились на тощих ногах. На своем обсыпанном пудрой лице она довольно неумело намалевала слишком яркий, кроваво-красный рот.
В дверь постучали. Это была мадам Барон.
— Я зашла взглянуть, разгорелся ли огонь в очаге.
Она и пяти минут не могла усидеть на месте. Печь так раскалилась, что ей пришлось обернуть руку фартуком, чтобы открыть дверцу.
— Уверена, что в вашей стране такого уголька вы не сыщете. Я его прямиком из шахты беру, а потому взыскиваю с вас только полтора франка за ведро. Даже господину Домбу, уж на что мерзляк, одного такого ведра на двое суток хватает, и это посреди зимы!
Она огляделась вокруг, проверяя, все ли в порядке.
— Что вы скажете о моей дочери? Заметьте себе: она куда большего стоит, чем может показаться. Она всегда была без ума от танцев. Но, должна вам признаться, мне и то по душе, что она сюда приезжает не слишком часто. У вас есть сестры?
Эли запнулся, ответил не сразу. Он почти забыл, есть у него сестры или нет. Вопрос заставил его погрузиться в другой, утраченный мир. Наконец он пробормотал:
— Одна сестра есть.
— Красивая? Она живет в Турции?
Да, она жила в Пере. И, надо думать, она красива, раз за ней ухлестывали все его приятели. Однако ей двадцать семь, а она даже помолвлена ни разу не была. Впервые в жизни Эли задал себе вопрос, были ли у нее амурные интрижки.
Он с трудом восстановил в памяти модерновые апартаменты в большом новом доме, где Эстер жила вместе с матерью. А подробности воссоздать не удалось. До него вдруг дошло, что он никогда раньше не обращал на все это внимания, он даже не знал собственной сестры.
— Среди ваших вещей есть фотографии?
— Не думаю. Нет.
— Жалко. Все мои постояльцы развешивают по стенам портреты своих родных. Я в конце концов как бы знакомлюсь с их мамой, с братьями и сестрами. А некоторые приезжают сюда повидать своих мальчиков, потом письма мне пишут. Вот, к примеру, в прошлом году мать господина Домба приезжала. У господина Домба на голове почти не осталось волос, вы заметили? Так вот, его мать очень красивая женщина, очень молодая, когда они прогуливались вместе, их можно было принять за влюбленных. Она ночевала в этой самой комнате…
Болтовня не мешала мадам Барон вытирать пыль и расставлять все предметы по своим местам. Она дважды отступала назад, чтобы проверить, точно ли посредине подоконника стоит медное кованое кашпо на вышитой салфетке.
— Кстати, не надо бы говорить моему мужу, что я не заставила вас заполнить анкету. Понимаете, он чиновник! Он смотрит на вещи иначе, чем мы с вами.
Иногда за окном проезжал, позванивая, красно-желтый трамвай. Из расположенной поблизости угольной шахты выкатывались тяжелые двухколесные конные повозки с углем. Они прогрохотали мимо вереницей — не менее десятка, молотя мостовую своими широкими колесами, и перед каждой шествовал возчик, закинув за плечо кнут.
Сильви пришлось дожидаться поезда целый час. Сидя в зале ожидания, она видела, как ее сестра вошла в «Кафе у вокзала», а потом вышла оттуда с чемоданами.
В Брюсселе шел дождь, но город выглядел уже не так уныло — горели фонари, из больших кафе доносилась музыка.
К восьми вечера, одна, уже в вечернем платье, Сильви сидела за столом в закусочной на площади Брукер, поблизости от оркестра. Она ела холодное мясо, запивая пивом. Пианист, молоденький и тощий, все время ей улыбался, и она бессознательно улыбалась в ответ.
Это успокаивало, словно горячая ванна: просторный зал, над которым висел полог сигаретного дыма, запахи пива и кофе, звяканье тарелок и стаканов, а главное, широкие согревающие волны венской музыки.
Напротив за столиком сидел бледный нервический юнец, несмотря на холодное время года одетый в плащ и вместо галстука повязавший на шею платок с бантом. Сильви заметила на стуле рядом с ним широкополую фетровую шляпу и усмехнулась.
Этот малый наверняка был причастен к искусству — поэт или, может быть, художник. Ему было лет двадцать, не больше. Он старательно курил короткую трубку, в противоположность пианисту устремив на Сильви тяжелый трагический взор.
На третьей пьесе музыкант это заметил и заговорщически подмигнул молодой женщине.
Время шло. «С пылу, с жару!» открывался не раньше десяти вечера. Художественный директор, знакомый Сильви, принял ее на работу в качестве наемной танцовщицы и обещал, что на будущей неделе она выступит со своим номером.
Посетители входили и выходили. На мраморных столиках играли в карты, метали фишки. Дымный полог под потолком, украшенным золоченой лепниной, становился все гуще.
В десять без четверти Сильви вышла, обменявшись с музыкантом последней улыбкой. Подойдя к двери, она оглянулась и заметила, что молодой человек с бантом идет за ней.
Дождь стал потише. До «С пылу, с жару!» было метров пятьсот, не больше.
«Он что, собирается со мной заговорить?» — спросила она себя.
Сильви шла быстро, потом замедлила шаг, снова ускорила, наконец подошла к портье, стоявшему у входа в кабаре, но молодой человек так и не сказал ей ни слова.
— Жаклин уже здесь?
— Я ее не видел.
Она поднялась на второй этаж, сдала свое манто в гардероб и несколько минут прихорашивалась перед зеркалом. А когда подошла к стойке бара, молодой человек уже сидел на высоком табурете, куря свою трубку и беззаботно глядя на пустой зал. Появилась Жаклин. Это была высокая рыхловатая девица в зеленом атласном платье с огромным цветком из розового бархата на плече.
— Ну как?
Бармен не обращал на них внимания, расставляя по местам свои бутылки и бокалы.
— Я смоталась в Гент и Антверпен. Удалось разменять двадцать купюр. Все у меня в сумочке. А ты? Ты его видела? Как он?
— Похоже, он ни в чем не отдает себе отчета!
— Он вернется в Брюссель?
— Не думаю. Уплетает за обе щеки, будто ничего не случилось. Он там пригрелся. Он…
Молодой человек глазел на нее через плечо Жаклин. Она чуть было не скорчила ему гримасу, но потом, сама не зная почему, решила, что лучше улыбнуться.
— Бармен! Повторите…
Эту фразу он явно вычитал из какого-то романа. Легко было догадаться, что у него нет привычки к таким заведениям. И он, сам того не желая, все время косился на ценник.
— Что ты собираешься делать?
— Не знаю. Ведь мы ничего не можем предвидеть. Как бы то ни было, завтра в Льеже и Намюре ты разменяешь последние билеты.
— Тебе не кажется, что это неосторожно? Я сперва не боялась, а теперь меня страх берет…
Но Жаклин была существом податливым. Эта все сделает, чего ни попроси.
Звякнул колокольчик, возвещая, что клиенты прибыли, и обе девушки, посмотревшись в зеркало бара, взгромоздились на табуреты, сияя дежурными улыбками, между тем как молодой человек продолжал созерцать Сильви до театральности мрачным взглядом.
6
Это был третий вечер. Ужин подошел к концу, каждый занялся своим делом — кто в лес, кто по дрова. Домб раскурил сигарету, и тут Эли заметил:
— Держу пари, что вы воображаете, будто курите египетский табак.
— А вы хотите меня уверить, что он турецкий? — разом взъерепенился поляк (шовинизм других его бесил).
— Вот именно! И да будет вам известно, что в Египте выращивание табака строжайше запрещено. Мне ли не знать? Я ведь не только там жил. Мой отец был одним из крупнейших на Востоке экспортеров табака.
Домб замолчал, уткнувшись в свою тарелку. Третий ужин прошел в разговорах о Турции, и он предпочел не поощрять Эли к дальнейшим разглагольствованиям.
Но мадам Барон, сидевшая в дальнем конце стола, оказалась любопытнее. Она спросила:
— А вы не продолжаете его дело?
— В то время, когда я мог бы его продолжить, у меня и в мыслях этого не было. Я путешествовал. Лето проводил в горах Тироля или Кавказа, зимой отправлялся в Крым или на Лазурный берег.
— Вы единственный ребенок в семье, как я поняла?
— Нет, у меня есть сестра.
— Да, правда. Я забыла. Ваш отец умер?
— Он пустился в неудачные спекуляции, и когда его состояние погибло, он в свой черед исчез, оставив моей матери и сестре денег ровно столько, чтобы сводить концы с концами.
Моисей Калер сидел, уставившись на скатерть, и, казалось, не вникал в то, о чем говорили вокруг. Валеско время от времени обводил Нажеара быстрым внимательным взглядом. Кто впитывал его речи увлеченно, так это мадам Барон, между тем как Антуанетта заодно с Домбом притворялась, будто думает о чем-то другом.
Господин Барон уже отодвинул свое плетеное кресло от стола и развернул «Газету Шарлеруа». День выдался студеным, холоднее предыдущих. Небо стало очень бледным, вода в ручейках, что текли вдоль тротуаров, замерзла, дети катались на льду.
— Вам бы, мсье Эли, надо одеться потеплее да и выйти хоть малость размяться, — в который раз убеждала его мадам Барон. — Вы потому и болеете, что только и передвигаетесь от одного стула до другого.
Насморк одолевал его уже меньше. И остеохондроз давал о себе знать лишь временами, когда он, например, просиживал у огня часок-другой. Но выходить не хотелось. Ему было хорошо только здесь, в стенах дома, на пространстве между кухней и комнатой. И странное дело: хотя ему было нечем заняться, он не скучал. У него даже на то, чтобы одеться, едва хватало решимости. Подобно господину Барону, он слонялся без пристежного воротничка, с медной пуговкой на уровне кадыка, шаркая по плиточному полу домашними шлепанцами.
— У вас нет карточки вашей сестры?
— Увы, нет. Если бы захватил с собой семейные фотографии, я бы вам показал нашу виллу на Принкипо.
— Что это такое — Принкипо?
— Остров на Мраморном море в часе пути от Стамбула. С начала весны все у нас перебирались туда из города, потому что климат на Принкипо великолепный. Там у каждого есть свой каик.
— Каик?
— Это такая шлюпка с парусом, очень легкая. Вечерами по морю, спокойному, словно озеро, скользят десятки каиков — прелестное зрелище. Туда приглашают музыкантов. На берегах высятся минареты. А цветов там столько, что сам воздух опьяняет…
Он не лгал. Все так и было. Тамошние картины вставали перед ним так отчетливо, хоть пиши с натуры. И тем не менее он их не чувствовал. Ему с трудом верилось, что он провел там большую часть своей жизни.
Потому-то его и тянуло говорить об этом. А еще потому, что он видел, как мадам Барон ловит каждое его слово. Когда Антуанетта пошевелилась, мать нервно одернула ее:
— Да не вертись ты, когда господин Эли рассказывает!
Она упивалась его речами, словно припевом любимого романса.
— А как там люди одеваются?
— Как везде. Однако до прихода к власти Мустафы Кемаля большинство предпочитало одеваться на восточный манер.
— И вы тоже?
— Нет! Я не мусульманин. В высшем обществе Перы, самого европейского из пригородов Стамбула, все придерживались парижской моды, вестимо, кроме тех, кто нахлобучивал на голову феску.
Домб встал и, с раздраженным видом отвесив поясной поклон, ушел к себе. Мадам Барон, забывшись, все не приступала к мытью посуды, а господин Барон курил и временами мельком поглядывал на остальных, отрываясь от своей газеты.
— Сейчас из-за кризиса жизнь в Пере уже не та, что прежде, но несколько лет назад в ней было, может быть, даже больше блеска, чем в Париже. Там можно было услышать речь на всех языках. Люди жили очень богато.
Он не лгал, и тем не менее ему казалось, будто все эти слова — ложь! Он искал в памяти еще что-нибудь, о чем можно было бы поведать, что-нибудь умиротворяющее, баюкающее, как неаполитанская песенка про Азию:
Покончив с едой, он откинулся на спинку стула, копируя жест, замеченный у других постояльцев.
— А ваша мама и сестра знают, что вы в Бельгии?
— Нет, я им еще не написал.
Мадам Барон решилась наконец помыть посуду, а тряпку передала Антуанетте.
— А у нас, — сказал Валеско, — на Черном море, в Констанце, шикарная жизнь расцветает с каждым днем!
Но никто его не слушал. Румыния никого не интересовала, и он пробормотал уже почти машинально:
— Конечно, никакого сравнения с Босфором!
Моисей Калер, которому не о чем было рассказывать, кроме гетто в городе Вильно, бесшумно поднялся и вышел.
— Почему бы вам не провести вечер в театре, мсье Эли? Сегодня играет труппа из Брюсселя. На третьем трамвае вы доедете до самого театра.
— Меня туда не тянет.
— Вы не любите театр?
— Я столько раз туда ходил! Ведь у нас, знаете ли, не принято было ложиться раньше трех-четырех часов ночи…
Грязная вода плескалась в тазу, фаянсовая посуда, сталкиваясь, постукивала. Эли курил сигареты, уставившись в пространство, бесконечно умиротворенный, чувствуя, как простуда и благоденствие пропитывают всю его плоть. У него не было ни малейшего желания выздоравливать, он больше не чувствовал симптомов лихорадки, но пил обжигающий грог, от которого из всех пор выступал пот.
— Вы рассчитываете задержаться в Бельгии надолго? Я уверена, что вы скоро заскучаете. Привыкнув, подобно вам, к совсем другой жизни, мириться со всем этим…
Что особенно пленяло мадам Барон, так это содержимое его чемоданов, ведь там лежали шелковое белье с его инициалами, серебряный несессер, целый набор галстуков и отменно сшитая одежда.
— Вы это часто надеваете?
— Всякий раз, когда выхожу из дому по вечерам.
Но он и сам с некоторым удивлением смотрел на свою одежду. Ему трудно было заставить себя поверить, что всего две недели назад он еще плыл на «Теофиле Готье», где каждый из воздыхателей Сильви, что ни вечер, заказывал шампанское.
Здесь все слова приобретали совсем иной смысл. Когда он произносил: «шампанское», мадам Барон мерещились роскошные пиры. И то же касалось всего, о чем бы он ни заговорил, вплоть до малейших деталей, — той же одежды, шелкового белья, прислуги.
— Сколько у вас было слуг?
— Постойте, дайте сосчитать. Семеро, включая старую нянюшку, она была уже вроде члена семьи. Садовников с Принкипо я не считаю, учительницу сестры тоже…
Что самое потрясающее, все это тоже было правдой, хотя в конце концов он и в этом стал сомневаться!
Правдой являлось и то, что его отец, потеряв свое состояние, три года назад скончался. Так ли уж изменилась жизнь семьи? В Пере у мамы и сестры были свои апартаменты, старая няня и еще одна служанка. Дом в Принкипо не продан, покупателя не нашлось, и чуть солнышко пригреет, дамы, как и прежде, перебираются туда.
Что до самого Эли, разве он был несчастен? Жил себе, как другие ему подобные, как сотни турецких молодых людей, разоренных кризисом, которые целыми днями слоняются по центральной улице, декламируя стихи, попивая раку, закусывая маленькими копчеными рыбками и ввязываясь время от времени в какую-нибудь аферу.
Так однажды он заработал тысячу турецких ливров на посредничестве в продаже греческому правительству одного старого английского судна. И если бы затея с коврами оказалась удачной…
— Вы никуда не собираетесь, мсье Валеско?
— Возможности нет! Мне теперь придется дожидаться конца месяца. Лучше уж так, чем идти куда-то без гроша в кармане.
— Да знаю я! Будь вы при деньгах, не стали бы сидеть у меня на кухне. Вас тогда и к ужину насилу дождешься.
Посуда была домыта. Мадам Барон, как всегда, притащила корзину с овощами и ведро. Ее муж, вздыхая, встал, зевнул и направился к двери. Когда его шаги затихли на лестнице, хозяйка объяснила:
— Ему сегодня надо ехать ночным поездом. Завтра утром он будет уже в Эрбестале, а домой вернется не раньше завтрашней ночи. Ты приготовила для него одежду, Антуанетта?
— Да. И оторванную пуговицу пришила.
Валеско, заскучав, потоптался в нерешительности, потом спросил Эли:
— Не хотите сыграть партию на бильярде в угловом кафе?
— Спасибо, нет.
— В таком случае я иду спать. Доброй ночи.
Теперь слышались только ритмичное поскрипыванье ножа, очищающего с картошки кожуру, да временами стук очередной брошенной в ведро картофелины.
— Как приятно путешествовать, — вздохнула мадам Барон. — У меня-то никогда не было возможности…
Эли увидел, как Антуанетта вскинула голову, и заметил, что она вдруг побледнела. Она тоже смотрела на него. Пыталась дать ему понять что-то, подталкивая к нему развернутый газетный лист.
— Но если у тебя это не получилось, пока ты молод… — продолжала мадам Барон, ничего не замечая.
Из осторожности помедлив, Эли придвинул газету.
Крупные буквы заголовка чернели над тремя колонками текста — речь шла о том, что вследствие взрыва метана на угольных копях Серена двенадцать шахтеров оказались погребены заживо. А рядом он прочел слова, набранные шрифтом помельче: «Убийство голландца».
— Вы редко просматриваете газеты, — не поднимая головы, прокомментировала мадам Барон. — И то сказать, какой вам интерес в бельгийских газетах?
«Сегодня утром в пачке купюр, присланных в банк Брюсселя его филиалом в Генте, обнаружены три банковых билета, похищенных у господина Ван дер Крэйзена, как мы сообщали ранее, убитого в парижском экспрессе.
Сыскная полиция тотчас была оповещена, и, вероятно, уже оформлено судебное поручение продолжить расследование в Генте.
По поводу этого дела «Журналь де Пари» обращает внимание на любопытное несовпадение законов и обычаев двух стран.
Оказывается, если бы убийство было совершено до пересечения границы, то есть на бельгийской территории, преступнику грозили бы всего лишь пожизненные каторжные работы, поскольку смертная казнь в Бельгии отменена в принципе.
Но таможенники свидетельствуют, что они знали господина Ван дер Крэйзена, и со всей категоричностью утверждают, что он был в полном здравии, когда поезд пересекал границу в Кеви.
Таким образом, коль скоро убийца подлежит французскому суду, на карту поставлена его жизнь…»
Чувствуя устремленный на него пристальный взгляд Антуанетты, Эли мучительно, из последних сил старался сохранить хладнокровие. Это было невозможно. Он отодвинул газету на несколько сантиметров, его рука так взмокла от пота, что ее прикосновение оставило на бумаге влажный след.
К счастью, тут появился Барон, уже в униформе, и жена занялась исключительно им. У него была своя металлическая коробка, в которую она положила бутерброды, потом налила в термос кофе с молоком.
Но Антуанетта смотрела на него в упор, ее рыжие глаза застыли.
Он боялся грохнуться в обморок. Страх был безумным, безотчетным. Ему казалось, будто стул под ним качается. Он тщетно пытался оторвать глаза от бледного лица Антуанетты, взгляд которой становился все более жестким, презрительным.
— Доброго вам здоровья, мсье Эли.
Едва осознавая, что делает, он пожал протянутую руку кондуктора. Мадам Барон, провожая мужа, вышла с ним вместе на улицу, и холодный сквозняк проник в дверь кухни.
— А вы трус! — с живостью сообщила Антуанетта, пользуясь тем, что они остались вдвоем.
Он не понял. Он различал то, что ее окружало, — фаянсовую плитку, которой была выложена печь, чайник, поющий на огне, обнаженные картофелины в эмалированном ведерке. Но все это было таким несущественным, так быстро уплывало куда-то, что он обеими руками вцепился в край стола, стараясь удержаться.
Дверь, ведущая на улицу, хлопнула. Раздались шаги мадам Барон, они приближались, и Антуанетта шепнула:
— Тихо!
Ее мать, войдя, поочередно оглядела обоих, с особенным подозрением Антуанетту. Она уже дважды указывала ей:
— Ты не слишком любезна с мсье Эли.
Затем хозяйка снова взялась за нож для чистки, достала новую картофелину.
— На вашем месте, — произнесла она, — я бы все-таки прогулялась. Сейчас только половина десятого. Право же, вы слишком много спите.
Но он прирос, как приклеенный, к своему стулу, к этой кухне, к дому.
— Я бы не хотела иметь мужа, который вечно вертится у меня под ногами, — объявила Антуанетта.
— А тебя ни о чем не спрашивали! Я ежели что говорю, то для блага мсье Эли, просто по-матерински.
Он с усилием поднялся с места.
— В добрый час! Ключ я вам выдала, не так ли? И сделайте милость, не простудитесь!
Но вышел он еще не сразу. Сначала зашел к себе и долго сидел на кровати, но теперь его ужасал мирный вид комнаты, где он уже изучил каждый предмет и помнил его место. Ничего теплее, чем демисезонное пальто, у него не было. Он надел его, обмотал шею шерстяным шарфом.
Чего ради Антуанетта подсунула ему эту заметку? Как там написано: «…на карту поставлена его жизнь…»?
Никогда, даже мельком, подобная мысль не приходила ему на ум! Он забыл потушить свет. Проходя по коридору, повернулся и увидел сквозь стеклянную кухонную дверь Антуанетту и ее мать, они по-прежнему сидели там в такой мирной тишине, что он почти слышал, как будильник на камине твердит свое «тик-так».
На улице его сразу затрясло. Земля отвердела на холоде. Он впервые видел это место в потемках. И не узнавал его.
Свет шел только от витрины бакалейной лавки, расположенной напротив, чуть левее. Или уж надо было обратить взор куда-то вдаль: к центру города вела гирлянда газовых рожков.
Никто не проходил мимо. Чуть ли не за пятьсот метров раздались было чьи-то шаги, потом затихли, зазвенел дверной колокольчик, открылась и снова захлопнулась дверь.
Эли не мог оставаться на месте. Он шел неуверенно, не разбирая дороги, надвинув шляпу на глаза и подняв воротник пальто. И в то же время его томило ощущение, будто это не настоящая улица, да и город не взаправдашний.
Дома здесь не образовывали кварталов, как обычно. Здесь не было поперечных улиц. Скажем, десять-двенадцать совершенно одинаковых домов стояли в ряд, потом открывался прогал, за ним пустыри, стройплощадки, рельсовые пути. Откуда ни возьмись возникали еще несколько домов, новый пустырь, и опять пересекали дорогу сверкающие рельсы.
А выше, во мраке — плюющиеся огнем трубы и небо над ними с красноватым медным отливом.
Эли шагал быстро, без цели. Ему этого не хотелось. Не было желания прийти куда-либо. Он прошел мимо тускло освещенного кабачка, разглядел сквозь стекло зеленое пятно бильярдного стола — наверняка это и был бильярд Валеско.
Навстречу ему попалось семейство: отец, мать и двое детей, они держались за руки. На лету Эли поймал обрывок фразы:
— Я всегда говорила твоей кузине, что она зря…
Дальнейшего он не расслышал. Идти дальше не хотелось. В двух сотнях метров впереди теперь горели фонари, светились витрины больших магазинов, виднелся кинотеатр, там как раз дали звонок перед сеансом, по тротуару сновали фигуры прохожих.
Он остановился, с минуту глядел на все это издали полными ужаса глазами, потом внезапно повернул назад. Спешил унести ноги. Едва сдерживался, чтобы не побежать. Животная паника душила его, он больше собой не владел.
Ключ он взять забыл. И теперь шел стремительно, будто за ним гнались и нельзя было терять ни секунды, ему даже слышались за спиной настигающие шаги.
Он узнал дом, дверь. Разве этот дом не был его жилищем всю жизнь? Сквозь замочную скважину он увидел, что на кухне горит свет. Не стал звонить, как чужой, а постучался, используя вместо колокольчика почтовый ящик.
По его вискам на щеки стекала влага. Дверь отворилась, чья-то фигура возникла на фоне освещенного коридора.
Это была Антуанетта. Она не произнесла ни слова. Пропустила его мимо себя, не двигаясь, не отпуская дверной ручки.
— Там холодно, — пробормотал он, входя.
— Вам бы лучше лечь.
Он поспешил к себе в комнату, сбросил пальто. Ему хотелось, чтобы Антуанетта последовала за ним. Напрямую дать ей это понять он не осмелился, только посмотрел настойчиво, с мольбой.
— У вас есть все, что вам нужно?
Он приободрился:
— Мне бы огня. Я продрог.
Она вышла, но дверь не закрыла, стало быть, вернется. Так и есть: он услышал звук, уже знакомый — звон ведра, которое она наполняла углем, выгребая его из ларя. На кухне послышались голоса, мать и дочь обменялись парой слов.
— Приготовлю-ка ему грог, — сказала мадам Барон.
Антуанетта возвратилась, исполненная пренебрежения, поставила свое ведро, развернула газету, открыла печную дверцу. Топка была полна остывшего пепла, и девушке пришлось опуститься на колени, выгребая его.
— Антуанетта! — еле слышно выдохнул Эли.
Она не шелохнулась. Сидя на краю кровати, бессильно свесив руки, он повторил:
— Антуанетта…
— Ну? Чего вам? — откликнулась она, не понижая голоса.
Испуганный, он не настаивал. Только пролепетал, даже не зная толком, слышит ли она:
— Вы злая…
Она сгребла пепел в кучку на совок, потом смяла газету, бросила на печную решетку:
— У вас спички есть?
Он сорвался с места, в восторге от того, что слышит ее голос, спеша ей помочь.
— Я просила у вас только спички.
Бумага вспыхнула, огонь быстро перекинулся на куски дерева. Антуанетта, которая все глядела на взметнувшееся пламя, внезапно обернулась:
— Купюры еще у вас?
Он не знал, что ответить. Ее голос звучал так властно, что он подошел к гардеробу, привстал на цыпочки и вытащил спрятанную там толстую пачку.
— Дайте!
Без церемоний, словно имела на это право, она швырнула деньги в огонь и, видя, что горят они недостаточно быстро, разворошила пачку кочергой.
Он не протестовал. Только прислушивался, проверяя, не вышла ли мадам Барон из кухни. Потом подошел к девушке, смиренно, с мольбой протянул к ней обе руки.
— Что вам угодно?
Она была спокойна, ее переполняло презрение, но гнева ни капли.
— Антуанетта… Если бы вы знали…
— Без шуток! — Она рассмеялась, схватила ведро с углем, высыпала половину в печь. Потом заперла дверцу, огляделась, проверяя, все ли в порядке, и обронила: — Ложитесь.
Ее шаги удалились по коридору, кухонная дверь хлопнула, приглушенные голоса двух женщин стали еще тише.
— Антуанетта… — машинально повторил он, все еще сидя с поникшей головой на краю постели.
Он видел ее так ясно, будто она все еще была здесь: жесткое прямое тело под черным платьем, угловатые плечи, едва оформившиеся, до странности широко расставленные груди, рыжие пятнышки веснушек на скулах.
— Ложитесь! — сказала она.
А между тем он знал, что весь день она думала только о нем, и когда он говорил о Стамбуле, никто не слушал внимательнее, чем она.
— Антуанетта…
Он посмотрел на свою одинокую постель, потом на выключатель — и снова вспотел от ужаса при мысли, что свет придется потушить и остаться в темноте рядом с печью, гудящей, словно мотор.
Слегка наклонившись, он увидел в зеркале над раковиной свое лицо, но сразу отвернулся, а когда снимал рубашку, старался не прикасаться к шее.
Он скорчил плаксивую гримасу, но не заплакал. А когда наконец лег, все повторял, сжимая кулаки в темноте, кусая подушку:
— Антуанетта…
Его одолевал страх. Он был в ярости. Навострив уши, ловил каждый звук, доносившийся из кухни, где все еще работали они обе, мать и дочь.
Валеско ходил у него над головой, топал, потом запер дверь на ключ и лег.
7
Часы остановились, но было, наверное, начало десятого, поскольку Эли, одеваясь, видел, как соседки суетились вокруг груженной овощами ручной тележки, которая только что остановилась перед домом. Было очень холодно, судя по тому, как они переминались с ноги на ногу, а у одной из них, тощей блондинки, покраснел нос. Они принялись рыться в корзинах, а торговец поднес к губам трубу, которая издала пронзительный звук. Тут и мадам Барон не замедлила выйти из дому и рысцой устремиться к тележке с кошельком в руке.
— Войдите, — сказал Эли, так как в дверь постучались.
Он думал, пришла Антуанетта, чтобы заново развести огонь. Но на пороге возник Валеско в пальто и шляпе, с пачкой книг под мышкой.
— У вас тут хорошо! — воскликнул он. — Как вы себя чувствуете?
Эли не сразу понял, в чем смысл его визита, обрадовался, но румын, поглядев в окно на мадам Барон, покупавшую цветную капусту, легким тоном продолжал:
— Вынужден просить вас о маленькой любезности. Наша хозяйка с некоторых пор склоняется к мысли, что мой денежный перевод слишком запаздывает. Не могу же я ей признаться, что он пришел десять дней назад и весь потрачен! Не одолжите ли мне триста франков до будущей недели? По дружбе, как студент студенту… Надо же! У вас точно такая же бритва, как у меня… Она милейшая женщина, но касательно денежных вопросов у нее свои понятия, хотя это совсем не значит, что она корыстнее прочих…
Ни слова не говоря, Эли порылся в чемодане, достал со дна бумажник. У него осталось что-то около девятисот франков сдачи с тысячного билета, который разменял парикмахер. Он протянул Валеско три сотенные бумажки, которые тот небрежным жестом засунул в карман.
— Я ваш должник!
Мгновение спустя голова его новоявленного должника уже промелькнула мимо окна на уровне подоконника, совсем близко, между тем как на заднем плане картины соседки продолжали щупать овощи.
Эли не мог в точности определить характер ощущения, которое у него вызвал этот эпизод. На грудь будто навалилась тяжесть, и он чувствовал, что это на весь день. Он все смотрел на раскрытый бумажник. Пересчитал стофранковые купюры — всего пять. Еще в карманах завалялось несколько монет.
Возможно, в целом наберется франков пятьсот сорок?
В целом, да! И это надо понимать буквально, так как больше у него ничего нет! Французские тысячные билеты отныне обесценены и сожжены! И тот, который он вручил хозяйке за пансион, тоже цены не имеет! Антуанетте это известно! А мадам Барон, может статься, вскоре убедится в этом!
А ведь месячный пансион стоит восемьсот франков!
Он еще не успел подумать об этом и теперь пришел в полную растерянность. Только представить, что будет, если ему вдруг придется убраться отсюда…
Нет! Он никуда не уйдет! В доме он в безопасности скорее, чем где бы то ни было еще! Никому не взбредет в голову искать его здесь.
Но как быть, когда мадам Барон потребует у него денег? Она заботилась о нем лучше, чем о других, думая, что он больше платит. У него был полный набор блюд, свой прибор на конце стола, по вечерам ему одному полагались мясо и овощи, и огонь, весь день горевший в комнате, тоже являлся привилегией его одного.
Она между тем вернулась с покупками. Тележка торговца овощами отъехала немного подальше и остановилась там. Мимо прошел пустой трамвай. При мысли, что у него могут отнять дом, Эли терял голову. Ему было жаль трех сотен, одолженных Валеско. Но мог ли он ему отказать? Разве он не должен поддерживать добрые отношения со всеми?
— Мсье Эли!
Мадам Барон звала его. Когда он вошел на кухню, она была занята варкой яиц.
— Мне нужно вас обслужить, а уж потом убираться в комнатах. Как вы себя чувствуете сегодня с утра?
В отсутствие господина Барона плетеное кресло поступало в распоряжение Эли. Когда в него садились, оно издавало совсем особенный скрип. Кухня пахла свиным салом и яйцами. Стол был пуст, не считая прибора, поставленного для Нажеара.
— Вам ничего больше не нужно? Тогда я побежала наверх, спешу, к вечеру хотелось бы разделаться с глажкой.
Несколько секунд спустя наверху послышался голос Моисея, Эли разбирал или угадывал обрывки фраз:
— Поработать на кухне… была одна идея… пальто… подхватишь хорошую пневмонию…
Моисей не замедлил спуститься, держа в руках пачку тетрадок. Он разложил их на противоположном конце стола и, проворчав «добрый день», начал писать карандашом. Пальцы у него были толстые, неловкие. Он слишком сильно нажимал карандашом на бумагу, от этого стол непрестанно подрагивал.
Эли, которому есть не хотелось, что-то бессознательно жевал и все не мог отделаться от мысли о трех сотнях франков. До того дошел, что позавидовал Моисею, который хоть и получал совсем мало, но у него всегда хватало денег, чтобы заплатить за свое место в доме.
А бедолага из Польши все строчил, головы не поднимая. Его большая рука бежала по бумаге, спина ссутулилась, щеки порозовели от печного жара и кухонного покоя… Он выглядел абсолютно счастливым!
Эли встал, взял кофейник, налил себе вторую чашку кофе. Потом закурил сигарету и постоял, глядя прямо перед собой и чувствуя, что достиг некоего равновесия, но оно неустойчиво.
— Вы давно обосновались в этом доме? — внезапно спросил он на идише.
Чем это не способ сблизиться, дать Моисею понять, что между ними существует особая связь?
— Год назад, — откликнулся Моисей по-французски, не переставая писать.
— Вы не говорите на идише?
— Я и на французском говорю, а здесь живу затем, чтобы в нем совершенствоваться.
Его взгляд, обращенный к Эли, выражал скуку, он словно бы досадовал, что его обеспокоили, попусту мешают работать. Нажеар встал, побрел к себе, долго смотрел в окно на черно-белый пейзаж: дома и вправду совсем почернели от угольной пыли, а мостовая побелела от инея.
На втором этаже кто-то ходил, должно быть Антуанетта, ведь мадам Барон ушла в мансарды.
Когда Эли вернулся на кухню и взял пылившийся на буфете старый номер «Занимательных историй», спина Моисея даже не дрогнула.
— Вы не курите?
— Никогда.
— Из соображений вкуса или экономии?
Вопрос остался без ответа, и Эли стал переворачивать страницы журнала, рассматривая иллюстрации. В этом доме, где на плите неизменно стоял огромный кофейник, он привык пить кофе во всякое время. Снова налил себе, спросил соседа:
— И вам чашечку?
— Спасибо, не надо.
— Ни табака не признаете, ни кофе? Держу пари, что спиртного и подавно?
Он был мил. Улыбался, хотел любой ценой создать между ними сердечную атмосферу. Но Моисей, опершись на руку своим замученным науками лбом, знай строчил, не переставая.
«У него, верно, и женщины никогда не было!» — подумал Нажеар.
Ни женщины, ни какой-либо иной радости — ничего, кроме работы, вот так он вечно сидит здесь или в своей нетопленой комнате, в пальто, с одеялом на плечах. Мадам Барон даже говорила, что поначалу он сам стирал свою единственную рубашку в раковине, а когда сушил, растягивал ее руками, чтобы не гладить. Потом она его заставила купить вторую рубашку на смену и каждую неделю стирала для него одну из них — даром.
Три больших листа бумаги были уже исписаны, и если не считать шороха торопливого карандаша да дрожи стола, ничего больше не было слышно, только «тик-так» будильника, который показывал четверть одиннадцатого.
— Как по-вашему, кто я такой? — внезапно спросил Эли: этот вопрос уже несколько минут просился ему на язык.
Он еще сам не понимал, к чему клонит, но испытывал потребность сближения, его тянуло к Моисею, хотя одновременно он испытывал перед ним что-то похожее на страх.
На сей раз польский еврей поднял голову. Его взгляд остановился на Нажеаре, это продолжалось несколько мгновений, но прочесть в его глазах хоть какое-нибудь чувство Эли не смог.
— Мне это безразлично, — произнес он наконец, возвращаясь к своей писанине.
Такое равнодушие само по себе взбесило Эли, и он снова, как делал на дню раз двадцать, удалился в свою комнату, где ему было нечем заняться и откуда он вскоре вернулся:
— Послушайте… Я испытываю к вам абсолютное доверие и хотел бы поручить вам одну комиссию на случай, если со мной что-нибудь случится…
Это был чистый блеф. Он никогда не планировал никаких комиссий подобного рода. Мысль пришла ему в голову только что и показалась удачным способом произвести на собеседника впечатление. И верно: Моисей снова поднял голову, на этот раз он даже карандаш на стол положил.
— Я предпочел бы, чтобы вы не продолжали, — произнес он и встал.
Эли не понимал, что он теперь собирается делать. Кровь прихлынула к щекам, он был готов пуститься в невесть какие откровенности:
— Мне казалось, что единоверец…
Моисей собрал свои бумаги и, уже стоя на ногах, готовый уйти, вымолвил не повышая голоса:
— Чего вы надеетесь добиться?
Понять, к чему относится последняя фраза — к этому разговору или к поведению Эли в целом, — было затруднительно.
— Ну, если вы все так воспринимаете…
— Я не воспринимаю ровным счетом ничего. Меня это не касается. Но мадам Барон очень добра ко мне. Хотелось бы, чтобы вы не навлекли на нее неприятности…
Он перешагнул порог кухни, неторопливо, в раздумье прошел через прихожую, поднялся по лестнице.
Оставшись один, Эли через силу усмехнулся. Чувствовал, что его обступает пустота, сбивающая с толку. Это было уже знакомое ощущение неустойчивого равновесия, что настигло его поутру при пересчете своей убогой наличности, только теперь оно еще усилилось.
Он был сам виноват, это его ошибка. Не потому ли он так назойливо приставал к Моисею, что подозревал: еврей что-то пронюхал?
Никто не мог увидеть его сейчас, но он тем не менее усмехался, пытаясь в собственных глазах затушевать понесенную обиду.
— Завистник! — фыркнул он вполголоса.
Пододвинул плетеное кресло ближе к печке и, прежде чем сесть, подбросил угля в топку. Мадам Барон со своими ведрами спускалась вниз по лестнице. Эли заметил, что вода в кастрюле, где варилась картошка, почти совсем выкипела, и подлил еще. Хозяйка, застав его за этой работой, растроганно просияла:
— Хорошее дело, мсье Эли! Вы не чета господину Моисею, вы совсем другой! Он может сидеть тут часами, уткнувшись носом в печку, и все равно позволит мясу подгореть. Ну, правда, он вечно в трудах…
Скроив мину образцового скромника, Эли уселся на свое место.
— Вы скучаете?
— Нет, уверяю вас.
— Ясно же, что здесь не так весело, как у вас на родине, и не так шикарно. Не понимаю, почему вы совсем не гуляете, хоть понемножку. Как погляжу на вас рядом с Антуанеттой, право, можно подумать, будто это вы девушка, а она парень.
Если бы она ему позволила, он был готов чистить картошку и даже драить медную утварь. Лишь бы остаться здесь, в тепле, среди стен, крашенных масляной краской, и запахов, успевших стать более привычными, чем запахи родного дома. Все прочее не в счет, остаться бы только.
— Антуанетта! — крикнула мадам Барон, обернувшись в сторону коридора. — Принеси мне ведра с углем!
Эли в этот день еще не видел Антуанетту, и когда она вошла, смотрел на нее более чем с интересом. Она же, притворяясь, будто не замечает его присутствия, молча поставила на пол два ведра, полные угля.
— В чем дело? Ты не скажешь мсье Эли «добрый день»?
— Добрый день.
— На оплеуху напрашиваешься?
Девушка инстинктивно вскинула руку, заслоняя лицо.
— Оставьте ее, — вмешался Нажеар.
— Не выношу таких грубостей. А к вам и подавно, вы же так любезны и с ней, и со всеми…
Антуанетта устремила на Эли свои рыжие глаза, будто говоря: «Я вам это еще припомню!»
И он, до того, как ему показалось, подавшийся чуть вперед в своем кресле, снова вжался в него и скукожился.
По воле декоратора «С пылу, с жару!» всю поверхность белых стен этого заведения заполняли голубые волны, символизирующие море. Между ними он представил розовых, зеленых и золотистых рыб, плавающих в той же стихии, что рыбачья лодка, трехмачтовый корабль и даже купальщиц, возлежащих на желтом фоне, под коим следовало понимать песок.
Все это вместе взятое смотрелось жизнерадостно. Зал был маленький, чтобы оживить его, хватало небольшого числа посетителей. Освещение ежеминутно меняло цвет, что усиливало эффект веселого ускользания от реальной жизни.
Людей в тот вечер собралось пока что немного. Джаз-оркестр разыгрывал всего лишь вторую музыкальную пьесу, танцовщицы подходили одна за другой, издали здоровались друг с другом, мимоходом пожимали руку бармену и садились за столик перед пустым бокалом для шампанского.
Сильви расположилась за колонной в обществе юнца с бантом вместо галстука, который приходил сюда три дня подряд.
— Вы чем-то озабочены, — говорил он ей. — Я это чувствую. Но вы не хотите довериться мне.
Она смотрела на него невидящим взглядом, отвечала машинально:
— Да нет же, малыш!
Они сидели рядом на банкетке. Он взял ее руку, нежно пожал и взволнованным голосом продолжил:
— Я бы так хотел, чтобы вы мне поведали как другу о своих печалях!
Она улыбнулась, потрепала его по волосам — он их, как принято у поэтов, отрастил длинными, — но по-прежнему смотрела на дверь, о чем-то другом думала. Увидев, что входит Жаклин в своем котиковом манто, она вскинулась было, но опомнившись, промурлыкала:
— Вы мне позволите отойти на минуточку? Я должна поговорить с приятельницей…
Служитель избавил Жаклин от ее мехов, и Сильви потащила подругу к стойке бара.
— Ну? Что?
— Ничего… Или, скорее, я не уверена… Когда входила, показалось, что какой-то тип ошивается в двух шагах от двери. Спрашивала Жозефа, он говорит, час назад там другой торчал…
Это был пустой день. Клиентов мало. Администратор, стоя у входа в смокинге, лениво оглядывал зал.
— А твой богемный мальчик все еще здесь! — заметила Жаклин. — Бедняжка.
— Вчера я попросила его не приходить больше, так он заплакал. Я из-за него уже на Хромоножку наорала, она ему сигареты всучила за двадцать два франка.
Но думали они обе совсем о другом. Жаклин пробормотала:
— Так что мы решим?
— Не знаю. Налей-ка мне, Боб, чего-нибудь позабористей…
Пойло, что подал ей бармен, Сильви прикончила одним глотком. Она напряженно думала. А молодого человека, сидевшего за ее столиком, не замечала, для нее он был тенью, почти такой же бесплотной, как разноцветные рыбы на стене.
— С того момента, как в Генте обнаружили купюры…
— Я, — заявила Жаклин, — считаю, что нам лучше быть попокладистей. Они только и думают, как бы нас накрыть, и одному богу известно, к чему это может привести…
Сильви навострила уши. Приглушенный звонок телефона донесся до ее слуха, и когда администратор скрылся из виду, у нее возникло предчувствие, что сейчас он позовет ее.
— Подожди меня!
Она едва успела приблизиться к лестничной площадке, как администратор вышел из кабинки:
— Надо же! Вот и вы! Вас-то и просят к телефону…
— Алло!
Она говорила тихо, зная, что ее могут подслушивать.
— Мадемуазель Сильви? У аппарата сама мадемуазель Сильви, лично?
— Ну да!
— Это портье из «Паласа»… — Голос упал до шепота. — Сюда только что приходили, меня расспрашивали… Вы понимаете? Им известно, что вы здесь были с господином Эли… Я вас хочу предупредить на случай…
Администратор проводил ее глазами, когда она шла к бару. Она послала издали улыбку своему юному поклоннику, терпеливо ждавшему, когда очередь дойдет до него.
— Так и есть! — бросила она Жаклин.
— Что?
— Они вышли на след «Паласа». Куда ты положила купюры?
— К себе в сумочку.
Жаклин держала сумочку в руке. Сильви взяла ее, повернулась лицом к барной стойке из красного дерева, сумела незаметно вытащить банковые билеты и сунула их за корсаж.
— Что ты будешь делать? А мне как быть? Что говорить?
— Ну, ты-то защищена. Я попросила тебя разменять купюры. И все. Ты ничего не знаешь.
— И это правда. Когда ездила в Гент, я еще не знала ничего…
Две парочки танцевали. Сильви беглым движением сжала пальцы подруги:
— Предоставь действовать мне.
И двинулась к банкетке, где сидел, сияя блаженной улыбкой, молодой человек.
— Она далеко не так красива, как вы, — решительно объявил он. — Что будете пить?
— Мы уже выпили…
— Да, но мне уже сделали замечание, что наши бокалы пусты.
Она сердито сверкнула глазами на официанта, но он ведь только исполнял свою работу, побуждая клиента потреблять.
— Один оранжад!
Этот парнишка был обременителен, и все же его присутствие оказалось кстати, при нем она чувствовала себя увереннее. Хотя Жаклин уже вернулась, Сильви продолжала коситься на дверь. И снова ею овладело предчувствие, когда на лестнице послышались шаги кого-то, кто шел один, потом раздался голос администратора, его дежурная фраза:
— Прошу сюда. Выступления вот-вот начнутся…
Но в зал никто не вошел. И тихо стало — ничего больше не слышно, только шарнирная дверь вращалась, то открываясь, то закрываясь. Ведь «С пылу, с жару!» с официальной точки зрения являлся частной территорией, это и позволяло торговать здесь спиртным на разлив. Для видимости по другую сторону лестничной площадки имелась маленькая комната, там стояли два кресла и стол, заваленный иллюстрированными журналами, — якобы гостиная.
— Неужели вам нравится такая искусственная жизнь? — спросил молодой человек, краснея от собственной дерзости.
Сама того не желая, она нервно отозвалась:
— Вы считаете эту жизнь искусственной?
— Я хотел сказать, что…
Но она уже овладела собой. Да что он может понимать, этот сосунок? Она напрягала слух, хотя прекрасно знала, что разговора, который ведется в гостиной, отсюда не услышать.
Жаклин в сиреневом шелковом платье сидела у самого оркестра и уже оттанцевала два танца.
— Прошу прощения, если мои слова вас задели…
— Да нет же, малыш!
Ей хотелось заставить его замолчать. Нервы были слишком напряжены. С минуты на минуту появится администратор, в дверном проеме возникнет его фигура в смокинге… Только ждать этого пришлось дольше, чем она предполагала.
— Вы разрешите?
Она кинулась к бару:
— Скорее! Еще спиртного…
Самое время. Вон он, администратор, и действительно делает ей знаки. Она еще взяла на себя труд поглядеться в зеркальную стенку бара, поймать свое отражение, маячащее среди бутылок, поправить волосы.
— Скажи Жаклин, чтобы не психовала…
Администратор не сводил с нее глаз, когда она шла к нему:
— Там один человек, который…
— Я знаю!
Она толкнула дверь «приватного салона», закрыла ее за собой и оказалась лицом к лицу с мужчиной лет сорока в черном пальто с бархатным воротником, который делал вид, будто просматривает журналы.
— Сильви Барон? Присядьте, прошу вас.
И протянул ей карточку инспектора бельгийской полиции.
— Вы догадываетесь, что меня к вам привело?
— Ну разумеется!
Она сразу поняла, что такой ответ сбил его с толку.
— А! Хорошо… очень хорошо… В таком случае, полагаю, мы понимаем друг друга… Нет нужды говорить, что я сей же час допрошу вашу подругу Жаклин, а также что мне известно гораздо больше, чем вы думаете…
— Я вас слушаю.
Комнатка была такой пустой, с такими голыми стенами, что смахивала скорее на приемную бедной школы или диспансера. Только звуки джаза, долетавшие сюда, создавали различие.
— Ну же! Что вы можете мне сказать?
— Я готова ответить на ваши вопросы.
Он, похоже, был славным малым и уже два раза поглядывал украдкой на декольте Сильви.
— Вы знакомы с неким Эли Нажеаром?
— Конечно, и вы это прекрасно знаете, ведь портье в «Паласе» показывал вам книги регистрации.
— Где вы встретились с ним?
— В море, на борту «Теофиля Готье» после остановки в Стамбуле, он там взошел на корабль.
— Там вы и стали его любовницей?
— Не стоит преувеличивать. Он направлялся в Брюссель. Я тоже. Мы были попутчиками.
— Стало быть, вы утверждаете, что он не был вашим любовником?
Она пожала плечами, вздохнула:
— Это разные вещи! Если вы не понимаете…
— Вы знали, что Нажеар нуждался в деньгах?
— Он никогда мне об этом не говорил.
— Вы знали, что он замышляет злодеяние?
Она посмотрела собеседнику прямо в глаза:
— Что, если мы перестанем ходить вокруг да около? Так будет проще, не правда ли? Я не вчера родилась, вижу, к чему вы клоните. Так вот, я понятия не имею, совершил Нажеар злодеяние или нет. Я рассталась с ним в среду около одиннадцати утра, у него был грипп, он лежал в постели. Мне захотелось подышать свежим воздухом. Вечером, когда вернулась, я его уже не застала.
— А его вещи?
Сильви запнулась, догадавшись, что персонал «Паласа» доложил о том, как на следующий день она забрала из номера багаж своего спутника.
— Остались в отеле.
— Я не принуждал вас это сказать. Итак, когда Нажеар вернулся?
Она встала, прошлась по комнате, чтобы собраться с мыслями. Полицейский не сводил с нее глаз.
— Он позвонил мне на следующий день с Южного вокзала, попросил привезти его чемоданы, потому что ему нужно было успеть на поезд.
— А затем?
Инспектор рывком сдернул резинку с записной книжки и принялся строчить.
— Я поехала туда. Он дал мне пятьдесят тысяч франков и сел в скорый поезд Берлин — Варшава.
Инспектор вскинул голову. Она держала удар.
— Прошу прощения. В котором часу это было?
Она усмехнулась, потому что помнила расписание всех международных поездов. Довольно ей пришлось покататься на них!
— Поезд уходил в девять тридцать шесть. Нажеар извинился, что покидает меня в такой спешке, и, как я уже сказала, дал мне пятьдесят тысяч франков.
Она достала из-за корсажа пачку бельгийских купюр и положила на стол.
— В бельгийской валюте? — удивился инспектор.
— Нет, во французской.
— Вы обменяли их в Брюсселе?
— Вы прекрасно знаете, что нет. Вам также известно, что нас — таких, как я, — вечно в чем-нибудь подозревают, особенно когда видят у нас крупную сумму. Я попросила подругу поменять эти деньги в Генте и Антверпене.
— И вы не обратили внимания на их номера? Ничего не заподозрили?
— Я не читаю газет.
— И теперь не читаете?
— Это Боб, бармен, мне вчера рассказал историю про Ван дер Крэйзена.
— Почему же вы сразу не сделали заявление?
— Это не моя работа, а ваша.
Она говорила с впечатляющей прямотой, в упор глядя инспектору в глаза.
— А если бы я не пришел?
— Я знала, что вы придете.
— Вы готовы подтвердить свои показания под присягой?
— Когда вам будет угодно. Но сейчас, если у вас больше нет вопросов, позвольте мне вернуться в дансинг. Вы знаете, где меня искать…
Она улыбнулась ему, и он тоже улыбнулся в ответ, надевая резинку на свою записную книжку. Взявшись за ручку двери, она сказала:
— До свиданья.
— До скорого… — отвечал он.
Администратор едва успел отступить на шаг, когда Сильви стремительно прошла мимо него, словно бы ничего не заметив. Жаклин распивала шампанское в компании двух мужчин в парадных костюмах, молодого и старого, возможно, это были отец и сын. Сильви похлопала ресницами, давая ей понять, что все идет хорошо.
Мальчик сидел в уголке совсем один и, наверное, ни на что уже не надеялся: при виде своей пассии он вздрогнул.
— Скучаете? — спросила она.
— Нет… я… я ждал вас!
При одном взгляде на нее он порозовел и, подавляя смущение, пробормотал:
— Что вам заказать?
— Зачем? Этот скот опять утащил наши бокалы? Вы совсем спятили, Анри? — крикнула она проходившему мимо официанту.
— Это не имеет значения… — буркнул юноша.
Она посмотрела ему в лицо, увидела, какими пурпурными стали его уши, и вдруг спросила:
— Вы живете с родителями?
— Нет. Мои родители в Льеже. У меня здесь маленькая комнатушка, вернее, мансарда ближе к Схарбеку. Вот когда я опубликую свою книгу…
Администратор побрел в дальний конец зала, чтобы наблюдать, ничего не упуская. Жаклин смеялась, грызя зеленый миндаль, заказанный собеседниками ей в угоду, но через их головы все еще посылала Сильви вопрошающие взгляды. Однако последняя обернулась к юноше:
— Вы здесь веселитесь?
— Я… Когда я нахожусь подле вас…
Боб тоже смотрел на нее, да и официанты пялились. Наверняка ее история уже обошла весь здешний персонал.
— Расплачивайтесь.
— Вы хотите, чтобы я ушел?
— Мы уходим вместе. Поедем к вам.
— Но…
Он был потрясен. Не мог даже вообразить, как будет принимать эту красавицу в мансарде.
— Делайте то, что вам говорят, малыш. Не упускайте случая. Воскресенье бывает не каждый день!
Отсчитывая деньги, парень морщил лоб: до него дошло, что сегодня никакое не воскресенье, и теперь он ломал голову, что она хотела этим сказать.
Спустившись вниз, она бросила Жозефу:
— Нет, не надо такси.
И, подхватив своего спутника под руку, объявила:
— Едем на трамвае!
8
Время от времени Эли открывал глаза и смотрел, как за окном на уровне подоконника в бледном свете морозного утра проплывают головы прохожих. Он знал, что сегодня пятница, поскольку видел, что и мадам Барон, притом в шляпе, прошествовала мимо окна, направляясь на рынок. Домб тоже куда-то ушел, между тем как Валеско на втором этаже еще наряжался, сотрясая пол своими шагами.
Эли задремывал уже в четвертый или пятый раз, так как предпочитал вставать попозже, когда постояльцы разбредутся и дом заживет своей замедленной жизнью. Каждые пять минут очередной проходящий трамвай будил его своим назойливым звоном, а его остановка прямо напротив дома становилась продолжением пытки.
Мимо прошел почтальон. В почтовый ящик упало письмо. Эли едва не встал, хотел пойти посмотреть, но смелости не хватило, и он повернулся лицом к стене. Сколько еще времени прошло? В полусне ему чудилось, будто он слышал, как уходил Валеско. Потом случилось это — грянуло жестоко, как выстрел в толпе. Хлопнула дверь. Шаги приблизились к его кровати. Прежде чем Эли заставил себя повернуться, чья-то рука сорвала с него одеяло, которое он перед этим натянул до самого носа.
То ли по шелесту платья, то ли по запаху или какой-то иной причине он еще раньше, чем рискнул открыть глаза, догадался, что перед ним Антуанетта. Она была бледнее обычного, веснушки на ее лице от этого проступали особенно явственно. Взгляд ее был суров. Она протянула ему письмо:
— Читайте! Быстро!
— Который час?
— Не важно. Читайте…
Еще какое-то время он разыгрывал комедию, изображая внезапно разбуженного человека, а она неподвижно стояла над ним. Наконец он прочел:
«Антуанетта!
Постарайся быть умницей и хорошенько меня понять. Совершенно необходимо, чтобы тот тип немедленно убрался из дома. Добиться этого будет трудно, он вцепился, как клещ. Но скажи ему от меня, что полиция знает все и его имя с часу на час появится в газетах. У него еще есть время сбежать. Маме ничего не говори. Целую тебя.
Твоя сестра Сильви»
Эли, десять раз пробежав письмо глазами, сидел, не поднимая головы. Его взгляд не отрывался от этого листка бумаги. Антуанетта, все такая же неподвижная, резкая, в черном фартуке, который придавал ей сходство со школьницей, теряя терпение, произнесла:
— Итак?
Он сидел на краю кровати, босой, в расстегнутой пижаме, открывающей его тощую волосатую грудь. Его пальцы разжались, письмо упало на коврик, но руки продолжали шевелиться впустую, будто что-то разминая.
— Прекратите ломать комедию! — сказала Антуанетта. Руки замерли. Эли поднял голову. В этот момент его лицо еще не приобрело определенного выражения, и своей линии поведения он тоже пока не определил. Его брови были насуплены то ли страдальчески, то ли задумчиво, в глазах же, напротив, пряталось что-то плутовское и недоверчивое.
— Вы меня выгоните вон? — простонал он, всем своим видом изображая безутешную скорбь.
— Вам нельзя здесь оставаться.
В конечном счете письмо не слишком потрясло Нажеара. А вот слова Антуанетты полностью выбили его из колеи, с этой минуты он больше не ломался, его ужас вырвался наружу так неприкрыто, что девушке стало страшно. Он медленно встал, оказавшись при этом совсем близко к ней, лицом к лицу. Глаза его блуждали, губы тряслись, дыхание вырывалось из них горячими короткими толчками.
— И вы меня выдадите? Вы?..
Она хотела отвернуться, но не смогла. Зрелище, представшее перед ней, было таким же ошеломляющим, как если бы человек на ее глазах угодил под трамвай.
— Отвечайте!
Пот лил с него градом. Кожа посерела. Он был небрит, неумыт. Его пижама обтрепалась. Он умирал от страха. Это было невыносимо.
— Перестаньте! — взмолилась девушка.
— Антуанетта! Взгляните на меня!
Она чувствовала на своем лице его дыхание и едва сдерживалась, чтобы не закричать.
— Взгляните же на меня! Я хочу этого! У меня тоже есть сестра! Представьте, что у вас есть брат, что он здесь, сейчас…
И внезапно, когда она меньше всего ожидала этого, он рухнул на колени, схватил ее за обе руки своими трясущимися руками:
— Не говорите так! Не заставляйте меня уйти, нет! Стоит мне отсюда выйти, и они меня схватят, я чувствую! Вы слышите? Это будет на вашей совести… Антуанетта, я не хочу умирать!
— Встаньте.
— Не раньше, чем вы ответите мне!
Она отшатнулась на два шага, но он пополз следом на коленях:
— Антуанетта! Вы этого не сделаете! Вспомните, что было написано в той газете! Во Франции меня…
— Да заткнитесь вы! — завопила она.
И тут же застыла с остановившимися глазами, чувствуя, как по вискам струится холодный пот. Мимо окна только что проплывала очередная голова — и вдруг остановилась. Это была мадам Барон, она машинально заглянула в окно комнаты…
В замке повернулся ключ, дверь отворилась и захлопнулась, корзина с провизией со стуком опустилась на пол в коридоре.
— Вставайте! Быстро!
Но было поздно. В проеме двери выросла мадам Барон, вся в черном, более, чем когда-либо, исполненная сурового достоинства, отчасти благодаря шляпе. Она воззрилась на свою дочь, на мужчину в пижаме, неуклюже встающего с пола. Повисла пауза.
— Иди в свою комнату, — выговорила она наконец. — Живо! Пошевеливайся, ну!
Она была вне себя. Закрыв за Антуанеттой дверь, неумолимая, подступила к Эли:
— А вы что творите, негодяй вы этакий?
Она замахнулась, как для удара, и он попятился, закрывая руками лицо.
— Не стыдно вам приставать к девчонке? Сама не знаю, что меня удерживает от…
И тут она вдруг замолчала. Вглядевшись внимательнее, увидела слезы и пот, смешавшиеся на его бескровном лице. Внезапно, чего она уж совсем не ждала, с ним сделался припадок: все тело затряслось, дыхание с хрипом вырывалось из груди.
Все еще не веря, что это не притворство, она смотрела, как он, забившись в угол лицом к стене, колотит по ней сжатыми кулаками.
— Да что с вами такое?
Этот примитивный голос, его обыденная интонация были призывом вернуться к реальности, но успокоиться Эли не мог. Его зубы отбивали дробь. Ей показалось, будто она слышит бормотание:
— Мама… мама…
Он больше не был мужчиной. Его тело в пижаме казалось мальчишеским, и он продолжал молотить кулаками стену, как разбушевавшееся дитя.
— Вы что, с ума сошли?
С этими словами она подняла с пола упавшее письмо. Узнала почерк Сильви. Прочла, хотя ей уже было без надобности читать его. Она, не питавшая до сей минуты ни малейшего подозрения, разом поняла все. Эли повернулся и уперся ладонями в стену у себя за спиной, будто готовился к прыжку, но все еще всхлипывал и задыхался.
— Стало быть, вот как, — просто сказала мадам Барон, роняя письмо.
Ноги не держали ее, и она тяжело оперлась на стол.
— А я-то, дура лопоухая, ничего не подозревала! Надо сказать, вы меня ловко надули…
Она почувствовала, что он сейчас сложит руки, примется умолять, чего доброго, бухнется на колени, как только что перед Антуанеттой, и прорычала:
— Нет! Только не это! Вы сию минуту заберете свои пожитки и исчезнете! Вам ясно? Если через пятнадцать минут вы еще будете здесь, я позову полицейского!
Она направилась к двери, но ее остановил леденящий душу вопль, раздавшийся у нее за спиной. Это был вой смертельного ужаса, звук, какой можно услышать лишь в часы катастроф, когда людские голоса уподобляются завываниям охваченных паникой диких зверей.
Эли бросился ничком на постель, скорчился, судорожно вцепился в одеяло. Он без умолку вопил, он звал:
— Мама!
Мадам Барон отвернулась, оглядела улицу, боясь, как бы случайный прохожий этого не услышал.
А Эли все плакал, кричал, подвывал, кусал себе руки, обезумев от страха.
— Успокойтесь, — сказала она, не узнавая собственного голоса. — Так вы всех соседей взбаламутите.
Она сделала шаг к нему, нерешительно, будто колеблясь.
— Вы знаете сами, что здесь вам оставаться нельзя.
Проходя мимо стола, она положила на него шляпу, сбросив ее с головы усталым жестом.
— Будьте благоразумны. Вы еще можете ускользнуть…
Потом стремительно метнулась к двери, прислушалась к звукам дома, повернула ключ в замке, снова направилась к кровати:
— Вы меня слышите, мсье Эли?.. Я вам повторяю, что…
Будильник на кухне отсчитывал время, тикая сам для себя. Струя горячего пара вырывалась из носика чайника, крышка которого тряслась. Порой хлопья красного пепла выпадали сквозь колосники печи, мелким дождем сыпались в поддувало.
Оконные стекла запотели. Скатерть была постелена только на том краю стола, где с утра ожидали выложенные на тарелочку ломоть сала и два яйца, приготовленные для Эли, — их оставалось лишь разбить и бросить на сковородку.
В коридоре на плетеном коврике стояла корзина, полная овощей, из нее свисал пучок лука-порея.
Не раздается ни звука, только будильник твердит свое «тик-так». Никогда еще дом не был настолько пустым. Все двери закрыты, нигде не увидишь ни ведер с водой, ни тряпки, ни щетки, лежащей поперек дороги и мешающей пройти.
Чем-то все это напоминало минуты странного затишья, что наступает под кровом, где все живое ждет, затаив дыхание, когда роженица разрешится от бремени.
Будто подтверждая подобное сходство, первым звуком, нарушившим эту тишину, были шаги в комнате Эли. Дверь отворилась, скрипнув так, будто ее не открывали давным-давно. Мадам Барон со шляпой в руке прошла мимо корзины с продуктами, будто не видя ее, но тотчас вернулась и корзину забрала.
Когда она, толкнув дверь кухни, вошла, воздух там уже был настолько перенасыщен паром, что невозможно дышать, и она открыла окно, впустив в дом ледяной ветер со двора.
Ей предстояло совершить множество ритуальных движений, какие производятся повседневно, и мадам Барон совершала их. Глаза ее были сухи, разве что взгляд малость тяжеловат. Она убрала с печки почти совсем выкипевший чайник и заново наполнила его водой из-под крана, поставила на жарко разгоревшийся огонь кастрюлю с супом, повесила шляпу на крюк вешалки, разложила овощи на той части стола, где не было скатерти. Наконец бросила взгляд на будильник, который показывал двадцать минут одиннадцатого.
Тут она надела передник, вынула из выдвижного ящика нож, каким чистила овощи, распахнула дверь и громко позвала:
— Господин Моисей!
Лишь теперь в ней проявились признаки возбуждения. Она крикнула снова, голос звучал странно, как чужой. Когда она опять вошла на кухню, ей пришлось вытереть глаза и нос уголком своего передника.
Господин Моисей зашевелился наверху, отворил дверь, спустился по лестнице. Мадам Барон чистила лук для рагу, но плакала она не от лука, и господин Моисей мгновенно это заметил, нахмурил брови, спросил:
— Что случилось?
— Присядьте, господин Моисей. Надо мне с вами потолковать…
Она отворачивалась, но он все же видел, как слезы изменили ее, до чего несчастной она выглядит, какой растерянной, это побуждало его всматриваться еще и еще, изо всех сил.
— Я вам доверяю, господин Моисей… Есть вещи, которых я даже мужу сказать не могу… Вы его знаете, он поднимет крик, а это ни к чему не приведет…
Она высморкалась и заперла печную дверцу на засов.
— Не знаю, как вам объяснить… Главное, обещайте, что никому не расскажете.
Она резала лук на тоненькие ломтики, они падали в голубую эмалированную кастрюлю.
— Я нынче утром узнала, что новый постоялец…
Она подняла голову, их глаза встретились, одного этого взгляда было достаточно:
— Вы знали?.. А я-то и в мыслях ничего не имела! Обихаживала его, как других, нет, лучше, чем других… Я хотела выставить его за дверь, только сейчас… Подумайте, ведь мой муж государственный чиновник…
Она тщетно силилась прогнать мучительное воспоминание, и ее нож повис в воздухе без дела.
— Я вам даже рассказать не могу, как это все вышло… В жизни бы не подумала, что такое вообще возможно… Он кричал, звал свою маму… Всю губу себе раскровенил, кусал ее…
Она оглянулась, ее взгляд бессознательно тянулся туда, в коридор, к той двери, за которой она провела полчаса наедине с Эли.
— Вы знаете французские законы?
И поскольку он не проронил ни слова, она договорила сама, выпятив губы, сдерживая новый приступ рыдания:
— Убийцам отрубают голову…
Она бросила нож и луковицу на стол, обеими руками схватила свой фартук, закрыла им лицо и замерла, стоя у печки, а Моисей неуклюже забормотал:
— Мадам Барон… Мадам Барон… Прошу вас…
По-прежнему пряча лицо, она затрясла плечами, простонала:
— Ничего, все пройдет. У меня просто нервы расстроились… из-за этого…
Моисей положил ей руку на плечо. Жест был робким, на большее он не осмелился.
— Видели бы вы его… почти голый… тощий, будто совсем юнец…
— Успокойтесь, мадам Барон. Вы себя доведете, так и заболеть недолго.
Она собралась с силами, вытерла глаза, щеки, а выпуская из рук задранный передник, даже попыталась улыбнуться.
— Мне уже лучше…
Подошла к окну, которое успело раскрыться еще шире, до отказа, и снова захлопнула его.
— Может быть, я поступила неправильно… Он мне клялся, что, если я позволю ему побыть здесь еще несколько дней, он будет спасен… Показывал пятьсот франков, которые у него еще остались. Недалеко он с ними уйдет!
Пораженная какой-то внезапной мыслью, она лихорадочно пошарила в супнице, достала купюру в тысячу французских франков и бросила ее в печь.
— Ни с кем больше я это обсуждать не буду. Но скажите, господин Моисей, вы ведь тоже считаете, что его можно пока оставить, правда?.. Полиция думает, что он уже далеко отсюда… О нашем домишке никто и не вспомнит…
Она боялась, что не убедила его.
— Понимаете, когда он заговорил о своей матери… Я тогда и о вашей тоже подумала… Если бы ему угрожала только тюрьма, было бы другое дело, а так…
Она ободрала луковицу, ее веки увлажнились, но на сей раз от лука. Она успокоилась. Шмыгнула носом. Посмотрела на часы.
— Этот обед никогда не поспеет! А ведь есть еще господа Домб и Валеско… Если об этом сообщат в журнале, они узнают… В таком случае я хотела бы, чтобы вы с ними поговорили…
Но тут в голове у нее мелькнула другая мысль:
— Вы не видели Антуанетту?
— Я слышал, как она вошла к себе в комнату.
Хозяйка открыла дверь, позвала:
— Антуанетта!.. Антуанетта!..
Ответа не было. Дверь наверху не открылась. Мадам Барон с кухонным ножом в руке бросилась вверх по лестнице.
— Что ты здесь делаешь?
Антуанетта не делала ничего. Очага у нее на чердаке не было. В слуховое окошко, хоть оно и было закрыто, лился поток ледяного воздуха, будто стекло оказалось слишком тонким, чтобы его удержать.
Девушка лежала на кровати не шевелясь и глядела остановившимися глазами на косой чердачный потолок.
— Почему ты не отвечаешь, когда я тебя зову?
Мадам Барон никогда не видела у своей дочери такого взгляда, такой жесткости в чертах лица. Ей стало до того не по себе, что она почувствовала неодолимую потребность прикоснуться к ней.
— Ну? Чего тебе? — нетерпеливо проворчала девушка.
— Ты меня напугала. Спускайся. Здесь такая стужа… Что ты так на меня смотришь?
— Где он?
— В своей комнате…
Мать сама не знала, чем оправдать свое решение, как его объяснить.
— Тебе не понять… Он останется здесь… Но разговаривать с ним я тебе запрещаю… Ты меня слышишь?
Казалось, Антуанетта только сейчас окончательно проснулась. Она странно вертела шеей, будто старалась возвратить ей гибкость.
— Твоя сестра напрасно впутала тебя во все это… Пойдем!
Они спустились вместе, одна следом за другой. При виде Антуанетты Моисей нахмурился: ему показалось, что она как-то чересчур изменилась.
— С Домбом и Валеско я поговорю, — торопливо пообещал он.
— Спасибо… Антуанетта, ступай и достань масло из шкафа…
Она через силу улыбнулась Моисею:
— Благодарю вас, господин Моисей. Скажите, как по-вашему, я хорошо поступаю?
Он ответил только улыбкой, такой же слабой, как у нее, и двинулся к лестнице.
— Почему бы вам не прийти позаниматься у огня?
Но этого вопроса он, видимо, не расслышал.
Жизнь дома входила в повседневную колею. Лук уже начал потрескивать на слишком раскаленной сковороде, и мадам Барон, разделяя на порции рагу, сказала, не глядя на дочь:
— Главное, чтобы твой отец ничего не узнал. Просмотри газету прежде него. Если там что-то будет, вырви страницу…
Антуанетта не отвечала.
— Теперь ступай, уберись в комнате господина Домба. И не забудь, что сегодня день смены простынь.
Господин Барон вернулся домой первым, в половине двенадцатого, поскольку прибыл с ночным поездом. Повесил пальто на вешалку в прихожей, вошел на кухню, хлюпая носом, пробормотал:
— Есть будем?
— Потерпи всего несколько минут.
И жена поставила его домашние туфли перед плетеным креслом. Господин Барон снял ботинки, отстегнул воротничок.
— В Люксембурге такая холодина, что дальше некуда! На рассвете мы видели дикого кабана, он увязал в снегу…
— Там и снегу намело?
— В некоторых местах толщина снежного покрова достигает метра.
Она старалась не поворачиваться к нему лицом, но наступил момент, когда избежать этого ей не удалось.
— Что с тобой? — мгновенно насторожился он.
— Со мной?
— У тебя глаза красные.
— Это от лука.
Луковые шкурки еще лежали на столе.
— Давай-ка мне скорее поесть, и я спать пойду.
Она засуетилась, вытащила из печи картофельный пирог, который уже подрумянился, поставила на стол. Вошел Валеско, принес в складках своего пальто немного свежего воздуха с улицы.
— Подождите пятнадцать минут, мсье Валеско. Я сначала обслужу моего мужа, он после ночной смены…
— Мой друг не заходил, не спрашивал меня?
— Никто не заходил… Ах да! Загляните к господину Моисею, он хотел вам что-то сказать.
— Мне?
На душе у нее полегчало, только когда он стал подниматься по лестнице.
— Он заплатил? — осведомился господин Барон.
— Да, еще вчера! Даже торт принес, чтобы нас угостить. Я тебе оставила кусочек.
— Где Антуанетта?
— Заканчивает уборку в комнатах.
Он принялся есть в полном одиночестве, время от времени пальцем приподнимая над верхней губой свои сивые усы.
— От Сильви нет писем?
— Это у нее не в обычае — часто писать!
Мадам Барон хлопотала особенно усердно, стараясь именно так скрыть нервозность. Когда господин Домб, вернувшись и открывая дверь, слегка поклонился, господин Барон уже доел свой кусок торта и пил кофе.
— Теперь можно перекусить, мадам Барон?
— Одну секунду, мсье Домб.
При взгляде на него, как всегда, казалось, будто он только что из ванны, так свежо розовела его кожа. Отвесив еще один поклон, он собрался ретироваться.
— Куда же вы?
— К себе в комнату.
— Почему не подождать здесь? Вы нам не мешаете.
Чрезмерно церемонные манеры поляка чем-то помогли мадам Барон восстановить душевное равновесие.
— Садитесь. Ваши товарищи явятся с минуты на минуту.
Господин Барон встал, потянулся:
— Разбудишь меня часика в четыре?
И, проходя, мимоходом поцеловал жену в волосы, в то время как она кричала куда-то в пространство:
— Господин Валеско! Господин Моисей! Антуанетта! К столу!
Она силилась улыбаться чаще обычного, чтобы не заметили ее заплаканных глаз. В голове было пусто, и только когда на лестнице послышались шаги ее маленького стада, до нее дошло, что она кое-кого забыла.
— Мсье Эли! Идите есть…
Прошло несколько секунд. За это время остальные успели занять свои места. Наконец мадам Барон, напрягая слух, различила легкий звук — ключ повернулся в замочной скважине, дверь скрипнула.
Чтобы не смотреть на входящего, она стала подбрасывать уголь в топку, энергично шуровать кочергой в раскаленном пепле.
Дверь открылась, потом закрылась. Раздались голоса — дежурный обмен приветствиями.
Когда она обернулась, Эли уже сидел на своем месте. Он был, может быть, немного бледнее обычного, глаза чуть больше блестели, но волосы гладко зачесаны, щеки выбриты. Он взял поднос, который к нему подвинули, положил порцию еды на свою тарелку и проворковал, обращаясь к Антуанетте:
— Будьте любезны, передайте мне, пожалуйста, хлеб.
Потому ли, что он прицепил воротничок и надел галстук, Антуанетта не могла оторвать глаз от его шеи? Внезапно она вскочила с места, и прежде чем ей успели что-либо сказать, вышла, хлопнув дверью.
Мадам Барон едва не бросилась за ней следом, но взяла себя в руки. Пояснила:
— Она сегодня нервная.
Только Моисей не разделял общей трапезы, стоившей пять франков. Как всегда, достал из своей металлической коробки кусок хлеба с маслом.
И, словно оркестр заиграл вступление, стало слышно, как зарождается и крепнет легкий лязг вилок, тарелок и стаканов. Когда же в этом шуме послышался человеческий голос, это был голос Эли, который произнес:
— На улице, должно быть, холодно…
Голос прозвучал естественно, лишь самую малость приглушенно, оттого что во рту говорящего была еда. Никто ему не ответил.
9
Случилось так, что в комнате, точнее, в мансарде Моисея лопнул фаянсовый кувшин. Уже далеко не первый день в углу двора можно было увидеть округлый кусок льда, хранящий его форму.
То и дело слышалось:
— Закройте дверь!
Температура на улице упала до тринадцати-четырнадцати градусов ниже нуля, но небо было ясным, воздух прозрачным, так что даже солнце светило четыре дня подряд.
— Я вас прошу, закрывайте дверь! — твердила мадам Барон.
Потому что кухня стала всеобщим убежищем. Здесь сосредоточилась вся жизнь дома. Постояльцы один за другим приходили сюда поутру за горячей водой, топтались в пижамах, ожидая своей очереди, так как согреть разом столько воды было невозможно. Первой заботой после пробуждения было посыпать морской солью порог и тротуар перед домом, где возникали скользкие наледи.
Мадам Барон возвращалась оттуда с замерзшими пальцами, с покрасневшим носом; все теснились у печки, протягивая руки к огню. И тем не менее холод скорее взбадривал, чем угнетал. Даже детям, что бежали в школу, пряча лица под шерстяными вязаными шлемами, хотелось, чтобы это продолжалось, чтобы столбик термометра опустился еще ниже. Соседка, у которой от стужи лопнул водопроводный кран, поминутно забегала с двумя кувшинами.
— Кажется, у берегов Голландии Зейдер-Зе начинает затягиваться льдом.
В этом было нечто возбуждающее, и Эли Нажеар каждое утро первым выбегал посмотреть на градусник, висевший во дворе. На кухню он возвращался, торжествуя. Возглашал:
— Минус четырнадцать! А знаете ли вы, что у нас в Анатолии зимой постоянно от минус тридцати до минус тридцати пяти градусов?
Сообщая это, он оглядывал лица сидящих за столом. Домб никогда ему не отвечал, но Эли со своей стороны делал вид, что этого не замечает. Валеско время от времени изображал вежливую улыбку, показывая, что он слышит сказанное. Что до Моисея, он не имел привычки участвовать в разговорах.
— Однажды я на своем автомобиле отправился из Трапезунда в Персию, у моего отца там были дела. А этот путь, да будет вам известно, в основном одолевают с верблюжьими караванами…
— Разве там нет железной дороги? — дивился господин Барон.
— Собираются построить одну, но работы еще не начались. Подумайте, ведь речь не о таких коротких дистанциях, как здесь! У нас счет идет на тысячи километров…
В общем, господин Барон оказался почти единственным собеседником, готовым подавать реплики Эли. Возможно, его и удивляло неприязненное настроение прочих, но поскольку оно не выражалось достаточно отчетливо, он об этом не заговаривал.
Что до Эли, он никогда прежде не был таким болтливым и вертлявым. Он думать забыл о своем насморке и остеохондрозе, ел с аппетитом, а вечером по-прежнему уписывал в одиночку полный ужин.
В первый вечер сотрапезники с интересом смотрели, как он уплетает мясо и овощи, когда другие ограничиваются бутербродами. Но он ничего не замечал. А поскольку сыр стоял перед господином Бароном, он проворковал:
— Вы не будете столь любезны передать мне сыр?
Зато Антуанетта совсем перестала есть, отца это беспокоило:
— У тебя такое тощее маленькое личико, кожа да кости. Наверное, это возрастное. Тем паче имеет смысл есть побольше!
Нажеар не преминул вмешаться:
— Моя сестра в ее годы чуть не умерла, нам пришлось отправить ее в Грецию. Вы знаете Грецию?
— Он просто не понимает, что говорит, — объясняла Моисею мадам Барон. — Не отдает себе отчета!
В то утро он как нельзя более непринужденно сообщил:
— Знаете, мадам Барон, вам будет заплачено за все. Я написал своей сестре. Недели не пройдет, как я получу деньги.
Она сочла за благо промолчать. Погрузилась в свои домашние заботы. Вдруг заметила, что он взял полную сетку мидий, выдвинул ящик стенного шкафа, пошарил там, ища нож.
— Что вы делаете?
— Я вам помогу скоблить мидий.
— Сделайте милость, оставьте это, мсье Эли!
— Меня это позабавит.
Он проводил свою жизнь на кухне. Если и удавалось выгнать его оттуда, он очень скоро находил новый предлог, чтобы вернуться.
— Послушайте. Мне тут надо все вымыть. Ступайте к себе в комнату…
Нашел он и другой трюк: оставлял свою дверь открытой, чтобы все, кому надо было войти или выйти, волей-неволей проходили мимо него.
— Зайдите на минутку погреться, мсье Валеско! Мадам Барон не желает никого видеть на кухне. Сигарету не хотите? А что я вам говорил? В газетах-то ни словечка, а?
Теперь он читал их первым. Выхватывал прямо из рук мадам Барон:
— Вы разрешите?
А убедившись, что о нем ничего не пишут, игриво подмигивал всем вокруг, бормоча:
— Порядок!..
Мадам Барон вздрагивала, слыша это, косилась на мужа, но ему было хоть бы что. Остальные обитатели дома, как один, направляясь на кухню или просто проходя по коридору, пытались, кто как мог, избегать назойливости Эли, который так и норовил вцепиться в каждого.
— Умоляю вас, посидите в своей комнате! — часто просила она его.
— А если мне приятнее быть подле вас?
У нее не хватало духу ответить ему: «А для меня мучительно ваше присутствие».
Но это была правда. Эли тяготил всех обитателей дома, за исключением господина Барона, ведь тот ничего не знал. Чтобы перекинуться парой слов, приходилось забираться на лестничную площадку второго этажа или в мансарду третьего, да и то Эли, наделенный чутким слухом, тут же вылезал с вопросом:
— Вы говорите обо мне?
— Да нет же! Вы думаете, людям и поговорить больше не о чем?
— Я же знаю, вы обо мне говорите. Но не бойтесь. Через несколько дней об этой истории и думать забудут, тогда я сразу уеду. А как только окажусь у себя на родине, обязательно пришлю вам сувенир.
Он больше не вспоминал о своем припадке, о рыданиях и воплях! Можно было подумать, что он никогда не ползал в ногах у Антуанетты, не хныкал, взывая к маме и умоляя мадам Барон простить его, да с таким искаженным лицом, что она перепугалась, уж не умирает ли постоялец прямо у нее на глазах. Не он ли трижды подряд, раз за разом бился головой об стену, не он ли корчился на полу в судорогах, словно эпилептик?
Для него все это уже осталось в прошлом, было забыто. Он снова занял в доме свое прежнее место. Правда, за его пансион не заплачено, ведь банковый билет сожгли, но что с того, он же обещал прислать дары из Турции.
— Вы увидите! Перед отъездом я вас научу варить кофе по-турецки, а как только доберусь домой, вышлю вам прелестный сервиз из чеканной меди.
Бывали моменты, когда мадам Барон чувствовала, что еще немного, и она сама бросится перед ним на колени, умоляя его замолчать. Она не могла ни на минуту остаться наедине с дочерью, которая день ото дня становилась все мрачнее. Думаешь, он у себя в комнате? Как бы не так: уже стоит за кухонной дверью! Кухня стала его территорией. За день он раз пятьдесят пробегал по коридору от своей комнаты до стеклянной двери. Это он подливал кипяток в кофе. Это он, когда мадам Барон убиралась в комнатах, тыкал вилкой в картошку, проверяя, сварилась ли она.
— Я ведь сказал вам: это меня развлекает!
Он стал реже обращаться к Моисею и никогда — к Домбу, который уходил к себе, как только Эли садился за стол.
— Мог бы, кажется, попросить у меня такую же коробку, как у других, и есть на ужин хлеб с маслом! — жаловалась мадам Барон. — Вы не находите, господин Моисей? Он вынуждает меня готовить по вечерам для него одного!
— Зачем же вы это делаете?
— Мне как-то неловко все вдруг поменять… Да и муж удивится, это тоже надо учитывать…
В довершение всего, когда становилось зябко, Эли с утра до вечера щеголял в фиолетовой домашней куртке с бранденбурами[3]. Он был доволен, любовался собой! И не преминул подробнейшим образом объяснить, что свою одежду он заказал в Будапеште у поставщика самого адмирала Хорти.
Ужаснейшим из дней стал вторник. Господин Барон работал на дневном поезде и домой возвращался к семи. Уже накануне вечером Эли почуял в обиходе дома нечто необычное, а поутру, увидев, что мадам Барон возвращается с рынка с цветами, стал хмурить брови и устроил в своей комнате, так сказать, засаду: оставил дверь открытой, когда Валеско неизбежно должен был пройти мимо.
— Эй! — крикнул ему Нажеар. — Зайдите-ка сюда, старина.
— Видите ли, я спешу…
— Я вас задержу всего на минутку. Что это затевается здесь, в доме?
Валеско охотно промолчал бы, но он должен был Эли триста франков и не знал, когда сможет их вернуть.
— У господина Барона именины.
— Ясно! Послушайте, коль скоро я не хочу выходить, закажите-ка мне у лучшего флориста этого городка роскошный букет. Франков примерно на сто… Затем нужен подарок… Погодите… У него уже есть авторучка? Купите ему самую красивую… Вот вам триста франков на все!
В то утро оконные стекла были покрыты ледяными узорами, но уже через минуту Эли увидел сквозь них румына, с перекошенной физиономией выскочившего на улицу.
Он уютно завернулся в свою мягкую, подбитую ватой куртку с бранденбурами и отправился на кухню. Загадочная и довольная улыбка играла на его губах. Мадам Барон готовила двух цыплят и крем. Сладкие коржи ей доставит булочник.
— Идите в свою комнату, мсье Эли. Очень вас прошу, просто умоляю… Или вы непременно хотите, чтобы я рассердилась?
В кои-то веки он подчинился. К полудню господин Барон еще отсутствовал, и все перекусили на скорую руку. Мадам Барон и Антуанетте надо было уйти. Обе были уже одеты.
Уж не показалось ли Эли, что ему не уделяют достаточного внимания, что это семейное торжество слишком отвлекает их от его персоны? Так или иначе, он заговорил, глядя на Валеско, сидевшего рядом:
— Мне тут пришла в голову одна мысль… Шла речь о разнице между бельгийскими и французскими законами. А если представить, что некто, преследуемый полицией Франции на территории Бельгии, совершит преступление в Брюсселе или еще где-либо…
В ответ ни слова, слышалось только звяканье вилок, но настал странный момент, когда нечто зловещее почудилось в этом будничном звуке.
— Вы не поняли? Человек, которому во Франции угрожает смертная казнь, совершает преступление в Бельгии. Логично, чтобы сначала его подвергли суду в Бельгии, где он был арестован. И так же логично, что при этом условии он избежит казни.
Он побледнел. И губы как-то противоестественно растянул, хотя это с грехом пополам еще могло сойти за улыбку. Антуанетта лишний раз усмехнулась, и он, казалось, был этим доволен!
— Я попросил бы вас говорить о чем-нибудь другом, — спокойно произнес Моисей, глядя ему в глаза.
Настаивать Эли не посмел, взгляд отвел, но странный огонек, что загорелся в его зрачках, не погас.
Со стола убрали быстрее, чем обычно. Домб испарился первым, потом Валеско поднялся к себе в комнату. Мадам Барон направилась к лестнице в момент, когда Моисей уже нахлобучил свою студенческую каскетку, собираясь податься вон из дому.
— Господин Моисей! — позвала она.
— Да-да, сейчас иду…
Там, наверху, они стали шептаться, и Эли, оставшийся на кухне один, тщетно старался расслышать о чем. Однако чуть позже он догадался. Он все понял. Мадам Барон с дочерью ушли куда-то вместе. Так вот: Моисей, вместо того чтобы тоже уйти, прошел со своими тетрадками и лекциями на кухню.
Он, ни слова не проронив, сел в кресло, которое Эли привык оставлять за собой, и принялся выводить свои формулы.
Сначала Нажеар подбросил угля в огонь, с шумом поворошил в топке кочергой, потом уселся перед печкой и сказал:
— Вам поручили присмотреть за мной. Боятся, значит, как бы я чего не украл?
Моисей притворился, будто не слышит.
— Я понимаю больше, чем может показаться. Но я недолго буду вам надоедать. Как только полиция переключится на что-нибудь новенькое, я предоставлю вам обделывать ваши любовные делишки без помех…
Польский еврей медленно, без гнева поднял голову. Выражение его выпуклых глаз осталось неизменным, и от этого фраза, которую он произнес, прозвучала особенно впечатляюще:
— Предупреждаю: если вы не замолчите, я набью вам морду.
Ростом он был пониже Эли, но зато мускулистее. Карандаш в его пальцах снова побежал по бумаге, стол опять затрясся.
Прошло несколько минут, и Моисей при всем своем хладнокровии поднял голову, настороженный наступившим молчанием. Его собеседник не шевелился, словно нарочно избегал любого движения. Он уставился на маленький красный глазок в печной дверце, его нижняя губа обмякла и отвисла.
Моисей вернулся к работе, и вскоре Нажеар бесшумно, даже воздуха почти не потревожив, встал, направился к двери, затем к себе в комнату и заперся там без света, с потухшей печкой.
Около четырех, когда фонарщик уже прошел по улице, мимо окна проскользнули две фигуры. Эли узнал мадам Барон и Антуанетту. Ключ повернулся в замочной скважине. Отворилась дверь. В коридоре раздались шаги. Но женщины едва успели дойти до кухни, когда мальчик, забегавший сюда каждый день, бросил в почтовый ящик газету.
Нажеар, спеша завладеть ею, устремился на кухню, где Моисей собирал свои бумаги. Стол загромождала груда мелких пакетов. Мадам Барон сказала:
— Антуанетта, ступай переоденься.
Еще не успев даже снять свою черную шляпу, она подбросила угля в топку, налила в чайник воды, поставила его на огонь. На морозе ее лицо порозовело. На шерстинках ее мехового шарфа сверкали бриллиантовые искорки инея.
— Без нас никто не заходил, господин Моисей?
— Никто, мадам.
Не взглянув на Нажеара, она в свой черед пошла переодеваться, Моисей последовал за ней. Плетеное кресло скрипнуло, когда Эли плюхнулся в него. Зашуршали газетные страницы. На первой ничего не было, на второй тоже. Однако на третьей он увидел заголовок «Дело ночного поезда».
Всего несколько строк. Эта история уже перестала быть злободневной.
«Брюссельская полиция продолжает расследование преступления, совершенного в ночном поезде Брюссель — Париж. Четыре дня тому назад она допросила некую Сильви Б., танцовщицу кабаре, ныне находящуюся в Брюсселе. С ее помощью была установлена личность убийцы. Это не кто иной, как некий Эли Нажеар, подданный Турции, любовник этой девицы. Его поиски остались безрезультатными. Предполагают, что Нажеар успел пересечь немецкую границу еще до того, как преступление было обнаружено. Девица Б. временно оставлена на свободе».
Эли осторожно оторвал эту часть страницы, газету же оставил на столе. Его глаза блестели. Он раскурил сигарету, сделал несколько глубоких затяжек.
Напряженно вслушался в звуки внутри дома. Его томило нетерпение. Пока мадам Барон спускалась вниз, он вскочил и уже ждал с открытым ртом, собираясь заговорить. Она отворила дверь и стала завязывать свой фартук.
— Что я вам говорил? — Его голос дрожал от радости, от гордости. Он протянул ей бумажный клочок, он настаивал: — Прочтите!
Потребность похвастаться была сильнее его, и он прибавил:
— Теперь они меня ищут в Германии!
Мадам Барон машинально вернула ему обрывок. Она прочла. Взяла кочергу, стала помешивать в топке, хотя надобности в этом не было, огонь горел исправно.
— Еще несколько дней и, как я и предвидел, мой отъезд станет…
— Помолчите! — оборвала она сухо.
Перед ее глазами неотступно стояли слова «… любовник этой девицы».
— Это же прекрасная новость. С того момента, когда меня стали разыскивать в другом месте…
— Да уймитесь вы! Оставьте меня! Идите в свою комнату!
— Если вы так воспринимаете…
«Любовник этой девицы…»
Она готовила ужин и плакала. Плакала беззвучно, как умеют плакать только женщины, чья молодость давно позади. Вошла Антуанетта. Спросила:
— Что случилось, мама?
— Ничего. Передай мне муку.
— Он опять что-нибудь брякнул?
— Нет… Оставь меня… Нервы совсем расшатались…
— Он будет ужинать с нами сегодня?
— А что поделаешь? Так надо!
Девушка стала развязывать пакеты. Там были две пары носков, черный шелковый галстук с маленькими белыми цветочками и еще один пакет поменьше, в нем оказалась узкая картонная коробочка.
— Авторучка ему понравится, — сказала Антуанетта. — На свои именины я тоже хочу такую.
Она стоила шестьдесят франков: имитация американской авторучки с золотым пером, но золота было только четырнадцать карат.
— Передай мне масло…
Эли еще раз перечитал сообщение «Газеты Шарлеруа», несколько раз сложил и без того маленький бумажный клочок и сунул его в карман своей фиолетовой куртки.
Вернулся Домб и прямиком пошел к себе. Моисей выбежал на улицу едва ли не со всех ног, на ходу вскочил в трамвай, но уже через полчаса снова был дома.
Из кухни доносились всевозможные звуки, в воздухе витали разнообразные запахи. Но никто против обыкновения из своих комнат не выходил. Эли, хотя сам закрыл шторы, легонько их отодвинул, чтобы наблюдать за тем, что происходит на улице.
Он первый услышал бубенчик разносчика, который остановился перед домом, и бросился к двери, зажав в кулаке заранее приготовленные деньги.
Это прибыл букет. Нажеар проскользнул обратно в свою комнату, не замеченный из кухни, и развернул посеребренную бумагу, чтобы освежить стебли водой из раковины. Валеско появился всего за несколько минут до семи. Эли был начеку, тотчас открыл свою дверь и взял протянутый ему студентом продолговатый пакетик.
— Сто шестьдесят франков… Это настоящая… Можно будет поменять, если перо не подойдет…
На кухне мадам Барон вытирала глаза, они все еще были на мокром месте. Она не плакала в прямом смысле этого слова, но ничего не могла с собой поделать: глаза снова и снова влажнели.
— Он скоро придет, — сказала она.
Подождав, пока стечет вода с цветов, до этой минуты мокнувших в раковине, она распределила их по двум вазам, стоявшим на столе, который приобрел особенно праздничный вид оттого, что был покрыт скатертью в красно-белую клетку. Пакеты, обвязанные веревочками, уже лежали рядом с прибором господина Барона.
— Ты бы попудрилась, мама.
— Заметно, что я плакала? — И добавила через силу: — От Сильви писем нет.
Она видела, как подошел трамвай с непрозрачными стеклами. Какая-то машина мешала ей разглядеть, кто выходит из трамвая, но когда он зазвенел и тронулся, она заметила фигуру, в которой узнала господина Барона. Он пересекал улицу.
За этим последовали скрежет ключа в замке, шаги в коридоре. Открыв дверь, Эли расслышал восклицание Антуанетты:
— С именинами, папа!
Начались объятия, поцелуи. Бормотание голосов стало неразличимым. А те, наверху, тоже прислушивались к звукам дома, затаившись в потемках на лестничных площадках.
Первым, кто заявился на кухню, был Эли со своим гигантским стофранковым букетом в одной руке и продолговатым сверточком в другой.
— Господин Барон, имею удовольствие пожелать вам счастливых именин…
Букет был слишком велик, слишком роскошен для кухни. Господин Барон неуклюже мял его в руках и рассматривал восхищенно.
— Это уж чересчур! Чересчур! — бормотал он.
И не зная, что делать, что сказать, косился на маленький пакет. Потом смущенно подошел к Эли и расцеловал его в обе щеки, вернее, пощекотал своими шершавыми усами.
— Не ожидал…
Мадам Барон крикнула в коридор:
— Господин Моисей! Господин Домб! Господин Валеско! К столу!
Были развернуты уже и носки, и галстук. Теперь господин Барон обнаружил авторучку Эли и пришел в экстаз:
— Да это же настоящий «паркер»!
Нажеар улыбался. Антуанетта, расстроенная, попыталась убрать другую, еще не распакованную авторучку, но отец заметил ее маневр:
— Ты что там прячешь?
Он-то был счастлив, еще как! Развернул второй пакет, посмотрел на авторучку за шестьдесят франков и, слегка застеснявшись, пробормотал:
— Ну вот, теперь у меня сразу две!
Мадам Барон передвигала кастрюли. Домб, щелкнув каблуками в знак приветствия, преподнес булавку для галстука в форме подковы:
— Желаю веселого праздника и пользуюсь случаем, чтобы выразить вам свою признательность, которая угаснет лишь с моим последним вздохом!
Валеско, явившись в свой черед, подарил хозяину вересковую трубку.
Господин Барон, сам не зная почему, не стал их обнимать. Может быть, они просто стояли слишком далеко?
Моисей пришел последним и уже с порога, закрывая за собой дверь, сказал:
— С именинами, господин Барон!
И не извинился, что ничего не принес. У него не было денег. Он зашел, чтобы взять свою коробку.
— Только не сегодня! — вознегодовала мадам Барон. — Вы с ума сошли!
Он покраснел, смущенный ее напором, и смиренно сел на свое обычное место. А господин Барон, расположившись в плетеном кресле, оглядывал их всех повеселевшими глазами.
— Я очень тронут… — начал он.
Все умолкли. Только Нажеар, перебив именинника, возвысил голос:
— У нас в расчет принимают только дату рождения. В этот день даже слуги приносят подарки…
Суп в тот вечер был исключен из меню как слишком будничная еда. Мадам Барон выставила на стол пару жареных цыплят, и ее муж уже привстал, собираясь их разделать.
— Позвольте мне!
Это опять встрял Нажеар. Антуанетта стала бледнее полотна. И толкнула ногой под столом Моисея, который не отрывал глаз от своей тарелки. Что до мадам Барон, она и присесть не успевала, надо же было готовить угощения.
— Вы должны знать обычаи, я к вам обращаюсь, Моисей! У евреев всегда такие сложные церемонии, во всем ритуал… Скажите, мадам Барон, у вас есть свечи?
Она резко обернулась:
— Зачем это?
— Потребуется… Сколько вам исполнилось, господин Барон?
— Пятьдесят два года.
— Потребуются пятьдесят две свечи. У нас есть обычай… Наступает момент, когда в комнате гасят свет, и тогда…
Моисей посмотрел ему в глаза. Эли заколебался, усмехнулся, умолк. Но прошло пять минут, и он уже распинался снова:
— Если бы удалось найти все, что нужно, я бы вам приготовил бисквит по-турецки. Моя сестра его делает просто волшебно, но и у меня недурно выходит.
— Он с кремом? — полюбопытствовал господин Барон.
— С цветами… Это гораздо изысканней.
— Не понимаю, как можно есть цветы.
— Цветочная эссенция…
— У тебя нет аппетита, Антуанетта?
Девушка положила в рот кусочек курицы. Для приличия. Домб уперся взглядом в стену. Лоб Моисея прорезала глубокая складка. Один лишь Валеско еще силился улыбаться.
— Я бы хотел, чтобы вы однажды посетили Стамбул, ведь тогда вы будете моим гостем. Я покажу вам Турцию…
— Знаете, пока не похоже, что у меня появится возможность путешествовать, — вздохнул господин Барон.
— Почему же? Если самолетом, весь путь займет не больше суток!
Мадам Барон в свой черед попыталась заставить его замолчать, уставилась в упор, сердито размешивая соус. Но он, казалось, не понимал.
— Турки самый гостеприимный народ в мире. С той минуты, как вы переступите порог дома, вы становитесь в нем хозяином, каждый старается предупреждать все ваши желания…
— Даже если вас никто не приглашал? — простодушно осведомился господин Барон.
Он сказал это без малейшей задней мысли. И был удивлен, когда Антуанетта внезапно прямо-таки поперхнулась от хохота. Ей пришлось встать, отвернуться от стола и сплюнуть в салфетку. Но и снова усевшись на свое место, она продолжала смеяться, на глазах выступили слезы, губы смешливо морщились.
— Я могу привести вам ряд примеров, — продолжал Эли, нисколько не смущенный. — Скажем, перед войной у моего отца гостил один большой русский барин. Он после революции бежал в Константинополь, как до сей поры некоторые называют нашу столицу. И что же? Он прожил у нас пять лет…
Антуанетта не могла больше сдерживаться: было не понять даже, смеется она или плачет. Ее родитель напустил на себя строгий вид и прикрикнул:
— Да что такое? Веди себя прилично! Когда господин Эли говорит… Я вас слушаю, господин Эли.
— Это такие вещи, каких не понимают на Западе. Моя мать и сестра потеряли почти все свое состояние, но если бы кто-то пришел к ним от меня, сказал бы, что он мой друг…
— Антуанетта! — снова возвысил голос господин Барон. — Не будь сегодня мой день рождения, я бы выставил тебя из-за стола и отправил спать.
— Вопрос, допущу ли я это! — резко отозвалась его жена.
Ее выпад был таким неожиданным, что супруг покраснел и, не понимая, что происходит, от растерянности снова принялся за еду.
Господин Домб, как обычно, удалился первым.
— Да уж, поляки совсем не то, что турки, — изрек господин Барон. — Вечно кажется, будто они делают вам одолжение, снисходя к вашей компании. Еще мне не по душе, как они пренебрежительно третируют евреев, в том числе своих же соотечественников. В конце концов, ведь господин Моисей такой же поляк, как он!
Он посмотрел на Моисея, но тот зубов не разжал.
— Где твоя мать? — вдруг забеспокоился господин Барон.
Антуанетта отправилась на поиски. Мадам Барон плакала на лестничной клетке.
— Оставь меня! Скажи им, что я сию минуту вернусь…
Но тут взорвалась сама Антуанетта:
— Надо, чтобы он ушел, мама! Иначе уйду я. Ты прочла статью?
— Он и тебе ее показал?
— Специально позвал меня для этого…
«Любовник этой девицы…»
Когда они вернулись на кухню, Моисей уже ушел, а Валеско искал предлог, чтобы тоже улизнуть. Господин Барон достал из стенного шкафа бутылку ликера, привезенную из Люксембурга. Нажеар пересел со своего прежнего места, теперь они сидели рядом.
— За ваше здоровье! За здоровье Турции!
— За Бельгию!
— Папа выпил… — прошептала Антуанетта.
Женщины вдвоем стали убирать со стола. Что до мужчин, они продолжали пить, тоже оба. Щеки Эли разгорелись. Что до господина Барона, он пришел в возбужденное состояние, хорошо знакомое его жене.
— Кто вам подсказал, что я мечтал о «паркере»?
— Я сам догадался.
Они захохотали. Тарелки и блюда, горой наваленные вокруг них на столе, задребезжали в ответ. Мадам Барон в последний раз поворошила в топке кочергой. Сказала Антуанетте:
— Иди спать. Посуду вымоем завтра.
И осталась совсем одна присматривать за ними, стоя у печки.
— Еще рюмочку? Не каждый день бывают именины…
— Вы не представляете, до чего вы мне симпатичны. И ваша жена тоже, впрочем, это другое. Женщины… С ними никогда не бывает такого полного согласия…
Он ощутил на себе жесткий взгляд мадам Барон, сделал усилие, пытаясь развеять туман опьянения, но тщетно.
— Когда вы приедете в Турцию… — выговорил он непослушным языком.
И господин Барон, к концу вечера сам поверивший в это, отозвался:
— Хе-хе! Я ж не против, может статься, и впрямь в один прекрасный день…
10
Валеско имел привычку, бреясь, подвешивать к оконной задвижке круглое зеркальце. Он выработал свои способы определять, который час: знал, когда учитель собирает детей перед школой, запомнил старика, который всякий раз садился в трамвай ровно в пять минут девятого. Прохожие появлялись редко, и каждому пешеходу предшествовал клуб пара от его дыхания.
В то утро, водя бритвой то по правой, то по левой щеке, Валеско вдруг приметил трех мужчин: они только что сошли с трамвая и теперь приглядывались к номерам домов. Один из них был толстым, в расстегнутом пальто, что позволяло заметить золотую цепочку от часов. Он сдвинул шляпу на затылок и курил трубку с изогнутым чубуком.
Толстяк был у них главным, это чувствовалось. Он заметил номер 53 и кивком головы указал на него другим, его изучающий взор, обозревая фасад, задержался на Валеско, которого он мог различить только как смутный силуэт, маячащий за занавеской.
Затем он сказал несколько слов самому низкорослому из своих спутников, субъекту средних лет в тесноватом пальто, с уныло повисшими усами. Тот зябко засунул руки в карманы и, пританцовывая от холода, остался один перед бакалейной лавкой, между тем как два других удалились.
Была минута, когда Валеско ждал, что сейчас раздастся звонок в дверь, так как двое незнакомцев уже перешли улицу, но оказалось, они сделали это, чтобы обойти квартал — проверить, нет ли другого выхода с противоположной стороны дома.
Когда они вновь появились перед зданием, их обувь была осыпана инеем, следовательно, они бродили по заиндевелой траве пустыря.
Все трое опять начали переговариваться. На коротышку было жалко смотреть, до того он окоченел. Толстяк, поколебавшись, зашел в бакалейную лавку, где провел не меньше пяти минут, и с того момента, как он оттуда вышел, за витриной появилась встревоженная физиономия торговки, да так больше и не исчезала.
— Мадам Барон! — позвал Валеско, выглянув на лестничную площадку.
— Вы, наверное, насчет горячей воды?
— Нет! Поднимитесь сюда на минутку.
К несчастью, когда он снова подошел к окну, а хозяйка за ним, толстяк уже обменялся рукопожатием с коротышкой и с довольным видом проследовал к центру города, между тем как третий перешел через улицу.
— Зачем вы меня звали?
— Посмотрите на них.
— Я смотрю, но не понимаю, чего ради.
— Готов поклясться, это полицейские. Они расспрашивали бакалейщицу. Тот, маленький, с дома глаз не спускает, а другой, я уверен, занял наблюдательный пост на пустыре. Что до пузатого, он ушел — это, вероятно, комиссар.
Мадам Барон несколько минут простояла, прячась за занавесками. Два трамвая один за другим подъезжали, останавливались, но коротышка не двинулся с места.
— Он встал? — спросил Валеско, указывая на пол.
— Спит. Они с мужем пили до трех часов ночи.
На площадке послышались шаги Домба, он уходил.
— Может быть, его стоит предупредить? — всполошилась мадам Барон.
— Нет смысла. Он ненавидит Эли.
Внизу отворилась дверь. Поляк вышел на улицу, его шаги звонко отдавались в морозном воздухе. Коротышка торопливо вытащил из кармана блокнот, заглянул в него, что-то проверяя, и зашагал по другой стороне улицы, явно стараясь получше рассмотреть студента.
— Что я вам говорил?
Неизвестный же, не пройдя и сотни метров, явно уверился, что здесь слежка ни к чему, повернул обратно и занял свое прежнее место у чугунного столба возле трамвайной остановки.
— Позвольте мне закончить одеваться, — обронил Валеско.
На кухне мадам Барон обнаружила Антуанетту и сначала решила ничего ей не говорить. Девушка завтракала и тоже ни о чем не спросила, только очень пристально посмотрела на мать испытующим взглядом глаз, казалось, ставших заметно больше за последние несколько дней.
— Думаю, теперь все, — вздохнула наконец мадам Барон, доставая из шкафа свою овощную корзину. — Твой отец еще спит?
Антуанетта молча кивнула.
— Я бы хотела, чтобы, когда он проснется, все уже было позади. Перед домом дежурит полицейский, на задах другой.
Ноздри девушки сузились, недожеванный кусок хлеба застрял у нее во рту.
— Все думаю, не предупредить ли его… Я только что заходила к нему в комнату, проверяла, не потух ли очаг. Он никогда не спал так крепко… Чувствуется, что выпил. Уснул на животе, храпит…
Тут мадам Барон посетила идея. Она побежала на третий этаж, тихонько поскреблась в дверь Моисея. Он открыл. Нечесаные волосы дыбом, воротник пальто поднят — он уже успел засесть за работу.
— Тсс! — Она показала на стену, отделявшую его комнату от той, где спал ее муж.
Потом открыла слуховое окно, однако из-за карниза было невозможно наблюдать за тем, что делалось на тротуаре перед домом.
— Спуститесь на минутку вниз, хорошо?
Вслед за хозяйкой Моисей дошел до площадки второго этажа и остановился перед дверью Валеско, который завершил свой туалет и снова занял наблюдательный пост у окна за шторой.
— Он все еще там?
Все трое инстинктивно говорили шепотом, как в доме умирающего. Мадам Барон указала на маленького человека в черном пальто, который все время приплясывал на месте, не спуская глаз с дома.
— Это полицейский агент. Другой дежурит за домом.
Избегая произносить имя Эли, Моисей просто спросил:
— Он знает?
— Он спит. Этой ночью он так напился, что, ложась спать, не имел сил даже снять носки.
Вошла Антуанетта и стала из другого окна разглядывать полицейского, чьи плечи, казалось, съеживались по мере того, как он все глубже засовывал руки в карманы.
— Не надо здесь оставаться, — решила мадам Барон. — Пойдем, Антуанетта.
Моисей пошел с ними.
— Вы последите за ним, господин Валеско?
Студент кивнул. На кухне мадам Барон налила чашку кофе и протянула ее польскому еврею:
— Выпейте, пока он горячий. А потом скажите, что бы вы сделали на моем месте.
Наперекор ожиданиям никто не нервничал. Напротив! Все были спокойны, но что-то зловещее чувствовалось в этом спокойствии. Мадам Барон это напомнило тот день, когда в Шарлеруа вошли немцы. Два десятка соседей тогда попрятались в подвалы. Не знали, что делать. Ждали чего-то. Что будет дальше, никто не ведал. Время от времени кто-нибудь вставал перед подвальным оконцем и следил глазами за курьерами-уланами, галопом скакавшими мимо.
— Кто меня особенно беспокоит, так это мой муж. Невозможно предсказать, на что он окажется способным, если вдруг узнает…
— В котором часу он сегодня должен идти на службу? — спросила Антуанетта.
— В три. Хорошо бы он не просыпался как можно дольше. Господин Моисей, вы не считаете, что мы должны предупредить этого молодого человека? У меня не хватит храбрости. Как подумаю, что это наверняка последний раз, когда он спит спокойно…
— Но тот человек точно из полиции? Вы уверены?
— Так говорит господин Валеско.
Моисей пошарил в карманах и смущенно попросил:
— Дайте мне один франк.
Через минуту он вышел, оставив дверь «прикрытой», как это называли в доме, то есть не запертой на задвижку. Валеско со второго этажа видел, как он бегом пересек улицу, и заметил, что тот тип задергался и схватился за свой блокнот.
Моисей вошел в бакалейную лавку. Его фигура смутно угадывалась за сероватым стеклом витрины. Он пробыл там довольно долго, между тем как соглядатай перечитал несколько строк в своем блокноте.
Наконец он возвратился, по-прежнему бегом. Валеско спустился ему навстречу, спеша узнать, что нового.
Положив на стол кусок сыра в белой бумажной обертке, Моисей утвердительно кивнул:
— Да, это полиция. — Помолчал и продолжил: — Толстяк, который ушел, спрашивал, не появился ли у вас за последние две недели новый жилец. Бакалейщица сказала, что не знает, но это возможно, так как она видела свет в комнате на первом этаже.
— Выпейте чашку горячего кофе, мсье Валеско. Антуанетта, ступай и принеси бутылку рома. Это всем кстати придется…
А солнце в тот день сияло вовсю. На белой стене дома отпечатался огромный солнечный треугольник. Кусок льда, что разорвал кувшин Моисея, почти сохранив былую форму, все еще валялся в углу двора.
— Пойду взгляну, не проснулся ли…
Мадам Барон подкралась на цыпочках к кровати, где все еще спал, сбросив с себя одеяло, Эли. Он ничего не слышал, оглушенный спиртным, тяжелый дух которого висел в воздухе комнаты, смешиваясь с запахами линолеума и печной золы.
— Ну что? — спросила Антуанетта, когда ее мать вошла на кухню.
— Он все еще спит… Я не в силах… Вы не могли бы взять это на себя, господин Моисей?
Ответом стало лишь молчание. Валеско улизнул, возможно, затем, чтобы эту неприятную миссию не взвалили на него, и снова устроился в засаде под сенью оконной шторы.
Улица была почти совсем пуста. Иногда проходил трамвай, казавшийся еще светлее в лучах солнца, но изморозь со стекол еще не сошла. Слева послышался звук рожка торговца фруктами. Коротышка раскурил трубку, и табачный дым смешался с клубами пара от его дыхания.
Всюду царил покой. Воздух был прозрачен. Малейший звук разносился далеко, сопровождаемый чуть заметным эхом, как на берегах большого озера.
Продолжительный скрип возвестил, что по тросу над улицей пошла череда подвесных вагонеток. Еще появился маленький паровозик, он маневрировал у выезда с территории фабрики, каждое новое движение сопровождая свистком.
Полицейский ждал кого-то или чего-то: он часто поглядывал в направлении городского центра. Мадам Барон чистила овощи. Антуанетта, забыв, что пора бы убраться в комнатах, стояла, прислонившись спиной к печке и комкая на груди шаль.
Внезапно она пробормотала:
— Кто-то стережет на пустыре — это точно?
— Валеско видел полицейского, который направлялся туда.
— Если бы не это, он мог бы спрыгнуть со стены… Ведь достаточно добежать до железной дороги, а уж там…
Тот человек уже больше часа назад занял свой наблюдательный пост, а Эли все спал. Кухня пропахла ромом. Даже Антуанетта немного выпила.
— Ступай отнеси стаканчик господину Валеско. У него в комнате не топлено…
И произнеся это, мадам Барон уже не на шутку принялась за Моисея:
— Дайте мне совет! Скажите что-нибудь! Если бы вы знали, в каком я состоянии… Я держу себя в руках только из-за Антуанетты…
Ее лицо сморщилось, но удержать слезы она все-таки сумела.
— Слышите?
Она резко вскочила с места и замерла, не смея шелохнуться. Автомобиль подъехал и затормозил у самых дверей. Решительные шаги протопали по тротуару, и раздался стук — почтовым ящиком, игравшим роль дверного молотка.
— Пойдите вы, откройте, я вас прошу!
Дверь отворилась лишь на секунду — время, которого хватило, чтобы увидеть такси у края озаренного солнцем тротуара. А по коридору уже звонко барабанили высокие каблуки.
На кухню влетела Сильви, окутанная шалью холодного воздуха. И не подумала обняться с матерью, сразу спросила:
— Он уехал?
Моисей из скромности остался за порогом. Мадам Барон позвала его, может быть, потому, что боялась остаться наедине с дочерью. Сильви распахнула манто, налила себе рома, не посчитав нужным найти чистый стакан.
— Он все еще здесь? Антуанетта не получила моего письма?
— Тише… Отец наверху…
Сильви поняла, что ее родитель ничего не знает, но ей некогда было разбираться в этом вопросе.
— Они-то по крайней мере не приходили?
— Сегодня с утра один полицейский дежурит на улице, а другой за домом.
— Из Брюсселя?
— Не знаю. Они ничего не предпринимают. Господин Валеско следит за ними из окна второго этажа.
Сильви кинулась туда, без стука вбежала в комнату, подошла к румыну, который проворно отвесил поклон.
— Это тот коротышка?
— Да. Он только что записал номер вашего такси.
Ведь Сильви не отослала его, и шофер теперь прохаживался перед домом.
— Вы из Брюсселя приехали?
Не отвечая, она вышла из комнаты. Все ее движения были одинаково четкими и стремительными. На лестнице она столкнулась с сестрой, но не сказала ни слова.
Мадам Барон, как завороженная, следила за ней из кухни. Вздохнула:
— Не понимаю, что она собирается делать…
— Ей виднее, чем нам, — проронил Моисей.
Все — кто на втором этаже, кто на кухне — вздрогнули, услышав, как скрипнула дверь передней комнаты. Но Сильви захлопнула ее за собой, и наступила тишина.
Эли ворочался во сне, прикрывал ладонью глаза — его беспокоило проникавшее в окно солнце.
— Вставай! Живо! — Сильви дергала его за руку.
Он глубоко, со вкусом вздохнул, еще поерзал, разлепил веки и наконец увидел перед собой молодую женщину.
— С какой стати?..
Он нахмурил брови: голова болела, и усилия припомнить, что произошло накануне, оставались напрасными. Язык с трудом ворочался во рту. Ему показалось, что остеохондроз снова дает о себе знать.
— Что я тебе говорила? И через Антуанетту передавала…
Она выражалась резко, и в ее взгляде не осталось ни капли нежности. Но он успел заметить, как солнце играло в ее волосах, мягко сбегающих на меховое манто.
— Ты еще не понял? Вставай! За тобой придут с минуты на минуту.
Он вскочил на ноги одним прыжком, как обезьяна. Подозрительно сощурил глаза:
— Да что ты говоришь?
— Хватит придуриваться. Сказано тебе: все кончено, они сейчас явятся…
Ненависть исказила лицо Нажеара, теперь в нем была угроза:
— Это ты меня выдала, не так ли?
— Не корчи из себя идиота. Сколько можно повторять? Тебе лучше бы одеться…
— Ты врешь! — закричал он, осененный новой идеей. — Я понял! Ты хочешь заставить меня уйти отсюда, потому и выдумываешь…
Но тут он осекся, метнулся к окну, заметив такси у края тротуара.
— Видишь вон там, впереди, дядьку у трамвайной остановки? Он из полиции…
Эли все еще не мог осмыслить положение. Налил себе стакан воды, прополоскал рот, сплюнул в раковину. Она заметила, как он бледен и худ, до чего неправильны его черты. Никогда еще его лицо не казалось таким некрасивым.
— Я все понял!
— Тем лучше! В таком случае одевайся…
— Ясное дело: ты меня выдала, чтобы получить награду!
— Кретин!
— Мне сразу надо было догадаться, когда ты меня заманивала в этот дом…
Она чуть не влепила ему пощечину, ее удержало только то, что он выглядел слишком ничтожным в этой потрепанной пижаме.
— Да оденься же!
— Я буду делать то, что вздумается. Одному Богу известно, что мне теперь вздумается!
И посмотрел на нее снизу, проверяя, какое впечатление произведет эта угроза. Но Сильви, по-прежнему в меховом манто, оперлась на подоконник, увлеченная тем, что происходило снаружи.
Накануне вечером ее вызвали в полицейское ведомство Брюсселя, где она предстала перед тремя мужчинами, один из них курил трубку. Инспектор, который уже допрашивал ее в «С пылу, с жару!», сидел на углу стола рядом с бельгийским комиссаром. И наконец, третий, тот, что без конца расхаживал взад-вперед, был инспектором из Парижа.
— Сядьте и объясните, почему вы нам солгали.
Она лишь мельком глянула на документы, разложенные на столе, но этой секунды ей хватило, чтобы заметить среди них фирменный бланк: Шарлеруа, «Кафе у вокзала».
Она сумела улыбнуться — без иронии, без вызова, просто по-дружески:
— На моем месте вы поступили бы так же…
Трое мужчин переглянулись. Им пришлось в свой черед ответить ей улыбкой.
К этой сцене Сильви готовилась последние три дня. Портье из «Паласа» видел, что она забрала чемоданы Нажеара. И не только портье, но и носильщик, который погрузил багаж в такси. На стоянку перед большими отелями обычно возвращаются одни и те же машины. Стало быть, им оставалось лишь взять след. Он вел в Шарлеруа, в «Кафе у вокзала», потом к дому 53 по улице Лавё.
— Он по-прежнему скрывается у ваших родственников?
— Этого я не знаю. Даю вам слово.
— Вы понимаете, что можете быть арестованы как сообщница?
Она похлопала ресницами, еще раз улыбнулась:
— Я поступала, как всякий бы поступил на моем месте. Мне остается только поклясться, что мои родители ровным счетом ничего не знали.
Вот и все. Трое мужчин снова обменялись взглядами. У них не было больше вопросов к ней. Они только не решили еще, оставят ее на свободе или нет. Француз пожал плечами, давая понять, что это не существенно.
— Идите! Но будьте готовы явиться по первому требованию.
— Мне можно съездить в Шарлеруа?
— Если вам так хочется, поезжайте.
Было одиннадцать вечера. Сильви понимала, что как только она уйдет, они позвонят в Шарлеруа. Если уже не позвонили. Она отправилась в «С пылу, с жару!», где едва успела вполголоса обменяться парой слов с Жаклин. Она танцевала. Пила шампанское с судовладельцем из Антверпена. И только когда забрезжил рассвет, сбросила вечернее платье, переоделась в будничное…
Эли злобно, ожесточенно сверлил ее глазами. Он видел ее профиль, волосы по-прежнему сияли на солнце, шелковые чулки плотно облегали стройные ноги.
— Оденься! — устало повторила она.
И поднялась, направилась к двери, плотно затворила ее за собой, прошла на кухню. Мать встретила ее вопросительным взглядом.
— Он одевается, — ответила она.
— Что он говорит?
Антуанетта тоже была здесь, ее глаза лихорадочно сверкали, сжатые губы стали тоньше:
— Что, по-твоему, он может говорить?
Девушка была явно на взводе. Валеско, спустившись к ним, налил себе рома. Это снова напомнило начало войны, когда мелкие повседневные условности обихода разом утратили значение.
— По-прежнему стоит как вкопанный! — доложил румын. — Только нос уже не такой красный, как-никак солнце пригревает…
Он посмотрел на часы: половина десятого. Но кастрюля все еще не стояла на огне. Мадам Барон больше не помышляла о чистке овощей.
— Лишь бы твой отец не проснулся! Антуанетта, ты не сходила бы посмотреть на него, а?
Антуанетта послушно вышла, ступая на цыпочках.
— Вы считаете, ничего больше сделать невозможно? — пролепетала мадам Барон, отводя глаза.
— Главное, ничего и не надо делать! — отрубила Сильви.
— Если бы не тот полицейский за домом… — пробормотал Валеско. — Но они приняли все меры…
Порой кто-нибудь вздрагивал — ему слышался шум из комнаты Эли.
— Я-то знаю, что сделал бы на его месте, — добавил Валеско, помолчав.
Мадам Барон заглянула ему в глаза:
— Что, что бы вы сделали?
Жестом он показал, что пустил бы себе пулю в лоб. Мадам Барон застонала и плеснула себе рому. Присутствующие не отдавали себе отчета, что все время выпивают, однако бутылка уже опустела наполовину. Вошла Антуанетта:
— Папа спросил у меня, который час. Я ему сказала, что всего восемь, и он снова задремал.
Обе женщины старались не смотреть на Сильви, которая одна из всех оставалась спокойной. Моисей, напротив, то и дело исподтишка поглядывал на нее и тотчас снова отводил глаза.
— Тише! Вот он…
Дверь комнаты заскрипела. Солнце, проникая сквозь застекленный верх входной двери, заполнило коридор золотым светом. Фигура Эли прорисовалась на фоне этого сияющего облака. Он приостановился на миг, потом направился в сторону кухни. Антуанетта открыла перед ним дверь.
Тишина воцарилась такая, будто все перестали дышать. Послышалось только короткое рыдание мадам Барон, она закрывала лицо руками.
Казалось, вошедший был совсем не тот человек, которого все привыкли видеть здесь в последние дни. Может быть, дело в том, что этот был сдержан, в нем чувствовалось пугающее спокойствие. Его мрачные, обведенные темными кругами глаза поочередно неторопливо переходили с одного лица на другое, рот агрессивно кривился.
— Вы довольны? — Усмехаясь, он потянулся к бутылке.
Никогда еще кухня не выглядела такой тесной. Все они сгрудились в ней, и каждого тяготили взгляды других. Солнце, заливая лучами двор, дотянулось до куска льда, и Антуанетта, стоявшая у окна, увидела, как на нем заиграла маленькая радуга.
— Замолчи! — сухо приказала Сильви.
Над верхней губой Эли выступали капельки пота, на подбородке алел свежий порез от бритвы. Потому что он побрился. И надел серый костюм, тот, в котором он щеголял на борту «Теофиля Готье».
Все взгляды были устремлены на двор, и он тоже туда смотрел. Задрал голову, чтобы разглядеть верх белой стены, над которым бледно голубело небо. Из груди мадам Барон снова вырвалось рыдание, она закричала:
— Вы все уверены, что ничего невозможно сделать?
Она не смела взглянуть на Эли. Моисей тоже отвел глаза. Валеско выскочил из кухни и устремился в свою комнату.
— Ничего, — твердо констатировала Сильви. — Было бы можно, я бы сделала.
Почему Эли внезапно шагнул к Антуанетте? Отшатнуться она не захотела. Но взгляд, устремленный ей в глаза, был так странен, что когда его рука потянулась к ее плечу, она вскрикнула и бросилась в объятия матери.
Валеско чуть не кубарем скатился с лестницы, вбежал, задыхаясь:
— Идут!
Перед дверью взревел мотор. Раздались шаги, голоса. Эли развернулся так резко, что всех напугал, и когда зазвенел звонок, ринулся вверх по лестнице.
— Твой отец! — простонала мадам Барон, прижимая к себе Антуанетту.
Валеско открывать не пошел. Это сделала Сильви. Дверь распахнулась, и в ее освещенном прямоугольнике появились три фигуры.
— Она уже здесь! — шутливо воскликнул один из них. — Надеюсь, вы хотя бы новых глупостей не натворили?
Инспектор, что допрашивал ее в «С пылу, с жару!», властно распахнул первую дверь, увидел чемоданы с инициалами «Э. Н.», наклонился, заглянул под кровать.
— Где он?
Француз остался на пороге, закурил сигарету с таким видом, будто происходящее его не интересовало.
— Наверху! — отвечала Сильви.
В мешанине света и тени, наполнявшей кухню, полицейские сразу рассмотрели мадам Барон с дочерью, и тем со своей стороны было ясно видно, как комиссар вынул из кармана револьвер и зарядил его.
— Поднимайтесь впереди нас, — приказал он Сильви.
Та без колебания зашагала вверх по ступеням. На первой площадке остановилась, открыла дверь комнаты Домба, потом Валеско, но обе были пусты.
Коротышка, что дежурил на улице, подошел поближе, его рука в кармане пальто тоже сжимала револьвер.
— Смелее… — машинально пробормотал Валеско.
Мадам Барон пыталась улыбнуться, гладила рыжие волосы Антуанетты, а у той нервы были так напряжены, что ни один звук от нее не ускользал.
— Слышите? — шепнула она.
Двое полицейских и Сильви были теперь на самом верху. Внезапно раздался крик, стук падающих предметов, грохот опрокидываемой мебели, звон битого стекла.
А потом шаги. Почти спокойные. Спускался один человек. Это была Сильви. Она вошла на кухню, совсем белая, сначала прижалась лбом к оконному стеклу, на котором от ее дыхания тотчас образовался запотевший квадратик.
— Что они там делают?
— Он выбрался на карниз…
А шум все не прекращался, перемежаемый резкими выкриками.
— Он как безумный… — прибавила Сильви, она задыхалась, все не могла восстановить дыхание. — Сначала они покатились по полу, все трое…
Повернув кран, она намочила носовой платок, провела им по лицу, пытаясь освежиться.
— Антуанетта! — закричала мать.
Моисей бросился к девушке. Вовремя — она уже валилась на пол без чувств.
— Положите ее на стол…
Валеско опрокинул бутылку с остатками рома, уронил стакан, который разлетелся вдребезги. Никто не знал, за что раньше хвататься.
— Может, уксус…
Но в это время на лестнице раздался шум. Мадам Барон завертела головой, то глядя на свою дочь, то проверяя, что делается в коридоре. Когда там появился Эли, она увидела его со спины и не сразу поняла, что это наручники так изменили знакомую фигуру.
— Она приходит в себя… — сообщил Моисей, все еще склоненный над Антуанеттой.
Но мадам Барон бросилась в коридор, Сильви за ней с криком:
— Мама!
Трое мужчин остановились посреди коридора, мадам Барон тоже замерла, не дойдя двух метров до Эли, не в силах вымолвить хоть слово, подойти ближе…
Лицо Нажеара было окровавлено, волосы на лбу слиплись, из носа капала кровь, а глаза стали неимоверно подвижными. Он озирался, словно высматривал что-то, уже не как человек, а по-звериному, настолько, что могло показаться, будто он никого не узнает.
— Подождите! — простонала мадам Барон. — Он не может уйти так!
Она бросилась в комнату, не обращая внимания на мужа, хотя тот уже спускался с лестницы.
Комиссар зажимал носовым платком рану у себя на руке.
— Забери его вещи, — сказал он выступившему вперед полицейскому-коротышке.
Мадам Барон вернулась с мокрой салфеткой. Все это заняло лишь несколько секунд, и тем не менее на улице уже собрались любопытные. Какой-то мальчишка, вскарабкавшись по выступам каменной кладки, заглядывал в кухонное окно.
Эли послушно позволил мадам Барон обтереть его лицо влажной салфеткой, но кровь продолжала течь.
— Оставьте, — вмешался комиссар, мягко отстраняя ее локтем. — Распорядитесь, чтобы люди не скапливались.
Послышались возгласы:
— Отходите, ну же! Не мешайте! Нечего тут глазеть!
Господин Барон время от времени делал шаг, спускаясь еще на одну ступеньку, как автомат. Он ничего не понимал. На нем были только рубашка, брюки, надетые второпях на голое тело, да шлепанцы на босу ногу.
— Расступитесь, вам говорят!
Нажеар шел самостоятельно. Ему пришлось пропустить вперед инспектора, несшего его чемоданы. Такси Сильви и полицейская машина по-прежнему ждали у края тротуара.
— Поехали!
Вопль эхом отдался в стенах кухни. Валеско, который шел по коридору, застыл на месте. Мадам Барон, вконец обалдевшая, комкала в руках окровавленную салфетку.
Прочее закончилось очень быстро. Группа мужчин пересекла озаренный солнцем участок двора и скрылась в автомобиле. Француз сел рядом с шофером, дверца захлопнулась, зеваки бежали к машине, но она уже тронулась.
Сильви, на которую никто не обращал внимания, сдержанно поцеловала мать и села в такси.
Все было кончено. Люди толпились у порога. Мадам Барон закрыла дверь. Она была так разбита, так подавлена, что казалась больной. Ее муж, заинтригованный, беглым взглядом оглядел опустевшую комнату, заметил, что вода в раковине покраснела…
— Да что же, в конце концов, случилось?
Один Моисей додумался закрыть ставни, так как мальчишки продолжали виснуть на окне. Валеско старался не вспоминать о тех трех сотнях франков.
Накануне вечером цветы, чтобы не завяли, поставили в ведро с водой, а его задвинули в чуланчик за кухней. Так вот, букет пришлось выбросить: вода в ведре замерзла.
11
До Ларошели оставалось несколько километров. Большой открытый автомобиль с кинооператорами возглавлял колонну. Их было пятьдесят три — пятьдесят три машины для перевозки заключенных длинной вереницей следовали по дороге от центрального здания тюрьмы Фонтэвро.
Сельская местность утопала в потоках солнечных лучей. Деревни были светлы. Люди выходили на пороги своих домов и смотрели, как едут мимо большие фургоны без окон с вооруженной охраной на переднем сиденье.
Когда проезжали через Ларошель, операторы, встав на ноги в своей машине, снимали колонну. Потом подъехали к порту Ла-Палис, колонна остановилась на Северном пирсе справа от внутренней гавани, где сновали рыбацкие лодки.
Толпа теснилась поодаль, сдерживаемая жандармами. Чтобы пройти сквозь оцепление, требовался пропуск: только журналисты и фотографы имели право приближаться к буксирам, предназначенным для доставки приговоренных на остров Ре.
— Где наши звезды? — осведомился капитан жандармов.
— Дельпьер должен быть во второй машине.
Это был рабочий, слесарь, зарубивший топором жену и пятерых детей.
— А Нажеар?
— В пятой или шестой. Вы видели его сестру?
Женская фигура как раз появилась в первом ряду толпы. Некий фотограф тотчас устремился к высокой девушке в сером, которая смотрела прямо перед собой, но успела вскинуть вверх руку в перчатке, заслонив лицо прежде, чем раздался щелчок.
Ее соседи, поначалу не обращавшие на нее внимания, теперь заметили, что она пришла с биноклем. Зашептались:
— Родственница!
Между тем первый тюремный фургон открыли. Он был разделен на клетушки, из каждой выходил человек, одетый по-городскому. Но двигались они все неуклюже: мешали наручники, да и кандалы сковывали движения ног.
Эли медленно прошел среди толпы журналистов с сумкой на плече и буханкой черного хлеба под мышкой, ступил на сходни, и жандармы провели его на корму. Там он сел, ослепленный искрящимся сиянием моря.
Большинство заключенных были в лохмотьях и шли боязливо, словно боялись, что их станут бить. Однако встречались то тут, то там и вызывающие взгляды, и вздернутые подбородки.
— Смотрите! Вот он, вот!
Нажеар появился в сером костюме, элегантном плаще и шляпе из тонкого сукна. Не глядя на толпу, он сосредоточил все внимание на своих оковах, смотрел, куда ступает, волочил ноги и насилу удерживал свой хлеб под мышкой.
Поднявшись на борт, он уселся, зажатый между другими заключенными, поднял голову и увидел нацеленные на него объективы. Между тем высокая девушка в сером, стоявшая в пяти сотнях метров от него, лихорадочно крутила маховичок наводки своего бинокля.
— Он улыбается! — заметила одна журналистка.
Была ли это и впрямь улыбка? Кто знает? А Нажеар тем временем заговорил со своим соседом, стариком, заросшим седой щетиной. Тот ему охотно отвечал.
— Это точно, что она его сестра?
— Она срочно прибыла из Константинополя.
Это был первый случай, когда прибытие каторжников пришлось на такой солнечный день. Осень запаздывала, море было гладким, как зеркало, и сияло невинной голубизной.
А восемь дней спустя в честь их массового отправления белые дома острова Ре были облиты потоками света, издали напоминая простыни, что сушатся на лугу.
Занавес поднялся, наступил второй акт. На рейде, окруженное рыбачьими лодками, каторжников ждало судно «Ла Мартиньер». Все гостиницы острова были забиты до отказа, ни одного свободного номера. Журналисты поминутно встречались друг с другом в кафе, на бильярдных столах валялись фотоаппараты.
— А родственники прибыли? — интересовались они.
— Цыгане…
Это было целое семейство, пешком добравшееся сюда с юга, чтобы присутствовать при отплытии отца. Семья раскинула лагерь у самого подножия бастиона, и там весь день шастали дикарского обличья женщины и дети, не вступавшие в разговоры ни с кем.
— Еще есть сестра Нажеара…
Эта остановилась в лучшем отеле, в праздные дневные часы ее видели также бродящей вокруг порта. Она по-прежнему была в сером костюме. И неизменно в перчатках. Ела в одиночестве, пристраиваясь подальше от других трапезничающих постояльцев; раза три-четыре видели, как она заговаривала с тюремщиками.
— Наверное, пытается деньги ему передать…
Так оно и было. И, натыкаясь на все новые отказы, не отступала. Даже к одному журналисту обратилась:
— Вы будете в первом ряду при отправлении, не так ли? Значит, вы могли бы тихонько сунуть ему что-нибудь в руку…
Она не желала понимать, почему ее отталкивают, и смотрела на собеседников с презрением. Видели даже, как она посреди улицы приставала к директору Сен-Мартенской каторги, причем он, приветствуя ее, снял шляпу. Однако едва беседа началась, как директор, снова поклонившись даме, поспешил удалиться.
Но она не отчаивалась. Расспрашивала каждого встречного и поперечного, словно люди и находились-то здесь лишь затем, чтобы снабжать ее сведениями:
— По какой дороге их поведут? Где сможет находиться публика?
Ей объяснили, что окна домов по пути следования каторжников будут сдавать внаем, и она сняла одно. Но когда узнала, что решетчатые ставни при этом должны оставаться закрытыми, потребовала деньги обратно. Поблизости оказались двое хорошо одетых мужчин, которые вели себя скромно и оставили за собой окно, от которого она отказалась. Один из них был домовладельцем из Марселя, другой — братом одного из приговоренных.
Все уже знали друг друга в лицо. По десять раз на дню встречались в порту. Но только в последнее утро было замечено, что с корабля в Ларошели сошла женщина в черном, которая озиралась вокруг, словно потерянная.
— Каторжники в самом деле отправятся отсюда? — спросила она у первого встречного. — Надеюсь, их еще не погрузили на борт?
При ней был только маленький чемоданчик, она так и бродила с ним до полудня, потом уселась на пирсе и достала оттуда свои съестные припасы.
Сестра Нажеара несколько раз проходила мимо нее, поглядывая с любопытством. Тем временем наступил час, когда каторжников построили на тюремном дворе для последней переклички.
В соседнем дворе солдаты и жандармы, тоже выстроившись по ранжиру, получали напутственные инструкции.
Здания были нежного серого цвета, как все, что выстроено во Франции из старого камня, а небо над головами синело уверенно и надежно.
На улицах, там, где пройти можно было, только предъявив пропуск, выставили жандармские кордоны. Такая группа мужчин в униформе преградила дорогу Эстер, даме в дорогом сером костюме.
— Говорю же вам, мне необходимо пройти! — кричала она им.
И, показав на тенистую дорогу между двумя рядами тамарисков, спросила:
— Ведь их там поведут, верно?
— Да.
Она приметила низкую садовую ограду из камня и двинулась в обход квартала.
Именно в это время в дальнем конце улицы ворота каторжной тюрьмы распахнулись. Появились черные фигурки офицеров.
Вслед за ними потянулся кортеж, между тем жандармы на набережной сдерживали напор толпы.
Дивизионный комиссар сказал префекту:
— Сейчас наверняка сюда заявятся цыгане. Похоже, все племя скинулось на это дело…
Вслед за офицерами медленно — в сабо быстрее невозможно — брели семьсот заключенных. По сторонам колонны шагали сенегальские стрелки. Ни на ком из преступников больше не было гражданской одежды, все шагали в грубошерстных коричневых одеяниях, с каторжными робами, перекинутыми через плечо, с мешками за спиной и в странных черных колпаках.
Когда колонна приблизилась к низкой каменной ограде, из-за нее высунулась голова Эстер. Бинокль шарил по лицам идущих в первых рядах.
— Жандарм! Уберите эту женщину! — распорядился дивизионный комиссар, не замедляя шага.
Последнее не составило труда: едва жандарм повернулся в ту сторону, голова исчезла. Комиссар же пояснил, обращаясь к префекту:
— Это сестра нашего милашки Нажеара. Пытается подбросить ему деньжат.
— Нажеар? — протянул его собеседник, роясь в памяти.
— Тот, что в брюссельском скором голландца разводным ключом измолотил.
— А, ну да…
Объективы нацелились на кортеж. Толпу оттеснили, а цыгане, разглядев издали того, кого хотели увидеть, вдруг разом завопили так громко, так душераздирающе, что вся прочая жизнь на несколько мгновений словно замерла.
Равномерный топот возобновился. Люди цепочкой потянулись на борт трех катеров, которым предстояло доставить их на «Ла Мартиньер». Их пытались разглядеть, узнать. Кинооператор распознал Нажеара, который шел, как все, так же закрыв лицо, устало, равномерно передвигая ноги.
Позади толпы металась женщина в черном, тщетно приподнимаясь на цыпочки, дергая проходящих за рукав:
— Мсье, это они? Скажите, вы их видите? Ну пожалуйста, дайте мне пройти!
Но отбежав чуть подальше, она натыкалась на новую живую стену.
— Умоляю вас, мсье! Скажите хотя бы, что они там делают… Они отплывают?..
Люди торопливо проходили мимо нее. Это были кинооператоры, взявшие напрокат катер с мотором, чтобы получить возможность сопровождать партию заключенных вплоть до посадки на тюремное судно. Они пробивались вперед. Мотор уже был заведен.
— Постойте! — закричала им женщина в черном.
Они заколебались, не понимая, кто это, чего она от них хочет.
— Подождите меня! Я еду с вами!
— Это невозможно, мадам! Мы же…
Но она поставила свой чемоданчик на каменную пристань, присела, протягивая руки, ведь прыгнуть надо было вниз метра на полтора.
— Говорю вам, это невозможно…
Катер отвалил от пристани, и она все-таки прыгнула, упав в объятия журналиста, который понятия не имел, что ему теперь делать.
— Идем! Время не ждет!
— Мой чемодан… — пробормотала она.
Но заниматься ее багажом было некому, чемодан так и остался стоять один-одинешенек на краю причала. Три парохода с каторжниками вот-вот тронутся. Надо было проскочить впереди них.
Женщина в черном села, от вибрации работающего мотора ее залихорадило еще сильнее.
— Вы их знаете? — спросила она соседа, заряжавшего свою камеру.
— Некоторых!
— Вы там не встречали одного довольно молодого, с темными волосами…
— Если бы вы сказали мне его имя…
Но она замолчала. Их суденышко проходило мимо трех судов, и сотни каторжников глядели оттуда на катер, теперь отвернувший к молу.
— У них забрали одежду?
— Да. Теперь каждый из них — всего лишь номер такой-то.
Хозяин катера шепнул журналисту:
— Это наверняка родственница. Смотрите, как бы глупостей не натворила. Видали мы всякое. Бывает, и с собой кончают…
Предупреждение вполголоса передавали друг другу, и каждый в свой черед присматривался к женщине, она же держалась вполне невозмутимо.
— Вы здесь ради приговоренного?
Она неопределенно качнула головой, не говоря ни да, ни нет.
— Возможно, мы могли бы вам кое-что прояснить. Мы же пресса…
— Им там совсем плохо, да? Можно хотя бы посылать им что-нибудь вкусное?
Три парохода уже вышли в открытое море, и катер плыл вслед за ними. Вода сверкала, переливалась. Рыбачьи лодки тоже поспешали за ними, в одной закусывали, передавая из рук в руки бутылку с красным вином…
— А поближе подойти нельзя? — спросила женщина в черном.
— Буксиры быстроходнее нас. Но вы сможете увидеть каторжников на сходнях «Ла Мартиньер».
— Они туда поднимаются по лесенке?
Она не плакала. Была спокойна, именно этим пугала всех. Хозяин вспоминал:
— Я видел одну такую. Когда корабль поднял якорь, она бросилась в море…
Из предусмотрительности он поручил одному из своих матросов приглядывать за пассажиркой.
— Почему их так одевают? — спросила она своим мягким, печальным голосом.
— Вы бельгийка? — Один из операторов угадал, что у нее за акцент. — Однако в этой партии бельгийцев нет…
Она снова не ответила на вопрос. На ней были шерстяные чулки ручной вязки и серые нитяные перчатки, на башмаках — новые подметки.
— Что теперь будет с вашим чемоданом?
— Не знаю. Мне придется уехать сегодня же вечером.
Ее все это пока не волновало. Она без устали вглядывалась в три парохода, с борта которых из-под сотен одинаковых колпаков смотрели люди, сотни тесно придвинутых друг к другу лиц.
— Мне бы бинокль… — вздохнула она.
Кто-то протянул ей свой, но женщина тщетно вертела колесико наводки. Воспользоваться биноклем она так и не сумела.
Тюремное судно «Ла Мартиньер», приближаясь, разрасталось на глазах. Мимо проплыла яхта, на ней молодые женщины, грациозные, все в белом.
— Погрузка начинается! — объявил кто-то.
Один из пароходов причалил к «Ла Мартиньер», по сходням потянулась цепочка людей. Но когда катер попробовал приблизиться, повелительный вой сирены дал понять, что ему надлежит держаться мористее. Матрос придвинулся поближе к женщине в черном, чтобы не упустить момента, если надо будет вмешаться.
На маленьком рыбачьем баркасе проплыли цыгане, они туда набились вплотную и стояли, заслоняя глаза ладонями от солнца.
Операторы взялись за работу.
— Сделаем еще круг… Пройдем как можно ближе…
Матрос спросил:
— Вы видите того, кого ищете?
Женщина молчала. Ничего она не видела, эти люди издали все казались одинаковыми. Но вокруг столько солнца… Море было прекрасно. И судно, выкрашенное белой краской, имело вид чуть ли не праздничный.
— Курс на Ларошель, — скомандовал оператор. — Еще не хватало пропустить поезд.
Люди еще целый час карабкались один за другим по трапу «Ла Мартиньер». Но для киносъемки такое зрелище слишком однообразно. Нескольких метров пленки более чем достаточно.
Женщина в черном больше никого не занимала. Она по-прежнему сидела на том же месте, возле люка, и смутно улыбалась, глядя на море. А вспомнили о ней лишь тогда, когда причалили в Ларошели. Раскрыв большой потрепанный бумажник, она спросила хозяина катера:
— Сколько я вам должна?
— Нисколько. Меня наняли эти господа, за все заплачено.
Она поблагодарила их, смущенно улыбаясь, и спросила:
— Где здесь вокзал?
— Идите вдоль набережной. Вы его увидите прямо перед собой.
— Спасибо… Большое спасибо.
И говоря это, мадам Барон улыбалась, сама того не желая; тут, может быть, все дело было в солнце. Ее уверили, что плавание пройдет наилучшим образом. Она представила Эли на борту «Ла Мартиньер». И подумала: «Там у каждого теплая накидка».
Ближайший поезд отправлялся в девять вечера. Было только шесть. Достаточно времени, чтобы погулять по городу или хоть побродить вокруг вокзала.
Но она предпочла посидеть в зале ожидания третьего класса, немного сбитая с толку оттого, что руки ничем не заняты. Ее чемодан остался на острове Ре. Она купила в привокзальном буфете сандвич, предварительно осведомившись о цене.
А Эстер, пришедшую около восьми и ужинавшую в вокзальном ресторане, она и не заметила.
Один и тот же состав увозил их обеих, одну во втором классе, другую в третьем. Мадам Барон там разговорилась с железнодорожником, рассказала ему, что ее муж работает кондуктором в Бельгии, и тот, когда проехали Ниор, устроил ее в пустующем купе первого класса.
Жорж Сименон — один из самых известных в мире детективных авторов. Его произведения переведены на большинство языков мира и экранизированы. Кроме цикла о комиссаре Мегрэ Сименон написал еще множество детективов, с восторгом принятых критикой и читателями. Он нашел свой собственный путь в детективном жанре. Его романы и новеллы не леденят душу жестокими и бессмысленными убийствами, его персонажи — не маньяки, проливающие реки крови. Они — обычные люди, живущие среди нас…
Что заставило богатого коммерсанта променять жену на танцовщицу и стать завсегдатаем порочных заведений Марселя и Ниццы? Окрыленный новыми чувствами мужчина возвращается домой, и отныне все в его жизни будет иначе… («Побег аристократа»)
Приятный молодой человек, очаровавший Сильви на борту теплохода, на фоне голландского финансиста оказался никчемным типом. Он сам так не считает и скоро докажет это, не останавливаясь ни перед чем! («Постоялец»)
Ревность и месть, алчность и корысть, раздражительность и жестокость, непримиримость и равнодушие — вот первопричины преступлений и жизненных тупиков, куда попадают герои детективно-психологических драм Сименона.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.