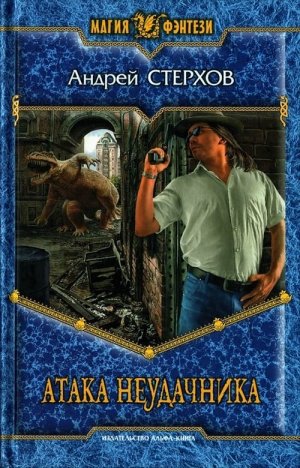
Глава 1
Никогда не забуду, как начиналась та мрачная история.
Стоял сентябрь, шёл нудный моросящий дождь, я сидел в офисе и, выводя мимо нот битловское «Вчера», чистил кольт. Вообще-то, острой необходимости драить пушку не было, месяца четыре как не стрелял, но, зная свою натуру-дуру, понимал: брошу наяривать ершиком по каналу ствола сорок пятого калибра, тут же полезу в заветный шкафчик. Осенняя мерзость за окном, тоска на сердце, вынужденное безделье — всё это и по отдельности подвигает сделать глоток-другой, а вкупе — тем более. Вот и занимал себя, чтоб не сорваться. Так бы, пожалуй, и проковырялся до обеда, однако в двенадцать сорок восемь, оборвав мои страдания на спорной сентенции «Любовь слишком лёгкая игра, чтобы играть в неё», раздался стук в дверь.
— Заваливай, — разрешил я.
Дверь приоткрылась и в проёме появилась моя незаменимая помощница Лера.
— Шеф, — доложила она торжественным голосом, — у нас посетитель.
— Угу, — сказал я. — Вводи.
Сказал с нарочитым спокойствием, но в душе возликовал. Было отчего. Три месяца кряду бизнес шёл не шатко не валко, а последние две недели и вовсе стоял полный штиль. Причём две недели — это если считать работёнку, которую в конце августа подкинул клиент с брутальной фамилией Курощупов. Положа руку на сердце, считать не стоит. На полноценное расследование то дело никак не тянуло. Так, ерунда. Никакой интриги. Всё в итоге свелось к силовой акции с применением грубой боевой магии.
Примчался В. П. Курощупов ко мне утром тридцатого августа в крайне расстроенных чувствах. Это мягко говоря. А говоря шершавым языком плаката — примчался на измене. По кабинету, помню, мечется, руками машет, выкрикивает от переизбытка эмоций что-то невразумительное и глазами вращает, а в глазах: «Всё пропало, мне трындец!» Я его как мог успокоил, в кресло затолкал, стал выпытывать, в чём, собственно, проблема. Оказалось, на деньги господин ресторатор попал, на весьма и весьма серьёзные деньги. На огромную кучу лавандосов. А суть в следующем. Задумав открыть очередную точку общепита (кафешантан, пиццерию или пельменную — точно не знаю, в столь интимные подробности не вдавался), взял Валерьян Петрович жирный кредит в одном известном банке и, не без «отката» поучаствовав в объявленном городскими властями тендере, выкупил дом-развалюху на углу Киевской и Дзержинского. И всё бы ничего, да только когда дело дошло до ремонта, началась, как выразился сам потерпевший, мистика-шмистика. Некая загадочная сила стала крушить по ночам всё то, что строители и дизайнеры успевали сделать за день. Что ни ночь, то разор. И главное — никаких следов, никаких отпечатков, ничего такого. Что, кто — не понять.
Господин ресторатор, будучи мужчиной не робкого десятка, мужчиной, прошедшим суровое горнило девяностых, в конце концов просто настоящим мужчиной, попытался, разумеется, дать отпор махровому беспределу, который никак не вписывался в первоначальный бизнес-план. Чего только ни опробовал. И охранников лицензированных нанимал, и доблестную милицию науськивал, и братков подтягивал, и лично не погнушался постоять с берданкой в ночном дозоре. Только всё мимо. Ни ему самому, ни одному из наряженных караульщиков не удалось застукать таинственного злыдня с поличным. Тут уж до господина Курощупова дошло наконец, что дело нечисто. И хотя был он по жизни упёртым безбожником, незамедлительно обратился за поддержкой в ближайший православный храм. Дело-то стоит, а проценты капают — при таких раскладах не захочешь, уверуешь.
Долгополые бюрократию разводить не стали, в тот же день отрядили самого бывалого. Тот, как это у них принято, святой водой углы дома окропил, кадилом помахал, словеса непонятные густым баритоном пропел, печати там-сям понатыкал — сделал для восстановления благолепия всё, что должен был сделать. По всем правилам сделал и с душой. Однако втуне. Ночью вновь приключился трамтарарам.
Не получив подмоги от Отца Небесного, стал господин Курощупов подумывать о перепродаже треклятого дома к такой-то матери. Тогда-то и нарисовались доброхоты из числа посвящённых, которым хватило ума направить бедолагу в специализирующиеся на потусторонних замесах сыскное агентство. В агентство «Золотой дракон». То бишь — ко мне. Ну, а я что? Я вписался. Да, проехал по указанному адресу, окинул Взглядом место преступления, сообразил по характерным признакам, что балует ни кто иной как демон разрушения крым-рым и, вынув изо рта зубочистку, вписался.
Вообще-то, типовые классификаторы (к примеру, «Герметический бестиарий» Эйсельмаера) относят крым-рымов к тем мрачным порождениям Запредельного, о которых простому человеку даже думать опасно, не то чтобы встречаться. Кто бы спорил. Простому человеку — да, опасно, а вот мне — не очень. Я ведь не простой человек. Во-первых, я маг, и маг, говоря без лишней скромности, не из последних. А во-вторых (и добавлю — в главных), я не человек. Я слава Силе дракон. Пусть и вынужденный по воле обстоятельств скрываться под блёклой личиной человека, но всё же дракон. Самый настоящий. Что ни на есть. Ну а кому как ни дракону-магу тягаться с лиходеем, отправленным, а в данном конкретном случае — призванным, учинять безобразия? Кто, как говорится, ежели не мы? Мы. Никто другой — только мы. По заказу и за ранее согласованную сторонами плату.
Короче говоря, содрал я с господина Курощупова за всё про всё полтинник, чем сразу вызвал доверие, поскольку взял на порядок больше батюшки, и, восславив Великого Неизвестного, приступил. На фук я крым-рыма взять, понятное дело, не мог (в честном бою демон-разрушитель мага моего уровня бьёт по любому), оттого пошёл на хитрость. И не просто на хитрость, а на хитрую хитрость. Затаился с вечера в нехорошем доме, дождался полуночного часа, а когда крым-рым во всём своём великолепном безобразии нарисовался (неслабое, признаться, зрелище), слямзил ту штуковину, которой в Пределах обладает любое, пусть даже и потусторонней выделки, существо. Имею в виду тень. Её-то, такую незамысловатую и столь для бытования в Пределах необходимую, самым нахальным образом и умыкнул у демона-раззявы. Таким вот образом: прошептал, не мудрствуя излишне, заклинание прикрытия, подкрался на цыпочках тихонько, хвать её, в мешок и ходу.
Кража этой уродливой, отнюдь не лёгкой, здорово похожей при изъятии на пятно застывшего гудрона, пакости являлась частью моего коварного плана. План был до гениальности прост, состоял всего из трёх пунктов. Согласно первому мне как раз и предстояло обнести демона вот так вот грубо, согласно второму — заманить чудище в ближайшую точку схождения линий Силы, согласно третьему — устроить ослабевшему злыдню необратимый и окончательный кердык. Как задумал, так и вышло. Грозный, но по-детски наивный крым-рым сходу купился на мою уловку. Забыл, зачем был призван временным господином в Пределы, оставил доверенный пост, и, желая вернуть родное, пустился в погоню. Что мне ушлому, собственно, и — да, да, да — было нужно.
Мотал я демона по вымершим улицам что-то около часа, в результате привёл кругами к дому N 17 по улице Грязнова. Тому, кто посвящён, понятно, конечно, почему именно туда. Старый, когда-то доходный, а ныне просто жилой дом стоит как раз на месте силового стыка с посюсторонней тягой.
К слову сказать, я эту хибару о двух этажах и с легкомысленного вида балкончиком называю «Домом драконов». Неспроста. Секрет знаю. Когда с тополей, растущих у дома, опадают последние листья, среди прочих мотивов пущенного по фронтону деревянного кружева, можно, если хорошо приглядеться, увидеть драконов. Головы им плотник вырезал лошадиные, уши — поросячьи, глаза — утиные. И каждому вместо жала воткнул в зубастую пасть по вьющемуся барвинку. В результате забавные вышли у шутника летающие тати. И на вид — добродушные. Я тоже на вид добродушный, на самом деле — шалишь!
Завернув во двор, сразу метнулся к стоящему в глубине сараю, матерясь на все лады, вскарабкался по загодя приготовленной стремянке на латаную-перелатаную крышу, отдышался, отплевался, закурил и стал поджидать супостата. Скучать пришлось недолго — рассвирепевший демон приковылял в ограду минуты через полторы, я даже цигарку не успел до фильтра добить. Как я и надеялся, выкормыш Запредельного не сразу понял, что угодил в западню, а когда сообразил, было уже поздно. И до того был при всей своей мощи неповоротливым увальнем (все они, крым-рымы, жутко неуклюжи), у истончённой же границы Пределов и Запредельного пуще прежнего стал тормозить. Каждый шаг давался ему с таким трудом, будто не по лужам асфальтовым шагал, а по топкой болотной жиже. Через три-четыре шага и вовсе замер, ни дать, ни взять — танк с опустевшими топливными баками. Стоит, с места сойти не может, только пятью (в шестой хам-молот) когтистыми лапами воздух вокруг себя месит, дотянуться до меня пытается. И нездешне, инфернально при этом подвизгивает. Чисто Брюнхильда в «Полёте валькирий».
Набравшись терпения, подождал я, пока высосут Пределы из лишённого теневой защиты крым-рыма часть запредельной Силы, а когда случилось, выдернул из рулона полусгнившего рубероида меч инхип, что на время выцыганил у главного опера городских Молотобойцев Серёги Белова. Выдернул и лихо покрутил над головой. Потом, не удержавшись от дешёвой театральщины, порубал огненным лучом фонарный свет на лоскуты, издал ратный клич драконов и прыгнул вниз.
Кончая демона, особой радости не испытывал. Вообще никаких эмоций не испытывал. Просто делал свою работу. Выбил из его лапы страшное оружие и — бизнес, ничего личного — вогнал в атакующем прыжке меч по самую рукоять в бугристую грудину. И уже после этого сплёл сообразное моменту заклинание сопротивления:
А потом выдернул луч и добил по-простецки:
Демон напоследок взвизгнул пронзительно, будто хряк при заклании, вывернулся наизнанку через свежую рану, вспыхнул ярко и в следующий миг обратился в облако трухи, что тут же и осыпалась на асфальт чёрными хлопьями. На том моя часть работы была исполнена. Дальше — это уже была забота местного дворника и городских Молотобойцев. Дворнику предстояло размести метлой по ветру непонятную дребедень, а Молотобойцам — найти трикстера. Так они, отважные бойцы городского Поста кондотьеров Предельного съезда сыновей седьмого сына, называют всякого посвящённого, совершившего противоправные действия. И они его, разумеется, нашли. В два счёта нашли. Хотя, чего там, честно говоря, искать-то было? Пустяк. Рутина. Тупо отработали список участников злополучного тендера, вычислили самого обиженного и уже через него добрались до Трофима Ходатаева-Якунчика, чернокнижника с паршивой репутацией из Медоварихи. Добрались и приняли. Пройдоха поначалу в отказ пошёл, но когда хорошенько прижали (Молотобойцы в этом деле бо-ольшие доки), повинился, что так и есть — это он, подлец такой мерзопакостный, вызвал крым-рыма из Запредельного. Повёлся сдуру на заманчивое число с пятью — чтоб нам так жить — нулями.
А вот отделался Ходатаев-Якунчик, на мой взгляд, легко. Чересчур легко. Можно сказать, испугом отделался. Какая-то скидка ему там вышла по Третьей оговорке Марга Ута, так что огрёб всего ничего — семь лет немоты. Ерунда, а не срок. А-та-та по попе мальчику, чтобы грязный ноготь на пальчике не грыз. Хотя с другой стороны — мне-то что? Не дело дракона посвящённых судить, пусть сами друг друга судят. И ответственность за свои неумные решения и попустительскую мягкотелость пусть тоже сами несут. Но видит Сила, наплачутся они ещё с этим Ходатаевым герб ему на щит Якунчиком. Ей-ей, наплачутся. Ну и ладно. Для меня та история уже пылью архивной стала, тут новое дело наклёвывалось.
Импозантному мужчине, которого Лера впустила в кабинет, было на вид лет шестьдесят, может, немногим больше. Шикарный кожаный плащ, часы швейцарской сборки, портфель из крокодила и выпендрёжная трость с массивным набалдашником говорили о нём, как о человеке обеспеченном, а в манере держаться сквозило нечто начальственное. Я, честно говоря, и подумал сперва, что господин этот, похожий на сенбернара-медалиста, какой-нибудь начальник. Пусть средней руки, быть может, умывальников, но, всё-таки, начальник. Вот почему сильно удивился, когда он, сняв шляпу и церемонно приложив её к груди, отрекомендовал себя следующим образом:
— Холобыстин Семён Аркадьевич, писатель.
Произнёс он эту фразу так, будто я должен, даже обязан был знать его имя. Мало того ещё и добавил:
— Тот самый.
Обнаружив, что это не произвело на меня должного впечатления, он спросил без обиняков:
— Надеюсь, читали мой последний роман «Ржавый восход»?
Из присущей мне деликатности я промолчал. Однако посетитель, не будучи глупцом наивным, а как раз напротив — тёртым калачом, понял всё и без слов. Хмыкнул изумлённо и предъявил:
— Ну а «Плоть и кровь»? «Год рыжей псины»? «Гнев отринутых богов» наконец?
Я даже бровью не повёл.
— Что, даже и не слышали? — искренне поразился он.
Покачав головой и, внешне выказывая крайнее сожаление, я развёл руками:
— Увы, но нет.
Покосившись на книжный шкаф, под завязку забитый пыльными томами, писатель счёл нужным слегка попенять мне за дремучесть:
— Удивительно, как это вы так. Мои книги много шуму в Городе понаделали. Можно сказать, прогремели.
Меня его слова ничуть не тронули. Абсолютно никак они меня не задели. Подумаешь — «шуму понаделали». Нашёл чем удивить. На моём веку немало разного отшумело-отгремело, всякую погремушку помнить никакой памяти не хватит, так что — извините.
Всерьёз опасаясь, что господин Холобыстин, тщеславие которого было явно ущемлено, кинется просвещать меня на предмет своего богатого творческого наследия, я решительно взял быка за рога. Указал плодовитому литератору на кресло и — время — деньги — осведомился делово:
— Чем обязан, Семён Аркадьевич?
Он недовольно посопел, но послушался и сел. Аккуратно пристроил к ножке кресла портфель, положил трость на колени, сверху — шляпу, рассеянно оглядел кабинет, задержав взгляд лишь на одной из многочисленных гравюр, потом придал лицу сумрачное выражение и замогильным голосом произнёс:
— Сорвана седьмая печать.
— Что-что?! — чуть не подпрыгнул я от удивления.
Сообразив, что «малость» перегнул, господин писатель поторопился успокоить:
— Про печать — это я образно. Хотя… — Он задумался, потом, будто сбрасывая ненужные сомнения, мотнул головой. — Ладно, в любом случае чёрная магия налицо. А посему, господин частный сыщик, мне срочно нужна ваша помощь.
Разговор пошёл предметный, настало время определиться.
— Семён Аркадьевич, — осторожно поинтересовался я, — судя по всему, вы в курсе, за дела какого сорта берётся наше агентство?
Он закивал что твой болванчик из Китая:
— В курсе, в курсе. Конечно, в курсе. Давеча Михаил Петрович меня на этот счёт капитально просветил. Иначе чего бы я вдруг к вам суну… хм… обратился.
— Вы сейчас упомянули некоего Михаила Петровича, — после секундного замешательства сказал я и уточнил: — Уж не Михаила ли Петровича Лымыря вы имеете в виду?
Господин литератор посмотрел на меня несколько удивлённо, дескать, что за глупый вопрос, но затем подтвердил:
— Его, разумеется. Кого же ещё? Мы, знаете ли, с ним старинные приятели. А помимо того — соседи. Совместные чаепития, преферанс по пятницам и… — Он нарисовал рукой в воздухе причудливую фигуру. — И всё такое. Он-то и посоветовал со своей напастью обратиться к вам. Сказал: «Иди, брат, к Егору Тугарину, по этим делам лучше спеца в нашем городе не сыскать».
— Так и сказал?
— Так и сказал. Ещё и адресок продиктовал.
Выходило, что отрекомендовал меня писателю никто иной как Михей Процентщик, самый сильный в нашем городе маг. Самый сильный и самый жадный. Всем известно, что Силу свою ни на добрые дела этот чародей без масти не тратит, ни на лютые, только в рост Её другим магам даёт под солидные проценты. Вот и сейчас в своём репертуаре: поскупился на Силу, и вместо того, чтобы самому придти на помощь дружку закадычному, ко мне отфутболил.
Ну что ж, подумал я, спасибо тебе, Михей-жадюга. Огромное спасибо. Я не отпихну. Всякий-каждый клиент у меня нынче на вес золота.
А вслух — не из праздного интереса, конечно, а дабы выбрать верную линию поведения — стал выспрашивать:
— Скажите, Семён Аркадьевич, вы и вправду верите в действенность магии?
— Все верят, — сходу и запросто ответил писатель.
Признаться, его скорый ответ пришёлся мне по душе, хотя и был он со всех сторон ошибочным. На самом деле в существование другого пласта реальности верят далеко не все. Многие не верят. А по правде говоря — не верит большинство. Шарахаются от всякого драного черныша, боятся заглядывать в разбитые зеркала, хохочут в голос над рассыпанной солью, но всё равно не верят. До тех пор не верят, пока однажды не окажутся — ой! ай! — у тёмной бездны на краю. Профаны.
А другие не верят, поскольку в силу происхождения или особых жизненных обстоятельств знают. Причём знают наверняка. Это посвящённые. Те из них, кто не только знает о существовании Запредельного, но в той или иной степени умеет обращаться с магической энергией, которую между собой для простоты называют Силой, — это чародеи разных генезисов, уровней и мастей: ведьмы, колдуны, ведуны, чернокнижники, обаяници, знахари, прочая разудалая бестия-братия. А ещё есть азеркины, по-русски — Иные. Для этих нелюдей, обитателей Пределов и залётных гостей из Запредельного, данная нам в ощущение и не такая уж и свободная от нашего сознания ирреальность — то же, что для рыбы вода.
Вот таково на самом деле положение вещей, если в двух словах и в самых-самых-самых общих чертах. Но не стал я поправлять господина писателя, и уж тем более не стал пускаться в подробности. Зачем? Людям от многих знаний одни только печали светят. К тому же седьмое правило драконов запрещает подталкивать непосвящённого к омуту сакральных премудростей. Я старый, солидный дракон, древние правила чту. Поэтому так.
Определившись, что пришёл ко мне клиент хоть и понятия не имеющий об истинной картине мира, но психологически более-менее подготовленный к восприятию того, что профаны называют сверхъестественным, я продолжил уже со спокойной душой:
— Ну, раз вы верите, Семён Аркадьевич, в материальность корня квадратного из минус единицы, тогда готов вас выслушать. В чём проблема? Что стряслось?
— Известно что, — с мрачным спокойствием сказал писатель. — Проклял нас кто-то.
Он собирался продолжить, однако я его сразу перебил:
— Подождите, Семён Аркадьевич. Кого это «нас»?
— Журнал наш.
— Журнал?
— Ну да, журнал. Точнее — редакцию нашего журнала. Видите ли… — Тут Холобыстин потянулся к портфелю, щёлкнул золочёными замками и извлёк на свет пухлый журнал в мышиного цвета обложке. — Видите ли, я являюсь издателем и главным редактором одного известного литературного альманаха. — Он передал журнал мне через стол. — Надеюсь, вам как интеллигентному человеку знакомо это издание?
Насчёт «интеллигентного человека» этот дядя, на поверку всё-таки оказавшийся хоть и незначительного ранга, однако начальником, дико ошибался. И не человек я, и не интеллигент. Не человек — по рождению, не интеллигент — по ментальности. Уж кем-кем, а интеллигентом себя сроду не считал. Мало того, вообще не очень понимаю, что означает этот термин, изобретённый автором романа «Василий Тёркин» Петром Боборыкиным. Мутный какой-то термин. Настолько он мутный, что каждый вкладывает в него (хотя, быть может, правильнее будет сказать — вынимает из него) свой собственный смысл. Сколько людей, столько и смыслов. А потом: я его как где услышу, сразу представляю Васисуалия Лоханкина, тырящего мясо из простывшей кастрюли. Тут же волна омерзения по всему драконьему нутру, и — брр — ничего с собой поделать не могу. Была бы моя на то воля, вымарал бы к чертям собачьим это корявое слово из всех словарей. Нафиг не нужно. Хочешь про сослуживца Ивана Ивановича сказать, что он умница и порядочный человек, ну так и скажи, не наводя тень на плетень: «Вон идёт Иван Иванович, он умница и порядочный человек». Всем сразу про Ивана Ивановича станет всё предельно ясно и никаких на его счёт левых непоняток не возникнет.
Альманах, который я, конечно же, видел впервые, назывался «Сибирские зори». Приличия ради я изобразил живой интерес, даже пролистнул несколько страниц и, не желая усугублять обиду потенциального клиента, извернулся:
— Не сказать, что регулярно читаю, но… Как я понимаю, это свежий номер?
— Да-да, — похвалился господин Холобыстин, — свежий, свежеиспечённый, Заезжал по пути в типографию и вот прихватил. Сам ещё пока не листал, но вы, если желаете, можете оставить себе.
Я сделался сама благодарность:
— Спасибо, Семён Аркадьевич. Огромное спасибо. Обязательно ознакомлюсь. С превеликим удовольствием. Потом как-нибудь.
Таким вот беспардонным, чтоб не сказать бесстыжим, враньём мне удалось слегка растопить сердце господина писателя. Он одобрительно улыбнулся и заметил благосклонно:
— Приятно слышать подобные слова. Мало кто в наше время интересуется подлинной литературой. Это раньше «толстяки» расхватывали, как горячие пирожки, а сейчас, в эпоху чистогана…
Он разочаровано махнул рукой и закатил глаза к потолку.
Понятно, что уважаемый господин Холобыстин имел виду журналы советской эпохи — «Новый мир», «Октябрь», «Неву», «Наш современник», иже с ними, но мне вдруг припомнилось, как лет сто-сто пятьдесят назад я с нетерпением ждал прибытия в Город неразрезанных номеров «Трудолюбивой пчелы», «Адской почты» и «Телескопа». Вот в ту пору меня действительно здорово волновала людская натура, её падения и взлёты. Сейчас уже нет. За век двадцатый, век, который один поэт-страдалец весьма справедливо обозвал волкодавом, всё про сынов человеческих окончательно я понял, ничего принципиально нового от них не жду, интерес мой к ним угас, глаз, излучавший любопытство, потух окончательно.
Пристроив журнал на столе между канделябром и шпагой, я откинулся на спинку кресла, вытянул ноги меж тумб дубового стола и, по-купечески сложив руки отнюдь не на купеческом своём животе, спросил-резюмировал:
— Итак, уважаемый Семён Аркадьевич, вы утверждаете, что на коллектив вашего замечательного журнала наложено проклятие?
— Да, я это утверждаю, — сказал он без тени сомнения.
— И в чём же это, позвольте узнать, проявляется?
Он выдержал длинную, почти что мхатовскую паузу, после которой заявил:
— В серии самоубийств, вот в чём это проявляется.
Выдал с придыханием и уставился, пытаясь пробиться взглядом сквозь тёмные стёкла моих очков. Хотел, видимо, оценить, как отреагирую. Я же, как это оно и подобает бывалому сыщику, воспринял его сообщение со всей серьёзностью. Но — хладнокровно. Поправил привычным движением очки на переносице и ничего не сказал. Мне пока нечего было сказать, я ждал подробностей.
Он это понял.
Глава 2
С полминуты, наверное, писатель раздумывал с чего начать. Я ждал и не торопил, слушал, как долбится в стекло опупевшая в атаке муха. Наконец Семён Аркадьевич собрался с мыслями.
— В общем, господин частный сыщик, тут такое дело, — начал он неторопливо. — Возвращаюсь давеча из Лондона, звоню в редакцию, а из трубки плач и причитания. И сквозь всхлипы страшное: «похороны». У меня волосы на голове дыбом, сразу туда — кто, как? А оно, вон оно как. Покончили с собой один за другим. Внезапно и необъяснимо. Трое. Эльвира Николаевна, завотделом поэзии. Светлой души человеком была. Потом Мариночка… Марина Мордкович, ответственный секретарь. Мы её все Бабочкой звали, всё порхала, знаете ли, порхала. Ну и наконец Костя Звягельский, наш верстальщик-компьютерщик, работяга безотказный.
В этом месте своего рассказа писатель прервался и сокрушённо закачал головой. Я было решил, что — всё, сейчас раскиснет. Однако он и не подумал. Повздыхал-повздыхал и благополучно продолжил всё в том же, печально-повествовательном, тоне:
— Ну и вот что у нас получается. Эльвира Николаевна ушла от нас в ночь на двенадцатое, дряни какой-то снотворной наглоталась. Марина, та двенадцатого утром бросилась под грузовик. Ну а Костик в полдень того же дня из окна выбросился. У нас офис на третьем, вот он, стало быть, улучив минутку, и сподобился. Невысоко вроде бы, однако — насмерть. Неудачно, знаете ли… головой… Ладно бы на газон, так нет же — прямо на бетонную дорожку.
После этих слов писатель вновь замолк и уставился на гравюру, к которой уже проявлял интерес, на гравюру по мотивам восемнадцатого аркана Таро. Аркан называется «Мистерия», гравюра тоже. И там так. Ночь, луна, каменистая пустынная долина, местами клочки тумана, из ниоткуда в никуда тянется узкая, частично покрытая зыбучим песком, дорога. На горизонте зарево и на его фоне видны две громоздкие, неведомо кем и неведомо для какой цели построенные, башни. На дороге, задрав морды, сидят волк и собака. Очевидно, воют. Разумеется, на луну. А левее, в нескольких шагах от них, на обочине, пятится в мутную лужу огромный, мрачноватого вида рак. И больше ни души.
Такая вот картинка.
Я дал писателю в полной мере насладиться веющей от неё безысходностью, после чего сказал:
— Искренне сочувствую вашему горю, но скажите, Семён Аркадьевич, с чего вы решили, что ваш дружный коллектив кто-то проклял?
— Как с чего? — перевёл он взгляд с гравюры на меня. — Разве это не очевидно? Разве я не прав?
— Не знаю, не уверен. Быть может, роковое переплетение обстоятельств.
Писатель ахнул:
— Шутите, господин частный сыщик?!
— Вовсе нет, Семён Аркадьевич, вовсе нет. Серьёзно говорю. В наше сложное время в нашем затурканном мире случиться может всякое. Даже то, что в принципе случиться не может.
— Ну, знаете ли! — вскинулся писатель. — Ни с того ни с сего трое сотрудников одного коллектива отписывают Леониду Андрееву, причём в один и тот же день. Вероятность такого совпадения — ноль. А то и меньше.
Если человек, привыкший командовать, втемяшил себе что-то в голову, его не переубедишь. А если этот человек вдобавок ещё и ставит себя высоко над остальными, его совсем-совсем не переубедишь. Я и не стал. Себе дороже. С грохотом выбрался из-за стола и пошёл к окну разбираться с мухой, которая вконец уже достала меня своим надрывным жужжанием. А по ходу дела начал рассуждать:
— Будь по-вашему, Семён Аркадьевич. Допустим, что самоубийства, если это, конечно, действительно самоубийства, что, между прочим, тоже ещё следует доказать, произошли под воздействием проклятия, а не по причине тяжких житейских обстоятельств или обломов на любовном фронте. Тогда такой вопрос: у вас есть предположение, кто заказчик? Догадываетесь, кому дорогу перешли? Да? Нет?
— Так сразу и не скажешь, — провожая меня взглядом, пробормотал писатель.
Я свернул жалюзи, с третьей попытки накрыл упрямую муху ладонью, потянул фрамугу и отпустил животину на волю. Лети, раз неймётся. Муха тут же рванула в моросящую гнусь. Дура неумная.
Приведя окно в исходное состояние, я вернулся к столу и продолжил:
— А, может, догадываетесь, за что вас заказали? Сами понимаете, Семён Аркадьевич: если знаешь за что, тогда можно вычислить и кто.
— За что? — Холобыстин пожал плечами. — Да бог его знает, за что. Ума не приложу.
— Может, дело в деньгах? — плюхнувшись в кресло, предположил я самое банальное. — Быть может, вы должны кому-нибудь круглую сумму? Или наоборот — вам должны? Знаете, как оно иной раз бывает: возникли небольшие разногласия, и пошло-поехало, и понеслась езда по кочкам.
Господин Холобыстин вздрогнул, будто его кто укусил, но уже в следующий миг замахал на меня рукой:
— Что вы, что вы, какие деньги! Какие суммы! Бюджет у нас копеечный. Еле-еле концы с концами сводим, можно сказать, нищенствуем. — Секунду-другую помолчал, затем добавил: — Но с другой стороны и больших долгов нет. Чего нет, того нет.
Я посмотрел на его часы немереных каратов, перевёл взгляд на дорогие заморские боты, вспомнил о недавней поездке на родину Вильяма нашего Шекспира и подумал: ага, особенно вы, господин писатель, нищенствуете, просто нищебродствуете и работаете на голом энтузиазме.
Оставил эти мысли при себе, вслух же заметил:
— Должна, должна быть какая-то причина. Причём причина веская. Поверьте моему богатому в этих вопросах опыту: проклинать без веской причины никто никого не станет. И я объясню, почему. Потому что это слишком затратное и вредное для здоровья колдуна занятие. Одного — трудно, двоих — очень трудно, ну а сразу троих предать проклятию — тут можно запросто надорваться. И это, Семён Аркадьевич, не фигура речи. Так что, поверьте, обязательно должно быть нечто такое, ради чего неизвестный нам товарищ серьёзно потратился.
Выслушав меня внимательно, писатель какое-то время молчал и нервно теребил шляпу. Потом вдруг оживился.
— Знаете, господин частный сыщик, — перейдя на доверительный полушёпот, подался он к столу. — Я тут подумал, и вот что вам на этот счёт скажу. А ведь существуют могущественные силы, которым наш альманах, что та красная тряпка для разъярённого быка. Они-то как раз и могли всё это кровавое бесчинство организовать. С них станется.
Говорил он с таким жаром, с такой внутренней убеждённостью, что я невольно заинтересовался:
— Кого это вы, Семён Аркадьевич, имеете в виду?
— Кого? А тех, господин частный сыщик, кому подлинный талант глаза колит. Вот кого. Тех, кто из-за своих меркантильных интересов мечтает заткнуть рот бескорыстным творцам, способным тонко чувствуют трагедию нашего времени и слышать биение подлинной жизни. Тех, кто в погоне за лёгкими деньгами пытается…
Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить: сейчас начнёт придавать анафеме адептов массовой культуры. Слушать пустопорожнее бла-бла-бла мне не хотелось, и я прервал пафосное блеяние, задав прямой и чёткий вопрос:
— Простите, Семён Аркадьевич, что перебиваю, но вы можете назвать конкретные имена?
Он осёкся на полуслове, глянул на меня недобро и выговорил через губу:
— Имя им легион. — После чего насупился, словно ребёнок, которому не дали рассказать стишок для Деда Мороза, чем лишили новогоднего подарка, и поставил вопрос ребром: — Так вы берётесь за это дело?
Едва сдержав улыбку (надо же обидчивый какой), я уточнил:
— А чего вы от меня, Семён Аркадьевич, собственно, хотите? Чтобы я нашёл заказчика и наказал убийцу? Этого?
— Наказать — само собой, — старательно отводя взгляд, произнёс он. — Но, прежде всего, я хочу, чтобы вы сняли с нас проклятие. Я очень и очень переживаю за своих сотрудников. Очень я за них… Да и за себя, не буду скрывать, тоже переживаю. Жить-то хочется и планов громадьё.
В эту минуту он, наверное, впервые за всё время визита стал походить на человека, который на самом деле переживает крупные неприятности. Теперь его можно было и пожалеть.
— Планы — это хорошо, — сочувственно покивал я, — планы — это здорово.
— Конечно, здорово. А тут, признаться, даже текучкой заниматься невмоготу, поскольку терзают дурные предчувствия. Ужасное, знаете ли, состояние, всё из рук валится. Поэтому такая просьба — снимите проклятие. Снимите, ради всех святых.
— Вы думаете, мне это по силам?
— Михаил Петрович сказал, что да.
Я удивился и удивился изрядно:
— Он что, на самом деле так сказал?
— Ну да. Так и сказал.
— Вы его, наверное, не правильно поняли. Увы и ах, но я не могу отменить проклятие. Даже ради всех святых. Не в моих силах.
— Почему?
— Потому что отменить его может только тот, кто наложил. Не я это придумал, таково положение вещей.
— Как же так, — растерялся писатель. — Но Михаил Петрович, он же… Вот только вчера же… И теперь это как же… Точно не можете?
— Точно, — подтвердил я, выдержал садистскую паузу и сказал, будто рассуждая вслух: — Другое дело, что могу попытаться найти проклявшего вас колдуна, если таковой, конечно, существует, и… И, скажем так, убедить его, чтоб пошёл на попятную.
У писателя отлегло от сердца, он просветлел лицом.
— А-а! Такая вот, значит, схема?
— Да, вот такая вот.
— Ну, хорошо, такая так такая. Так вы берётесь?
Я подумал немного, кивнул:
— Да. — И показал ему три пальца: — При соблюдении с вашей стороны трёх обязательных условий.
Писатель вновь напрягся:
— Это каких же?
— Во-первых, — загнул я средний палец, — вы не задаёте лишних вопросов, вопросы буду задавать только я. Во-вторых, — загнул я безымянный, — что бы ни случилось в процессе расследования, все детали должны остаться в тайне. И, наконец, в третьих, у нас тут не Красный Крест, я не мать Тереза, поэтому вы оплатите работу согласно прейскуранту. Вот, собственно, и всё.
И я загнул мизинец.
Глядя на мой грозный кулак, господин Холобыстин заёрзал:
— А можно узнать расценки?
В этом непростом месте разговора с клиентом я всегда достаю верный кольт. Не ради дешёвых понтов, ради предания словам дополнительного веса. Дескать, смотрите, господин хороший, вот у меня боевое оружие, а это значит, что работа моя опасна. Опасная работа должна надлежащим образом оплачиваться. Либо так, либо никак.
На этот раз хромированный агрегат, способный пустить под откос летящий вдаль бронепоезд, уже лежал на столе, правда, в разобранном виде. Я быстро, перекрыв все мыслимые нормативы, собрал его, передёрнул затвор, заслал в паз обойму, поставил на предохранитель и, аккуратно положив на стол, сообщил напряжённо следящему за моими манипуляциями писателю:
— Я беру три тысячи в час плюс пятнадцать процентов от общей суммы контракта на накладные расходы. Рабочий мой день — в среднем десять часов. По вашему делу буду работать три дня. Больше — нет смысла.
Господин Холобыстин задумался, поскрёб гладко выбритый подбородок, после чего поинтересовался:
— А если раньше управитесь?
— Верну деньги.
— А как можно будет проверить?
— Правильный вопрос, — ухмыльнулся я. — Ответ: никак. Захочу обмануть, обману. Но я не захочу. Принимаете условия?
Писатель ответил не сразу, какое-то время молчал, мучительно перебирая варианты, но, в конце концов, решился:
— Принимаю.
Кто бы сомневался, самоуверенно подумал я. И стал ковать железо, пока горячо:
— Тогда считайте. И как в подобных делах принято: вечером деньги — утром стулья.
— Надо понимать, речь идёт о предоплате?
— Так точно. И лучше наличными.
Вот уж чего я никак не ожидал так это то, что расчёт произойдёт незамедлительно. Однако писатель, решив не откладывать своё спасение на неопределённое «потом», тут же засунул руку в портфель и выудил из него пухлый пакет.
Товарищ пришёл хорошо подготовленным, поразился я. Крепко, видать, припекло.
А он, понянчив деньги на ладони, сказал:
— Тут пяти тысяч не хватает. Можно их чуть позже занести?
— Можно, — великодушно разрешил я, но затем поразмыслил чуток и обрисовал иной вариант возмещения недостачи: — А давайте так сделаем. Я забуду про эти пять штук, а вы за это опубликуете в очередном номере подборку стихов моего брата. Как вам такое предложение?
— У вас есть брат поэт? — скорее удивился, чем спросил Холобыстин.
— В некотором смысле брат, — ответил я и, поправив очки, чтобы скрыть смущение, добавил: — И в некотором — поэт.
Писатель подумал секунду и неожиданно легко согласился на эту бартерную сделку.
— Ну что ж, давайте так и сделаем, — сказал он и протянул мне деньги. Однако взять я их не успел. В последний момент он вдруг одёрнул руку, положил пакет на стол, накрыл его ладонью и с какого-то перепуга стал кочевряжиться: — Знаете, господин частный сыщик, я вам, конечно, верю, и Михаилу Петровичу тоже верю, он дал гарантии, однако, учитывая все обстоятельства… Как бы это сказать? Хм… Не хотелось бы никого обижать, но…
— Вы сомневаетесь в моих сверхъестественных способностях? — догадался я.
— Не то чтобы совсем, однако…
Я не дал ему договорить. Прикрыл глаза, подобрался весь, сконцентрировался, подхватил его сознание своим и, устраивая себе (а стало быть, теперь и ему) лёгкий морок, произнёс тихо и нараспев:
Открыв глаза, обнаружил, что сижу на циновке.
Огляделся.
Ветхая лачуга. Бледное пятно света на полу. Оконце без стекла. На выцветшей и мятой шторке косая тень сломанной ветки.
Чуть наклонившись вправо, я потянулся всем телом, и оконный проём тут же превратился в такую вот картину: безжизненная узловатая ветка на переднем плане, на среднем — песчаные дюны, на дальнем — где-то в полутора ри от хижины — тёмная полоса, разделяющая берег и море. Небо за окном казалось мёртвым, воздух — неподвижным, унылые, цвета прогорклого майонеза, облака стояли на месте.
Нет, подумал я, должно быть не так.
Сфокусировал взгляд на ветке, затем на облаках, потом снова на ветке, вновь на облаках и снова на ветке. Картинка стала пульсировать, пространство — дышать, мир, обретя ритм, очнулся. Вздрогнула ветка, каркнула невидимая в раме окна ворона, порыв ветра принёс запах мокрых рыбацких сетей.
Вот.
Оно.
То, что нужно.
Поднявшись с пола, я сунул руки в потрёпанные рукава кимоно, поёжился (промозгло было в хижине и по-осеннему сыро), просеменил к окну, а когда дошёл до него, увидел скрюченное, напоминающее иероглиф «тако» — «бумажный змей», сухое дерево.
На кой ляд оно тут?
Взмах ресниц, и просветы между лысыми ветвями залило тёмно-серым. Ещё один миг, и само дерево превратилось в серое, похожее на кляксу, пятно. Я улыбнулся, чихнул два раза, ещё раз чихнул, затем махнул рукой и повелел:
— Лети.
Дерево, ставшее по моей воле бесформенным нечто, будто ждало этого приказа. Вздрогнув, сорвалось с места и начало взлетать, оставляя за собой тонкую струйку-нить выцветшей туши. Поднялось выше. И выше. И выше. Добралось до бестолково, сразу в разные стороны, разбегающихся облаков. Поднялось ещё выше. Ещё. И вскоре исчезло, поглощённое невозможной высью.
Воздушный змей, подумал я. Почти дракон.
Опустив взгляд, глянул в упоительную даль, вздохнул восхищённо и решил немедля направиться к морю. Так захотелось. И та-а-ак захотелось. Но с прогулкой к морю, увы, ничего не вышло. Только сделал шаг к двери, пустяковое заклятие потеряло надо мной всякую власть, и я очнулся.
Я — да, писатель — нет.
Потехе час, решил я и, ударив рукоятью кольта по столу, отпустил сознание клиента на волю.
— Что это было? — спросил он, обводя ошалелым взглядом кабинет. — Где я сейчас был? В Японии? Да?
Не желая его разочаровывать, я промолчал. Хочет думать, что побывал в Японии, пусть так и думает. На самом деле, конечно, всё время сидел в кресле и никуда не отлучался. Я не идиот тратить тысячи и тысячи кроулей на реальное перемещение чужого сознания. С крайней Ночи Полёта прошло немного, я был при Силе, но это не повод разбазаривать Её по пустякам. Если можно кого-то в чём-то уверить дешёвым мороком, надо этим пользоваться. Как говорят в рекламе стирального порошка, зачем платить больше, если разницы нет.
Прошла минута и ещё одна, прежде чем клиент наконец успокоился. Правда, после этого он впал в несколько меланхоличное состояние. Но тут уж ничего не поделаешь, с замороченными иногда так случается. Зато дальше пошло как по маслу. Поверив, что действительно умею нечто такое, что обычному человеку неподвластно, господин писатель вручил мне деньги. И, между прочим, правильно сделал. Не нужно бояться отдавать свои деньги тому, кому собрался доверить собственную жизнь.
Закинув плотно набитый купюрами пакет в стол (не пересчитывая и выказывая тем самым клиенту своё полное по отношению к нему доверие), я задал ещё несколько уточняющих вопросов, записал нужные имена, координаты и номера телефонов. Напоследок мы с господином писателем договорились встретиться в пять часов вечера в помещении редакции. Вообще-то, я хотел сразу осмотреться на месте, но, к большому моему сожалению, он раньше пяти не мог.
— Я на вас надеюсь, — сказал он, поднимаясь из кресла. — Вы уж постарайтесь.
Обойдя стол, я вытащил из кармана и протянул новоиспечённому клиенту не требующий авторизации перстень-оберег самого общего действия:
— Наденьте, пожалуйста, Семён Аркадьевич, вот это вот колечко и ни при каких обстоятельствах его не снимайте. До поры до времени оно будет вас охранять. А что касается меня, будьте уверены, сделаю всё, что в моих силах.
Приняв кольцо, господин Холобыстин счёл нужным поблагодарить меня. Чуть поклонился и сказал:
— Спасибо, господин частный сыщик.
— Пока ещё не за что, — отмахнулся я.
— Взялись за дело, уже хорошо.
— Как не взяться? Именно такими вот делами, позвольте напомнить, я на хлеб и зарабатываю.
— Понимаю. И всё же.
С этими словами он осторожно-осторожно, явно волнуясь, натянул кольцо на безымянный палец. Кольцо село как влитое. Ещё бы оно волшебное не село. Волшебное, оно любому впору.
Разобравшись с охранительным подарком, господин Холобыстин приложил к груди свою пижонскую шляпу и отвесил ещё один полупоклон. Я же, стряхнув с его плеча несуществующую дождевую каплю, сказал на прощание:
— Такая просьба у меня к вам, уважаемый Семён Аркадьевич. Всё-таки попытайтесь вспомнить, кому насолили. Не умозрительные поползновения клевретов массовой культуры имею в виду, а конкретных из плоти и крови недругов. Если вспомните, сразу звоните. День, ночь — всё равно.
Он пробурчал:
— Да, хорошо.
На том и расстались.
Я проводил его до двери, подождал, пока оставит офис, и попросил Леру:
— Зайди ко мне.
— Ага, шеф, — кивнула она, на секунду подняв взгляд от клавиатуры. — Только вот добью до точки.
И снова — щёлк, щёлк, щёлк.
Для меня не было секретом, чем она занимается. Знамо дело, рожает очередную курсовую работу по какому-нибудь там судопроизводству или гражданскому праву. Моя верная помощница, помимо того, что умница, спортсменка, просто красавица и великий специалист по склеиванию рваных купюр скотчем, ещё и заочница юрфака. Я не против, я за, и поощряю это дело как могу. И уж тем более не наезжаю по поводу того, что она закрывает «хвосты» в служебное время.
— Как тебе клиент? — спросил я, когда Лера наконец появилась в кабинете (прошло всего ничего — семь минут).
— Солидный чел, — оценила она. — Только с парфюмом у него явно перебор.
— Чтоб знала: берём в работу.
— Дела пошли в гору?
— Побежали.
— Это хорошо, — искренне обрадовалась Лера. — Это просто замечательно. А что у него, шеф? Жена изменяет или любовница? Или чего похуже?
— Возникли неурядицы с партнёром по бизнесу, — соврал я на голубом глазу. — Наша задача: обнулить накал и не допустить смертоубийства.
— А он кто по жизни? Банкир? Да?
— Банкир? Почему банкир? Нет, не банкир он, издатель. Журнал издаёт.
— Вот как?! — На лице девушки появилась мечтательная улыбка. — Журнал — это сильно. Журнал — это круто. А вам, шеф, с этим делом сложно будет?
Я повертел в руке невидимое яблоко:
— Да так.
Моя славная помощница никакая не посвящённая, поэтому постоянно дурю ей голову и использую втёмную. Вот станет она, синеокая моя краля, постарше, затащу в койку (всё идёт к тому), сделаю ведьмой, тогда глаза ей на всё и раскрою, тогда и выложу всю подноготную. Если до того времени, конечно, не умыкнёт её какой-нибудь залётный рыцарь в сияющих доспехах. Как по мне, так лучше пусть умыкнёт. Честно говоря, не хочу девчонке жизнь ломать. Хотя, разумеется, облизываюсь. А кто бы на моём месте не облизывался? У неё ведь и там, и там, и там всё по высшему разряду. Джулия Робертс отдыхает, Дженнифер Лопес нервничает.
Прежде чем поставить задачу, я перегнулся через стол и протянул Лере альманах, оставленный Холобыстиным.
— Что это? — машинально приняв журнал, справилась она.
— Это тот самый журнал, который издаёт наш клиент.
— Ой, а я подумала, он глянец издаёт.
— Зря.
— Что «зря»?
— Зря подумала.
— Точно, шеф, — слёту согласилась Лера, — офисным креветкам думать вредно. А блондинке так ещё и не к лицу. — И наиграно хохотнув, вслух прочитала название журнала: — «Сибирские зори».
— Слушай задачу, — переходя на деловой тон, начал я. — Пошарь в Сети, узнай про это духоподъёмное издание всё, что можно узнать. Угу?
— Хорошо, шеф. Это всё?
— Нет, не всё.
Я вытащил пакет Холобыстина, вынул все деньги, половину скинул назад в ящик, вторую вернул в пакет и сказал Лере, которая всё это время не спускала с меня глаз:
— Оплати счета, разберись с расходными материалами, что останется — твоё.
— Шеф, можно я новый чайник в офис куплю?
— Валяй, — разрешил я и набавил ещё две штуки.
Забирая пакет со стола, Лера случайно столкнула лежащий на краю фолиант — старинную книгу в потёртом кожаном переплёте.
— Давай круши, давай ломай, — проворчал я в шутку. — Оно же не своё, оно же колхозное.
— Послушайте, шеф, — сказала Лера, поднимая тяжеленный том с ковра, — давно хотела спросить, а что это у вас за книга такая странная?
Призвав на помощь все свои актёрские способности, я скорчил гримасу удивления:
— Почему «странная»? Нормальная. Просто очень древняя. Вообще-то это трактат о сущности Дао. Как «Дао дэ цзин», только более, на мой взгляд, продвинутый.
— Но тут же вообще ничего не написано? — здесь же все листы чистые. Пожёванные, но чистые. — Лера положила книгу на стол и пролистнула тонкие, почти прозрачные, листы бамбуковой бумаги. — Пусто, как в новой записной книжке. Старой, но новой. В смысле ещё не начатой. Что это за фигня такая? А, шеф? Что за глюк? Молоком, что ли, написано? Да? Или чернилами невидимыми?
— Не стрекочи, — поморщился я. — Говорю же, эта книга о Дао. Если и возможно написать книгу об истинном Дао, то она должна быть именно такой. Ведь Дао, которое можно выразить словами, не есть истинное Дао.
— Вот как! Честно? Итц кул. Пожалуй, тогда и я, конченая блондинка, смогла бы написать подобную книгу. Запросто. За один вечер, и не напрягаясь.
— Вот это навряд ли, — засомневался я. — Думаю, по молодости лет ты не нашла бы нужные слова.
Лера удивилась:
— Какие слова? О чём вы, шеф? Смотрите, тут же ни одного слова вообще нет. Ни словечка. Ни буковки.
— Почему же нет? Слова как раз есть, просто они… Просто они не написаны. Понимаешь, Лера, тут фишка вот в чём. Чтобы таким вот образом не написать ни единого слова, надо для начала их познать. И только тогда, познав и сознательно отказавшись от них, можно сочинить великую книгу.
— Не поняла. В чём разница? Ну познал ты слова, не познал, результат-то один и тот же: пустые жёлтые листы.
— Э-э, не скажи, — покачал я головой. — И то, и то — да, пустота, но это разная пустота. Ты говоришь об уцзи, о беспредельности…
Лера округлила глаза:
— Я говорю?!
— Ну, имеешь в виду. Подразумеваешь. Так вот. Беспредельность-уцзи, тождественная санскритской пустоте-шуньяте, — это, спору нет, солидный итог творческого акта. Но чтобы сочинить великую книгу, требуется осуществить внутренний переход от уцзи к другой пустоте, к пустоте с большой буквы, к Тайцзи, к Великому Пределу. Лишь достигнув Великого Предела, пустота обретает содержание, то есть интенцию к действию. Понимаешь, о чём я?
— Смутно, — призналась Лера.
— Как бы тебе тогда… — Я поскрёб затылок. — Вот представь, что ты целишься в птицу из незаряженного ружья.
— В какую птицу?
— Не важно. Ну, в чайку, например.
— В чайку не хочу.
— Хорошо, не в чайку — в баклана. Баклан пойдёт?
— Пойдёт.
— Ну вот, значит, целишься ты, в баклана из незаряженного ружья, естественно, не стреляешь, поскольку нечем, и баклан улетает. Представила?
— Ага.
— А теперь представь, что твоё ружьё заряжено. Ты снова целишься в баклана, не стреляешь и он благополучно улетает по своим делам. Чувствуешь разницу? Чувствуешь: когда ты не выстрелила из заряженного ружья, и в тебе самой, и в основах мироздания произошли некие едва заметные, едва уловимые, но всё же изменения? Чувствуешь?
Лера честно задумалась и честно ответила:
— Вообще-то, да. Чувствую что-то такое, шеф. Вот тут…
И она положила ладонь на живот.
— Ну, и прекрасно, — похвалил я. — Эта вот разница и есть…
— Великая пустота?
Я усмехнулся:
— Нет, что ты. Это только холодок от её невидимой тени, которая коснулась своим краешком твоего… — Я посмотрел на плоский живот Леры. — Твоего юного сердца.
— Ясненько, — кивнула девушка и отвела глаза.
— Не ври, — сказал я. — Ничего тебе, подруга, не ясно. — Подбодрил улыбкой и поинтересовался: — Скажи, ты слышала такое выражение — «читать между строк»?
— Слышала, конечно. А что?
— Ничего. Просто советую понимать буквально. Потому как именно там, в пустоте междустрочий, и надо искать истину. А в слова вникать, смысла нет. Глупо это — вникать в слова, раз мысль в процессе высказывания успевает выродиться в ложь. Ты со мной согласна?
Моя помощница в ответ лишь пожала плечами, тогда я показал на книгу и подвёл черту под темой:
— Если научишься читать между строк, сумеешь когда-нибудь прочитать и этот трактат.
После этих моих слов, Лера некоторое время молча смотрела в окно, а потом в ней проснулся будущий юрист.
— Шеф, — сказала она, — но ведь высказанная мысль о том, что высказанная мысль есть ложь, тоже ложь. Ведь так?
— Разумеется, — согласился я.
— Тогда по формальной логике получается, что высказанная мысль всё же может быть истинной?
— Получается.
— Ну и?
— И тут мы, детка, начинаем блуждать в Лабиринте Без Входа И Выхода, — признал я и поднял руки, дескать, всё, сдаюсь.
— Что это ещё за лабиринт такой?
— О! Это, Лера, замечательный лабиринт. В него нельзя попасть, но если вдруг случайно попадёшь, никогда не выйдешь. А если по какому-нибудь недоразумению выйдешь, обнаружишь, что вышел вовсе не ты.
— Да ну вас, шеф! — возмутилась вконец заблудившаяся Лера. — Вы казуист и путаник.
Я хохотнул:
— Тем, собственно, и интересен.
На самом деле книга, который так заинтересовал мою помощницу и от которой я так старательно пытался её отвадить пустопорожней болтовнёй, ни что иное, как старый-престарый драконий гримуар. Достался он мне в наследство от достопочтенного Вахма-Пишрра-Экъхольга, предыдущего хранителя Вещи Без Названия. Много чего в этой книге содержится интересного по вопросам практической магии, но прочесть её может только обладатель Взгляда, то есть маг выше среднего ранга. Вот станет Лера ведьмой, достигнет возраста бабы-яги, нахватается всякого разного, тогда и прочтёт, если захочет. И вообще, много чего она сможет сделать, став опытной ведьмой. И избу на скаку остановить сможет, и в горящего коня войти. Только всё же, всё же, всё же, упаси её, Сила, стать ведьмой. Нет, лучше так: дай мне, Сила, силы не сделать её ведьмой. Да, так, пожалуй, будет лучше. И для неё, и для меня.
Глава 3
Обедать я в тот день направился туда, куда всегда хожу, в кабак, принадлежащий старому чародею неясной масти Руслану «Жонглёру» Непейвода. Это заведение так и называется — «У Жонглёра». Просто и без затей. Расположено оно в одном из тихих двориков по улице Чехова. В этом месте настолько удачно переплетаются линии Силы, что здесь никто не может использовать магические чары во вред другому. Да и просто так, безо всяких чар, заехать кому-нибудь по сусалам ни у кого ещё ни разу не вышло. Неудивительно, что миротворческий подвальчик в фаворе у Иных разного рода-племени и посвящённых всяческих цветов.
Порою здесь за соседними столиками, а то и вовсе за одним, можно увидеть вампира-отморозка и матёрого истребителя вампиров, пожирателя теней и дюжего из Дюжины, оборотня, объявленного в розыск, и молотобойца-опера. Где-нибудь в другом месте эти непримиримые антагонисты друг другу глотки бы перегрызли, а в кабаке Жонглёра — ничего, выпивают, закусывают, оттягиваются по полной и мило друг другу улыбаются. Хотя, быть может, и не улыбаются, а скалят зубы. В смысле — щерят пасти. Поди там разбери. Но тем не менее.
Когда я зашёл, в зале было немноголюдно, а если учитывать, что имеющих душу среди посетителей оказалось всего трое, можно сказать, людей было раз два и обчёлся, остальные — нелюди.
Людей я увидел сразу. За столиком напротив лестницы в компании двух неизвестных мне рыжих ведьм тратил законный отгул Борис «Улома» Харитонов. Этот молотобоец, с которым я давно на короткой ноге не рядовой боец, даром что с виду простец. Он — ни много, ни мало — правая рука Серёги Белова. Элита местного Поста. Резерв главкома. Смертельное оружие. Эт сетера. Эт сетера.
Справедливости ради надо сказать, что это он сугубо в боевой работе смертельное оружие, в быту же и общении — милейший человек. И ещё широкой натуры человек. А про то, что надёжный, как опора железнодорожного моста, и говорить не стоит.
Не стоит, но всё-таки скажу.
Выезжали позапрошлой зимой Капканы Фуртадо ставить на Вепря Оттуда, я, от радения себя не помня, в охотничью яму провалился, ногу сломал, да ещё и бок порвал будь здоров, так вот Боря четыре километра меня до вездехода на себе тащил. Утопая по пояс в снегу, между прочим, тащил. Пять ему за это от золотого дракона. Пять и уважуха.
Что касается присутствующих в зале нелюдей, их тоже в тот час было трое.
Возле стойки перешёптывались о чём-то своём кромешном два вампира, с одним из которых, скользким типом из стаи Дикого Урмана, я был шапочно знаком. Столкнулись как-то раз на опасном повороте судеб мы с этим парнем по имени Адлер. Столкнулись, обнюхали друг друга и разбежались в разные стороны. Он мне без надобности оказался, я ему — не по клыкам.
Другого кровососа, лысого толстяка с рыхлым мучнистым лицом, я видел впервые. И особого желания узнать, кто он такой, признаться, не испытывал.
Помимо вампиров был в зале ещё один посетитель, лишённый души, — угрюмого вида бабр-оборотень по прозвищу Битый. Сидел в дальнем углу за истуканом для расплаты с заведением Силой и как обычно топил в вине свои радости-печали, а точнее — поскольку лишены бездушные и того и другого — их слабые тени. В последнее время, как ни зайду, бородатый уже сидит. Ухожу, он всё ещё сидит. Заняться парню явно нечем. Вообще-то, по жизни он вроде как кладоискатель, только давно уже ничего не ищет. Ходят слухи, нашёл лет пятнадцать назад в ночь на Ивана Купала нечто такое, что позволит ему беспробудно квасить всю оставшуюся жизнь. Лет эдак ещё сто, а мало — двести.
Иной раз смотрю на Битого, и думаю, блин, мне бы так. Поднять бы на раз миллионов тридцать всё равно каких денег и навсегда отойти от дел. И ничего опаснее просроченного кефира никогда больше не видеть. И ничего страшнее песен группы «Руки вверх» никогда больше не слышать. Жить, не тужить, охранять без напряга Вещь Без Названия и тихо умереть от скуки. Подумаю так, а потом соображаю, э-э нет, не бывать такому. Ибо золотой дракон я, а это значит: в заднице — пропеллер, в сердце — горячее стремление всегда и во всём утверждать справедливость. До последнего дня не успокоюсь. И нефиг себе врать. Аминь.
Лихо сбежав по убийственно-крутым ступенькам, я махнул Борису и, получив в ответ пламенный салют в виде уставных трезубых вил, двинул — по прямой, как проходной шар в лузу — к отполированной локтями и мордами барной стойке.
Едва завидев меня, местный подавальщик Кеша Крепыш, подсуетился, бросил протирать бокалы и, глупых вопросов не задавая, мигом соорудил две порции «Окровавленной Машки»: три части русской водки, одна — фирменная смесь помидорного сока, сливового соуса плюм и соуса чили. Первую порцию я закинул, не отходя от бара, вторую прихватил с собой и, кинув улыбчивому Крепышу «как всегда», пошёл на излюбленное место — за столик у стены, где висит картина в массивной золочёной раме. На этом полотне неумелой кисти хозяина заведения потешного вида бабуин швыряет в воздух стеклянные шары. Завсегдатаи шутят: «Автопортрет». Смех смехом, но некоторое сходство между стариной Непейвода и наряженной в шутовской костюм обезьяной действительно наблюдается. Что есть, то есть. Не отнимешь.
Не успел я толком расположиться, к столику с неподражаемой грацией двуполостного асфальтоукладчика подрулил уже выпивший, а потому любящий весь мир и всех его непутёвых обитателей, молотобоец.
Надо сказать, Молотобойцы в боевые отряды своих Постов набирают ребят не ниже метра девяносто, и чтобы кулак весил не меньше астраханского арбуза, и чтобы сажень в плечах была обязательно косой. Заместитель Белова не исключение, скорее образец. Когда опустил руку мне на плечо, показалось, что на плечо уронили рельс.
Потискав меня по-свойски, Боря, который в тот день по какому-то странному велению загадочной русской души был облачён в безупречно сидящий на нём военно-морском китель, взял мой бокал, осторожно, будто уксусную эссенцию, понюхал содержимое, одобрительно крякнул, поставил на стол и, смущённо посопев, предложил:
— Егор, братишка, тут такое дело… Айда за наш столик.
Демонстративно глянув на часы, я пощёлкал пальцем по стеклу и стал отнекиваться:
— Спасибо, конечно, Боря, за приглашение, но, вообще-то, собрался в темпе отобедать и сразу отвалить. Не обижайся — дела. Сам понимаешь, волка ноги кормят.
— Егор, — стал канючить молотобоец, — сделай одолжение. Девчонки просят.
— Девчонки? — Я покосился на его рыжих девиц. — И чего это из-под меня ведьмы хотят?
— Да ничего не хотят. Ляпнул сдуру, что ты дракон, вот им и приспичило познакомиться. Егор, три минуты. А?
— Знаешь, Боря, как это называется. «По городу слона водили» — вот как это называется.
Боря скорчил умоляющую рожу.
— Ну, Егор, ну, уважь. Я уже пообещал, сказал, что мы с тобой закадыки. Не приведу, решат, трепло. Чего тебе стоит? А?
Больше нужного разыгрывать из себя джульетту я не стал. В конце концов, реально был его должником. Он уже про это и помнить забыл (широкой же души человек), зато я прекрасно помнил. Долги — хочешь ты не хочешь — надо отдавать. А потом, когда это сыщику моего профиля мешали новые знакомства в среде посвящённых? Никогда не мешали. Порою такие концы срастаются, что сроду бы не подумал.
— Только три минуты, — сказал я, прекрасно понимая, что тремя не обойдётся. В один приём хлопнул коктейль, и, уже выбираясь из-за стола, добавил: — А ещё с тебя коньяк.
— Не вопрос, — расплылся в улыбке Боря.
Пока шли к столику, он меня предупредил:
— Моя рыжая.
— Они обе рыжие, — напомнил я.
— Которая совсем рыжая.
— Это как?
— Сними очки.
— Сам знаешь, что случится, когда сниму.
— Музей восковых фигур, — кивнул Боря. Два шага после этого раздумывал, на третий определился: — Короче, братишка, моя та, что с короткой стрижкой. Фирштейн?
— Не парься, — успокоил я его. — Не претендую ни на одну.
На что Боря мудро заметил:
— Ещё не вечер.
Поскольку мы уже подошли, произнёс он эти слова заговорщицким шёпотом. И уже в полный голос представил меня подругам:
— Егор Тугарин, дракон.
Потом показал на одну:
— Ирма.
И на другую:
— Варвара.
Шаркнув ножкой и сообщив дамам, что мне ужас как приятно с ними познакомиться, я предусмотрительно сел напротив той, которую представили Варварой. Именно у этой, лет двадцати на вид, красотки каштановые волосы были собраны в длинный хвост. А Боря сел напротив своей пассии, напротив Ирмы. Эта стриженная девица, внешне чем-то похожая на героиню фильма «Греческая смоковница», казалось на пять-шесть лет старше своей подруги. Но это лишь так казалось, на самом деле была моложе минимум лет на восемьдесят. Я это сразу понял. По глазам понял. У Варвары они много чего повидали и когда-то голубые стали свинцовыми от накопленной стервозности. Опытной ведьме молодухой прикинуться — раз плюнуть, только вот глаза колдовству неподвластны. Зеркало души однако. Звучит банально, но оттого не менее верно. Вот у Ирмы, у той, глаза светились, поскольку душа ещё не покрылась коркой. И искренне восхищаться барышня пока не разучилась.
— Вы, Егор, и вправду дракон? — спросила она, обмирая от восторга.
— Есть такое дело.
— Поверить не могу!
Я слова не сказал, всё сделал молча. Быстро выхватил из ножен висящий на боку у молотобойца кортик (почему-то, кстати, вовсе не морской, а егерский), завернул рукав свитера, сжал несколько раз ладонь в кулак и рубанул по набухшей вене.
Когда первые капли тягучей чёрной крови упали на подставленную салфетку, спросил:
— Теперь веришь?
— Верю-верю-верю, — испуганно захлопала ресницами Ирма. — Да я и без этого верила. Просто… Просто… Просто в голове не укладывается.
— Ничего, уложится, — пообещал Боря и, уверенным движением опытного бражника свернув пробку на бутылке с кедровкой, добавил: — Всё со временем, сестрёнка, уложится. Я прав, Варвара?
— Со временем — обязательно, — ответила та и протянула мне носовой платок. — Держи, дракон. — После чего, не отрывая взгляда от почерневшей салфетки, спросила: — Слушай, а какой ты масти?
— Разбираешься? — поинтересовался я, плотно зажав рану, кровь в которой уже, впрочем, начала свёртываться.
Варвара кивнула:
— Немного.
Я предусмотрительно спрятал в карман окровавленную салфетку и только после этого ответил:
— Золотой я.
— Золотой — это круто, — тоном знатока произнесла Варвара. — Маг, Поэт и Воин — это очень-очень круто. А у нас в Ебурге трутся два серебряных. Был ещё и медный, в районе Синих Камней жил, но один питерский Охотник из клана Брро его ещё при Хрущёве завалил.
— Бывает, — протянул я, а сам подумал, вот почему её не знаю — потому что приезжая. Как, собственно, и я.
— Ты сам-то из каких краёв будешь? — будто прочитав, а может, и действительно прочитав мои мысли, спросила Варвара.
— А с чего ты взяла, что не местный?
— Да так, угадала. Поди, в пещерах Зилантовой горы твоя мамка яйцо отложила?
— Чуть-чуть ты, Варвара, промазала. Не в пещерах Зилан-Тау, Змеиной горы, а в у подножий Сары-Тау, Жёлтой горы.
— Значит, не казанский, а саратовский?
— Получается, — кивнул я. — Только когда я родился, города ещё не было. Давно это было, и с тех пор многое изменилось.
— И родная гора твоя называется нынче Соколовой, — в подтверждение моих слов заметила Варвара.
— Вижу, места знакомы?
— А как же. Там же и Лысая рядом.
— Вот как. Интересно. Случаются, значит, весёлые ночи на Лысой горе?
— Ну да. Не регулярно, но иногда на шабаш выбираюсь.
— Завидую.
Ведьма прищурилась:
— Что, тянет на родину-то?
— Редко, — ответил я предельно честно, после чего признался: — Но сильно.
— А сюда, в Сибирь, какая напасть тебя закинула?
Этот вопрос был вторжением в запретную зону, и я ответил уклончиво:
— Судьба.
Было видно, что ведьму мой ответ устроил не совсем, точнее — совсем не устроил, но славе Силе к тому времени Боря уже наполнил разбросанные по столу рюмки. Само собой разумеется, со свойственной ему щедростью, что означает — с горкой.
— Что отмечаем? — спросил я, принимая стопку.
Молотобоец подмигнул мне и показал на Ирму:
— Вот у этой чудесной, я бы даже сказал прелестной, девушки сегодня Тринадцатый день.
Это означало только то, что означало: двенадцать дней назад барышня по имени Ирма (которую до этого, бьюсь об заклад, звали как-то иначе) прошла обряд первой ступени посвящения и по прошествии отмеренного срока не отказалась от решения стать ведьмой. Проще говоря, прошла точку возврата. После заката ещё могла опрокинуть память, с рассветом лишилась такой возможности. Причём, лишилась навсегда.
Что можно на этот счёт сказать? Только сакраментальное: каждый в своём праве. Или ничего.
— Поздравляю, — кинул я новоявленной ведьме и не столько из интереса, сколько для поддержания светской беседы обратился к старой: — А ты, Варвара, надо понимать, её наставница?
Та замотала головой:
— Нет-нет, я лишь родственница. Дальняя. Прилетала на Ночь Инициации, да вот задержалась. Город ваш — омут.
— Это точно, — согласился я с такой лестной оценкой. — У нас, что не топь, то трясина. — После чего обратился к Боре: — Дай угадаю. Был на Инициации наблюдателем от Поста? Так?
Молотобоец, сумевший накануне совместить полезное с приятным — и порядок на празднике Тёмных отследить, и виновницу торжества закадрить, ничего не сказал, лишь лукаво улыбнулся.
— А наставницей у меня согласилась быть Ирида Витальевна Немоляева, — запоздало пояснила неофитка. — Знаете такую?
Я кивнул:
— Разумеется.
— И что на её счёт скажете?
— Скажу, что повезло тебе, Ирма. Слободская маковница — тётка толковая. Хорошему не научит, но и на плохое не подобьёт.
— А почему это вы её, Егор, маковницей называете?
— На то есть своя причина. Лет сто тому назад занималась отхожим промыслом, пекла медовые лепешки с маком и торговала ими в районе рабочей слободы. Оттого и прозвище такое.
Ирма хотела ещё что-то спросить, но Боря её перебил:
— Братишки-сестрёнки, хорош трепаться, продукт выдыхается. Давай, Змей Тугарин, скажи слово. Пожелай нашей новенькой чего-нибудь такого эдакого.
— Запросто, — легко согласился я. — Вставать не буду, но скажу от души.
— Давай, давай, — подбодрил меня молотобоец и сделал знак, чтобы все умолкли.
Дождавшись полной тишины за столом, я стал выдавать тост на-гора:
— Наша жизнь, Ирма, устроена таким образом, что у каждого из нас обязательно есть два неприятеля. Первый теснит нас сзади, второй преграждает путь. Хотим мы того или не хотим, но нам приходится бороться и с тем, и с этим. И вот что интересно: первый наш неприятель поддерживает нас в борьбе со вторым, поскольку хочет протолкнуть вперёд, а второй, отталкивая нас, помогает бороться с первым.
— И вечный бой, покой нам только снится, — улучив момент, ввернул Боря своё хмельное слово.
Я согласился:
— Точно, Боря, вечный. — Выдержал паузу и, обведя взглядом присутствующих, поднял рюмку над головой. — Так вот, Ирма. Желаю тебе, чтобы однажды ночью, такой ночью, темнее которой никогда до этого не было и никогда после этого не будет, ты сумела сойти с линии этого вечного боя и, став судиёю над своими союзниками-неприятелями, обрела душевный покой. Пью за это.
И потянулся к ней рюмкой.
Ирма охотно со мной чокнулась и пролепетала смущённо:
— Спасибо, Егор.
Когда все выпили до дна за небывалую ночь, молотобоец похлопал меня по плечу:
— Хорошо, братишка, сказал.
— Правда, хорошо, — простодушно поддакнула Ирма, — только я не поняла, что это за противники такие и союзники? Кого вы, Егор, имели в виду?
— По условиям жизни в этой задаче два неизвестных, — зажевав ломоть солёного груздя, процитировал я Земфиру Рамазанову.
Ирма непонимающе пожала плечами и тогда Варвара, глядя на меня с лёгкой укоризной, дескать, чего, дракон, туману-то зазря наводишь, пояснила родственнице:
— Первый наш противник, Ирма, — это добро, а второй — зло. Или наоборот. Так, дракон?
Я кивнул.
— Совершено верно. — Подумал секунду и добавил: — Или наоборот.
А тем временем Боря разлил по новой и — антракт между первой и второй — вражьи происки — предложил вновь выпить. Не просто так, разумеется, а за то, чтобы Ирма благополучно прошла порог аредовых годов. Хотя до этого было ещё о-го-го сколько, все согласились. И не замедлили.
Третий тост, как это и положено, подняли за наставницу, за Ириду Немоляеву. С появлением преемницы распахнулись для старой ведьмы врата загробной страны, теперь, если устанет, сможет упокоиться. Грех за это не выпить.
После третьей рюмки действо за столом на какое-то время приобрело сумбурный характер, Боря зачастил и в течение каких-то двадцати минут мы выпили: за долгий путь из вымершего леса, за мир, за дружбу, за любви глоток, за безусловный двигатель прогресса — свердловский рок. А затем ведьмы ненадолго отлучились в дамскую комнату. Сказали, чтоб подтянуть чулочки, но я так думаю — припудрить носики спорами сатанинского гриба.
Когда вернулись и расселись, я, методично кромсая на куски поданную Крепышом отбивную, обратился к Ирме:
— Скажи, а тебе не страшно?
Та посмотрела на меня с недоумением:
— Нет. А чего мне бояться?
Ну да, подумал я, конечно. Совсем нечего. Ведь жизнь прекрасна, полна весёлых тайн и беззаботных приключений. И никаких тебе дневных опасностей, и никаких тебе ночных кошмаров.
Подцепив вилкой кусок мяса, я рассмотрел его зажаренные бока и пояснил, что имею в виду:
— Не боишься, что изловят и на костре сожгут?
— Кто?
— Люди.
— Шутите?
— Отнюдь.
Она отмахнулась:
— Да ну вас, Егор! Сейчас же не Средние века.
— Как сказать, как сказать, — произнёс я с предельной серьёзностью. — Давно живу, много чего видел, ни могу не заметить: любой век на поверку оказывается средним. А времена — смутными.
— Но сейчас ведь не сжигают, — сказала Ирма предательски дрогнувшим голосом. — Ведь да?
И посмотрела на Варвару.
Та отвела глаза.
— Что ли сжигают? — заволновалась Ирма.
— А ты про то у Бори спроси, — посоветовал я. — Пусть для примера расскажет про недавний случай в Квазулу-Наталь.
Выдал и закинул кусок в рот. И чуть не поперхнулся, потому что молотобоец, сделав «страшные», ударил меня кулаком в бок. Хотел незаметно, но Ирма заметила.
— Боря, про что это говорит дракон?
— Не знаю, детка.
— Ну, Боря-я-я! — потребовала девица тоном избалованной принцессы и даже ножкой топнуа.
— Ну, Егор, ну, удружил, — проворчал молотобоец. — Лучше бы я тебя, зверюгу бессердечного, и не приглашал вовсе.
— Угу, семь раз теперь подумаешь, прежде чем пригласить в следующий раз, — заметил я, проглотив прожёванное. — Знай наперёд: мы, драконы, существа коварные, и у нас всегда в запасе есть парочка подлых вопросов.
А юная ведьма ждала. Сложила губы бантиком, нахмурила бровки и уставилась на молотобойца. Боре ничего не оставалось, как поведать эту грустную историю.
— Квазулу-Наталь, детка, — глядя куда-то вверх и в сторону, начал он, — это такая провинция в Южноафриканской республике. На последней читке приказов нам в части касающейся довели, что месяц назад случилась там нехорошая бяка. Бяка такая: старшеклассники одной из тамошних школ заподозрили двух пожилых тёток в колдовстве, изловили, отдубасили и придали их очистительному огню. Проще говоря, сожгли. Не к столу будет сказано.
— Как сожгли! — ахнула Ирма.
— Ну, как сожгли, — пожал плечами Боря. — Ну, так сожгли. Навалились, связали, отвели на футбольное поле, плеснули из канистры и… И того самого. Одна на месте скончалась, другая в больнице.
— Ужас! — воскликнула Ирма и закрыла ладошкой рот.
— Не ходите, дети, в Африку гулять, — пробормотал я назидательно. — В Африке гориллы, в Африке акулы, в Африке… Короче говоря, царит в чёрной Африке чёрный беспредел.
— А они на самом деле ведьмами были? — поинтересовалась Варвара. При этом голос её дал «петуха». Она смутилась, прокашлялась в кулак и потянулась к пачке сигарет.
— Одна — точно, — ответил Боря. — И самосуд, надо сказать, детишки учинили не без причины. Натворила тётка дел. Ох, и натворила. Лютых духов вызывала и на пацанов науськивала, мстила таким образом за опозоренную внучку. Тамошний Пост это дело прошляпил, вот и вышло всё, как оно вышло. Ну а вторая тётка вроде как не при делах была, просто попала под раздачу.
На некоторое время за столом воцарилась тишина. Нарушила её расстроенная Ирма.
— Но у нас же, — промямлила она, — не Африка. Ведь да?
— Это точно, — поддержал я бедняжку на словах. — Страна у нас, слава Силе, менее ритмичная.
А про себя подумал: и страна у нас менее ритмичная, и Молотобойцы у нас не такие расхлябанные. Случись с тобой, детка, нечто подобное, сжечь бы не позволили, сами бы жало вырвали через одно место. Причём без наркоза. Тот же Боря Сейф и вырвал бы. Даром что всю сегодняшнюю ночь будете друг друга вылизывать.
Молотобоец будто догадался, о чём я думаю, и шмякнул по столу кулаком.
— Давайте не будем о грустном, давайте лучше хряпнем.
И потянулся к новой бутылке.
После выпитой рюмки ведьмам заметно полегчало, а ещё через две напряг за столом и вовсе рассосался. Вскоре изрядно опьяневшей Ирме стало настолько хорошо, что она даже спросила у меня о том, о чём бы на трезвую голову ни в жизнь бы не спросила:
— Егор, а это правда, что с драконом ночь провести, всё равно как с тремя мужиками?
Смутившись, я лишь поправил очки, а Боря хохотнул:
— Слышала звон, не знает, откуда он.
— Их трое, — показывая на меня дымящей сигаретой, пояснила Варвара.
— В каком смысле трое? — непонимающе мотнула чёлкой Ирма.
И пришлось Варваре кое-что ей растолковать.
— Дракон — тварь огромная, — сказала она. — Он не может превратиться в одного человека, он превращается в трёх. Поэтому у Егора есть два… ну типа брата-близнеца, что ли. Так дракон?
— Не брата, а нагона, — поправил я и в тот же миг почувствовал, что Варвара, скинув туфельку с левой ноги, осторожно коснулась моей правой.
Когда женская лодыжка трётся голодной кошкой о твою штанину, надо что-то решать, и решать безотлагательно. Вообще-то, ничего не имел против того, чтобы продолжить знакомство со свердловской ведьмой на заднем сиденье своего болида. Признаться, падок я на хорошеньких ведьм, особенно рыжих. Падок-то падок, но не было у меня в тот день времени на куртуазное веселье, ни часа, ни полчасика. Дело самоубийц звало в дорогу. Бросив взгляд на часы, я напомнил себе, что в ответе за тех, за кого в ответе, и решил: покуда окончательно не засосало, покуда тина ещё по грудь, надо сваливать с этого развесёлого фестиваля. После чего задумался над тем, как это сделать поизящнее.
Сходу ничего путного на ум не приходило, и я уже было собрался, наплевав на этикет, уйти по-английски: через коновязь и кухню. Но тут, слава Силе, мне на помощь пришёл Адлер. Подкрался неслышно (вот в чём вампиры великие мастера, так именно в этом) и прошептал прямо в ухо:
— Есть разговор, дракон.
От неожиданности я вздрогнул, оглянулся и покрутил пальцем у виска:
— Дурак, что ли. Так, между прочим, и заикой сделать можно.
Не сводя с меня мутных, как у дохлой рыбы, глаз, вампир повторил:
— Есть разговор.
— Что за разговор?
Вампир скосился на молотобойца.
— Не здесь.
— Тогда жди под обезьяной.
Адлер тут же отвалил, а я развёл руками, призывая всех присутствующих, войти в моё положение.
— Извините, дамы-господа, но дела. — Слегка поморщился, когда Варвара обиженно пнула меня ногой в колено, и, поднявшись из-за стола, сказал: — Приятно было познакомиться.
— Может, загнуть пиявку? — предложил молотобоец, целясь в спину вампира из указательного пальца.
— Обязательно, Боря, — кивнул я. — Но не здесь и не сейчас.
— А на посошок?
— Нет, Боря, я пас.
— Ну, как знаешь.
Совсем запьяневшая Ирма подергала меня за рукав:
— Егор, Егор, а вы, Егор, покатаете меня, когда… Ну тогда… Когда у вас… крылья будут.
— Покатаю, Ирма, обязательно покатаю, — отбрехался я. — Только купи себе для начала парашют.
Девочка задумалась.
Покуда я так раскланивался, Варвара не будь дурой потянулась к перепачканному чёрной кровью платку. Ишь, ты, размечталась, подумал я и обронил на платок корпускул Силы. Лоскут батиста равно надежда рыжей проныры обрести чуток власти над золотым драконом вспыхнула малиновым пламенем и сгорела в доли секунды. Скатерть при этом не пострадала.
— Ну и ловок же ты, дракон, — усмехнулась Варвара, одёрнув руку.
Я сдержано улыбнулся:
— Потому до сих пор и не чучело.
— Мы ещё увидимся? — спросила она и при этом в её серых глазах промелькнула усмешка. Создавалось впечатление, что она бросает мне некий вызов.
Принимая его, я ответил уклончиво:
— Почему бы, собственно, и нет.
Положил на стол визитку, сделал ручкой и направился к своему столику. И пока шёл, чувствовал жжение в том месте, откуда у драконов растут крылья, а у бывалых сыскарей расходятся ремни портупеи.
Присев напротив вампира, я сначала закурил, и только потом, стараясь не глядеть в сторону Варвары, сказал:
— Выкладывай, чего хотел. Только живо, времени нет.
— Мы тут с корешем поиздержались малёха, — нервно постукивая обгрызенными ногтями по белой скатерти, просипел Адлер, — пора расплатиться, а титей-митей…
Сообразив, к чему он клонит, я огорчил его:
— Чувачок, ты, похоже, обратился не по адресу.
— Сам на двойном подсосе? — удивился вампир.
— Напротив, на двойном форсаже. Но дело не в этом.
— А в чём?
— Откровенно?
— Ну.
— Не нравитесь вы мне, — признался я. — А тем, кто мне не нравится, я не занимаю. Такое уж у меня правило. Извини, если обидел.
— Плевать, — одарил меня гнусной полуулыбкой вампир. — Только это… Я занимать и не собирался. Слышал, ты с кольтом ходишь?
— Допустим. Что с того?
Адлер не ответил, но натянул перчатки из грубой кожи (натурально — вратарские краги) и вынул из внутреннего кармана ветровки футляр, похожий те, в которых дарят обручальные кольца.
— И что это? — поинтересовался я, когда вампир поставил обшитую алым бархатом коробочку на центр стола.
Вновь не проронив ни слова, Адлер откинул крышку и аккуратно вытащил из паза патрон сорок пятого калибра с серебряной пулей.
— Откуда маслина? — опешил я.
— Заговорённая, — ответил он на вопрос, который я не задавал.
— Спрашиваю, откуда?
Вампир и глазом не повёл.
Варианты, конечно, могли быть разные, но самый из них очевидный: ухайдакали и обчистили истребителя-одиночку. По себе знаю, любая Охота — штука обоюдоострая, так что могло случиться. Вполне. Сильно заморачиваться на этот счёт я не стал (окрещу мародёром, ответит — боевой трофей) и попросил назвать цену.
— Пять штук, — выпалил вампир. — Или по курсу — восемьдесят кроулей.
— Однако, — удивлённо хмыкнул я, но торговаться не стал.
— Тут вот ещё что, — сказал Адлер, скомкав протянутую купюру. — У моего кореша ещё есть. Две заводские упаковки. Интересует?
Я уточнил:
— Тоже заговорённые?
— Нет, чистые.
— И у какого это такого кореша?
Адлер показал на трущегося возле стойки дружка:
— Вот у него, у Гурона.
— Его Гуроном погоняют? — удивился я. — Почему так затейливо?
Никак этот парень с грубым шрамом на выбритом черепе не походил на индейца. Ни на гурона, ни на могиканина, ни на чероки, ни тем более на ирокеза.
— Так это, — стягивая с рук перчатки, криво усмехнулся Адлер. — Пользует кровь только первой группы, потому и Гурон.
— Я пожал плечами:
— Не вижу связи.
— У всех индейцев первая группа, — пояснил вампир. — Поголовно.
— Да неужели?
— Точно. И у эскимосов ещё. Ну, так что, дракон, берёшь товар?
— Денег хотите или Силы? — спросил я.
— Тут это… — Вампир замялся. — Нам бы твои Зёрна Света. Одна банка против одной упаковки. А за две — две.
— Про Зёрна забудь, — осадил я его.
— Чего так?
— Говорю же: не нравитесь вы мне.
— Ладно, забей. Тогда вот. — Он вытащил из кармана и протянул мне кастет. — Ты это… Закатай в него две тысячи кроулей.
Я повертел пустой артефакт в руках. Ничего особенного в нём не было, обычная кустарная поделка с одним широким отверстием для пальцев и грубо приваренными к боевой части роликами от подшипника. Правда, на одной стороне кто-то шибко умный нанёс несколько древних рун. Но настолько коряво нанёс, что толком и не понять какие. Одну только и разобрал, ту, что обозначает «семя».
— А влезет две тысячи? — засомневался я.
— Раньше влезало, — уверил вампир.
— Слово какое?
— Набир.
— Как своим сделать?
— Просто на руку надеть.
— Хорошо, допустим. Товар у вас с собой?
— Нашёл дураков.
— Тогда где и когда?
— Лодочную станцию за Ухашовским мостом знаешь?
— Само собой.
— Вот там. Сегодня. В полночь.
Я проворчал для порядка:
— Чего так поздно-то?
— Детское время, — хищно улыбнулся Адлер в ответ.
Больше ничего не сказал, спрятал клыки, поднялся и двинул к стойке.
Пока он шёл, я смотрел на него и думал, до чего же омерзительны бывают иные существа. И дело даже не в том, что вампир. Что с того, что вампир? Ну да, у всех рождённых по воле слепого случая на границе Пределов и Запредельного душа отделена от тела и оттого всякая мораль чужда им, но ведь некоторые из них умудряются жить, соблюдая приличия. Взять, к примеру, приятеля моего, Афанасия Воронцова. Тоже ведь вампир, а на поверку — человечнее иного человека. Отнимет другой раз у бедолаги какого-нибудь чуток Силы через кровушку, но не убивает. Нет. Мало того, ещё и облегчение донору устраивает, принимая на себя часть его мирских страданий. Всё потому что понятия блюдет, и инстинкты свои держит в узде. А дикие не держат. Дикие им потакают. И откликается им на такое ауканье всеобщим презрением. Впрочем, им общественное порицание до одного места. Дикие ведь.
О Воронцове я вспомнил очень кстати, имелся у меня к нему один животрепещущий вопрос. Не как к вампиру, разумеется, а как к следователю по особо важным делам городской прокуратуры. И я тут же, пока из головы не вылетело, набрал его рабочий номер. Получилось удачно.
— Воронцов на проводе, — сразу отозвался вампир.
— Привет, майор.
— Тугарин?
— В точку.
— Как сам?
— Да ничего так. Ты?
Он вздохнул.
— Лучше и не спрашивай. В запарке. Переводят в Следственный комитет, ношусь как бобик, дела подбиваю.
— Сочувствую.
— Терпеть ненавижу все эти реорганизации. Веришь, Егор, штук двадцать их на моей памяти было, и не одна толку не принесла. — Воронцов ещё раз горько вздохнул, помолчал секунду и спросил: — Чего звонишь? Думаю, не о житье-бытье расспросить?
— Угадал, майор. Тема есть.
— Объявляй. Только в темпе.
Сказал он это таким тоном, что я поторопился:
— Двенадцатого на Озёрной дорожно-транспортное приключилось, грузовик женщину сбил. Хочу перетереть с водилой. Пробьёшь, майор? С меня коньяк.
— Зёрна, Егор, Зёрна.
— Можно и Зёрна. Сегодня сделаешь?
— Постараюсь. Это всё?
— Всё.
— Целую.
И бросил трубку.
Действительно в запарке, подумал я. И следом: суета сует — отличная обманка для выжирающей нутро пустоты. Правда, временная и не очень надёжная. Но тут ничего не поделать, коль судьба такая. Тут хоть как-то.
Когда поднимался по ступеням на выход, оглянулся на Варвару. Она этого ждала, и, послав воздушный поцелуй, опалила мне чёлку. Стерва рыжая. Будь мы в другом месте, чего похуже бы учудила. Точно-точно. Да и то, что сделала было не слишком приятно. Но я не обиделся. Дракон на женщину? Никогда. Пропел под нос «Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю», прижал кулак к уху — звони, и, пропустив в дверях чьего-то горбатого хомма, вышел вон.
Глава 4
На встречу с господином Холобыстиным я опоздал на три минуты. Не в моих правилах опаздывать, но, видит Сила, произошло это не по моей вине. Человеческая алчность вцепилась в меня по дороге своими мохнатыми ручищами. Еле отцепился, пришлось даже чуток потратиться. А случилась такая вот катавасия. Еду себе, никого не трогаю, размышляю о взятом в производство деле. Говоря конкретнее, примеряю все известные мне способы наложения смертельного проклятия к повальному мору, что приключился в редакции «Сибирских зорь». Ведь тут как: раз не знаешь, кто и за что, разберись каким образом, глядишь клубок и распутается.
Вообще-то, мне как практикующему магу, известны три способа энвольтования на смерть. И первый из них заключается в следующем. Колдун входит в прямой контакт с объектом воздействия, заводит близкое знакомство, подсовывает список проклятия, наделяет необходимой порцией Силы и всякими разными методами (включая использование дури, гипноза и морока), принуждает человечка к тому, чтобы сам на себя беду накликал. Процедура безотказная, стопроцентная, но её применение в данном конкретном случае казалась мне маловероятной. Хороша, даже очень хороша, когда объект один. Но если кандидатов в самоубийцы несколько, то чересчур много возни. А если учесть, что все объекты знакомы между собой, то и вовсе такая процедура никуда не годится, поскольку утечки информации при таких делах избежать практически невозможно, а раз так, то запалиться — как нефиг делать.
Второй способ восходит к практикам колдунов-вуду. Используя его, маг-киллер прежде всего устанавливает ментальную связь с намеченной жертвой, для чего похищает какую-нибудь принадлежащую ей вещицу, например, носовой платок, перчатку или заколку, затем лепит из воска фигурку, называемую вольтом, и цепляет к ней украденный предмет. Установив подобным образом надёжную и постоянную связь, колдун совершает над фигуркой чёрный ритуал, при этом всю силу своей ненависти направляет на жертву. Способ тоже верный, однако и тут я сомневался. У одного носильную вещь стырить — ещё куда ни шло, но у двух, трёх, пятерых — целое дело. Причём дело рискованное, поскольку способность к колдовству — это одно, а способность к банальному воровству — совсем другое. Один косяк, и весь план к чёрту.
Отвергая первый и второй способ, я ставил на тот, который в наших палестинах называют «деревенским». При этом способе колдун уничтожает своего врага с помощью подброшенного предмета — так называемой гоги. Делается так. Сперва-сначала «гогу женят с магогой», то есть пристраивают вблизи от жертвы какое-нибудь заговорённое непотребство: к примеру, дохлую жабу под ворота зарывают, кривой гвоздь в дверь вбивают или втыкают в подушку ржавую иглу. Ну, или ещё что-нибудь куда-нибудь. После этого с помощью особых ритуалов устанавливают связь между жертвой и подброшенной вещью. Если всё вышло как надо (а выходит в девяти случаях из десяти), подброшенная вещь употребляется в качестве опорной точки для приложения злой воли. Дальше — понятно.
На месте колдуна, подвязавшегося извести на корню целый коллектив, я бы лично применил именно этот способ. Заявился бы в офис типа по делам, ля-ля фа-фа, фиговину какую-нибудь мутную на многоуважаемый шкаф между делом забросил, раскланялся, а на другой день — тих-тиби-дох, активировал смертельные эманации. Чего тут мудрёного? Ничего. Если, конечно, при Силе.
Ну и вот, размышляю я, значит, о всяком таком, а сам тем временем уже качу по улице Лермонтова: под колёсами лужи в разводах, над крышей небо в солдатских портянках, по обе стороны ржавые тополя. Одна радость — в салоне звучит регги группы «Ай-Да»:
Под такую вот замечательную телегу думы свои думая, выстукиваю ритм пальцами по баранке, невольно подвываю певцу и поглядываю на свои «командирские», успеваю, нет к назначенному сроку? Вроде как успеваю, но закавыка: впереди еле тащится зелёная «калдина». От самого Свердловского рынка тащится, не только меня, весь трафик тормозит. Оно понятно, что тише едешь, дальше будешь, но какой русский дракон не любит быстрой езды? И вот. Терплю до одного перекрёстка, до второго-третьего, после пятого срываюсь, начинаю сигналить — давай, мол, паря, прибавь, чего ползёшь черепахой. Тот ни в какую. Даже медленнее покатил, будто назло. Плююсь от досады и решаю перестроиться в соседний ряд. Там поток плотный, но что делать. Мигаю чин-чинарём, ловлю в зеркале просвет, ухожу влево. В ту же самую секунду «калдина» вдруг тоже вылетает из ряда и с какого-то перепугу подрезает меня. Я притормаживаю, пытаюсь увернуться, получается, но тут — бенц! Удар. Хорошо пристёгнуть был, никак не пострадал, только голова как маятник — туда-сюда. Блякую, оборачиваюсь, так и есть — бенц. Мерседес-бенц. Телепался за мной этот четырёхсотый всю дорогу и вот поцеловал. В засос.
Делать нечего, останавливаюсь, верчу башкой. «Калдины» уже и след простыл, а водитель «мерина» машет, мол, давай на обочину, там разберёмся. Думаю, и правда, чего людям мешать. Отъехал, прижался к бордюру, жду. Вскоре и обидчик мой подкатил, не обманул, аккуратно пристроился метрах в трёх сзади.
Первым делом, конечно, оценили масштаб трагедии: у меня — трещина на пластмассе бампера, у него — левая фара в хлам. Ну и царапины. Как по мне, так сущая ерунда. Наплевать и растереть. Однако, к вящему моему удивлению, незадачливый водитель четырёхсотого, этот чахоточного вида малый с близко расположенными, но глубоко посаженными глазками, начал кудахтать. Ё-моё, да во-блин. Во-блин, да ё-моё. Вроде как натурально расстроился. Я вытащил сигареты, закурил, сделал несколько серьёзных затяжек и говорю ему:
— Не стони, браток, у меня претензий к тебе нет.
Доходяга аж задохнулся от возмущения:
— Офигеть, претензий у него нет! — И сразу стал грубить: — Совсем что ли обнаглел, дядя?
— А что такое? — интересуюсь.
— Да ничего. Водить не можешь, шофера найми.
— Остынь, чувак, я же показал тебе, что перестраиваюсь. Какого на двойной пошёл?
— Да ни фига ты, дядя, не показывал. Расслабься и чехли четыреста енотов.
— За что это?
— За навесное.
Во, думаю, наглец. Затягиваюсь, чтобы сразу не послать куда подальше, выдыхаю, говорю:
— Не-а, так не пойдёт.
— А как пойдёт? — спрашивает.
Тут я предлагаю разумное, доброе, вечное:
— Раз такие предъявы пошли, вызываем комиссаров. Или инспекторов. А лучше — цыгаль-цыгаль, ай, люли, — тех и этих. Пусть они наши непонятки разруливают.
И лезу в карман за телефоном.
Парень оборачивается к своей машине и орёт истошно:
— Тукша! Слышь, Тукша! Дядя гаишников подтягивает!
В ту же секунду из «мерина» выползает пассажир — кинг-конг с головой цыплёнка. Поднимает воротник хрустящей кожанки, засовывает ручища в карманы, передёргивает плечами и — еду-еду не свищу, как наеду, не спущу — с ленцой вельможной, подкатывает к нам.
Действие второе, усмехаюсь я про себя, те же и Последний Довод Короля.
— Менты, дядя, не прокатят, — произносит Тукша скучным голосом заученный текст. И объясняет: — С места съехали. Так что сами тереть будем.
И тут у меня уже никаких сомнений не остаётся, что попал в банальную подставу на лоха. Ого, думаю, явился случай, привел с собой истину, и породили они откровение. Трясу — не столько от возмущения, сколько от удивления — быстро намокшими под дождём патлами и говорю:
— Зря вы так, чуваки.
— Как «так»? — вяло, без огонька в голосе, интересуется Тукша.
— Вот так вот нагло.
— Мы нагло? Это мы нагло? — выкрикивает темпераментный доходяга, идёт в блатную присядку и тыкает пальцем в разбитую фару. — Разуй глаза, дядя. Посмотри, что учудил.
Верил, что можно быть святее Папы римского, но чтобы нахальнее водителя командирского уазика — нет. Тут поверил. Досчитал до пяти и говорю с предельной невозмутимостью:
— Парни, ваш эстрадный номер, конечно, достоин включения в праздничный концерт ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но со мной он не прокатит.
— Почему это? — с вызовом спрашивает доходяга, сам того не понимая, что выдаёт себя с головой.
Я добиваю сигарету до фильтра, роняю бычок в лужу и объясняю:
— Потому что не терпила я, а — на минуточку — дракон.
— Ну а я тогда барон, — говорит грамотный Тукша и начинает разворачиваться в боевой порядок.
Меня от этой суеты уходящей натуры начинает разбирать смех, еле сдерживаюсь.
— Ты чего, дядя, лыбишься? — из-за широкой спины подельника спрашивает доходяга.
— Видели бы вы себя со стороны, — говорю. — Клоуны. А поди мыслите себя злодеями? Да? Не-а, ни фига не злодеи. Истинный злодей посягает на душу, а вы — на бабло. Стыдно, мальчики.
Доходяга пританцовывает на месте, нервничает. Тукша же — не пробиваем. Не меняя апатичного выражения лица тянет ко мне ручища, пытается схватить за грудки. Я не даюсь, делаю шаг назад, за неимением возможности сконцентрироваться разряжаю кольцо на правом безымянном и, памятуя, что привычные методы убеждения слабо действуют на реальных пацанов, вызываю из Запредельного Строгих Мурашей:
После чего, весьма сожалея, что не стоит тут ещё и зелёная «калдина», указываю на четырёхсотый.
— Крыша поехала с перепуга? — интересуется доходяга.
А Тукша всё наступает.
Я молчу, пячусь и гляжу за их спины. Там уже пир горой: мириады мелких крылатых тварей облепили со всех сторон обречённого «мерина» и ну его точить.
В две секунды схомячили.
Когда жуткая туча, исполнив моё заклинание, покинуло Пределы, на том месте, где только что стояла бравая немецкая машина, осталась позорная кучка металлической трухи. Но и она в следующий миг исчезла — сдуло порывом ветра.
— Вот и всё, — итожу я.
Но парни-то ничего не видели, не понимают, о чём это я.
— Что значит «всё»? — чуть ли не визжит доходяга.
А флегматичный Тукша вновь ко мне ручонки тянет.
— Нет тела, нет дела, — говорю я и переиначиваю: — Нет машины, нет аварии.
— Какую-то хренотень, дядя, несёшь, — заявляет доходяга.
Я киваю:
— Согласен. Мало того, считаю, что всякое слово — хренотень. Потому и выступаю против тезиса, который закрепляет за словом привилегированный доступ к онтологической сути в силу того, что оно, слово, является-де неотъемлемой её частью.
Доходяга крутит пальцем у виска, а у Тукши наконец получается схватить меня за плащ. Правда, не надолго. В следующую секунду я освобождаюсь нырком под руку, захожу громиле за спину и, уверенно прихватив за шкирку, разворачиваю на сто восемьдесят. После чего приставляю кольт к его виску.
— Абзац бибике, — говорит Тукша, увидев, что «мерседес» пропал. Почему-то к перспективе получить пулю в мозг он остался равнодушным. Может, что не так с мозгом?
Тем временем потрясенный моей сноровкой доходяга тоже оборачивается, обнаруживает наличие отсутствия и громко икает от удивления. Потом ещё раз икает. И начинает икать беспрестанно.
Странная какая-то реакция организма у паренька, думаю я, и отпускаю Тукшу на волю. А потом, уже затолкав пистолет в кобуру, говорю:
— Урок окончен, все свободны. — И без капли издёвки спрашиваю: — Может, вас, пацаны, куда подвезти?
Ответа так и не получил, а через несколько секунд, оставив сладкую парочку мёрзнуть на инфернальном сквозняке, уже гнал во всю. Нужно было гнать — опаздывал из-за этих придурков. Но как ни гнал, всё-таки на три минуты опоздал.
Самое смешное, что Холобыстин на встречу не явился.
Мало того, когда я вбежал на третий этаж корпуса «Б» Института термодинамики, оказалось, что дверь в помещение, арендуемое редакцией «Сибирских зорь», закрыта. Я подумал, что закрыта изнутри, и постучал, настойчиво так постучал, однако никто не подошёл. Тогда я решил немедленно позвонить господину редактору и высказать ему в свободном стиле всё, что о нём думаю. Но не успел вытащить трубку, как услышал:
— Егор Тугарин?
Спрашивала женщина, чей неясный силуэт вырисовывался на фоне окна в конце сумрачного коридора.
— Да, — ответил я и, не дождавшись продолжения, задал встречный вопрос: — Не подскажите, где Семён Аркадьевич?
— Он не придёт, — сказала незнакомка и стала приближаться.
Одета она была без изысков, просто, но длинный грубой вязки свитер и тёртые джинсы смотрелись на ней так, как на иной куколке платье для коктейлей ни смотрится. А её красота меня просто оглушила. Была она неправильной, нездешней, далёкой от глянцевых шаблонов. Её не портили ни жёсткие складки у рта, ни следы бессонницы вокруг глаз, ни старый шрам на подбородке. Наоборот — эти маленькие изъяны придавали незнакомке шарма и дорисовывали образ «женщина с прошлым».
Слава Силе, подумалось мне, что я не человек. А то пошёл бы и застрелился от осознания, что эта брюнетка не моя и никогда моей не будет.
Ей было между тридцатью и сорока. Самый правильный возраст. И пахло от неё правильно: полынью, чабрецом, мадерой, печёным клубнем и разгорячённой женской кровью. Этот крутой замес в мгновенье ока унёс меня туда, где отчётливо слышались посвист дикого ветра, треск ночного костра и тихая вольная песня. Дышать — не надышаться, слушать — не наслушаться. И плакать от счастья. В голос плакать. Навзрыд.
На даче ночевала, догадался я. И не одна.
С большим, очень большим трудом — «мы с тобой никогда не расстанемся, мы с тобой на даче останемся» — стряхнул я наваждение и, облизав пересохшие от волнения губы, выдавил из себя:
— Мы с ним договаривались. С Семёном Аркадьевичем.
Незнакомка подняла на меня глаза.
— Вместо себя он меня прислал. Сказал, приедет сыщик, жди.
Я молчал, ждал объяснений. И ещё тонул. В глазах её огромных небесно-голубых тонул.
— Он трус, — сказала она с пугающей откровенностью и повторила: — Он трус.
Будто приговор вынесла. Жестокий, окончательный и не подлежащий обжалованию.
— А вы… — начал было я.
Она показала ключ.
— А я не боюсь.
— Я хотел спросить, кто вы.
— Инесса Верхозина, — представилась она.
Освежив в голове список, который давеча предоставил мне господин Холобыстин, я определился: «Верхозина Инесса Романовна, завотделом прозы».
Тем временем она уверенным движением вогнала ключ в замок. Провернула, толкнула тугую дверь плечом и, когда петли пропели «O sole mio», пригласила:
— Входите.
Я остановился на пороге и первым делом проверил наличие гиблых эманаций.
Ничего такого не почувствовал.
Вошёл и осмотрелся.
Увиденное поразило меня. Ещё бы. Разбитые столы, за которыми сменилось ни одно поколение эмэнэсов, расшатанные стулья от разных гарнитуров, два перекошенных, заваленных серо-буро-малиновыми папками, шкафа, сваленные в угол пульманы-инвалиды, а ещё допотопного вида персональные электронно-вычислительные машины фирмы IBM, дешёвые корзины для бумажного мусора, лампы дневного света с пожелтевшими, местами треснутыми плафонами и чахлый столетник в жестяной банке из-под томатной пасты на подоконнике — вся это убогая обстановка как-то не очень сочеталась с представительным образом господина Холобыстина. Тут поневоле удивишься.
Бедность — не порок, подумалось мне, но тут не бедность, а нищета. Причём, нищета вопиющая.
Неторопливо, словно кот, впервые попавший в незнакомое помещение, я прошагал через всю комнату и остановился возле окна. Глянул сквозь заляпанное стекло вниз, во двор, и какое-то время наблюдал, как работяги сгружают с машины огромную катушку с силовым кабелем, потом обернулся к госпоже Верхозиной.
Сообразив, что испытываю страшную неловкость, она помогла мне. Обняла себя за плечи, будто озябла, и сказала:
— Не понимаю, зачем наш старый сатир всё это затеял, тем не менее, готова ответить на ваши вопросы.
Она сумела вложить интонацией в эту фразу столько всякого, что стало понятно: у них с господином Холобыстиным давняя и весьма сложная история отношений. Возможно, любовь-морковь, докатившаяся до взаимной ненависти, до «убил бы — так люблю», до «зацеловал бы до смерти». А быть может, многолетняя вражда, вызванная перманентной борьбой за трон. Или серьёзные творческие разногласия. Или ещё что-нибудь. Вариантов тут множество, люди на этот счёт большие выдумщики.
Кажется, женщина на нерве, подумал я. Пока не передумала, надо начинать.
И собравшись с духом, спросил для затравки:
— Вы, Инесса Романовна, сказали, что Семён Аркадьевич боится. А чего он, по-вашему, боится?
Она пожала плечами.
— Чудит, как никогда не чудил. Несёт жалкую чушь о каком-то проклятии.
— А вы, надо полагать, ни в какие проклятия не верите?
— Ай, бросьте, я взрослый и здоровый на голову человек.
— Но…
Она не дала мне досказать.
— Одна переборщила с пилюлями, другая в опасном месте дорогу перебегала. Страшно, горько, больно, несправедливо наконец, только причём тут мистика? Судьба. Помните, какими словами Пушкин заканчивает поэму «Цыганы»?
Я помнил, но ответить не успел, она сама процитировала:
— И от судеб защиты нет.
На самом деле у Пушкина так: «И всюду страсти роковые и от судеб защиты нет», но я не стал спорить. Ума хватило. Вместо этого спросил:
— А третий?
— Третий? — не поняла Инесса.
— Дизайнер ваш, компьютерщик, Контсантин Звягельский. Что вы про него скажете? Случайно из окна выпал?
— Костик — нет, — с горечью сказала она. — Костик — на моих глазах. Бедный, бедный мальчик. Не представляю, что на него такое нашло? Стоял у окна, курил и вдруг…
Сочувственно покивав, я спросил:
— Он знал в тот момент, что Фролова и Мордкович погибли?
Она задумалась, потом мотнула головой.
— Нет, не знал.
— Точно?
— Точно. Об Эльвире мы только к вечеру узнали, а про Бабочку… в смысле, про Марину так и вообще на следующий день. Ничего он не знал. Не мог знать. А вы это к чему?
— Самоубийство, — пояснил я, — весьма заразительная штука.
— Возможно, — помолчав, сказала она. — Но тут, как видите, не тот случай. Да и насчёт самоубийств… Не верю я, что наши барышни намерено покончили с собой. Не было у них на то причин. Уж поверьте.
У меня имелось, что на это ответить, и я ответил:
— Быть может, и не было у них причин, чтобы уйти, только иногда люди не находят причин, чтобы остаться. И потом, согласитесь, Инесса Романовна, чужая душа — потёмки.
Посмотрев на меня выразительно, она парировала:
— А своя?
Этой женщине палец в рот класть нельзя, с восхищением подумал я. Пиранья.
Поправил очки и сменил тему:
— Кто кроме вас двоих был тогда в комнате?
— Никого не было, — недолго думая, ответила она. — Антонина Михайловна, бухгалтер, с утра уехала в банк и с концами. У Свиридовой, у Ноны Ивановны, она у нас зам главного, в тот день внучка родилась, так что тоже отсутствовала.
— А Валентина Муразова где была?
— Ого, — хмыкнула госпожа Верхозина, — смотрю, подготовились.
— Есть такое дело, — не стал я умолять свои профессиональные достоинства.
— Ну-ну. А насчёт Муразовой всё просто. Валя у нас в офисе почти не бывает, на дому работает. Мы отсылаем ей тексты для корректуры «емельками», ну и она, разумеется, отвечает нам таким же образом.
Я кивнул:
— С этим всё понятно. — Помолчал, погонял для солидности туда-сюда морщины на лбу и задал новый вопрос: — Инесса Романовна, а вы не помните, о чём вы тогда с ним говорили?
— С кем? — уточнила она. — С Костей Звягельским?
— Ну да. Помните?
— Прекрасно помню, как ни помнить. Ни о чём мы с ним не разговаривали, некогда было, каждый своим делом занимался. Я редактировала очередной графоманский бред, бессмысленный и беспощадный, а Костя обновлял главную страницу сайта. Всё было как всегда, и ничего трагедии не предвещало. Но в какой-то момент мальчик оторвался от ноутбука, подошел к окну, какое-то время стоял там, глядя во двор. Закурил. Потом вдруг распахнул окно, запрыгнул на подоконник, произнёс сущую ерунду и в следующую секунду прыгнул. Знаете, «солдатиком» так. Я даже ахнуть не успела. Ну а дальше… Дальше — страшно, вспоминать не хочу. Уж простите.
— А что именно он произнёс, перед тем, как прыгнуть? — выдержав из деликатности небольшую паузу, спросил я.
— Это так важно?
— Очень.
— Не поверите, но он трижды нараспев произнёс слово «запотело». Знаете в такой манере, в какой плохие актёрки произносят фразу «В Москву, в Москву, в Москву».
— Это он про оконное стекло?
Она пожала плечами:
— Не знаю, возможно… Ещё вопросы есть?
— Пока нет. Разрешите, я тут немного осмотрюсь. Пять минут, не больше.
— Да ради бога.
Под скептическим взором (хорошо хоть не под презрительное прысканье) госпожи Верхозиной, я обшарил ящики столов, раскидал пульманы, поковырялся — вот работка-то! — в мусорных корзинах, заглянул в, на и за шкафы, вырвал из банки цветок, высыпал на газету землю, но ничего, чтобы могло хоть как-то походить на разряженную колдовскую гогу не обнаружил. Либо уже вынесли, либо не было её тут никогда.
— Всё? — спросила моя строгая собеседница, когда поняла, что об этом можно спросить.
— Всё, — отряхивая руки, ответил я.
— Я свободна?
— Конечно, только…
— Что?
Я вытащил записную книжку, следом ручку и, щёлкнув пипкой, спросил:
— Можно узнать номер вашего телефона?
— Зачем? — нахмурилась госпожа Верхозина.
— Ничего личного, — поторопился уверить я. — Но вдруг надумаю что-нибудь уточнить по делу.
Она посмотрела на меня так, как воспитательницы смотрят на распоясавшегося ребёнка, однако номер назвала.
Я помотал головой:
— Нет, нет, ваш домашний стараниями господина Холобыстина мне известен, меня интересует мобильный.
— Мобильного пока нет, — сказала она. — Старый недавно утянули, новым обзавестись не успела.
— Утянули? — зацепился я за столь важную информацию. И выпалил вопросы один за другим: — Где? Кто? Когда?
— Это-то зачем? — поморщилась госпожа Верхозина.
— Не настаиваю, но… Инесса Романовна, это может оказаться важным. Весьма и очень.
Сопроводив свои слова вздохом недовольства, она сдалась:
— Ну, хорошо-хорошо. Расскажу, так и быть. Впрочем, рассказывать особо нечего, случай банальный. Приблизительно неделю назад забрёл к нам коммивояжёр, из тех, которые по бабским конторам шарахаются со всякой дрянью. Знаете, наверное?
Я кивнул, дескать, знаю, конечно.
— Этот, — не сбавляя темпа, продолжила госпожа Верхозина, — притащил зонты. Мало того, что сработанные кое-как, так ещё и расцветок ужасных. Гадость. Тошнотворная гадость. Облить керосином, и подпалить. Правда, Антонина Михайловна… — Тут госпожа Верхозина окинула меня быстрым взглядом и осеклась: — Ладно, это не важно. Важно другое. Когда этот проныра, так ничего и не продав, удалился восвояси, я обнаружила, что куда-то запропастился мобильный телефон. Костик сразу сообразил, куда именно, и тут же позвонил охране. Парни вроде как догнали воришку, однако упустили. Вёртким оказался наш коммивояжёр. Выскользнул, говорят, из рук, прыгнул в маршрутку, и всё — пишите письма мелким почерком. — После этих слов рассказчица с фаталистической, присущей сильным натурам, решительностью махнула рукой. — Да чёрт с ним, с этим телефоном. По правде сказать, допотопным был. Давно собиралась новый купить, да всё руки не доходили. Теперь вот дойдут.
— А как он выглядел? — стал я ковать железо, пока горячо.
— Телефон?
— Нет, коммивояжёр.
— Никак. Не запомнила. Что-то невзрачное и суетливое.
Что чайной розе какая-то там убогая тля, задумался я. Ответил: ничего. И, чувствуя, что её терпение на исходе, поторопился спросить:
— А больше ни у кого ничего в те дни не пропадало?
— Не знаю, не слышала, — ответила она.
Я стянул с мизинца перстень с топазом и протянул ей.
— Возьмите.
— Зачем?
— Надо. Оберег.
— Ай, бросьте.
Оттолкнув мою руку так резко, будто я дохлую крысу протянул, госпожа Верхозина тут же развернулась и вышла в коридор. Мне ничего не оставалось, как вернуть кольцо на палец (не мог же я его всучить силой) и выйти следом.
Секунду-другую ещё теплилась надежда, что, увязавшись, сумею задать по пути два-три уточняющих вопроса, но, заперев дверь, упрямица попрощалась со мной таким тоном, что стало понятно: в моих рыцарских услугах тут не нуждаются. К тому же пошла почему-то не к лестнице, а в другую сторону, в сумрак коридора.
Провожая её взглядом, я тихо сказал сам себе:
— Как это ни обидно, Хонгль, но, похоже, она считает тебя шарлатаном. И ты для неё, как тот вороватый коммивояжёр, суть что-то невзрачное и суетливое. А помимо того ещё и настырное.
Было ли мне на самом деле обидно? Не так чтобы очень. С самого рождения вбивали мне в голову назидание Великого Неизвестного: «Дракон есть существо, брошенное в мир, где его никто не ждёт, где он никому не нужен и где ему абсолютно не на что рассчитывать». Вбивали-вбивали и вбили. Теперь готов ко всякому. В том числе и к тому, что в ту пору, когда служил я помощником следственного пристава Сыскного управления при губернском обер-полицеймейстере, называли неглижированием, а в нынешнее время, если я правильно понимаю свою продвинутую помощницу Леру, называют ёмким словом «игнор».
Когда стук каблучков — да, уверяет разум, а сердце не верит — окончательно затих, я осадил себя мысленно: «Остынь, дракон, эта принцесса не из нашей сказки», вдохнул-выдохнул и отправился пытать охрану, чинить дознание.
Глава 5
То ли Красный Воробей, покровитель частных детективов, снизошёл в тот час к моим проблемам, то ли звёзды встали как надо, то ли выручил глупый случай, но один из героев погони дежурил в текущей смене. Некто Павел Рягузов по прозвищу Паша Занято. Доложил мне о том не в меру разговорчивый мужичок, гордо назвавший себя старшим смены. Мало того, что доложил, так ещё и, поведясь на моё обещание выкатить ящик пива, отправил напарника подменить Пашу в будке у шлагбаума. Ну, а сам тем временем поведал мне как родному, почему, собственно, Пашу Занято зовут Пашей Занято.
Дело, рассказывал мужичок, было так. Как-то раз (не при царе Горохе, уже при Путине) повелели верхние люди провести на базе института научную конференцию. Желание приехать высказали и японцы, и французы, и немцы, и финны, и всякие прочие поляки-венгры-чехи числом немереным. Здешнее начальство, дабы не ударить лицом в грязь перед заморскими мозголомами, решилось на косметический ремонт основного корпуса. Косметический ремонт в прогнившем здании — дело, конечно, подлое. Это, почитай, всё равно, что макияж на лице старой проститутки: внешне — блеск, внутри — сифилис. Но куда деваться? Надо.
Надо-то надо, однако, как это у русских людей водится, к реализации приступили с огромным запозданием. Пока раскачались, пока то, пока сё, пока смету утвердили, пока деньги выбили, в результате начали в последний момент, не то за семь, не то за пять дней до открытия конференции. Срок с учётом объёмов убийственный, нереальный срок. Однако, нанятые в спешке таджики, пусть и за счёт качества, но слава Аллаху всё-таки справились. Не хуже сказочного Вани-дурака, который, как известно, за ночь мост хрустальный для царя-батюшки выстроил. И всё бы здорово, да вот беда: забирая по утру дня Икс нехитрый свой скарб, разбили братья-мусульмане в мужском туалете административного этажа один из унитазов. Разбили вдребезги. Насмерть. Выяснялось это дело слишком поздно, за пятнадцать минут до времени Че, поставить новый фаянс не было уже никакой физической возможности. Разумеется: крик, вой, стон, сердечный приступ у зама по международным связям. И вот тогда-то Иван Иванович, зам по хозяйственной части, принял волевое и единственно верное на тот момент решение. Приказал спрятать в осиротевший кабинке одного из охранников, чтобы тот орал «Занято!», когда какой-нибудь возжелавший облегчиться немец, француз или, упаси господь, поляк подергает за ручку. Выпало идти как раз Паше Рягузову. Получив от судьбы короткую спичку, выпендриваться боец не стал, взял под козырёк и справился с почётной обязанностью лучше некуда. Ни на секунду не покинул поста, отбился от настырных посягательств. И за то, что не выдал буржуинам главную нашу военную тайну, премия ему вышла от начальства в размере недельного оклада, а от друзей-сослуживцев — почётное прозвище.
Выслушав эту тянущую на героический эпос историю, я в свой черёд рассказал об одном знакомом охраннике, которому случилось как-то раз сторожить экспонаты конкурса икебаны. Там такое дело вышло. Обходя в ночь перед днём открытия выставочный зал, повалил парнишка с постамента один из горшков. Ненароком, конечно, повалил, задел локтём спросонья. Сам горшок к счастью не разбился, но букет из него вылетел и рассыпался по полу на составные части. Парнишка, который, разумеется, ни черта не понимал в мудрёном искусстве составления букетов, собрал все эти ветки-ёлки-палки и, руководствуясь собственными нехитрыми представлениями о гармонии (а точнее говоря — их отсутствием), затолкал назад в горшок. Поутру никому ничего не сказал, сдал смену и затаился. Какого же было его удивление, когда через некоторое время узнал, что наспех составленная им композиция получила не только главный приз жюри, но и приз зрительских симпатий. Такое вот чудо вышло на голом месте. И смех, как говорится, и грех.
В ответ на эту мою нехитрую байку, из которой, между прочим, можно сделать глубокий вывод, что творческий принцип «Как бог на душу положит» фиг какими заумными правилами и нормами перебьёшь, старший смены начал рассказывать жуткую историю об одном озабоченном охраннике, умудрившимся заниматься сексом с девушками из Буркина-Фасо по телефону, установленному в кабинете директора института. Но каким образом наглеца вычислили, за какое место на крюк подвесили, какие счета кому пришлось оплачивать, услышать я не успел. В дежурке появился Паша Занято.
Оказался простоватым типом с заспанным лицом и красными, как у кролика, глазами. На лихого удальца никак не походил. Это на первый взгляд. А там — как знать. Подобные валенки иной раз так заводятся, что бронебойным в упор не остановишь.
Я взял его под руку, отвёл в холл перед гардеробом, где и объяснил в двух словах, по какому вопросу вызвал. Паша пошмыгал носом, почесал фурункул на шее, и, не слишком вдаваясь, кто я такой и зачем мне это, собственно, нужно (раз старший в курсе, стало быть, всё нормально), рассказал вкратце, как это они тогда так оплошали.
Рассказывал он вяло, без эмоций и тем походил на музейного гида со стажем. Но суть я уловил. С его слов получалось, что рванули они за коммивояжёром-ворюгой, на пару с каким-то там Юрой Смоляниновым, ещё одним охранником. Гнались долго, настигли у автобусной остановки. Подхватили с двух сторон, сбили с ног, скрутили. Попинали немного, не без этого. Гад поначалу угрожал и обзывал по-всякому, потом бабки стал предлагать, чтоб типа отпустили. Но Паша с Юрой не прогнулись, ни-ни, больно надо. Вместо этого ещё попинали. А фигли? Как по-другому было втемяшить, что поздняк метаться? Гад заныл, сопли до колен распустил и вроде как врубился, что попал конкретно. Только когда Паша за мобилой в карман полез (надо же было ментов как-то вызвать), гад встрепенулся, крутанулся и вырвался из рук. Паша с Юрой раз такие за ним, а гад впрыгнул в отходящую маршрутку и аля-улю. Вот, типа, и вся история.
С немалым интересом выслушав Пашину версию происшествия, я как бы между прочим спросил:
— А товар он бросил или успел прихватить?
До того вялые глазки Паши вдруг забегали.
— Какой такой товар?
И снова зырк-зырк по сторонам.
— Блудняк-то, Паша, не гони, — потребовал я и освежил его память: — Зонтики у него с собой были. Такие, знаешь, дамские.
— А-а, ну да, — сразу «озарило» проныру. — Точно-точно, были. В сумке. Вцепился, блин, в неё гад клешнями, фиг оторвёшь. Не, не кинул. С собой уволок.
Врал Паша. Врал безбожно. Тут даже Взглядом не пришлось шерстить сознание, и так было ясно — отпустили они вора. Взяли деньги и товар в придачу, и отпустили на все четыре стороны. А, скорее всего, и запустили в институт без пропуска они же. Не через форточку же в конце концов залез.
— Эх, Паша-Паша, — укоризненно покачал я головой.
Сообразив, что обо всём догадываюсь, Паша закусил удила:
— Как говорю, блин, так, блин, и было. Хочете — верьте, хочете — нет.
— Хочу, Паша, верить, — сказал я вполне миролюбиво, — очень даже хочу, да только вот не получается.
— Говорю, блин, срыл он от нас, — сосредоточено рассматривая заляпанные носки форменных ботинок, пробубнил Паша. — И сумку уволок. Клетчатую такую. Кепарь, блин, бросил, а сумку уволок.
— Кепарь? — заинтересовался я. — Какой такой кепарь?
— Обычный, блин, кепарь, типа кожаный такой. Сразу, блин, сорвал я с него, как прихватили.
— И где она?
— Кто?
— Кто-кто. Кепка.
Опасаясь разоблачения и явно желая меня умаслить, Паша, голова бедовая, засуетился. Метнулся к дежурке, не обращая внимания на удивлённые вопросы старшего, скинул матрас с топчана, поднял лежак, сунулся в рундук и откопал в груде старых форменных штанов-тужурок и прочей свойской дребедени трофейную кепку. Вынес и протянул:
— Во.
— Заберу на время? — попросил я.
Паша ничего не сказал, но скорчил гримасу, которая могла означать только одно — забирай к едрени-фени насовсем, только, блин, отстань.
Если бы курочка-удача не снесла это золотое яйцо, пришлось бы мне потратить полторы тысячи кроулей (а то и все две) на то, чтобы вытянуть образ коммивояжёра-вора из памяти продажного охранника. Теперь необходимость в этом отпала, поскольку появилась возможность обратиться к Альбине Ставиской. Эта старая ведьма умеет с помощью личных вещей людей разыскивать, и я надеялся, что сумею к ней подкатить. Стопроцентной гарантии, что моя бывшая любовница сумеет определить точное местонахождение человека, который мог оказаться пособником, колдуна или даже самим колдуном, конечно, не было. Но шансы, что сумею его найти, имея в голове смутный портрет, были и того меньше. А зачем ловить на шансы плохие, если можно попробовать на достойные?
За обещанным пивом я, разумеется, не пошёл, к взаимному удовольствию заслал старшему охраннику пятихатку. А на Пашу стучать не стал, побрезговал. Вытряс на всякий случай словесный портрет вора (выходило, что он кощей кривоногий с родимым пятном на щеке), да и отпустил с миром. На прощание, правда, хотел посоветовать, чтоб в будущем вёл себя достойно (в мои четыреста пятьдесят девять нравоучения, думается, простительны), но и этого делать не стал. Подумал, к чему? И без меня знает, что быть беспринципным пронырой неприлично. Прекрасно он это знает. Также прекрасно, как и то, что быть благородным рыцарем — занятие глупее не придумаешь. Непрактично это в наше время — быть благородным рыцарем. Такие вот дела: пронырой — неприлично, но практично, а рыцарем — прилично, но непрактично. Знает он про всё про это. Как нынче говорят, в курсах. Потому и мается. Все они маются. Люди. Существа, зажатые в тиски стыда и выгоды. Бедолаги, поставленные перед необходимостью постоянного выбора: быть или иметь? Никого из них не обходит стороной эта необходимость. Ни сильного мира сего, ни акакия акакиевича. Ни-ко-го. И постоянно в напряжении держит. А посему: слава Силе, что я дракон. Упаси, Сила, стать человеком.
Окрыленный тем, что в деле случились первые подвижки, я покинул здание института и бодрым шагом направился к стоящему за шлагбаумом болиду. Почти дошёл, когда позвонил Воронцов.
— Тугарин у аппарата, — ответил я.
— А это я, — сказал вампир.
— Однако быстро ты. Неужели пробил?
Ответ прозвучал по-военному чётко и с оттяжкой:
— Та-а-ак точно.
— Ну тогда, майор, докладывай, — в тон ему приказал я.
— Кинь на стол, и топай, — прежде сказал Воронцов кому-то у себя в кабинете, а потом, выдержав паузу, уже мне: — Докладываю. По дорожно-транспортному на Озёрной двенадцатого числа сего месяца имеет место отказ от возбуждения уголовного дела. Потерпевшая, гражданка Мордкович Марина Рудольфовна, пересекала дорогу мало того, что в необорудованном для этого дела месте, так ещё и на красный свет. Это если сухими словами протокола. А говоря, Егор, по-простому, девка сама под колёса кинулась.
— Точно?
— Точно. Свидетелей человек тридцать.
— Мне бы всё равно с водилой перетереть.
— Учёл. Записывай.
Я быстро выхватил из кармана записную книжку и примостился на капоте.
— Готов.
— Игошин Валерий Павлович, — стал диктовать Воронцов, — семьдесят второго года рождения, русский, ранее не судимый. Адрес есть, только он тебе вряд ли пригодится. Парень прописан на Депутатской, в общаге трамвайно-троллейбусного управления, но реально живёт у бабы своей, где-то на куличках. Так что, Егор, советую прихватить фигуранта по месту работы.
— Дельный совет. А где работает?
— В «Автодорспецстрое». Это за супермаркетом по Рабочего Штаба. Знаешь такой?
— Естественно.
— Вот и замечательно. Дуй туда и хватай. Да, чуть не забыл. Черкани на всякий случай, что за парнем закреплён КАМАЗ-самосвал, государственный номер — Кирилл, семьсот пятьдесят семь, Тимофей, Оксана. Теперь уже всё.
— Спасибо тебе, майор, — поблагодарил я от всей души.
— Дерзай, дракон, — сказал в ответ Воронцов. — И не забудь Зёрна подкатить.
— Передам через Крепыша. Лады?
— Годится.
Сказал и отключился.
Вообще-то, до этого звонка вампира я планировал посетить квартиру покойной Эльвиры Николаевны Фроловой, теперь же решил все силы кинуть на розыск ранее не судимого гражданина Игошина. Так рассудил: квартира заведующей отделом поэзии «Сибирских зорь» никуда от меня не денется, всегда осмотреть сумею, а водителя КАМАЗа поймать не так-то просто, строительный сезон в разгаре, самосвалы нарасхват. Короче говоря, начал с наиболее трудной, как мне казалось, задачи. Однако вопреки моим ожиданиям долго искать Валерия Павловича не пришлось. Оказался человеком с тонкой душевной организацией, сразу после несчастного случая ушёл в глухой запой, и в рейс с тех пор ни разу не выходил. Бравая толстуха, командующая вертушкой на проходной «Автодорспецстроя», чрезвычайно высоко оценила мой дежурный комплимент и в благодарность наябедничала, что парень уже четвёртый день безвылазно торчит в девятом боксе и жрёт горькую. Как она образно выразилась, в три горла.
Надышавшись изрядно выхлопами отработанной солярки, но разыскав-таки этот девятый, самый дальний от проходной, бокс, я обнаружил, что Игошин всё ещё там. Правда, он уже не пил, а спал. Умаялся страдалец. Примостился на сваленной в углу бэушной резине, подложил под голову кусок драного поролона, каким автомобильные сиденья набивают, и — спокойной ночи, малыши.
Пристроив зад на безнадёжно лысую шину, я бесцеремонно толкнул Игошина в плечо.
Никакой реакции не последовало.
Тогда я проорал:
— Рота, подъём!
Гулкое эхо прошлось от стены к стене, с железобетонной балки сорвалась и заметалась под крышей стайка голубей, в приоткрытые ворота бокса заглянул мужик с маской сварщика на голове, а Игошину хоть бы хны. Простонал, не открывая глаз:
— Отвали.
И перевернулся на другой бок.
— Хватит хрючить! — крикнул я ему прямо в ухо. На этом не успокоился, схватил за шкирку и потянул. — Вставай давай. Судьбу проспишь.
Шоферюга с торсом циркового силача несколько секунд сидел неподвижно, потом провёл — будто липкую паутину стёр — огромной пятернёй по опухшей, небритой физиономии, взлохматил свалявшиеся кудри и, не поворачивая головы, скосился на меня:
— Ты кто такой?
— Егор Тугарин, — дотронулся я двумя пальцами до полы воображаемой шляпы.
— Чего тебе?
— Поговорить.
Игошин молча сунул лапу в щель между шинами, выудил початую бутылку, протянул мне.
Я сделал добрый глоток, занюхал дрянное пойло собственным кулаком, и, вернув бутылку, сказал:
— Понимаю, что сыплю соль на рану, но не расскажешь, как оно всё тогда вышло?
— Ты кто такой? — пошёл Игошин на второй круг. Точно аварийный самолёт, которому перед посадкой требуется спалить всё топливо в баках.
— Егор Тугарин, — являя чудеса выдержки, ещё раз представился я. И повторил, для верности набавив громкость: — Егор Тугарин я.
— Нет, ты кто такой?
Мать моя Змея, подумал я, а паренька, похоже, мощно переклинило. Пораскинул мозгами и на этот раз ответил иначе:
— Вообще-то, я страховой агент.
И угадал.
Игошин удовлетворенно кивнул, будто именно такого ответа и ждал от меня, развернулся в мою сторону всем корпусом и поднял заторможенный взгляд.
— Чего тебе, агент?
И я ещё раз сообщил:
— Хочу узнать, как оно всё тогда приключилось. Не для себя, по работе.
Он не стал ничего уточнять. Показал мне указательный палец-сардельку, дескать, сейчас, подожди минуточку, влил в себя всё то, что оставалось в бутылке, нарыл в карманах потёртой шофёрской кожанки сигареты, выбил из пачки одну и, вставил в рот фильтром наружу. Потом стал шарить по карманам. Коробок нашёл, но тот оказался пустым. Я поторопился прийти малому на помощь. Выдернул из его рта сигарету, вставил её правильно и, проигнорировав огромными буквами выписанный на стене запрет «В боксе не курить», щёлкнул своей боевой, украшенной цитатами из «Dragon rouge» Великого Гримуара, зажигалкой.
После первой затяжки Игошин, глядя куда-то вдаль, произнёс философски:
— Жизнь.
— Жизнь, — охотно согласился я.
— Да что ты знаешь-то про жизнь, мурзилка? — держа меня чёрт знает за кого, хмыкнул Игошин. Отогнал дым от глаз и вновь затянулся.
Первая звезда на борту, поразился я мысленно, а гонору столько, будто бомбу на Хиросиму сбросил. Неужели банальный наезд на пешехода разгадке жизни равносилен? Не верю. Ну, понял, как она хрупка. Ну, убедился, что не автор пьесы, а статист. Не более того. А туда же, елки-палки, — в мыслители.
И почему-то в тот миг всплыло у меня в голове (что к чему? откуда что?) определение Шекспира: «Жизнь — история, полная галиматьи, не имеющая смысла и к тому же рассказанная дебилом». Однако делиться этим мощным откровением с беднягой я не стал, а произнёс в рамках роли:
— Про жизнь, Валера, одно знаю: бывает застрахованная, а бывает — нет.
— Во, голова два уха, я ему про одно, а он мне про другое, — кисло ухмыльнулся Игошин и разочаровано махнул рукой. Да так мощно махнул, что сигарета вырвалась из пальцев и отлетела к убитой аккумуляторной батарее. Стояла там такая невдалеке.
Поднимать бычок Игошин не стал, полез в карман за пачкой, и на этот раз — о, чудо! — сигарету вставил правильно. Я вновь подсунул ему зажигалку и, поскольку вся эта возня стала уже мне надоедать, спросил без мадригальных блёсток:
— Правда, что девка сама под колёса бросилась? Или врут?
Он дёрнулся, как от удара плетью, но быстро взял себя в руки. Потянулся к огню, прикурил, после чего, презрев правило «о мёртвых либо хорошо, либо никак», разразился витиеватым ругательством, которое закончил словами:
— Наркоманка хренова.
— Наркоманка? — удивился я. — С чего ты это взял?
— Люди сказали. Всё, слава яйцам, видели, всё слышали. Говорят, обкуренная была в умат. Как есть обкуренная. Стоит главное такая никакая, бормочет, забалдела я, мол, забалдела, офигеть как забалдела. А потом как кинется сучка.
После этих слов Игошин вытянул руки.
— Видишь, как дрожат. Сколько дней прошло, а до сих пор дрожат. Нервы, мать их, ни к чёрту. Как, скажи, тут за баранку садиться?
— Может, нервы, а может, — я указал на пустую бутылку, — от бухла паршивого трясёт. — И уже вставая, посоветовал: — Притормози с этим делом, глядишь и отпустит. Не в праве настаивать, но ты попробуй.
Игошин обиженно замотал головой.
— Чудак человек, я ему про одно, а он мне про другое. — И несколько раз ударил себя кулаком в грудь. — Душа, душа болит.
— Не повод, — заметил я. — Ни в чём не виноват, так какого кирять по-чёрному?
— Ага, не виноват, — понуро протянул он, — Не виноват-то, не виноват, а только… Когда бы я за куревом возле «Баргузина» не остановился, может, и не сбил бы дуру.
На эту чушь я ему ответил так:
— Если бы ты, Валера, за куревом тогда не остановился, то на тракте с маршруткой — лоб в лоб. И девять трупов как с куста.
— С чего ты взял?
— А ты с чего?
— Ну…
Пока он соображал, а соображалось ему по известной причине очень и очень туго, я успел сказать:
— Между «могло бы не случиться» и «могло бы случиться что-то похуже» стоит знак равенства. И тут, Валера, не угадаешь. Ибо, как мне тут одна шибко умная дама сказала, а ей в свою очередь Александр Сергеевич Пушкин, человеческая жизнь устроена таким образом, что от судеб защиты нет. А на «нет» и суда нет.
Этими словами и завершил разговор. Отряхнул джинсы, махнул впавшему в ступор Игошину — давай, парень, бывай, и пошёл на выход. Всё, что хотел от него услышать, услышал. На психотерапию же не было ни времени, ни желания. Подумал, взрослый мальчик, справится сам. Тем более что тропинку через болото я ему вроде как указал.
Едва отъехал от проходной, позвонила Лера.
— Шеф, вас ждать или можно линять? — спросила она.
— Ждать, — приказал я. — Уже еду.
— Но, шеф, начало седьмого.
— Нам с тобой, подруга моя, нельзя расслабляться. Никак нельзя. Мы с тобой должны торопиться делать добрые дела.
— А куда, шеф, торопиться-то? — задала Лера резонный вопрос.
— Куда? — Я многозначительно хмыкнул. — Раньше я тоже думал что некуда, теперь думаю по-другому. — Притормозил на красный сигнал светофора и объяснил: — Видишь ли, Лера, я тут недавно услышал, что не вся первичная энергия при Большом взрыве перешла в материю. Часть не перешла.
— И что с того?
— А то, что оставшаяся энергия в любой момент может перейти в материю. Бабах, и второй Большой взрыв расфигачит нашу уютную Вселенную. Кому мы с тобой после этого поможем?
— Прекратите издеваться, шеф, — хрюкнув, потребовала Лера, и прежде чем отключиться приказала: — Зарулите по дороге в какой-нибудь магазин, плюшек купите, новый чайник опробуем. И ещё молока возьмите, у нас тут кошка.
— Какая ещё кошка? — опешив, спросил я, но ответа не услышал. Моя верная помощница уже отключилась.
Не желая выглядеть занудой, перезванивать я ей не стал и, как только загорелся зелёный, сразу покатил к супермаркету. До него было двести метров, тридцать секунд езды и десять минут на то, чтобы куда-нибудь припарковаться.
С покупками я управился быстро, гораздо дольше простоял у кассы. Впереди стоящие затарились так основательно, будто ожидали наступления ядерной зимы. Я же в корзину помимо заказанных Лерой плюшек и молока (которое, кстати, неприятно удивило новой ценой), кинул только тортик, буханку хлеба и палку колбасы. Торт — для сладкоежки Леры, хлеб и колбасу — для себя любимого.
На выходе из супермаркета случилась катастрофа: столкнулся с кефирно-валидольного вида старушенцией. Шла впереди, внезапно наклонилась шнурок на кроссовке завязать, и тут я, не выдержав дистанцию, коленом ей в корму. Чуть не распласталась. Прихватив её за немаркого цвета плащик, я горячо-искренне извинился и кинулся поднимать апельсины, которые посыпались из её пакета с портретом Чебурашки в берете команданте Че. А когда протянул ей эти три омерзительно-оранжевых шара, тут-то и заметил, что у моей охающей-ахающей бабуленции на одной руке шесть пальцев, а на другой — четыре. Заметил и сам охнул-ахнул:
— Чёрная провидица!
— Тихо, тихо, тихо, — прошипела старуха и вцепилась жуткими ногтями в моё запястье с такой силой, что аж у самой костяшки побелели. После чего стала вертеть головой — услышал кто мой возглас или нет. Убедившись, что никто на нас внимания не обращает, натянула козырёк бейсболки на глаза и сказала с укоризной: — Чего, дракон, кричишь как резанный?
— Пардон, мадам, — смутился я.
— Провидиц никогда не видел?
— Видел и много раз, просто давным-давно не встречал.
— Иди, куда шёл, — проворчала карга. И отпустив мою руку, сказала вдогон: — Как говорится, лаша тумбай тебе, дракон, и ветер в крылья.
Но только я сделал шаг, она слизнула, воровато озираясь, с ногтей капли чёрной крови и приказала:
— Стой, где стоишь.
Я замер.
Она постояла несколько секунд с закрытыми глазами (при этом веки её дрожали, а глазные яблоки бились под ними, как бабочки в сачке), а когда глаза открыла, посмотрела на меня лукаво и поманила пальцем.
Когда я наклонился, она прошелестела мне в ухо:
— Берегись, дракон, каблук уже сломан. — Хихикнула гадко и добавила ещё: — Потеряешь каблучок, найдёшь значок. Большая ошибка. Однако спасёт.
И пока я весь такой заинтригованный пытался понять, что всё это означает, растворилась в толпе.
По-прежнему моросил дождь, ветер срывал с дерев листву, на город наползал вечерний сумрак. Ничего вокруг не изменилось. Абсолютно ничего. Только в тайнике, устроенном под мемориальной доской на фасаде дома N32 по бывшей Луговой, а ныне Марата, сжалось от внезапной тоски сердце дракона из славного рода Огло.
Сердце дракона Вуанга-Ашгарра-Хонгля.
Моё золотое сердце.
Глава 6
Кошка с шерстью лунного цвета бродила по кабинету с таким видом, будто жила тут всегда. Не гостьей выглядела, нет — хозяйкой.
— Откуда ты взялось, чудовище? — осведомился я, после того как накинул мокрый плащ на вешалку.
Кошка презрительно фыркнула, выписала хвостом восьмёрку и ничего не сказала.
Тогда я обратился к Лере, которая в тот момент поливала фикус:
— Откуда?
— Не знаю, — призналась моя работящая помощница. — Набиваю такая себе список использованной литературы и тут вдруг мяу-мяу-мяу. Гляжу, сидит на подоконнике. Давайте, шеф, оставим. А? Давайте?
— Кормить сама будешь.
— Легко.
— И выгуливать.
— Кошки, шеф, сами себя выгуливают.
— А как назовём?
— Ну… Не знаю.
— Без имени домашнему животному нельзя, — сказал я со знанием дела. — Никак нельзя.
— Тогда давайте назовём Красопетой, — предложила Лера.
Кошка издала такой звук, будто её сейчас вырвет, после чего запрыгнула на кресло для клиентов.
— Почему Красопетой? — спросил я.
— Слово нравится, — призналась Лера. — Правда, прикольное?
— Правда, — согласился было я, но тут же впал в сомнения: — Слушай, а это точно кошка? Что если мужик? Котяра?
Лера замахала на меня руками:
— Что такое говорите, шеф. Какой котяра? Смотрите — само изящество. И мордочка милая.
— Милая-то, милая, — сказал я, — но убедиться стоит.
Не успел я сделать и шага, как кошка с завидной прытью, но при этом весьма грациозно, заскочила на стол, с него на шкаф, вжалась в угол и приняла угрожающую позу. Шерсть при этом встала у неё дыбом. Жуткое зрелище. Рисковать здоровьем я не стал.
— Молодец, сестрёнка, — похвалила Лера кошку за неприступность, да ещё при этом одарила её и аплодисментами.
— Да тут, смотрю, зреет феминистский заговор, — хмыкнул я.
Лера подбоченилась.
— А то!
— Уволю-выгоню к чёртовой матери.
— Не посмеете.
— Почему это?
— Потому что… Потому что вы добрый человек.
Насчёт «человека» Лера как всегда ошибалась, а насчёт того, что добрый… Ну, не знаю. Со стороны оно, конечно, видней. Но, если честно, всегда мечтал выглядеть не плюшевым медвежонком, а пареньком с отрицательным обаянием.
— Ладно, — примирительным тоном сказал я и определил пакет с провизией на стол. — Давай, подруга, разбирай. Ну и докладывай, чего нарыла в Сети.
Через десять минут я уже пил чай с монументальным бутербродом, Красопета лакала молоко из одноразовой чашки для запарки лапши, а Лера, с ногами устроившись на кресле для посетителей, пожирала (другое слово было бы враньём) бисквитный торт. Что, однако, не мешало ей рассказывать:
— Сайт у них, шеф, бедненький, на бесплатном хостинге, но архив номеров и основная информация имеется. Всё как у людей. Ну и там значит так. Журнал зарегистрирован как литературно-художественное периодическое издание в 1994 году. Выходил первое время раз в квартал, после дефолта — раз в полгода сдвоенными номерами. Так и сейчас. Официальный тираж — две тысячи экземпляров. Какой на самом деле — бог весть. Распространяется журнал по большей мере через Роспечать и в основном в пределах области. Издатель — группа частных лиц, главный редактор — наш клиент Холобыстин. Тот ещё тип. Как я поняла, гонорары выплачивает узкому кругу авторов, остальные сами ему платят.
Услышав такое, я потребовал:
— А ну-ка, подруга, с этого места поподробнее.
— Да какие там подробности, — прожевав очередной кусок, сказала Лера. — Влёт печатает только своих дружков, остальных гениев, желающих увидеть свои опусы изданными, отсылает в кассу. Всё просто до безобразия. Захотите, шеф, свой рассказик тиснуть, платите, и нет проблем.
— Вот так вот, значит, — задумался я.
— Ага, — кивнула Лера, тщательно облизала (не томно, как эти дуры из рекламы, а жадно, как оголодавший ребёнок) крем с пальца и добавила: — Правда, редакция вроде как оставляет за собой право отказаться от публикации, если сочтёт художественный уровень текста низким, но думаю, это они так цену набивают. Что угодно напечатают, за милую душу, только плати.
— Забавно, — хмыкнул я. — А как ты об этом узнала?
— Так у них на этот счёт объявление висит на главной странице. Во-о-от таким вот кеглем накидано.
— Что, даже не скрывают?
— А чего тут скрывать? — пожала плечами Лера. И сказала со здоровым, присущим их поколению, цинизмом: — Бизнес как бизнес.
После этих её жёстких, но справедливых слов, меня охватило беспокойство. Подумал, а не лопухнулся ли я, не переплатил ли Холобыстину за публикацию стихов Ашгарра. И не сдержался, спросил:
— А какова цена вопроса?
— Всё зависит от объёма текста, — пояснила Лера. — Там у них таблица специальная. Мелкий опт, крупный опт, скидки. Точных цифр не помню, но могу посмотреть.
Ну, Семён Аркадевьевич, мысленно восхитился я, ну пройдоха. А как пел-заливал про бескорыстных творцов, тонко чувствующих и по-особенному ощущающих. Лицемер чёртов.
Тем временем Лера уничтожила остатки торта и, пробормотав что-то насчёт уровня холестерина и кремлёвской диеты, уточнила:
— Ну так что, шеф, сходить, посмотреть циферки? Или как?
— Не нужно, — ответил я, помолчал-подумал и на всякий справился: — Скажи, а спонсоры у них есть?
— Не знаю, — ответила Лера, — на этот счёт ничего такого не попалось.
— Сам-то журнал полистала?
— Ага.
— Ну и как?
— Да так. Не торкнуло. Правда, увидела одну прикольную штуку.
— Какую это?
— Сейчас.
Лера сползла с кресла и сходила в приёмную за журналом. Принесла, положила на стол, пролистнула где-то до середины и хлопнула ладонью по странице:
— Вот, шеф, смотрите. Раздел поэзии, а что печатают.
Неужто, похабные картинки, грешным делом подумал я. Подтянул журнал и обнаружил на сто десятой странице подборку одностиший под названием «Вздохи северной страны» за авторством некоего Всеволода Бабенко. Ну и прочитал, разумеется, несколько штук. Среди прочих такие:
Ознакомился и поинтересовался:
— А чего, подруга, тебя тут удивило?
— Ну как, — пожала плечами девушка. — Раздел поэзии, но это же не стихи.
— Почему же не стихи? Стихи. Это так называемые, одностишья или, по-другому говоря, моностихи. Для русской литературы, кстати, вполне традиционная штука. Многие русские поэты прибегали к подобной форме стихосложения.
— Да? Какие это?
— Ну… Так сразу навскидку… Ну, Брюсов, к примеру. У него есть такой замечательный стих: «О закрой свои бледные ноги». Часом не слышала? Известный очень.
— Не-а, — мотнула головой честная девушка, — не слышала, но название прикольное.
— Это, детка, не название, это и есть стихотворение.
Лера прыснула:
— Муха села на варенье, вот и всё стихотворенье. Да?
— Типа того, — кивнул я и, ткнув пальцем в журнал, сказал: — А вообще-то это не вздохи никакие, не охи и даже не страдания, а самые типичные хайку.
— Хайку? Но, шеф, хайку они же… — Лера черканула несколько раз чайной ложкой по воздуху. — Они же в три строки. Или я что-то путаю?
— И путаешь, и нет. Это у нас так повелось — в три строки, а на родине хайку, в Японии, как раз в одну строку пишут. Точнее — в столбик. А разбивка идёт с помощью специальных служебных иероглифов.
— Да? Не знала.
— Теперь знаешь.
— Ага, шеф, знаю теперь. Спасибо. Спасибочки. Только мне, честно говоря, от этих самых хаек…
— От хайку, — машинально поправил я.
— …ни холодно, ни жарко, — закончила Лера и смущённо вздохнула. — Не понимаю я в них ничего. Что там к чему? В чём суть? Не врубаюсь. Блондинка, одним словом. Беспросветная.
Уже второй год играем мы с ней в эту забавную игру, подумал я. Она прикидывается простушкой, я корчу из себя шибко умного.
Людям нравится играть в такие игры, драконы тоже в них поиграть не прочь.
— Не понимаешь? — улыбнулся я.
— Не-а, не понимаю.
— Блондинка, говоришь?
— Ага, шеф, блондинка.
Я махнул рукой в сторону окна.
— А ты вон посмотри на ту рябину у подъезда. Видишь, ветка дрожит?
Послушно глянув в окно, Лера недоумённо пожала плечами:
— Ну, вижу. Дрожит.
— Почему она дрожит?
— Наверное, ветер.
— Возможно, ветер. А может, птица вспорхнула. Или прохожий задел рукой. Может так быть?
— Всё может быть, шеф. А вы это к чему?
— К тому, Лера, что суть хайку заключается в том, чтобы показать, ничего не объясняя. Дать лёгкий намёк тому, кто способен всё остальное домыслить. Вот послушай:
Закрой глаза, представь: река на рассвете, пар над водой, одинокий старик с бамбуковым удилом на берегу. Подул ветер — зашелестел прибрежный бамбук. Клюнула рыба — дрогнула палка в руках старика. Безжизненная стихия приводит в движение живой бамбук, а мёртвый бамбук приводится в движение живою рыбой. Усердно трудятся Инь и Ян. Свершается Дао.
— Здорово! — восхитилась Лера.
Меня же несло:
— И вот ещё что я тебе, подруга, скажу про хайку. При всей кажущейся простоте они, эти японские фитюльки, есть по-самурайски отважная попытка интуитивного постижения сложных метафизических категорий. К примеру, таких неподвластных уму начал, какими являются жизнь и смерть. Слушай:
— Слышишь: жизнь хрупка, смерть неожиданна, а между ними…
Впав в просветительский раж, трындел я практически на автомате, а сам тем временем продолжал скользить взглядом по строкам неизвестного мне поэта Бабенко:
И вот именно тогда, когда я прочёл это последнее одностишье, из абракадабры которого моё усыпляющее само себя сознание вдруг выдернуло одно английский слово «zap» («жизненная сила») и одно греческое «patera» («жертвенная чаша»), со мной стало происходить непонятное.
Сначала появилась резь в глазах. Ощущение было такое, будто какой-то пакостник швырнул мне в лицо солидную горсть речного песка. Я поморгал, потёр глаза — не помогло. А вскоре к этой моей напасти присовокупилась новая и эта была похлеще. Куб комнаты стал вдруг превращать в сферу, все предметы в ней — стол, кресла, шкаф, книги, картины, напольные куранты в дубовом футляре, фикус в горшке, разложенные на полках безделушки и артефакты — потекли на манер сюрреалистических часов Сальвадора Дали, а моя незаменимая помощница Лера обзавелась десятком клонов, орущих хором: «Шеф, что это с вами?!»
Вот и белочка прискакала, отрешённо подумал я, поскольку решил, что весь тот алкоголь, которым безо всякой меры закидывался там и тут в течение дня, наконец всосался в густую чёрную кровь, шандарахнул по обоим полушариям и обеспечил феерический приход.
Не успел я свыкнуться с этой трагической мыслью, как мир вокруг меня начал мало-помалу, словно театральный зал после третьего звонка, погружаться в темноту. Со слухом моим тоже было что-то не ладно: когда темнота достигла своего абсолюта, звуки вдруг слились в единый невыносимо высокий звон. И в тот же самый момент из моих лёгких куда-то делся воздух, я начал задыхаться. А потом случился характерный хлопок, какой бывает при прохождении лайнером звукового барьера, и голова затрещала так, будто в ней лопнули сразу все кровеносные сосуды. Вместе с болью, пришли тишина и острое, до тошноты острое, понимание, что дело не в алкоголе. Какой там к чёрту алкоголь, при чём тут алкоголь, если по какой-то непонятной причине Пределы схлопнулись в точку, тождественную точке с улицы Гарая, и я на всех парах понёсся в Запредельное. Как только я это понял, тут же похолодел от ужаса.
Ещё бы тут не похолодеть.
Нынешний уклад жизни драконов таков, что в Запредельном они бывают исключительно во время церемоний Ночи Знаний О Том, Что Мы Ничего Не Знаем. Я, дракон Ашгарр-Вуанг-Хонгль, не исключение. Регулярно, два раза в год, в отмеренные Великим Неизвестным сроки возвращаю себе истинное крылатое обличие, вхожу в Храм Откровения и прочитываю очередные тысячу и одну страницу Книги Завета. Можно так сказать. А можно сказать, что вхожу в Храм Забвения и пишу очередные тысячу и одну страницу Книги Исповеди. И так можно сказать, и так, ибо, как стало мне о том известно год назад от одного просвещённого московского онгхтона, Храм Откровения и Храм Забвения суть один Храм Книги, а Книга Завета и Книга Исповеди суть одна Книга.
И не важно, что есть на самом деле такое Пределы и Запредельное: иллюзорная двойственность реальности, принадлежащая исключительно нашему сознанию, как мыслит себе нагон Ашгарр, или объективные данности, обеспечивающие перетекание формы в содержание и содержания в форму, как считает нагон Вуанг, или вещи в себе, в сути которых не стоит копаться, но наличие которых нужно учитывать, как полагаю я, нагон Хонгль. А важно то, что переход из Пределов в Запредельное должен проходить по установленному раз и навсегда ритуалу. Ведь если подготовка проведена должным образом, если сознание в своём изменённом состоянии гармонизировано со всеми гранями мира, то на той стороне тебя принимает правильный Образ (который, по утверждению Великого Неизвестного, есть ничто иное как форма существования Пределов в Запредельном), и ничего страшного тогда не происходит. Напротив. Защищённый верными заклятиями исполняешь по древнему обряду то, что должен исполнить и возвращаешься в Пределы живой, невредимый, преисполненный восторгом и собственным значением.
Но когда кто-то равный по Силе или более сильный забрасывает тебя в Запредельное по своей злой воле или ты попадаешь туда по трагическому недоразумению, с тобой может произойти всё что угодно. Неподготовленный и беззащитный ты можешь навсегда лишиться покоя, надежды, совести или рассудка. Можешь даже остаться в Запредельном навсегда. Можешь просто-напросто развоплотиться. Превратиться в ничто. Сойти на нет. Вот почему я дико испугался. Испугался до мурашек на коже и резей в потрохах.
Пугался я ровно столько, сколько проходил переход Отсюда Туда. Миг. Ослепительный миг. В том смысле ослепительный, что я действительно в этот миг был слеп как крот. А затем тьма вокруг меня — как оно всегда и бывает при вхождении в Запредельное — рассеялась, и я окунулся в море нестерпимого света, который, проникнув во все уголки-закоулки моего сознания, включая самые периферийные, самые тёмные, породил незнакомый Образ. И Образ этот, надо признаться, оказался для меня приятным сюрпризом.
Я летел.
Я летел, как летают птицы, облака и дети в своих невинных снах.
Я летел, как летают всякий раз ангелы в начальных кадрах фильма «Небо над Берлином» блистательного Вима Вендерса.
Я летел, как летают драконы.
Я летел.
Я летел высоко, но не настолько, чтоб захватывало дух, а чуть ниже облаков, и с этой осторожной лучезарно-бледной высоты мне открывался вид поразительного по своей красоте города. Там было на что посмотреть и там было чему изумиться. Я видел многочисленные невысокие храмины, построенные из какой-то прозрачной, а местами полупрозрачной, кристаллической субстанции. Сквозь это неведомое мне вещество легко проходило идущее изнутри строений золотистое свечение. Помимо сияющих храмин видел я грандиозные строения, напоминающие своей строгой архитектурой католические соборы, только в десятки раз больше. Их острые готические шпили из радужной слюды царапали небо, а стены из цельных плит горного хрусталя, несмотря на всю свою очевидную массивность, казались воздушно-невесомыми. Хрустальные стены соединялись между собой хрустальными же порталами причудливой формы. Некоторые порталы венчались сверкающими на солнце шарами, другие — пирамидами. Стены, крыши и фасады остальных зданий диковинного города украшали небывалой величины драгоценные камни, а пустынные — ни пешего, ни конного, ни пса, ни птахи — улицы, которые из-за их ширины правильнее назвать проспектами, были вымощены плитами из тёмно-медового янтаря. И все эти янтарные линии, как спицы колеса, устремлялись к центру. Там, в центре города, посреди площади в форме огромной тринадцатиконечной звезды Хаоса возвышалась башня — ажурное, сплетённоё из тонких золотых полос, похожее одновременно и на телевышку, и на искусственную новогоднюю ёлку, сооружение, вершины которого видно не было, поскольку терялась она в перламутровых облаках.
Чем ближе подлетал я к золотой громаде, тем сильнее чувствовал всем своим драконьим естеством полноту бытия. А когда, взмыв свечой в лазурную высь (не мог ни взмыть, и не было такой силы, которая могла бы пресечь мою дерзость), добрался до вершины, то испытал небывалый прилив счастья. Всё то счастье, которое обычно раскидано крошечными порциями по долгой драконьей жизни, нахлынуло разом. Это было настоящее счастье, самое-самое настоящее, рафинированное, незамутнённое, не заслуженное. Это было такое счастье, при котором ничего уже не хочется, кроме, пожалуй, одного — чтобы длилось оно вечно.
Опьяненный, счастливый до потери пульса, сам не свой и ничей, я кружил и кружил вокруг мачты с золотым треугольником. Кружил, обмирая от восторга, но при этом упорствовал зашедшим за разум умом: нет, так не бывает. Всё это сон, мечта, иллюзия. Нет такого места, где отпускают столько счастья оптом и задарма. Нет, не было и не будет. Нигде и никогда. Не может его быть.
Зачем я пытался отрезвить себя, не знаю. Но догадываюсь. Видимо, даже на пике блаженства разумное и независимое существо остаётся разумным и независимым, и не лишается — в белой кляксе начала Ян всегда присутствует капелька чёрного начала Инь — способности впадать в сомнение. Я дракон, я разумен, мой разум критичен и я за это получил спполна: наступил момент, когда сомнение породило тревогу, и на меня накатила девятибалльная волна тоски. Иезуитская эта эмоция чревата самыми скверными последствиями, вот и тут: мир (такой родной мне, но для которого я, без всякого сомнения, был чужаком) в одну секунду — увы мне — вывернулся наизнанку. День обернулся ночью, небо и земля поменялись местами, а золотая башня — о, мать моя Змея! — превратилась в бездонный колодец — наглядное воплощение Небытия. И я уже не летал. Всё, абзац, полёт закончился.
Поражённый и обманутый стоял я на самом краю колодца и с замиранием сердца вглядывался в мрачную бездну. Как это ни странно, но её чернота не пугала, напротив — манила, и в какую-то опасную, но честную секунду появилось неудержимое желание прыгнуть вниз. Захотелось, сил нет, как захотелось, слиться с этой бархатной чернотой. Не для того, чтобы убить себя. Нет, нет и ещё раз нет. Но для того, чтобы убить мысль о безысходности и тщетности своего существования вне чудесного мира, переполненного счастьем.
Убить себя и убить мысль в себе — как ни крути, вовсе не одно и тоже. По сути. По форме — возможны варианты. Я выбрал самый тривиальный, самый простой из них и самый скорый, поскольку постольку в тот миг не думал о себе. А думал я о том, как исчерпать оскорбительный обман бытия. Я должен был его исчерпать. Я обязан был с ним покончить.
«Простите», — без моего участия прошептали губы, потом я добавил от себя «прощаю» и занёс ногу над искупительной дырой.
Прыгнуть не получилось — из колодца вылетела Красопета и толкнула меня в грудь. Удар был настолько мощным и неожиданным, что я не устоял на ногах и, минуя все стадии возвращения, сразу плюхнулся в кресло.
— Вот зараза, — простонал я.
— Сам дурак, — промяукала разъярённая кошка, сверкнула жёлтым глазом и отцепилась меня, оставив грубые затяжки на любимом свитере. Скатившись кубарем под стол, она вынырнула с той стороны, запрыгнула на подлокотник кресла, в котором сидела застывшая с чайной ложкой во рту Лера, потом — на стол, а с него — опять на шкаф. И замерла в позе безносого Сфинкса.
В то же самое мгновение моя славная помощница очнулась и, облизав и без того чистую ложку, произнесла:
— Не понимаю я в них ничего. Что там к чему? В чём суть? Не врубаюсь, причём не врубаюсь основательно. Блондинка, одним словом. Беспросветная.
Я поглядел на неё, ещё раз поглядел, и ещё раз, обвёл настороженным взглядом кабинет, глянул за окно, потом на куранты и принял очевидное: Запредельное хотя и выплюнуло меня в тоже место Пределов, но сделали это со сдвигом на несколько минут назад. И вспомнился мне очумелому один детский садистский стишок. Такой вот: «Девочка Нина купаться пошла, в среду нырнула, в субботу всплыла». Будто про меня стишок. Правда, с поправкой на то, что нырнул всё-таки в «эту субботу», а всплыл в «прошлую среду».
Насчёт того, что делать дальше, никаких сомнений у меня не было. Кровь из носа, но нужно подыграть запутавшейся самой в себе реальности. Пределы — моя родина, Пределы — моя судьба, Пределы нужно беречь. Ну и рассудок их обитателей, как нечто неотъемлемое, разумеется, тоже. Поэтому, собрав всю свою волю в кулак, я — в нашей жизни всегда есть место подвигу — заставил себя улыбнуться, махнул отяжелевшей и непослушной рукой в сторону окна и, как ни в чём не бывало, обратился к Лере:
— Посмотри, подруга, вон на ту рябину у подъезда. Видишь, ветка дрожит?
Судя по выражению лица, унылая картина за окном Леру ничуть не вдохновила.
— Ну, вижу, — промямлила девушка. — Дрожит.
— Почему она дрожит?
— Наверное, ветер.
— Возможно. А может, птица вспорхнула. Или прохожий зонтиком зацепил. Может так быть?
— Всё может быть, — сказала Лера, после чего пожала плечами и спросила: — А это вы, шеф, к чему?
— К тому, подруга, — с трудом выталкивая застревающие во рту слова, ответил я, — что искусство хайку, как никакая иная практика, позволяет проникнуть в суть предметов и явлений. А проникнув, осознать их взаимосвязь и единство. Вот послушай:
Видишь, Лера, иные хайку не так уж и просты. Они учат нас задавать самые важные вопросы, вопросы, на которые нет простых ответов. В принципе, поиск ответов на эти вопросы и есть Путь. Путь с большой буквы. Путь, на котором нет хоженых троп. И пускай наши ответы никогда не бывают окончательными, но они дают нам возможность не потонуть в хаосе жизни и не потерять веру в себя и в других.
Вот так вот вяло нагромождал я слова на слова, переливал из пустого в порожнее, а сам тем временем скользил взглядом по той же самой странице раскрытого журнала. Буквы, напечатанные офсетным способом и шрифтом таймс, сами собой складывались в слова, слова — в предложения, предложения тянули за собой смыслы. И я впитывал их. Впитывал нехотя, помимо воли, но впитывал. Однако в какой-то момент — прошлого уже нет, будущего ещё нет, настоящее — попытка прошлого не допустить будущего — решил, всё баста, рисковать не стоит. Не разум, но звериный инстинкт самосохранения нашептал-подсказал мне, что ещё немного, ещё чуть-чуть и пойду на новый круг. Тот самый, который может вполне оказаться и порочным, и замкнутым.
Вздрогнув, будто током ударенный, я очнулся, потянулся к журналу, с которым явно было что-то не так, и решительно захлопнул его. Мало того — чур меня, чур — сдвинул в угол стола.
— И что, что дальше, шеф? — спросила Лера.
Поначалу я не понял, о чём это она, но потом сообразил, что требует возобновить прерванную лекцию.
— А дальше — в следующий раз, — пообещал я и показал на куранты. — Время позднее, тебе пора домой. Вызывай-ка, подруга, мотор.
Хитрая девушка попыталась упасть на хвост:
— Может, подвезёте, шеф?
Изобразив лживую гримасу искреннего сожаления, я развёл руками:
— Извини, Лера-девочка, но сегодня не могу. Ещё куча дел. Вот такая вот куча.
И показал, насколько эта куча велика.
— Ну и ладно, — беззаботно махнула Лера ладошкой. — На маршрутке доберусь.
Девушка-то моя сегодня при деньгах, подумал я. А вечерний город кишит идиотами. Пожалуй, не стоит ей без провожатого в маршрутках тереться.
И уже доставая портмоне, предложил:
— А что если такси за счёт конторы?
— Тогда такси, — расплылась в улыбке Лера.
Она уже выходила из кабинета, когда я спросил:
— Сегодня говорил, что отлично выглядишь?
— Нет, шеф, — ответила красавица моя, замерев на пороге.
— Говорю.
— Зэнк.
И, ухватив пальчиками края пиджачка, она присела в шутейном книксене.
Минут через пятнадцать моей великолепной во всех отношениях помощницы простыл и след, мы остались в конторе вдвоём — я и Красопета. Кошка по-прежнему лежала на шкафу и делала вид, что спит. Или на самом деле спала. Пошёл бы проверить, но, пребывая в состоянии не состояния, не мог подняться из кресла. Физически чувствовал себя как тот космонавт, который для улучшения аэрации два года взбалтывал банки с хлореллой и вот наконец-то вернулся на родимую Землю. Даже руку поднять, чтобы наполнить стакан порцией виски, и то было проблемой.
Морально чувствовал себя не лучше. Погано я себя чувствовал морально. Не знаю даже с чем сравнить. Разве только с той рыбой, из которой в фильме «Остров» вырезали заживо кусок плоти для суси. Имею в виду, конечно, фильм корейца Ким Ки Дука, а не фильм француза Павла Лунгина. Фильм Дука — жесть: нет плохих, нет хороших, есть живые. Зачётный фильм. А от фильма Лунгина я не восторге. И дело не в качестве картинки и игры актёров, с этим там всё как раз в полном порядке, просто не по душе мне сама идея, проповедующая искупление подобного рода греха. Я золотой дракон, я ангел возмездия, поэтому исповедую, проповедую и воплощаю в жизнь парадигму иного толка: намеренно убил невинного — умри. Откупиться, отмолиться, под юродивого закосить даже и не мечтай. Ей-ей. Иов безгрешный и тот был наказан. А тут — такое.
И всё-таки я принял дозу. Сумел. Добрался до заветного ящика, нащупал, не глядя, бутыль с чёрной этикеткой, плеснул в стакан прилично и, вспомнив чьи-то мудрые слова, что жизнь есть промежуток между двумя порциями виски, выпил залпом. Когда шотландский самогон сделал своё дело, и в груди потеплело, я раскурил дрожащими руками сигарету и попытался разобраться с тем, что со мной произошло. Попытка оказалась неудачной. Оно и понятно. Копать глубоко пока не мог, ещё не пришёл в себя после необычного путешествия, а так, неглубоко, получалось форменная глупость: странноватый стишок из убого журнала забросил меня в Запредельное, а бесхозная кошка вернула меня назад.
Дурдом.
Как есть дурдом.
Стишок ещё ладно, прикидывал я. Может быть. Быть может. Утверждал же поэт: из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. Так что может, может быть. Разберёмся. Но вот кошка… Кошки не могут ходить в Запредельное, не дано им, не то у них устройство, не те у них тактико-технические характеристики. А эта тварь неразумная там была. Точно была. Я лично видел её Там. И тут одно из двух: либо она какая-то особенная кошка, либо и не кошка вовсе.
— Красопета, ты кто? — спросил я, сбил пепел с кончика сигареты в пасть бронзового пеликана и развернулся к шкафу. — Чего молчишь, чудовище?
Я опоздал. Не знаю, на сколько опоздал, на минуту или на секунду, но кошка с шерстью лунного цвета, опасаясь скорого разоблачения, уже исчезла. Испарилось. Будто и не было её никогда.
Вот он, подумал я, тот горизонт, что меркнет, пронизанный струящимся безмолвием.
Подумал чужими словами. Своих слов у меня в ту секунду не было. И быть не могло.
Глава 7
Исчезновение загадочного зверя настолько меня ошеломило, что я на целых пять минут впал в ступор. Сидел, не шелохнувшись, глядел в окно и тупо слушал, как лупят по стеклу тугие капли дождя. И не знаю, сколько бы так просидел, — час, год, остаток жизни, — но на исходе пятой минуты ожил мобильный. Трубка осталась в кармане плаща, волей-неволей пришлось выбираться из кресла и топать к вешалке.
Звонил Ашгарр.
— Хонгль, чёрт тебя дери, — простонал он, — что там у тебя происходит? Волна докатилась. Колбасит не по-детски.
— Не поверишь, — стараясь говорить как можно непринуждённее, поделился я, — снип-снап-снурре, и чуть не окапутился.
Поэт секунд десять, наверное, молчал, прежде чем спросить осторожно:
— Ты хочешь сказать, что побывал в Запредельном?
Спросил и сам, похоже, не поверил в то, что спросил о такой небывальщине. А я ответил просто и с некоторой бесшабашностью:
— Угу.
— Как это?
— Так это.
— Пьян или бредишь?
— Не то и не другое. Сам же почувствовал.
— Почувствовал, — подтвердил Ашгарр. — Но не поверил. Точнее поверить не захотел. — Помолчал напряжённо и вдруг вспылил не на шутку: — Вот же блин! Опять ты в какую-то заварушку вляпался. Сколько уже можно? А, Хонгль? Скажи, когда повзрослеешь?
— Не нуди, — поморщился я. — Ведь обошлось же. Во всяком случае, пока.
— Знаешь что, друг мой ситцевый… — начал было Ашгарр.
Но я его осадил:
— Во-первых, не ситцевый, а золотой. А во-вторых, давай не будем разборку устраивать. А? Хотя бы сейчас. Приеду домой, тогда всё и обсудим.
Как все натуры творческие, Ашгарр вспыльчив, но отходчив. Подышал какое-то время обиженно в трубку, но постепенно снизил градус возмущения до нуля и вскоре спросил уже совершенно спокойным тоном:
— И что там? Как? В очень опасную передрягу влез?
— Пока сам не понял, — признался я. — Не разобрался ещё.
— А когда дома будешь?
— Скорее всего, не раньше двух. Тут в одно место ещё нужно метнуться. А потом ещё в одно подскочить.
— Береги себя, Хонгль, — попросил Ашгарр. — И дракона тоже.
Я пообещал:
— Постараюсь.
И прервал связь. Разумеется телефонную, а не ментальную, ментальную при всём желании невозможно прервать. Так уж мы, нагоны, устроены, что постоянно чувствуем друг друга даже на расстоянии. Когда в меньшей степени чувствуем, когда в большей, но постоянно. Не знаю, что это — физиология, метафизика или магия, но так природа захотела, а зачем — не наше дело. Впрочем, было бы странно, если бы воплощения разных «я» одного дракона не чувствовали связи друг с другом. Ведь любой из нас может сказать о других нагонах: «Они — это я, а я — это они», и не соврёт ни на йоту. Потому что в каждом из нас присутствует дракон, и каждый из нас в Ночь Полёта присутствует в драконе.
Звонок Ашгарра меня здорово растормошил. Подумал, чего сижу сиднем? Как бы там ни было, а дела надо делать, за меня их никто не сделает. И приказал себе: а ну-ка, руки в ноги, и первый пошёл.
По плану отработки рабочих версий собирался побывать на квартире покойной Э. Н. Фроловой, туда и намылился. Но перед выходом решил зарядить кастет Адлера, дабы не париться потом в машине. Решил и приступил незамедлительно.
К слову говоря, в соответствии с шестой статьёй закона «Об оружии» оборот кастетов в качестве гражданского оружия в стране запрещён. Но плевали дикие вампиры на законы людей. Я бы диких осудил, да только было бы это с моей стороны вопиющим лицемерием. Дело в том, что у дракона Вуанга-Ашгарра-Хонгля, тоже имеется парочка подобных игрушек. Лично у меня, нагона Хонгля, кастет заводского производства, мне его лет тридцать назад преподнёс ко дню рождения Серёга Белов. Вещица, между прочим, знатная. Увесистая такая фиговина классического типа: литая бронза, кольца для пальцев полукругом, боевая часть усилена шипами. Не знаю как другим, а мне очень нравится.
У Ашгарра кастета нет. Поэт вообще не любит никакого оружия. У воина, у Вуанга, конечно, есть и, как у меня, с шипами. Только он у него самопальный. Аккурат перед московской олимпиадой один расконвоированный зек смастерил за блок болгарских сигарет «Родопи». Сделал, как умел. Коряво, но душевно. Расточил четыре гайки подходящего размера, приварил их к железнодорожному костылю, со стороны печатки насверлил дырок с резьбой и вкрутил в них шипы от беговых шиповок. Простая, но очень надёжная и грозная вещь получилась. В сече без берегов самое оно, один вид страху нагоняет. Мой кастет по внешнему виду, конечно, не такой жуткий, как кастет Вуанга, это да, зато в него можно ещё и Силы-силушки немного закачать. Нанёс я в своё время на бронзу три неслабые цитаты из Великого Гримуара и провёл надлежащий ритуал. Такие вот дела. И такие вот делишки.
Выложив кастет Адлера на стол, я ещё раз попытался прочитать вырезанные на нём руны, но, как и давеча в кабаке у Жонглёра, разобрал только одну, даже лупа не помогла. Плюнул я на это дело, насадил оружие на руку, сказал объявленное слово «Набир», закрыл глаза, сконцентрировался-сфокусировался и стал накачивать железяку Силой.
Получилось передать (замер происходил, как и обычно, — на уровне чутья) что-то около восемьсот кроулей. Артефакт был готов принять ещё, да я дать не мог. Сказать, что я удивился этому обстоятельству, значит, ничего не сказать. Сначала даже не поверил. Подумал, может, что не так с кастетом. И поскольку проверить наличие Силы можно лишь действием, попытался вырастить на фикусе пластмассовый финик. Обломился. Не получилось ничего с фиником, не было у меня Силы даже на такой пустяк.
Осознав, какую подлянку мне устроила судьба (осознание пришло не сразу, а лишь спустя несколько мгновений, когда ум сдался напору фактов), я не выдержал, схватил пепельницу и — да идёт оно всё прахом! — со всей дури запустил в окно.
Разумеется, срываться подобным образом не к лицу солидному дракону. И сейчас мне стыдно, очень и очень стыдно. Только единственное и могу сказать в своё оправдание: жизнь в облике человека здорово изнашивает нервы. Факт.
Что касается бронзового пеликана, то он до окна не долетел. Молодчага. Ожил на полпути. Сбивая патину с крыльев, взмахнул несколько раз мощно, сделал три круга по комнате и от греха подальше устроился на вешалке.
Если хорошенько разобраться, если проанализировать досконально, взорвался я не столько оттого, что лишился текущей базовой Силы (хотя и это имело место быть), сколько оттого, что не понимал, куда она подевалась. С утра, по самым грубым прикидкам, было что-то около двадцати шести тысяч кроулей. За день потратил не больше сотни. Как ни считай. Ну, морок навёл на Холобыстина, ну, платок окровавленный сжёг, ну, Мурашей призвал Сюда Оттуда, ну, может быть, что-то ещё бессознательно по мелочам учудил. Копейки. А где остальное? Раз сам не растратил, получалось, что стыбзили. Но как? Кто? Когда? Вот вопрос.
Непосредственную магическую Силу (которая, по утверждению Великого Неизвестного, есть ничто иное, как форма существования Запредельного в Пределах) всякий посвящённый получает путём исполнения персонального и исключительного таинства. Я, золотой дракон Вуанг-Ашгарр-Хонгль, получаю Её путём обнуления в Ночь Полёта пресловутого Списка конченых грешников. На круг перепадает мне всякий раз около двухсот десяти тысяч кроулей. На первый взгляд, много, но это только на первый и сторонний взгляд. На самом деле не всё так просто. И расклады тут такие. Половина из полученной в Ночь Полёта Силы остаётся в сердце дракона. После ритуала трансформации мы, три драконьих нагона, прячем его в надёжном тайнике и достаём только для того, чтобы вернуть себе подлинный крылатый облик. Из оставшихся ста с небольшим тысяч половину, согласно древнему уложению, получаю я, маг Хонгль. Другую половину делят поровну два других нагона — поэт Ашгарр и воин Вуанг. Они ведь тоже маги. Правда, чуть-чуть. Так же как и я немного воин и капельку поэт. Из своей доли положенную часть я отправляю в Десятинный Котёл (своеобразная страховка на все случаи жизни), какую-то часть трачу на зарядку личных артефактов и на усиление магического прикрытия офиса (это обязательно, поскольку там хранятся ценные книги, гримуар и много ещё того, что требует персональной защиты). А ещё, разумеется, раздаю долги, если таковые имеются. Как правило (жизнь есть жизнь), имеются. Остаётся где-то тридцать-тридцать пять тысяч. Обычно этого хватает на год, до следующей Ночи Полёта. Впритык, но хватает. На этот раз хватило только на месяц.
Скверно всё это было. Очень скверно. Но делать нечего. Пройдясь с матушкой по всем аспектам коварного бытия, я потихоньку полегоньку успокоился и постарался держаться семнадцатого правила дракона: «Никогда ни о чём не жалей». Хорошее, между прочим, правило. Толковое. Мудрое. Главное понимать его верно, не наглеть, не зарываться и не переиначивать в такое вот: «Всегда и на всё клади с прибором». А что касается пропавшей Силы, так решил: какие наши годы, добудем в бою или заработаем. И пусть это будет самой большой потерей из всех возможных. Аминь.
Короче говоря, взял я себя в руки и, восславив Великого Неизвестного, стал строить будущее из обломков прошлого. И первым делом занялся «Сибирскими зорями». Нутром чуя, что неприятность моя каким-то образом связана с этим дурацким журналом, я не поленился, нашёл чёрный целлофановый пакет, тщательно упаковал в него вещдок и нанёс сверху белым маркером отвращающий знак — личный вензель в центре круга, вписанного в равнобедренный треугольник. Закончив с этим, приступил к следующему — к инвентаризации артефактов. Надо же было понять, на что могу рассчитывать в данную минуту. Тут речь вот о чём. Когда непосредственная Сила у мага кончается, он может выбрать Её из личных заряженных артефактов, которые я по ясной аналогии называю «консервами». Можно при случае воспользоваться и чужими, но для этого требуется знать их управляющее слово или заклинание. Помимо «консервов» есть ещё Десятинный Котёл. Всякий маг сбрасывает в него десятую часть обретённый через таинство непосредственной Силы, и может черпнуть из него в минуту смертельной опасности. Сколько нужно, столько и может взять, но лишь один раз в году. Ещё маг может получить Силу от другого мага в подарок или взять в долг. А дракон в случае крайней необходимости способен перераспределить Силу между нагонами. Но, прежде всего, конечно, вход идут личные артефакты.
У меня на тот час имелись девять заряженных колец, три боевых браслета, зажигалка, кастет и монгольский кинжал с ручкой из «лууны яс» — священной кости Небесного дракона (так в религиозных монгольских сказаниях называют кости динозавров). Весь этот высыпанный на стол брикабрак тянул на пять тысяч с хвостиком. Плюс дома я прятал волшебную дембельскую заколку для галстука в виде истребителя МИГ-31, пивашку-открывашку и штопор-самокрут. Это ещё где-то семьсот. На круг выходило около шести тысяч. Не густо, конечно. Но и не ноль. А если не ноль, то это значит, «всё не так уж плохо на сегодняшний день».
Завершив учёт-подсчёт, я рассовал часть артефактов по нычкам, часть — по карманам, выбрался из-за стола, изобразил два притопа, три прихлопа и проорал фальшиво, но громко:
Пеликан сообразил, что напряг рассосался и опасность миновала, сорвался с металлического прута и перелетел на стол, где благополучно застыл до следующего раза.
Между тем, в голове моей царил полный хаос: Холобыстин со своими самоубийцами, странные слова чёрной провидицы, журнал с мутным стишком, провал в Запредельное, удивительная кошка Красопета — всё перемешалась. Навести порядок в сознании можно было только наведением порядка в реальности (причём во всех её составляющих — и в обыденной, и в магической), чем я, собственно, и собирался плотно и немедленно заняться. Причём заняться — теперь, когда обошлись со мной столь грубо, — с особым пристрастием.
Перекинув Силу с трёх колец-оберегов в кастет вампира и, тем самым, зарядив его до упора, я накинул плащ, сунул под мышку пакет с журналом, наказал пеликану присматривать за хозяйством и отправился творить великие дела.
Погодка на дворе стояла отвратительная. Совсем с цепи сорвалась погодка. Пошла в разнос. Перепрыгивая лужи, скакал я к стоянке через раскисшую детскую площадку и думал на бегу: а ведь некоторым именно такую слякоть только и подавай. Бывают-бывают извращенцы. Помнится, один студентик из тех, которые себе на уме, любил бродить холодными и сырыми осенними вечерами по улицам северного города и слушать шарманку. Обязательно и всенепременно вечерами холодными и сырыми. Чтобы у всех-все-всех прохожих были бледно-зелёные и больные лица. А ещё лучше чтобы снег мокрый падал, и сквозь него сверкали газовые фонари. Совсем, надо признать, тот студентик на голову трудным был. И кончил, кстати говоря, плохо: уходил топориком двух старушек как право имеющий, и сгнил на каторге как тварь дрожащая. А вот любил бы такими сопливыми вечерами греться у печки с книжкой тогдашнего Акунина — Шкляревского, глядишь, жизнь бы по-другому сложилась. Ей-ей. От душевной маяты в скверную погоду никто ничего не придумал лучше этого вот набора: огонь в печи, плетёное кресло, побитый молью плед, кружка глинтвейна и кошка в ногах. Только чтоб кошка была настоящей, чтоб муркой она была облезлой, а не той волшебной пронырой, вроде Красопеты, которая горазда прыгать в Запредельное. И которая, между прочим, чёрт знает куда подевалась.
Болид завёлся с полтычка, и я, очень надеясь на то, что высохну по дороге, сразу врубил обогрев салона на полную катушку. Надеялся между прочим небезосновательно. Заведующая отделом поэзии «Сибирских зорь» Э. Н. Фролова жила и навсегда опочила в доме номер тридцать шесть по улице Трилиссера, а туда от центра даже при хороших раскладах не меньше двадцати минут езды.
Со стоянки я вырулил дворами на улицу Ленина, с неё — на Дзержинского, возле — чур меня, чур — кожно-венерологического диспансера повернул на Декабрьских Событий и там уже погнал до упора, собирая все — и кто их только придумал? — красные светофоры.
Проезжая пересечение Декабрьских Событий с Первой Советской, бросил взгляд на Танк и, как всегда, подумал о машине времени. Это уже чисто рефлекторно. Дело в том, что однажды (было это несколько лет назад, на следующий день после просмотра фильма «Машина времени») катил я мимо этой водружённый на постамент «тридцать четвёрки» и вдруг подумал, что именно вот так вот, вечно неподвижным, будет выглядеть для внешнего наблюдателя аппарат, прущий на всех парах по стреле времени в будущее. В известном фильме Саймона Уэллса перемещение машины времени показано глазами находящегося внутри профессора Хартдегена, и мир там вокруг него меняется с бешенной скоростью. Потрясающий спецэффект. Только почему-то не показано, что видит в это время тот, кто находится за бортом аппарата. Лично я полагаю, видит он какую-то неподвижную штуковину, которая стояла на этом самом месте до его рождения, и будет стоять на этом самом месте после его смерти. Хотя, быть может, я ошибаюсь. Буду ещё думать. Всякий раз буду думать, проезжая мимо Танка. Мимо легендарной этой машины, возле гусениц которой когда-то взял у фарцовщика за сумасшедшие деньги свои первые пятьсот первые джинсы.
Квартира безвременно покинувшей нас госпожи Фроловой, эта стандартная двухкомнатная «распашонка» на четвёртом этаже некрасивой панельной пятиэтажки, оказалась опечатана. Какое-то ответственное лицо прилепило к стальной двери бумажные полоски с важными оттисками и кудрявыми подписями. Меня это обстоятельство не смутило. Меня вообще в этой жизни уже мало что смущает. Вытащив из потайного кармана Ключ От Всех Дверей, любезно изготовленный для меня полсотни лет назад колдуном Лао Шанем, я приготовился к тому, что на языке уголовного кодекса называется незаконным проникновением. Но едва отодрал бумажки и вплотную занялся первым замком, услышал, как хлопнула дверь в подъезд. Во, подумал, непруха. Чертыхнулся, выдернул ключ, поплевал на бумажки и присобачил на место. Отошёл от двери на шаг и прикинулся лопушком.
Поднималась роскошная дама под пятьдесят в красных резиновых сапогах и кислотно-жёлтом дождевике поверх коверкотового пальто цвета бильярдного стола. Грузно ступая, она тащила клетчатую сумку, из которой торчали морды двух карликовых пинчеров. Скучное выражение лица дамы можно было описать фразой «Отвалите ради бога, жду трамвая». А вот мокрые крысиные морды пинчеров излучали любопытство.
Увидев меня, дамы — о, мужчинка! — заметно оживилась.
— Здрасьте, — сказала она, и сходу спросила: — Вы случайно не Володя?
— Нет, не Володя, — ответил я, отошёл к стене, чтобы не загораживать проход, и вернул приветствие: — Добрый вечер.
— Точно не Володя? — уточнила дама.
Хармс в гробу перевернулся, подумал я. Прикусил губы, чтоб не улыбнуться, и кивнул:
— Точно.
— А кто вы?
— Я… Хм, как бы вам…
Всегда теряюсь, когда мне задают этот вопрос, вот и теперь. Айсберг или человек? Ха-ха. Не задавай вопросов и не услышишь лжи. Кажется, Моэм.
Не дождавшись быстрого ответа, дама сделалась подозрительной.
— А что вам тут нужно? — спросила она и глянула на меня строго так строго. — А?
— Что мне нужно? — Я пожал плечами. — Да, собственно… Собственно, я вот к Эльвире Николаевне.
— К Эльвире? — удивилась дама.
— Ну, да, — кивнул я и пояснил: — Назначила мне на сегодня, прихожу, а здесь… вот.
И я с потерянным видом показал на бумажки с печатями.
— А вы что писатель? — спросила дама.
— Вообще-то поэт.
— Детский? — зачем-то уточнила она.
— Взрослый, — брякнул я, потом поправился: — Для взрослых стихи пишу.
Дама понимающе качнула ухоженным, похожим на сдобную булочку, подбородком и оглядела меня с ног до головы — вот такие вы, значит, поэты-писатели. А я быстренько утопил всплывшую в сознании глумливую сентенцию «Для взрослых писать нужно так же, как и для детей, только хуже» и вновь показал на опечатанную дверь:
— Не подскажете, что случилось?
— Вы что же, ничего не знаете? — спросила дама.
— Нет, — соврал я, энергично мотнул головой туда-сюда, мол, совсем-совсем ничего не знаю, и ещё раз соврал: — В отъезде был.
— Померла на той неделе наша Эльвира Николаевна. — Дама опустила сумку на бетон и перекрестилась. — Господи, на всё твоя воля.
Пока она осеняла себя душеспасительным крестом, псы изловчились, выскочи из сумки, как те черви из яблока, и с дурным лаем кинулись ко мне.
— Как так померла? — включив все свои актёрские таланты, прижал я руку к груди и отпрянул, будто увидел что-то страшное.
— Снотворным отравилась, — ответила дама и прикрикнула на псов: — Лёлик! Болик! А ну-ка фу!
Псы хозяйку не послушались и атак на мои ботинки не прекратили.
— Кошкой пахну, — объяснил я их прыть. Помолчал, делая вид, что напряжённо о чём-то думаю, после чего спросил: — Так я не понял, она специально, что ли, отравилась? Руки на себя наложила?
Дама с выразительным видом поиграла ощипанными до ниток бровями:
— Кто его там знает. Может, да. Может, нет. Одинокая она была, ни мужа, ни детей. И записки никакой не оставила. Что там как произошло, одному Богу известно.
И вновь перекрестилась.
— Ужас, какой ужас, — покачал я головой. — А кто её обнаружил, если у неё никакого?
— Так я и обнаружила. Второй час ночи шёл, когда её Лёлик зашёлся. Вот он, Лёлик. — Дама показала на одного из псов, а потом и на другого: — А это вот мой Болик. Они из одного помёта. Родные братики.
Хоть убей не пойму, как она их различала. Одинаковыми были эти чудовища, как две капли воды.
— Так вот Лёлик в ту ночь и зашёлся, — продолжила дама, — То ли не выгулянный был, то ли почуял чего, а только так завыл, хоть святых выноси. Я терпела, терпела и не вытерпела, позвонила. Чисто по-соседски. Трубку-то она ещё сумела снять. Я ей: «Что там такое у тебя, Эльвира, приключилась. Лёлик воет, аж сердце лопается». А она мне и отвечает: «Заболела». Сказала и трубку выронила. Вот так вот — не положила, а выронила. И вой Лёлика я уже и так слышать стала, и этак — по телефону. Тут и поняла, чай, не дура, что дело неладно. Своего растолкала, пойдём, говорю Жора, с Эльвирой худо. Поворчал, но поднялся. Пошли. Стучали-стучали — впустую. Тогда Жора с балкона Ишмутдиновых на её балкон перебрался. Отворил, я вхожу, а там… Отходила она уже. Руки холодные, пульс — еле-еле. Скорая приехала, повезли, да не довезли. Померла по дороге.
— Кошмар какой, — банальным образом прокомментировал я её грустный рассказ.
— Кошмар, — согласилась она. Вздохнула с глубокой, неподдельной печалью и сказала: — А Лёлика я к себе забрала. Куда ж его теперь. Сейчас вот племянника её жду из Владивостока. Никогда не видела, знаю только, что Володей зовут и что моряк. Когда всё случилось, он в рейсе был, на похороны приехать не смог, обещал на девять дней. — После этих слов она замолчала и некоторое время о чём-то размышляла, а затем сказала, продолжая вслух внутренний монолог: — Приедет. Куда денется соколик, приедет. Единственный наследник, как ни крути. Так что обязательно приедет. Квартиру не бросит.
Я слушал, кивал и сочувственно поддакивал, и только тогда, когда дама, исчерпав тему, стала гнать братьев-пинчеров домой, спросил:
— Извините ради бога, но вот когда вы той ночью ей позвонили, она один раз сказала, что заболела? Или несколько? Знаете, так: «Заболела, заболела, заболела». Не помните часом?
— Ну, да, — кивнула дама без малейшего сомненья. — Именно так, три раза она и сказала, а потом трубку…
Тут что-то такое в голове у моей собеседницы щёлкнуло, и в её глазах появился испуг, который уже в следующий миг сменился стальной решимостью. Преградив мне путь, она заорала:
— Жо-о-о-ра-а-а!
— Ба, — процитировал я Азазелло и указал рукой на лампочку, плафоном для которой служила обыкновенная литровая банка.
Дама задрала голову, отвлеклась, и я моментально воспользовался её оплошностью. Проскользнул вдоль стены аки гад ползучий и, перепрыгивая через ступени, поскакал вниз. Псы было погнались за мной, но быстро отстали. Не той породой наделила их природа, чтобы гоняться за удирающими нагонами. Были бы какими-нибудь натасканными бультерьерами, вот тогда бы действительно пришлось мне туго.
Благодаря этой случайной встрече, необходимость осмотра квартиры покойной Фроловой отпала сама собой. И я, признаться, об этом нисколько не жалел. Чем бы мог в квартире разжиться? В лучшем случае, какими-нибудь рукописями, записями, быть может, дневником. И даже найди я какие-нибудь бумаги, не факт, что они помогли бы мне в расследовании. Из беседы же с общительной и весьма проницательной дамой с собачками выяснил я очень важную, если не сказать архиважную, деталь: уходя из этого мира, шептала завидущая отделом поэзии журнала «Сибирские зори» те же самые слова, что произнёс перед смертью верстальщик Костя Звягелский, и выкрикнула, прежде чем кинуться под колёса грузовика, ответственный секретарь Марина Мордкович. Это были те самые слова, которые, как я предполагал, отправили меня в Запредельное. Слова, похожие не на шорох за дверью (врал автор), а на перестук вагонных колёс: за-па-тера, за-па-тера, за-па-тера.
Теперь я окончательно убедился в своих осторожных предположениях. Ну почти окончательно. Мало того, когда выбегал из подъезда, вспомнил вдруг, что, перебирая давеча колдовские способы энвольтирования на смерть, совсем упустил из виду тот, который широко известен в узких кругах под названием «Послание Ланьлинского насмешника».
Как известно, «Ланьлинским насмешником» именуют анонимного автора знаменитого романа «Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй». Легенда гласит, что роман этот написал некий юноша, желающий рассчитаться с богатым сановником за убийство отца. Зная о пристрастии злодея к чтению, юноша пообещал прислать ему рукопись нового романа и, поскольку никакого романа на самом деле не существовало, спешно сел за его сочинение. Подгоняемой жаждой мести, писал он споро, а когда поставил последнюю точку, пропитал все страницы рукописи ядом, так как имел достоверные сведения, что сановная сволочь привыкла слюнявить при чтении пальцы. Вечером того же дня рукопись была доставлена по назначению. Роман оказался настолько увлекателен, что вельможа не мог оторваться от него до самого утра. Читал, листал и с каждой новой страницей получал очередную порцию яда. А как только прочёл последнюю страницу, в тоже мгновение задрожал всем телом, позеленел лицом и умер. Автор романа, хотя и был крайне молод, но знал толк в ядах, и рассчитал всё очень грамотно: последнее слово совпало с последним вздохом. Так гласит легенда.
В память о той давней истории и назван хитрый способ магического душегубства. Правда, ядом чёрные маги книжки не мазюкают (низкий сорт, грубая работа), а вот скрытые проклятия в письма, поздравительные открытки, телеграммы, эсэмэски и прочие образцы эпистолярного жанра порой вкладывают. В некоторых магических школах есть даже такая специальная дисциплина, предметом которой является сокрытие и распознание убийственной магической информации в заурядных бытовых и разного рода литературных текстах. Называется эта дисциплина парастеганографией.
Вообще-то в том, что я упустил из виду такой способ магического убийства, ничего удивительного не было. Я, конечно, не великий специалист в области колдовского умерщвления, но точно знаю, что «Послание Ланьлинского насмешника» против обычных людей, вообще-то, не используют. Применяется сей экзотический способ исключительно против магов высокого ранга. Дело в том, что засланные слова проклятия, являясь вербализированной волей колдуна-киллера, лишь запускают механизм саморазрушения, но для действия этого механизма обязательно нужно, чтобы сама жертва обладала Силой. Причём, огромной Силой. Такой Силой, которая была бы способна подавить силу естественную, витальную. Я, к примеру, такой непосредственной магической Силой никогда не обладал, моя витальная сила всегда была больше. Даже на пике магической волны пропорция никогда не превышала двух к одному. Поэтому на тот момент я не совсем понимал, как это так хитро получилось, что едва не сгинул в Запредельном, воткнув в сознание пагубное заклятие. Даже про себя не понимал. А уж что говорить про обычных людей, у которых Её кот наплакал. Любой посвящённый знает, что соотношение магической Силы и витальной у обычных людей в среднем один к двадцати пяти.
Но с другой стороны я прекрасно осознавал, что если тёмные маги уже придумали некий изощрённый алгоритм, позволяющий сделать так, чтобы обычный человек сам себя ненароком проклял, то это, разумеется, лом, против которого нет приёма. Это не менее круто, чем споры сибирской язвы в почтовом конверте и полоний в чашке с чаем. Маг высокого уровня из такой беды ещё может выкрутиться (если, конечно, Силу в себе для сопротивления найдёт), а простому человеку — хана. Даже мне бы хана пришла, когда бы не странная кошка Красопета. Ведь вся моя Сила, как теперь мне стало понятно, не украдена была, а на исполнение проклятия ушла. Ни капли в наличии не осталось. Даже осознай я в последний миг, что же именно со мной происходит, ничем бы себе помочь не смог бы. Это только в красивой детской сказке барон Мюнхгаузен сам себя из болота за волосы вытащил, в жизни таких чудес не бывает. В жизни вообще нет чудес. Лишь голая физика. И ещё голая магия, разумеется.
Вот до чего я додумался к той минуте, как раскачегарил болид. И всё это очень походило если и не на окончательную истину, то на истинную правду точно. Но поскольку механизм проклятия через стишок был мне пока не совсем ясен, применение «Послания Ланьлинского насмешника» решил до поры до времени считать всё-таки версией. Быть может, и наиболее предпочтительной, но всё же версией. Одной из.
Уже вырулив с Трилиссера на Декабрьских Событий, я набрал номер госпожи Верхозиной.
— Да, — взял трубку какой-то мужчина.
В трубке слышалась музыка (если ничего не путаю, увертюра к опере «Шёлковая лестница» Джоаккино Россини), и сквозь неё — заливистый смех двух женщин.
— Я могу поговорить с Инессой Романовной? — спросил я.
— Секунду, — ответил мужчина.
За секунду пятьдесят китайцев рождается, хотел было ляпнуть я. Но сдержался и промолчал. Культур-мультур, блин.
Прошло гораздо больше обещанного, прежде чем госпожа Верхозина ответила:
— Слушаю.
— Добрый вечер, Инесса Романовна, — сказал я. — Это Егор Тугарин говорит.
— Егор… Какой… А-а, ну да. Слушаю вас, Егор Тугарин.
Кажется, она была пьяна. Слегка. Чуть-чуть. Самую малость. Ничего не имею против. Абсолютно. В конце концов, all ladies do it, чем эта хуже.
— Инесса Романовна, — спросил я, — скажите, вы читали подборку стихов «Вздохи северной страны» из последнего номера вашего журнала?
— Ух, ты!
— Что?
— Ничего, просто странный какой-то вопрос на ночь глядя.
— Нормальный вопрос.
— Нет, не читала. И что характерно — не хочу.
— Вот и не читайте, — попросил я.
— Вот и не буду, — задорно хохотнув, пообещала она. — А в чём, собственно…
Я её перебил:
— Вы такого Бабенко, Всеволода Бабенко, знаете?
— Шапочно.
— А как бы мне…
Теперь она меня перебила:
— К Холобыстину, Егор Тугарин. К Холобыстину.
Послала меня вот так вот сходу и тут же замолчала. Не бросила трубку, не отключилась, а просто замолчала. По сдавленным звукам и осторожным шорохам я понял, что её целуют. Или она кого-то целует.
Позавидовав удачливому незнакомцу, а возможно — богема как никак — и незнакомке, я сложил трубку. Похмыкал на все лады, покачал головой и, поскольку устами пьяной женщины, как это доподлинно известно трезвым мужчинам, глаголет истина, воспользовался советом: позвонил главному редактору «Сибирских зорь». Он не ответил. Тогда я набрал его домашний, но и тут меня ждала неудача. Решил перезвонить попозже. Но был крайне недоволен. Где это, скажите, видано, чтобы сено бегало за коровой.
Между тем времени было уже начало одиннадцатого, до встречи с Адлером оставалось чуть меньше двух часов, и я решил потратить их с толком. Заехал на станцию технического обслуживания, заказал помывку и — раз уж такая пьянка пошла — замену масла. Пока болид прихорашивался, я томился в тамошнем кафе. Местечко оказалось уютным. Нормальным таким. И кофе мне сварили неплохой или, как бы сказал Владимир Владимирович Набоков, — неплохое. Единственное, что напрягало, так это концерт, который транслировали через проектор на большой экран. Выступали кривляки из «Кривого зеркала». Брр. Лучше бы фильм какой-нибудь крутили, а то и смотреть невмоготу, и думы свои думать не представлялось никакой возможности, ибо — шумное веселье, которое я, между прочим, полагаю первым признаком отсутствия чувства юмора. В общем, было в этом плане немного не по кайфу. Но зато понял наконец, из-за чего разведывательные космические корабли разумных цветоводов с планеты Б-612 облетают нашу Землю стороной. Всё раньше удивлялся, почему Контакт откладывается, а тут вдруг — ах, вот оно почему! — дошло.
На место встречи подъехал тютелька в тютельку.
Съезд к лодочной станции совсем размыло, рисковать не стал и, оставив болид на обочине, пошёл вниз, к входным металлическим воротам, пешкодралом.
Погода по-прежнему не радовала. Ветер, срываясь на порывы, бухал о рекламные щиты, водоотводы не справлялись с потоками, дождь перешёл в фазу затянувшегося любовного романа — уже не бушует, но и не прекращается. А тут ещё и от реки потянуло холодом. Дрянь, одним словом, а не погода.
Осторожно ступая в чавкающую глину, которая так и пыталась сорвать с меня боты, я проклинал всё на свете. И погоду проклинал. И деловых вампиров. И себя любимого. И, разумеется, — это завсегда — поганое устройство человечьего мира.
У административного домика никого не обнаружил, ни сторожа, ни гостей. Там вообще всё было заперто, на двери висел огромный амбарный замок. Я не поленился, заглянул в окошко — темнота кромешная. Чертыхнулся, врезал ногой по двери со всей дури, вернулся с дощатого крыльца на тропу и пошёл вдоль ряда разномастных металлических контейнеров к причалу. Подумал, может, там меня вампиры ждут.
Свет от придорожных фонарей до берега не добивал, и наличие пришвартованных к дебаркадерам лодок и катеров угадывалось лишь по звону цепей. Собственно, я и шёл на этот звон.
Не дошёл.
Не по своей вине не дошёл — свалили ударом по голове. Я в этот момент как раз достал зажигалку, чтобы обозначить себя в темноте, а они подкрались сзади тихо-тихо (вот в чём вампиры великие мастера, так именно в этом) и врезали доской. Ни здравствуйте тебе, ни до свидания, сразу — бабах. Обидно, блин. С другой стороны, действительно, — к чему в такой ситуации слова? Как справедливо заметила однажды Айседора Дункан, слова не нужны, когда можно просто станцевать.
Словом: тупой удар по затылку, острая боль под правой ключицей и всё — я полетел в грязь.
Ещё успел услышать, как Адлер приказал лысому корешу:
— Волына у него. Возьми, добей.
И как Гурон ответил:
— Щас.
А что было дальше, не помню, благополучно отчалил в небытиё.
Глава 8
И главное ведь ничего нового не будет, подумал я, когда вновь сумел открыть глаза. А будет всё как у Александра Блока. Умрёшь — начнёшь опять сначала. И повторится всё, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Подумал так и простонал:
— Про аптеку — актуально. Очень. — После чего осторожно повернулся на бок и приказал себе: — Вставай, недобиток. Толку дохлым притворяться, когда вампиров за борт смыло.
Обидчиков моих и вправду ни слышно, ни видно не было.
Когда поднялся (далось с трудом, но далось), первым делом отодрал от спины доску. Не так-то просто это было сделать. Из горбыля, которым меня столь коварно огрели, торчал гвоздь, и ржавая эта «сотка» вошла в моё мясо минимум сантиметров на пять. Однако справился. Изловчился, вывернул руки не хуже какой-нибудь цирковой женщины-змеи и выбил из себя дурацкую деревяшку. Постоял немного, постанывая от боли и витиевато матерясь, после чего сунул руку под мышку. Кольт оказался на месте, в аккуратно застёгнутой на пуговку кобуре. Не сумел Гурон его вытащить.
Точнее — не успел.
Это я понял, когда обнаружил тело вампира в двух шагах слева от себя, а его бритую тыковку в двух шагах справа.
— Пальцы веером, очко пропеллером, — обронил я ошарашено и чисто на автомате выхватил пушку. Замер. Прислушался. Но — ничего. И никого. Только шум дождя, плеск воды, звон цепей.
Продолжая держать оружие на изготовке, я стал подниматься по тропе к дороге, и через десяток шагов, обогнув голый безобразный куст, наткнулся на второе тело. Вернее сначала на голову, а потом уже на тело. Разглядывать не стал, и без того было ясно, что эти мрачного вида комплектующие когда-то составляли единое целое по имени Адлер. Всё походило на то, что гадёныш спешно пытался покинуть место преступления, да ничего у него с этим делом не вышло. Догнал его таинственный зорро. Догал и почикал. В два счёта почикал. Причём, так ловко почикал, что вампир, будучи уже дохлым, успел сделать по инерции два-три шага, и только после этого рухнул. Это судя по тому, где лежала его голова и где всё остальное. А вообще-то он теперь походил на вратаря, пропустившего одиннадцатиметровый и рухнувшего на землю в отчаянном прыжке. На бесбашенного такого вратаря.
— Возмездие должно вершиться своевременно, — произнёс я назидательно и убрал пистолет в кобуру.
Нет, я не злорадствовал. Вот ещё. Просто радовался. За себя радовался. А помимо того чисто не по-человечески был благодарен тому, кто проучил мерзавцев. И мне даже повезло увидеть его, своего спасителя. Другое дело, что спасибо сказать ему не сумел. Так уж вышло. А вышло так. Выползаю, расставляя лапти «елочкой», на обочину, смотрю и вижу: неподалёку от моего болида в круге жалкого фонарного света тарахтит кровавого (сразу уточню — не чёрного драконьего, а человечьего красного) цвета «ямаха». В седле в позе форейтора сидит человек во всём чёрном. Боты на нём чёрные, штаны-куртка чёрные, шлем и тот чёрный — всё чёрное. И всё стильное. Любо дорого поглядеть. Красавчик с рекламного постера. Не то что некоторые. Под некоторыми я в первую очередь себя имею в виду. Одетого в будничное шмотьё, с ног до головы перемазанного глиной, да ещё и вампирами отчебуреченного.
Разглядеть лицо незнакомца я не смог, расстояние не позволило, но каким-то шестьсот шестьдесят седьмым чувством понял, что именно этот таинственный мотоциклист вытащил меня из передряги. Само собой, приветственно махнул ему рукой. Дескать, привет, мужик. Жди, уже иду выразить признательность и всё такое. Но, как оказалось, встреча со мной в планы человека в чёрном не входила. Убедившись, что я жив-здоров, он опустил на лицо зеркальное забрало и выжал газ. «Ямаха» взревела диким зверем, встала на заднее колёсо, и в следующую секунду сорвалась с места. И всё. Только грязные брызги из-под колёс в разные стороны.
Истребитель вампиров? — озадаченно подумал я, провожая незнакомца взглядом. — Или нет? А если нет, то тогда кто?
Думал я над этим до тех пор, пока красно-чёрное пятно окончательно не растворилось в промокшей темноте. И даже после этого ещё какое-то время думал. До тех пор думал, пока в кармане перепачканного плаща не зазвучал твист, под который в «Криминальном чтиве» так ярко зажигали Ума с Джоном. Этот рингтон в шутку, смысл которой я давно уже позабыл, закреплён у меня за мобильником Ашгарра. Тщательно потерев руку о джинсы, потом ещё и о свитер, я вытащил трубу и приложил к уху:
— Говори.
— Тут два трупа, — взволнованным голосом сказал поэт.
Я его поправил:
— Не тут, а здесь.
— Где здесь? — не понял он.
Несколько запутавшись, я по-собачьи встряхнул головой:
— Ты, вообще-то, про что сейчас говоришь?
Ашгарр прокашлялся и хрипловатым шёпотом поведал:
— Пять минут назад звонок в дверь. Подхожу, гляжу в глазок, там двое. Спрашиваю, кто, какого. Привет, говорят, дракон, мы правильные перцы, мы бабло Егору за Зёрна подкатили. Должок хотим задуть, проценты отслюнявить и всё такое. Ну ладно, думаю, должок так должок. Пошёл халат накинул, возвращаюсь, открываю, а там… Короче эти двое уже не стоят ни фига, а лежат в затейливых позах. И у них, знаешь, это…
Ашгарр замялся.
— Ну выкладывай давай, не томи, — поторопил я. — Чего там у них?
— Головы у них отрезаны, — выдохнул поэт.
Час от часу не легче, подумал я. Быстро прикинул хвост к носу и распорядился:
— Шухер не поднимай, срочно затащи тела в квартиру.
— Уже.
— Молодец. Видел кто?
— Вроде нет. Тихо в подъезде, спит народ.
— Черепушки подобрал?
— Само собой.
— Вот и хорошо, вот и отлично. Дальше так: никому не открывай, жди меня, буду через полчаса. И это ещё…
— Что?
— Не нервничай.
— А я и не нервничаю.
— Вот и умница.
Сложив трубу, я прыгнул за руль и сразу вжал педаль газа в асфальт. Час был поздний, светофоры мигали жёлтым, и я катил без остановок на предельно возможной скорости. Через двадцать восемь минут подъехал к дому и, оставив болид у подъезда, рванул к себе на третий.
Ашгарр уже открывал.
— Смотрю, крови нет, — сказал я, оглядев лестничную площадку. — Затёр?
— Её и не было, — ответил Ашгарр, пропуская меня в квартиру. А когда увидел, в каком виде я припёрся, ахнул: — Ёпсель-мопсель! Ты чего такой уделанный?
— Работа такая у нас, шахтёров, — коротко ответил я. Но затем, пока скидывал плащ и боты, всё-таки рассказал (за не имением времени, не вдаваясь в подробности) о том, что со мной произошло у моста через Ухашовку. После чего спросил: — Ну а где твои?
— В комнате Вуанга, — ответил Ашгарр и зачем-то показал рукой, будто я не знал, где это.
Поэт уложил тела посреди вечно пустующей комнаты воина с какой-то немыслимой аккуратностью — ножки вытянуты, ручки прижаты к бёдрам. И даже головы приставил.
— Ты уверен, что котелки не перепутал? — спросил я, разглядывая эту мрачную инсталляцию.
— Этот вот поплотнее, — показал Ашгарр на левого, — значит, и помордатее.
Я согласился:
— Логично.
Парням было лет по тридцать, плюс-минус год-два. Парни как парни — стильные стрижки, модные шмотки, не гопники по виду, но и не метросексуалы. Плотный (тот, что был в плаще) походил на менеджера среднего звена, второй (тот, что был в куртке) — на бандита средней руки. У того, что походил на менеджера, лицо было спокойное (не до безмятежности спокойное, а сосредоточено-спокойное), лицо же «бандита» перекосило от ужаса, и теперь само навевало ужас.
— Карманы обшманал? — спросил я.
Ашгарр покачал головой:
— Нет.
— Чего так?
— Ну… как сказать…
— Понятно. Побрезговал. Тогда учись, студент, пока я жив.
Документов у мертвяков при себе не оказалось, зато у одного нашлась заточка, а у второго — финский нож с красивой, до умопомрачения красивой, наборной ручкой. Это всё. Ни лопатников, ни банковских карт, ни мобильников, ни ключей. Знали ребята, куда и на что идут.
Я передал оружие Ашгарру:
— Кинь куда-нибудь.
Сам вновь склонился над трупами и засунул палец в пасть сначала одному, потом и другому.
Мои худшие предположения подтвердились.
— Что там? — заглядывая мне через плечо, поинтересовался Ашгарр.
— Вампиры, — доложил я и вытер руку о штанину «бандита». После чего расстегнул на нём куртку и разорвал рубаху на груди. Над левым его соском синела татуировка в виде коронованной жабы. Точно такую же лупоглазую царевну я нашёл и на загорелой груди «менеджера». Чертыхнувшись, я обернулся к Ашгарру: — Видишь?
— Вижу, — сказал он. — Только не совсем понимаю, что эти тату означают.
— А то и означают, что парни из стаи Дикого Урмана.
— Это плохо или очень плохо?
— Это никак. Но если Урман решит, что мы его парней уделали, то…
— Что?
— Вспотеем.
Ашгарр нахмурился и, сложив по своему обыкновению руки на груди (чисто Наполеон Бонапарт), спросил:
— Ну, и что мы, Хонгль, будем со всем этим делать?
Я не ответил, не до того мне было. Ухватив голову «бандита» за волосы, обследовал поверхность среза.
Не дождавшись ответа, Ашгарр присел рядом:
— Чего такого интересного узрел?
— Смотри, — показал я. — Видишь, как мясо спеклось и все сосуды опалены. Потому и крови не было.
— Огненный луч?
— Так точно.
— Полагаешь, инхип?
— Не-а, Молотобойцы не причём.
— Думаешь?
— Тут и думать нечего. Случись официальная ликвидация, Архипыч нас обязательно бы предупредил. А если тайная… На тайную они бы со штатными мечами не пошли. Факт. Не дети подставляться.
— Тогда кто, если не они? — нахмурил лоб Ашгарр. — Истребители?
— Вопрос, — заметил я. — Большой вопрос. Вдогон другому: какого беса дикие вампиры решили напасть на старого дракона?
— Версий нет?
— Честно?
— Честно.
— Сплошной туман и ни одного просвета.
Ашгарр вздохнул и вновь озаботился:
— Ну, так и всё же, Хонгль, что будем делать?
— Будем разбираться, — ответил я. — Но прежде избавимся от трупов.
— Сейчас?
— А когда? Когда вонять начнут? — Я глянул на часы. — Два двадцать. Времени вагон.
— До чего? — уточнил Ашгарр.
— До рассвета, — пояснил я и, уже покидая комнату, распорядился: — Я в душ, а ты пока найди какие-нибудь старые простыни, пододеяльники… Короче, сам сообрази. Сообразишь?
— Уж как-нибудь, — обиженно хмыкнул Ашгарр.
Прежде чем зайти в ванную, я поинтересовался:
— Слушай, а пожрать есть что-нибудь? Жрать хочу, как медведь бороться.
— Суп на плите, — ответил Ашгарр, выглянув из гостиной.
— Суп? Суп это хорошо. А какой?
— Грибной. Дядя Миша Колун целое ведро боровиков притащил, я и наварил.
— Из целого ведра?
— Зачем. Часть на зиму заморозил.
— Ну ты, блин, и хозяйственный.
— Это похвала или упрёк?
Я стянул с себя насквозь промокший свитер и уверил брата-нагона:
— Похвала, чувак, похвала.
— Тогда живи, — разрешил Ашгарр. Хотел ещё что-то сказать, но заметил свежую рану на моей спине и осёкся.
Пока он ковырялся в шкафах и антресолях, я успел постоять под душем, смазать рану бальзамом собственного изготовления (аль мы не маги-чародеи), натянуть свежие шмотки и приступить к супу, который был чудо как хорош.
Я уже заканчивал, когда Ашгарр появился на кухне.
— Всё, — доложил он.
— Упаковал? — спросил я.
— Упаковал. В простыни. А потом ещё и в целлофан.
— Целлофан-то откуда?
— Холодильник когда купили, помнишь, упаковку на балкон кинули, так и валялась до сих пор.
— Говорил же, пригодится. А ты — давай вынесем, давай вынесем.
Ничего Ашгарр мне на это не сказал. Некоторое время наблюдал за тем, как я энергично работаю ложкой, после чего спросил язвительно:
— Слушай, Хонгль, а тебя не выворачивает?
Я оторвался от тарелки.
— Ты это о чём?
— В квартире два трупа, а ты наяриваешь, как ни в чём не бывало.
— Вот ты про что, — ухмыльнулся я. — Не-а, не выворачивает. — Зачерпнул со дна гущи погуще и, прежде чем закинуть в рот, в свой черёд спросил: — Смотрю, потянуло на труды знатоков инфернального.
И кивнул в сторону лежащей на разделочном столе книги Томаса Манна.
— Потянуло, — признал Ашгарр.
— Чего это вдруг?
— Да так… Даже не знаю, почему. Как-то само собой получилось. Подумалось, что самоубийство вещь заразительная, и вот…
— Стоп машина.
— Что?
— Говоришь, подумалось? Тебе?
— А что?
— Да ничего, просто точно знаю, что эта мысль сегодня приходила мне.
— А разница?
Тут Ашгарр был прав, на самом деле так получается, что разница нет никакой. Абсолютно никакой. Такая вот загадка природы.
— Ладно, проехали, — примирительно сказал я. И отложив на край тарелки лавровый лист, поинтересовался: — Ну и с какого боку в этой теме Томас Манн?
— С нужного, — ответил Ашгарр. — Ты в курсе, что целая толпа его родственников покончила жизнь самоубийством?
— Так уж и толпа?
— Сам посуди: отец, сестра, ещё одна сестра, жена брата, сын. Сын вообще уникум, четырежды пытался убить себя. Представляешь?
— Кто хочет, тот своего добьётся, — напомнил я расхожую истину.
Ашгарр кивнул:
— Спору нет. Во всяком случае, этот точно добился.
— Застрелился?
— Нет, снотворным закинулся.
— Бабский способ, ни фига не офицерский.
Поэт тему — офицерский, не офицерский — развивать не стал, резюмировал:
— Если тезис о заразительности суицида верен, то история этой странноватой семьи является наглядной тому иллюстрацией.
— Даже сомневаться не стоит, — заметил я. — Зараза эта заразительна. Даже больше скажу — заразна. Чума эта бубонная. Натурально.
Отодвинув от себя пустую тарелку, я с довольным видом откинулся на спинку стула и спросил:
— Ну и как на твой вкус товарищ пишет?
— Да ничего так, бодро, — ответил Ашгарр. — Нобелевскую премию, согласись, абы кому не дают.
— Не соглашусь. Бывает всяко.
Ашгарр спорить со мной не стал, раскрыл книгу там, где было заложено стариной почтовой карточкой с изображением химеры, охраняющей Собор Парижской Богоматери, и зачитал:
Во время сборов Григорс сказал своему помощнику:
— Не падайте духом и не качайте головой! Так уж написано мне на роду — потягаться с этим злодеем. Я одолею его или погибну. Если я погибну — что за беда? Моя жизнь — не ахти какая потеря. Этот сильный город будет и впредь сопротивляться Козлиной Бороде ничуть не хуже, чем до моего прибытия. Если же я одержу верх, страна будет освобождена от дракона.
Закончив чтение отрывка, Ашгарр положил закладку на место и захлопнул книгу, а я так прокомментировал услышанное:
— И будуть люды на Земли.
— Какие Люды? — не понял Ашгарр.
Я выбрался из-за стола, дошёл до мойки, сунул тарелку под горячую струю и только тогда объяснил:
— Це мрия, яку поэт Тарас Шевченко уявыв в видомий поезии: «Врага не будэ — супостата, а будэ сын, и будэ маты, и будуть люды на Земли».
— Это ты к чему? — не понял Ашгарр.
— К тому, что драконов, если верить поэту, в будущем не будет. А если помимо Охотников, ещё и вампиры на нас начнут с финками-заточками кидаться, столь грустная будущность наступит весьма скоро.
— Судя по всему, с этим согласны не все. Кто-то ведь нас сегодня выручил.
— Тут ты прав, — согласился я. Впихнул тарелку в сушилку и, вытирая руки хрустким, расшитым легкомысленными васильками, полотенцем, добавил: — Знать бы ещё, кто этот «кто-то».
Подступив, Ашгарр похлопал меня по плечу:
— Что, господин маг, не любите быть объектом в чужой игре?
— Нет, господин поэт, — подхватив его иронический тон, ответил я, — не люблю. Люблю быть субъектом. И только в своей. — Глянул на часы (было уже два сорок восемь) и спросил: — Не знаешь, случайно, где «косуха» Вуанга?
— В коридоре на вешалке, — ответил Ашгарр.
Показав знаменитым ленинским жестом на выход, я произнёс картаво:
— Впегёд, товагищи. Пгамедление смегти подобно.
И подтолкнул грустно вздохнувшего поэта к двери.
Поначалу мы хотели управиться за одну ходку, но затем решили богатырей из себя не корчить, и спустили сначала одно тело (затолкали в багажник), потом второе (кинули на заднее сиденье).
— Куда? — поинтересовался Ашгарр, когда отъехали от дома.
— На Кудыкины горы, воровать помидоры, — брякнул я, потом снизошёл: — Скоро сам увидишь.
Пока неслись по опустевшему, погрязшему в бесконечном дожде, ночному городу не произнесли ни единого слова. Молчали и тогда, когда выехали с подтопленных центральных улиц на затопленные улицы окраин. И только когда вырвались на Александровский тракт, мокрая полоса которого скакала по сопкам вдоль стен угрюмого, жутковатого, непроходимого леса, Ашгарр осторожно поинтересовался:
— Так что там у тебя было в Запредельном?
— Летал, — просто ответил я.
— Летал?
— Угу, летал. Летал-летал и долетался. В смысле долетел. До города счастья долетел.
Тема поэта заинтересовала и весьма.
— Что это за город такой? — спросил он.
Я ничего ему не ответил. Просто врубил магнитолу, выбрал нужный диск и сделал так, чтобы всё за меня в лучшем виде объяснил Ашгарру солист группы «Ай-Да»:
Когда стихли последние аккорды, Ашгарр уточнил:
— Насколько я понимаю, ты, счастливец, побывал в городе своей мечты?
— В точку, — сказал я, дал протяжный сигнал и лихо обогнал перед носом встречного микроавтобуса груженный трубами УРАЛ.
— То-то поначалу так было хорошо, — расплылся в мечтательной улыбке Ашгарр. Лицо его при этом стало походить на морду дельфина.
Я кивнул:
— Поначалу — да, хорошо. А потом я вспомнил, что мечта не может стать явью. По определению не может. И чего-то так, знаешь, затосковал.
— То-то потом стало так грустно, — проглотил улыбку Ашгарр. Потряс головой, стряхивая дурные воспоминания, и поинтересовался: — Ну а что дальше приключилось?
— Дальше… — Тут дорога резко пошла на подъём, я кинул взгляд на высвеченный фарами плакат «Внимание, опасный участок трассы» и на всякий случай напрягся. — А дальше всё в один миг куда-то делось. Та высоченная золотая башня, вокруг которой я так гордо парил, вывернулась, словно шутовской колпак, наизнанку, и превратилась в глубокий колодец.
Нарисовав в голове картинку, Ашгарр хмыкнул и с умным видом стал рассуждать:
— Фаллический символ накрылся мохнатой дырой. Если бы это был сон, то с точки зрения психоанализа…
— Это был не сон, — резко оборвал я его.
Он обиделся, и километров восемь мы ехали, не обронив ни единого слова. Но едва проскочили поворот на посёлок с забавным названием Урик, Ашгарр не выдержал и, глядя на замелькавшие вдали огоньки, стал допытываться:
— Слушай, праведник, а как ты умудрился выбраться из Запредельного?
— Почему вдруг «праведник»? — насторожился я.
— А по аналогии. Слышал про Китеж? Про град невидимый, который покоится на дне озера и всплывёт перед вторым пришествием?
— Слышал.
— Люди говорят, что увидеть его могут только праведники. И всё же — как?
— Что «как»?
— Как из Запредельного выбрался?
— Чудом.
— Я так понимаю, отвечать не хочешь?
— Давай об этом как-нибудь потом, — отмахнулся я. Ужас как не хотелось мне рассказывать про кошку-спасительницу. Стрёмно было.
А поэт всё не унимался:
— Ладно, не хочешь рассказывать, как Оттуда выбрался, не рассказывай. Расскажи тогда, как Туда попал.
— Во, банный лист.
— Имею право знать. В целях безопасности.
— Ну, коль имеешь, — сдался я, — тогда знай. Стишок я один волшебный прочитал, а как прочитал, так тут же Туда и провалился. При этом ещё и всю Силу потерял.
— Правда, что ли?
— Угу. Причём, всю. Под чистую.
Ашгарр удивлённо покачал головой:
— Ничего себе прибаутки-шуточки. Что ж это за хитрый стишок такой?
— Возьми в бардачке пакет, — распорядился я. — Там журнал. Раскрой на сто десятой странице и найди одностишье, что начинается словами «Шорох за дверью». — Выдернул из паза зеркальце заднего вида и протянул настырному поэту. — Только читай, пожалуйста, через зеркало, держи пальцы в отвращающем знаке и постоянно дави сознание скороговоркой. Иначе повторишь мой вчерашний подвиг.
— Какой именно скороговоркой? — деловито уточнил Ашгарр.
— В данном случае, всё равно какой, — ответил я. И заметив, что поэт всерьёз загрузился, пришёл на помощь: — Например, такой: «Стоит стопочка на окошечке, не подъявлена, не выявлена. Пришёл хват подъявить, подъявил и выявил». Сможешь повторить?
— Легко.
— Вот и давай наяривай.
Не прошло и минуты, как Ашгарр произнёс по слогам:
— За-па-те-ра.
Будто пробовал слово на вкус.
— Думаю, что это какое-то крутое заклятие, — поделился я своим предположением. — Мне оно не знакомо, но отчётливо слышу слова «zap» и «patera». Соответственно — «жизненная сила» и «жертвенная чаша».
— На каком таком наречии?
— На новоанглийском, на каком же ещё.
— Разве «патера» английское слово?
— Теперь уже и английское. А ещё и русское, и албанское, и румынское, и какое угодно, а поначалу — латынь, разумеется.
Ашгарр ещё раз заглянул в глубь зеркала.
— Может, ты, Хонгль, и прав, конечно, но только мне почему-то кажется, что это транскрипция с испанского. Послушай: «zapatera». Нет?
Стараясь выдержать произношение, я повторил вслед за Ашгарром:
— Zapatera. — А когда до сознания дошёл смысл слова, удивился: — Башмачница, что ли?
— Ну да, — кивнул Ашгарр. — Она самая.
— При чём тут какая-то башмачница?
Как-то не очень верилось мне, что столь обыденное слово легло в основу страшного проклятия. Поэту же так не казалось, он кое-что мудрёного про это словечко знал и поспешил своим знанием поделиться:
— При чём тут, бес его знает. А вот в испанской культуре «Башмачница» — это архетип, воплощающий миф о заветной и несбыточной мечте.
— Точно?
— Уж поверь. То и дело всплывает в различных канонических и не только тестах. Кстати, у почитаемого тобою Горсиа Лорки есть пьеса с названием «La zapatera prodigiosa».
— Волшебная башмачница, — перевёл я. — Что-то не припомню.
— Есть, есть. Жёстокий такой фарс в стиле фламенко. Там про одну стервозную сеньору, которая своими выходками доводит окружающих до белого каления. То одного она хочет, то другого, то сама не знает, чего. Сюжет зациклен, всё в итоге возвращается на круги своя, к первоначальной ситуации.
— И что за ситуация?
— Знамо дело: столкновение иллюзорных надежд с суровой действительностью.
Осторожно-осторожно, жалея подвески, я свернул в знакомом месте с трассы на грунтовку, после чего пробормотал:
— Ну, башмачница, так башмачница. По большому счёту это ничего не меняет: и так ничего неясно, и этак.
Ашгарр посмотрел по сторонам и, судя по всему, хотел спросить, куда это мы повернули, но в последний момент почему-то передумал. Похлопав по журналу, что по-прежнему лежал у него на коленях, спросил о другом:
— И что, как только ты прочитал этот стишок, сразу попал в Запредельное?
— Сказал же, сразу, — ответил я. — Что и как, пока не пойму, нужна помощь зала. Буду советоваться с кем-нибудь из местных экспертов.
— Слушай, а как к тебе эти «Сибирские зори» попали?
— Дело одно расследую о смертоубийствах, это вроде как вещдок.
Ашгарр запихнул журнал в бардачок, воткнул зеркало в паз и пробормотал что-то невнятное.
— Что говоришь? — напрягся я, сообразив по интонации, что прозвучал упрёк.
— Говорю, бросил бы ты, Хонгль, свои тёмные дела.
Поскольку эта гнилая тема всплыла не впервые, я скривился:
— У-у-у, завёл пластинку.
— Я серьёзно. — Ашгарр снял очки, потёр глаза. — Из-за этих мутных дел ты всё больше становишься похожим на человека.
— Ерунда. При любых раскладах мне из себя дракона не вытравить. Так что брось чушь городить.
— Это, Хонгль, не чушь. Это суровая правда. Ты сам за собой не замечаешь, а со стороны оно всё видно.
— Видно? Что тебе видно?
— Что ты опускаешься всё ниже и ниже.
Обвинение было серьёзным, прозвучало конкретно, поэтому я потребовал:
— Аргументируй.
Поэт многозначительно хмыкнул, мол, держись тогда, сложил руки на груди и начал предъявлять прокурорским тоном:
— Киряешь как какой-нибудь эстонец Янсон, на баб человечьих всё время пялишься, Силой раскидываешься бездумно, в День Победы флагом красным машешь на балконе, в какие-то сомнительные дела постоянно впрягаешься, чреватую опасностями торговлю Зёрнами Света развернул, якшаешься с кем попало, а случай с прошлогодней Охотницей — это, вообще, что-то с чем-то.
В этом месте его обвинительной речи я не выдержал и грязно выругался, после чего напомнил:
— Мы тогда ребетёнка, между прочим, от смерти спасли.
Это было чистейшей правдой. Одолев Эльгу, отважную Охотницу из клана Стефана «Носорога» Хирша, мы по моему требованию исполнили её предсмертную просьбу, передали с оказией барнаульскому знахарю Шилику коготь дракона. Естественно, за неимением другого, свой собственный коготь. Шилик из того когтя целебное зелье сварил, и тридцать три дня потчевал им смертельно больную девочку. Славе Силе поправилась хворая, встала на ноги.
Но Ашгарр будто не слышал меня, талдычил своё:
— С каждым годом всё больше и больше от тебя разит человеком. Чую, Хонгль, настанет такой час, когда ты всех нас так круто подставишь, что выбраться не сумеем. Ладно мы, чёрт с нами, пришли-ушли, но Вещь Без Названия останется без присмотра. Здорово будет?
— Не каркай, — потребовал я.
— Я не каркаю, я предостеречь пытаюсь. Слушай, а может, ты мечтаешь стать человеком? Может, спишь и видишь себя бескрылым?
— Дурак ты, Ашгарр.
— Сам дурак.
— Слушай, никак не пойму, в чём смысл этой твоей уксусной эскапады? Чего ты, собственно, хочешь? Чего пустыми этими разговорами добиваешься? А?
— Честно?
— Честно.
И тут он, выдержав паузу, выпалил:
— Хочу, чтобы ты закрыл агентство.
— Новое дело, — изумился я. — А кто будет деньги зарабатывать?
— Есть другие способы.
— Ничего другого не умею, как только людей вытаскивать из передряг.
— Тогда позволь напомнить, что помимо тебя у дракона Вуанга-Ашгарра-Хонгля есть ещё два нагона, и они тоже кое-чего стоят. Не дармоеды, смогут устроиться и работать. Легко.
Я промолчал, однако всем своим видом показал, что говорит он сущий вздор. Поэт же, не обращая на меня никакого внимания, продолжал разворачивать тему:
— Воин — ладно, он на охране подземелья, во фронтмены его, пожалуй, нельзя, но я-то свободен. Полагаешь, не сумею?
— Полагаю, нет, — сказал я с предельной откровенностью.
— Почему это? — нахмурился Ашгарр.
— Потому что ты поэт.
— И что с того? Тютчев вон, например, служил председателем комитета иностранной цензуры. Томас Элиот — клерком в банке. Артур Рембо — торговым агентом в этой… как её там… в Эфиопии. Тебе ещё примеры нужны?
Я похлопал Ашгарра по коленке.
— Знаешь, что я тебе, чувак, скажу.
— Что? — с вызовом спросил он.
— Прожил последние сто с лишним лет в башне из слоновой кости, вот и дальше живи в этой обители поэта. Живи и не высовывайся. Ведь ни черта же не понимаешь в современном житье-бытье. Ни черта. А тут столько всяких подводных камней, ловушек, измен лютых и рогатин с вензелями, что без опыта не обойтись. Без богатого такого житейского опыта. У тебя такого опыта нет и приобретать его уже поздно. Раньше надо было, когда мир безумствовал не таких скоростях.
— Глупости, Хонгль, говоришь.
— Правду говорю истинную.
Не знаю, до чего бы мы доспорились, но тут — оба-на! — сели в лужу и по те самые обещанные помидоры. Хотел я эту яму проскочить сходу, да не вышло. Оказалось глубока до безобразия. А так не скажешь.
— Вылезай, толкнёшь, — сказал я тоном, не предполагающим возражений.
Ашгарр возмущённо мотнул головой, поиграл желваками, но перечить не стал, смело прыгнул в грязную жижу. Надо же ему было показать, что он парень хоть куда, а моя песня о башне из слоновой кости — грязная инсинуация.
Провозились минут пять, но выбрались. А как иначе. И я водитель не плохой, и Ашгарр старался.
— Осторожно, салон не запачкай, — не удержался я от издевательского замечания, когда изгваздавшийся и промокший поэт вновь плюхнулся в кресло пассажира.
— Да иди ты лесом, — огрызнулся он и так хлопнул дверцей, что болид едва не развалился на составные части.
А уже через десять минут скоростной езды юзом на пересечённой местности мы — о, будь благословен ты во веки вечные, привод на все четыре колеса! — прибыли к конечному пункту нашего ночного марш-броска, к затопленному песчаному карьеру.
Работали быстро, работали споро: подтащили одно тело к обрыву, набили каменьями и на раз-два-три сбросили вниз, потом благополучно утопили и второе. Сразу не ушли, постояли немного над тёмной, мутной, покрытой дождевыми пузырями водой. Ради приличия постояли. Не столько из уважения к ним, сколько из уважения к себе. Когда настало время уходить, Ашгарр вдруг сказал:
— Надо слово какое-нибудь произнести.
Я изумился:
— Кого смеяться? Зачем?
— Страдали ведь. По-своему, конечно, но страдали. Короче — надо. Надо, Хонгль. Надо.
— Плохого говорить не хочется, а хорошего… Разве, Ашгарр, об этих диких можно сказать хоть что-нибудь хорошее?
— А ты подумай, — призвал поэт. — Постарайся.
Делать нечего, я напряг все мышцы мозга, и через несколько секунд обратился к упокоенным вампирам с такими вот словами:
— Некоторые творят добро для того исключительно, чтобы творить зло без угрызений совести. Вы, парни, в этом плане никогда не были лицемерами. А больше ничего доброго сказать про вас не могу. Аминь.
И посмотрел на небо. Неба отсутствовало. На его месте висело сплошноё тёмное месиво без единого просвета. Такое сплошное и такое тёмное, что мысль о том, что где-то там, за всем за этим, блещут звёзды и светит луна, казалось до невозможности глупой.
Продолжая пялиться в тьму кромешную, я стёр капли дождя с лица и тихо произнёс:
— Хорошо, что сегодня звёзд нет.
— Чего ж хорошего? — хмыкнул Ашгарр.
— Поверь, чувак, звёзды и луна при таких делах это чересчур, это перебор. И с эстетической точки зрения, и с этической.
Поэт недоумённо пожал плечами, развернулся и пошёл к болиду аккурат между лучом правой фары и лучом левой. Не дошёл нескольких метров, поскользнулся и шлёпнулся в похабную жижу. Смешно так шлёпнулся, как Чарли Чаплин — бах, и аж ноги кверху. Я не выдержал и прыснул. Но потом усилием воли убрал с лица улыбку, подошёл и протянул руку:
— Давай помогу.
Рассерженный Ашгарр руку мою отпихнул, вскочил неуклюже и, пытаясь стряхнуть налипшие комья грязи, начал распаляться:
— Бред какой-то. Бред. Ночь, темень, дождь, грязища неимоверная, какие-то дохлые вампиры. С ума сойти. Где я? Зачем я здесь? Что со мной?
— Спроси ещё: я ли это? — ухмыляясь, посоветовал я.
— А всё из-за тебя! — проорал Ашгарр и ткнул меня кулаком в грудь. — Всё из-за твоих мерзотных дел.
Я отступил на шаг, но предупредил:
— Э-э, поосторожней, а то…
— Что «а то»? — взъярился поэт.
— Что-что, — проворчал я и тоже наступательно. — Сам знаешь, что. Врежу. Вот что.
Тут он совсем распетушился:
— Ну давай врежь! Давай-давай!
И встал в стойку.
Дважды меня просить не надо, одного раза вполне достаточно. Сделав ложное движение правой, я свалил Ашгарра ударом левой. Снизу, без замаха и мимо блока в челюсть — на. Раз, и готово. А чтоб истерик впредь не закатывал.
Но Ашгарр молодец. Даром, что поэт, рафинированная душа, а тоже не сплоховал. Уже лёжа на спине, умудрился садануть мне каблуком по коленке. Причём, со всей дури. По взрослому. Без дураков. Я охнул от боли и рухнул рядом.
И сцепились в партере.
Мутузили друг друга, вбивали в грязную размазню, душили-грызли, пока не выдохлись, а потом обессиленные повалились рядышком. Плечо к плечу. Ухо к уху.
— Смешно, когда дракон сам с собой дерётся, ибо абсурдно, — тяжело дыша, заметил через время Ашгарр.
Сплюнув тягучую, горьковатую от крови слюну, я продолжил его мысль:
— Ещё смешнее, когда сам собой дерётся человек, ибо неописуемо.
— Твоя правда, — согласился поэт и безо всякого перехода спросил: — Курить есть?
Я нашарил пачку, вытащил сигарету для себя, сигарету для него, полез за жигалкой и не нашёл её.
Говорили в старину: не спавши, да беду наспал.
Это был тот случай.
Глава 9
На обратном пути от карьера до деревни Московщина мы катили под музыку Иоганна Штрауса-младшего. Если быть предельно точным, то под выставленную на бесконечный повтор Караяновскую запись вальса «На прекрасном голубом Дунае». Этот пятиминутный трек Лера вытащила по моей просьбе из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. И я так скажу: вальс — самое то, когда дождь яростно барабанит по ветровому стеклу. Во всяком случае, для меня. Что касается Ашгарра — не знаю, но выставить что-нибудь иное, он не просил. Так и ехали.
Поэт с насупленным видом пялился в ночную мглу, из сырой глубины которой подступали к большаку то поросшие соснами холмы, то усыпанные стогами поля. А я предавался отвлечённым размышлениям. Среди всякого проходного-мутного думал, разумеется, и о давешней нашей перепалке. Не прав был Ашгарр, ой как не прав. Ни в коем разе не мечтаю стать человеком — этим в массе своей безответственным, злобным, не способным чувствовать чужую боль, лишённым стыда и совести существом. Не хочу быть человеком, нет, ни за какие коврижки. Другое дело что — вот парадокс — завидую ему. Белой завистью завидую. И чёрной, не скрою, тоже завидую. Ей-ей. А как тут не позавидовать, когда обладает бескрылый тем, чего мы, нынешние драконы, лишены по определению, — способности любить.
Я не знаю, почему мы так обделены. Быть может, причина в том, что сердца наши драконьи от ночи трансформации до ночи трансформации киснут в холодных тайниках, может, в том, что существуем украдкой в придуманном не для нас мире, может, ещё в чём-то, а только факт остаётся фактом — не могут драконы любить, позабыли, что это такое. И это крайне обидно, честно говоря. Потому что жизнь без любви это, как ни крути, всего лишь тягостная необходимость. И сколько ни убеждай себя в обратном, сколько ни загружай себя сконструированными на ходу утешающими теориями, а так оно и есть.
Оттягиваемся, конечно, в Ночь Любви, ещё как оттягиваемся, но всё это не то, не то, не то, поскольку присутствует тут связанная с необходимостью продолжать славный крылатый род физиологическая обязаловка. Накрывает дракона и прилетающую к нему на ночь дракониху мощный Зов, выворачивает после совместного полёта обоих наизнанку сладкая истома, кидаются они друг к другу в порыве страсти, получают оба по бочке кайфа и благодарные друг другу расстаются навсегда — вот как это происходит. Именно так происходит, как однажды и навсегда предписано Великим Неизвестным. И всё это правильно, и всё это разумно, однако после каждого раза остаётся в душе нехороший осадок. Почему? Понятно, почему. Не знаю, как кто, а лично я полагаю, что любовь на ночь это никакая на самом деле не любовь. Суррогат это. А суррогат он и есть суррогат. Всё то, что должно было быть высоким таинством, сулящим чувство до гроба, превращено хмурыми обстоятельствами нашего теперешнего бытия в банальную случку. Хотя и обставленную романтическим антуражем, не без этого, но всё-таки случку.
Можно верить и нужно верить, что рано или поздно Создатель исправит фатальную ошибку. Что настанет тот благословенный день, когда безумный мир людей сойдёт на нет. Что придёт-возродится наше время, время драконов. Что скинем мы тогда маски, перестанем таиться, вернём себе свои пылающие сердца, наполним их музыкой, и вновь обретём способность любить. И будем, обязательно будем — а как иначе? — любить. Верю, даже уверен, что именно так всё когда-нибудь и случится. Только вот, к большому сожалению, доживут до наступления золотого века, увы-увы, не все. Далеко не все. Дракон Вуанг-Ашгарр-Хонгль уж точно не доживёт. Я, нагон Хонгль, знаю об этом, понимаю умом, да вот только никак не могу принять душой. Потому и маюсь. Потому и пытаюсь раз за разом взрастить из своей маеты, из этого изнуряющего своего недовольства светлое чувство к очередной таинственной незнакомке. Дурак, если подумать. Дурак дураком. Сам знаю, что дурак, только ничего с собой поделать не могу, а если быть предельно откровенным — не хочу. И пусть Ашгарр осуждает. Переживу как-нибудь. И ни за какие коврижки не оставлю своих отчаянных попыток полюбить. Пусть тысячу раз ещё обманусь, пусть тысячу раз меня обманут, но однажды добьюсь своего. Я верю в это. Да, я в это верю. Как тот гумилёвский конквистадор в панцире железном, что весело преследует звезду.
Размышления о всяком таком не мешали мне помнить и о насущном. Сразу за мостом через речку Куду я свернул с трассы на грунтовку, ведущую к заброшенной тренировочной базе Добровольного общества содействия Советской армии и Военно-морскому флоту, проехал метров триста по колдобинам, блин, выбоинам, блин, промоинам, блин, и остановился возле насосной станции — перекошенного чёрного сарая, от которого убегала к реке ржавая труба-«двадцатка». Слова не говоря, вылез из машины, перемахнул через криво сколоченную изгородь загона и направился к вытоптанному и загаженному коровами берегу. Ашгарр поворчал-поворчал, но последовал моему примеру. И где-то, наверное, минут пятнадцать-двадцать мы с ним пугали сонные окрестности диким молодецким уханьем. Вводы была жуть как холодна. Потом ещё минут десять обсыхали в разогретом салоне, потом приводили одежду в божеский вид. Вернее пытались привести. Когда вновь продолжили путь, я сказал поэту в целях наведения мостов:
— Забыл сказать — в следующем номере «Сибирских зорь» опубликуют твои стихи.
— С чего ты взял? — покосился на меня Ашгарр с недоверием.
— Я не взял, я договорился.
— Шутишь или врёшь?
— Ни то и ни другое. Правду говорю. Переговорил вчера с тамошним главным редактором, он пообещал. Так что — поздравляю от всей нашей общей души.
— Премного благодарен.
Не услышав в голосе Ашгарра особого энтузиазма, я поинтересовался:
— Что, не рад, что ли?
— Да нет, отчего же, — ответил поэт. — Рад, конечно, Только уж больно неожиданно всё это как-то.
— На то он и сюрприз, — заметил я и мельком глянул на растерянное лицо поэта. — Да ты не грузись так. Скинешь по утру что-нибудь из последнего на флэшку, я передам, и всех делов.
— Нет, — возразил Ашгарр, — так быстро не получится.
— Почему это не получится? — удивился я.
Поэт пожал плечами, дескать, чего тут объяснять, когда и так всё ясно. И ничего не ответил. Но я на самом деле не понимал, в чём тут трудность, и повторил вопрос:
— Так почему, скажи, не получиться? В чём проблема?
Только тогда он удосужился объяснить:
— Потому что нужно отобрать те стихи, которые годятся в печать. Те, за которые не будет стыдно. На это время уйдёт.
Вот такая вот щепетильность из него вдруг полезла. Другой бы рад был радёшенек на халяву прославиться, а этот зачем-то на измену сел. Ну и кто он после этого? Признаться, в этот момент мне очень хотелось сказать ему какую-нибудь отрезвляющую дерзость, еле удержался. Взял паузу и сказал, стараясь не выдать голосом раздражения:
— Дело твоё. — Потом обдумал накоротке эту созданную на пустом месте проблему и предложил свои услуги: — А хочешь, я сам подборку составлю? Хочешь, лично отберу твоё бест оф бэст?
— Уж ты отберешь, — протянул Ашгарр тоном, в котором не нашлось места для доверия моему поэтическому слуху.
Однако меня это не смутило.
— А чего тут такого? — пожал я плечами. — Я смогу. Я сумею. Из летнего цикла что-нибудь, например, повыдёргиваю. Там у тебя есть несколько мощных вещиц. — Я пощёлкал пальцами, вспоминая, и продекламировал нараспев одну из строф: — Всё главное в примечаниях. День — пунктирная полоса. От отчаянья до отчаянья — двадцать четыре часа. Так?
— Так, — унылым голосом произнёс Ашгарр. Помолчал, взвешивая на каких-то там своих хитро-организованных весах все «за» и «против», а потом вдруг окончательно меня убил: — Знаешь, Хонгль, не буду я ничего публиковать. Спасибо, конечно, за заботу, но нет, не буду.
— Что за ерунда? — удивился я. — Почему?
— Боюсь, — еле слышно и в сторону произнёс поэт.
— Боишься? Чего ты боишься?
— Чего-чего, не важно чего.
— Нет, ты уж колись давай, — потребовал я. — Чего такого ты, чувак, боишься?
Ашгарр помялся, не желая признаваться в сокровенном (есть вещи, в которых не хочется признаваться даже самому себе), но потом всё-таки поделился. И как в реку с обрыва:
— Боюсь узнать, что никакой я ни фига не поэт. Теперь доволён?
Я аж подпрыгнул.
— Как это не поэт? Как это? Поэт ты. Самый талантливый из всех нагонов-поэтов бывшего Союза.
— Жабу тебе в рот.
— Не бойся сглаза, я от души. Ты был лучшим, лучшим и останешься. Вот так вот. Вот так. Заруби это себе на носу.
Мой панегирик подействовал на Ашгарра удивительным образом. Он начал вдруг прыскать, сначала тихо, потом громче. Вскоре не выдержал и расхохотался в голос. А когда смог успокоиться, поведал в ответ на мой недоумённый взгляд (уж не сума ли сошёл?) такую историю:
— В своё время в Париж пришло письмо, адресованное «наивеличайшему поэту Франции». Почта направила сие послание Виктору Гюго. Тот в приступе скромности переслал его Альфреду Мюссе. Мюссе, не распечатывая, переправил Альфонсу Ламартину, последний — вновь Гюго. Круг замкнулся. Настал момент истины. Вскрыв конверт, автор «Собора Парижской Богоматери» обнаружил, что на самом деле письмо адресовано стихоплету, чьи полуграмотные рифмованные фельетоны печатались в одной воскресной газетёнке.
Едва поэт закончил, я спросил у него с недоумением:
— А к чему ты этот анекдот рассказал?
Скользнув по мне укоризненным взглядом, Ашгарр отвернулся к окну, вздохнул и помотал головой:
— Нет, точно, не буду ничего публиковать. Нафиг-нафиг. Понимаешь, если бы я прозу писал, рассказы там какие-нибудь, новеллы, тогда бы — куда ещё ни шло. В прозе не так заметно отсутствие у автора таланта. Там на время за сюжет спрятаться можно или актуальностью прикрыться. В поэзии такое не прокатит. Со стихами на широкую публику выходить — всё равно как голым на базарную площадь выскочить. Весь на виду.
— Да чего ты так менжуешься? Чего так сомневаешься в себе? Откуда такая неуверенность? Поэт ты. Хороший, отличный поэт. Уж поверь мне.
— Поверить? Тебе? Глупость какая. Ты — это я, а в таких вопросах себе верить нельзя. Противопоказано.
Я аж задохнулся от возмущения:
— Ну, ты, блин, и даёшь! Между прочим, публикация уже оплачена, так что хочешь ты того или не хочешь, а…
— Не буду, — отрубил Ашгарр.
Его отказ прозвучал настолько решительно, что стало понятно: пускаться в уговоры — даром время терять. Но деньги на ветер выбрасывать тоже не хотелось, не печатаю их по ночам на лазерном принтере, достаются тяжело, другой раз с потом, а иной — и с кровью, поэтому подумал я хорошенечко и предложил:
— Чёрт с тобой, не хочешь стихами хвалиться, тогда садись и пиши рассказ.
— Не писал никогда, — отмахнулся Ашгарр и от этого дельного предложения.
— Не зли меня ради Силы, — попросил я. Досчитал до трёх, до пяти, до семи и стал убеждать: — Во-первых, всё когда-то бывает впервые. Во-вторых, не боги горшки обжигают. В третьих, хорош выпендриваться.
Минула вечность, прежде чем поэт промямлил:
— Можно, конечно, попробовать. Только сюжет какой-нибудь нужен более-менее интересный.
— Сюжет? Тебе нужен сюжет? — Я расплылся в улыбке и щёлкнул пальцами. — Вы хочете песен, у меня есть их. Получай, поэт, романтический сюжет про девушку и дракона. Представь: город, зима, раннее-раннее утро, в промёрзшем полупустом трамвае едет девушка. Не красавица, не уродина, а такая, знаешь, милая. И вот, значит, она едет, едет, едет. Ей холодно, ей чего-то как-то так грустно, неясные томления её обуревают. От нечего делать, практически бессознательно, она царапает коготком по заледеневшему стеклу, и на стекле остаётся рисунок, в котором всякий может увидеть своё. Потом девушка сходит… На Центральном рынке, допустим, она сходит, а через остановку, у Воздвиженской церкви, в трамвай вползает дракон. Разумеется не в крылатом своём обличье, а в обличье человека. И надо же было такому случиться, садится он на то же самое место у окна. Расплачивается с кондуктором, отворачивается от пристального взгляда какой-то хмурой тётки и глядит в окно. Через время, необходимое для того, чтобы это время прошло, наконец замечает девичьи каляки-маляки и к своему удивлению узнаёт в них написанное на древнем драконьем языке слово «одиночество». И тут он, естественно,…
— Подожди, — перебил меня Ашгарр. — Девушка, она что, знала древний язык драконов? Она знала дарс?
— Ты чем слушал? — возмутился я. — Сказал же, у неё это вышло совершенно случайно. Понимаешь? Случайно. — Ашгарр мотнул головой и я продолжил: — Ну так вот. Предположив, что в городе живёт сородич, дракон решает его найти.
— Разве он раньше не почувствовал бы наличие в его городе другого дракона?
— Я же тебе, балда ты такая, не про настоящего дракона рассказываю, а про сказочного.
— А-а, — протянул Ашгарр.
Я скорчил рожу:
— Вот тебе и «а». Соображать надо.
— Не груби, рассказывай.
— Рассказываю. На чём я там?… Ну да. Дракон решает разыскать сородича. Первым делом, разумеется, начинает расспрашивать пассажиров. Одного теребит, второго, третьего. Повезло с хмурой тёткой. Оказалась вовсе не злюкой, никакой не горгульей, а доброй советской гражданкой, просто немного замороченной. Выкаблучиваться не стала, охотно пошла на контакт и всё-всё рассказала про давешнюю свою попутчицу. Какая она была из себя, в какую шубку куталась, где сошла и всё такое. А потом выяснилось, что егозливый внук тётки снял девушку на камеру моби…
— Этот дракон, он что, сыщик по жизни? — ещё раз перебил меня Ашгарр.
— Да какая разница, — с лёгким раздражением ответил я. — Сыщик, не сыщик, дело не в этом.
— Ладно, проехали. Ну и чем всё закончилась?
— Тут возможны варианты. Предлагаю такой. Не сразу, через несколько дней, но дракон находит девушку и…
— И понимает, что никакая она не дракониха?
— Да, и понимает, что не дракониха.
— И раскланивается?
— Зачем так грустно? Знакомится.
— Ему девушка приглянулась?
— Почему бы и нет?
— И?
— И они начинают дружить. Девушка и дракон. Такие разные, но такие схожие в своём одиночестве. Тра-та-та-та та-та, хэппи-энд.
— Хорошо, хоть так, — усмехнулся поэт. — Боялся, скажешь: «И они полюбили друг друга, жили долго и счастливо и народили много-много, целую кучу — вот как много, детишек». С тебя бы сталось.
Я резко ударил по тормозам, заблокированные колёса потеряли сцепление с мокрым полотном, и тачку понесло как взбесившуюся лошадь. Мои попытки удержаться на дороге кончились тем, что машина дважды развернувшись, вылетела на обочину, где благополучно и уткнулась в груду отсыпного гравия.
Переведя дух, Ашгарр покрутил пальцем у виска:
— Псих?
— Возможно, — сжимая руль удушающей хваткой и глядя строго перед собой, ответил я. — Вполне возможно. Но об этом потом, а сейчас давай я расставлю все точки над ы. Можно?
— Попробуй, — разрешил Ашгарр.
— Тогда включай, чувак, мозги и слушай. — Я уставился на него испытующим взглядом и негромко, однако с напором произнёс: — Скажу без экивоков, напрямую. Как нагон нагону. И скажу вот что: ты от этого сумасшедшего мира прячешься в мудрёные поэтические конструкты, Вуанг забывается, совершенствуя до изнеможения тело и волю, а я окунаюсь в призрачные поиски любви. И то, и то, и то — эскапизм. То самое бегство от сволочной действительности, на которое каждый из нас имеет законное право. Да? Нет?
— Да, — после долгой напряжённой паузы ответил заметно смутившийся Ашгарр.
— Ну и давай тогда раз и навсегда закроем тему. Хорошо?
— Я над этим подумаю.
— Подумай. — Я завёл двигатель, врубил передачу, сдал назад и выехал на дорогу. — А что насчёт рассказа?
Ашгарр обнадёжил:
— Я попробую.
— Угу, Ашгарр, попробуй. Пиши, твори, и не изводи меня впредь намёками насчёт всякого такого. Я вот, например, искренне не понимаю, как это ты, не зная любви и не стремясь к ней, можешь писать стихи, но ведь не издеваюсь над тобой по этому поводу.
Поэт снял очки, посмотрел на меня, как на дитя малое, и менторским тоном произнёс:
— Настоящие, подчёркиваю, настоящие, стихи, разлюбезный мой Хонгль, они не про любовь, не про вздохи-охи, расставания-измены. Они про глубинное. Про невозможность излить себя, про философию личной правды, про всеобщее притворство, про эфемерность заслуг в глазах ничтожеств, про условность границы между самосознанием и саморазрушением. И тэ дэ. И тэ пэ. И такое сякое. И другое прочее. В настоящих, разлюбезный мой Хонгль, стихах редко про очевидное, в них чаще про то, о чём не может быть речи. Про то, что влечёт, да не даётся.
— Это всё понятно, — сказал я, едва поэт закончил изложение хорошо известного мне по многочисленным спорам манифеста. — Только я сегодня не про темы и сюжеты говорю. Я про внутреннюю мотивацию.
На это Ашгарр ничего мне не ответил, может, не нашёл чего сказать, может, не захотел. Усмехнулся чему-то заветному и попросил остановить машину по нуждам низкой жизни. Когда, оросив придорожный столбик, вернулся, мы где-то, наверное, с полчаса ехали в полной тишине. И только когда увидели город, вернее сам не город, а электрическое марево над последним холмом, поэт вдруг спросил без подводок:
— А у этих твоих «Сибирских зорь» большой тираж?
— Две тысячи, — припомнил я, с трудом переключившись со своих мыслей на его вопрос. — Полагаешь, мало?
— Две тысячи взрывоопасных стишков, — задумчиво произнёс поэт. А потом сказал то, о чём я должен был сам подумать давным-давно: — Тебя скрутило, и других, наверное, может скрутить.
Он ещё договаривал фразу, а я уже стал набирать домашний номер Холобыстина. Плевать хотел, что на часах в это время был час вермахта. Какие могут быть приличия, когда в опасности оказались ни в чём неповинные люди.
Я был настойчив и на исходе двадцатого гудка услышал сонное «слушаю». Вместо того чтобы извиниться, я упрекнул господина главного редактора:
— Семён Аркадьевич, чего вы из себя страуса-то разыгрываете? — И пока он соображал, что сказать в своё оправдание, успел задать главный вопрос: — Скажите, тираж последнего номера уже в продаже?
Прошло несколько томительных секунд. — Пока ещё нет, пока ещё на складе готовой продукции, — справившись с замешательством, чётко, словно бравый ефрейтор старшине, доложил Холобыстин. После чего пустился в абсолютно ненужные мне подробности: — Видите ли, Егор Владимирович, у нас тут возникли небольшой форс-мажор с оплатой услуг Первой типографии. Всё, слава богу, уже разрешилось, и я подъехал сегодня к ним с копией платёжки, но — увы. Заявили категорически, что пока деньги не упадут на счёт…
Я не дослушал его тары-бары-растабары, кинул «Ждите моего звонка», отключился и сообщил Ашгарру:
— Тираж, слава Силе, пока под арестом. Поутру озадачу Молотобойцев, пусть решают, их тема.
Поэт удовлетворённо кивнул и ткнул пальцем в дверку «бардачка»:
— А этот экземпляр кроме нас с тобой ещё кто-нибудь читал?
— Нет.
— Точно?
— Точно.
Ответил уверенно, но уже в следующую секунду хлопнул себя по лбу.
— Блин!
— Что? — отреагировал Ашгарр.
— Лера, — простонал я.
И снова полез за трубой. Сначала позвонил своей помощнице на сотовый, но с этим делом вышел затык: бездушный робот елейным до приторности голосом сообщил аж на двух языках, что вызываемый мною абонент сейчас недоступен. Тогда, нервно бурча под нос: «А пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел», я набрал номер её домашнего. Но и тут обломился, услышав в ответ короткие гудки.
— Не берёт? — спросил Ашгарр.
— Занято, — ответил я и взмолился: — Не дай Сила, чтоб уже началось.
Ашгарр напрягся:
— Скажи, а что, собственно, должно начаться?
Ответил я не сразу. Вытащил сигарету, попросил жестом, чтобы Ашгарр наколдовал — о, где ты удивление двенадцатилетнего мальчика-нагона, впервые прикоснувшегося к чуду? — немного огоньку, затянулся, выпустил струю дыма в сторону и лишь тогда сказал, стараясь не выдать голосом волнения:
— Понимаешь, чувак, тут такое дело. Все те, кто проклятый стишок читал, уже погибли. Покончили жизнь самоубийством. Все как один. Такая вот ерундовина. Про послание Ланьлинского насмешника слышал?
— Но Лера же не маг, — быстро сообразив, что к чему, сказал Ашгарр.
— Те тоже магами не были. Ни магами, ни посвящёнными.
— Разве такое возможно?
— Получается, что да.
Упрекать меня Ашгарр не стал. Помолчал, приняв озабоченный вид, и изрёк мудрость мудрую:
— Нужно снять с девчонки проклятие, нужно её расколдовать.
— Тоже мне, айцын паравоз, — хмыкнул я. — Только легко сказать — «расколдовать», а ты знаешь, как?
— Нет, но…
И обескураженный Ашгарр развёл руками.
А я тем временем всё для себя уже решил.
— Значит так, чувак, слушай сюда и не говори потом, что не слышал. Если жива, хватаем в охапку и везём к себе. Ты сторожишь, а я ищу урода, который всё это затеял. Нахожу и… Ну и разруливаю всеми правдами и неправдами ситуацию, работая, как говорят в авиации, по фактической погоде. Не против?
— Что ж, так и сделаем, — согласился поэт. — Всё равно других вариантов у нас, кажется, нет.
И дальше понеслись мы по ночному городу уже на первой космической.
А город в этот предрассветный час не походил сам на себя, он будто сошёл с полотна какого-нибудь сумасшедшего экспрессиониста. Из-за потоков воды, с которыми не справлялись «дворники», всё сливалось в причудливую картину: глянец мокрого асфальта, вспышки фар, всполохи неона, расплывшиеся кляксы голых крон и омытые дождём фасады. При других обстоятельствах можно было бы, пожалуй, и поэстетствовать: погрузиться, цокая языком, в атмосферу осеннего распада, и кружить, кружить в этих отсыревших декорациях до самого рассвета. А потом — домой, стакан кедровки и бай-бай. А ещё лучше — под тёплое крыло к какой-нибудь отзывчивой ведьмочке, которая тоже очень даже не прочь. А уже потом — домой, стакан кедровки и бай-бай. Но только обстоятельства были не «другими», а предложенными, и эти предложенные обстоятельства не оставляли времени на забавные причуды и причудливые забавы.
Рулил я молча, ещё и ещё раз прокручивал в голове ситуацию, и только тогда, когда выбрался дворами к дому Леры, обратился к поэту с вопросом, который давно меня мучил:
— Скажи, книгочей, что означает выражение «отписать Леониду Андрееву»?
— Совершить самоубийство, — ни на секунду не задумавшись, ответил Ашгарр.
Я нервно дёрнул головой и потребовал:
— Объясни.
— Помнишь, после Пятого года в стране, особенно в столицах, свирепствовала эпидемия самоубийств?
— Помню, разумеется. Имела место такая дурь.
— Вот тогда-то и сложился обычай посылать предсмертные записки Леониду Андрееву. По известным причинам считался автор «Повести о семи повешенных» апостолом смерти.
— Кино и немцы, — в который уже раз поразился я человечьему безумию. Разбросав брызги чёрных луж, припарковался, возле подъезда Леры, дал Ашгарру знак, чтобы натянул очки, и вылез из машины.
Пока поднимался в лифте, чуть с ума не сошёл. Чувство, которое испытывал, передать трудно. Думаю, нечто подобное переживает человек выискивающий имя родного человека в списках погибших в авиакатастрофе.
На этот раз слава Силе обошлось, Лера оказалась живой и невредимой. Открыла почти сразу. Вся такая уютно-домашняя: в тапочках на босу ногу, в длинной мужской футболке с надписью «KOSOBO JE SRBIJA», с хомутом наушников на шее. Увидела меня и глаза округлила:
— Шеф?!
Переведя дух, я вытер быстрым движением холодную испарину со лба и, пытаясь скрыть понятную радость, а заодно и смущение по поводу этой понятной радости, стал с напускной строгостью учить девушку уму-разуму:
— Почему не спрашиваешь, кто? Между прочим, подруга, глубокая ночь на дворе, маньяки так и шастают. Хотя бы глянула в глазок ради приличия.
— Кому я нужна, — беззаботно отмахнулась от упрёков бедовая моя помощница.
— Мало ли, — пробурчал я по инерции, после чего запоздало извинился: — Прости, что разбудил.
— Не извиняйтесь, шеф. Я не спала, в «Одноклассниках» чатилась.
Пояснила и, ничуть не церемонясь, стала разглядывать синяк на моей щеке. Мало того даже пальчиком обвела его контур.
— На Антарктиду похоже. Кто это вас так, шеф?
— Сам себе в порядке самокритики.
— Поня-я-ятно, — не поверив чистейшей правде, протянула Лера. Потом опомнилась: — Ой, что это мы на пороге. Проходите, я как раз кофе сварила.
— Кофе это хорошо, — переступая порог, сказал я. — Кофе это замечательно. Обязательно выпьем, но только чуть позже. — И уже захлопнув дверь, приказал: — Собирайся.
Брови Леры вновь вспорхнули испуганными пичугами:
— Не поняла.
— Чего тут понимать? Собирайся, подруга, мы едем ко мне.
— Зачем?
— Долго объяснять.
— Но, шеф…
— Так надо, — сменив тон, твёрдо произнёс я и, стараясь не напугать, объяснил, ничего не объясняя: — Мы, детка, атакованы, поэтому вводим в действие план «Глухая оборона». Поживёшь у меня под охраной брата, дабы не вышло лиха наподобие того, что приключилось в прошлом году.
Тут я попал в цель. Не хотелось девушке испытать экзистенциональный опыт, сродни прошлогоднему, совсем-совсем ей этого не хотелось, поэтому никаких вопросов больше задавать не стала и кинулась в комнату.
К моему великому изумлению долго не копалась, собралась проворно, без суеты. На всё про всё ушло у неё тринадцать минут. И это, между прочим, с двумя переодеваниями. Сначала домашние шмотки сменила на деловой костюм, потом вспомнила, что по пути домой сломала каблук на правом сапожке из той пары, который «сюда пляшет», и, скинув деловой костюм, натянула джинсовый. Ещё четыре минуты ушло на сбор сумки и минута на поездку в лифте.
Когда выкатились из подъезда под хлёсткие плети дождя, я, придерживая девушку за локоток, на всякий случай предупредил:
— В машине ждёт брат.
— Который из двух? — уточнила Лера и выстрелила в ночь лимонно-жёлтым.
Приняв у неё зонт, я ответил:
— Который Артём, — И, упреждая возможные проблемы, попросил: — Только не расспрашивай его, пожалуйста, о Честной Йо.
— Почему нельзя?
— После выхода из проекта для него это больная тема. К тому же он не очень любит этот аспект своего творчества, считает безделкой, халтурой ради денег. Так что убедительно прошу: о Невесте ни слова.
Когда подошли к машине, я, прежде чем открыть заднюю дверку, потребовал от девушки чёткого и однозначного ответа:
— Договорились?
— Договорились, — сказала Лера, после чего издала вздох разочарования.
Улыбнувшись ей признательно, я рванул дверку и пригласил с поклоном:
— Прошу.
Девушка ловко нырнула в салон, приняла у меня сумку с зонтом и бодро поприветствовала Ашгарра:
— Здрасьте, Артём Владимирович.
— Привет, — ответил ей поэт таким тоном, как будто она была его старой и доброй знакомой.
На самом деле виделись они до этого дня от силы раза четыре и то мельком. Правда, справедливости ради надо сказать, заочно друг другу знали неплохо, поскольку и Ашгарру я о своей помощнице много всякого забавного рассказывал, и Лере о своём «брате», авторе текстов всех песен знаменитой Честной Йо, тоже много чего.
Поэт сразу взял девушку в оборот, завёл разговор о всяком разном. Всегда поражался его способности часами болтать ни о чём — о погодах, модах и культурных кодах. Впрочем, и Лера была не прочь лясы поточить. Поиграла с минуту в игру «Найди в этих парнях десять различий» и ну щебетать. Ашгарр ей слово, она ему два. Она ему четыре, он ей восемь. Голубки, блин. Точно однажды подметил Владимир Маяковский: «Девушкам поэты любы, заговариваю зубы». Признаться, я даже приревновал немного. Хотя ревновать к себе самому это, конечно, глупо.
Не встревая в их праздный, похожий на сливочную тянучку, разговор, я всю дорогу поглядывал через зеркало на Леру. Пытался понять, произошли в её поведении какие-нибудь дурные изменения или нет. Ничего такого не заметил, выглядела как обычно — румянец на щеках и чёртики в глазах. Пребывала в бодром расположении духа, и, похоже, воспринимала всё происходящее как некое забавное приключение. Это радовало, однако не давало повода расслабиться. За самоубийцами из «Сибирских зорь» тоже поначалу никто ничего тревожащего не замечал, а когда заметили, было уже поздно.
Доехали без происшествий. Когда ввалились с промозглой улицы в какое ни есть, но домашнее тепло, Ашгарр сразу определил Леру в свою комнату.
Вообще-то, это он верно решил, его комната единственная из всех похожа на жилище человека. Во всяком случае, там хотя бы кровать нормальная стоит. Да и помимо кровати ещё много чего. Даже трюмо есть, а также персидский ковёр, аквариум с тропическими рыбками, торшер и — три ха-ха — пуфик. А ещё у него есть полки с книгами, ноутбук со скоростным доступом в Интернет и плазменная панель на полстены с кабельными каналами. Короче говоря, комната Ашгарра — островок уюта и цивилизации. У меня же из мебели только гамак да комплект домашнего кинотеатра, у Вуанга и того строже — старая, выгоревшая циновка. Наш воин, когда случается ему выбраться из подземелья на побывку, не заморачивается и спит прямо на полу. Упадёт, накроется какой-нибудь депрессивной газеткой для пенсионеров типа «Аргументов и фактов» и спит. До трёх часов ночи спит на левый глаз, а в «собаку» — на правый. Воин, он и есть воин, никогда не расслабляется.
Пока Ашгарр застилал свежее постельное бельё, юная прелестница бродила, словно по музею, по огромной четырёхкомнатной нашей квартире, а я при ней был за экскурсовода. Она спрашивала, а я вяло отбивался от расспросов. Без огонька отбивался. В отличие от «совы» Ашгарра я веду образ жизни «жаворонка», поэтому глубокой ночью — никакой.
— А зачем в телевизор палка вбита? — таким был первый вопрос Леры, когда зашла в кают-компанию (там мы про меж себя называем гостиную).
— Концептуально, — прикрывая зевок ладонью, ответил я.
— Типа осиновый кол?
— Типа.
— Забанили насмерть за оффтопик?
— Вот-вот.
Потом заглянула ко мне в комнату.
— Ваша нора?
— Угадала.
Балансируя, словно цирковая танцовщица на канате, она прошла по узкой, проторенной между завалов из коробок с видеодисками, тропинке, запрыгнула в гамак и стала раскачиваться. Покачалась-покачалась, потом закрыла от блаженства глаза и выдохнула:
— Как же у вас тут здорово, шеф. Просто, но здорово.
— Не жалуюсь, — обронил я, продолжая подпирать косяк двери плечом.
Накачавшись вволю, девушка выбралась из сетки, вернулась в гостиную и побрела в комнату Вуанга. Щёлкнув выключателем, удивлённо ойкнула. Кто угодно бы ойкнул. В свете лампочки без абажура: нештукатуреные стены, старая циновка, закапанная воском книга «Как закалялась сталь» в дорогом подарочном издании, огарок свечи в фарфоровой плошке с щербатым краем, вбитый в паркет штык от трёхлинейки и больше ничего.
— А это чья комната? — не сразу, а будто сомневаясь, можно ли об этом спрашивать, поинтересовалась девушка.
— Это апартаменты нашего третьего, — продолжая бороться с зевотой, ответил я.
— Петра Владимировича?
— Ну да.
— Харизматично тут у него.
— Угу.
— Но уж больно скромненько.
— А он у нас по жизни аскет.
— Оно и видно.
Помолчав немного, Лера спросила:
— А он где сейчас?
— Там, где и всегда, — ответил я. — В командировке.
— Ясненько.
И щёлк выключателем, чтоб никогда больше не видеть столь запредельную, остужающую кровь, суровость.
Вернувшись в гостиную, девушка без спросу схватила старую (не ту, которая концертная, а ту, которая, домашняя) гитару Ашгарра. Расчехлила, уселась в кресло у зашторенного окна и попробовала взять какой-то незамысловатый аккорд: зажав пятую и шестую струну на третьем ладу, потянулась средним пальцем к третьей струне на втором. Но тут заметила и прочитала вслух выцарапанную на верхней деке надпись:
Прыснула и спросила:
— Кто это учудил?
— Это Янка лак попортила, — отбирая у неё раритетную вещь, ответил я. — Заночевала как-то раз после «квартирника», выпила лишка, раздухарилась и вот чиркнула на память походной цыганской иглой.
— А кто такая эта Янка?
— Пропащая… — запихивая гитару в чехол, произнёс я.
— Светлая… — произнёс входящий в гостиную Ашгарр.
И хором закончили:
— Душа.
— А почему «восемь струн»? — задала Лера резонный вопрос. — Должно ведь «шесть». Ну или «семь».
— «Шесть», а равно «семь», ломает ритм строки, — принимая у меня упакованный инструмент, пояснил поэт.
— Зато правда.
Не сообразив сходу, чего такого умного ответить, я хотел было напомнить ей, что нет правды на земле, но передумал и промолчал. Уж больно банально. Зато Ашгарр нашёлся:
— У искусства своя правда, и эта правда высшая.
А Лера уже забыла про свой вопрос, поглядела на меня так, будто видит впервые, затем перевела изучающий взгляд на Ашгарра и спросила:
— Слушайте, а кто из вас старше?
— Пётр, — не моргнув глазом соврал Ашгарр.
— А потом?
— Потом он, — показал поэт на меня.
А у Леры уже созрел новый вопрос:
— Слушайте, давно хотела спросить, почему вы всегда в чёрных очках ходите? Даже вот ночью.
— Глазки у нас болят, — утомлённый её расспросами брякнул я первое, что пришло на ум.
— Что, у обоих, что ли?
— И у Ву… У Петра — тоже, — поддержал моё враньё Ашгарр. — Это у нас наследственное.
Лера хотела ещё что-то спросить, но я, уже взойдя на первую ступень раздражения, её опередил:
— Тебе спать не пора?
— Что-то пока, шеф, не хочется, — посмотрела она на меня умоляюще.
Тут Ашгарр, который на полном серьёзе взялся разыгрывать из себя гостеприимного хозяина, озаботился:
— Может, перекусишь чего?
— Было бы неплохо, — кивнула Лера.
— Сейчас что-нибудь сварганим на скорую руку, — пообещал поэт с показушным энтузиазмом.
— Ой, я могу глазунью приготовить, — предложила девушка. — Это быстро. У вас есть яйца?
Мы с Ашгарром переглянулись.
— В холодильнике, — смутившись, уточнила Лера.
— Нет, — ответили поэт. — Такой… Такого не держим.
Лера, которой, видимо, ужас как хотелось продемонстрировать свои недюжинные кулинарные способности, удивилась:
— Не любите яичницу?
— Аллергия у нас на яйца, — ляпнул я. — Как полопаем, так сразу пятнами покрываемся. И ещё это… чешемся.
Прозвучало это объяснение не очень убедительно, но не мог же я сказать правду и признаться, что нагону видеть, как кто-то разбивает яйцо, всё равно, что человеку видеть, как кто-то бьёт в живот беременную женщину.
А помимо того я в тот момент вот что подумал: ещё несколько подобных вопросов и мы в глазах не в меру пытливый девицы окончательно предстанем неизлечимыми калеками.
— Перепелиные не пробовали? — спросила девушка, обращаясь прежде всего к Ашгарру. А когда тот мотнул головой, дескать, нет, посоветовала: — Обязательно попробуйте.
— Попробуем, — пообещал Ашгарр и поторопился замять неприятную тему: — Я бутерброды с ветчиной сделаю. Будешь?
— Буду, — легко согласилась Лера.
— Ладно, — сказал я, — давайте, братцы, гоняйте чаи, лопайте бутерброды, а я под душ и в люльку. Скоро вновь на передовую.
— Шеф, а мне завтра… — начала было Лера.
Но я её перебил:
— А у тебя завтра законный выходной. Точнее уже не завтра, а сегодня.
— Но, шеф…
— Что ещё?
— Вы так и не объяснили, что происходит.
— Оно тебе, подруга, надо?
— Ну как… — Девушка пожала плечами. — Наверное, надо. Волнуюсь за вас.
— А вот не надо за меня волноваться, — попросил я, нервно пощёлкав пальцами. — И знать ничего тебе не надо. Меньше знаешь, крепче спишь.
Выдал железобетонную банальность и подумал, что вопрос на этом исчерпан. Но моя беспокойная помощница и не подумала уняться.
— Шеф, а может быть я вам как-то…
— Помолчи, а, — грубо осадил её я порыв.
Губы Лера сжались, ресницы захлопали, глаза наполнились слезами.
Ну ты, дракон, и хамло, подумал я о себе уже в следующую секунду. Мало того, что втянул девчонку в очередную бяку, так ещё и, психуя по этому поводу, орёшь на бедняжку.
Подстёгнутый идущими от Ашгарра токами осуждения, подошёл к Лере, погладил успокаивающе по плечу и виноватым голосом произнёс:
— Слушай, подруга, ты можешь с доброжелательным пониманием отнестись к моему молчанию?
Она подняла на меня покрасневшие глаза.
— С доброжелательным пониманием?
— Угу, — кивнул я.
Для проформы помолчав немножко, девушка облегчённо шмыгнула и ответила:
— С доброжелательным пониманием — могу.
После чего повела плечиком трогательно и одарила взглядом полным смирения.
— Вот и молодец, — похвалил я. Затем, поглядывая с иронией на Ашгарра, пропел за Николая Расторгуева (на самом деле — за Олега Ануфриева) «Уйду с дороги, таков закон — третий должен уйти», отвесил шутливый полупоклон и потопал в ванную.
Шёл и думал: а ведь сейчас гляну в зеркало и наверняка обнаружу, что на башке прибавилось седых волос.
Ни фига не ошибся.
Глава 10
Будильник в мобильном был выставлен на семь сорок и когда прокукарекал, я своим ушам не поверил. Как так? Ведь только лёг. Вставать не хотелось, не выспался, не отдохнул после безумно трудного дня. И когда бы ни стояла передо мной задача по спасению Леры, чёрта лысого я бы поднялся в такую рань. Другие причины не прокатили бы. Ни деньги, ни жажда мести, ни известная тяга к справедливости не вытащили бы меня в ту минуту из гамака. Да и Леру-то спасать, честно говоря, кинулся не сразу. Стыдно признаться, но какое-то время после пробуждения лежал, находясь на границы сна и яви. Глаза слипались. Мысли путались. Губы шептали: сейчас, ещё немножко, ещё секундочку, ещё чуть-чуть. И не знаю, долго бы вёл себя столь позорно, когда бы — спасибо тебе, услужливое подсознание, — ни пригрезилось вдруг, что моя помощница, сидя в тёплой ванне, режет себе вены кухонным ножом. Ярко, очень ярко, во всех мельчайших подробностях мне эта жуткая картинка пригрезилось. В миг очухался, вылетел из сетки и поскакал в комнату Ашгарра. С такой прытью поскакал, что потерял по дороге левый тапок.
С Лерой всё было в порядке. Наряженная в смешную полосатую пижаму прижимала к себе плюшевого медвежонка и сопела в две дырочки под убаюкивающий перестук дождя.
Я подошёл к кровати, поправил одеяло.
— Умиляет картинка, да? — прошептал Ашгарр. Он сидел в кресле у двери и выводил в блокноте какие-то каракули.
— Угу, сейчас слюну пущу, — поскребя растительность на груди, буркнул я. Затем кивнул в сторону спящей красавицы и вполголоса спросил: — Как она в целом?
— Пока нормально.
— Проснётся, подхвати её сознание своим и держи. Чёрную волну почуешь, гаси. Сразу гаси, не дай подняться.
— Не переживай, сделаю, — пообещал Ашгарр. Поколебался секунду и предложил: — Слушай, я тут вот что подумал, а может, нам ножи-вилки попрятать?
Вот откуда страшная картинка пришла, догадался я. И так оценил его предложение:
— Глупость. — А чтобы не обиделся, поторопился объяснить: — Тогда и окна нужно заколотить, и воду перекрыть, и электричество вырубить, и защёлки в клозете и ванной выдернуть, и… И фиг его знает что ещё сделать для того, чтобы превратить квартиру в тюремную камеру. Сможем? Вряд ли. Поэтому просто контролируй эмоциональный фон и подавляй негатив.
— А если не справлюсь?
— Куда ты, блин, денешься.
— А если Силы не хватит?
Вот что Ашгарру всегда прекрасно удавалось, так это заронить в нашу общую душу зерно сомнения.
Показав ему кулак, я выразил уверенность:
— Хватит. — Потом перестраховался и на всякий случай посоветовал: — Но если всё-таки ощутишь слабину, не рискуй, сразу усыпи девчонку.
Ашгарр кивнул машинально, а потом вдруг задумался:
— Усыпить? А чем усыпить?
— Да не важно чем. Чем угодно. Мятой накорми, сказку расскажи, колыбельную спой, на крайняк заклинание какое-нибудь усыпляющее сплети. Одним словом, гляди по обстановке.
— А какое заклинание на твой взгляд тут лучше использовать?
Едва не сорвавшись на крик, я зашипел:
— Да что ж ты вечно как ребёнок малый, чёрт тебя дери.
Как ни сдерживал себя, всё равно вышло громко. Лера зашевелилась, повернулась на другой бок и пробормотала во сне что-то невнятное.
— Тсс, — приложил Ашгарр палец к губам.
Я подождал, пока Лера успокоится, наклонился к поэту и прошептал ему в ухо:
— Помнишь, как Сонного Тумана напустить?
— Который лавандой пахнет?
— Ну.
— Помню.
— Вот и напусти, когда невмоготу станет. Понял?
— Понял.
— Всё, я ушёл. Одолею врага, позвоню. Ну и ты, если что, тоже не стесняйся, звони.
— Удачи тебе, маг, — благословил меня Ашгарр взмахом руки, но не успел я сделать и шага, как он меня остановил: — Эй, Хонгль.
— Что? — замер я на месте.
— Только ты давай там поаккуратней как-нибудь. Знаю, повестка у тебя сегодня насыщенная, но не забывай о вампирах.
— И ты никому дверь не открывай. А если вдруг откроешь, в гости не приглашай.
— Ни за какие коврижки, — поклялся поэт, после чего предложил: — Слушай, а может, тебе чуток Силы отсыпать?
Предложение было заманчивым, но я, не без внутреннего борения преодолев искус, отказался:
— Спасибо, не надо. Важно, чтобы тебе хватило, а я уж как-нибудь «консервами» перебьюсь. Мне не впервой.
И, похлопав ободряюще Ашгарра по плечу, поплёлся в ванную.
Душ принимать не стал, бриться тоже, быстро, по-солдатски, умылся, в сто первый раз пообещав себе в процессе сменить прокладку в кран-бухте горячей воды, после чего порулил на кухню. Без особого аппетита проглотил не доеденные Лерой бутерброды, запил их бадьёй кисловатого на вкус кофе, глянул в окно (серо там было, пасмурно), вздохнул и — а что делать? — пошёл одеваться-обуваться.
По лестнице спускался, сунув руку подмышку и держа палец на спусковом крючке. А когда вышел на улицу, внимательно оглядел двор — нет ли где засады?
Засады не было.
Зато было всё то же осеннее ненастье. Дождь хотя и заметно ослаб, вовсе не думал сдаваться, накрапывал с унылой монотонностью. Расстрелянные каплями лужи отражали серое небо. Деревья безвольно роняли остатки листвы. Ветер, чтоб не скучать, гонял по двору кусок целлофана.
Картинка подстать настроению, вздохнул я, поёжился, поднял ворот куртки и, старательно обходя лужи, направился к машине. Болид стоял там, где я его и бросил, — на стоянке возле дома. Не стал ночью в гараж загонять, поленился или, как нынче говорят, обломился. Вот потому, когда подошёл, первым делом прижал руку к груди и попросил прощения:
— Извини, дорогой, что в стойло не затолкал. Так уж вышло. Даю слово, подобного больше не повторится.
Сказал и погладил любовно по мокрой крыше.
А когда вскинул брелок, чтобы вырубить сигнализацию, тут-то и услышал со стороны игровой площадки сдавленный звук, напоминающий одновременно и плач, и вой. В нечеловеческом этом оу-уа-у-у-у было столько тоски и боли, что меня аж передёрнуло всего. Подумал, что за дела такие мрачные? Ну и, само собой разумеется, пошёл глянуть, кого это так круто жизнь прижала. Долго искать не пришлось. Под пластиковым желобом выкрашенной в кричащие цвета детской горки обнаружил дворового пса Кипеша, это он так жутко выл-завывал. Как увидел его в таком состоянии, аж сердце захолонуло, даром что припрятано.
Дело в том, что дворянин этот кудлатый не чужое для меня существо, в своё время довелось мне принять в его судьбе самое что ни на есть активное участие. И в его судьбе, и в судьбе пятерых его сестёр-братьев. Так уж вышло, что именно я первым наткнулся на корзину с шестью щенятами, которых какой-то бессердечный обормот подкинул в наш подъезд три года назад. Выползаю, помню, из квартиры вот так же поутру, а они такие пищат жутко-жалобным писком. Сперва я не понял, кто это там пищит, решил, что крысы-разведчики очередного Охотника. Но затем поднимаюсь с взведённым пистолетом на площадку между третьим и четвёртым этажом, смотрю и вижу: барахтаются в корзине вонючки смешные. Сердце, конечно, дрогнуло. Пожалел подкидышей. Разыскал дядю Мишу, дворника нашего, выдал ему, не помню уже, какую сумму, всучил найденную корзину и отправил прямиком на птичий рынок. Пятерых дворник перепоручил тем тороватым дамам, которые зверьём торгуют, а шестого, самого шустрого, себе оставил. Приглянулся он ему чем-то, запал в душу. Назвали мы его за натуру энергичную Кипешом, воспитывали всем двором и всем же двором подкармливали. Вырастили миром это чудо лохматое. И вот это вот чудо невнятной породы и скулило теперь с утра пораньше от дикой боли. Скулило и плакало. Плакало навзрыд, но без слёз. Так умеют плакать лишь бродячие псы и детдомовские дети.
Едва я приблизился, Кипеш испугано взвизгнул, вскочил и рванул в сторону песочницы, поджимая хвост и держа навесу переднюю левую лапу. Но уже через секунду узнал-учуял меня, успокоился, лёг на мокрый песок и дал подойти.
— Кто это тебя так? — наклонился я к болезному.
Помахав приветственно хвостом, пёс честно попытался всё объяснить, но из сумбурных жалоб, из невнятного скулежа я уловил только одно: зашиб его какой-то злой человек.
— Это я и сам понимаю, что злой, — прощупывая его больную ногу на предмет перелома, сказал я. — Но кто конкретно?
Ничего толком мне пёс не ответил, а всё твердил и твердил заполошно про злого-презлого человека.
Ни перелома, ни трещины я не обнаружил, а против всех ушибов, ссадин и гематом у меня одно средство — собственноручного приготовления бальзам из тридцати трёх трав и одного волшебного зёрнышка. Пусть средство не патентованное, ни в каких инстанциях не зарегистрированное и клинических испытаний не прошедшее, зато проверенное на себе любимом. Сколько раз уже так бывало: намазал бо-бо, пятнадцать минут потерпел и снова жених. Ни одной осечки ещё не случалось. Поэтому и пользую без разбора этой самопальной мазью всякого, кто пожалуется.
Закончив осмотр, я поднял Кипеша на руки и, с удовольствием вздыхая ядреный запах мокрой псины, отволок в беседку. Наказал ждать и не ныть, сам же метнулся к болиду (банка с бальзамом у меня завсегда в аптечке), а когда вернулся и приступил к врачеванию, из подъезда на пару с лопоухим своим внуком вышла Зинаида Петровна, соседка с восьмого этажа.
За глаза эту юркую шестидесятилетнюю тётку называет местный люд Зинкой Контрой или просто Контрой. Точно не знаю, почему её так окрестили (до моего заселения дело было), но догадываюсь. Да тут, собственно, особо и догадываться-то нечего: характер у дамы тот ещё, скандальней не бывает, чуть что, сразу срывается на крик. Не приведи Сила попасть ей под горячую руку, а тем более стать её личным врагом.
Проходя мимо беседки, Контра заметила, что корчу из себя Айболита, не утерпела, подошла поближе и, выполняя свой гражданский долг, незамедлительно донесла после обмена приветствиями:
— Это его, Егор, новый жилец подлюга изувечил.
— Кто таков будет? — уточнил я.
Контра перехватила зонт в левую руку, аккуратно при этом передвинув спящего на ходу внука, огляделась по сторонам и, убедившись, что во дворе кроме нас никого нет, стала выдавать заговорщицким тоном:
— Крутой тут один трёхкомнатную недавно купил в первом подъезде. Ага, Егор, купил паразит. Оно чего ж, скажи, не купить, когда денег куры не клюют. Да, Егор?
Я неопределённо повёл плечами, и Контра продолжила:
— Три месяца с лишком ремонт делал, стены двигал, всех соседей изводом страшным извёл. Самоедова Нинка насколько уж баба спокойная, а и та не выдержала, в управу жалобу накатала. Все подписались. Весь подъезд. Но толку-то? Крутой кому надо давно уже, поди, сунул. Даже не сомневаюсь. Чего ж ему, скажи, не совать, когда денег куры не клюют. Сунул-сунул. А давеча переехал изверг. Нажрался на радостях и вон оно что учудил. Пса искалечил.
Сообщив всё, что не терпелось ей сообщить, Контра вновь перехватила зонт и, словно шахматную фигуру на доске, переставила внука.
Продолжая тщательно натирать мазью лапу поскуливающего Кипеша, я несколько секунд переваривал услышанное, после чего сказал:
— Признаться, заинтриговали вы меня, Зинаида Петровна. Давненько у нас ничего подобного не случалось. Ну и каков же этот хулиган из себя?
— Увидишь, — охотно пояснила тётка, — сразу узнаешь. Морда — во. Живот как у бабы на сносях. Клоп клопом.
— А точно это он Кипеша? Ничего не путаете?
Лицо Контры исказила гримаса обиды:
— Что ж я совсем что ли, Егор. Я ж всё самолично видела. Вот этими вот глазами видела. Да и как было не увидеть, скажи, когда крик-визг на весь двор стоял. Во, послал-то Господь соседушку. Да?
— Из какой, говорите, он квартиры?
— Так из четырнадцатой.
Прекрасно зная миролюбивый нрав Кипеша, я во избежание недоразумения (а ну как грех навешу на пострадавшего), счёл нужным уточнить:
— А чего это вдруг он на пса взъелся? Или Кипеш сам кинулся?
— Кинулся, — подтвердила Контра.
— Быть такого не может.
— Кинулся-кинулся. Как увидел, что мордатый Кузьмича охаживает, так сразу и кинулся.
Я своим ушам не поверил:
— Кузьмича?! Он это что же, Михаила Кузьмича ударил?
— Ударил? — Контра всем своим видом показала, что просто-таки поражается моей наивности. — Скажешь тоже, Егор. Не ударил он его, а смертным боем бил. Ты слушай-слушай, я тебе расскажу, как дело было. Всё вечером случилось, «Две судьбы» как раз по первому закончились, получается в десять. Так вот. Вышла я на балкон кастрюльку с борщом выставить, слышу звон. Гляжу, вижу. Оказывается, паразит этот бутылку пустую с балкона швырнул, та на асфальт и вдребезги. А тут на беду Кузьмич ковылял из «стекляшки», увидел безобразие, сделал замечание. Оно чего ж, скажи, Егор, замечание не сделать, когда такое творится. Да? Сделал. А паразит не поленился, спустился вниз и давай Кузьмича трепать. И по лицу ему кулачищами своими огромадными, и по лицу. А когда Кузьмич упал, так ещё и ногами стал его пинать. Прямо не знаю, что за зверь-то такой. Фашист просто какой-то, ей богу. Я как увидала, что вытворяет, так вся буквально обомлела. Забыла, зачем на балкон вышла, так и застыла с кастрюлей в руках. А как, скажи, Егор, тут не обомлеть-то? Не каждый же день подобный ужас видишь живьём.
— Ещё бы, — поддержал я Контру. — Конечно. — И, хотя в душе уже всё клокотало, поинтересовался сдержано-делово: — Ну? И чем же дело кончилось?
— Чем-чем. Ясно чем. — Контра кивнула в сторону Кипеша. — Этот вот как раз с гулянок вернулся, подскочил с лаем, давай Кузьмича отбивать. Да только не бульдог, поди, сразу своё получил. Пнул его фашист копытом. А как пса уделал, так снова за Кузьмича взялся. Тут я уже опомнилась и давай орать. Оно чего ж, скажи, Егор, не заорать, когда такое смертоубийство творится? Да? Заорала. Так заорала, что паразит враз остыл.
Это ты, Контра, умеешь, подумал я. Что умеешь, то умеешь. Визг твой что та сирена милицейская.
А вслух похвалил:
— И правильно сделали. И хорошо, что не побоялись.
Глаза Контра заблестели и от моей похвалы, и от осознания собственной удали. Она хмыкнула горделиво, дескать, ещё бы я побоялась, после чего помыслила храбро:
— В милицию надо заявить на фашиста.
Я засомневался:
— Думаете?
— Надо, — держалась героическая тётка своего. — Обязательно, Егор, надо. Всенепременно. — Но уже в следующий миг мысль её совершила сальто-мортале: — Хотя ведь откупится подлюга. Как пить дать откупится. Чего ж не откупиться, скажи, когда денег куры не клюют. Да? Откупится.
Поделилась своей тревогой и уставилась на меня в ожидании реакции. Шибко интересно ей было, как отреагирую. Как правильный пацан или как чмо последнее. Нет, не обманул я её ожиданий, сказал, чеканя каждое слово:
— Полагаю, Зинаида Петровна, на первый раз мы всё-таки без органов правопорядка обойдёмся. Сами разберёмся. Чисто по-соседски. И по-мужски.
Прекрасно понимая, чай не первый год на свете живёт, смысл выражения «по-мужски», она одобрила мою решительность:
— А вот это вот, Егор, ты молодец. Так с ним, паразитом, и нужно — по-мужски. — В очередной раз перехватила зонт, попрощалась со мной сдержанным кивком и потянула сонного внука: — Пойдём, Эдик, пойдём скорей, стоим тут, лясы точим, а сами на тренировку как непонятно кто опаздываем.
Подождав, когда они скроются в сумраке арки, я щелкнул забалдевшего от моей заботы пса по носу:
— Говори, так дело было?
Кипеш, который стал теперь пахнуть луговым разнотравьем в канун июльского покоса, подтвердил правдивость рассказа Зинки Контры печальным шмыганьем. Глянув на часы, я сунул банку с бальзамом в карман, поднял пса на руки и направился к двери в подвал. Решил, что стоит нанести Кузьмичу краткосрочный дружеский визит на высшем уровне. Судя по рассказу Контры, было ему сейчас несладко.
Дворник Кузьмич, в народе известный также как дядя Миша Колун, он у нас что-то вроде местной достопримечательности. Исключительный человек. Такой он праведный, благочестивый и смиренный, что хоть икону с него пиши. Натуральный исусик. Что удивительно, был таким не всегда. Из семидесяти своих неполных лет без малого двадцать провёл в местах не столь отдалённых. На двадцати дело, разумеется, не закончилось бы (а если бы и закончилось, то исключительно «стенкой»), да случилось однажды с дядей Мишей чудо чудесное. В феврале семьдесят девятого, на одиннадцатые сутки пребывания в ШИЗО исправительного учреждения N272 дробь 6, явилась его взору Матушка-Заступница. Прямо из стены ночью поздней вошла она к нему в узилище. Светом, от нимба исходящим, ослепила, наложила руки на чело и, произнеся слова «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой», наставила на путь истинный. После чего ушла, так же как пришла, прямиком через исчёрканную проклятиями и непотребными граффити каменную стену.
После этого удивительного происшествия и стал до того ломом подпоясанный вор-рецидивист Мишка Колун совершенно другим человеком. Осознал, как пишут в правильных газетах, всю глубину своего падения, переосмыслил жизненные ценности и взялся за ум. За ум — образно говоря, в практическом же плане взялся, когда на свободу вышел, за метлу. Само собой разумеется, существует на белом свете масса других богоугодных занятий, только, к превеликому сожалению, не ко всем из них мог приложить руки человек, который вместо паспорта имеет справку об освобождении, исполненную по очень строгой форме «Б». Поэтому поначалу так. А потом уже привык. А потом и во вкус вошёл.
Трогательную эту историю знаю исключительно со слов самого дяди Миши и, хотя второе правило драконов рекомендует никогда и ни при каких обстоятельствах не верить людям, ему я верю. Надо же хоть кому-то верить. Тем более что мне это ничего не стоит. Ну, если не врать, почти ничего. На самом деле, конечно, кое-чего стоит. Будучи причисленным к сонму небезнадёжных, я теперь вынужден выслушивать душеспасительные речи просветлённого дворника. Всякий раз как поймает он меня где во дворе, сразу начинает лечить. Но это, если расслабиться и не вдаваться, терпимо. Во всяком случае, до сих пор было именно так.
Но в это утро дяде Мише было не до бесед-разговоров.
Когда я вошёл в его каморку, он лежал на топчане и тихо постанывал. Пёс, которого я опустил на пол, сразу похромал к своему главному хозяину и лизнул в безжизненно свисающую руку. Я тоже подошёл и наклонился к старику:
— Как ты тут, Михаил Кузьмич?
На его лице не было живого места. Да и не лицо это было вовсе, а один сплошной синяк. Нос разбух, глаза заплыли, губы кровоточили. Жуть.
Услышав мой голос, дворник вздрогнул и, превозмогая боль, попробовал приподняться.
— Ты лежи, лежи, Михаил Кузьмич, — придержал я его за плечо. И добавил тоном опытного эскулапа: — Пока не нужно тебе лишний раз вставать.
Старик вновь повалился на подушку, кашлянул с нехорошим всхлипом и произнёс, перебивая свои слова тяжёлыми паузами:
— Видишь, Егор Владимирович, как я сдуру-то нарвался.
— Вижу, — сказал я, поправив сползшее одеяло. — Голова как? Не кружится?
— Да вроде нет.
— Не мутит?
— Слава Богу.
— Может в больничку тебя, Михаил Кузьмич, определить? — предложил я. — Запросто устрою. Только скажи.
— Пустое, — отказался старик. — Бог даст, сам оклемаюсь. Кости целы, а мясо заживёт. Да, Кипеш?
Кряхтя и постанывая, он повернулся набок и потрепал тыкающегося в руку пса. Тот взвизгнул в ответ радостно и замахал хвостом.
— Ну, как знаешь, Михаил Кузьмич, как знаешь, — посетовал я, вынул из кармана и поставил банку с бальзамом на тумбочку. — Вот тут я тебе мазь принёс целебную. Помажешь болячки, всё как рукой снимет. Сумеешь? Или давай я намажу?
— Не надо. Сам справлюсь. Не совсем же ещё.
— Ну, смотри.
— Да не переживай ты так, Егор Владимирович. Оклемаюсь я. Ты иди. — Тут дядя Миша не выдержал, всхлипнул и быстро втёр в щёку предательскую слезу: — Золотой ты человек.
Почти угадал, подумал я. И чтоб скрыть смущение, поторопился сказать:
— Ладно, держись, Михаил Кузьмич, не раскисай. А я пойду с обидчиком твоим потолкую с глазу на глаз.
Не смотря на всю свою больную немощь, отреагировал на мои слова дядя Миша незамедлительно.
— Не надо, — прохрипел он. После чего зашёлся долгим кашлем. А когда сумел справиться с приступом, повторил настоятельно: — Христом Богом прошу, не надо его трогать.
— Что, вторую щёку, что ли, подставим? — опешил я. И сразу высказал своё на этот счёт мнение: — Непротивление злу как идея имеет, конечно, право на существование, но, Михаил Кузьмич, всему же есть предел. Ты подумай.
— Не обижай ты, Егор Владимирович, несчастного, — настаивал дядя Миша. — Его и так уже Бог обидел.
Я недовольно покачал головой:
— Такое, значит, твоё последнее слово, Михаил Кузьмич?
— Да, Егор Владимирович, такое, — слабым, больным голосом, но категорично ответил божий человек.
— Ладно, не буду руки марать, — пообещал я уже с порога. — Пальцем не трону. Клянусь. Я ему, Михаил Кузьмич, только в глаза посмотрю. Чисто из научного интереса.
После этих слов я опустился на корточки и почесал за ухом приковылявшему проститься Кипешу. А когда он с той доверчивостью, которая дорого стоит, положил морду мне на колено, сказал тихо, так, чтобы дядя Миша не услышал:
— Что, брат, тяжко без крепкой стаи?
Кипеш протявкал, что да, ничего хорошего в таком положении дел нет.
— Ничего, — пообещал я, — мы это дело поправим. Теперь я буду твоей стаей.
Пёс охотно согласился с таким предложением.
— Только чур, я вожак, — добавил я.
Пёс и тут не стал возражать, и залился, провожая меня, заговорщицким лаем.
Выбираясь из подвала, я недоумевал: что за бред? Что за бесчинство такое? На каком таком основании какой-то хунвейбин отдубасил дворника, который метёт мой двор, и покалечил пса, который стережёт мой дом? По какому такому праву он это сделал? По праву сильного? Так нет такого права. А кто думает иначе, тот глубоко ошибается.
Хотя я и пообещал клятвенно Кузьмичу пальцем гадёныша не трогать, но спускать это дело на тормозах вовсе не собирался. За две секунды уговорил себя, что выражение «пальцем не трону» не означает «вообще никак не трону», и, памятуя, что лишь то возмездие хорошо, которое вершится вовремя, приступил незамедлительно.
Нет-нет, не сиюминутный то был порыв, но естественное и закономерное обращение к выстраданным и укоренившимся в моей душе представлениям о правильном мироустройстве. Спору нет, со временем у меня было туго, ждали своего разрешения серьёзные, нешуточные проблемы, но с другой стороны: разве является восстановление порушенных основ мирозданья проблемой менее серьёзной? Ну уж нет.
И первым делом покатил я в гараж, где в дальнем тёмном углу, за аккуратно сложенным комплектом зимней резиной, уже две недели обитала у меня тень-сирота. Та самая тень, которую я так удачно, холодея от собственной дерзости, стащил у демона разрушения крым-рыма. Истреблять я её в ту памятную ночь не стал. И поутру не стал. И потом не стал. Не то чтоб рука не поднялась, а просто решил поступить по совести. Да и потом: чтоб тварь безвинную почём зря угробить, это нужно человеком быть. А я не человек. Я дракон. Короче, не стал убивать, стал дрессировать. А если называть вещи своими именами, то — воспитывать.
За прошедшие две недели питомица моя заметно изменилась и изменилась, без лишней скромности говоря, в лучшую сторону. Из чёрного пятна с дремучими повадками превратилась в послушный, похожий и размерами, и кудлатостью на перекати-поле, фиолетовый шар. Не узнать её теперь. Совсем не узнать. Абсолютно. Что значит щадящие заклятия и хорошая, приправленная добрым словом, кормёжка. Да-да — именно добрым словом. Нет, безусловно, не понимает тень ни человечью речь, ни драконью, но интонацию преотлично улавливает. Интонация, она сродни языку четырёх стихий, её всякая тварь разумеет. Даже самая невероятная.
Вломившись в гараж, свет включать я не стал (нельзя этого делать, робеет тень от грубого искусственного света). Прикрыл за собой створку плотно и позвал:
— Фифа, Фифа. Катись сюда, кушать будем.
— Фьюшть-фьюшть, — сразу зашелестела тень, выкатилась из своего угла и, озаряя тёмное нутро гаража переливчатым лиловым сиянием, покатила на зов. Подобравшись, шаркнула мохнатым боком по ботинкам, затем отскочила в сторону и закружилась волчком. Это она так радость проявляет. Чем ей радостней, тем быстрее крутить свои фуэте. Чем быстрее крутит, тем больше света от неё исходит. Вволю накружившись, тень попросила корма:
— Фьюшть-фьюшть.
И снова потёрлась о ботинки.
— Сейчас, Фифа, сейчас, — успокоил я нетерпеливую затворницу. — Всё тебе сейчас будет.
Стянул с верхнего стеллажа коробку из-под принтера, зачерпнул из неё и рассыпал по полу щедрую горсть подсушенного лунного света.
Так уж устроен этот сотканный из парадоксов мир, что тень, дитя темноты, не способно долго жить без света. В прошедшее полнолуние я специально забирался на крышу дома, чтоб намести веником из прутьев кладбищенской ивы лунного света впрок. Три мешка насенокосил. Самого сочного, самого спелого. Правда, после трёхчасовой сушки на предрассветном ветру содержимое трёх мешков поместилось в одну небольшую коробку. И хотя тень не корова, ест немного, в ближайшее полнолуние мне вновь предстояло гулять по крыше с волшебным веником наперевес. А что делать? Мы в ответе за тех, за кого в ответе.
Когда Фифа схрумкала в охотку три полных горсти и на том успокоилась, я спросил:
— Наелась?
— Фьюшть, — отозвалась тень.
— Ну а как насчёт того, чтоб погулять? Пошалить нет желания?
— Фьюшть-фьюшть.
Швырнув на пол пустой мешок из-под сахара, я приказал:
— Тогда забирайся живее.
И тень, опасаясь, что передумаю, поторопилась.
Ууже вскоре я стоял с мешком на плече перед дверью в квартиру номер четырнадцать и выводил спартаковскую трель с помощью кнопки звонка.
— Кто? — минуты, наверное, через две беспрерывного пеликанья спросил меня раздражённый голос.
— Дед Мороз, — представился я и, упреждая возможный вопрос, сообщил о цели своего визита: — Принёс коматоз.
Дверь отворилась, и я увидел кряжистого мордоворота в сине-красном боксёрском халате с капюшоном.
— Ну? — вякнул он, поигрывая плечом и прощупывая меня стальным взглядом глаз-пуговок.
Скинув мешок с плеча, я сказал:
— Хочу поговорить насчёт вчерашнего казуса.
— Ну.
— Вы, уважаемый, давеча старичка здешнего изволили изволтузить, так вот…
— Мент?
— Нет.
— Родственник?
— Нет.
— Свободен.
И мордоворот резко захлопнул дверь перед моим носом.
— Верно, — согласился я с его последним утверждением. — Свободен. Словно птица в облаках. С диким ветром наравне. — Но тут же и возразил и ему, и себе: — Верно-то верно, но с другой стороны, жить в обществе и быть полностью свободным от него, к сожалению, нельзя. Как бы отчаянно порой этого ни хотелось.
С этими словами вынул Ключ От Всех Замков и поднёс его жало к хитро-мудрому отверстию заморского замка. Жало, выкованное колдуном Лао Шанем из чудесного сплава, ожило на глазах, тут же перешло в то самое агрегатное состояние, которое позволяет ему принимать любую форму, юркнуло змейкой в дыру, растеклось там, а через секунду вновь застыло. Я трижды провернул Ключ и потянул на себя стальное полотно.
Вторая дверь оказалась незапертой.
Мордоворот не слышал, как я вошёл. Да и не мог слышать, где-то в глубине квартиры очень громко работал телевизор. Передавали, кстати, прогноз погоды. К вящему своему удовольствию выслушав информацию о том, что к полудню теплый сектор азиатского циклона принесёт в Город потоки тепла, я вытряхнул Фифу из мешка.
— Фьюшть-фьюшть, — обрадовано просвистела тень.
— Гуляй, — разрешил я, — у тебя три минуты. Максимум — пять.
Тень покатила в квартиру, а я вышел на лестничную клетку. Подложив мешок под задницу, устроился на ступеньках и закурил первую за утро сигарету. После двух сладких затяжек вытащил мобильный и позвонил Холобыстину. На мою удачу главный редактор «Сибирских зорь» был ещё дома.
— Доброе утро, Семён Аркадьевич, — поздоровался я. — Это Тугарин.
— Утро доброе, Егор Владимирович, — отозвался господин литератор и добавил с красноречивым вздохом: — Надеюсь, оно на самом деле будет добрым.
— А это, Семён Аркадьевич, прежде всего, зависит от нас.
— Ну да, ну да.
Я затянулся, выпустил дым через ноздри и, отмахнув его от лица, сказал:
— У меня к вам вопрос, Семён Аркадьевич. Можно?
— Ради бога, — с готовностью сказал Холобыстин.
— Скажите, вам знакомо имя Всеволода Бабенко?
— Бабенко? Всеволода? Ну, конечно! А как же! Всеволод Михайлович наш постоянный автор, подборки его стихов публикуем в каждом… ну практически в каждом номере. И в последнем, кстати, тоже его стихи есть. В этот раз он малость оплошал, принёс рукопись за день до сдачи номера, однако Эльвира Николаевна, царство ей небесное, место для него нашла. И не удивительно. Всеволод Михайлович прекрасный поэт. Замечательный. Неизменный участник всех Балбашевских чтений. В лучшие годы, кстати, являлся сопредседателем поэтического фестиваля имени…
— И превосходно, — грубо прервал я трындёж господина литератора. — А вы не подскажите, как мне его найти?
— Это необходимо для расследования? — зачем-то уточнил Холобыстин.
Нет, усмехнулся я про себя, автограф хочу у него взять. Горю весь от нетерпения.
А вслух сказал:
— Угу, для него, для расследования. Есть необходимость переговорить с ним по вашему делу.
— Он что, каким-то образом замешен? — забеспокоился Холобыстин.
— Мы же договорились, Семён Аркадьевич, что вы вопросов по существу расследования задавать не будете, — напомнил я ему холодно. После чего уже более мягким тоном сказал: — Просто поверьте, что мне с ним необходимо переговорить. И чем быстрее, тем лучше.
— Вообще-то он загородом живёт, — ответил Холобыстин. — Городскую квартиру давно продал, купил дом в Оглоблино. Подождите секунду, я гляну адрес.
Я успел докурить сигарету, прежде чем на том конце раздалось:
— Записывайте.
— Секунду, — сказал я и вытащил записную книжку с ручкой. — Готов, диктуйте.
— Улица Нагорная, дом шесть.
— А телефон?
— Телефона у него, к сожалению, нет. После смерти жены, живёт отшельником. Бежит людей.
— Ну что ж, Семён Аркадьевич, спасибо и на этом.
Я уже было собрался отключиться, но Холобыстин успел спросить:
— Егор Владимирович, а как там наше дело в целом и общем?
— Продвигается, — сухо ответил я.
— Егор Владимирович, я…
Господин литератор неожиданно замолк и, в поиске нужных слов, напряжённо задышал в трубку.
— Алло, Семён Аркадьевич, — выждав некоторое время, поторопил я. — Слушаю вас, говорите.
Наконец он разродился:
— Я бы, Егор Владимирович, хотел извиниться за то, что не явился вчера на встречу. Видите ли…
— Семён Аркадьевич, — не желая тратить время на бесполезное выяснение отношений, прервал я его исповедь. — Всё прекрасно понимаю и претензий не имею. В конце концов, у каждого из нас свои недоставки и свои достоинства.
— Спасибо за понимание, — промямлил господин редактор. — И… И держите меня в курсе.
— Обязательно, — пообещал я и отключился.
Закончив разговор с Холобыстиным, трубку прятать не стал и сразу позвонил Серёге Белову. Однако сходу связаться не получилось, мобильный телефон главного опера городских Молотобойцев оказался занят. Прекрасно понимая, что телефон столь важной шишки может быть занят надолго, набрал номер штаб-квартиры. Линия у них многоканальная, тут не промажешь. После того, как соединение произошло, милая девушка-оператор проинформировала меня:
— Вы позвонили по номеру Городского филиала неправительственной общественной организации «Благоденствие без границ».
Я отвесил комплимент:
— У вас приятный голос. — И произнёс пароль: — Меч и объятия.
— Переключаю, — сказала девушка.
— Спасибо, душечка, — успел вставить я.
А уже через секунду на том конце раздался усталый, но по-военному чёткий голос:
— Оперативный дежурный Городского Поста кондотьеров Предельного съезда сыновей седьмого сына третий лейтенант Прокофьев. Слушаю вас.
— Егор Тугарин говорит, — представился я.
После небольшой паузы третий лейтенант уточнил:
— Тот, который дракон?
— Тот самый.
— Приветствую вас, господин Тугарин. Могу чем-нибудь помочь?
— Можешь, лейтенант. У меня срочная информация для Белова. Будь добр, соедини.
— Прошу прощения, но в данный момент это невозможно.
— Это как так? Почему?
— Полковника нет на месте.
— Это плохо. — Я на секунду задумался. — Тогда на зама его, на Харитонова.
— И Харитонова нет, — ответил третий лейтенант, после чего, поколебавшись некоторое время, объяснил: — У нас тут на рассвете кризисная ситуация приключилось второй категории, все сотрудники задействованы в оперативно-розыскных мероприятиях. В конторе, кроме меня и уборщицы, никого.
Накладка вышла, раздосадовано подумал я. Райком закрыт, все ушли на фронт.
Но уже в следующую секунду нашёлся:
— Послушай, Прокофьев, а как насчёт оперативной связи по полевому варианту? Быть такого не может, чтобы не было.
— Оперативная? Оперативная есть, — произнёс дежурный таким тоном, что я сразу понял: связь-то есть, только не про мою честь.
Не стал я качать права, и в истерику впадать не стал, поступил мудрее. Очень спокойно, но так чтобы господин третий лейтенант всё-таки моей заботой проникся, объяснил:
— Понимаю, что парни не на пикник выехали, верю, что запарка у вас конкретная, но послушай, лейтенант, информация у меня действительно серьёзная. И срочная. Я не мальчик с мелким делом соваться. Поверь, далеко я не мальчик. Так что сам прикинь. Завернёшь сейчас меня, потом крайним окажешься. Оно тебе надо? Думаю, вряд ли. Поэтому сделай так, чтобы кто-нибудь из этих двоих вышел на меня в ближайшее время. Лады?
Мой уверенный тон и лукавые аргументы возымели действие.
— Хорошо, господин Тугарин, — выдержав короткую паузу, сказал дежурный. — Сделаю всё, что в моих силах.
Я не успел его поблагодарить, пошли короткие гудки. Сунув трубу во внутренний карман куртки, я глянул на часы. «Командирские» показывали восемь двадцать семь. Пора, подумал я, хлопнул ободряюще себя по коленям и, прихватив мешок, пошёл за Фифой.
Подозревал, что будет круто, но такого эффекта, признаться, не ожидал. Оторвалось моя сиротка, что говорится, по полной программе. Во всех комнатах царил жуткий кавардак, и ни что уже не напоминало о былом ремонте. Стены покрывали пятна жирной копоти, натяжные потолки были изодраны, люстры превращены в хрустальную пыль, шторы и занавески разорваны на лоскуты. И это ещё не всё. В гипсокартоне зияли сквозные дыры, а паркет обезображивали такие глубокие борозды, будто какой-то упорный крестьянин его безотвальным плугом весь день распахивал. О мебели и говорить нечего: дрова, клочья, пух. Стеклопакеты на окнах порушены и не подлежат восстановлению, а на одном окне раму Фифа вообще выдрала с корнем, и через зияющий пролом в квартиру теперь врывался дождь и хлёсткий ветер.
Хозяина я нашёл в дальней комнате. Он сидел на изуродованном, усыпанном мелким мусором, полу и раскачивался в такт тому гнусному скрипу, что издавала повисшая на одной петле межкомнатная дверь. Выглядел он нехорошо. Выглядел так, будто побывал под мельничными жерновами. На его побелевшем лице играла жалкая улыбка растерянности и безнадёги, а безумный взгляд был устремлён в невидимую стороннему наблюдателю туманную даль. Подойдя к несчастному поближе, я продекламировал с выражением:
— J'ai vu l'ombre d'un cocher, qui avec l'ombre d'une brosse frottait l'ombre d'une carrosse. — После чего на всякий случай спросил: — Понимаешь по-французски?
Он никак не отреагировал, тогда я перевёл:
— Я видел тень кучера, которая тенью щётки чистила тень кареты. Правда, красиво? Да?
Он вновь промолчал.
Ему не хотелось говорить.
Ему вообще ничего не хотелось, ничегошеньки.
О чём он думает? — прикинул я. И так решил: ни о чём не думает. Даже о том, что это сейчас тут произошло такое, не думает. Лишь ощущает странное. Ощущает, что вот топал он весь такой уверенный в себе по столбовой дороге жизни и вдруг сорвался нежданно-негаданно с крутого обрыва. И теперь летит стремительно в мрачную бездну, оглушённый хаосом и гулом неведомой стихии.
Присев рядом на корточки, я запанибратски похлопал его по плечу:
— Эй, морячок. Ты чего раскис? Испугался, что ли? Да? Так это ты зря. Нашёл чего пугаться. — Я снял с его разодранного халата шматок дорогих шелковистых обоев, откинул его в сторону и объяснил: — Причина твоего нынешнего страха, морячок, лежит в области исключительно видимых проявлений. А это пустяк. Ей-ей, пустяк. Закрыл глаза и вот уже нестрашно, и вот ты уже в домике. Куда как страшнее, когда причина страха не проявлена, когда она в тебе самом. Вот это вот настоящий ужас. Ты уж, поверь, я на этих делах собаку съел, я в этом плане уже почти кореец. Кстати, о собаках. Зря ты пса вчера ударил. Не делай так больше. Не будешь?
Мордоворот, не поднимая взгляда, мотнул головой, дескать, нет, не буду.
— Вот и молодец, — одобрил я его ответ — А стариков-детей-женщин обижать будешь?
Он вновь мотнул головой и так энергично, что верилось — даже ромашку в чистом поле теперь не сорвёт.
— Вот и умница, — похвалил я. Поднялся и напутствовал на прощание: — Живи, морячок. Живи, цвети, как у нас говорится, и пахни. Только делай это всё, пожалуйста, без нахрапа. Нахрап, поверь, ничего в этом мире не решает. Абсолютно ничего. Рано или поздно, жизнь распихивает всё и всех по своим местам. А упрёшься тупым рогом, хлебнёшь по верхнюю планку. И никто тебя тогда не спасёт. Никто. Это всё, что я хотел сказать.
На пороге я остановился и, с опаской поглядывая на криво висящую дверь, добавил:
— Да, чуть не забыл. Не говори ни кому о том, что тут приключилось. Хорошо?
И он опять кивнул. Любой бы на его месте кивнул. Другое дело, что не любой позволил бы себе оказаться на его позорном месте. Есть же на белом свете и приличные люди.
Оставив горемыку переживать пережитое, я вышел из комнаты и принялся аукать-выкрикивать тень.
Все комнаты обошёл, во все антресоли заглянул, все углы-закоулки осмотрел, все завалы разгрёб, а нашёл её — кто бы мог подумать — в лежавшем на боку холодильнике. Чёрт его знает, как она туда забралась. Как-то сумела.
Запихивая в мешок уставшую, а оттого заметно поблекшую хулиганку, я её не хвалил, не ругал, а просто рассуждал вслух:
— Святой Августин утверждал, что зло существует, чтоб оттенять добро. С этим утверждением, согласись, Фифа, не поспоришь. Я и не буду. Только добавлю от себя для равновесия: добро существует, чтоб высвечивать зло. Раз то для этого, то это для того. Логично? Логично. Теперь понимаешь, дорогуша, в чём твоё предназначенье?
— Фьюшть-фьюшть? — вполне убедительно изображая разумное создание, уточнила тень.
— В том, чтоб творить добро из попутного зла, — пояснил я. — В твоём положении, Фифа, творить его больше не из чего.
Глава 11
Всегда завидовал Серёге Белову в том плане, что под началом у него три десятка гавриков. Имея такую солидную гвардию, можно одновременно отрабатывать сразу несколько версий преступления. Отправил одного опера туда, другого сюда, третьего ещё куда-нибудь, а сам сиди на базе, как король на именинах, и в ус не дуй. Мне же, волку-одиночке, иной раз — хоть разорвись. Вот и теперь.
С одной стороны имело смысл срочно лететь в Оглоблино, брать за грудки гражданина Бабенко и выбивать из него показания, а с другой неплохо было бы к Альбине Ставиской смотаться, чтобы прокачать местонахождение вора, укравшего телефон у госпожи Верхозиной. Версия, что некий колдун-киллер использовал украденный телефон в качестве убийственного вольта, выглядела в свете вновь вскрывшихся обстоятельств, разумеется, весьма и весьма бледно, но со счетов я её сбрасывать пока не решался. Чем чёрт не шутит? Всем он шутит. Бывали у меня в практике такие случаи, что отбросишь версию как маловероятную, а потом локти кусаешь. Посему хотел доскональнейшим образом всё проверить-перепроверить, прежде чем снять тему окончательно. Вот такой я, блин, педантичный.
Выбрать направление главного удара доверил судьбе. Вытащил десятирублёвую монету и так решил: «решка» — к Альбине, «орёл» — в Оглоблино. Что будет, то будет. Подкинул монету, поймал на лету, раскрыл ладонь — опаньки — герб города Твери. Стало быть, дорога лежит к подружке забубённой, к любовнице бывшей, к ведьме старой, к Альбине свет Сергеевне.
Определиться-то я с направлением основного удара определился, но к ведьме отправился не сразу. Решив основательно подготовиться к рандеву, для начала поехал в офис. Тут такое дело: не мог я вломиться к Альбине с пустыми руками. Не один раз к ней с аналогичной просьбой подкатывал, и не два, и даже не три, знал прекрасно: если согласится человечка по утерянной вещи найти, Силы потратит на процедуру прилично, не меньше пяти тысяч кроулей, если не больше. Так вот, чтобы сразу ей утерянную Силу возместить, следовало забрать из офиса все «консервы». Это, во-первых. А во-вторых, предстояло каким-то образом решить вопрос с оплатой.
Нет, конечно, я мог бы сыграть на её чувстве ко мне (слабо тлеющем, но до конца ещё не потухшем) и, закосив под дурачка, за работу не расплачиваться, но… Но не мог. Подло это, чужими чувствами манипулировать. А потом — не терплю быть обязанным. Терпеть этого ненавижу. Тем более что в среде посвящённых не расплачиваться за услугу с другим посвящённым — это моветон. Посему нужно было обязательно всучить Альбине за работу какой-нибудь полезный артефакт. Не из простых, разумеется. Не из тех, которые хранят закаченную Силу, словно батарейки электрическую энергию (таких у Альбины у самой как грязи), а из тех, которые относятся к так называемым артефактам свойств. Основную их часть скрываю, естественно, там, где и положено, — в своей келье Подземелья. Много чего там у меня в заветном сундучке. Однако спускаться под землю было некогда. Из тех же волшебных вещей, которые всегда под рукой (Ключ От Всех Замков, выправленный на ремне до бритвенной остроты кинжал для очищения, Шляпа Птицелова, злато-серебренный трос отврата, Чётки Призора За Случайной Мыслью), ничего отдать не мог, без них я как без рук. Оставался один вариант: взять что-нибудь из того немного, что хранится в офисе агентства «Золотой дракон».
Добравшись до места, я первым делом откопал коробку из-под нового чайника и скинул в неё все «консервы». И те, что находились в кабинете, и те, которые из дома прихватил. Оставил на развод только два заряженных кольца: из червлёного золота — на правом безымянном, из серебра с чароитовым камнем — на левом мизинце. Потом приступил к задаче более серьёзной, стал решать, какой из пяти артефактов свойств отдать.
А имелись у меня в офисе на тот час следующие волшебные вещи: пеликан-защитник, Отважная шпага (она же — шпага маркиза де Рамбуйе), Ожерелье Дракона, Послушный кубик и Книга Книг (она же — Книга Без Автора).
Пеликан и шпага сразу отпадали. Старых слуг сбагривать — себя не уважать. Вариант с ожерельем, которое я получил в наследство от предыдущего хранителя Вещи Без Названия достопочтенного Вахма-Пишрра-Экъхольга, всерьёз рассматривать не стал. Хотя и знал, что Альбина спит и видит, как заполучить эти сто семь волшебных жемчужин, каждая из которых позволяет сбросить с плеч (а точнее — с души) тридцать лет жизни, но не мог я их отдать. Пообещал самому себе однажды, что подарю это волшебную цацку собственной дочери, и от своего слова отступать не собирался. Правда, у меня пока нет дочери. Но это не важно. Будет. Красивая такая золотая дракониха. И ожерелье её дождётся. Всенепременно.
Итак, три артефакта отпадали автоматически, оставались два — игральный кубик и книга.
Кубик я в своё время честно — уступая по взяткам, но в конце концов набрав сто одно — выиграл в чешского дурака (или по-другому — в «мавра») у одного подвыпившего дюжего из Дюжины. Этот доброволец из тайного братства, что вменило себе в обязанность изводить пожирателей теней и раскулачивает ловцов душ, много чего рассказывал по окончании игры про этот незамысловатый с виду артефакт. К большому сожалению, находясь подшофе, я запомнил всего нечего. Только и помню, что вроде бы кубик вырезан из осколка священного камня Каабу, — того самого чёрного булыжника, который выломали из стены языческого храма напавшие на Мекку карматы. Правда это или нет — не знаю, не проверял, но кубик и впрямь чёрный. А ещё дюжий, которого звали не то Афон, не то Агафон, что-то говорил про свойство кубика перемещать хозяина во времени и пространстве, но каким образом этим свойством можно воспользоваться, я к превеликому сожалению как раз и не запомнил. Точнее, обезумив от вина и азарта, счёл слова Афона-Агафона за обычный трёп, и не стал вдаваться. Дурачина. К вечеру следующего дня опомнился, схватился за похмельную голову и предпринял энергичную попытку найти незадачливого паренька. Однако тот как в воду канул. Потом уже, много дней спустя, узнал я от одного верного человечка, что погиб Афон-Агафон в неравной драке. Так вот и получилось, что остался я без каких-либо точных инструкций к таинственному артефакту. Одного лишь знаю наверняка: он, кубик этот, весьма исполнителен в части своего обыденного назначения. Какое число перед броском загадаешь, такое и выпадет. Загадаешь «единицу», обязательно выпадет «единица». Загадаешь «шестёрку», будет тебе «шестёрка». Однажды смеха ради я потребовал «семёрку», и к моему изумлению — мать моя, Змея! — выпала «семёрка». Я тогда глазам своим не поверил, несколько раз пересчитывал белые вставки, и всякий раз насчитывал семь. Такое вот удивительное чудо. Продолжать эксперименты я, конечно, не стал. Остерёгся. С артефактами свойств шутки шутить без большой нужды не стоит, боком выйдет. Быть может, не сразу, но обязательно.
Ну и вот. Вынул я из ящика стола мешочек, сшитый из грубого, но приятного на ощупь, холста, потянул за кожаный шнурок, выкатил кубик на ладонь, повертел его в руке. И так повертел, и сяк повертел, а потом решил, что ни к чему Альбине этот непонятный предмет. Ну, в самом деле, зачем он ей? Что приказывать — непонятно, что выйдет — неизвестно. Видно, что Сила от него исходит, а как извлечь непонятно. Спросит у меня ведьма, как игрушкой пользоваться, что отвечу? Правды не знаю. Врать не хочется. Промолчать? Глупо. Короче говоря, решил, что сперва нужно самому про эту волшебную вещицу всё разузнать-разведать, а потом уже другим предлагать. Кубик таким образом я тоже отверг.
Оставалась книга.
Артефакт, который я называю то Книгой Книг, то Книгой Без Автора, особенная в своём роде вещь. Вещь поразительная. Вообще-то, если подумать, её и вещью-то назвать нельзя, скорее уж — процессом. Процессом рождения и исчезновения текстов. С виду это самая обычная старая книга: грубый кожаный переплёт, незамысловатое тиснение, серебряный оклад с замочком в виде листка клевера. Книга как книга. И когда впервые откроешь её, тоже ничего странного не заметишь. Всё, как обычно: затёртые листы веленевой бумаги, корявые цветочки в орнаменте колонтитула, каллиграфически выведенные буквы, что складываются в текст на родном для тебя языке. И только. Ничего особенного. Но вот когда откроешь эту книгу во второй раз, тут-то и обнаружишь потрясающее её свойство. Текст будет разительно отличаться от того текста, который ты увидел на её истрёпанных страницах в первый раз. А когда откроешь в третий раз, увидишь третий текст. В четвёртый раз откроешь, увидишь четвёртый. В сотый — сотый. В тысяча первый — тысяча первый. И так до бесконечности. Не было на моей памяти такого случая, чтобы текст хотя бы раз повторился. Эта волшебная книга — настоящий генератор текстов. Причём текстов не абы каких, а вполне осмысленных. Да-да, осмысленных. Иногда интересных, иногда нудных, иногда мудрых, иногда наивных, но всегда осмысленных.
Те книжные черви из числа посвящённых, которым я Книгу Книг показывал, в один голос утверждают, что подобного рода инкунабул во всём мире насчитывается всего двадцать две штуки, а конкретно эту (лорнируй лупой авторское тавро на форзаце) сотворил для собственного развлечения некто Захарий Китойский, маг-словоблуд, известный тем, что всю свою долгую жизнь бродил с утешительным словом по городам и весям всех пяти сторон света и всех трёх сторон тьмы.
Что касается моего мнения, то я склонен верить этой гипотезе местных букинистов. Ведь если ты заядлый книгочей, но при этом твоё призвание — странничество, а всё твоё имущество — посох в руке и котомка за спиной, лучше Книги Книг и придумать для собственного увеселения ничего нельзя. Это же целая библиотека в одном томе. Причём библиотека безграничная. Куда там до неё библиотеке имени Ленина или библиотеке Конгресса североамериканских штатов. Эти хорошо известные нам хранилища знаний, хотя и гипотетически, но можно исчерпать, а Книгу Книг — никогда.
Один только есть в Книге Книг недостаток, скорее даже неудобство: всякий новый текст нужно прочитывать за один присест. В ином случае чтение превращается в бессмысленное занятие. Есть, конечно, граждане навроде героя гоголевских «Мёртвых душ» кучера Петруши, которому, как известно, нравился сам процесс чтения, нравилось то, что из букв всенепременно складывается слово, «которое иной раз чёрт знает что и значит». Подобным счастливцам, думается, по барабану, что и с какого конца читать. Но их ведь немного. Большинство же, к которому я отношу и себя, стремится, взыскуя сути, прочесть книгу от начала до конца. Таким читателям, попади к ним Книга Книг, пришлось бы нелегко. Закрыть-то нельзя, рассыплется текст, существовать перестанет. Держать открытой? Хорошо, когда дома сидишь, а в пути? Но, впрочем, на то и существуют долгие зимние ночи и толстые церковные свечи. А в нынешние избалованные времена — ещё и сканеры всяких мастей.
Попала ко мне Книгу Книг в середине девяностых прошлого века. Не сама собой, разумеется, пришла, подарили. И там целая история. Началось всё с того, что в период подготовки к очередным выборам в Государственную Думу на нашем местном телевидении стало происходить нечто странное. Как только какой-нибудь выдрессированный политтехнологами кандидат произносил в прямом эфире словосочетание «Я знаю, как», тут же в телецентре вырубалось всё электричество. Вот такая вот, понимаешь, загогулина. Едва ляпнет какой-нибудь очередной бессовестный штукарь что-нибудь типа «Я знаю, как нам обустроить Россию», «Я знаю, как за пятьсот дней утроить валовый продукт», «Я знаю, как обуздать коррупцию», сразу — бах, и нету света. И так несколько дней дня подряд.
Посвящённые из числа причастных к организации телевизионных дебатов, на четвёртые или даже на пятые сутки сообразили, что никакая это не случайность, что никакое это не совпадение, а чьё-то злостное колдовство, чтоб не сказать — магическая диверсия. А как только сообразили, возбудились по этому поводу неимоверно и потребовали от Молотобойцев немедленно прекратить безобразие. Те — а куда им деваться? — вписались, конечно, провели обычное в подобных случаях расследование и благополучно вышли на виновника торжества, которым оказался некто Гриша Сурганов. Жил у нас в ту пору в Городе (потом в Кемерово перебрался) такой светлый маг. Молодой, горячий, заводной. Достала его политическая ажитация до печёнок, вот и придумал от недостатка житейской мудрости и переизбытка Силы такую он для себя забаву.
Ну и вот. Всё вроде бы для Молотобойцев складывалось хорошо: виновник обнаружен, упакован, изолирован, дело можно закрывать и спокойно передавать в Суд Трёх Из Пяти. Однако, как говорится, не всё то здорово, что хорошо. Оказалось, что отец Гриши Сурганова, Павел «Дык» Сурганов, в своё время сам служил опером местного Поста. Мало того, что служил, так ещё и сгинул в приснопамятной битве, что случилась в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году на территории разбитого поверх старого еврейского погоста Центрального парка культуры и отдыха. Сошлись тогда демоны воздаяния и кондотьеры местного Поста в рукопашной и рубились от заката до рассвета. Одни не на жизнь, а на смерть рубились, другие — не на смерть, а на жизнь. Тридцать трёх бойцов Серёга Белов в ту страшную ночь потерял, в том числе и отважного Дыка. Вот почему, когда узнал главный опер, чьей славы Гриша наследник, сразу стал репу чесать. Получалось, что сдавать-то парня нельзя. По-любому — нельзя. Как никак единственный сын геройски погибшего товарища. Можно назвать это войсковым братством, можно — круговой порукой, можно — преступным укрывательством, но сути это не меняет — Молотобойцы своих отродясь не сдавали.
А общественность тем временем требовала ответа. На то она и общественность, чтобы требовать. Это в мире профанов такие дела легко спускаются на тормозах, в мире посвящённых всё иначе. Если уж дело-то заведено, если уж принято оно к исполнению, так уж будьте любезны отчитаться. Вот и встала перед главным опером городских Молотобойцев Серёгой Беловым нелёгкая задачка: где поставить запятую в приказе «Сдавать нельзя прикрыть»? И тут так. Поставишь после «сдавать», свои не поймут, да и сам себя не поймёшь. Поставишь перед «прикрыть», начальство сожрёт с потрохами. Сожрёт и не поморщится.
Ночь сидели мы с Серёгой в его рабочем кабинете, три бутылки китайской водки «Маотай» уговорили, три пачки элитного ленинградского «Беломора» скурили, под утро придумали отмазку. Капитальную теорию под это дело подвели. Дословно не помню, а в общих чертах выглядело это следующим образом. Для начала без оглядки на какие-либо авторитеты мы постулировали, что скрытая в словесной конструкции «Я знаю, как» магическая энергия чужда по своей природе иррациональной, склонной к фатализму, душе всякого русского человека. Затем с уверенностью, переходящей в наглость, предположили, что в результате выше изложенного антагонизма эта энергия (названная нами от балды и для простоты «энергией Ы») не рассеивается в российских нарезах Пределов, а концентрируется в месте источника своего возникновения. После чего, пропустив несколько звеньев логической цепи, сделали пугающий вывод: при достижении определённой концентрации энергия Ы порождает некий магический феномен, который может проявлять себя в том числе и путём обесточивания промышленных и гражданских объектов в районе своей локации. Ну и наконец, придавая своему докладу законченную форму, настоятельно рекомендовали во избежание дальнейших эксцессов отказаться от употребления словесной конструкции «Я знаю, как» на территории нашего города. Вот, собственно, и всё.
На первый взгляд бред. Полный бред. Стопроцентный такой. Незамутнённый. Однако во всяком бреде всегда есть толика смысла, и в нашем он тоже был. В той части он был, что словосочетание «Я знаю, как» русского человека действительно не греет. Россия, по словам Достоевского Фёдора нашего Михайловича, есть игра природы, а не ума. Русский человек он же не англичанин какой-нибудь, знанием считает переживание, а не вереницу плотно упакованных силлогизмов. Это англичанину до смысла дойти нужно, а русскому не до смысла дойти нужно, ему до края дойти нужно. Потому так легко даётся англичанину «I know how», оттого так вязнет у русского в глотке «Я знаю, как». По-другому и быть не может. Что для англичанина дело техники, то для русского судьба.
Короче говоря, было чем Серёге отбиться от Наблюдательного совета. И слава Силе, он отбился. Скушали наши наглые прогоны господа члены Наблюдательного Совета, за милую душу скушали. Подписали большинством голосов отказной вердикт, а потом сгоряча ещё и какую-то там комиссию учредили по изучению феномена, порождаемого энергией Ы. Кстати говоря, выражение «Не излучай энегрию Ы» стало по прошествии времени в среде молотобойцев идиомой, близкой по смыслу к идиоме «Не гони пургу».
Ну а где-то месяц спустя, когда всё уже окончательно устаканилось, забежал спасённый от поражения в правах Гриша Сурганов ко мне в офис. Наговорил всяких добрых слов, расписался в вечной дружбе и сунул в лапы свёрток. Сказал, что подарок. Уверил, что от души. Когда отчалил, я упаковку разорвал и обнаружил внутри книгу. Как оказалось, Книгу Книг. Не хилый, надо признать, получил я подарочек от светлого мага, который до сих пор присылает мне поздравительные открытки за подписью «Человек Из Кемерово».
И вот с тех самых пор, уже без малого полтора десятка лет, стояла эта волшебная книга у меня на верхней полке книжного шкафа аккурат между алхимическим трактатом «Магический мир героев» Чезаре делла Ривьера и первым томом «Финальных монологов плохих парней» Курта Виммера. За эти годы, особенно поначалу, много разных поступало мне предложений от известного рода любителей. И обменять предлагали на разные толковые колдовские вещи, и золотые горы сулили за неё, и Силы давали, сколько унести смогу. Однако не повёлся я на уговоры, сохранил Книгу Книг. Будто чувствовал, что когда-нибудь пригодится. А в том, что пригодится, теперь уже почти не сомневался. Альбина, как и большинство провинциальных ведьм, запойная читательница, потому с большой долей уверенности можно было утверждать, что от такого во всех смыслах замечательного подношения отказаться не сумеет.
Бесповоротно и окончательно решив отдать старой ведьме именно этот артефакт свойств, я взобрался на придвинутую к шкафу подставку и вызволил Книгу Книг с полки. Стерев рукавом пыль с корешка, не удержался и открыл книгу там, где открылось. Текст на случайно выбранной странице начинался диалогом между неким мужчиной и некой женщиной. И было там так:
— Не пойму никак, чем это всё управляется, — глядя на парящих в небе птиц, призналась Она.
— Волей управляется, — пояснил Он.
— Волей?
— Волей. И воля эта — воля автора. Того самого человека, который рассказывает сейчас о нас с тобой.
— Рассказывает? — удивилась Она. — Кому?
Он пожал плечами.
— Не знаю кому. Знаю только, что мы с тобой существуем до тех пор, пока его рассказ продолжается.
— А что будет потом? — забеспокоилась Она.
Он хмыкнул:
— Суп с котом.
— А если серьёзно?
— А если серьёзно — никому не известно, что будет потом. Даже автору. Известно только то, что было вначале.
— А что было вначале?
— Слово.
— Какое?
— «Никогда».
А закончится всё словом «Всегда», пророчески подумал я. Заложил книгу пальцем, закрыл и тут же открыл. Текст изменился. Теперь страница начиналась таким вот пассажем:
Быть может, несколько сбивчиво и не совсем умело, зато на удивление правдиво, рассказал нам Хорхе Ипец о том, что произошло на самом деле, хотя, в действительности, возможно, и не случилось, в те самые-самые, ныне легендарные времена, когда Последняя Битва За Сознание Масс была уже так близка и неотвратима, что грядущий её пепел холодил своим чёрным шелестом всякое умное сердце, а угасающие надежды людей, считающих себя вменяемыми, были связаны с семёркой отважных бойцов под водительством героя, имя которому Амазарский Ястреб.
Убедившись, что артефакт находится в прекрасном рабочем состоянии, я прислушался к самому себе: душит жаба или нет? Жаба душила. Отдавать одну из самых своих любимых игрушек не хотелось. Жуть как не хотелось. Значит, выбор удачен, решил я. Сунул книжку под мышку, подхватил коробку с «консервами» и двинул на выход.
На бульвар Гагарина, где живёт Альбина, решил выбраться через улицу Горького с выездом на улицу Ленина, далее — до памятника вождю и направо. Однако решение на поверку оказалось не совсем удачным. Проезжая мимо Художественного музея, угадил в глухую, растянувшуюся аж до областной филармонии, пробку. Но нет худа без добра. Пока тащился виноградной улиткой от одного перекрёстка до другого, сделал два важных звонка. Сначала неудачно — Белову, потом удачно — домой. Дома к трубке подошёл Ашгарр.
— Как у вас дела? — спросил я. — Не заметно ли у нашей подопечной признаков томления на предмет зыбкости собственного бытия? Не обеспокоилась ли ещё эфемерностью реальности?
— Да вроде пока нет, — доложил поэт.
— Как аппетит?
— Поела гречу с сосиской, чаю откушала с булочкой. Булочка была с изюмом. На обед я заказал в «Багире» большую пиццу.
— Пицца — это отлично, только когда доставят, позырь обязательно в глазок. Убедись, что не злодей. А если что, вали гада без раздумья.
— Это обязательно, — пообещал Ашгарр.
— Девчонку чем развлекаешь?
— Сама развлекается. После завтрака в Интернете ползала, всю плешь, кстати, проела за то, что «Эксплоером» пользуюсь, а не «Оперой».
— Дай угадаю: скачала и установила?
— А как же. Конечно. Потом долго возмущалась, что у меня блога в Живом Журнале нет.
— А зачем он тебе?
— Не знаю. Она говорит, что это обязательный элемент принадлежности к клану избранных. Говорит, у всех творческих людей обязательно есть свой блог.
— Если у всех, какая же это избранность?
— Никакая, — сказал Ашгарр. — Это, наверное, как с масонами. Общество тайное, но каждый второй про них знает.
— А каждый третий к ним принадлежит, — добавил я. И вернулся к главному: — А теперь что она делает?
— Да ничего не делает, уже больше часа роется в Том Чемодане.
— Это надолго, — невольно улыбнувшись, сказал я.
— Надолго, — согласился поэт.
«Тем Чемоданом» мы с ним называем небольшой фибровый чемоданчик без ручки, который остался нам в наследство от старых хозяев. При вскрытии обнаружилось, что он набит разными интересными вещицами. На мой взгляд, разумеется, интересными, на взгляд Ашгарра — как раз нет. Поэт сразу обозвал всё это сокровище трухлявым барахлом, и первое время порывался выбросить. Я, разумеется, покушения пресёк, а впоследствии использовал находку для тренировки зрительной памяти. Откину, бывало, крышку, обведу содержимое взглядом, закрою и составляю письменную опись. А потом проверяю себя. Через некоторое время, правда, стало неинтересно, поскольку выучил весь список наизусть. Мало того — запомнил на веки вечные. Разбуди посреди ночи, спроси, что там, в Том Чемодане, находится, и как от зубов отскочит. Вот и теперь, только о нём упомянули, невольно пустился в ревизию. И полетели перед мысленным взором: семь щербатых шариков из мутно-зелённого технического стекла и пять стальных подшипниковых, рота оловянных солдатиков, племя гуттаперчевых индейцев, шестнадцать единиц боевой игрушечной техники, модель синий «копейки» в масштабе один к сорока трём, коробочка из-под зубного порошка с горстью стекляшек от дешёвой броши, два рулона пистонов, пачка «переводок» с сексапильными гражданками ГДР, три затвердевших до каменного состояния кубика первой советской жвачки кондитерской фабрики «Калевала», бронзовая боевая медаль «За оборону Сталинграда» и алюминиевая памятная «Пуск Саяно-Шушенской ГЭС», небольшой кляссер с марками на темы «Флора», «Фауна» и «Космос», пионерский значок с кудрявым мальчиком, театральный номерок с гравировкой «ТЮЗ — г. Челябинск — 254», засушенный майский жук в пожелтевшей спичечной коробке производственного объединения «Гомельдрев», магнитофонной пассик, крылатый офицерский знак «Специалист 1 класса», открытка с Гойко Митичем в роли Большого Змея, почётная грамота победителю второго этапа Всесоюзного пионерского марша «Мой труд вливается в труд моей республики», поломанная в двух местах магнитофонная бобина, девятнадцать пулек для «мелкашки» в распечатанной коробке, лента от бескозырки с надписью «Отважный», зелёная кокарда для полевой фуражки, офицерский парадный ремень с пряжкой из жёлтого металла, пуговица от фирменных штанов «Вранглер», две монетки номиналом в пять злотых, испещрённый рунами «чижик», ракетка для пинг-понга с выщипанными по незамысловатому узору шипами…
Не дал мне Ашгарр воспроизвести в памяти весь список, забеспокоился:
— Эй, на барже, чего молчим?
— Вспоминал, что в чемодане лежит, — сознался я.
— Знаешь ты кто? Ты Скупой Рыцарь, — в шутку упрекнул поэт и стал глумиться: — Не бойся, ничего не стырит. Я прослежу. А когда приедешь, проверишь.
— Тьфу на тебя.
— Ладно, Хонгль, не психуй. Скажи лучше, как у самого дела.
— Перехожу к активной фазе поисков злодея, — бодро доложил я и, не удержавшись, посетовал: — Знать бы ещё точно, где его искать.
На что Ашгарр заметил:
— Как утверждал персидский мистик Фаридадин Абу Талиб Муххамад бен Ибрагим Аттар, всё есть повсюду. Там что…
— Подожди, — перебил я поэта, — не расслышал. Что, говоришь, утверждал персидский мистик Фаридадин Абу Талиб Муххамад бен Ибрагим Аттар?
— Для тех, кто в танке, повторяю: всё есть повсюду.
— Значит, зона поиска безгранична?
— Это с одной стороны, а с другой: злодея можно отыскать, не сходя с места. Понимаешь, куда клоню?
К большому сожалению, дальше поддерживать нашу учённую беседу я не смог. Не потому что мне нечего было сказать, вовсе нет. Напротив, у меня было что сказать на эту тему, но слева по борту пристроилась и поползла параллельном курсом синяя «тойота», дооборудованная аудиосистемой с такими мощными басами, что стёкла в моей машине стали дребезжать, а я перестал слышать самого себя.
— Позже позвоню, — крикнул я Ашгарру.
Спрятал телефон и установился немигающим взглядом на водителя шумного драндулета. Пяти секунд не прошло, как я добился своего. Сытый хряк в шмотках папуасских раскрасок поёжился, словно холодным ветром на него подуло, и посмотрел в мою сторону. «Чего, козёл, вылупился?» — прочитал я по его губам. Я постучал пальцем по уху, показывая, что ещё немного, ещё чуть-чуть, и окончательно оглохну. В ответ он презрительно сморщился и выкинул грубый палец. Тогда я вытащил и показал ему свой шикарный пистолет. Он тоже вытащил и показал пистолет, и тоже ни фига не газовый. Осталось только помериться болтами, подумал я, взял себя в руки и демонстративно отвернулся.
А что ещё было делать? Превращать оболтуса в червяка? Не было у меня такой Силы, чтоб превращать его в червяка. Да если бы даже и была, не стал бы. Не зверь. К тому же тридцать третье правило драконов гласит: «Человек не виноват, что он родился человеком, будь к нему снисходительным». Я наши правила чту. Во всяком случае, стараюсь.
В общем, ничего другого не оставалось, как только возмущаться по-стариковски и мысленно сетовать на то, что слишком много развелось в последнее время человечков, у которых на месте души пустая бочка.
С этой бочкотарой, вообще, как-то странно дело обстоит. Казалось бы, бочка и бочка. Ну и ладно, и пожалуйста, и как хотите. Дело личное. Да только вот не совсем-то, получается, и личное. Ведь эту бочку нужно чем-то наполнять, поскольку гудит бочка, жрать всё время просит. Ничего лучшего пока не придумали, как кормить её звуковой стекловатой. Дёшево и сердито. А главное доступно. Вот и несётся теперь отовсюду эти умопомрачительные муси-пуси и дыц-дыц-дыц. Что на это скажешь? А то и скажешь, что заглушают высокими децибелами идиоты страх перед необходимостью разгадывать загадку своего человеческого бытия. Идиоты заглушают, а вменяемые страдают. И от чужого хамства страдают, и от того страдают, что оглушённые диким рёвом, не могут продудеть свою собственную песенку. Правильную такую песенку о чём-нибудь нежном. И очень важном ещё. О том, к примеру, как широко поле русское и как оно не пахано, как висят над голодными нивами облака неподвижные, и как догорает невыразимо грустный закат, какие случаются только у нас на Руси и только по осени.
И пришло мне на ум в ту тяжёлую, почти неподъёмную минуту мысль, что вот как-то все сейчас чрезвычайно озабочены загрязнением воздуха, только и разговоров об этом (глобальное потепление, Киотские соглашения, протокол «двадцать-двадцать-двадцать», все дела), но почему-то в гораздо меньшей степени говорят о загрязнении первозданной тишины. Почему? Потому что воздух нужен всем, а тишина — только вменяемым? Поэтому?
И ещё подумал: наверное, вменяемые ещё потерпят-потерпят немного, а потом не вытерпят, возьмут и изобретут такой аппарат, который будет не проигрывать, не воспроизводить звуки, а поглощать их. Эдакий патефон наоборот. Вот тогда и будет им счастье.
И мне тоже.
Но пока моё счастье состояло в том исключительно, что где-то там, далеко впереди, растащили наконец столкнувшиеся тачки, затор рассосался и синяя «тойота», сорвавшись в опасный слалом, обогнала меня навсегда.
Глава 12
Открыв дверь, Альбина подставила щёку для поцелуя и махнула рукой в сторону кухни:
— Подожди, Егор, десять минут. Я сейчас.
— Клиент? — сообразил я.
— Клиент, — кивнула она, задержалась у зеркала на долю секунды, поправила ворот бежевой кофточки, взбила чёлку и, щёлкая складками юбки, упорхнула в комнаты.
Пышка Мопассана, подумал я, провожая её взглядом.
Не смотря на запредельные свои года, выглядела Альбина по-прежнему весьма и весьма аппетитно. Просто чертовски аппетитно. И не было у меня никаких сомнений, что, как и в былые годы, натолкнувшись на неё случайным взглядом, замирают правильные мужики на месте. Замирают, пялятся заворожёно на головокружительную роскошь её тела и вожделенно цокают языками. А главное ведь никакого силикона, никакой этой новомодной пластической хирургии, всё натуральное. Натуральное колдовство. Тайное искусство.
На кухне тихо работал телевизор, начинался дневной выпуск местных новостей. Я невольно прислушался, но ничего такого, что действительно могло бы называться новостью, в анонсе не услышал. Ящик собрался транслировать обычную атмосферу вселенского благодушия. Царёва партия, заручившись перед выборами поддержкой царя, заранее празднует победу. Посетивший город федеральный чиновник, дав ценные указания, убыл к постоянному месту воровства. Генерал-губернатор, приметив направленные на него телекамеры, показательно наорал на завравшихся чинуш. Это вроде как главное. Ну и по мелочам немного: транспортные пробки, аварии, пожары, цены на продукты первой необходимости, сезонные вернисажи и ангажемент столичных трупп. Всё то же, что и сто, и двести лет назад. Ничего принципиально нового. Или — что будет вернее для наших, в охотку поглощающих эпохи и племена, благословенных мест — принципиально ничего нового. И славе Силе.
Выложив на разделочный стол из пакета коробку с артефактами, Книгу Книг и трофейную кепку, я оседлал стул у окна. Осмотрелся, приметил на микроволновой печи книжку в пёстрой обложке, потянулся и тут же заграбастал её.
Книжка оказалась — ой, мамочки — опусом в жанре ироничного женского детектива. Прочитав название — «Увидеть блондинку и умереть», я высокомерно, чуть ли не презрительно, скривился, дескать, ну Альбина и докатилась. Это поначалу. А потом одернул себя, взглянул на это дело не с высоты, а со стороны и так подумал: а почему бы, собственно, и нет? Не «Гнев отринутых богов» конечно, и не «Жизнь и смерть Николая Курбова», и уж тем паче не «Тихий дон», ну и что? Пусть не высокая литература, но она Альбине нужна, высокая-то?
Высокая литература — это то, что тебя меняет. То есть прочёл книгу, и амба, стал теперь другим. Совсем-совсем другим. Кардинально другим. Так тебя вывернуло всего и перетряхнуло. А если не вывернуло, если не перетряхнуло, значит, не высокая литература, значит, потеха потешная ради потехи, чтоб вечер убить, чтоб водку не пить. Так говорят те, кому положено об этом говорить. И трудно с ними не согласится. Даже глупо, пожалуй, было бы с ними не согласиться. Не согласишься, чем возразишь? Нечем возразить. Всё правильно. Всё верно. Всё так оно и есть. Но с другой стороны не факт, что непременно всем-всем-всем в этом ненормальном мире прописана именно высокая литература. Далеко не факт. Высокая литература при всём уважении — не кислород, не вода и не хлеб, тот самый, который «насущный даждь нам днесь». Можно обойтись. Вполне.
Да-да-да, существуют те, кто настырно выискивает исчерпывающие ответы на проклятые вопросы, но ведь есть и те, кто уже не ищет, кто уже давным-давно все ответы для себя нашёл. Или — что тоже возможно и приемлемо для толерантного ума — сознательно отказался от их поиска. Нашёл ли, не желает ли искать, но в любом случае — успокоился. И теперь, пребывая в гармонии с самим собой, ничего не хочет менять. Зачем ему что-то менять, если его и так всё теперь вполне устраивает. Всем он теперь доволен, и в первую очередь собой доволен. И зарёкся начинать всё заново. Начнёт, что получит взамен? Повергающую в ужас неопределённость? Пятитонный грузовик сомнений? Несварение сознания? Ну и на фиг ему всё это? Живёт как живёт, и полагает свою жизнь нормальной. И, полагая так, защищает свою жизнь от всяческих посягательств. От интеллектуальных — в том числе и в первую очередь. Моя подруга, ведьма Альбина Ставиская, из таких вот цельных натур, из таких вот достигших душевного спокойствия даосов. Нравится мне это или не нравится, но она такая, и я должен принимать её именно такой. А посему — пусть читает что хочет.
Пока я, листая книжку в мягкой обложке, рассуждал о священном праве свободной личности на литературные предпочтения, сеанс магии без разоблачения благополучно подошёл к концу, Альбина повела своего посетителя на выход. Услышав их негромкое бу-бу-бу и щёлканье замков, я осторожно, стараясь, чтоб меня не заметили, выглянул в коридор.
Рядом с хозяйкой стоял высокий, смазливый, дорого, но с артистической небрежностью одетый парень, волосы у которого, между прочим, были такими же длинными, как у меня. И такими же чёрными. Только без проседи. Не обзавёлся он ещё в свои двадцать с небольшим благородной сединой.
— Подглядывать, дракон, нехорошо, — упрекнула меня Альбина, когда, проводив красна молодца, прошла на кухню. — Любопытство, между прочим, порок.
Хотя и считаю, что для частного сыщика любопытство вовсе не порок, а наипервейшая добродетель, оправдываться я не стал. Поступил хитрее. Сказал, ехидно ухмыляясь:
— Чего-то, Альбина, парнишка твой на клиента не больно похож. Сдаётся, по жизни у него всё в полном ажуре. Признайся, что утешитель.
— Утешитель? — Ведьма всплеснула руками. — Ха! Скажешь тоже. Молодой он ещё. Ребёнок. Можно сказать младенец против меня.
— А сколько ему?
Альбина присела на соседний стул и задумалась:
— Мишки, племянника моего, одноклассник. Школу Леонова вместе заканчивали. Вот и считай.
— Двадцать один, — прикинул я. — Не такой уж и младенец. Живи он в Америке, уже мог бы заказывать текилу.
— Текилу, говоришь? Ха-ха. Текилу он уже в тринадцать стал закидывать и червячком закусывать. Ничуть не показатель. Сопляк сопляком.
— А хотя бы и сопляк. Что с того? Когда это юный возраст в деле утешения благородных матрон помехой был?
Ведьма хотела возразить, но вдруг осеклась, нарисовала в голове заманчивую картинку и мечтательно улыбнулась:
— В принципе да. — Но тут же опомнилась и решительно мотнула пышным париком: — Это в принципе. А конкретно: не по мне жеребчик.
— Ой ли? — не поверил я. — Красавчик ведь.
— Красавчик, говоришь? — Альбина глянула на меня с изучающим прищуром. — Уж не ревнуешь ли? А, дракон? Ревнуешь? Да?
— Чуть-чуть, — ответил я, чтоб сделать ей приятно. — Децул.
— А ты не ревнуй зазря, не тот это случай. Хоть и вышел статью и мордашкой, да не в моём вкусе.
— Это отчего же?
— Танцор он, — сказала ведьма таким тоном, будто обвиняла паренька в чём-то постыдном.
Решив, что неправильно её понял, я переспросил:
— Ты сказала, что он танцор?
— Да, я сказал, что он танцор. Исполнитель бальных танцев. Фокстрот исполняет, румбу, самбу, ча-ча-ча, джайв. Что там ещё?
— Вальс, танго, — подсказал я машинально.
— Ну да, вальс и танго. Короче говоря — танцор.
— А разве это плохо?
— Как по мне, так ничего хорошего, — заявила Альбина. И в ответ на моё вопросительное молчание пояснила: — Есть, дракон, в танцорах что-то такое, знаешь, бабское. Держаться так, будто штырь в одном месте. Не идут, а плывут. Ну чисто лебёдушки. И постоянно глазками по сторонам шастают, проверяют, какое впечатление производят на окружающих. Понимаешь, о чём я?
— Вообще-то, тип знаком, — кивнул я. — Хлопец из таких?
— В том-то всё и дело. Танцор, мать моя Тьма. И мало того, что танцор, так тут ещё певцом собрался заделаться. Представляешь? На эстраду, чёрт её рази, детке захотелось. Так захотелось, что аж ножками сучит от нетерпения.
— Что, голос прорезался?
— Чушь-то не пори, Егор. Сам же знаешь, что в нашем… — Альбина, ковырнув пальчиками воздух, изобразила кавычки, — …шоу-бизнесе можно и без голоса вполне обойтись. Главное — внешность. Связи ещё. Деньги. Напор. Драйв, как сейчас говорят. А голос… Есть — хорошо, нет — ещё лучше. Да что я, блин, тут рисуюсь, сам всё прекрасно знаешь. Да?
Есть вещи, при оценке которых, я старюсь избегать крайних суждений, поэтому на вопрошающий взгляд Альбины ответил уклончиво:
— Знать-то знаю, только полагаю, что не всё так однозначно.
— Спорить не буду, — неожиданно согласилась ведьма. — Случаются исключения. Думала я тут недавно под коньячок насчёт всего этого. Крепко думала.
— И чего надумала?
— А то и надумала… — Альбина замолкла, но через секунду хлопнула меня по коленке. — Вот ответь мне, Егор, если по большому счёту брать, если не пи… Если не городить ху… Блин, как сказать-то без матушки?
— Если не плести злостные небылицы, — подсказал я.
— Да. Спасибо. Так вот, если не плести эти самые небылицы, разве голосом настоящие певцы поют? Говорю «певцы», имея в виду не наших… — Альбина вновь изобразила кавычки, — …звёзд попсячих, а настоящих певцов, певцов с большой буквы. Разве голосом? А ну ответить, как на духу.
— Отвечу. И отвечу так: настоящие поют душой.
— Правильно, дракон, — похвалила меня Альбина. — Правильно. В самую точку попал. Душой они поют, настоящие-то певцы. Душой. Поют душой о том, что есть за душой. А если нет души или за душой нет ни черта, тогда… Тогда — караул. Тогда, если даже у тебя голос шикарный, никакого толку всё одно не будет. Возьми, к примеру, Толю Пазкова, пупса златокудрого. Голосище будь здоров, да? А толку? Теперь вспомни Бернеса для сравнения. Марка. Вот мужчина был. Да? Голоса никакого, а затянет, бывало, сразу комок в горле встаёт. Скажешь, не права?
— Насчёт Бернеса? Почему, не права? Права. Шаман ещё тот.
Тут ведьма сделала «страшное» лицо, показала мне трехдюймовые когти и сказала не то в шутку, не то всерьёз:
— У-у, ляпнул бы, что нет, задала бы трёпку.
Подавшись чуть назад, я бездарно изобразил то, как бездарный актёр бездарно изображает испуг, и ведьма прыснула. Я тоже улыбнулся. После этого повисла долгая пауза, которую ведьма прервала расхожим замечанием:
— Демон родился.
— Как родился, так и уйдёт, — заверил я. И, всё ещё не решаясь перейти к главному, поинтересовался досуже: — Если не секрет, что танцору нужно от старой ведьмы?
— Другому кому не сказала бы, — после небольшого раздумья призналась Альбина, — но тебе скажу. Я ему, Егор, Маску Гибрисы накладываю. Шесть слоёв уже наложила, семь ещё осталось.
— Вот как. Это интересно. Что-то я не слышал, чтобы между колдунами города война началась. Да и парень твой на помощника колдуна никак не тянет. Зачем ему маска?
Ведьма чуть не подпрыгнула:
— Как это зачем? Как это? Ты, Егор, видел в нашем шоу-бизнесе хоть кого-нибудь, кто без маски обходится? Нет, скажи, видел?
— Телевизор смотрю редко, на концерты подобного рода сроду не ходил, так что не совсем в теме. Ни фига не эксперт.
— Ну так я тебе скажу тогда: никто из них без масок не ходит. Ни кто. Ни один.
— Что ж, — рассудил я, — всё это вполне укладывается в философию итальянского карнавала «синьора машера». Помнишь? Надел маску и тебе позволено всё. Полная свобода и никого стыда. Грешишь не ты, а маска. С неё и спрос.
— Слишком глубоко копаешь, дракон, — ухмыльнулась Альбина. — Никакой философии тут нет, а есть грубая физиология. Сунешься на сцену со своим истинным лицом, через полчаса околеешь. Высосет из тебя всю жизненную силу публика-дура. До донышка высосет.
— А так ты высосешь. Нет?
Альбина погрозила мне пальцем.
— Не идиотка, чай. Злоупотреблять не собираюсь.
— Ну-ну, — понимающе улыбнулся я. — А мальчик в курсе, каким боком ему такая магия выйдет? Знает, что стареть душой начнёт ударными темпами. Предупредила его об этом?
— А как же. Обязательно. Правила знаю. Под Молотобойцев ложиться с пустяшного прибытка не собираюсь.
— И что танцор?
— А что танцор? Плевать ему. Глаза горят, рвётся в бой. Столицу Родины нашей бескрайней покорить мечтает. — В голосе ведьмы зазвучали ноты одновременно и неподдельного возмущения, и искреннего недоумения. — И чего им та Москва далась-то, никак не пойму. Была я там по весне. Лучше сдохнуть.
— Ну а им по кайфу, — возразил я. — Кровь кипит, жить хочется, ищут, где круче замуты. Ничего удивительного. Молодых во все времена в столицы тянуло. Прежде — за простором и смыслом, позднее — за культурой и образованием, нынче — за ритмом и баблом.
— Во-во — за баблом. А потому что глупые они, эти нынешние. И сами глупые, и по жизни у них всё без тепла, всё с вые… — Альбина запнулась и вновь попросила помощи: — Как сказать-то?
— С немотивированными претензиями, — подсказал я.
— Да, точно, с немотивированными. — С этими словами Альбина пересела ко мне на колени, обхватила шею, склонила голову к плечу и томно промурлыкала: — Ох, до чего же я люблю умных мужиков. — После чего провела ладонью по моей щеке: — А ты ведь сегодня не брился, зверь.
Роскошная её грудь при этом волнующе колыхнулась, а глаза затуманились.
— Эй, эй, женщина, — стараясь смягчить тоном грубость жеста, решительно взял я её за плечи. — А ну-ка не теряй самообладания. — И легонько потряс её. — А ну-ка возьми себя в руки. Я здесь не за тем… не для того…
— А то я сама не понимаю, зачем ты тут, — толкнув меня в грудь, отстранилась Альбина. Пересела на свой стул и стала выдавать страдания на манер солистки фольклорного ансамбля: — Растоптал любовь ты нашу, дракон. Растоптал безжалостно. Растоптал как чудище косолапое цветочек аленький.
— Ты же знаешь, Альбина, — напомнил я, — дракон и любовь — две сущности не совместимые.
— Но ведь что-то было между нами, дракон? Ведь было?
Секс у меня с тобой был, обратился я к ней мысленно. Преодоление чужой телесности. Вот что было. Что было, то было. И было, надо признать, по высшему разряду. А вот того единственного, главного, того, ради чего только и стоит жить, не случилось. Не случилось любви. Впрочем, как и всегда у меня. Всегда и со всеми. От младых когтей и поныне.
Бухнуть такое вслух я, конечно, не мог (не тот был случай, чтоб правду матку резать), поэтому навёл туману:
— Было, Альбина, у нас, было. И я у тебя был. И ты у меня была. Иллюзией ты моей была. Сказкой наяву. Фантазией во плоти.
— Я была твоей фантазией? — вскинула она удивлённо бровь.
— Была, — подтвердил я. — Прекрасной, упоительной фантазией. И была, и есть, и будешь.
— Ой, ой, ой, — передразнила Альбина мою — между прочим, вполне искреннюю — патетику, после чего категорически заявила: — Не хочу я быть твоей фантазией.
— Да. А кем хочешь быть?
— Хочу быть твоей добычей.
Мне оставалось только покачать головой и пропеть упрекающе:
— Ох, Альбина, Альбина.
— Ладно, дракон, успокойся. Это я так. Забудь. Говори, зачем пришёл?
Переход был резким и неожиданным, я на секунду задумался, и, как водится, начал издалече:
— Послушай, Альбина. Я прекрасно понимаю, что ты чертовски устала, что ещё толком не восстановилась после недавнего сеанса, однако…
— Не разводи кисель, дракон, — оборвала меня ведьма.
— Помощь мне твоя нужна, Альбина, — сменив тон на более деловой, заявил я и указал на кепку. — Хозяина вот этой вещички отыскать нужно. Срочно. Сейчас.
Ведьма глянула на непрезентабельного вида головной убор, затем перевела взгляд на коробку.
— А там что? Чую Силу.
— Так и есть, — подтверждая её догадку, сообщил я. — Это тебе Сила для работы. — Затем ткнул в Книгу Книг: — А вот это тебе за работу.
— А это ещё что такое?
— Книга. Книга Книг. Артефакт свойств такой. Именитая, между прочим, вещь. Вещь, как пишут в музейных каталогах, помнящая прикосновения многих поколений. Слышала про неё, наверное? Не могла не слышать. — Заметив, что ведьма мучительно старается припомнить, я добавил убеждённо: — Быть такого не может, чтобы не слышала. Ты вспомни. Книга Книг. Книга Без Автора. Книга Захария Китойского. Ну? Вспоминаешь?
— Ну да, что такое припоминаю, — неуверенно произнесла ведьма. — Вроде как, ликвидная вещица. — И тут же упрекнула: — Ты бы лучше мне Ожерелье поднёс от щедрот. Вот бы порадовал. Расшиблась бы тогда для тебя в лепёшку.
— Чего не могу, того не могу, — твёрдо сказал я. — Даже не проси. А потом — зачем ты мне нужна в виде лепёшки? Ты мне адекватная нужна.
Ведьма возмущённо фыркнула, взяла Книгу Книг со стола, провела ладонью по старой коже и задумалась вслух:
— Спрашивается, ну и на кой она мне?
Я, честно говоря, ожидал с её стороны иной реакции. Но тушеваться не стал, и на минутку превратился в лавочного приказчика, расхваливающего залежалый товар:
— Удивляешь ты меня, женщина. Как так — «на кой»? А на кой книжки-то нужны? Читать будешь. Книга одна, а текстов в ней тьма тьмущая. Сплошная экономия, как ни крути. А, может, со временем придумаешь, как к гаданию приспособить. Ты баба умная, сообразишь. В конце концов, книга — лучший подарок. А Книга Книг, получается, — подарок подарков.
— Слушай, дракон, а там есть история про то, как графиню находят в библиотеке с ножом в груди?
— Обязательно. По теории вероятности — обязательно.
— Ладно, уболтал ты меня, чертяка говорливый. — Альбина поднялась со стула и, заложив руки за голову, потянулась так, что аж косточки затрещали. — Человечек твой, он хоть в Городе-то сейчас?
— Думаю, да.
— Ну, это уже полегче будет. А звать его как?
— Чего не ведаю, того не ведаю.
— А жив? Или уже часом того, преставился?
— Думаю, живой. Во всяком случае, надеюсь на это.
— Надеется он, — проворчала Альбина и приказала: — Сиди тут и не подглядывай. Как закончу, сама выйду.
С брезгливой миной она ухватила двумя пальчиками кепку, сунула под мышку громыхающую коробку и удалилась в комнаты. А я посидел немного без движения, тихо радуясь тому, что дело выгорело, затем подошёл к окну и свернул жалюзи.
Оказалось, что метеорологи, сулившие улучшение погод, в своих прогнозах не ошиблись. Дождь, заряжавший три дня кряду, стих, тучи над противоположной девятиэтажной ослабили строй, в лазурные щели с отменным напором врывался солнечный свет. Открыв фрамугу, я достал сигарету, помял её в пальцах, однако прикуривать не стал. Понял, что курить не хочется. Вернув сигарету в пачку, посмотрел вниз невидящим взглядом, захлопнул фрамугу и вернулся на место. Навалился грудью на стол, сложил руки как примерный школьник, положил на них голову и закрыл глаза. И тут же открыл. Испугался, что усну. Чертыхнулся, дескать, вот что значит в зрелом возрасте шастать где ни попади ночь напролёт, и вновь закрыл. И уже не стал бороться. Уснул. И был мне сон.
И снилось мне, будто я самолёт. Огромный такой пассажирский лайнер. И будто лечу я. Лечу высоко, лечу издалёка и лечу далеко. И до поры до времени полёт этот отличался он от обычного полёта дракона, только тем, что крыльями не нужно было воздух месить, а так всё, как всегда: наверху — свет и синева, вокруг — облака, внизу — горные хребты, которые кажутся с такой высоты складками небрежно брошенного покрывала. И было мне поначалу хорошо и безмятежно. В общем, как обычно. Но потом — секунда прошла или вечность, не знаю, во сне разницы нет — я понял, что всё не так. Что всё отнюдь не как обычно. Что всё совсем-совсем иначе. Что полёт мой ни фига не свободен, что мной кто-то управляет, и этот кто-то сидит у меня внутри. Как только я это понял, тот, который во мне сидел, резко сбросил высоту и развернул меня в направлении двух невесть откуда возникших по курсу небоскрёбов. Эти рядом стоящие сооружения и подозрительно напоминали высотки Всемирного Торгового Центра, и в то же время абсолютно не походили на них. Одно было точно — в одно из них я должен врезаться. Никаких сомнений не было, что меня ведут на таран.
Пока я соображал, чтобы такого умного предпринять, тот, который во мне сидел, уже выбрал в какую именно башню меня воткнуть. В правую. Отлично представляя, что сейчас случится, я начал изо всех сил противиться неизбежному. Пытался развернуться. Старался изменить угол атаки и использовать для набора высоты встречные воздушные потоки. Пробовал тупо свалиться в пике. Короче говоря, сопротивлялся чужой воле каждым своим болтом и каждой своей заклёпкой. А под конец начал даже взывать к радарам и ракетам ПВО. Однако, как это зачастую и бывает во сне, все мои усилия оказались бесполезны и вылились лишь в сдавленный, похожий на вой оголодавшего волка, крик ужаса.
Столкновения не произошло. Я проснулся за миг до него, и увидел, что озадаченная Альбина трясёт меня за плечо. Убедившись, что я благополучно вынырнул в явь, она спросила:
— Чего орёшь, дракон?
— Кошмар приснился, — ответил я сиплым голосом.
Ведьма устало плюхнулась на стул и понимающе кивнула:
— Бывает.
— Ну как там у тебя? — зевнув в кулак, осведомился я. — Получилось?
Она вытащила сигарету из моей пачки, прикурил, вкусно затянулась и только после этого ответила:
— Фирма веников не вяжет.
— И где мне паренька искать?
— Показать на карте?
— Покажи.
Ведьма выхватила откуда-то (страшно даже подумать, откуда) колоду Таро, вытащила одну карту и кинула на стол:
— Вот оно, то самое место.
Это был аркан «Мистерия».
— Шутишь? — спросил я.
— Отчасти, — ответила ведьма туманно.
— А без шуток?
— Без шуток ищи его в конце Пятой Советской. Номер дома не разобрала, но он крайний.
— А по какой стороне? — уточнил я.
— По чётной, — быстро ответила ведьма. Затем закрыла глаза, проверила себя и подтвердила: — Да, по чётной. — После чего встала, вытащила из шкафа две рюмки и графин с чем-то мутно-зелённым. Наполнила одну рюмку и, прежде чем налить вторую, спросила: — Будешь?
— За рулём, — ответил я.
Она понимающе кивнула, открыла холодильник, вынула початую бутыль «Столичной», наполнила мою рюмку и показала жестом — бери. Я взял.
— Давай, дракон, за всё хорошее.
Выпила она очень быстро. Залпом, уверенно, по-мужски. Я тоже выпил, взял горящую сигарету из её пальцев и одной затяжкой добил до фильтра. Вдавил окурок в пепельницу и хлопнул по коленям:
— Всё, пора. Пойду. Высокая в небе звезда зовёт меня в путь.
— Всё бегаешь, всё геройствуешь. — Альбина покачала головой. — И на кой тебе, скажи, все эти жалкие людишки?
— Сам не знаю, — признался я. — Но лучше уж помогать людям, чем садовым гномам.
Ведьма потянулась и ласково стукнула меня кулаком по лбу:
— И что ты за обалдуй такой-то? А, дракон? Скажи?
— Нормальный я обалдуй.
— Угомониться не собираешься?
Я аж крякнул:
— Да что вы все сговорились, что ли, все сегодня?
— А кто ещё? — прищурилась ведьма.
— Да есть тут один крендель.
— Поэт?
— Он самый.
Ответив, я стал выбираться из-за стола и неудачно при этом зацепил край стола. Бутылка покачнулась, но устояла, а вот рюмки нет. Упали на пол, и обе — вдрызг. Альбина сперва ахнула, а потом усмехнулась:
— На счастье.
А я сразу же кинулся подбирать хрустальные осколки.
Ведьма шикнула:
— Оставь, Егор, порежешься.
И накаркала.
Как я ни берёгся, один осколок шаркнул-таки мне по большому пальцу. Я выругался и пошёл к мойке. Ведьма меня остановила на полпути, схватила за руку и присосалась к ране.
— Перестань, — поморщился я. — Сейчас сама свернётся. Чёрная ведь. Драконья.
— Вовсе не чёрная, а кофейная, — оставив мой палец в покое, возразила Альбина. — И на вкус горчит, как двойное кофе.
— Двойной, — машинально поправил я.
— Ну да, двойной, — согласилась ведьма и вдруг замерла. Постояла тихо, будто прислушиваясь к чему-то. Потом посмотрела на меня как-то чудно и спросила: — Слушай, дракон, а у тебя всё в порядке?
В её голосе я услышал тревогу и сам забеспокоился:
— В каком это смысле?
— Ну, вообще, по жизни. Как оно всё у тебя сейчас?
— А что такое?
— Беды не чуешь?
— Да нет вроде. Есть, конечно, проблемы всякие, но у кого их нет. На то они и проблемы, чтобы решать их.
— Значит, никакой серьёзной опасности не чувствуешь?
— Да говорю же, нет.
— А вот кровь твоя чувствует. Беду она чувствует. И беда та идёт от каких-то близнецов.
— От близнецов? — Я усмехнулся. — Если от близнецов, тогда всё понятно. Сейчас только близнецы снились. Башни-близнецы. Те самые, в которые самолёты врезались.
Альбина дёрнула меня за рукав:
— А ну-ка давай поподробнее.
— Да ерунда всё это, — отмахнулся я. — Бред. Оставь, Альбина, не парься.
— Я-то оставлю, — строго, даже назидательно сказала она, — но твоё с тобой останется.
— Разберусь.
— Смотри.
Убедившись, что кровь загустела, и разрез стал покрываться тонкой коркой, я клюнул ведьму на прощание в нос и пошёл в коридор. Альбина потянулась следом. У двери она меня развернула за плечи резко, притянула и впилась губами в губы.
— Сумасшедшая, — прохрипел я, когда сумел оторваться.
— А ты — чудовище, — отмерила она и, сунув в мою руку кепку, вытолкнула на лестничную клетку.
Спускаясь по лестнице, я думал о том, что годы проходят, столетия, а мир не меняется. По-прежнему мужчине все женщины представляются сумасшедшими, а женщине все мужчины — чудовищами. Автор детективов и не последний мыслитель Честертон полагал такое положение дел биологической и социальной нормой, этаким статус-кво. И считал при этом, что оно может быть преодолено лишь иррациональным образом. А если перевести на нормальный язык, то с помощью безоглядной, неосторожной и взаимной любви. Так и только так. К сожалению, с любовью у меня никак, поэтому Альбина на какое-то неопределённо продолжительное время (а скорее всего, навсегда) так и останется для меня сумасшедшей. Ну а я соответственно для неё — чудовищем.
Крайним домом по чётной стороне Пятой Советской оказалась трёхэтажная общага авиаремонтного завода. На вахте гонял чаи древний, но ещё бравый старичок. Я сунул ему кепку под нос и сказал, что ищу её хозяина, жердяя с родимым пятном на правой щеке. Наплёл, что денег ему должен, разбогател на днях, теперь ищу, чтоб долг отдать. Старичок, насадил на нос очки, долго вертел кепку в руках, щупал её, мял, чуть ли на зуб не попробовал. Потом сказал, что нет, не нужна ему такая кепка. Даже даром. Тут я понял, что старичок мой малость глуховат. Нервничать по этому поводу не стал, ещё раз объяснил, чего хочу. Теперь, правда, прибавив громкости. Такое терпение моё беспримерное было вознаграждено сторицей. Узнал и имя — Рома Щеглов, и номер комнатушки — триста шестнадцатый.
Поднявшись на третий этаж, я Рому дома не застал. Застал его жену, толстую даму непонятного возраста, и его четверых детей, старшему из которых было лет двенадцать, а младшему — пожалуй, года четыре. Признаться, это было жалкое зрелище: пропахшая лапшой быстрого приготовления каморка размером три на три, несчастная мамаша с глазами насмерть перепуганной игуаны и чумазые гаврики мал, мала, меньше и меньше меньшего.
На мой вопрос, где законный муж Рома, женщина нечего не сказала, явила себя стойкой партизанкой. Честь ей за это и хвала. А вот старший сын подвёл отца, сдал с потрохами. Сказал, что батя в магазин пошёл, но придёт с минуту на минуту. Повторив подвиг Павлика Морозова, пацан тут же получил от матери крепкую затрещину, а от меня благодарность.
Сбегая вниз, я клокотал и возмущался. Народу им не хватает, елки-палки, всё рожать призывают. Этих бы сперва на ноги поставили. Вот этих вот, которые уже есть. И которые, между прочим, всё время хотят есть.
Многодетного отца Рому Щеглова я решил подкараулить не в тёмных и затхлых коридорах общаги, а во дворе, который образовывали помимо общаги ещё две панельные пятиэтажки. Погода совсем наладилась, солнце пригревало (не так, конечно, как, допустим, в июле, но всё же), так что ничто не мешало организовать наблюдательный пункт на свежем воздухе.
Это был тихий городской двор с обязательной детской площадкой: поломанные качели, песочница, разукрашенный под мухомор грибок. Чуть в стороне, под корявой яблоней-дичкой, виднелась длинная скамейка. На её солнечной половине основательно и, судя по всему, надолго расположились две старушки. Обычные такие старушки, пахнущие кипячёным молоком, сдобой и валерьянкой. Они походили друг на друга, только и различий, что одна одета была попроще — в драповое пальто, а другая с большей претензией — в пальто с меховым воротником. Я не постеснялся, подошёл, пожелал доброго здравия и уселся на другой конец скамейки. Туда, куда падала узорчатая тень. Старушки само собой тут же проявили бдительность, прервали болтовню и оценивающе покосились на меня — что за персонаж? Я боковым зрением это заметил, но сделал вид, что не заметил, а потом и вовсе повернул голову так, чтобы бабки оказались в мёртвой зоне. Впрочем, они в моём облике ничего подозрительного, видимо, не обнаружили и благополучно продолжили прерванную беседу.
— Читала, Андреевна, сегодняшние «Файненшл Таймс»? — спросила одна.
— Да некогда мне было, Леонидовна, — ответила другая. — Нина нынче во вторую, так я в кассу с утра. Компенсацию выправила, да за одно уж договор по срочному вкладу пролонгировала. Потом в клинику зашла на четверг на зубы записалась и… Что ещё? А-а, за телефон же оплатила. Так до обеда и пробегала. Не до газет было. А что пишут-то?
— Так акции «Газпрома» на тридцать пунктов рухнули.
— Да ты что?! Господи Иисусе! То-то я всю ночь промаялась. Только под утро и уснул. И сон главное снился какой-то такой странный. Будто птица я, а взлететь не могу. Разбегаюсь будто, разбегаюсь, а всё никак. Оно вот, стало быть, к чему.
От бабкиных воркований я слегка размяк, и чуть было не уснул. Того гляди, и миссию провалил бы, но слава Силе едва начал клевать носом, во дворе застукало и забрякало. Сквозь ленивый кошачий прищур я увидел, как в сторону двух металлических гаражей пробежал заполошный мужик в спецовке и резиновых бахилах. На плече у него висела офицерская сумка, из которой торчала рукоятка разводного ключа. Мужик, испуганно озираясь, быстро шмыгнул в щель между гаражами и там затаился. И только он спрятался, во двор с диким гиканьем, поднявшим ввысь ленивых, жирных голубей, ворвалась ватага пацанов. Пугая небеса игрушечным оружием, пацаны вихрем пронеслись через двор и скрылись за углом общаги.
— Ребятня опять Потапова гоняет, — объяснила происшествие Андреевна.
— Судьба у него такая, — отозвалась эхом Леонидовна и пропела по-стариковски: — О-хо-хо хо-хо хо-хо.
Что произошло потом, как судьба-злодейка обошлась с сантехником Потаповым, поймали его пацаны или нет, я так и не узнал, поскольку во дворе появился Рома Щеглов. Обознаться я не мог: высокий, тощий, чёрная блямба на правой щеке и авоська с продуктами в руках. Всё сходилось. Окончательно я убедился, что это он, когда окликнул его по имени. Услыхав своё имя, шустрила вздрогнул, оглянулся затравленно, подтянул «треники» и рванул к дверям общаги. Немедля не секунды, я сорвался со скамейки и с криком «Я — годзилла, ты — японец!» припустил за ним. Со старта развил приличную скорость и почти догнал его на пролёте второго этажа, но споткнулся о кинутую авоську и растянулся. А Рома поскакал себе выше. Я подумал, сейчас рванёт в коридор третьего этажа, но, отводя беду от собственного гнезда, Рома метнулся к металлической лестнице, ведущей на чердак. Взобрался быстро, по-обезьяньи, и выбил головой оцинкованный люк. К тому моменту я уже был совсем рядом, подпрыгнул и сумел ухватить беглеца за ногу, но он, будто ящерица хвост, оставил мне на память дранный кед и исчез в темноте.
Экий ты, Рома, вёрткий, поразился я. Запустил трофеем в стену и тоже полез наверх. Пока выползал на чердак, Рома уже улизнул на крышу. Ничего не оставалась, как подняться по деревянному настилу к одному из трёх проёмов и выбраться наружу.
Рома стоял на гребешке двускатной крыши и угрожающе размахивал прихваченным где-то по пути куском металлической трубы. Когда я сделал шаг в его сторону, он заорал:
— Отвали от меня! Отвали!
— Кончай, Рома, дурить, — сказал я как можно миролюбивее. — Брось дрын, шагай сюда. Перетрём и разойдёмся.
И чтоб окончательно его утихомирить, в два приёма вытащил кольт.
Однако вид оружия возымел на Рому обратное действие. Поначалу да, он замер, но спустя секунду издал рычащий возглас и кинулся в атаку.
Всё, пожалуй, закончилось бы рукопашной, когда бы не ветхость шифера. В одном месте он треснул, Рома споткнулся, потерял равновесие и, продолжая орать, теперь, правда, по другой причине, понёсся мимо меня к краю крыши. Потеряв по пути трубу, парень сумел ухватиться за волноводы самопальной антенны. На секунду показалось, что выкрутился, но антенна была закреплена так плохо, что ничем ему не помогла. Гнилые верёвочные растяжки лопнули, Рома ойкнул и сорвался. В последний миг, однако, извернулся и каким-то чудом ухватился за ржавый трос ограждения.
Ни фига не гимнаст, прикинул я. Больше двадцати секунд не провисит.
Подошёл и, глядя ему в перекошенное страхом лицо, спокойно поинтересовался:
— Ну и как оно?
— Да иди ты, — нашёл силы огрызнуться беглец и безуспешно попытался подтянуться.
— Не груби, Рома, тебе не идёт. Скажи лучше, для кого мобилу тиснул?
— Какую мобилу?
— Со стола у дамочки в редакции журнала, — напомнил я. — Для кого?
Секунды ему хватило, чтоб вспомнить всё:
— Для себя, конечно. Продал бы рубля за полтора.
— Врёшь?
— Нет, мужчина, не вру.
Ответил и стал кусать губы. Силёнки кончились, терпёж тоже, висел чисто на характере. И оставалось ему висеть от силы секунд пять-шесть. Тут стало мне, конечно, понятно, что говорит он правду. В таком положении, в каком он в тот момент находился, врут только конченные придурки. Он придурком не был. Кем угодно — жуликом, забулдыгой, ненадёжным заёмщиком, скверным отцом, но только не придурком. И стало мне за него радостно. Снаряды тёмным не подносил, следовательно, не безнадёжен. А что версия оказалась пустоцветом, так это ничего. Отрицательный результат тоже результат.
Быстро сунув пистолет в кобуру, ухватил я Рому за шкирку (верности ради — двумя руками), упёрся каблуками в стойки леера и потянул.
— С виду худой, а по весу не скажешь, — проворчал я, когда беглец оказался в безопасности.
— У меня кость тяжёлая, — на полном серьёзе пояснил он, рухнул обессилено и обнял шифер. Так, наверное, лапает землю матрос, которого выкинуло на берег после кораблекрушения.
— Чего бегал-то? — спросил я, присев рядом.
— А ты, мужчина, чего за мной бегал?
— Я первым вопрос задал.
Почуяв нутром, что никакой опасности от меня не исходит, Рома перевернулся на спину и признался:
— Думал ты от Паши Йогурта. Денег я ему должен. Паше. Одиннадцать рублей. — И тут вновь насторожился: — Но ты ведь, мужчина, не от Паши?
— Расслабься, не от Паши я. Не от Паши, не от Саши и даже не от Даши. Я от себя.
Тут Рома попытался переварить, как любит выражаться Лао Шань, структуру момента, не смог и пожал плечами:
— Так и не всосал, чего ты, мужчина, хотел-то.
— Вопрос задать, — сообщил я. — Вопрос задал, ответ получил, могу теперь идти.
— Ну ты, мужчина, и лось. Ну ты, блин горелый, меня и напугал.
— А ты не воруй, пугаться не будешь. Бабки нужны, иди работать. Сварщиком, к примеру. Спрос на них сейчас большой. Я бы сам пошёл, да, видишь, глазки болят.
Рома к тому моменту уже окончательно пришёл в себя. Сел, окинул меня недоумевающим взглядом и ответил, не претендуя на оригинальность:
— Не учи жить, мужчина, помоги материально.
Я глянул на него с интересом и помыслил вслух:
— Почему бы, собственно, и нет. — Выгреб из разных карманов купюр на общую сумму в девять с чем-то там тысяч и предложил: — Вот, держи. Как один нездешний дядя правильно заметил, милосердие иногда стучится в наши сердца.
Рома поначалу лапу-то протянул машинально, но потом опомнился, одёрнул.
— Бери-бери, — стал настаивать я. — Бери, раз даю.
Но он упёрся и ни в какую. То ли боялся, то ли гордость проснулась, то ли ещё чего. Тогда я свернул деньги в колбаску и затолкал их в карман его мастерки. А в нагрузку выдал слова напутствия:
— Пацанам своим мяса купи, в их возрасте мясо нужно жрать от пуза. Не то вырастут дистрофиками. А на кой нам дистрофики? Нам дистрофики без надобности, нам мальчиши-кибальчиши нужны. Чтобы враг не прошёл. И чтоб друг уважал. А насчёт того, чтоб в сварщики переквалифицироваться, ты, отец-герой, подумай. Подумай-подумай. Что за радость от всякого встречного-поперечного по крышам овцой скакать.
Залечил я его так грамотно и потопал, осторожно ступая по ненадежному шиферу к уделанному голубями лазу.
— Слушай, мужчина, ты псих, да? — крикнул Рома мне в спину.
Я не ответил ему. Не потому что мне нечего было ответить, а потому что в кармане зазвенел мобильный. Зазвенел он рингтоном, закреплённым за Серёгой Беловым. Ну наконец-то, обрадовался я, услышав знакомую мелодию Таривердиева, и так резко выхватил трубку, что чуть карман не разорвал.
— Ты мне нужен, — сказал полковник.
— Ты мне тоже, — ответил я.
— Ты мне два раза нужен.
— А ты мне — две тысячи раз.
— Мы на Пролетарской, во дворе комплекса «Сезон». Там, где стройка. Знаешь?
— Знаю.
— Давай сюда. Скачками.
— Уже.
Если кто-то срочно нуждается в твоей помощи, нужно спешить. Если при этом ты и сам нуждаешься в его помощи, нужно спешить вдвойне. Я и поспешил. И, как это ни покажется странным, по дороге никого не рассмешил.
Глава 13
Наблюдая за тем, как бьются в конвульсиях обычно невидимые, на этот раз проявленные воздействием волшебных концентраторов линии Силы, я подумал, что они сейчас похожи на жирных лазурных анаконд, которых терзают электрическим током какие-нибудь отмороженные изверги.
— Впечатляет? — спросил встретивший меня у первой линии оцепления Боря Харитонов.
— Впечатляет, — признался я.
На самом деле впечатляло. Очень. Команда Серёги Белова превратила строительную площадку в настоящий театр боевых магических действий: строители и зеваки эвакуированы, территория оцеплена низшими чинами, вдоль забора из гофрированной жести через каждые пять шагов расставлены похожие на античные вазы концентраторы Силы, а само недостроенное здание будущего торгово-офисного центра от основания до самого последнего этажа скрыто в клубах магической Завесы Анкара. Обычно эта мутно-серая пелена вызывается коллективным заклинанием, дабы скрыть нечто важное и непредназначенное для чужого взора. Либо для этого, либо для того, чтобы на какое-то время — вот неподвластный уму парадокс — остановить поток времени. Но чаще всего — поскольку спрятать что-либо и устроить безвременье можно и менее затратными способами — используется она тогда, когда нужно устроить и то и другое одновременно. Одновременно и безотлагательно.
Позволив мне оценить масштаб происходящего, но ничего до поры до времени не объясняя, Боря повёл меня за вторую линию оцепления.
— Как у тебя вчера с Ирмой сложилось? — поинтересовался я, нырнув под оранжевую оградительную ленту. — Стыковка прошла в штатном режиме? Или пришлось перейти на ручной?
В ответ Боря издал протяжный звук, похожий на стон подбитого изюбря. И обронил, не поворачивая головы:
— Сыпанул ты, братишка, мне соль на свежую рану. Вот такую вот горсть сыпанул. За что, спрашивается?
— Неужели разругались?
— Хуже. Девчонка динамо крутанула.
— Быть такого не может.
— Может, дракон, ещё как может. Исчезла в полночь как профессионалка, я даже глазом не успел моргнуть.
— Бывает, — посочувствовал я.
— Она исчезла, — продолжил Боря с покаянной искренностью старого пьяницы, — а я с горя до хрустального звона дозаправился. Худо мне сегодня. Ой, худо, Егор. И душа болит, и головушка.
Не найдя, чего сказать, я вновь протянул:
— Бывает.
— Ага, бывает, — вздохнул Боря и, нервно одернув полу чёрного бушлата, добавил: — Отчего-то в последнее время всё чаще и чаще.
До служебного, напоминающего бронетранспортёр, «хаммера», возле которого Молотобойцы организовали нечто вроде временного штаба, оставалось шагов двадцать. Там под пляжным тентом клоунских цветов стоял канцелярский стол, за ним в легкомысленном плетёном кресле, с которого даже не удосужились сорвать огромный пластиковый ценник, сидел Серёга Белов и напряжённо говорил с кем-то по спутниковому телефону. Исполосованное шрамами лицо главного опера местного Поста было мрачнее тучи, свободная ладонь то теребила бороду, то оглаживала ворот бессменной кожанки, то сжималась в кулак. Давненько я не видел своего приятеля в столь растрёпанном расположении духа.
Остальные служивые (кто в чёрно-оранжевых форменных комбинезонах с монашеского вида капюшонами, кто по гражданке, но все — с поясами Молотобойцев и боевыми мечами инхипами) стояли полукругом на почтительном расстоянии от своего командира в готовности немедленно выполнить любой его приказ. Было их по какой-то странной случайности, как апостолов, двенадцать. Большинство я знал шапочно, на уровне «Привет, как дела? — Пока не родила». Близко — лишь боевого мага Володю «Нырка» Щеглова, эксперта по заклинаниям Самохина и чародейку Нашу Машу, длинноногую буряточку, состоящую в штате Поста на должности со столь замысловатым названием, что без ошибок произнести его вслух пока ни кому не удавалось.
Приметил я и ещё одного персонажа развернувшегося фантасмагорического действа. В стороне от кондотьеров, вдоль забора, что огораживал строительный котлован, прохаживался, заложив руки за спину, незнакомый мне человек в сером пальто и серой же щегольской шляпе. Было ему лет тридцать-тридцать пять, он заметно нервничал, хотя всеми силами и пытался выглядеть спокойным. Незнакомец мне этот почему-то сразу не понравился. Было в нём, при всей его смазливости, нечто отталкивающее. Похож на фигуру, вырезанную из второсортного картона, подумал я про него. Такой же серый и плоский.
Мы не дошли до внедорожника всего ничего, когда Боря вдруг потянул меня в сторону:
— Отойди-ка, Егор, пока вон туда, к будке строителей. Жди и делай вид, что не при делах. А я пока доложу Архипычу, что ты уже прибыл.
Ничего не понимая, я проворчал:
— Сами вызвали, теперь церемониал какой-то левый устраиваете.
— Так надо, Егор, — извиняющимся тоном сказал Боря и коротко кивнул в сторону незнакомца. — Видишь, мы тут не одни.
— Заметил. А кто это?
— Да так. Прыщ один из столичного Поста.
— Чего тут забыл?
— Это тебе Архипыч расскажет, я не уполномочен. Хотя, признаться, сказал бы сейчас насчёт этого козодоя пару ласковых. Ох, сказал бы. Да ещё бы, будь моя воля, и настучал ему по черепку. Знаешь, так от души бы настучал. Со всей пролетарской ненавистью.
После этих гневных, горячечных, подкреплённых взмахами огромного кулака слов Боря оставил меня, а сам, ускорив шаг, направился к своему командиру. Подойдя к столу, дожидаться, когда полковник закончит телефонный разговор, не стал, пригнувшись, сунулся под тент и зашептал в свободное ухо. Главный опер сразу просветлел лицом, нашёл меня глазами, отсалютовал уставными «вилами» и сделал знак рукой, который я понял так: подожди немного, дракон, сейчас закончу.
В ответ я сдержано кивнул, дескать, ладно, жду. И доставая на ходу сигареты, направился к выкрашенному в ядовито-зелённый цвет вагончику на колёсах, который строители установили недалеко от аккуратно сложенных в стопку железобетонных плит перекрытия. Не успел я сделать в сторону бытовки и трёх шагов, как услышал хорошо знакомый голос:
— Глаза дракона сияют. Лик его ужасен. Движения быстры. Он прекрасен. Он весь, как божия гроза. Привет, старичок.
Я обернулся. От здания торгового комплекса ко мне приближался эгрегор Кика, яркий представитель той когорты удивительных существ, которые появляются в Пределах в результате волевого порыва людей, объединённых единым желанием.
Бывают эгрегоры жадности, бывают — глупости, бывают — хаоса, случаются эгрегоры твёрдого порядка, народного гнева и благородной ярости. Ну а мой знакомец Кика — эгрегор нездорового любопытства. Материализовался в Пределах в перестроечные времена благодаря неудержимому желанию горожан во что бы то ни стало узнать всё то, что семьдесят лет скрывала от них родная Советская Власть. С тех пор подвизается на ниве журналистки, в последние годы — в качестве фрилансера. Работает сразу со всеми газетами Города, вхож во многие благородные дома, обладает способностью присутствовать одновременно в нескольких местах и всегда знает все последние городские новости. Одним словом, очень информированное существо. Самое, пожалуй, информированное.
С виду он обычный человек, у него даже имя человеческое есть, хорошее такое имя — Илья Комаров, и надо быть посвящённым, чтобы увидеть, что у этого дружелюбного, бодрого пятидесятилетнего толстячка нет души. Нет как таковой. Как и у всякого, кто рождён далеко-далеко за Пределами.
Пожимая пухлую, никогда не знавшую грубой работы ладошку, я поинтересовался:
— Чего тут нужно представителю продажной прессы?
— Вызвали, — коротко пояснил Кика, кивнув в сторону молотобойцев.
— Тебя-то зачем?
— Всегда, старичок, вызывают, когда нужно грамотно соврать профанам. На птичьем языке спецслужб это называется «информационным прикрытием».
— Ты у них в штате? — удивился я. — Вот не знал.
Кика покрутил пальцем у виска:
— С ума, что ли, сошёл? Как я могу быть у Молотобойцев в штате? Я ведь, старичок, не человек, я инфернальный выродок. Забыл?
— Ну не человек. И что?
— Как «что»? Души нет, стало быть, священных клятв давать не могу, и высоких обетов принимать не смею. Потому работаю исключительно по разовым, ни к чему меня не обязывающим, договорам. Так и только так.
— Платят-то хоть хорошо? — спросил я не столько из интереса, сколько для поддержания разговора.
— Платят, — уклончиво ответил Кика.
— Мало значит.
— Курочка по зёрнышку клюёт.
— Ха-ха.
— Только за плату работает быдло.
— Идейный?
— Типа того.
— Уважаю.
Играя в такой вот словесный пинг-понг, мы дошли с ним до вагончика строителей. Подложив под зад пакет с журналом, я замечательно устроился на откидной лестнице и похлопал по ступеньке, приглашая Кику присесть рядом. Эгрегор провёл по металлической поверхности пальцем с отполированным ноготком, удостоверился, что пыльно-грязно, и воздержался. Поберёг свой стильный светло-бежевый плащ.
— Не в курсе, что тут происходит? — закурив, спросил я. Протянул пачку эгрегору, вспомнил, что не курит, и спрятал её в карман.
— Когда позвонили, — подставляя лицо лучам слабого осеннего солнца, ответил Кика, — сказали, что КС четвёртой степени.
— А мне дежурный сказал, что второй.
— Второй? — Кика скосился в сторону спрятанной в клубах Завесы новостройки, потом задумчиво подёргал ухо в районе богемной серьги и, продолжая по-кошачьи щуриться на солнце, заметил: — Сдаётся, старичок, косяки у них по ходу дела пошли.
— К бабке не ходи, — сказал я. — Оттого и интересуюсь: что за блудняк? Колись, Кика. Быть такого не может, чтоб не знал.
Эгрегор не сразу, но ответил:
— Утверждать, старичок, ничего не берусь, но краем уха слышал, что с рассвета хидлера по городу гоняют.
— Демона душевного смятения?
— Ага, длиннохвостого.
Тут Кика усмехнулся чему-то своему и продекламировал, весьма удачно имитирую голос Левитана:
После чего спросил:
— Помнишь стишок?
— Стишок помню, — сказал я. — А почему такой кипеш, признаться, не пойму. Хидлер — существо вредное, конечно, но не столь опасное, как, например, кятлот, крым-рым или угрюм-акар. Взять его для опытного мага — пара пустяков. Да? Нет?
— Ты маг, тебе видней. Случись, сам бы сумел захомутать?
— Будь при Силе, запросто. Причём, в одиночку. — Похвалившись, я кивнул в сторону молотобойцев. — А тут таких, как я, человек шесть. И ещё человек шесть тех, кто намного меня круче. Я уже не говорю об Архипыче, маге высшего уровня.
— Стало быть, старичок, что тут не так, — рассудил Кика.
— Да, похоже на то, — согласился я. А затем, держа в уме свои недавние злоключения, решил воспользоваться тем, что встретился с самым информированным существом Города. Спросил как бы между прочим: — Что нового слышно? Чем город дышит?
— Чем попало, — ответил Кика и взял паузу.
Я не стал его торопить, знал, немного потерплю, и сам всё расскажет. Так и случилось.
— Кто-то диким войну объявил, — не выдержав и пяти секунд, начал Кика с самого на его взгляд любопытного. — Два трупа нашли поутру на берегу Ухашовки, а ещё двое у них без вести пропали. Слышал о таком?
— Краем уха, — соврал я. — А с чего ты решил, что это война?
— Говорят, — пожал плечами Кика.
— А ещё что говорят?
— Говорят, Михей Процентщик где-то разжился египетским крестом.
— Настоящим?
— Самым что ни наесть, чуть ли не из гробницы. Занятно, да?
— Угу, — кивнул я. — Занятно.
— А ещё мне зуб выбили в драке. — Тут Кика повернул лицо в мою сторону, раззявил рот и ткнул в то место, где ещё недавно был резец. — Видал?
— Кто это тебе так? — удивился я.
— Есть умельцы, — хмыкнул эгрегор и, видя моё искреннее (а оно было действительно искренним) сочувствие, стал делиться: — Вчера сдуру попёрся на шабаш непримиримых, думал сенсацией разжиться. Разжился, блин. Поначалу ничего беды не предвещало. Сел, как обычно, в первый ряд, диктофон врубил, стал слушать пламенные речи. Полчаса слушаю, час, полтора. Скукотища такая, что от зевоты челюсть сводит. Ещё немного и точно бы уснул. Но тут один деятель из особо одарённых вдруг выдает с трибуны, что Путин — ноль без палочки, которому с ценами на нефть повезло. А я возьми и ляпни сдуру, что Бог не фраер, знает, кому помогать. Сказал, вроде, тихо, в четверть голоса, но услышали. И понеслась. Слово за слово, а потом сразу стульями.
— Пострадал, стало быть, за своего соплеменника, — не сумев сдержать улыбки, сказал я.
Кика на мою откровенную иронию внимания не обратил и гордо заметил:
— За своего — святое дело.
Честно говоря, я не совсем понимал, как это бездушный может блюсти святость, но, боясь обидеть, расспрашивать об этом не стал и сменил тему:
— Слушай, а ты Холобыстина знаешь? Писателя?
— Барина, что ли? — уточнил эгрегор.
— Его что, «барином» обзывают?
— А ты его когда-нибудь видел?
— Довелось.
— Разве не барин?
Представив вальяжную фигуру редактора «Сибирьских зорь», я согласился:
— Вообще-то да, тянет на барина. Представительный такой дядечка. Только вот чего не пойму: с чего кормится? Был я в его редакции, слёзы наворачиваются. Нищета.
— Маскируется гад, — уверенно, со знанием дела сказал Кика.
— Стало быть, шустрит?
— Шустрит проныра.
— И чем промышляет?
— Между нами?
— Разумеется.
— Тут такое дело. Допустим, ты бизнесмен средней руки и тебе нужно участок под точечную застройку выхлопотать или тендер на поставку какой-нибудь, к примеру, оргтехники в бюджетную организацию выиграть. Что ты делаешь?
— Заряжаю.
— Правильно. Топаешь к профильному чиновнику, договариваешься и отстёгиваешь. Так? Так. Везде так. И у нас так. Только не совсем. У нас есть одна замечательная особенность. У нас конверт в кабинете оставлять не принято. У нас из кабинета чиновника ты на всех парах летишь в бухгалтерию альманаха «Сибирские зори». Там по крутому прайсу выкупаешь определённое количество печатной площади. А потом в очередном номере появляется рассказ, статья или поэма за подписью того столоначальника, к которому ты просьбу имеешь. Дальше, старичок, понятно?
— Вполне, — сказал я и обрисовал, как это себе представляю: — Начальник за писульку, которую левой ногой накарябал какой-нибудь второкурсник филфака, получает гонорар, который не снился Акунину, а ты — выигрываешь тендер. Так?
Эгрегор кивнул:
— Именно так, старичок. Именно так. Столоначальник, не опасаясь обвинений в коррупции, получает вознаграждение, ты — решаешь свой вопрос. И всем хорошо.
— А в чём гешефт Холобыстина?
— Имеет шесть процентов от суммы каждого «отката».
— Не хило, — восхитился я.
— Я тоже так считаю, — согласился эгрегор.
— Только вот чего, Кика, не понимаю. Большие деньги, как известно, не только утяжеляют карму, но и привлекают внимание мытырей. Скажи, как он столь крупные поступления на счёт редакции умудряется затем в налоговой…
Завершить свой вопрос я не успел, поскольку откуда ни возьмись появился перед нами заместитель главы Городского Поста кондотьеров Предельного съезда сыновей седьмого сына Сергей Архипович Белов. Главный опер местных Молотобойцев. Полковник. Старый вояка. Высший маг. Просто, но правильно устроенный человек. Для своих — Архипыч.
Надо сказать, выражение «откуда ни возьмись» в данном конкретном случае не являлось фигурой речи, а отражало реальный факт. Не пешком Архипыч одолел те несчастные полтора-два десятка метров, что нас разделяли, а через Запредельное нырнул. Просто встал из кресла, бросил трубку телефонную на стол и нырнул. Он часто так делает. А чего, спрашивается, не делать, когда все чёрные ходы для тебя открыты, Сила — казённая и ты знаешь, что кратчайшее расстояние между двумя точками Пределов это вовсе не прямая, а кривая, проведённая через Запредельное.
Увидев перед собой Архипыча, Кика испуганно дёрнулся:
— У-у, шайтан.
А я вытащил сигарету изо рта и поприветствовал старого приятеля по-военному:
— Здравия желаю.
При этом, правда, вскакивать словно ефрейтор перед офицером не стал.
Архипыч молча пожал руку сперва мне, потом эгрегору. Затем вытащил ловким, еле уловим движением сигарету из моих пальцев, оторвал фильтр и глубоко затянулся.
Я удивился:
— Ты вроде бросил.
— Бросишь тут, — выдохнув дым, хмуро обронил кондотьер.
— Неужели всё так худо? — заинтересовался Кика.
Архипыча аж передёрнуло всего:
— «Худо» — это не то слово. Есть ещё одно русское слово, что начинается на «ху», вот оно поточнее будет. — После этих слов он щёлчком отправил окурок в полёт, подобрался весь и заговорил делово, в приказном тоне: — Давай, Кика, дуй в штаб-квартиру, найди Никанора Выруби-Свет, согласуй с ним все детали. Он сейчас как раз монтирует из архивных нарезок картинку для телевизора.
— А чего согласовать-то? — скривился Кика. — У вас всегда всё без затей. Руку даю на отсечение, что и нынче, как всегда: анонимный телефонный звонок, массовая эвакуация, поиск бомбы, факт в итоге ни фига не подтвердится.
— Хорош, болтать, — набавив в голосе металла, осадил его Архипыч. — Я тебе сказал, дуй к Никанору. И чтоб чики-пики всё вышло. И чтоб никаких нестыковок. И чтоб чистый классицизм на выхлопе: единство места, времени и действия. Ты поняла меня, сущность левая?
Кика притворно охнул и погрозил кондотьеру пальцем:
— А это, гражданин начальник, уже, между прочим, расизм в чистом виде.
— Не зли меня, Кика, ради Силы, — попросил Архипыч, приложив руку к груди. И тут же пригрозил: — Будешь нарываться, развоплощу. В два счёта развоплощу. Или даже в один. Желаешь узнать, как это — в один?
— Не пугай, начальник, — живо отозвался эгрегор. — Видишь, иду уже. — Он действительно сделал несколько шагов к воротам, но вдруг остановился и развернулся на сто восемьдесят: — Эй, начальник, а куда информацию сливать-то?
— Обязательно — в «Восточку» и в «Областную», — не задумываясь, ответил кондотьер. — Ещё в «Номер один», «Пятницу» и местный вкладыш «Комсомольской правды». Дальше — сам смотри.
Кика сначала кивнул, дескать, понял, а потом вдруг на несколько секунд превратился в каменную статую. А когда ожил, сделал кислое лицо и впал в сомнения вселенского масштаба:
— Спрашивается, и на кой чёрт мы этот тренд подогреваем? Кому нужно, чтобы мы, журналисты, обрушивали на головы людей криминальную муть такими вот дозами? Чей бубновый интерес в том, что мы создаём ничем не пробиваемых циников? — Не питая надежды услышать ответ от присутствующих, эгрегор театрально вознёс руки к небесам. Но и небеса оказались глухи к его интересу. Тогда он опять уставился на нас смертных и спросил: — Чего глядите как на идиота? Я не прав?
Мы с Архипычем переглянулись. Я повёл подбородком — что это с ним? Архипыч пожал плечами — не знаю.
А Кика уже копал глубже:
— Раньше циниками были только врачи, менты и спасатели, а теперь, спасибо газете-телевизору, все поголовно. И это писец какой-то. Ничего не имею против цинизма профессионалов, это здоровый цинизм, он помогает делать важную работу. Но нынешний цинизм, цинизм равнодушного наблюдателя, превращает человека в натурального монстра. Вот и получается, господа хорошие: одних монстров ловим, других создаём. Здорово это, когда homo homini daemon? Думаю, нет.
Выдав нам по первое число, эгрегор остановился, чтобы перевести перевёл дух. Архипыч, который до этого слушал пламенную речь с олимпийским спокойствием, воспользовался моментом и вежливо поинтересовался:
— Всё сказал?
— Нет, не всё, — ответил Кика. — Поскольку не совсем понимаю, а точнее совсем не понимаю, в какую бездну мы тянем за собой какие смыслы…
— Отставить! — гаркнул Архипыч. Гаркнул так, что задрожали стёкла близстоящих зданий. А затем, резко снизив тон, напутствовал застывшего с открытым ртом эгрегора: — Кончай, хлопец, ватник в трусы заправлять. Взял ноги в руки, и пошёл.
— Но…
— Иди, говорю, куда приказано.
Получив ушат холодной воды на буйну голову, Кика понял, что разговаривать тут не с кем и не о чем, посмотрел на нас презрительно, отдал дурашливо честь, развернулся чётко, как по команде «Кругом» и, старательно имитируя строевой шаг, потопал за линию оцепления, туда, к въездным воротам.
— Как думаешь, — спросил Архипыч, присаживаясь рядом, — придуряется кикимора бездушная или на самом деле так думает?
— Похоже, уловил подвижки в общественном сознании, — предположил я. — Эгрегоры к таким делам крайне чутки.
— Ну да бог с ним, — сказал Архипыч и заговорил о другом: — Говори, какая там у тебя беда стряслась?
— Это не у меня беда стряслась, — ответил я, — это у нас у всех беда стряслась.
И вытащил из-под задницы пакет с ядовитым номером «Сибирских зорь».
— Это ещё что такое? — вскинул бровь кондотьер.
— Магический вирус. Реальная угроза волшебной эпидемии.
— Терпит?
— Нет. Человечество в опасности. И это без дураков.
— Человечество, говоришь. — Архипыч чуть качнул головой и огладил огромной пятернёй седоватую бороду. — Что ж, человечество спасти — честь и долг. Только давай, дракон, для начала одного мальчонку спасём. А? Давай, дракон? А то, знаешь, порой, кидаемся спасать человечество, а про конкретного ребёнка забываем. Нехорошо получается.
Чего угодно я ожидал, только не этого.
— Так ты меня для этого позвал? Ребёнка спасать?
— За что я тебя люблю, дракон, и уважаю, — одобрительно похлопал меня Архипыч по коленке, — так это за то, что схватываешь всё на лету. Наверное, оттого что крылатый?
— Это что же у вас тут за дела такие, Серёга, творятся, что вам полудохлый дракон понадобился срочно. Такие бравые парни, понимаешь. Мощь и натиск. И вдруг.
— Не лукавь, дракон. Прекрасно знаешь, что не всегда мощью и натиском можно дело решить. Хорошо ли, плохо ли, но это так.
Изрёк Архипыч истину простую, можно даже сказать, банальную, но в интонации его голоса слышался реальный зов о помощи, и я проникся:
— Ну, давай выкладывай, что за напасть.
Торопиться он не стал, сперва попросил:
— Дай-ка ещё сигаретку. — И только уже закурив, стал расписывать ситуацию: — Вчера, уже под вечер, прибыл к нам ревизор из особого отдела Центрального Поста.
— Вот этот вот, — прервав Архипыча, показал я большим пальцем на незнакомца, который по-прежнему фланировал туда-сюда с потерянным видом.
— Он самый, — кивнул кондотьер, затянулся, выпустил дым в сторону и продолжил: — Прибыл он, разумеется, не с пустыми руками, а с предписанием провести внезапную проверку боевой готовности всех наших служб. Ну, прибыл и прибыл, нам это не впервой. Встретили, обогрели, устроили. Думали, с утра начнёт, и начнёт, как водится, с бумажек. Но нет, прытким оказался, взял с места в карьер. В три часа ночи уже в кризисном зале, с умной рожей срывает сургуч на пакете, достаёт бумагу и торжественно объявляет, что уполномочен за два часа до рассвета вызывать из Запредельного и наслать на Город хидлера. Ну, а наша задача: до первых лучей демона заарканить и развоплотить. Такая вот, стало быть, выпала нам проверка.
— Ну и чего тут трудного? — не понял я.
— Да в том-то и дело, что ничего. Только получилось всё совсем не так, как планировалось. Совсем-совсем не так. Ты послушай. Как только дежурный объявил тревогу, мы слетелись, задачу уяснили, стали город мониторить, тут-то хрень и обнаружилась. Оказалось, умелец московский вместо хидлера вызвал чёрного ноббира.
Услышав страсть такую, я крайне изумился:
— Демона-убийцу?
— А ты что, каких-нибудь иных чёрных ноббиров знаешь?
— Не понимаю. Он что, таким образом задачу вам усложнил? Фактор неожиданности использовал? Так что ли?
— Да ни фига подобного, — отшвырнув бычок в сторону, ответил Архипыч. — Какой там к бесам фактор неожиданности. Говорю же — умелец. Перепутал что-то сгоряча в заклинаниях.
— Это как так можно?
— Да кто его знает. Перепутал и всё. Наслал на спящий город лютого убийцу и даже этого не понял. Ну а когда доложили, какую чучу отчебучил, засуетился, конечно. Да толку-то? Нобирр уже сорвался с поводка, погнал жертву выискивать.
— Ну а вы что?
— Мы? Мы сделали то, что положено. Обложили в душе гражданина ревизора огурцами увесистыми и приступили к зачистке города по основному варианту. Минут за десять на объект вышли, сразу подтянули все подразделения, организовали общую цепь и стали давить его агрессию. А параллельно — в клещи брать. Когда ослаб до приемлемого уровня, очистили вот эту вот площадку и стали потихоньку загонять. Решили тут его паковать. Почти вышло.
— Что значит «почти»?
— А то и значит. Загнать-то загнали, да тут мальчишка один… Чёрт его знает, откуда взялся. Вечно эти дети… Взялся, короче. Ну и…
Архипыч зло рубанул воздух рукой.
— Схватил его демон? — догадался я.
— Так точно, схватил. Если бы мы уровень его кровожадности постоянно не снижали, он бы мальчишке на месте голову свинтил, а так метнулся с ним к стройке и в поисках разряженной зоны затащил на самый верх. Но мы и там его крепко давили. Ни одного шанса не дали.
— Так в чём проблема?
— А в том, что, не сумев убить, он его отпустил.
— Как отпустил?
— Просто. Взял и отпустил. И полетел мальчишка камнем вниз. Мы едва-едва успели его подхватить на уровне четвёртого этажа. Подхватить-то подхватили, но опустить не сумели. Точнее — не успели.
— Это почему?
— По кочану, — проворчал Архипыч. — Когда на пацана переключились, демона давить перестали. Тот слабину почуяв, рванулся жертву догонять. И догнал практически. Двух метров ему всего не хватило.
Представив картинку, я посетовал:
— А что, Серёга, на два фронта работать, кишка тонка?
— Мы, дракон, не боги, — даже не пытаясь скрыть досаду, парировал Архипыч. — Хоть и маги, но люди. Всё что смогли, это время остановить. Сначала Заклятием Гёте, потом вот Завесу Анкара развернули. Короче говоря, заморозили ситуацию. И попали, признаюсь тебе, Егор, в ситуацию патовую.
— Сочувствую. А чего от меня-то хотите?
— А ты сам не догадываешься?
Пораскинув мозгами, я осторожно, поскольку дикость допущения меня реально смущала, поинтересовался:
— Неужели, хочешь, чтобы я мальчишку трансформировал? Чтобы в жука превратил? Или в какую-нибудь там, не знаю, бабочку?
— Лучше в птицу, — оживился Архипыч и, не давая мне опомниться, добавил: — Это как-то, согласись, понадёжнее будет. Мы бы, Егор, и сами всё сделали, да, ведь знаешь, запрещено нам подвергать людей столь кардинальному магическому воздействию.
— Но ведь тут на лицо опасность жизни непосвящённого? Ведь очевидная же опасность?
— Ну и что? Запрет первой категории оговорок не предусматривает. Запрещено и баста. Я тут, правда, ссылаясь на чрезвычайность обстоятельств, попытался разрешения испросить, через головы и головы голов на самые верха вызванивал, да ни фига не вышло. Что верхним людям какой-то там пацан из глухой провинции. Они такими мелкими категориями не мыслят, они мыслят категориями глобальными.
— Надо понимать, теперь на меня хочешь ответственность спихнуть?
— А на кого мне её спихивать? — заявил Архипыч с убийственной откровенностью.
— Нормально ты, Серёга, придумал, — сокрушённо покачал я головой и нервно хохотнул: — Это что же получается? Получается, если как надо выйдет, местным Молотобойцам честь и хвала. Если не выйдет: это, понимаете, тут один золотой дракон мимо пробегал, влез без спросу и напортачил. С него и спрашивайте. Так, что ли?
— Получается, так, — не моргнув глазом, ответил Архипыч.
— Эх, горазды вы, люди, жареные каштаны из углей чужими руками вытаскивать.
— Причём тут это, Егор? Ты что, думаешь, я похвалы желаю? Или наказания боюсь? Да брось ты. Чушь всё это. Пацана нам нужно спасти. Понимаешь? Нужно. Спасти. Пацана. Во всяком случае, попытаться. Не можем же мы, Егор, в таком состоянии всё оставлять. Сам посуди, локальной Силы ещё часов на пять-семь хватит. Иссякнут ручейки, что дальше? Туши свет, сливай воду? Так? Дурака столичного накажут, нас чехлом накроют, но разве мамаше легче будет от этого, когда ей трупик сына доставят. Я не прав?
Мой ответ был предельно честен:
— Был бы кто другой на твоём месте, Серёга, послал бы я его куда подальше.
— И меня можешь послать, — разрешил Архипыч. — Не обижусь. Посылай. Но мальчишку спаси.
Окончательно припёр меня к стенке кондотьер. Возразить по большому счёту мне было нечего. Мало того, внутренне я с ним уже согласился. Осталось только кое-что уточнить.
— А что насчёт всего этого скажет ваш московский перец? — после паузы спросил я. — Или он в твои планы посвящён?
— Да пошёл он, — скривился Архипыч.
— Так он же потом настучит. Как пить дать настучит. Настучит и переврёт всё.
— За это, Егор, не волнуйся, его сейчас уведут. А потом, когда всё закончится, мы ему что-нибудь наплетём. Распишем грамотно. — С этими словами Архипыч махнул рукой в сторону въездной арки. — Видишь, уже уводят портача. Обедать повели. Война войной, а обед… Ну ты в курсе.
Проследив взглядом за матово блеснувшим перстнем с каплеобразным солитером, я увидел, что красивая, как ведущая прогноза погоды, и стройная, как стюардесса международных линий, Наша Маша действительно уводит ревизора со двора.
— У него кусок в горле не застрянет? — скривился я презрительно.
— Не застрянет, — уверил Архипыч. — Парень не совсем вменяем. С виду в норме, на самом деле плывёт. Давеча Наша Маша подцепила его на фоне психического срыва. Знаешь ведь, как она ловко это делает.
— Знаю. Кто ж не знает. Два слова, три пасса и готов Подбитый Лётчик. Фиксировать может, вмешаться — нет.
— Так точно.
— А вам не совестно так жёстко морочить гостя?
Архипыч сверкнул глазами:
— Сам нарвался. Грех такого не заморочить. И человек худой, и маг…
— Неумелый? — вставил я.
— Это я поначалу думал, что неумелый, — презрительно скривился кондотьер. — Теперь понимаю — вообще никакой. Маг из него как из мякиша пуля. Из потомственных он, из выродившихся. Дедушка в системе столичного Поста хозяйственной частью лет двести заведовал, папа — там же мелким клерком в департаменте международных связей служил. Вот и этого пристроили.
— Из Тёмных?
— Само собой.
— Тогда удивляться нечему. Как говорил один блатной, сами мы Тёмные, но перспективы у нас светлые.
— Пусть их, — сказал Архипыч и смачно сплюнул.
— Пусть, — согласился я.
Убедившись, что москвич и Наша Маша уже покинули двор, старый кондотьер энергично, будто пружина у него в одном месте сработала, вскочил на ноги.
— Ну что, погнали наши городских? Сделаем это дело, потом о своём поведаешь. И его сделаем.
— Сразу предупреждаю, — сказал я, хватая его протянутую руку, — Силы у меня ноль.
— Это даже не вопрос, — потянув меня, сказал Архипыч. — Будет тебе, Егор, Сила. Напрямую подсоединим к одной из ближайших линий.
— Тогда, Серёга, ладно. Тогда сиречь всех на кичку.
Когда мы подошли к томящимся в ожидании кондотьерам, полковник хлопнул в ладоши и выдал сразу несколько команд:
— Внимание. Работаем по варианту «Кондор». Оцепление — готовность ноль. Нырок — ликвидаторов на рубеж атаки. Группа прикрытия — один пояс дракону. Самохин — ловушку времени в исходное. Вопросы есть?
Никто из молотобойцев не издал ни единого звука.
Пробежав взглядом по напряжённым лицам подчинённых, Архипыч удовлетворённо произнёс:
— Отлично. У матросов нет вопросов, касса справок не даёт. Тогда — к бою!
И всё завертелось.
Бойцы оцепления подняли с земли и растянули по периметру состоящий из нескольких плотно соединённых сегментов трос отврата. Нырок и ещё четыре боевых мага, выхватывая на ходу мечи из ножен, рванули к скрытому в сером тумане зданию. Эксперт по заклинаниям Самохин раскрыл стоящий на столе футляр и вытащил из него некий артефакт, внешне очень похожий на авиационные часы. А к нам с Архипычем подбежали два спеца из группы прикрытия. Один протянул командиру чёрную папку, а другой стал надевать на меня боевой пояс — обязательный элемент экипировки всякого молотобойца. Внешне он напоминает одновременно и чемпионский пояс, и страховочный пояс электрика-верхолаза: широкий ремень из толстой кожи, колдовской орнамент, огромной бляха с гербом местного поста и две ниспадающие к земле цепи для отвода излишков Силы.
Когда пояс был затянут, Архипыч сунул мне ручку и раскрыл папку:
— Подписывай, дракон.
— Что за фигня? — спросил я, постучав ручкой по листу.
— Расписка, что вступаешь во владение пояса лишь на срок проведения операции.
— Подготовились черти, — хмыкнул я и, не читая, поставил внизу размашистую подпись. Нате вам, перестраховщики.
Но это было ещё не всё.
— И тут подпиши, — подсунул мне Архипыч следующий лист и, упреждая возможный вопрос, пояснил: — Инструкция по мерам безопасности.
— С ума сойти, — только и выдохнул я. Но подписал. После чего спросил: — Теперь всё?
— Нет не всё, — сказал Архипыч. — Вот это ещё с этим ознакомься.
И протянул очередной лист, на котором было крупным шрифтом напечатано следующее:
Тринадцать остановок в пути.
1. Всё изменяется.
2. Явное скрыто не для всех.
3. Шестнадцатый камень за пазухой.
4. Подумай о том, как это глупо — думать.
5. Форма — это и есть содержание.
6. Выбора нет.
7. 1,4,6 отменяют 10,4,11.
8. Время — для профанов.
9. Мири миры ритмом.
10. Ничего не меняется.
11. Выбор способа за тобой.
12. Искренность действует.
13. Ещё не конец.
— Что за бред? — пробежав глазами по тексту, спросил я.
— Напутствие Мастера пояса, — пояснил Архипыч.
— Чего-то, знаешь, ни хрена я тут не понял.
— Не смущайся, я тоже ни хрена не понимаю. И никто ни хрена не понимает. Это список с уцелевшего фрагмента, остальное сгорело лет пятьсот назад.
— Ну и какого тогда паримся?
— Ритуал.
— Ритуал? Тогда — ой. Теперь всё?
— Теперь всё.
— Как пояс своим сделать?
— Прочти надпись на бляхе.
Я вжал живот, развернул медную бляху к себе и вслух прочёл надпись, выведенную поверх замысловатого герба:
— In Hoc Signo Vinces.
— C этим знаком ты победишь, — перевёл Архипыч мёртвую латынь на живой русский.
Он ещё заканчивал фразу, а меня уже накрыло Силой. Такой Силой, какой у меня сроду не было. Цвета стали более яркими, звуки насыщенными, время замедлилось, пространство раздвинулось и как будто приобрело ещё несколько дополнительных измерений. Сделалось легко, я перестал ощущать тяжесть тела, появилось ощущение полёта. Тревоги исчезли. Напрочь. Все. Зато нахлынули и подхватили эмоции, названия которым нет в обыденном языке. Внутри стало нарастать ожидание чего-то очень-очень важного, необъяснимо прекрасного, что таилось до поры до времени в глубинах души, но боялось всплыть на поверхность. А через миг-другой это важное уже проявилось, вырвалось на волю и окончательно сокрушило неподъёмную тяжесть жизни.
Мой Взгляд к той секунде обрёл должную силу, теперь я видел, что творится за пеленой Завесы Анкара. Видел всё. Скелет здания в лесах из армированного алюминия, подъёмный кран, монтажные конструкции, всякую строительная дребедень на технологических площадках. А также видел теперь, что на уровне четвёртого этажа в неловкой позе висит в воздухе мальчишка лет семи, а на уровне пятого застыл в мощном и хищным прыжке чёрный ноббир.
Демон-убийца выглядел таким, каким изображён он на страницах «Герметического бестиария» Эйсельмаера: три омерзительных морды, четыре перепончатых крыла, две мощные задние лапы и четыре передние, две из которых, короткие, оснащены когтями-саблями, а две длинные — без когтей, но загребущие. И хвост ещё. Длинный, с роговым отростком на конце, мощью своею ничуть не уступающий молоту, которым заколачивают в грунт сваи.
И задумался я при виде этого кровожадного уродца: интересно, что за психическая болезнь поразила мозг того великого мага, чья больная фантазия закинула подобный образ в Запредельное? Не было у меня ответа на этот вопрос. Одно понимал: дядька был раненным на всю голову.
Разглядев демона во всех его жутких деталях, я перевёл Взгляд на ребёнка.
Мальчишка глядел на мир широко раскрытыми, безумными глазами. Он был не столько напуган всем происходящим, сколько шокирован столкновением с чем-то совершенно неподъёмным для его юного сознания. Вполне нормальная реакция. Человеческая.
Не отводя глаз от пацана, я прислушался к себе и явственно услышал то, что должен был услышать по отношению к этому человеческому детёнышу. Чувство ответственности. Это чувство не имеет рационального объяснения, оно либо есть, либо нет его. Если есть, то порождает чувство долга и толкает в бой на уровне инстинкта.
Выждав некоторое время, Архипыч толкнул меня в плечо:
— Ну что освоился?
— Освоился, — кивнул я.
— Всё нормально?
— В целом да.
— Обстановку оценил?
— Более-менее.
— Ну и как оно?
— Интересное кино. Только, сдаётся мне, до финальных титров доживут не все.
— Не грузись, дракон, всё обойдётся.
— Верю, но берут сомнения. — Я махнул рукой в сторону пацана. — Трансформировать-то его трансформируем, а что дальше? Сознание не крякнет? Не сойдёт с ума? Не случится эффекта Чжоу Чжи? А ну как случится. Будет потом до самой смерти разбираться: человек ли он, которому снилось, что он был птицей, или птица, которой снится, что она человек?
— За это, Егор, не волнуйся, — успокоил Архипыч. — Вот за что не волнуйся, за то не волнуйся. Подлечим пацана. Обязательно. — Он стукнул себя в грудь. — Лично прослежу. И как сказано в Экклезиасте, не будет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Так что не переживай на этот счёт. Скажи лучше, отсюда будешь работать или ближе подойдёшь?
Я прикинул расстояние и ответил:
— Могу и отсюда.
— Обзор нормальный?
— Вполне.
— Готов?
— Угу, готов. Как Гагарин и Титов.
— Ну, тогда поехали. Как поётся в нашем гимне, выручать из плена души дали ангелы приказ. — Хлопнув в ладоши, он привлёк общее внимание, и объявил: — Господа кондотьеры, начинаем. Работаем чётко и без глупостей. Квота глупостей на сегодня исчерпана. Всё. Даю обратный отсчёт.
Он словно эстрадный фокусник выхватил откуда-то из пустоты огромный, весьма похожий на дуэльный, пистолет и действительно повёл счёт от десяти до зеро. Слова выкрикивал он мерно и гулко, оттого они, летящие по притихшему двору от стены к стене и обратно, походили на бой курантов.
При счёте «один» эксперт по заклинаниям Самохин подкинул высоко вверх часы и Архипыч, выкрикнув «Зеро!», тут же, ничуть не целясь, саданул по ним навскидку. И конечно попал. Что-что, а стрелком он всегда был отменным. Часы разлетелись на винтики-пружинки, время вышло на свободу, заклятие рухнуло, конденсаторы Силы отключились, и Занавес Аркана пала. По воздуху пробежала стеклянная рябь. Прозвучал хлопок, вызванный перепадом давления. Откуда-то дунуло, что-то, сверкнув лучистой сталью, громко лязгнуло, качнулась тень от крана, пахнуло сырым бетоном. Стало ясно, что законы магии над новостройкой действовать перестали, что вступили в свои права законы Исаака Ньютона. Теперь нужно было торопиться.
Следя взглядом за падающим мальчишкой, я быстро, практически скороговоркой, отчеканил сочинённое на ходу заклятие:
И действительно взмахнул рукой.
Придуманный впопыхах образ тотчас лёг на исходящую от меня волну огромной Силы, мальчишку, которой уже был метрах в двух от земли, подбросило высоко вверх и накрыло рыжеватым облаком, из которого через секунду камнем вывалился воробей.
— Взмахни крыльями! — не сводя с него глаз, приказал я. — Взмахни!
— Меси, воробушек, меси! — вторя мне, орал Архипыч. — Ну же! Меси!
— Давай, пацан, давай, родимый, — стал помогать подошедший Боря Хоритонов. Мало того ещё и продемонстрировал наглядно, что нужно делать, энергично замахав руками.
Не уверен, что превращённый в птицу мальчишка нас слышал, но в последний, критический момент он дал. Он замесил. И замахал. И отдавшись древнему инстинкту полёта, метнулся сначала влево, потом вправо, а затем (с перепугу ли, от восторга ли — не знаю) стал набирать высоту.
— Куда ты, мой хороший, — покачал головой Архипыч. Включив Взгляд, аккуратно потянул шалуна вниз, усадил на землю с нашей стороны забора и на всякий случай усыпил. Птичьи глазки затуманились сонной поволокой и уже в следующий миг бах — крылышки в стороны, лапки с зябко поджатыми коготками кверху.
А в то же самое время Володя Щеглов по прозвищу Нырок и ещё четыре бойца делали свою работу, кончали приблудного демона. Переведя себя в состояние левитации, они с мечами наперевес ловко перескочили через забор, разлетелись, словно звено истребителей на параде, веером, взяли растерявшегося человекоубийцу в плотное кольцо, и в два счёта порубили злыми лучами на куски. Несколько точных выпадов, несколько решительных дружных взмахов и всё. Только эхо испуганного визга, заглушённого предсмертным хрипом, и уже после кем-то из бойцов зачитанного заклинания отпора — ослепительные брызги в разные стороны. Бардовые такие жирные брызги, которые, вспыхивая ярко, гасли не сразу, а уже на подлёте к земле.
Насладиться в полной мере мрачной красотой этого своеобразного салюта мне не довелось, нужно было срочно снять заклятие и вернуть спящему мальчонке его подлинный вид. Чем, собственно, я без промедления (промедление в таком деле уж точно смерти подобно) и занялся.
Жутковатые метаморфозы, отслеживать которые было тяжело, но необходимо, практически уже закончились, когда во двор с мерзким воем влетела машина, замаскированная под обычную карету скорой помощи. Указав водителю, куда подъехать, Архипыч обнял меня по-дружески и сказал с видимым облегчением:
— Молоток ты, Егорушка. Справился почище любого великого. Теперь любимый город может спать спокойно.
— Не фига подобного, — возразил я и показал ему пакет с журналом.
Глава 14
Когда я в общих чертах обрисовал суть проблемы, Архипыч слёту понял, какая беда приключилась. Проникся, озаботился и озадачился. Правда, сам в «Сибирские зори» заглядывать не стал (не царское, видимо, это дело), позвал Самохина. Эксперт по заклинаниям, флегматичный дылда со шкиперской бородкой, сделал охраняющий жест, сунул в левый глаз свой знаменитый защитный монокль из бутылочного, отшлифованного географически и технологически на Шаман-камне стекла, взял протянутый журнал и полюбопытствовал. И уже через несколько секунд, ничем не выдавая своих эмоций (если таковые, вообще, в его душе когда-либо возникают), вынес приговор:
— Ну что тут могу сказать. Это так называемая «Zapatera». Резонансное заклинание, запрещённое Шестым параграфом Пражской конвенции. Включено в Индекс заповеданных словоформ Книги Тьмы и Света. Испанский раздел, подраздел — альфа заглавная, что значит — «смертельно опасные». Номер позиции в подразделе — альфа заглавная восемь. Всего в данном подразделе, если ничего не путаю, а я никогда ничего не путаю, тридцать четыре позиции. Наиболее из них известные: abbarrisco, a trochimoche, cochite hervite, quitame alla esas pajas, zapatera, zurriburi…
— Стоп, — прервал его речитатив Архипыч. — Необъятного не обнять. Ты нам доложи, чем эта самая конкретная замануха опасна.
— Тут просто, — сказал Самохин и, с запредельной аккуратностью протирая стекло монокля носовым платком, выдал то, что я уже и так прекрасно знал: — Если не менее трёх раз подряд повторить это заряженное злой волей заклинание, возникает непреодолимый позыв к самоубийству. Простой человек кончает жизнь каким-нибудь тривиальным, доступным ему на момент исхода способом, маг при Силе — путём добровольного развоплощения в Запредельном.
— Вслух нужно произнести или про себя? — уточнил кондотьер.
— Это, Сергей Архипыч, не важно. Вслух ли, про себя ли — ни какой разницы. И при каких обстоятельствах произнести тоже не важно: намеренно или случайно, по неосторожности или по глупости. Важно, чтобы в голове засело. Дальше — дело времени. Сперва возникают лёгкие вибрации, потом сознание выворачивается наизнанку, потом рвутся психические связи с реальностью, ну а потом… Что потом, думаю, ясно. Да, кстати, забыл сказать. Не знаю, имеет это для вас какое-то значение или нет, но все заклинания из подраздела альфа заглавная опечатаны убийственной Печатью Эльсенсента.
Последнее сообщение эксперта на Архипыча большого впечатления не произвели.
— Ерунда, — произнёс он с плохо скрываемой похвальбой. — Любой маг первого ранга, а тем более ранга высшего, не говоря уже о великих, распечатает на раз, и даже не чихнёт.
Самохин спрятал монокль в нагрудный кармашек, закрыл его, вжикнув молнией замка, после чего сказал, умудрившись совершенно индифферентным голосом вложить в свои слова особенный смысл:
— Заметьте, не я это первым сказал.
Архипыч озадаченно хмыкнул и задумался. Всерьёз так задумался. Было над чем. Магов-то первого ранга в Городе человек тридцать всего наберётся, а высшего и того меньше — шесть. Шесть — это, включая самого Архипыча и его вечно пропадающего в Москве начальника. Ну а великих в нашем городе нет. Из ныне живущих не добрался ещё никто до такого уровня.
Я воспользовался заминкой кондотьера и, вступая в разговор, обратился к эксперту:
— Скажи, Модест Владимирович, а как это заклятие действует на тех, у кого Силы нет? Как в таком случае пресловутое послание Ланьлинского насмешника работает? Сколько не думал, так понять и не сумел.
— Как я уже сказал, что это заклятие резонансное, — спокойно, как и полагается настоящему профессионалу, стал объяснять Самохин. — Чтоб оно сработало, большой Силы на самом деле не нужно. Незначительная Сила самого заклятия попадает в резонанс с незначительной Силой жертвы, и всё. Незначительное на незначительное даёт на выходе значительное. И это не арифметическое сложение Силы, это — синергия, это — взрыв.
— А всегда резонанс случается? — спросил я и стал умолять мысленно: «Скажи, что нет, скажи, пожалуйста».
Однако ответ эксперта был скор и безжалостен:
— Да, Егор, всегда. Рано или поздно, но обязательно. Временные рамки — одни биологические сутки.
— И через какое время наступает кризис? — подхватил тему Архипыч.
— В среднем через трое суток плюс-минус пять часов, — ответил Самохин. — За это время идея о никчемности собственного существования достигает апогея, а мысль, что иного выхода из этого наполненного страданием бытия помимо самоубийства нет, становится предельно очевидной. Дальнейшая песня стара как мир: в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, уснуть и видеть сны. Слова Шекспира, музыка народная.
— Короче говоря, купили мы дуду на свою беду, — подытожил Архипыч и зло пнул пустую бутылку из под колы. Затем кивком поблагодарил Самохина и обратился ко мне: — Если насчёт Леры не ошибаешься, сколько ей осталось?
До меня не сразу дошёл жестокий смысл вопроса, а когда дошёл, я пожал плечами:
— Не знаю. — Потом прикинул вслух: — Что-то около суток прошло, получается, осталось около двух. — Сказал и схватил за рукав комбинезона собравшегося идти Самохина: — Подожди, Модест Владимирович. Скажи, а как-то можно этому заклинанию противодействовать?
— Конечно, — ответил эксперт.
В моей душе затеплилась надежда.
— Как?
— Например, можно пострадавшего усыпить, — сообщил Самохин. И не успел я добавить, что это очевидно, как он добавил: — Только ненадолго. Надолго усыплять нельзя.
Я насторожился:
— Почему?
— Чревато. Мозг-то во сне полностью не выключается. Так что через десять-двенадцать часов кошмарные сновидения по любому разрушат сознание, фиг потом в кучу соберёшь. Жить пациент будет, но станет идиотом. В самом что ни на есть клиническом смысле этого слова.
Тут уже и Архипыч подключился:
— А ещё какие-нибудь варианты есть?
— Есть ещё один, — кивнул Самохин. — Можно оттянуть финал, опрокинув несчастного в растительное состояние и удерживая, пока Силы хватит.
— Не вариант, — мотнул головой Архипыч.
Эксперт развёл руками:
— Других способов нет. Во всяком случае, я их не знаю.
И на несколько секунд после этих его слов воцарилось молчание, какое случается, когда мысли собеседников разбегаются в разные стороны.
— Иное слова, что та солома, — нарушая тишину, посетовал Архипыч, — разгорится, не зальёшь.
А мне в худшее верить не хотелось.
— Модест Владимирович, — спросил я, — скажите, а это заклятие отменяемое? Или в принципе обратного хода не имеет?
— Отчего же, имеет, — сказал Самохин. — Хотя и особо опасное, а отменяется как все прочие.
— То есть затейник должен лично отменить свою волю?
— Именно так. Он должен взять свое слово обратно. А что, Егор, ты в курсе, кто трикстер?
Я помотал головой и развёл руками — увы.
Архипыч тем временем нашёл глазами Борю Харитонова, который в тот момент руководил погрузкой в «газель» троса отврата, концентраторов Силы и прочих спецсредств, сунул два пальца в рот, свистнул по-разбойничьи и махнул рукой:
— Эй, Улома, греби сюда. — А когда Боря подошёл, всучил ему журнал в руки и выдал распоряжение: — Возьми парней человек пять, смотайся на склад Первой типографии, раскопай и изыми весь тираж вот этой вот мути. Как изымешь, вывези куда-нибудь загород, облей горючкой и сожги к едрени фене. Задача ясна?
— Так точно, мой коннетабль, — не вдаваясь, как и подобает настоящему солдату, в суть происходящего, ответил Боря.
— Вопросы?
— Расплачиваться или грубо взять?
Архипыч вопросительно посмотрел на меня.
— Уже оплачено, — пояснил я. — А с редактором договоримся.
— Ещё вопросы есть? — вновь повернулся Архипыч к Боре.
Тот вытянулся в струнку.
— Никак нет, мой коннетабль.
— Тогда вперёд и прямо.
Боря отсалютовал уставными «вилами» и пошагал к «хаммеру», раздавая на ходу распоряжения. Чётко раздавая. Как бравым воякам и положено.
А фиг ведь скажешь, что с бодуна, невольно изумился я. Геройский мужик. Из нашенских. Из тех, кто во хмелю неукротим, но и в похмелье, каким бы жестоким оно ни было, несгибаем.
— Господа, я ещё вам нужен? — поинтересовался тем часом Самохин.
— Пока нет, — развернулся к нему Архипыч. — Но если что…
Он не успел закончить.
— Всегда, — приложив руку к сердцу, заверил вольнонаёмный эксперт.
Как только мы остались вдвоём, Архипыч положил мне руку на плечо и обратился доверительно:
— Что будем делать, Егор?
— Вы — не знаю, — ответил я. — А я буду искать того, кто всё это затеял. Мне Леру спасать надо. По-любому.
— С чего начнёшь?
— Да я, собственно, уже начал. С версией определился, сейчас начну отматывать клубок. К Бабенко поеду, к автору стишков. Правда, думаю, это не последний пункт. Думаю, промежуточный.
— Правильно, думаешь, — согласился Архипыч. — Не знаю я такого первостатейного мага Бабенко. А если я не знаю, стало быть, нет его. Стало быть, товарищ — либо начинающий, либо профан.
— Вот и хочу разобраться.
— Давай, Егор, действуй. А мы пока с другого конца начнём. Раз к делу каким-то образом причастен маг высокого уровня, устроим проверку на свой манер.
— Надо понимать, дадите делу законный ход?
— Обязательно, Егор. Тухлое дело, изуверское. Надо гада чехлить и карать по всей строгости закона.
— Что ж, имеете право.
— Не право, Егор, а обязанность. К тому же: твои проблемы, это мои проблемы. Разве нет? Всегда же так было.
Покивав, дескать, было, Серёга, было, я попытался освободиться от его дружеских объятий. Однако Архипыч не позволил мне уйти. Мало того, прихватил плотнее и, круто сменив интонацию с доверительной на интонацию «ты — безбилетный пассажир, я — кондуктор», произнёс:
— Кстати, о твоих проблемах. Не хотел до поры до времени говорить, пацана нужно было спасать, побоялся тебя гондурасить. Теперь скажу. — С этими словами сунул руку во внутренней карман своей чекистской кожанки, вытащил и показал мне зажигалку. Мою зажигалку. Ту самую, которую я где-то посеял прошлой ночью. — Что это, Егор, за ерунда?
На моём лице не дрогнул ни один мускул.
— Это? — Я всё же сумел освободиться от его медвежьей хватки. — Это, Серёга, не ерунда, это зажигалка.
— Ладно тебе, Егор. Не финти. Сечёшь прекрасно, о чём толкую.
— Не-а, не секу, Серёга. Не секу и не просекаю.
Кондотьер хмыкнул недовольно, а потом громко вздохнул и покачал головой. Жуть как не хотелось ему чинить разборки. Но должность обязывала.
— Ну хорошо, — глядя куда-то в сторону сказал он. — Раз не просекаешь, значит, не просекаешь. Тогда слушай сюда. Тут такое дело.
— Кто жив, тот знает, такое дело: душа гуляет и носит тело, — перебил я его в бессознательной попытке оттянуть неприятное разбирательство.
Номер не прошёл, Архипыч, не обратив на моё глубокое метафизическое замечание ни малейшего внимания, поведал следующее:
— Сегодня на рассвете срочный вызов случился, вампиры двух своих подняли возле Ухашовского моста. Не до того нам, честно говоря, было, с чёрным демоном возились, но дежурную бригаду всё же отправили. Не могли проигнорировать. Не имели права. Так вот парни докладывают, что занятную картинку обнаружили на берегу. Представляешь, двум упырям из стаи Дикого Урмана кто-то ночью головы отсёк.
— Да ты что! — притворно дался диву я и покачал головой: — Ай-яй-яй, нехорошо-то как.
— Ничего про это не слышал? — проигнорировав моё чернушное шутовство, полюбопытствовал Архипыч.
Я смерил его взглядом.
Глыба. Монумент. Памятник. Памятник силе, чести и отваге того битого, за которого десять битых дают. Врать такому, что от Вечного Огня прикуривать, потому ответил уклончиво:
— А в чём проблема?
— А в том проблема, что упыряки эту зажигалку возле одного из трупов нашли, — чётко проговаривая каждое слово, произнёс Арихипыч. И, ткнув в зажигалку пальцем, добавил: — Штучка, между прочим, эксклюзивная. Гравировка на ней имеется примечательная. Надпись на дарсе. На древнем драконьем языке.
— А я, Серёга, и не отрекаюсь, что вещица моя. Глупо отрекаться. Ты же её у меня видел тысячу раз.
Признался и, слямзив зажигалку с его похожей на совковую лопату ладони.
— Значит, всё-таки ты там был сегодня ночью? — шумно, как после выпитой стопки водки, выдохнул молотобоец.
Вопрос прозвучал как утверждение.
Ответил я не сразу, несколько секунд искал верную линию поведения, но в итоге решил, что проще всего сказать правду, и как с обрыва в воду прыгнул:
— Был.
И сразу услышал главный вопрос:
— Вампиров ты завалил?
— Нет, Серёга, — мотнул я головой. — Это как раз они меня завалить пытались.
— Ой ли, Егор? — прищурился кондотьер.
— А зачем, скажи, мне врать? Я ваших людских законов не боюсь, я дракон, я неподсуден. Завалил бы кого, так бы прямо и сказал: завалил.
— Законов ты не боишься, понимаю, — не стал спорить молотобоец, — а как насчёт Дикого Урмана?
Поймав его внимательный взгляд, я пожал плечами:
— Не понимаю, куда ты клонишь.
— Всё ты, Егор, отлично понимаешь. Как ни крути, а вожак упыриной стаи в плане боевой магии покруче нагона-мага будет.
— И что с того?
— А то, что вряд ли хочешь, чтобы дохлых упыряк на тебя повесили. Разве нет?
— Чего хочу, чего не хочу, это, извини, Серёга, сугубо моё дело. А твоё дело знать, что я этих диких пальцем не тронул. Это также точно, как и то, что смерть неизбежна, а жизнь прекрасна.
— Ага, прекрасна, — ухмыльнулся Архипыч. — Если правильно подобрать антидепрессанты.
Какое-то время мы молчали, потом кондотьер спросил:
— Слушай, а может, свидетели есть?
— Свидетели? — Я задумался. — Нет, свидетелей нет. Зато есть моё честное слово. И слово это такое: я их не трогал. Веришь?
— Верю. Но если не ты, то кто? Может, истребители?
— Не знаю.
— Как же так, Егор? — покосился на меня Архипыч. — Ведь ты там был.
— Был-то я там был, но только ничего не видел. Когда им секир-башка делали, пребывал в глухой отключке.
Молотобоец крякнул и огладил бороду:
— Это как так?
Ничего не оставалось, как рассказать о мрачных событиях прошедшей ночи. И я рассказал. Только о спасителе своём, о чёрном мотоциклисте умолчал. А закончил свою историю такими словами:
— Что касается Урмана, тут ты, Серёга, ошибаешься. Не боюсь кровососа. Дёрнется, разорву в Ночь Полёта как тузик грелку.
— До ближайшей трансформации тебе ещё дотянуть нужно.
— Уж как-нибудь дотяну. А если нет… Так на этот счёт скажу: смерть в бою не самое ужасное из того, что готовит серьёзным мужчинам их неясная будущность.
— Ага, — понимающе подмигнул мне Архипыч. — Не самое ужасное. Тем более что смерть для отдельных серьёзных мужчин есть понятие весьма условное. Ведь так, Егор?
Кондотьер намекал на дарованную Высшим Неизвестным способность нагонов к воскрешению. Я это понял, но никак не прокомментировал. А он не унимался:
— Стало быть, не боишься?
— Пустое.
— А я боюсь.
— Чего ты, душа моя, боишься?
— Войны между дикими вампирами и золотым драконом боюсь. Вы же, Егор, дойдёт до драки, весь город на уши поставите. Бои местного значения развернёте будь здоров. Всё запылает.
— Тебе-то что?
— Мне? — Архипыч повёл могучими плечами. — Мне ничего, а вот город жалко. Как говорит наш общий приятель Лао Шань, одна искра может спалить десять тысяч вещей, но когда исчезнут эти вещи, где пребывать огню?
Понимая его озабоченность, я попытался успокоить:
— Не волнуйся, Серёга, постараюсь снять тему с повестки очень аккуратно.
— Ладно, — протянул мне Архипыч свою огромную пятерню. — Закончили базар ни о чём. Понадобится содействие, зови. Ты меня сегодня здорово выручил, по гроб жизни теперь твой должник.
Слова эти прозвучали как песня, но я прекрасно понимал, что молотобоец имеет в виду помощь сугубо неофициальную. На официальную дракон рассчитывать не может. Тот, кто не признает людских законов, лишён официальной защиты по определению. Что, впрочем, не мешает ему рассчитывать на помощь, оказанную в частном порядке.
Сдавив что есть силы ладонь кондотьера, я предупредил его:
— Ловлю на слове.
— Не надо меня на слове ловить, — обиделся Архипыч. — Ты же знаешь, я своё слово всегда держу.
— Извини, — хлопнул я его по спине. — Глупость спорол.
На том и разбежались. Он двинул навстречу незадачливому столичному ревизору, которой в сопровождении Нашей Маши появился во дворе, а я через служебный вход вошёл в торговый комплекс и узкими залами выбрался на Пролетарскую, где на стоянке возле цирка стоял мой болид.
Пока катил по улицам города к выезду на Лачугский тракт, всё думал о чёрном ноббире. Точнее даже не о самом демоне-убийце, а вообще о демонах. О тех существах, которые называем мы порождениями Запредельного, но которые на самом деле все до единого созданы великими, перешедшими грань добра и зла, магами.
Всякий маг, достигая величия (не Силы, нет, Сила приходит и уходит, но именно величия, мастерства магического, одарённости запредельной), считает своим долгом придумать и — то, что мыслимо, то осуществимо — создать персонального демона. В принципе это чуть ли не единственный способ, явить себя великим городу и миру. Столько в результате демонов наплодили, что счёту теперь им нет. Возьмёшь какой-нибудь толковый бестиарий, начнёшь листать, рука устаёт. А ведь не все ещё и описаны. Описаны самые-самые, самые яркие, самые злобные, самые отвратные. Ординарным же, неудачно нафантазированным, тем нет ни счёту, ни классификации. Считать, не пересчитать. Максим Тирский, к примеру, полагал, что число их достигает тридцати тысяч, Альфонс де Спина — что сто тридцать три тысячи, Иоган Виер, ученик Агриппы, — что четыреста с лишним тысяч. Великий же Неизвестный, которому единственно только и стоит верить, так сказал однажды на этот счёт: «Сколь угодно великое число не назови, представляя армию демонов, всё равно ошибёшься на порядок». Мудро сказал. Впрочем, как всегда.
И вот ехал я и думал: зачем? Зачем так? Почему всё устроено таким образом, что величие своё, мастерство магическое иным способом нельзя показать? Почему в доказательство своего великого статуса обязательно нужно на веки вечные пропечатывать в Запредельном образ очередного вычурного гада? Что это: убожество мира или безумие разума?
Не было у меня ответов на эти вопросы.
Я способен восторгаться, равно удивляться действиям великих магов, но глубокий, а быть может, и глубинный, смысл этих действий остаётся — да, боюсь, навсегда и останется — для меня неуловимым. Хотя, может быть, когда-нибудь сам стану великим, тогда и пойму. Только вряд ли стану. С чего? Не дано. Да и не хочу.
А ещё меня всегда поражало то обстоятельство, что сами великие, помимо пробного воплощения, демонов в Пределы не вызывают. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Это считается у них дурным тоном, чем-то недостойным и что важнее всего — проявлением слабости. Великому со своими проблемами должно справляться самому, без помощников из Запредельнго, иначе какой же он великий. А вот магам рангом ниже, менее мастеровитым или даже начинающим вызвать демона отнюдь не зазорно. Вот и пользуются готовым. Тем более не так уж это и трудно — демона вызвать. Придумать и сотворить непросто, использовать готовое — легче лёгкого. Ввёл себя прописанным ритуалом в нужное состояние, воспроизвёл известный образ в собственном сознании и, промолвив заклинание, наложил данный образ на волну высвобождаемой Силы. Дальше Сила сама вырвет демона из Запредельного и наделит его плотью. Тиб-тибидох, как говорится, и вот она, материализация во всей красе. Точнее — безобразии…
Если бы не Молотобойцы, которые на цугун насаживают всех тех, кто без особой надобности демонов Оттуда Сюда вызывают и при этом не удосуживается назад отправлять, пожалуй, уже давно бы кишели Пределы всякими там крым-рымами, марами, чёрными ноббирами, лютыми арахнамии, демонами воздаяния и прочими злобными мурашами. Шагу бы ступить было бы нельзя, чтобы с какой-нибудь инфернальной гнусью ни столкнуться. Не все же маги, к сожалению, ответственны. В истории полным полно примеров безответственного поведения. Наиболее вопиющий, на мой взгляд, случай произошёл с неким Аноком, который служил придворным колдуном при дворе Вильгельма Завоевателя. Этот паренёк вызвал однажды тринадцать демонов Руана (было это во время сражения при Сонме), а отправить их назад не удосужился. Так и шастают с тех мохнатых времён по городам и весям демон слепоты, демон сердечного приступа, демон летящих ножей и прочие их коварные братья. И не тринадцать их уже, а тринадцать в тринадцатой степени. Ведь демоны, которых от полной луны до полной луны не развоплотили, плодиться начинают. А плодятся они споро, как плесень.
Но этих заблудившихся демонов ещё можно уничтожить, наслав на них антиподов или — если нет у демона антипода — лично вступив в рукопашную. Но ведь есть ещё (немного их, но они есть) и, так называемые, наказанные демоны, те демоны, которые по той или иной причине лишились возможности вернуться в Запредельное. Этих развоплотить в принципе невозможно (ведь развоплотить — это и значит навечно отправить в Запредельное), этих только по хвостам бить можно, устраняя по ходу дела последствия их деяний.
А кроме наказанных есть ещё Отверженный. Он же: Многоликий, Падший, Тысячеискусный Изобразитель, Творец иллюзий, Ахеронский комедиант и Князь Тишины. Этот демон демонов, в отличие от остальных, сам себе хозяин, гуляет, когда и где хочет, ведёт себя непредсказуемо, способен для достижения своих целей принимать тысячи обличий, а помимо того обладает властью над всеми остальными прочими демонами. Когда-то давно, так давно, что живых свидетелей тому не осталось, был Отверженный великим магом, и знали все его под именем Шлом Халахлом. Возжелав возвыситься над остальными, отдался он однажды в Ночь Обращения всей душой Запредельному и сам себя превратил в демона. С этими, вообще, беда. С этим не соскучишься.
Предаваясь размышлениям о природе демонов во всём их многообразии, я выехал из города и как-то незаметно для себя добрался до развилки Оглоблино-Смирновщина, где на обочинах крестьяне местных деревень устроили по случаю хорошей погоды импровизированный базар. Был бы я чуваком хозяйственным, обязательно бы притормозил и затарился плодами нынешнего богатого урожая. А торговали тут всяким: огурцами-помидорами, кабачками-патиссонами, зеленью всякой и картошкой различных сортов. Ну и, конечно, ягодой садовой и лесной: малиной, крыжовником, смородиной, земляникой, брусникой. А ещё грибами шла бойкая торговля. Когда я увидел вёдра с бравыми рыжиками, груздями и опятами в ассортименте, мысль моя совершила сложный манёвр, вспомнился вдруг дядя Миша, а следом почему-то — Лера. В груди заныло, и я решил, что нужно срочно позвонить Ашгарру. Начал вызывать номер из записной книжки, но тут поэт сам вышел на меня. Почуял, видать, всплеск неизбывной тревоги.
— Как дела? — спросил я.
— Есть проблема, — ответил Ашгарр. — Часа три во дворе «хонда» серебристая стоит с тонированными стёклами. Двое из неё выходили. По виду — дикие. Что делать?
— Ничего не делать. Хоть и дикие, а без спроса порог не переступят, так что наплюй. Скажи лучше, как там Лера.
— Пока в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу.
— Чем занимается?
— Наводит порядок в книжном шкафу.
Я удивился:
— Серьёзно?
— Вполне, — подтвердил поэт.
Сообразив, что не он не шутит, я предупредил:
— Если решит навести порядок у меня, сразу бей по рукам.
— Разве у тебя там можно навести порядок? — съязвил Ашгарр.
— Возможно, порядок и нельзя, а вот хаос можно.
— У тебя там и так хаос.
— То мой хаос, он мне по душе. Чужой хаос мне без надобности.
— Ладно, Ашгарр, не бойся. Не допущу вторжения.
— Спасибо, чувак. Сам-то чем занимаешься?
— Чем обязался заниматься, тем и занимаюсь. Слежу за Лерой, а параллельно рассказ вымучиваю.
— Про девушку и дракона?
— Ну.
— И как? Много написал?
— Много. Первую фразу.
Ответ поэта был полон самоиронии, но я сделал вид, ничего такого не услышал, и поддержал его морально:
— Как сказал товарищ Аристотель, начало есть более чем половина всего.
— Возможно, — сказал поэт и тут же спросил: — Хочешь послушать?
Ничего не оставалось, как сказать:
— Угу, валяй.
Выдержав небольшую паузу, чтоб отделить жизнь от искусства, Ашгарр произнёс витиеватую фразу в том вычурном стиле, который Владимир Владимирович Набоков однажды самокритично обозвал «мороженой клубникой». И не дав мне ни секунды времени перевести на нормальный язык то, что я только что услышал, попросил дать оценку:
— Ну как? Не слишком мармеладно?
Обижать его не хотелось. Художника любой обидеть может, зачем же вкладывать в это дурное дело свои пять копеек? Поэтому от критики воздержался я и ответил так:
— Хичкок великий и ужасный утверждал, что кино — не кусок жизни, а кусок торта. Думаю, эту мысль можно отнести и к изящной словесности. Так что — угу. В смысле — потянет.
— Да-а-а, — протянул Ашгарр. — Вывернулся. Тем не менее, спасибо тебе, камрад, на добром слове.
— Кушайте на здоровье.
На этом я хотел распрощаться, но тут поэт сам пустился в расспросы:
— Ты-то там как?
— В порядке, — коротко ответил я.
— Тебя-то самого вампиры не пасут?
— Пока не чую.
— На каком этапе находишься?
— Качу в Оглоблино, господина Бабенко хочу допросить.
— Бабенко… — Ашгарр задумался. — А-а, вспомнил. Это тот самый товарищ из журнала. А в качестве кого ты собираешься его допросить?
— Не знаю пока, — честно ответил я. — Может, в качестве свидетеля, может, в качестве пособника. Определюсь на месте. Хотя, честно говоря, полагаю, что товарищ вовсе не при делах. Скорее всего, его именем, а может, даже и обликом воспользовался какой-нибудь тёмный гад. Причём, как тут мне умные люди подсказали, гад весьма и весьма высоко ранга. Не ниже первого.
— Кто подсказал?
— Молотобойцы.
— Пересёкся?
— Только что принял участие в их боевой операции.
Шокированный Ашгарр несколько секунд молчал, а потом не преминул высказать своё фи:
— Скажи, Хонгль, тебе больше делать, что ли, нечего?
— Ребёнок был в опасности, — сказал я в своё оправдание. — Пришлось вписаться.
— Ну и как? Спас?
— Спас. А по ходу дела Силой малёха разжился.
— Ну-ну, — скептически хмыкнул Ашгарр.
— Понимаю природу твоего скептицизма, — заметил я, — но ты ведь знаешь людей. Умеют устроить так, что нелюди добровольно начинают им боеприпасы подтаскивать. Хитрецы.
— Да, лисы ещё те, — согласился поэт. И, будучи, как все творцы, натурой противоречивой, тут же и возразил себе и мне (что в нашем случае, впрочем, одно и то же): — А вообще-то, люди, Хонгль, они разные. Вон подглядываю сейчас в щёлочку за Лерой, смотрю на мордашку её увлечённую, и полагаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет она ничего подлого по отношению к другим устраивать. Чистая душа. Чистейшая.
— Угу, чистейшая. Пока не ведает ничего. А вот однажды станет ведьмой… Впрочем, согласен: люди, они разные. И, по моим многолетним наблюдениям, делятся на две категории. На тех, кто слышит в известной песне Саруханова «скрип колеса», и на тех, кто полагает, что поёт он «скрипка-лиса». Первые — романтичные прагматики, вторые — прагматичные романтики.
— Забавная классификация. И какая разница между теми и этими?
— Существенная. Первые относятся с ближнему своему с нежной настороженностью, вторые — с настороженной нежностью.
Ашгарр помолчал несколько секунд, после чего спросил:
— Ну а наша подопечная к какой из двух категорий относится?
— Полагаю, ко второй, — подумав, ответил я.
Признаться, мне было очень интересно услышать мнение Ашгарра на этот счёт. Но, к сожалению, я в это момент въехал в зону неустойчивой связи. Услышал в ответ обрывки фраз:
— Энта… Уч… Хрм.
И всё, до свидания.
Находился я в этот момент уже километрах в двадцати от города, и пылил по безлюдной деревеньке, названия которой прочитать при въезде не удосужился. Просто увидел боковым зрением синий указатель и машинально скинул скорость до шестидесяти. Слева-справа замелькали серые домики, тёмные заборы, хозяйственные постройки с поросшими мхом крышами и загоны для скота. Лепота. Но тридцать секунд и уже позади деревенька. Дальше: молодой березняк, широкий луг, метёлки пижмы и зонты борщевика. Потом слалом на самой малой между в хаотическом порядке переходящими через дорогу бурёнками. А километров через семь, уже на подъезде к самому Оглоблино: стройный мост через напоенную осенними дождями речушку, покрытые ивняком берега, стена леса за излучиной, перед лесом — поле невызревшей кукурузы. Ещё чуть-чуть, и вот уже ужасного вида бетонная стела. Внизу с обеих сторон — «Оглоблино». Вверху, на поперечной балке: с одной стороны — «Добро пожаловать», с обратной — «Счастливого пути». В общем, всё как положено. Всё как у людей.
У первого же дома по чётной стороне увидел табуретку с пустой трёхлитровой банкой, подъехал и побибикал. Особую настойчивость проявлять не пришлось. Почти сразу вышла ко мне, повязывая на ходу яркий цветастый платок, бравая, поджарая, до негритянской черноты загоревшая на своих картофельно-капустных плантациях, гураночка лет шестидесяти. Я поздоровался с ней чин-чинарём и поинтересовался вежливо, как добраться до улицы Нагорной. Тётка, имея на меня меркантильные виды, козу строить не стала, и объяснила подробно, как и куда. Правда, понял я её не сразу, пришлось несколько раз уточнять-переспрашивать. Говорила дочь Сибири вроде бы по-русски, но так тараторила и пересыпала свою речь таким количеством смачных местных словечек, что — «ланысь мы с братаном сундалой тянигусом хлыняли» — смысл сказанного доходил до меня с трудом. Однако русский дракон русского человека завсегда поймёт, так что мало-помалу всё же уразумел, что сперва-сначала нужно доехать до местной церквушки, а потом (тётка сказала «птом») протянуть всяко-разно до поворота (тётка сказала «до сворота»), взять вправо и там уж до упора по грунтовке. Та грунтовка, ползущая на холм, как раз и будет улицей Нагорной. А дом номер шесть — крайний дом, стоит почти на самой горе, в смысле — на холме.
Указав дорогу, хозяйка отпустила меня не сразу, взяла то, что считала своим: предложила молочка свежего купить за цену, что не дороже денег. Тут она в точку попала. С раннего утра во рту маковой росинки не было, кишка кишке давно уже фигу крутила, а когда напомнили о еде, ещё сильнее жрать захотелось. Так что, не раздумывая и не торгуясь, заказал я литрушку. И ещё кусок хлеба в придачу попросил слёзно. Тётка заспешила, скрипнула калиткой и через минуту вынесла бутыль и полбуханки ситного. Сунув расторопной хозяйке купюру с фасадом Большого театра и отмахнувшись от настойчивой сдачи, я тут же на месте то молоко и употребил. Вкусным оказалось, холодным, жирным. И пошло с хлебушком в охотку. Жаль рядом не было Красопеты, угостил бы спасительницу свою деревенским с превеликим удовольствием.
После перекуса я скоренько (там рукой было подать) доехал до церкви и, повернув туда, куда направила тётка, сразу же увидел холм. Выглядел он живописно и весьма: по склону сбегали редкие домишки, вершина поросла березовой рощей и красное солнце, уже проскочив зенит и плутая в шатре облысевших ветвей, бросала камуфляжные пятна на остов раздербаненного трактора. Глазу тут, спору нет, было на чём отдохнуть. Что, впрочем, не мешало ноге жать на педали, а рукам крутить баранку.
Дом Бабенко, дом номер шесть (домов номер четыре и два я не обнаружил), действительно был крайним в ряду и стоял на отшибе. Аккуратный такой дом, который выгодно отличался от всех прочих своей претензией на прибалтийский стиль: светлый, покрытый лаком, брус, вдоль всего фасада открытая веранда, над большими окнами крутая двускатная крыша, покрытая красной керамической черепицей.
На сигналы клаксона и мои громкие крики отчаявшегося утопленника никто из дома не вышел, и я, не долго думая (а чего тут думать? в первый раз, что ли), без спросу проник на частную территорию. По дорожке из серой, местами уже покоценной, плитки пересёк сад, в котором, между прочим, обнаружились не очень, может быть, профессионально, зато любовно исполненные элементы ландшафтного дизайна: альпийская горка, сад камней, похожая на маленькую пагоду беседка и прудик возле неё.
Поднявшись на крыльцо и, не найдя звонка, я качнул приделанные к навесу колокольца. На звон никто никак не отреагировал, и я саданул по двери кулаком. Толкового удара не получилось, дверь оказалась незапертой и отворилась, не издав ни малейшего звука.
Петли тут смазывают исправно, подумал я. Просунул голову в проём и крикнул:
— Есть кто дома?!
Никто не ответил.
Почуяв недоброе, я на всякий случай тщательно вытер копыта о резиновый коврик и поторопился войти.
В прихожей никого. Прямо — кухня, там тоже пусто. Повернул в коридор, заглянул в первую комнату. Судя по всему, это была спальня. Стеллажи с книгами, толстый ковёр, огромное зеркало в тяжёлой резной раме, старомодный комод с немалым числом шкафчиков, в углу — широкая кровать, накрытая мохнатым пледом. И ни души. Задерживаться я не стал, прошёл дальше и попал в просторную гостиную. В ней тоже никого не обнаружил. Следующая комната, в которую я сунул нос, служила хозяину, судя по всему, рабочим кабинетом. И хотя в нём тоже не было ни души, однако в виду одного очень важного обстоятельства именно тут пришлось задержаться и осмотреться.
И я задержался.
И я осмотрелся.
Просторно. Уютно. Стены оклеены тёмно-зелёными обоями, низкие полки заполнены книгами, на окнах тяжёлые шторы, на мягкий ковер падает свет от торшера с бледно-зелёным абажуром. У окна стоит огромный письменный стол, на столе старенький «ундервуд», разбросанные листы и поднос под хохлому. На подносе — два высоких хрустальных штофа и пузатый графин с какой-то тёмной наливкой. В комплект к шикарному столу имеется и шикарное кресло. Из дорого дерева, обитое добротной кожей, исполненное в викторианском стиле. Кресло лежит посреди комнаты и лежит оно на боку. И нет ничего удивительного в том, что кресло лежит вот тут и вот так. Его подтащил сюда, а потом завалил тот отчаянный гражданин, который приспособил к крюку люстры петлю из пёстрого шёлкового галстука и сунул в эту самую петлю свою лысоватую голову.
«О, закрой свои бледные ноги», — всплыло у меня в сознании стихотворение Брюсова, когда я опустил взгляд от припухшего лица мертвеца к его торчащим из-под китайского халата босым ступням.
Глава 15
Особых сомнений, что несчастный является поэтом Бабенко, у меня не возникло, но так, для порядка, чтоб, как говаривала птица Додо из «Алисы в стране чудес», не началась дикая путаница, личность погибшего всё-таки уточнил. Прикрывая нос платком, прошёл на цыпочках к столу, порылся в ящиках и обнаружил коробку, где среди прочих документов имелась и бордовая паспортина на имя Бабенко Всеволода Михайловича. Сравнение фотография под сморщенным ламинатом с посиневшим лицом висельника не оставило от сомнений камня на камне.
Находиться в кабинете дольше необходимого не хотелось (терзали рвотные позывы), и я поторопился на выход. Правда, на секунду ещё задержался, чтоб поднять с ковра блеснувшую заколку для галстука, но рассмотрел её уже на крыльце. Сделана она была из металла, как пишут в милицейских протоколах, жёлтого цвета, и представляла собой изящно выполненную миниатюру: тупорылый лев с короткими крыльями и русалочьим хвостом намертво вцепился в холку заваленного им в противоестественную позу грузного копытного с головой крокодила. Эта штуковина стилем своим напоминала скифские украшения из золота, хотя ни золотом, ни древностью тут, конечно, и не пахло.
Машинально сунув заколку в карман, я направился со двора к машине, а по дороге стал названивать Белову. И пусть не сразу, но — кто хочет, тот своего добьётся — сумел пробиться на его служебный.
— Внимательно, — сказал Архипыч, подняв трубку.
Не тратя времени на пустые преамбулы, я сразу выложил самую суть:
— Серёга, у нас ещё один труп.
— Бабенко?
— Он самый.
На том конце повисла долгая пауза, прерывая которую, я признался:
— Честно говоря, думал, что шустрили от его имени, но, выходит, ошибся. Всё оказалось проще. Проще и суровее. Может, подкупили, может, околдовали, может, запугали вусмерть, но точно отраву в массы через него запустили.
— И, приправляя свои стишки чужой отравой, — рассудил Архипыч, — он, получается, сам её хватанул полной грудью.
— Разумеется. А как иначе? Хватанул и, как и все другие-прочие, покончил с собой в отмеренный срок. Повесился.
— Повесился?
— Да, Серёга, этот повесился. В собственном кабинете, на собственном галстуке.
— Н-да, — посетовал Архипыч, — оборвалась, выходит, твоя ниточка, Егор.
— Оборвалась-то оборвалась, — поторопился сказать я, — но только думаю, вполне ещё можно кончики в узелок связать. И связав их, ниточку подёргать. Собственно, по этому поводу тебе и звоню.
Старый кондотьер не сразу, взяв несколько секунд на размышление, но просчитал ход моей мысли:
— Ты что, Егор, мертвеца поднять надумал?
— В точку, Серёга. Сорок дней не прошло, так что…
— Подожди. Сорок, не сорок, дело не в этом. Дело в том, что сами-то мы с тобой, брат мой по Свету, не сможем этого сделать, там, позволь тебе напомнить, тёмный блудняк.
— Понятно дело, что тёмный, — не стал спорить я. — Поэтому и предлагаю воспользоваться услугами некроманта.
Судя по напряжённому молчанию, оторопел Архипыч от моего предложения основательно. А я, не давая ему передыха, стал ковать железо, пока горячо:
— Скажи, ты уже свободен или эта ваша чёртова проверка…
— Закончилась, Егор, — перебил меня Архипыч, — Закончилась, слава Силе. Москвичу сказали, что демон, убегая от погони, сам на линию Силы наступил. Недотыкомок самоварный поверил и на радостях все акты подмахнул. Наша Маша сейчас повезла его на Озеро.
— Я так понимаю, знаменитое сибирское гостеприимство никто не отменял?
— Правильно понимаешь. Хочешь, не хочешь, а аман да пардон уважай. Гость — козлина, но принимаем по полной. Копчёный омуль, усть-илимский эль и настоящая сарма на оба его чахлых лёгких.
— Выходит, ты сейчас свободен?
— Ну, как сказать, — моментально сменив бодрый тон на безрадостный, произнёс Архипыч. — Почти. Сижу докладную рожаю, и не знаю, сколько ещё за этой дурацкой писаниной… Впрочем… — На том конце раздался глухой звук падения какого-то тяжёлого предмета. — Расколись оно всё конём. Задалбало в конец. Завтра отпишу. Или вообще послезавтра. Не горит ни фига.
Я прекрасно понял, что произошло, однако уточнил:
— Сдаётся, теперь окончательно свободен?
— Свободен, Егор. Свободен, друг мой крылатый. Теперь уже — точно.
— Ну, раз свободен, давай тогда дело провернём немедля. А? Что на это скажешь?
Архипыч вновь опешил:
— Прямо сейчас? Вот так, с наскока?
— А чего откладывать?
Изрядно потомив меня ожиданием (не мальчик подписываться на левые дела без раздумий), он ответил так:
— В принципе, Егор, я не против, в принципе я за. Но это — в принципе. А теперь скажи, где я сейчас тебе некроманта вот так вот сходу откопаю? Под началом у меня таких специалистов, как ты догадываешься, нет. Близких знакомых такого рода тоже не имею. И официально к этому делу никого привлечь, извини, не могу. Стало быть, с кем-то нужно договариваться, стало быть, нужно подходы искать. А это, согласись, целая песня.
— Ну и в чём дело? Договаривайся, Серёга, ищи, пой эту песню.
— Легко сказать, пой, — хмыкнул кондотьер. — Не всё так просто. Это тебе не лобио… Слушай, Егор, а может, отложим до утра? Признаться, голова после сегодняшних догонялок кругом идёт. Может, завтра всё уладим? Утро вечера, как гласит хазарская пословица, мудрее.
— Сам-то понимаешь, что говоришь? — возмутился я. — Ни фига до завтра ждать не могу. Сижу на бомбе с часовым механизмом, в любой момент рвануть может. А на твою хазарскую пословицу есть у меня другая, скифская: не откладывай на завтра то, что нужно было сделать вчера.
Архипыч хотел что-то возразить, но скомкал реплику и промолчал. А я, дожимая его, спросил без обиняков:
— Слушай, Серёга, ты должник мой, в конце концов, или не должник?
— Должник, — признал он очевидное.
— Долг хочешь вернуть?
— Обязательно.
— Так почему выделываешься? Мне же реально твоя помощь нужна. Что за прогибы такие нездешние? Что за вычуры? Мы же взрослые дядьки, так давай по-взрослому вопрос решать. Или хочешь себя банкротом на весь Свет объявить?
— Не дави, Егор, — успокаивающим тоном произнёс Архипыч. — Не собираюсь я с темы съезжать. Просто не знаю, как подступиться. Погоди, дай покумекать, дай сообразить, кого за жабры взять, кого прищучить.
— Другое дело, — пробурчал я примирительно и тотчас выпустил на волю своё удивление: — Неужели, Серёга, у тебя на горизонте нет никаких подходящих вариантов? В жизнь не поверю.
— Можно подумать, у тебя есть на примете такой вариант.
— Представь себе.
— Так чего ж ты, чудила, молчишь тогда? Выкладывай давай. Если дельный, влёт утвердим.
Тут телефон мой жалобно пикнул, предупреждая, что батарейка вот-вот сдохнет, и я заспешил:
— Помнишь, Серёга, в прошлом году один обиженный старикан отправил поднятого мертвяка крушить райсобес?
Архипыч напрягся:
— Ну, что-то такое…
— Вспоминай, Серёга, вспоминай, — поторопил я. — Ветеран, орденоносец, послали его дуры по кабинетам гулять, а он обиделся и мертвяка поднял. В Медоварихе дело было. Мы с тобой ещё у Жонглёра в кабаке сидели, когда тебя срочно вызвали ситуацию разруливать. Ну? Вспомнил?
— Всё, Егор, вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил. Было дело. Аскольдом его зовут. Аскольдом Илларионовичем Петуховым. Так ты что, дружище, его предлагаешь задействовать?
— А чем не вариант? Ты же тогда, помнится, спустил дело на тормозах, не стал дядьку сливать. Ведь так?
— Ну да, — подтвердил Архипыч, — отмазал я его от всех пунктов обвинения якобы за недостаточностью улик. Дядька-то правильным оказался. В обороне Москвы участвовал, в составе Первого Белорусского до Берлина дошёл, на рейхстаге «Здесь был Аська» написал. Как такого уважаемого человека было загибать? Тем более что с упражнениями своими непотребными давно завязал. Причём, заметь, без принуждения стороннего завязал, исключительно по собственной доброй воле. А что рецидив случился, так тому объяснение уважительное имелось — спровоцировали его занозы кабинетные.
Внимательно выслушав молотобойца, я сказал:
— Честно говоря, Серёга, мне всё равно, почему ты его тогда отпустил на все четыре. Это ваши дела, солдатские. Главное, что отпустил. Теперь он тебе должен. А ты — мне. Так что хватай его за хобот, волоки сюда, пусть тряхнёт стариной.
Кондотьер выдержал паузу, которая показалась мне вечностью, и — ну, ну, ну — наконец принял решение:
— Ладно, Егор, сейчас попробую найти и уболтать. Только, это самое…
— Что ещё?
— Если с момента гибели прошло более девяти дней, а они, судя по всему, прошли, глубоко сознание Взглядом не копнёшь, там уже хлад и мрамор.
На это его справедливое замечание я так ответил:
— А мне, Серёга, глубоко копать и не надо. Мне бы только глянуть одним глазком, с кем он в последние дни якшался.
— Да, пожалуй, ты прав, — согласился Архипыч. — С поверхности действительно можно оперативных данных чуток наскрести. Если только, конечно, злодей не спалил ему наперёд всю думалку к едрене фени.
— Это вряд ли. Невменяемый не смог бы стихи в редакцию пристроить. Согласись, разговоры-переговоры — это хоть и несложное, но всё-таки интеллектуальное действие. А невменяемый горазд исключительно на примитивные: пить, есть, ковырять пальцем в носу и блеять на новые ворота.
— И тут ты прав, Егор.
— Ну как? Решили?
— Решили.
— Тогда жду звонка.
— Жди, Егор, жди, а я уж постараюсь.
После этого весьма обнадёживающего обещания послышались длинные гудки.
Выйдя за калитку на безлюдную тихую улицу, я первым делом закурил, затем, прислонившись задом к капоту машины, какое-то время неспешно осматривал окрестности.
Туда поглядел.
Сюда поглядел.
Хорошо тут было, благостно, не то, что в городе. Город — пространство замкнутое, ограниченное, ни линии горизонта тебе, ни Млечного Пути, сплошные стены. А тут — другое. Тут — бескрайняя, ничем неограниченная пастораль: овраги, косогоры, поля, леса, пролески и тотальное небо. Есть, где ветру разгуляться. Тому самому ветру, которым единственно только и можно в этой жизни надышаться. И которым, конечно же, надышаться нельзя.
В какой-то момент мой ошалевший от безграничности здешних просторов взгляд упал на местную церквушку и, глядя на её выкрашенный в небесно-голубой цвет купол, я вдруг ни с того ни с сего подумал насчёт Бабенко: а ведь не будут беднягу отпевать. Не-а, не будут. Как ни крути самоубийца. У наших православных, равно как у представителей прочих христианских конфессий и других главных мировых религий, с этим делом строго. Очень строго. До жестокости строго. И как по мне, так это очень даже хорошо. А потому что не должен человек сам себя убивать. Не имеет он такого права — сам себя убивать. Пусть даже трижды считает он свою жизнь пустой и никчемной, всё равно не имеет. Потому что на самом деле его жизнь таковой вовсе не является. Никакая она не пустая, никакая она не бесполезная. Очень даже она полезная. Мало того, как и всякая другая, является частью некоего грандиозного Плана, суть и конечную цель которого человек в силу своей естественной ограниченности постигнуть не в состоянии. Так я считаю. Я дракон, но я не против людей. Я против их по-дурацки устроенного мира. Потому именно вот так вот и считаю. Имею право. Впрочем, тут и считать-то нечего. Очевидно же всё.
Нет, ну вот, допустим, жизнь твоя, на первый взгляд, ничем не примечательная, ползёт безынтересно из начального пункта в конечный, и ты в какой-то заполошный момент решаешь вдруг: всё, я лузер последний из распоследних, жизнь не удалась, ловить больше нечего, пойду и утоплюсь. И пошёл, и утопился. И не встретил по этой причине ту единственную, что родила бы тебе сына, сын сына которого по Высшему Замыслу должен был придумать лекарство от лейкемии. Ну и кто ты после этого? Гад, вонючка и предатель рода человеческого.
Но ещё гаже (если не считать, конечно, того, кто убивает себя из-за дурной декадентской пресыщенности) тот балбес, который не в себе любимом причины бед своих ищет, а пытается стрелки перевести. Этот губки подожмёт и ну скулить, что мир отвратен, что век глумлив, что «быть» позорно, что выход-путь один — сбросить бренный шум, дав себе расчёт отравленным кинжалом. Что за такая подлая, пораженческая философия? Почему «быть» — это обязательно безропотно терпеть невзгоды и покоряться пращам и стрелам яростной судьбы? Может всё-таки «быть» — это сопротивляться пращам и стрелам? Не прогибаться, не сдаваться, а бороться и гнуть свою линию? Не терпеть, а в меру своих сил облагораживать этот колючий мир? Не сводить, уподобившись жирному инфантилу Гамлету, с ума родных и любимых, а делать их жизнь хоть на немного, хоть на чуть-чуть, но всё-таки счастливее?
Хотя и отношусь я по понятной причине ко всякой людской религии настороженно, но в плане неприятия самоубийства с христианами солидарен. Жизнь — это дар, и разбрасываться им негоже. Скотство это. В религиозной терминологии — грех. Большой грех. Ей-ей. И фиг меня кто убедит в обратном. Ну да, да, конечно, зачастую жизнь человечья до краёв полна неподдельным трагизмом, разочарованиями, горем и тоской, но всё же это дар, великий дар, и отказаться от него можно только ради спасения другой жизни. Лишь этим можно оправдать такой крайний поступок. Впрочем, это уже не самоубийством называется, а самопожертвование и проходит по разряду братской любви. При любых же прочих раскладах нужно, сжав челюсти до зубовного скрежета, шагать и шагать вперёд. В этом подвиг. И тому, кто так поступает, почёт и слава.
С другой стороны, самоубийство самоубийству, конечно, рознь. Вот взять, к примеру, того же самого покойного Бабенко. Никто ему петлю на шею не накидывал, никто кресло из-под ног не выбивал. Натуральное, казалось бы, самоубийство. Ан нет. Не по своей воли Бабенко повесился. Ой, не по своей. Только кто про это узнает? Никто не узнает. А жаль. Тут даже не доведение до самоубийства имеем, а чистейшей воды убийство.
Грустные мои размышления прервал телефонный звонок. Звонил Архипыч. В ответ на моё «Слушаю», он деловито сказал:
— Нашли мы, Егор, старика.
Покосившись на часы, я искренне удивился:
— Оперативно сработали.
— А то, — горделиво, но в шутейном ключе отозвался кондотьер. — Фирма веников… Короче, Егор, через полчаса выезжаем. Говори, что, где и как.
Подробно объяснив ему, как доехать, и прикинув, сколько потратят на дорогу, я — время есть, чего ж не попытаться — не поленился и сходил на разведку к тому дому, что стоял чуть ниже по холму. Подумал, может, видели соседи в эти дни что-нибудь или кого-нибудь странного. Однако дом оказался брошенным и, судя по всему, брошенным давно. Горбыль, которым были заколочены двери-окна, уже подгнил, огород так зарос бурьяном, что превратился в непроходимые джунгли, а забор в одном месте не валился на землю лишь потому, что опирался на разросшийся куст жимолости.
Вернувшись не солоно хлебавши к машине, я забрался внутрь. Нашёл приятственную джазовую FM-волну, отодвинул кресло до упора, откинул спинку, сунул под голову надувную подушку и, едва закрыл глаза, благополучно уснул. Не было никакого перехода, раз, и отключился. Погрузился в темноту. В бархатную такую тёплую утробу, из которой вырвала меня протяжная и донельзя противная трель автомобильного клаксона. С трудом открыв глаза, я к своему удивлению — что за чёрт, ведь не больше мига прошло! — обнаружил, что слева по борту пристроился «хаммер», за рулём которого сидит Боря Харитонов. Махнув мне рукой, он вышел из машины, открыл заднюю дверь и помог выбраться старику-некроманту. Архипыч выбрался тем временем с другой стороны.
Некромант, который давно перешагнул за восемьдесят, выглядел в сером своём, советских ещё времён пальтишке сущим доходягой: лицо цвета пергамента, на впалых щёках пятна сизые, сам весь сутулый и худой до невозможности. Казалось, случись сейчас порыв ветра посильнее, переломится к чёртовой матери напополам. Прижимая к впалой груди футляр со скрипкой, он затравленно зыркал подслеповатыми глазами по сторонам и шамкал беззубым ртом, не произнося при этом ни звука, чем и походил, да простит меня Великий Неизвестный за такое сравнение, на умирающую рыбу.
Пока я, с трудом выбираясь из полусонного состояния, рассматривал старика-некроманта, к машине подошёл Архипыч и постучал пальцем по лобовому стеклу:
— Вы, что ли, товарищ, неотложку вызывали?
— Мы, — легко включаясь в игру, ответил я.
— Ну и где пациент?
Я показал в сторону дома:
— Там.
Архипыч повернулся к старику:
— Ну что, Аскольд Илларионович, осмотрим болезного?
Не дожидаясь ответа, подхватил старика под руку и повёл к калитке. Я вылез наружу и потянулся за ними. Боря, прихватив из машины истрёпанную колокольную верёвку, пошёл следом за мной.
Когда наша кавалькада неспешно (старик шёл медленно, еле-еле переставляя погрызенные артритом и остеохондрозом ноги) добралась до крыльца, Архипыч оглянулся и приказал нам с Борей:
— Ждите здесь.
Боря чуть ли не обрадовано взял под козырек, и устало плюхнулся в одно из стоящих на веранде пластиковых кресел. Мне же хотелось лично увидеть ритуал, поэтому я собрался всерьёз воспротивиться запрету. Но не успел и рта раскрыть.
— Егор, остынь, — упреждая мои аргументы, сказал Архипыч. — Подъём жмура зрелище специфичное и, поверь, ни фига не аппетитное. Когда всё будет сделано, я тебя сам кликну. Ладушки?
Возражать не имело смысла, пришлось остаться на веранде. Когда Архипыч и старик скрылись в доме, я последовал примеру Бори и устроился в кресле. Какое-то время мы сидели молча, потом мне стало скучно, и я поинтересовался:
— Борь, если не секрет, как в типографии прошло?
Молотобоец закинул ноги на перила, откровенно и громко зевнул, после чего доложил:
— Нормально прошло. Взяли товар без шума и пыли.
— Никто и не пикнул?
— Там особо некому было, все на поминки укатили. Охранник, правда, нарисовался, но пьяненький. Сопротивлялся квёло.
Новость меня не столько огорчила, сколько озадачила:
— На поминки, говоришь? А кого поминали?
— Метранпаж у них помер, — давя зевоту, пояснил Борис. — Девять дней как закопали.
— Отчего умер?
— Угарным газом, говорят, траванулся.
— Несчастный случай?
— Фиг там. Самоубийство. В гараже закрылся, трубу перекрыл, ключ на старт и всё, прости-прощай.
— Получается, ещё одна жертва, — удручённо покачал я головой. — Уже пятая.
— Вот и Архипыч сказал, что пятая. — Борис повернул голову в мою сторону. — Слушай, братишка, что за байда творится? Что вообще происходит?
Ничего предосудительного в том, чтобы вкратце изложить ему подоплёку всей этой муторной истории, я, честно говоря не видел. И, пожалуй, изложил бы, но не успел и рта открыть. Молотобоец сам же меня и остановил:
— Погоди, Егор, не нужно ничего рассказывай. Ну его всё к бесу. Не хочу лишнего услышать. Меньше знаешь, крепче спишь. Пусть начальник думает, у него голова вон какая здоровая. А я буду думать, когда сам начальником стану.
— С таким подходом, Боря, начальником ты никогда не станешь, — заметил я.
— Вот и ништяк.
И мы вновь замолчали. Теперь надолго. Через время Боря, поклевав носом, задремал, а я напряг слух, пытаясь услышать, что происходит в доме. Но как ни старался, ничего, кроме суетливого гомона засевших в берёзовой роще ворон, не услышал.
В какой-то момент молотобоец поёжился, засунул ладони в рукава бушлата и, не открывая глаз, произнёс:
— Чего они там долго возятся.
— Долго, — согласился я. И, коль уж разговор на эту тему зашёл, решил поделиться терзающими меня сомнениями: — Что-то, Боря, старичок этот на меня особого впечатления не произвёл. Какой-то он…
Молотобоец открыл один глаз:
— Какой?
— Невзрачный какой-то, плюгавый. Нет?
— Ты, Егор, не смотри, что мухомором выглядит, он колдун о-го-го какой. Мастерства в нём, дай бог каждому.
— Хорошо, коль так.
— Точно говорю.
— А дар у него врождённый?
— Нет, не врождённый…
— Благоприобретённый, значит.
— Опять не угадал.
Я удивился:
— А как тогда?
— Злоприобретённый у него дар, — назидательно ткнув в небо пальцем, сообщил Боря.
— Это как?
— Да так. — Молотобоец скинул затёкшие ноги с перил, просунул берцы между балясинами и, потянувшись так, что захрустели богатырские косточки, начал рассказывать: — Сейчас ехали, он нам по дороге свою историю поведал. Представляешь, до сорок первого был непосвящённым. Ни сном, ни духом о реальной магии. Маменьким сынком рос, скрипку дедову терзал, слыл вундеркиндом и собирался после школы в консерваторию поступать. Но хрен там, не вышло ничего. Немец не дал.
При этих словах на лицо Бори наплыла тень благородной печали. Помолчав тяжёло, со значением, как это умеют делать повидавшие виды мужчины, молотобоец продолжил:
— В сорок первом ему как раз восемнадцать стукнуло. Здоровье ни к чёрту, очкарик с малолетства, белый билет, всё такое, но умудрился как-то это дело скрыть, записался добровольцем. В окопах, говорит, с ним чудо-то и приключилось. В ноябре дело было. В окрестностях деревни Мыкдино, что под Волоколамском. Довелось в тот день ему и ещё семнадцати бойцам взвода истребителей танков удерживать до подхода основных сил высотку одну безымянную. Оно дело такое, знаешь, суровое, высотку-то удерживать. Но держали. Назло всем и всему держали. Всё утро держали, весь день держали, а ближе к ночи некому стало держать. Из живых только наш Аскольд остался, да и тот тяжело раненый. — Тут молотобоец ткнул себя пальцем в висок. — Прикинь, Егор, осколок с двушку советскую у него в башке застрял. До сих пор там. Как не убило, сложно сказать. Повезло. Крупно повезло.
— На себе-то не показывай, — посоветовал я.
Боря одёрнул руку, вновь спрятал её в рукав бушлата и продолжил рассказ:
— Вот от того немецкого подарка, что ему в голову прилетел, Аскольда и переклинило. Что и как, бог весть, но только открылся у него в ту же секунду известный дар. Ну а как открылся, взял Аскольд в руки скрипочку, он её дедову умудрялся повсюду с собой таскать, да выдал такую музыку забубённую, что восемь мертвецов один за другим на ноги встали. А как встали, тотчас взялись за ружьишки свои табельные и ну снова по фрицам шмалять.
— А почему только восемь? — заинтересовался я.
— У остальных, говорит, тел не осталось, — пояснил Боря. — На куски остальных разорвало. А если плоти нет, куда душе тень откинуть?
— Ну да, — согласился я. — При таком раскладе — некуда.
Сказал и представил себе эту мрачную картину. Раненый красноармеец, у которого открылся дар, принёсший ему кошмарные откровения о мире, стоит в полный рост под холодным небом родины и выводит на старенькой скрипке свою мелодию. И мелодия та волшебная, заглушая взрывы-выстрелы, заставляет геройски погибших пареньков долбить, долбить и долбить из противотанковых ружей по превосходящим силам противника. Представил такое и покачал головой:
— С ума сойти можно.
— Да, не для слабонервных кино, — согласился со мной Боря, после чего добавил не без редкого для него пафоса: — И покуда длилась та яростная музыка, продолжался неравный бой.
Отметив машинально, что Боря в слове «музыка» почему-то ударил на «ы», я спросил:
— Слушай, а как он их упокоил?
— А никак, — ответил молотобоец. — Я спрашивал, говорит: на утро подмога подошла, и его контуженного да израненного сразу в госпиталь полевой определили.
— А как с поднятыми дело обернулось?
— Говорит, бабы деревенские солдатиков отпели. Нашлась там одна грамотная повитуха-знахорка, подсказала остальным, что да как. Сам он об этом позже узнал, после войны, когда в тех местах мемориал бойцам восьмой гвардейской дивизии открывали. Аскольд на этом мероприятии с той самой повитухой случайно и встретился. Знаешь ведь, как это оно у нас, посвящённых, бывает: глаза в глаза, и нате вам. Короче, перемигнулись, познакомились, разговорились. Говорит, до сих пор переписываются. Такая вот история.
На этом тема исчерпала себя, и мы на некоторое время вновь замолчали. Я подумал, что молотобоец воспользуется затишьем и опять уснёт. Но нет, не случилось. Мостился он, мостился, да так и не сподобился.
— Ирма на связь не выходила? — дёрнуло меня спросить в какой-то момент.
Боря нахмурился и мотнул головой:
— Нет.
— Смешная девчонка.
— Считаешь?
— А нет? Вспомни, как просилась в полёт. Разве не смешно?
— Не в себе была, — вымучено улыбнувшись, поставил Боря диагноз, после чего прихлопнул злую осеннюю муху и вдруг заметил: — А я ведь тебя, Егор, тоже никогда не видел обращённым.
— А хочешь? — спросил я.
— Вообще-то, честно говоря, любопытно. Позовёшь как-нибудь?
— Запросто. Только вряд ли ты что-нибудь увидишь. Вернее даже так: увидеть-то увидишь, но ничего не разберёшь. Спросит потом кто, а какой он, дракон, ничего ответить не сможешь.
— Почему это? — не понял Боря.
— Потому что никому не дано понять, какой он, дракон, — пояснил я и, видя по его лицу живой интерес к теме, поведал старинную притчу: — Как-то очень-очень давно, в ту пору, когда чистоту людских помыслов не баламутила доступность потребительского кредита, настоятель одного буддийского монастыря повелел послушнику изобразить на стене храма золотого дракона. «Как же я смогу это сделать, если никогда не видел драконов?» — задался справедливым вопросом монах. Однако послушание есть послушание, пришлось пареньку взяться за кисть и приступить к работе. Только как он ни старался, а ничего толкового нарисовать не смог и, сокрушаясь зело, во сне и наяву повторял всё тот же единственный вопрос: «Как же мне нарисовать дракона, если я никогда его не видел?» В бесплодных муках прошёл месяц. Потом второй. Третий. Ещё один. Прошёл год. И вот однажды на рассвете сила желания выжала из реальности невозможное, доведённый до крайнего психического истощения монах увидел в окне золотого дракона. То выныривая из облаков, то снова ныряя в них, крылатый выделывал всякие воздушные кренделя, будто говоря ему таким образом: «Ты хотел меня увидеть человек, ну так вот он я, рисуй». Но и тут ничего у парнишки не вышло. То ли обрадовался сильно, то ли сильно перепугался, только сразу рухнул в обморок. А когда очнулся, дракон уже исчез. И сколько потом несчастный не силился, а вспомнить, как выглядел крылатый, так и не смог. А и никто бы не смог.
— Много слов, — сказал Боря, едва я замолк. — Только всё равно не понял, почему нельзя дракона запомнить драконом?
Пришлось растолковать.
— Для тех, кто в танке, объясняю: нельзя увидеть глазами то, что можно увидеть лишь сердцем.
— Фигня всё это, Егор, — не поверил молотобоец. — Ты только свистни, возьму фотик, или даже камеру, и в лучшем виде всё запечатлею. Вместе потом позырим.
Не успел я сказать ему, как глубоко он ошибается, в доме зазвучала скрипка.
В этих удивительных, ни на что не похожих, жутковатых звуках, что наполнили пространство, было столько изначального смысла и первобытной печали, что окружающий нас мир затих, посерел и сделался чем-то глубоко вторичным.
— Душу мертвяка притягивает, — тихо произнёс Боря, после чего широко перекрестился.
А я поёжился от неприятного ощущения и, глядя на то, как зашевелилась на полу убитая молотобойцем муха, процитировал одного хорошего поэта:
— На страшную музыку вашу прекрасные лягут слова.
Больше мы с Борей не произнесли ни слова. Разговаривать не хотелось, а хотелось покрепче зажать уши и поплотнее закрыть глаза. И ещё хотелось, чтобы та холодная космическая пустота, которую порождала мелодия скрипача, не проникала в сознание. Не знаю, как Боря, а я в какой-то миг вознамерился плюнуть на всё и рвануть куда глаза глядят. Еле-еле сдержался. Сдержался исключительно стихам, которые начал бормотать, чтоб хоть как-то отвлечься. Это были хорошие стихи, в них есть такие слова:
Когда же стало совсем невмоготу, музыка вдруг стихла так же неожиданно, как и возникла, а уже через несколько секунд в дверях появился Архипыч.
— Пойдём, Егор, — позвал он. — Всё готово.
Меня подкинуло из кресла как ужаленного.
Когда вошли в кабинет, я увидел, что старик-некромант стоит у окна, прижимая скрипку к груди, а мертвец, голова которого чуть покачивалась, а руки подрагивали, сидит в кресле посреди комнаты.
— Уважаемый, — обратился Архипыч к некроманту, — прошу на выход. Вы, Аскольд Илларионович, своё дело сделали, пусть теперь дракон сделает своё.
Скрипач сдержано кивнул, и они оставили меня наедине с тем, кто раньше был поэтом Бабенко.
Подтащив второе кресло, я сел напротив мертвеца и, стараясь не глядеть на его изуродованное пятнами тлена лицо, а также на лиловую странгуляционную борозду, которую не могла скрыть узкая лента дурацкого галстуком, попросил тихо, чуть слышно:
— Помоги мне, дружок. Вспомни, как оно всё случилось. Назови того, кто тебя так круто подставил.
Ничего он, конечно, ответить не мог. И я, восславив Великого Неизвестного, приступил. Раскрылся полностью, лёг на волны бытия, отдался вихрям пространства-времени и выпустил на волю ту Силу, что получил задарма при спасении мальчика. В тот же самый миг меня накрыла невыносимая какофония, в сознание хлынул поток причудливых образов, а те, многочисленные ощущения, которые я начал при этом испытывать, принялись разламывать мозг. Секунды превратились в годы, минуты стали веками. Напряжение росло, нарастало, и через какое-то время показалось, ещё немного, ещё чуть-чуть, и мой разум перестанет существовать сам по себе и растворится в том, что гораздо шире его, что невообразимо, чему нет названия и что условно именуем мы Запредельным. Однако ничего подобного не произошло. Уверенно контролируя ситуацию тем во мне, что умнее ума, я в миг наивысшего напряжения вернул себя себе, разрезал Взглядом привычную реальность и проник в пробуждённое мастерством некроманта сознание мертвеца. И тотчас поплыли перед моим внутренним взором разнообразные картинки. Не всегда яркие, зачастую расплывчатые, рванные, обрывистые. Но особо выбирать не приходилось. И стал я их рассматривать, листая как иллюстрации в книги.
И вот первая картинка: в сторону заката ползёт огромная, схожая с грозовою тучей, стая ворон.
Сразу не то, листаем дальше.
Вот в стыке двух плохо выкрашенных реек дрожит паутина, а в ней переливается всеми цветами радуги капля дождя.
Нет, не то, перелистываем.
Вот смутно, размыто, будто через декоративное стекло: кастрюля на плите. Снимается крышка. Клубится пар. В бурлящем кипятке картошка в мундире. Ножом её. Одну, другую. Рано, ещё не сварилась. И крышку на место.
Нет, и это не то, пока ещё не то.
Пролистываем.
Вот вид, открывающийся с крыльца на тропинку в саду. К калитке, укрывшись от дождя накидкой с капюшоном, шагает человек. Лица не видно, но по росточку невеликому понято, что ребёнок. Всего лишь ребёнок. Нет, и это не то.
Листаем дальше.
Вот картинка в окне: ветер треплет изодранный целлофан на тепличке.
Сразу — дальше.
Вот белый, девственно чистый лист на столе в пятне бьющего откуда-то сверху и слева света.
Стоп, а ну-ка назад.
Ещё назад.
И вот опять вид с крыльца на тропинку в саду. К калитке, укрывшись от дождя болотного цвета накидкой, идёт ребёнок. Лица не видно, вид со спины. Мальчик? Девочка? Не понять, не разобрать. Но какая странная у него спина. Будто под накидной спрятан баул. Или школьный ранец? А что если не торопиться? А что если подождать? Подождём, посмотрим, поглядим, что будет дальше. Посмотрим… Смотрим. Смотрим. Смотрим. Вот ребёнок подходит к калитке, берётся за щеколду, дёргает и вдруг… Оборачивается. Машет рукой.
Ни фига не мальчик. И не девочка. И вообще не ребёнок. Пожилой горбатый карлик, которого я, между прочим, уже — о, скажи мне, Высший Неизвестный, не снится ли мне всё это? — однажды видел. И даже знаю, где и когда.
Ну а то, что случилось дальше, предугадать было невозможно.
В тот самый миг, когда я узнал карлика, мертвец, сбивая меня с волны, передёрнулся так, будто его шандарахнуло током в тридцать тысяч вольт, и какое-то время трясся мелкой дрожью. А затем медленно поднял голову и уставился на меня стеклянными глазами, в глубине которых метались неясные тени.
— Какого… — чуя недоброе, попытался выкрикнуть я.
Но не успел.
Под мертвецом будто катапульта сработала. Выплюнув изо рта непрожёванный крик, он вылетел из кресла, кинулся ко мне и мёртвой (а какой же ещё?) хваткой вцепился в горло. Кресло подо мной качнулась, опрокинулось, и мы оказались на полу. Я — снизу, мертвец — на мне.
Находясь после кувырка в незавидном положении, задыхаясь, испытывая дикую боль в затылке и в правом локте (локоть просто горел огнём), я, тем не менее, попытался дать мертвяку — врёшь, не возьмёшь! — достойный отпор. Лупил его коленом куда-то в бок и, вцепившись в ледяные запястья, пытался разорвать захват. Самое комичное, точнее — трагико-комичное, что всё это время в голове вертелся идиотский вопрос: «Интересно, у всех после смерти вот так вот знатно колосится щетина?»
Не знаю, сколько бы я продержался, но моё яростное мычание-рычание услышал Архипыч. Ворвавшись в кабинет, он в момент разобрался, что к чему, и сходу врезал мертвецу ногой. Жёстко так. Пыром. И точнёхонько в челюсть.
От столь мощного удара лицо мертвеца перекосило, сам он повалился на бок, меня при этом не отпустил, однако хватку на какой-то миг ослабил. Мне этого мига хватило. Вполне. Рывком (так опоздавшие граждане рвут в отчаянье захлопнувшиеся двери электрички) освободив себя от смертельного захвата, я не хуже какого-нибудь десантника откатился в сторону, вскочил на ноги и принял боксёрскую стойку.
Похоже, мертвец обиделся на меня всерьёз и надолго. Не знаю, чем уж я его так разозлил, но факт остаётся фактом. Лишь секунду потратив на то, чтобы оправится от удара, он издал звук, какой случается при падении листа шифера на асфальт, и без подготовки, но с резвостью, которую никак нельзя было ожидать от его закоченевших суставов, прыгнул в мою сторону. И мы с ним опять бы сцепились, когда бы искушённый в подобных стычках молотобоец не прервал его движение ударом кресла. Мертвец, словно сбитый джипом пешеход, отлетел в сторону и с костяным грохотом повалился на пол. Казалось, всё, финита ля комедия, однако уже через миг он вновь оказался на ногах. Будто не на крашеные доски приземлился при падении, а на невидимую батутную сетку или подкидной гимнастический мостик. Вскочил, покрутив головой, вставил на место шейные позвонки и вновь рванулся.
И вновь Архипыч отмерил ему креслом.
Крутанув в воздухе сальто-мортале (такой силы был удар), мертвец отлетел к стене и больше уже подняться не смог. Не потому что был выключен из игры ударом (подозреваю, что подстёгиваемый глубинной чёрной магией, он бы кидался на меня вновь и вновь), а потому что Архипыч, отшвырнув в сторону кресло, кинулся к дебоширу, навалился на него всей своей немалой массой и прижал к полу.
Не смотря на то, что перед глазами плыли круги, а дышалось через раз, я, тем не менее, собрался придти молотобойцу на помощь. Но не успел и шагу ступить, как он приказал:
— Сваливай, Егор, похоже, ты его крепко раздражаешь. — После чего проорал зычным басом: — Улома, твою мать, верёвку!
Быть чем-то типа красной тряпки для быка мне не светило. Не разворачиваясь, спиной вперёд я отступил в коридор, где столкнулся с набегающим Борисом. Он, ничего не спрашивая, оттолкнул меня в сторону и, цепляя косяки широченными плечами, поспешил к месту боя.
Теперь справятся, решил я. Если не эта тяжёлая артиллерия, то тогда кто?
И поплёлся на выход.
Отпустило не сразу. Какое-то время стоял, качаясь-покачиваясь, на веранде и глотал свежий, похолодевший к исходу дня, воздух. Стоял долго, показалось, что целую вечность, но лучше стало лишь тогда, когда, перегнувшись через перила, благополучно изрыгнул на облезлый куст сирени давешнее молоко. Потом, матерясь на всех шестидесяти девяти известных мне языках, дошёл до обложенного здоровенными голышами пруда, разогнал тину и, черпая из тёмной воды своё отраженье, стал смывать с лица терпкий запах мертвечины. Наплескавшись вволю, употребил вместо полотенца сорванный лопух и неверным шагом возвратился на веранду. И там упал без сил в то кресло, в котором раньше сидел Борис. Моё кресло теперь занимал некромант. Выглядел старик по сравнению со мной бодрым, но, по-прежнему, странноватым. Бережно, словно грудного ребёнка, нянчил скрипичный футляр и вёл неспешный разговор с белочкой. С реальной такой наглой зверушкой, которая не испытывая никакого страха, сидела на парапете и что-то такое грызла в своё удовольствие. Кажется, сухарь. Или сушку. Грызла и слушала. А старик, шамкая беззубым ртом, делился с ней нахлынувшими воспоминаниями. Говорил о былом, заговаривался:
— В госпитале полевом, бывало, гляну перед сном в оконце и чую странное. Будто не в себе. И спать хочется, и уснуть ни какой мочи нет. И что-то доброе тогда хочется самому себе сказать. Всё равно что, только непременно доброе. Хотя бы слово одно. И вот начинаю искать. Слово это начинаю искать. Доброе. И вот ищу, ищу, ищу. Места себе не нахожу, ворочаюсь. Потом вдруг натыкаюсь на какое-нибудь. Ну там «матушка-голубушка», или, допустим, «дитятко» или ещё какое-нибудь, но тоже доброе, ласковое. А как найду, гляну вокруг, не слышит ли кто, да сам себе раз десять то слово вслух и протвержу. И ровно кто приголубил. И засыпаю тогда.
Сам того не желая, я прислушивался к тихой, исповедальной речи, и в душе всё аж переворачивалось. Вот, думал, досталось пареньку. Вот, хлебнул-то сполна. А как представил сдуру, сколько (сколько, сколько — больше полумиллиона!) таких вот пареньков недоласканных в битве за Москву той страшной осенью полегло, в носу стало свербеть, к горлу ком подкатил и одинокая слеза медленно скатилась на небритую щёку. Редко такое со мной бывает. Разве только во время очередного просмотра ленты Леонида Быкова «В бой идут одни старики», когда там: «Ребята, будем жить!» и смертельное пике горящего истребителя на вражеский эшелон.
Словом, чуть не довёл меня до истерики некромант Аскольд своими былинами. Хорошо молотобойцы управились споро. Только подумал, ну где же они там, как уже выходят.
Первым с выражением мрачного триумфа на лице появился Боря. Хотя всё было ясно и без слов, я, тем не менее, спросил у него осипшим голосом:
— Упокоили?
Продолжая деловито и сосредоточено наматывать верёвку от церковного колокола на согнутую в локте руку, молотобоец переступил порог и доложил подробно:
— Клиента упокоили, территорию зачистили, декорации привели в исходное — После чего уже сам поинтересовался: — Слышь, братишка, а чем ты его так разозлил? Чего он так психанул-то?
Я пожал плечами:
— А чёрт его знает.
В этот момент из дома вышел Архипыч и, вытирая лоб носовым платком, разразился прибауткой:
— Чудак покойник, умер во вторник. Стали гроб тесать, а он вскочил, да и ну плясать.
С этими словами подошёл ко мне, осмотрел синяки на шее, заставил повертеть головой и, убедившись, что всё в порядке и здоровью моему ни чего не угрожает, потеребил за плечо:
— Ну что, Егор? Говори, не зря приехали? Разузнал чего-нибудь полезного?
— Не поверишь, но разузнал, — доложил я. — Был у него перед кончиной один необычный гость.
Архипыч погрёб воздух ладонью, мол, не томи давай рассказывай. Но я не стал молоть языком. Схватив его руку в районе запястья, сжал её крепко и, удерживая так, полностью раскрылся. Когда передача образа случилась, Архипыч помолчал немного, а потом произнёс ни к кому не обращаясь:
— Карлик, значит. Интересно, кто такой? Колдун?
— Нет, Серёга, это не колдун, — заявил я со стопроцентной уверенностью. — И даже не человек.
— А тогда кто?
— Хомм.
— Хомм? — удивился Архипыч. — Чей?
Я пожал плечами:
— Да фиг его знает.
— А как ты так догадался, что карлик хомм? Ауру через образ ведь хрен-два… Подожди, а может вы, драконы, как-то умудряетесь?
— Смеёшься?
Архипыч впал в лёгкий ступор:
— А как тогда?
— Просто, — ответил я. — Я этого топтуна уже встречал.
— О как. Где и когда?
— Вчера, выходил от Жонглёра, столкнулся в дверях.
— Странно как-то, — задумчиво огладил бороду Архипыч. — Думал, всех хоммов в Городе знаю, а этого горбатого что-то не припомню.
— Похоже, залётный, — предположил я и, прикинув хвост к носу, поинтересовался: — Скажи, Серёга, а вы приезжих хоммов регистрируете?
— Нет, — отчеканил Архипыч.
— Это почему же?
— Вопрос, Егор, не по окладу. Правила такие, вот и не регистрируем. Одна из оговорок Марга Ута, номер которой, стыдно сказать, не помню, гласит, что регистрация хоммом осуществляется в добровольном порядке. Как ты понимаешь, добровольцев мало. Практически нет таковых.
— Хитрые, блин, у вас, ребята, правила, — саркастичекси хмыкнул я.
Архипыч зачем-то стал оправдываться:
— Они не нами придуманы, утверждены Предельным съездом.
Я скривился:
— Правильнее будет сказать — Беспредельным.
— Имеешь что-то против? — опомнился и посуровел Архипыч.
— Имею, — сказал я твёрдо. — Не против кого-то персонально, а против системы. Сам посуди, Серёга. Хоммы — слуги высших и великих, а кто у нас в делегатах Предельного съезда сыновей седьмого сына? Правильно, на девяносто девять процентов высшие и великие. Какой из этого вывод можно сделать? А такой: они сами под себя законы пишут. Пишут так, чтоб самим было удобнее. Вот и получается хрень.
— Опаньки! — воскликнул Архипыч, склонил голову к плечу, посмотрел на меня с интересом и, ехидно улыбаясь, спросил: — Это же кто нам такое говорит?
Боря, который за всё время разговора не произнёс ни слова, вдруг оживился и отрапортовал:
— Это, мой коннетабль, говорит нам золотой дракон, который, как и все прочие драконы, наши людские законы в уд не ставит.
Архипыч, утверждая ответ, ткнул пальцем в небо, после чего они с Борей крепко пожали друг другу руки.
Ну и что я, нагон дракона Вуанга-Ашгарра-Хонгля мог им на это возразить? Да ничего. Они были абсолютно правы.
Глава 16
Расстался я с молотобойцами на околице, возле старого колодца. Не я место выбрал, они. Остановив «хаммер» у почерневшего от времени сруба, Боря выполз наружу, тотчас загремел цепью и, вытащив старое, жутко покорёженное ведро, жадно приник к нему. Архипыч тем временем тоже выбрался из машины, подошёл ко мне и, наклонившись к окошку, спросил:
— Как оно в целом?
— Бывали хуже времена, — ответил я.
— В том смысле, что не было подлей?
— Угу.
— Выглядишь не очень, — посочувствовал кондотьер. — Осунулся, лицом почернел.
— Не поверишь, Серёга, будто ржавое сверло в грудь вогнали и беспрерывно крутят, крутят, крутят… Суки.
— Ничего, Егор, даст Бог, сковырнём супостата.
Ничего я ему на это не сказал. Не то чтобы веру потерял, а просто не хотел сотрясать воздух напрасными словами. Старый кондотьер, чуткая душа, моё настроение уловил и оставил в покое.
А Боря всё никак не мог напиться. Вода, переливаясь через край, плескала ему на тельник, но он внимания на это не обращал, и всё пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.
Ещё минута, наверное, прошла, прежде чем он сказал:
— Оно.
Скинул ведро вниз и вытер губы рукавом бушлата.
Сразу после этого, клятвенно пообещав, что немедленно дадут мне знать, если вдруг доберутся до горбатого хомма первыми, молотобойцы покинули село. Мне же пришлось ненадолго задержаться, чтобы (скорее по привычке, чем по острой необходимости) стереть из сознания молочницы воспоминания о нашей тёплой встрече.
Сделав своё чёрное дело, я потом всю дорогу до города размышлял над тем, с чего начать поиски таинственного карлика. Надо знать хоммов, чтобы понимать, как непроста на них охота. Я знал. И я понимал.
Дело в том, сущность всякого Иного, а стало быть и его поведение, определяется прежде всего (остальное — накипь, круги на воде, необязательные рюшечки) двумя важными обстоятельствами. Во-первых: имеется ли у него та замечательная субстанция, с помощью которой происходит психико-энергетический обмен между Пределами и Запредельным и которую мы в обиходе называем душой. И во-вторых: если она у него всё-таки имеется, то где в данным момент находится.
К примеру, у демонов, лярв, големов, поднятых мертвецов, не родившихся и прочих подобного рода чудиков души нет. А раз нет души, то и за душой ничего нет, потому их поведение не отличается особой хитростью. Прямолинейно оно, незамысловато. И даже коварность их коварная вполне предсказуема. По большому счёту, всегда знаешь, что от них ожидать в каждую следующую секунду. Они либо прут напролом, либо, пуская слюну, поджидают тебя за ближайшим углом.
В отличие от этих, изначально бездушных, девчат и хлопцев, у вампиров, существ, которых по трагической случайности рожают обычные женщинами на границе Пределов и Запредльного, душа есть, но она у них при появлении на свет попадает в Запредельное, когда как тело — в Пределы. Наличие души (пусть даже и тоскующей в далёком далеко) подразумевает наличие и присущее всякой личности душевных болезней. Депрессий там разных, неврастений, маний, фобий и всяких прочих психологических закидонов. Оттого-то так и непредсказуемо поведение Детей Ночи. Равно как и поведение Мерцающих — существ, чьё тело при рождении попадает в Запредельное, а душа остаётся в Пределах. Поведение Мерцающих, которых профаны, к слову говоря, называют призраками, непредсказуемо даже для самих Мерцающих. Когда им удаётся притянуть в Пределы образ тела, чудачат они по-чёрному. С незаурядной фантазией чудачат. Что, в общем-то, понятно и в какой-то степени простительно: стоять обнажённой и обиженной душе на студёном ветру реальности до крайности скучно и не слишком сладко. Ни фига не мармелад стоять обнажённой душе на студёном ветру. Кстати говоря, в той же самой мере всё это относится и к так называемым приведениям — душам, потерявшим тело, но по какой-то причине задержавшимся в Пределах. Принципиальной разницы между Мерцающими и приведениями нет, простому человеку встреч и с теми и с этими лучше избегать.
Что касается разных там волкодлаков, беродлаков и прочих оборотней, то их повадки тоже сумасбродны, поскольку и у этого рода Иных есть душа. Есть как таковая. В практическом же плане — и у них она не при себе. Оторванная от тела находится либо в Запредельном, либо в неволе. В первом случае мы имеем дело с прирождёнными оборотнями, ведущими свой род от людей, подвергнутых во времена оны ужасному проклятию. Эти оборотни самостоятельны и потому страшны. Во втором случае мы имеем дело с оборотнями обращёнными, то есть существами, которые появились на свет обычными людьми, но тем или иным образом попали в душевный плен к тёмному магу. Эти оборотни подневольны хозяину и потому страшны вдвойне. Последних чем-то и напоминают хоммы.
Хоммы тоже рождаются людьми и лишь потом, когда отдают душу во владение и услужение избранному господину, становятся Иными. Только в отличие от обращённых оборотней, они становятся таковыми добровольно, и властвовать над ними может не только тёмный, но и светлый маг. Знаю об этом не понаслышке, поскольку однажды лично присутствовал в качестве свидетеля на хоммаже — церемонии инициации, чем-то напоминающей посвящение в рыцари. Очень хорошо помню, как всё это происходило. Середина девяностых прошлого века, февральская звёздная ночь, полуразрушенных цех завода имени Куйбышева. Посреди цеха, образуя круг, стоят с горящими факелами в руках двадцать два свидетеля из числа местных посвящённых. В центре круга — светлый маг Сергей Архипович Белов и его будущий хомм, высокий юноша со смышлёным лицом и романтическим взором. Какое-то время вокруг царит неестественная тишина, потом начинает звучать симфоническая музыка. Сначала тихо звучит, потом всё громче и громче. И вдруг резко обрывается. В этот момент по знаку Устроителя, чей лик скрыт железной маской, неофит подбирает полы своей чёрной хламиды, опускается на колени, вкладывает соединённые руки в ладони высокопоставленного кондотьера и громко, так чтобы слышали все присутствующие, произносит: «Сир, отныне я становлюсь вашим человеком». За этим следует присяга и ритуальный поцелуй в знак верности, после которого маг передаёт своему будущему слуге шпагу и десертную мельхёровую ложку, что, видимо, означает символическое принятие и в личную гвардию, и в семью. На этом публичная часть церемонии завершается. Свидетели гасят факелы, а маг и его новоиспечённый хомм удаляются для совершения сакрального ритуала. Возвращаются они через десяток минут уже связанными неразрывными магическими узами. Дальше, как обычно: фуршет, вино рекой и славословье здравниц. Вот так всё это было.
Да, всё было тогда именно так. А три года спустя Архипыч отпустил, что бывает крайне редко, своего хомма на волю. Вернул ему душу. Почему он так сделал, не знаю. Сам не говорит, а я не расспрашиваю. Слухи ходят разные, и такие, и этакие, но я не верю не тем и не этим. Давно решил для себя: сделал он так и сделал. Точка. Нефиг нос совать.
Ну и вот, что касается хоммов. Поскольку хомм с одной стороны подчинён воле господина, а с другой — обладает некоторой свободой воли, просчитать алгоритм его действий, всё равно, что угадать дальнейшую траекторию полёта пули со смещённым центром тяжести после того, как она попала в цель. Поди найди такого.
Поначалу у меня возникла идея устроить полноценную засаду в кабаке у Жонглёра, но, хорошенько поразмыслив, я её отверг. Надежда на то, что в ближайшие сутки горбатый карлик появится там ещё раз, имелась, конечно, но вероятность такого события показалась мне незначительной. С другой стороны заглянуть к Жонглёру всё-таки стоило. Не для того, чтобы пропустить стаканчик-другой, нет, но чтобы расспросить с пристрастием Кешу Крепыша. Вполне могло так оказаться, что подавальщик знает что-нибудь интересное о горбатом слуге колдуна. У ребят из сферы обслуживания глаз намётанный, иной раз примечают такое, на что другие в жизнь бы внимания не обратили. Имея это обстоятельство в виду, я всё же решил немедленно смотаться на улицу Чехова. Однако уже через несколько минут это решение своё изменил. И на то была веская причина.
Дело в том, что на подъезде к городу закрутилось вдруг в моей голове смутное ощущение, что я знаю больше, чем схватываю умом. Ощущение было смутным, но навязчивым. Настолько навязчивым, что я не выдержал и остановился возле придорожного кафе. Нашарив в бардачке Чётки Призора За Случайной Мыслью, закрыл глаза, отрешился от всего суетного и стал перебирать щербатые нефритовые шарики. И как только побежали они по кругу, тотчас стали всплыть на поверхность сознания и кружить в хороводе собранные к той минуте сведения. А когда хоровод распался, факты стали цепляться друг за друга, выстраиваясь в различные, порой самые неожиданные комбинации, из которых прежде всего выделялась такая вот.
Наши дни. Россия. Где-то посреди Сибири. Некий таинственный хомм встречается с поэтом Бабенко и, преследуя коварную цель, заставляет последнего пристроить отравленные жестоким проклятием стихи в литературный альманах «Сибирские зори». Дело у Бабенко выгорает, и стихи попадают в номер. При этом гибнут (кончают жизнь самоубийством) все те, кто так или иначе участвовал в подготовке стихов к печати. Все гибнут, без исключения. В том числе и сам Бабенко. Тем временем из деловой поездки возвращается редактор «Сибирских зорь» господин Холобыстин. Узнав о внезапной и трагической гибели сразу трёх своих сотрудников, он решает, что коллектив редакции проклят и не без помощи мага Михея Процентщика обращается в специализирующиеся на подобных случаях сыскное агентсво. В результате заколдованный журнал попадает к нагону Хонглю, который в свой черед немедленно приступает к частному расследованию. Дальше — больше. По ходу дела нагон Хонгль знакомится с отравленными стишками, и чуть было сам не погибает. От полного развоплощения в Запредельном спасает его, стыдно сказать, загадочная кошка Красопета, непонятно откуда пришедшая и непонятно куда ускакавшая. Но и это ещё не всё. Вскоре выясняется, что под угрозой находится жизнь ни в чём неповинной девушки по имени Лера, и теперь нагон Хонгль вынужден из кожи вон лезть, чтоб спасти её от смертельного проклятия. Вот такую вот чёткую — шарик за шариком, да всё по ниточке — помогли мне выстроить Чётки последовательность событий.
И теперь так. Известен способ, с помощью которого совершенно преступление, известен исполнитель. Не известен заказчик и не понятен мотив. Каков мотив — вот что важно понять. Зачем, спрашивается, некий великий или высший маг тёмной масти поручил своему личному хомму устроить массовую бойню? Вот вопрос — зачем? По приколу? Для того чтобы выиграть некое дурацкое пари? Ради понтов, которые, как известно, дороже Силы? Нет, не может всего этого быть. Среди великих и высших магов мудрецов, конечно, не так чтоб шибко много, но и откровенные дураки встречаются крайне редко. Практически нет их на магическом олимпе. Так уж этот мир грамотно устроен, что дураки до вершины не доползают, по пути отсеиваются, отбраковываются. Естественный отбор, однако. Ну и что из этого следует? А следует из этого вот что: никакие глупости в счёт принимать не стоит, не шутки тут дяди шутят. Никакой клоунады. Никаких розыгрышей. Мотив очень конкретен и предельно серьёзен.
К тому времени, как Чётки пробежали одиннадцатый круг, я отверг многие возможные мотивы и предположил, что существует некий омерзительный и далеко идущий план, для реализации которого злодею понадобилось устранить (убить, развоплотить, стереть с лица Земли) определённую персону. Не всех, как можно было бы предположить, и как я решил поначалу, а только одного. Одного единственного. Что же касается всех остальных, то они попали под огонь случайно. Впрочем, может и не случайно. Возможно, злодей пытался таким образом скрыть свои истинные намеренья. И если это всё так, то сам собой напрашивается вопрос: кого именно хотел изувер устранить? Кто является главной жертвой? Кто цель? Поэт Бабенко? Писатель Холобыстин? Кто-то из сотрудников редакции? Неизвестный мне работник типографии? Какой-нибудь подписчик-читатель? Лера? Кто-нибудь ещё? Кто? Кто из этих, ничего не ведающих о другой реальности, профанов мог заслужить атаки со стороны высшего тёмного или даже великого мага? Ну же — кто? Мой ответ был таков: никто. Никто из них не мог быть целью. Все они не при делах. И только с одним из пострадавших было не всё так просто. С подвергнутым проклятию, но спасённым. С чудом выжившим. С тем, кто и не человек вовсе. С нагоном Хонглем. Со мной любимым.
Так таки сделали волшебные Чётки своё дело, озарились светом понимания те углы сознания, где и так было ясно, как днём: припомнились мне слова чёрной провидицы. Как она тогда мне глупцу сказала? Если дословно, если ничего не путаю, то так: «Берегись, дракон, каблук уже сломан». Именно так прозвучало её предупреждение. И нет никакой двусмысленности в этих словах, сообщение передано практически открытым текстом. Ни кому-нибудь, а лично мне, по мнению старой ведуньи, угрожала опасность. И если не отмахиваться дубиной тугодумия от очевидной семантической связи, существующей между словами «каблук» и «башмачница», то не будет в том ничего зазорного, чтоб предположить: целью атаки неизвестного мага является нагон по имени Хонгль. И скорее всего не сам по себе (нафиг он кому нужен сам по себе), а как нагон дракона, который является одним из хранителей Вещи Без Названия. Проще говоря: какой-то мерзавец предпринял атаку на Хранителя, чтобы овладеть архиартефактом, обладать которым никто из смертных ни в коем случае не должен.
Чем не версия? Нет, вовсе я не эгоцентрист, считающий, что весь мир крутится вокруг него. Как раз наоборот. Но, будучи частью дракона-Хранителя, при любых раскладах обязан думать о таких вещах. И даже в первую очередь о таких. И очень плохо, что не подумал сразу. Теперь, слава Силе и Чёткам, исправился. Одно мне было не понятно. Как в эту версию вписывается нападение вампиров? Никак это нападение в эту версию не вписывалось. Выпадало. Это всё равно как если бы во время исполнения симфоническим оркестром «Императорского вальса» Иоганна Штрауса на сцену филармонии выскочила бы Надежда Бабкина со своими крепостными крестьянами. Натуральная эклектика. Ей-ей. И со спасителями моими был форменный затык. Кто такие? Откуда взялись? Кошка та ловкая. Потом этот мотоциклист в чёрном. Ни фига не понять. Бегали нефритовые шарики по кругу, бегали, но разъяснение этих моментов таинственной истории на ум так и не пришло. Не складывалось пока уравнение.
Зато всплыла зацепочка, которая всё это время подспудно дербанила мой растревоженный ум. И зацепочка эта звалась «Михей Процентщик». Именно про него, самого сильного и самого бездарного в нашем городе мага, всё это время мучила меня исподволь безотчетная мыслишка. Ведь ни кто-нибудь, а именно он, посвящённый, известный в миру профанов как Михаил Петрович Лымарь, владелец шикарной антикварной лавки, законопослушный налогоплательщик и дисциплинированный избиратель, направил ко мне господина Холобыстина. Это именно он зачем-то соврал последнему, что я могу в лёгкую отменить смертельное проклятие. Это именно он, по словам эгрегора Кики, где-то разжился на днях египетским крестом. Надо сказать, что вот этот вот последний факт меня особенно заинтриговал. Кика утверждал, что источник жизненной энергии находится в активном состоянии, но я точно знаю, что наполнить такой мощный артефакт Силой способен только великий или высший маг. Ну и кто этот маг? Не искомый ли злодей? И уже засовывая Чётки в бардачок, я решил: вот к кому мне в первую очередь следует заглянуть. К Михею Процентщику.
Ну а у нас, драконов, так: сказано — сделано. Тридцать пять минут, и вот я уже подъезжаю к жилому дому на углу Российской и Марата. В подвальном помещении этого здания дореволюционной постройки и располагается двадцать последних лет лабаз Михея.
Отсчитав одиннадцать ступенек, я спустился в небольшой зал, где, как и прежде, терпеливо дожидались своих ушибленных на всю голову покупателей все эти странные вещи: бронзовая скульптура-лампа «Женщина-мышь», саквояж докторский из бизоньей кожи, ноты оперы «Die Kunigen von Saba», членский билет ленинградского спортивного клуба «Зенит», статуэтка «Коза и семеро козлят», часы корсетные, треснутый в двух местах мотоциклетный шлем с надписью «Хирург», сахарница серебряная конца восемнадцатого века, брошь золотая с бриллиантами в футляре начала двадцатого и ещё много-много-много всяких ненужных в повседневном быту штуковин.
Поскольку времени не было, я на этот раз изменил своим привычкам и ничего рассматривать не стал, просто спросил у продавщицы, на месте ли Михаил Петрович. Зная меня, как знакомца хозяина, ничего худого девушка с глазами овцы, но взглядом пастушки, не заподозрила, оторвалась на секунду от потрёпанного журнала «Вонг» и вяло махнула в сторону служебного выхода. Это означало, что хозяин на месте и, как обычно, торчит у себя в кабинете. Пожелав ей в женихи непьющего и некурящего оператора шагающего экскаватора, я прошёл несколько метров тёмным, захламлённым коридорчиком и без стука ввалился в нору жирного скряги.
Кабинет Михея Процентщика — место занятное. Особенное место. Собственно здесь, в этой тёмной, сырой комнатушке, и хранит он главное своё богатство — Силу. Само собой разумеется, хранит он Её не в открытом виде (как Её в открытом виде хранить, знают лишь великие), а в различного рода артефактах. Много он скопил их за долгие годы жизни. Стеллажи и полки просто-напросто ломятся от бесчисленных амулетов, пентаклей, талисманов, подвесок, бус, ожерелий, перстней и браслетов. От старинных манускриптов, от магического оружия, от ритуальной посуды. От тех предметов, которые принадлежали когда-то великим магам, знатным алхимикам и древним шаманам: жезлов, печатей, вееров, зеркал, магических кристаллов, реторт, колб, пинцетов, курительных трубок и прочего, прочего, прочего. Чего тут, в этой сырой и тёмной комнатушке, только нет. Всё есть. Включая и различные артефакты свойств, наподобие Чаши Долголетия и Флейты Крысолова. Мой набитый артефактами сундук, который храню в Подземелье, против склада Процентщика — всё равно что ночной ларёк против хранилища государственного резерва. Даже сравнивать смешно.
Всякий раз, как попадаю сюда, сначала охаю от восхищения и воздействия статической Силы, а когда прихожу в себя, думаю: эх, эту бы Силу да на благие дела. Сколько народа осчастливить можно с помощью такого богатства, скольких больных на ноги поднять, скольких из беды вытащить, скольких от всяких несчастий-злосчастей уберечь. Но фиг там. Ни за что и ни на что не потратит Михей свою Силу. Даже на себя тратит какие-то крохи. Жадюга он. Скупердяй. Психически ненормальный на этот счёт дядька.
Впрочем, даже пожелай он на что-нибудь полезное нажитую ростовщичеством Силу потратить, ни фига ведь не сумеет. Он самый сильный маг города, но уровень его магического мастерства близок к нулевому. Импотент он в этом плане полнейший. Такой вот парадокс. А как иначе? Магически уровень никак не зависит от количества Силы, уровень — качественная способность использовать Силу. Так и только так. Михей со всем своим чудовищным богатством ни на что не способен, когда как высший светлый маг, имея грамульку Силы, может одной буханкой насытить толпу голодных. Что способен с этой грамулькой устроить великий, даже и представить страшно.
Михей сидел за столом в глубине кабинета и что-то рассматривал через увеличительное стекло гигантских размеров. За то время, что я его не видел, ростовщик стал, кажется, ещё толще. Не человек, а ходячее пособие диетолога: каскад подбородков, пузо, на котором еле сходится жилетка, и одышка при каждом движении.
Увидев меня, Михей вопреки моим ожиданиям не испугался. Но и не обрадовался. Скорее удивился.
— Ба! — прогудел он своим оперным басом. — Какие люди!
Я глянул себе за правое плечо, глянул за левое, и развёл руками:
— Какие люди, Михей? О чём ты?
Процентщик понимающе хмыкнул и изобразил рукой приглашающий жест:
— Проходи, Егор, не стой на пороге. — А когда я оседлал приставленный к столу шаткий венский стул, натянул на лицо лживую улыбку и спросил с преувеличенной веселостью: — Знаешь, как отличить дракона от единорога?
Я пожал плечами:
— Как?
— Просто. Последние предпочитают непорочных.
Сказал и натужно расхохотался.
— В чём юмор? — поинтересовался я.
И уставился на него в упор.
Михей поперхнулся очередным ха-ха, ничего не ответил, отвёл взгляд и стал смущённо поправлять прядки на лысине. Потом опомнился и, глядя куда-то над моей гоовой, спросил:
— Чего зашёл? По делу или так?
— Мимо ехал, — ответил я. — Подумал, дай зайду.
— Соскучился?
— Типа того.
На этом вопросы у Михея иссякли. Повисла пауза. Процентщик занервничал и стал постукивать пальцами по столешнице стола. Почувствовав, что настало время взять инициативу в свои руки, я привычным движением поправил очки на переносице и спросил как можно беспечней:
— Чем занят?
Нейтральный вопрос Михея явно обрадовал и не обременил.
— Да тут вот монету предлагают, — облегчённо выдохнув, ответил он. — Уже больше часа с ней вожусь.
С этими словами он передал мне металлический кружок, в котором я узнал гривенник, какие ходили в здешних краях в девятнадцатом веке. Монета как монета. На аверсе вензель Екатерины Второй в обрамлении лавровой и пальмовой ветвей. На реверсе — два соболя, встав на задние лапы, удерживают овальный щит, увенчанный короной. Внутри щита указан номинал. И вокруг всей композиции обрамляющая надпись «Сибирская монета».
— В чём трудность? — повертев монету, спросил я.
— Отчеканена в шестьдесят третьем, — ответил Михей. И заметив по моей реакции, что эта информация мне ни о чём не говорит, добавил: — В том году и Санкт-Петербургским монетным двором выпускались, и Нижне-Сузунским.
Я пожал плечами:
— А разница?
— Огромная, — всё больше втягиваясь в тему, пояснил Михей. — Если отчеканена Санкт-Петербургским, значит, образец. Это совсем другая цена по каталогу.
— Ну и как отличить?
— Вообще-то, если по уму, эксперту нужно показать. Для эксперта отличить, никакого труда не составит. Дело в том, что Нижне-Сузунский монетный двор использовал сырьё с Колыванских рудников. Медь оттуда шла с приличной долей серебра и золота.
Закрыв глаза, я тщательно потёр монету, а когда глаза открыл, заявил с уверенностью:
— Я тебе, Михей, безо всякого спектрального анализа скажу: выпущена Нижне-Сузунским.
— Думаешь?
— Утверждаю.
— Как определил?
— Я же старый алхимик.
— Носом чуешь злато-серебро?
— Нутром.
Какое-то время Михей соображал, шучу или нет, решил, что не шучу, и засиял:
— Вот спасибо тебе, Егор. Вот удружил.
— С тебя кефир и булочка, — с самым непринуждённым видом пошутил я и показал на стоящий возле перекидного календаря мельхиоровый предмет, весьма похожий на обычный подстаканник: — А это что такое?
— Как что, — усмехнулся Михей. — Подстаканник.
— А почему так Силой от него прёт? Даже тут, среди всего остального, выделяется.
— А потому что вот такой он. Смотри.
Процентщик подхватил артефакт и, удерживая на вытянутой руке, кинул в него подвернувшийся ластик. Ластик, вопреки закону всемирного тяготения, снизу не вылетел. Мало того, он вообще исчез. Чтобы усилить эффект, Михей, как самый заправский уличный фокусник, покрутил чудесный предмет и так и сяк, показывая, что ластик исчез с концами.
Восхищаясь, я поцокал языком.
— Круто? — подмигнул мне Михей.
— Круто, — согласился я, взял подстаканник из его рук, покачал, будто проверяя насколько тяжёл, а когда поставил на стол, спросил: — Откуда, если не секрет?
— Рыбные места знать нужно, — поначалу навёл тумана толстяк, но потом рассказал: — Выкупил по случаю у одной старушенции. После войны служила проводницей в том самом скором «Москва-Владивосток», который, помнишь, в мае сорок седьмого, не доехав сорока километров до Читы, покинул Пределы, а через трое суток появился на безымянном полустанке под Уфой.
— Подстаканник, надо понимать, с того самого поезда? — предположил я.
— Правильно понимаешь, — широко улыбнулся Михей. — Стырила. И вот теперь у меня.
— Везёт же некоторым, — сказал я вроде как с завистью. И словно между прочим поинтересовался: — Говорят, ты ещё и крестом из пирамиды недавно разжился?
Улыбка моментально сползла с лица моего собеседника, он испугано моргнул и закашлялся. Не переставая кашлять, схватил пластиковую бутыль с минеральной водой, приложился и только тогда, когда в бутылке не осталось ни капли, выдавил из себя глухо:
— Кто тебе такое сказал?
— Земля слухами полнится, — ответил я уклончиво. — А что, врут?
— Да нет, — не придумав, как отвертеться, буркнул Михей и начал тереть вмиг запотевшие ладони.
— Покажешь? — спросил я. — Жуть как хочется посмотреть. Столько слышал всякого, но в руках ни разу не держал.
Михей замялся:
— А тебе это обязательно нужно?
— Обижусь, — пригрозил я. — Всерьёз обижусь, Михей.
Он шумно вздохнул, с тоской поглядел на дверь, будто оценивая возможность побега, понял, что скрыться не выйдет, и нехотя выдвинул ящик стола. Поковырялся там немного и вытащил небольшой, длиной не больше спичечного коробка, металлический крест с верхним лучом в форме петли. Подержал на весу и нехотя положил на середину стола.
Это и на самом деле был Анкх, самый главный амулет древне-египетских жрецов. Ещё его называют Крестом жизни, Ключом к Нилу и Знаком знаков. В нём объединяются два символа — крест, как символ жизни, и круг, как символ вечности. Вместе эти символы обозначают бессмертие. Не смотря на простоту, нет знака более могущественного по своей сути, чем этот. Для умелого мага Анкх — ключ к дополнительному знанию. Для такого пустоцвета, как Михей, — всего лишь аккумулятор Силы, ну и, быть может, ещё престижная цацка.
— Забавная штучка, — произнёс я и потянулся к кресту.
— Не то слово, — хвастливо сказал Михей, спешно накрыв крест рукой. — Ни откуда-нибудь, из пирамиды.
— Хеопса?
— Нет, из той, что значится под номером двадцать девять.
— Не слышал про такую.
— Я проверял — есть. Вернее самой-то уже нет, но остались фундамент, подземная галерея и гробница.
Не без труда отодрав ладонь Михея, я взял крест и, так же как в случае с монетой, закрыл глаза. А когда открыл, поинтересовался:
— Что за него отдал?
— Перо Култухты, — помявшись, ответил Михей.
— Переплатил.
Он нахмурился:
— Не понял. С чего ты взял?
— Явно новодел, — поставил я диагноз и небрежно кинул крест на стол. — Вещица, спору нет, крутая. Сделана великим для великих. И Силы в неё закачано по самое не балуй. Но сделана-то из брасса.
— Из чего сделана? — заволновался Михей.
— Из брасса. Сплав такой. Восемьдесят четыре процента меди, пятнадцать — цинка и один — алюминия.
— Ну допустим. И что с того?
— Да, собственно, ничего. Просто такой сплав во времена фараонов не варили. Уровень технологий не позволял.
— Уровень технологий… — Михей от напряжения стал покусывать пухлые губы. — Слушай, дракон, а, может, это самое. Может, тут без технологий? Может, алхимия?
Я расплылся в издевательской улыбке:
— Шутишь?
— Почему, шучу? Нет. Получали же некоторые золото из ртути. Почему этот твой брасс не могли получить?
— Золото из ртути? Кто это получал золото из ртути?
— Как это «кто»? Аугурелло, Георг Агрикола, Джузеппе Борри, граф де Сен-Жермен, другие маги.
— Ты в это веришь?
— Ну как… — Михей растерянно захлопал глазами. — А что, разве такого не было?
Я поманил его пальцем, и когда наклонился, сказал полушёпотом:
— Слушай самую главную тайну алхимиков. Золото с помощью магии — это разводка для лохов. Золото из ртути можно получить только с помощью ядерного синтеза. Поезжай в Чикаго, зайди в Технологический музей, убедись. Именно там лежат тридцать пять миллиграммов золота, полученного в реакторе из ста миллиграммов ртути. И золото то гораздо дороже золота.
— Вот чёрт, — простонал Михей и огорчённо хлопнул ладонью по крышке стола.
— Не переживай, Михей, — произнёс я сочувственно. — И на старуху бывает проруха, Я вот тоже на днях обмишурился. Взял в «Бонусе» фильм Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней», домой прихожу, коробку открываю, а там «Ловец снов» по Кингу. Представляешь? Пришлось возвращаться, менять. Может, и ты ещё встретишь своего горбатого, наедешь на него и всё переиграешь.
— Да где я его теперь встречу? — обронил Михей с досадой.
Сообразив в следующую секунду, что обмолвился, он попытался вскочить. Но не успел. Я толкнул стол и прижал гадёныша вместе с креслом к стене. Крепко прижал, надёжно, так чтобы даже дёрнуться не мог. И приказал:
— Рассказывай.
— Что рассказывать?! — взвизгнул Михей.
— Чей был хомм? Откуда приехал?
— Не знаю.
Выхватив кольт, я запрыгнул на стол и приставил дуло к голове толстяка:
— Не шути со мной, не таких обламывал.
— Честное слово, не знаю, — вращая глазами от испуга, простонал Михей.
— Ладно, не хочешь по-хорошему, — сказал я, — тогда поговорим по-другому.
Вернув кольт в кобуру, схватил одной рукой прожорливый подстаканник, а другой — съехавшую к самому краю стола сибирскую монету. Медленно поднёс монету к жерлу бездны и ещё раз спроси:
— Не знаешь?
Михей упорствовал и качал головой — нет, нет, нет.
— Жаль, — произнёс я разочарованно и отпустил монету.
Михей аж взвыл, так ему жалко её стало.
А я уже занёс над дырой египетский крест и повторил вопрос:
— Знаешь? Или нет?
Михей застонал, прижал руку к сердцу и зажмурил глаза, чтоб не видеть, как пропадёт дорогая штучка. Но тут же глаза распахнул и заговорил плаксивым голосом:
— Ну чего ты пристал, дракон. Ничего я не знаю. Горбун, когда крест отдал, только одно и попросил, чтобы я Холобыстина к тебе направил.
— Зачем?
— Да не спрашивал я.
— А как его найти? Горбуна?
— Не знаю. Ну, честно, не знаю. Появился из Запредельного и ушёл туда же. Даже имени своего не сказал.
А ведь точно ни хрена не знает, подумал я. Перестал корчить изуверскую гримасу, кинул артефакты на стол, спрыгнул и, слова больше не произнеся, направился к выходу. На пороге оглянулся и увидел, как Михей, тараща глаза, надувая щёки и делая пассы руками, безуспешно пытается наслать на меня в отместку за унижение какую-то магическую дрянь.
— «Чёрную магию для чайников» купи, — посоветовал я, презрительно сплюнул и вышел вон.
Почти дошёл по коридору до торгового зала, как вдруг подумал, если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?
И чуть ли не бегом вернулся в кабинет.
Михей уже выбрался из-за стола и занимался тем, что собирал упавшие на пол артефакты. Увидев меня, так и замер в согнутом положении. Ничего я ему не стал объяснять, просто выдернул из стоящей в углу швабры черенок и проверил им крепость дверного косяка — хрясть! Дальше было весело. Михей метался по кабинету, опрокидывая стеллажи, и орал как резанный, а я лупил его. Лупил от души и лупил не жалея. А чтоб заглушить истошные крики, распевал во всё горло «Волшебника-недоучку». И когда десять минут спустя отъезжал от лавки, всё ещё мурлыкал, не будучи в состоянии остановиться, песенку про удивительный сон, где плачут коза и слон, плачут и говорят: «Что с нами сделал ты?»
Глава 17
Слежку я обнаружил сразу, как только выехал с Российской на Степана Разина. Признаться, особого труда обнаружить её не составило, уж больно нагло сидела на хвосте эта серебристая «хонда» с тонированными стёклами. Тем не мене — мало ли — себя всё-таки проверил. Резкое ускорение, столь же резкое торможение, тупой проезд на красный, поворот без предупредительного сигнала, ещё парочка приёмов из подобного арсенала — «хонда» повторяла все эти мои безобразные кунштюки один в один. Шла за мной точно нитка за иголкой. Что говорило не только о нахальности её водителя, но и о высоком его мастерстве.
Играя таким вот образом с преследователями в кошки-мышки, я свернул сначала на улицу Марата, потом в районе драмтеатра на Карла Маркса, потом на бульвар Гагарина, а когда докатил вдоль набережной до детской больницы, подумал: какого чёрта! Почему не решить всё здесь и сейчас? Никаких серьёзных причин, чтобы не решить всё здесь и сейчас, не было. Поэтому глянул, нет ли поблизости машин ГАИ и ППС, прижался к обочине, и, вырвав из кобуры пушку, выскочил весь такой решительный под свет уличных фонарей. Фонари, кстати говоря, уже вовсю сражались с навалившимися на город сумерками и тем подзадоривали.
Ну и вот. Едва не срываясь на бег, сделал я несколько шагов в сторону остановившейся в десяти метрах от меня «хонды» и тут выяснилось, что задушевная беседа в планы моих преследователей отнюдь не входит. Задумали совсем другое. Коварное. Подлое. Истошно взвизгнув шинами, серебристая машина сорвалась с места и устремилась ко мне с явной целью сбить к хвостам собачьим. И не иначе.
Выстрелить я не успевал. Да и толку-то было стрелять? Эта японская колымага и с дохлым водителем сделала бы своё убойное дело за милую душу. Не со зла (зла не ведает железяка), а по беспощадным законам тупой инерции.
Короче, вот я. Вот летящие на меня полторы тонны металла. И что делать? Очевидное. Сигать через кусты, отгораживающие сплошной стеной проезжую часть от пешеходной дорожки. Благо они там аккуратно пострижены под линейку на высоте чуть больше метра. Короче говоря, ух, ох, и — старость не радость — взял я корявым перекидным прыжком эту вовсе не олимпийскую высоту. А когда вновь оказался на ногах, «хонда» уже пыталась влиться в поток встречной полосы. Проорав что-то нечленораздельное, но шибко грозное, я, вновь царапая лицо и руки о колючие ветви, перебрался через кустарник, бросился к своей машине, и уже через несколько секунд пустился в погоню.
Убивать фору на запруженных вечерних улицах большого города, задача не из самых сложных. Настиг я диких (в том, что это именно отмороженные ребятишки Урмана, даже не сомневался) достаточно быстро, уже на перекрёстке возле краеведческого музея. Там как раз для нашего потока загорелся красный, и справа на встречную полосу поползли красная фура с символикой «Кока-колы» на борту, а за ней — вызывающе роскошный (консерваторское фортепьяно, да и только) «лексус» траурных цветов.
«Хонда» нервно рычала, била копытом, но стояла, деться ей было некуда: сзади прижимал я, впереди маячил микроавтобус какой-то городской технической службы, в соседнем ряду машины стояли плотно и мешали смыться вправо. Я уже, признаться, находился в предвкушении скорой расправы, бормотал на мотив оперного героя что-то вроде «Ага-ага, приплыли ребятишки, сейчас-сейчас чехлить вас будем» и прикидывал, как и где их прижать потолковее. Но фиг там. В какой-то момент «хонда» под возмущённые фа-фа законопослушных участников дорожного движения неожиданно ловко вывернула из ряда влево, нырнула через две сплошных полосы разметки в узкий интервал между фурой и «лексусом», выехала по дуге на тротуар и помчалась на всех парах к реке, на площадку, где стоит памятник Александру Третьему. В результате столь лихих и — вот уж точное слово — диких выкрутасов в зад резко затормозившему «лексусу» воткнулась ползущая следом «девятка» и всё движение встало. Воспользовавшись переполохом, я ударил по газам и — простите, извините, виноват, пардон — повторил дерзкий манёвр «хонды».
А та уже, распугивая беспечно фланирующих по набережной праздных горожан, неслась к узкой насыпи, ведущей прямиком на остров Юность. Поначалу это меня даже обрадовало, поскольку из такого мешка деться вампирам теперь было реально некуда. И бросая болид вниз по ступенькам, ведущим к перешейку, я был убеждён, что теперь уж точно прижму гадёнышей к ногтю. Они в тупике, я на взводе, в обойме кольта достаточное количество заговорённого серебра — что ещё нужно, чтобы получить ответы на все вопросы? Ничего.
Однако и на этот раз мои хрустальные чаяния разбились о жестокий бетон реальности. До острова оставалось не более тридцати метров, как откуда ни возьмись — да чтоб тебя! — объявился между «хондой» и моим болидом пацанёнок с удочкой. Увидев прущий на него автомобиль, он заметался, словно высвеченный фарами заяц, и дальше всё как в замедленном и дурном кино: я туда и он туда, я сюда и он сюда. Нет, предчувствую, не разминёмся, зацеплю козявку. И очень хорошо понимаю, что надо предпринимать нечто срочное, поскольку рыбачка мама дома ждёт, а маму огорчать нельзя. Мам никогда и ни при каких обстоятельствах огорчать нельзя. И на то, чтобы маму не огорчить, у меня доли секунды. Рычу от напряжения и так решаю: тормозить смысла нет, нужно уходить и уходить, допустим, вправо. Сказано — сделано. Руль быстро-быстро-быстро по часовой до упора, ну а дальше ясно: никчёмное ограждение к чёрту, колёса лижут воздух, и вот уже мой ни в чём не повинный болид летит над холодною тёмною водой.
И, признаться честно, занимал меня в те грустные мгновения лишь один вопрос: скидывать куртку и туфли или попробовать выплыть так?
Но вопреки моим ожиданиям, основанным прежде всего на законах обыденной реальности, падения в воду не произошло. Произошло удивительное. А именно: откуда-то сверху и справа вылетел вдруг молнией и, заложив крутой вираж не хуже какого-нибудь небесного перехватчика, оказался перед носом моей машины мотоцикл. Тот самый. Красный. С человеком в черном за рулём.
Но это ещё было не самым удивительным. Самым — это когда «ямаха», раньше меня коснувшись волн, понеслась по воде яко посоху. Вернее уже, конечно же, не по воде, а по льду. Это я понял, когда вместо бултыха — замри и отомри, мгновение! — раздался отчаянный вскрик амортизаторных стоек, а следом — яростный и характерный треск ледяного наста.
Что делать теперь, я, ситуацией не владея, но собой — вполне, сообразил моментально. Приказал себе с известной долей отстранённости: спокойно, дракон, держись строго за тем вот уносящимся вдаль чёрно-красным пятном, жми на газ и ни о чём не думай.
Далее уже не как в кино, а как во сне: по узкой полоске грубого шершавого льда, порождённого непостижимого для моего ума Силищей, мы, обогнув остров, понеслись к левому берегу реки и уже где-то, наверное, через две-три минуты сумасшедшей гонки преследования успешно финишировали, вылетев на бетонные плиты в районе причала.
Первым делом я закурил. Затем заглушил движок, выбрался из машины, запрыгнул на тёплый капот и глянул в сторону железнодорожной насыпи, туда, где продолжала тарахтеть «ямаха». В реальность происходящего всё ещё не верилось. Я даже — вот смеху-то! — зажмурил глаза, распахнул, вновь глянул — не привиделся ли мне чёрный на красном? Нет, не привиделся. Вот он.
На этот раз мой спаситель решил не сбегать. Заглушил двигатель, оставил седло и, никуда уже не спеша, направился ко мне. Когда он стянул с головы шлем, я чуть не поперхнулся дымом.
— Привет, дракон, — подойдя ближе, произнесла Варвара. Сняла краги, сорвала резинку, скрепляющие волосы, раскидала рыжие пряди по плечам и, мило улыбнувшись, спросила: — Угостишь даму сигареткой?
Я протянул ей курево и не преминул спросить:
— Кто ты, черт тебя возьми?
— Варвара я, — просто ответила она. Затем, щёлкнув пальцами, высекла огонь, прикурила и напомнила: — Ведьма из Свердловска, если позабыл.
Теперь я в это не верил. И не то от смущения, не то от растерянности (поди там разберись в себе, когда такое творится) стал ёрничать:
— Вот так вот, значит? Ведьма. Простая русская ведьма.
— Ну да, — поправив мизинцем помаду в уголке губ, подтвердила она. — Простая русская ведьма.
— Да неужели?
— А есть сомнения?
— Знаешь, чего как-то есть, — признался я и, махнув рукой в сторону реки, объяснил, на чём именно мои сомнения зиждется: — Согласись, чтоб такую вот дорогу жизни сходу учудить, это магом нужно быть о-го-го какого ранга.
— Переправа, переправа, берег левый, берег правый, — грустно улыбаясь, продекламировала она и не стала спорить: — Что да, то да, фокус затратный. Только это ничего не значит. Дело в том, что… Ладно, дракон, хотел — получи. На, смотри.
В следующий миг она вытащила откуда-то и предъявила мне служебные бляху.
Видал я уже раньше такие медные штуковины в форме варяжского щита. На этой абсолютно всё то же самое, что и на других: саламандра, застывшая в замысловатой позе, пятиконечная звезда с искривлёнными лучами и восьмизначный личный номер, начинающийся по древней традиции с трёх стилизованных под поросячьи хвостики шестёрок. Такую бляху в лавке для готов не купишь, такую заслужить нужно. И, прежде всего, нужно стать действующим агентом карагота — тайной службы ордена усмирителей Великого круга пятиконечного трона.
Правда открылась мне во всей своей полноте и, надо признать, здорово озадачила.
— Так ты, милая моя, агент Чёрного совета? — промямлил я одеревеневшим голосом. — И здесь по долгу службу?
— Так точно, дракон, — с достоинством ответила Варвара. — По долгу службы.
— Ну и зачем?
— Что «зачем»?
— Зачем в который раз меня спасешь?
Варвара, ловко запрыгнув на капот, уселась рядом со мной, затянулась и выпустила облачко дыма, которое тут же превратила в ночного мотылька. Мотылёк подёргался на месте, а потом, яростно замахав крыльями, устремился на красный свет семафора. Ведьма проводила фантомную пустышку насмешливым взглядом и наконец ответила:
— Приказ имею, вот и спасаю.
— Какой ещё приказ?
— Обыкновенный. Во что бы то ни стало обеспечить безопасность дракона Вуанга-Ашгарра-Хонгля.
— И кто тебе такое приказал?
Прежде чем ответить, ведьма вновь затянулась, отпустила на волю ещё одного мотылька, теперь размером побольше, после чего пожала плечами:
— А тебе не всё равно?
— Знаешь, как-то нет, — ответил я.
Она скосилась на меня удивлённо:
— Чудно. Обычно объекты защиты в суть происходящего предпочитают не вдаваться.
— Я не объект.
— Ах, вот как. — По лицу ведьмы скользнула секундная усмешка. — Тогда отвечу. Прикрыть золотого дракона, обитающего в городе Городе, приказал мне лично Жан Калишер. — Она сбила пепел с кончика сигареты, глянула не меня, пытаясь понять, какую реакцию произвели новость, не поняла ничего и толкнула плечом в плечо: — Ну что, дракон, жим-жим чуток?
Нет, я не испугался, лишь почувствовал: всё, кончилось искусство, задышали почва и судьба. И как только это почувствовал, ненадолго онемел. А когда вновь обрёл дар речи, спросил о том, о чём и должен был в первую очередь спросить:
— Скажи, подруга, а чего это вдруг претёмный меня так полюбил?
— Не лей пули, дракон, — вновь толкнула она меня плечом в плечо: — Сам знаешь, что дело не в тебе.
— Вот как. А нельзя ли с этого места поподробнее? Если не во мне, тогда, простите, в ком?
— Ни в ком, а в чём. В ней самой, в Вещи Без Названия.
Во мне всё сразу поднялось волной:
— Что? Что ты сказала?
— Глухой? — ухмыльнулась ведьма невесело.
И волна тут же отхлынула.
— Выходит, ты знаешь Тайну, — не столько спросил, сколько констатировал я после долгой паузы.
— К сожалению да, — вздохнула Варвара. — Теперь я часть мобильной обороны.
— А почему нет никого от Светлых? Проспали атаку?
— Извини, но в детали посвятить не могу. Не имею таких полномочий. Впрочем, сам всё скоро узнаешь.
— «Скоро» — это когда?
— В своё время.
Сообразив, что как ни пытай, ничего лишнего не сболтнёт, я спросил о другом. О тёмном. О непостижимом. О том, что не укладывалось в голове:
— Объясни дураку, как ты умудрилась в ту приснопамятную ночь одновременно в двух местах вампирам головы рубить? Раздоилась?
— Никто, кроме драконов такого не умеет, — напомнила она мне прописную истину. — У тебя в подъезде была не я.
— А кто?
— Ирма.
— Ирма? Эта девчонка сопливая?
— Не такая уж она и сопливая.
Ничего не понимая, я потряс головой, как лошадь, которой сунули в нос соломинку:
— Подожди. Вы же говорили, что она лишь недавно посвящение прошла. Я что-то пропустил?
Моя растерянность Варвару здорово развеселила:
— Старый, а так легко купился. На самом деле она уже пять лет как ведьма.
— Представление, значит, устроили? — хмыкнул я.
— Представление? — Ведьма задумалась, потом кивнула: — Можно и так назвать. Представление. Спектакль. Спектакль в рамках запланированной локализации. Между нами: Ирма через месяц возглавит местное бюро ордена. Способная девочка. Умная. Заводная. И крови не чурается.
— А Тайну знает?
— Нет. Это — нет. Про то, что один из Тайников находится в Городе, она ни сном, ни духом. К делу я её в тёмную привлекла. Тёмную в тёмную — незазорно.
Некоторое время после этих слов мы молча курили, а потом я признался:
— Чем больше получаю ответов, тем больше возникает вопросов. — Откинул в сторону окурок и спросил: — Ну а кошку Красопету кто так ловко сыграл? Ты? Или Ирма твоя?
Вторая миниатюрная комета унеслась в темноту вслед за первой, Варвара повернула ко мне лицо и, призывно улыбаясь, прошептала:
— Мур-мур, дракон. Мур-мур.
— Горазда на рожон переться? Страху не имеешь? Запредельное за фуфло держишь?
— Нет, конечно, боюсь, как все. Не дура. Но, знаешь… Как бы это… Короче, если по-простому, у моей киски, дракон, девять жизней.
Фраза прозвучала двусмысленно и, как мне показалась, содержала зашифрованный призыв к действию. А может, и нет. Впрочем, я не стал ничего расшифровывать и уточнять, а просто положил одну ладонь Варваре на плечо, второй обхватил затылок, развернул резко, привлёк к себе и нашёл её губы своими.
Через минуту мы уже были на заднем сиденье болида. Через три — путаясь в одежде, шептали друг другу всякую приятную ересь. Через пять — возвели чужое в ранг своего, а своё — в ранг чужого. Через семь — расплавились от наслаждения и слились в нечто единое. А через одиннадцать вновь разделились: я превратился в стон блаженства, а моя полюбовница, испытав череду бурных оргазмов и, видимо, окончательно потеряв голову, надрывно кричала. Что именно она кричала, я разобрать не мог, как раз в этот момент в сторону железнодорожного вокзала проносился состав с пустыми нефтяными бочками и заглушал своим грохотом все остальные звуки мира. А когда состав проследовал по назначению, Варвара уже не кричала, вырвавшись из умопомрачительного омута страсти, она в блаженном изнеможении пялилась в окошко. Я проследил за её немигающим взглядом и, продолжая со всей доступной мне нежностью (чем проявлял себя не сексуально озабоченным животным, но трансцендентной сущностью) поглаживать тёплую, упругую грудь, произнёс:
— Ты права, милая, луна нынче до безобразия красива.
Ведьма моргнула и прошептала:
— Скачет между облаков и будто зовёт куда-то. — И, помолчав немного, добавила: — Сучка серебряная.
— Алюминиевая, — поправил я.
— Думаешь?
— Точно.
— Почему так?
— Специфика региона.
— Правда?
— Угу. У кого-то серебряная, у кого-то стальная, а у нас алюминиевая. Киловатт всего пятнадцать центов, поэтому так. Впрочем, серебряная или алюминиевая, никакой разницы нет. Все луны, как известно, делаются в Гамбурге хромым бочаром. И независимо от материала делаются прескверно.
Помолчав, Варвара коснулась губами костяшек моих пальцев и сказала:
— Мне пора.
— Откровенно говоря, мне тоже, — щёлкнул я её легонько в ответ по кончику носа.
В следующую секунду мы засуетились и, честно поделив скинутые в пылу страсти шмотки, вскоре выбрались наружу. Варвара поцеловала меня на прощание нежно в щёку и направилась, собирая на ходу волосы в хвост, к мотоциклу. А я провожал её взглядом и думал: что это сейчас было для меня? Потеря или приобретение? Или то и другое одновременно? И решил: никакой разница. По любому потом будет больно.
Она была уже в седле, когда я её окликнул:
— Варвара! — И когда обернулась сказал: — Спасибо тебе.
— За что?
— За всё.
— Ну тогда и тебе.
Я сделал вид, что не понял:
— Мне-то за что?
— Было здорово, — без всякого жеманства ответила она. — На самом деле здорово. Как в последний раз. — И очень грустно улыбнувшись, добавила: — Впрочем, почему «как»? Реально — в последний. Ведь так?
Я ничего не ответил, лишь пожал плечами. А потом, чтоб скрыть волнение, спросил:
— Скажи, что значат три «М» на твоем плече?
— Магия, мужчины, мотоциклы, — объявила она своё жизненное кредо и задорно расхохоталась.
Я не поверил:
— А серьёзно?
— Mea maxima menda, — резко оборвав смех, ответила ведьма.
Я перевёл фразу с латыни («Моя величайшая ошибка») и пока соображал, каким мог быть просчёт, достойный постоянного о себе напоминания, Варвара уже натянула шлем. Прежде чем опустить зеркальное забрало она попросила:
— Послушай, дракон, а ты бы мог сегодня больше ни во что не вляпываться?
— Устала?
— Вроде того.
Я покачал головой:
— Прости, но ничего обещать не могу.
— Тогда — не прощаюсь, тогда — до свидания.
— Прости.
— Прощаю.
Она опустила забрало, толкнула педаль, выжала газ и, разбрасывая щебень из-под колёс, покатила на огни железнодорожного переезда, а я стоял и восхищался. Я всегда восхищаюсь женщинами, которым не нужно врать.
Когда Варвара скрылась из виду, я начал приходить в себя. И попытался вспомнить, куда вообще-то ехал. С трудом, но вспомнил. В кабак к Жонглёру, поговорить с Кешей Крепышом.
И, хотя в машине что-то опасно тарахтело, через полчаса я был уже на месте.
Народу в этот час в заведении было много и пришлось ждать, пока Кеша освободится. Наконец уловив момент, я подошёл к стойке, заказал коктейль и начал издалека:
— Как оно?
— По-разному, — философски ответил Кеша, не прекращая колдовать с ингредиентами. — То мы их, то они нас.
Он немного смущался. Не потому что был социофобом, а потому что не привык к расспросам. Хмельные посетители любят изливать ему душу, а тем, что у него на душе, интересуются редко. Кому интересен внутренний мир какого-то там бармена? Человеку интересен только его собственный внутренний мир. Да и не человеку, скажем прямо, тоже. Но лично я так считаю: выливаешь на чужую голову свои беды и проблемы, будь добр подставить и свою. Так оно честнее будет. Вот почему у меня с Кешей особые отношения. И благодаря таким отношениям, я знаю, что парень вовсе не простец, что парень себе на уме. Не многие из тех, с кем я знаком, сценарии для кино пишут. А вот Кеша Крепыш пишет. И не важно, что никто по этим сценариям ничего пока не снял, тут главное — пишет. Стало быть особенный.
Принимая от Кеши бокал с «Окровавленной Машкой» я поинтересовался заговорщицки:
— Накропал за последнее время чего-нибудь нового?
— Есть такое дело, — кивнул он.
— Поделишься?
— Реально интересно?
На самом деле время меня поджимало, хотелось сразу перейти к тому, зачем пришёл, но политес есть политес.
— А то, — кивнул я. — Конечно.
Глаза у Кеши тотчас загорелись, он облокотился на стойку, посмотрел налево, посмотрел направо, убедился, что никто не помешает, и начал вполголоса рассказывать:
— Это, Егор, будет ужастик. Представь. Наше время, ранняя осень, маленький провинциальный город, где все друг друга знают и все друг друга ненавидят. Главный герой — невзрачный, затюканный, прыщавый такой старшеклассник. Мало того, что он затюканный, так он у него ещё и проблема конкретная. Он, дурачок, влюблён в одноклассницу, а ей, первой красавице школы, его любовь до одного места. Он, конечно, пытается подкатить, объясниться, а она считает его уродом уродским и всячески избегает. Целую осень паренёк мучается, а потом наступает зима и тут — внимание, первая поворотная точка — девчонка подхватывает менингит и вскоре умирает. Насовсем умирает. То есть, насмерть. Дальше, понятно дело, отпевание в церкви, кладбище, слёзы-мимозы, всякие глупые речи. Паренёк после похорон основательно впадает в депрессию и потихоньку начинает сходит с ума. А где-то спустя полгода, уже летом, приходит однажды ночью на кладбище… Ну, представляешь, Егор, съёмку субъективной камерой: ночь, тучи по всему небу, изредка луна выглядывает, тени всякие неясные расползаются по могильным камням… Короче. Приходит он ночью на кладбище, откапывает подругу из могилы, притаскивает в отцовский гараж и отмывает водой из шланга. Потом усаживает её на дранный диван и говорит ей: «Вот видишь, милая, когда ты была живая, ты смотрела на других пацанов, а на меня не смотрела. А когда умерла, никому ты стала не нужна, только мне одному». И поцеловал её прямо в губы. И тут вдруг она такая оживает и говорит: «Ага, теперь вижу, какая я дура была». И стали они с той ночи жить как муж и жена. Дружно так жить, душа в… Ну, дружно, короче. И вот проходит положенное время, и у них рождается ребёнок. Потом ещё один. А потом сразу двойня. И все полуживыми рождаются. Она же мертвая, а он живой, поэтому дети и полуживые. Или полумертвые. Хочешь, так, а, хочешь, этак. Как хочешь, короче. Потом дети стали подрастать, выползать по ночам на улицу и — внимание, тут вторая поворотная точка — нападать на мелкий рогатый скот. А вскоре и на крупный. Паренёк видит, что как-то всё не так получается. Что не правильно всё как-то выходит. Что ещё немного, и детишки на людей начнут кидаться. И вот однажды ночью собирается с духом, берёт топор и кончает нафиг всех своих детей одного за другим. А на рассвете возвращается в гараж и начинает жену добивать, чтоб за детей не стала чего доброго мстить. Она, естественно, просто так себя прикончить не даёт, кидается в драку. И главное сильная такая, швыряет его по-всякому и в глотку всё время пытается вцепиться, чтоб перегрызть. Совсем, короче, озверела баба. Но паренёк в конце концов справляется. Домкратом он её, домкратом. А потом, чтоб уже наверняка, «болгаркой» на куски. Потом выкапывает огромную яму на заднем дворе, скидывает всех своих туда и землей закидывает. Потом кладёт сверху камень огромный, садиться на него и говорит: «Живым надо жить с живыми, а с мертвыми живым жить нельзя». И идёт домой весь в слезах. А тут луна. А он такой весь седой-седой. А потом луна уходит за облака. И темнота. И только стук каблуков по асфальту. И всё. Дальше уже только финальный трек и титры.
— Жесть, — после положенной паузы оценил я его синопсис. — Годится. В ту лузу. Мне очень понравилось.
Кеша посмотрел на меня, пытаясь прочитать по лицу, не вру ли. Ничего прочитать естественно не смог (не людям, пусть даже и посвящённым) читать лицо дракона) и спросил совета:
— Как мыслишь, стоит посылать?
— Обязательно, — кивнул я. — В прошлый раз кому отсылал? Роберту?
— Нет, Квентину.
— А вот теперь Роберту пошли. Название придумал?
— Пока нет. Думаю.
— Думай. Думай-думай. С этим делом торопиться нельзя. Название — это штука серьёзная. Полдела, можно сказать. — Я достал сигареты, прикурил, после чего вытащил две упаковки с Зёрнами Света и выставил на стойку. — Занычь. Воронцов зайдёт, отдай ему. Лады?
Кеша кивнул:
— Не вопрос, Егор.
И быстро смахнул баночки из-под поливитаминов куда-то под стойку.
Настала пора переходить к главному. Я допил коктейль, пододвинул к себе пепельницу, достал сигареты и сказал:
— Вот ещё чего, Кеша, хотел у тебя спросить…
Тут к стойке, вихляя бёдрами, подошла кошмарно раскрашенная лярва, и я осёкся. Лярва заказала Кеше «отвёртку», развернулась ко мне и подмигнула:
— Не желаешь расслабится, дракон?
Я в ответ только поморщился.
— Сволочь, — ощерилась лярва.
— Шагай, — огрызнулся я.
Лярва фыркнула и, подхватив выданный бокал, отвалила.
— Как по мне, так эти твари хуже диких, — кивнул я в её сторону. — Всех бы до одной отправил домой, в Запредельное.
На что Кеша справедливо заметил:
— Пока есть спрос, предложение не иссякнет.
— Это точно, — не стал грешить я против истины. Вытащил из пачки сигарету, закурил и наконец-то спросил о том, ради чего пришёл: — Вчера видел тут горбатого карлика, не знаешь кто он и откуда?
Подумав секунду, Кеша качнул головой:
— Чего, Егор, не знаю, того не знаю. Одно скажу: дядька не из местных. Первый раз нарисовался недели две назад, потом ещё несколько раз заходил. И вчера вот. Ведёт себя тихо, расплачивается аккуратно. И всё у него по накатанной программе: солянку похлебает, гуляша с чечевицей откушает, двести грамм анисовой закинет и идёт себе. Когда бы не внешность приметная, чёрта два я бы его запомнил.
— А он тут с кем-нибудь встречался?
— Да нет, вроде… Хотя… — Кеша задумался. — А, знаешь, Егор, было. На встречу не тянет, но было. Адлер к нему как-то раз подсаживался. На минуту, не больше.
— А сегодня появлялся?
— Горбатый?
— Ну да.
— Нет, сегодня нет.
Информация, которую мне выдал Крепыш, была не ахти какой, но кое-что существенного в ней имелось. Во всяком случае, на одну мысль она меня точно натолкнула.
— Слушай, Кеша, — попросил я, — телефоном не угостишь? Позвонить срочно нужно, а мой умер.
— Не вопрос, — кивнул бармен и в следующий миг протянул трубу.
Я отошёл в сторону, набрал номер Воронцова, и когда тот отозвался, бодро сказал:
— Майор, привет.
— Чего-то ты, дракон, зачастил, — удивился вампир.
— Надоел?
— Потерплю. Чего хотел?
— Кешу Зёрнами я уже зарядил, не забудь забрать. Это, во-первых. А во-вторых… Про мои проблемы с дикими слышал?
— Не на Марсе живу.
— И что мыслишь?
— Что мыслю? — Воронцов помолчал. — А то и мыслю, что не твоих это рук дело. Не ты чудиков порезал. Не твой почерк. Или я, дракон, ошибаюсь?
— Нет, майор, всё правильно. Я не при делах. Поэтому и хочу кое с кем объясниться. Скажи, как мне Урмана найти?
— Хороший вопрос. Только прозвучал он не по адресу.
— Неужели не знаешь где его логово?
— Почему, не знаю? Знаю. Но не скажу.
Хмыкнув упрекающее, я стал давить на совесть:
— Вампирскую омерту нарушать не хочешь?
— Типа того, — ничуть не смутившись, ответил Воронцов.
— Зря ты так.
— А у меня есть выбор?
— Выбор, майор, всегда есть. И ты об этом знаешь не хуже меня.
— Ну, считай тогда, что вот такой вот я выбор и сделал.
— Значит, не скажешь? — предпринял я последнюю попытку.
Воронцов был непреклонен:
— Нет, не скажу.
— Ну тогда, извините, господин майор, — сказал я, чувствуя, что вот-вот сорвусь. — Не смею больше беспокоить.
Собрался на жать на красную кнопку, но не успел.
— Подожди, — сказал Воронцов, — не отключайся. И не психуй ради Силы. Послушай, что скажу. Логово не открою, и не проси, это дело такое, знаешь, тонкое. В чужой дом приглашения раздавать не уполномочен. А вот на одну их ночную нычку наколочку дам. Не велика тайна. Всё равно через полчаса от кого-нибудь узнаешь. За бабки. Так уж лучше от меня за приятельский так. Короче, на Дзержинского заброшенный дом стоит, номер не то двенадцать, не то четырнадцать. Увидишь, сам поймёшь, какой именно. По виду — бомжатник бомжатником. Дикие эту норку давно облюбовали. Трутся там, когда на Голод конкретно высаживаются, и там же отходят после охоты. Есть и другие адреса, но этот самый тёплый. Ты меня понял, дракон?
— Спасибо, — только и сумел сказать я.
— На здоровье, — усмехнулся на том конце Воронцов. — Но только ты там поаккуратней, дракон. Дикие, они, сам знаешь…
— Дикие, — подхватил я.
— Во-во, — хмыкнул Воронцов и отключился.
Прежде чем вернуть телефон, я, пользуясь случаем, позвонил ещё идомой.
— Где пропал? — сразу накинулся на меня Ашгарр. — Звоню-звоню, и всё мимо.
— Батарея села, — объяснил я. — А чего звонил? Случилось что?
— Случилось. Принцесса наша загрустила. Похоже, худо ей.
— Худо или худо-худо?
— Пока только худо.
— Ладно, сейчас подъеду.
— Хорошо. Как у нас там в целом? Дело двигается?
— Кое-что проясняется, но это не по телефону. А на «хонду» серебристую ты не зря грешил.
— Нарисовались?
— Нарисовались.
— И что?
— Если коротко, то оторвался, а подробности — письмом. Жди.
Возвращая телефон Кеше, я спросил у него:
— Не помнишь, в каком фильме вслед за тем, как в кадре появлялись апельсины, случалась очередная смерть?
— В первом «Крёстном отце», — чуть подумав, выдал справку бармен. — А что?
— Да так, ничего. Просто видел недавно, как одна провидица швырнула апельсины на асфальт.
— Это ничего не значит, Егор. Апельсин штука круглая, оранжевая, сладкая — это факты. Всё остальное — иллюзия.
— Говоришь, иллюзия? А почему тогда именно этот плод назвали яблоком греха.
— Потому что глупцы, — отрезал умный бармен. — Лучше бы назвали яблоком прозрения, было бы точней.
Я ничего ему на это не сказал, расплатился щедро, попрощался и пошёл. Сделал три шага от стойки, замер и оглянулся.
— Что? — спросил Кеша.
— Коктейль…
Не находя нужных слов, я сделал некий жест рукой, который должен был означать, что с напитком было что-то не так. Как ни странно Кеша меня понял, улыбнулся и сказал:
— Извини, но я добавил в томатный сок листок базилика. А что, плохо?
Я потряс большим пальцем и пошёл на выход, уже больше не оглядываясь.
Глава 18
Пока я раздевался, Ашгарр стоял над душой, сверлил взглядом и ждал новостей. А у меня новостей было так много, что сходу не мог сообразить с чего начать.
— Ну, — поторопил поэт. — Рассказывай.
— Экий же ты, чувак, нетерпеливый, — упрекнул я его беззлобно. Повесил куртку на вешалку и, присев, чтоб развязать шнурки, начал с самого интересного: — С ведьмой тут одной встретился накоротке.
— Ну-да, — моментально отреагировал Ашгарр, — это я почувствовал. Трудно было, признаться, не почувствовать. Так накатило, что мама не горюй.
Уловив в его словах скрытый упрёк, я напрягся:
— А чего таким тоном-то?
— Да ничего. Просто удивляюсь. Вроде не время сейчас для ублажения чаровниц. Или я что-то не понимаю?
— Она не чаровница… Она… — Тут я был вынужден прервать свой выговор и ругнуться в сердцах. Отсыревший бантик на правом ботинке вместо того, чтобы покорно развязаться, каким-то непостижимым для меня образом затянулся в замысловатый морской узел. — Во, блин горелый!
Поэту до моей беды не было никакого дела. Сложив руки на груди, как всегда делает в минуту душевного смятения, он спросил:
— Не чаровница, говоришь? Ну-ну. А кто тогда? Уродина? Простушка? Вот уж ни за что не поверю, что ты вдруг уестествил…
— Нет, не простушка, — продолжая возиться с настырным узлом, оборвал я поэта. — С чего это ты взял, что простушка?
— Так всё же чаровница?
— Блин, да какая разница, чаровница, не чаровница. Дело совсем в этом. Не в том, о чём ты подумал своим испорченным умишком. Дело в другом. Дело в том… — Я выдержал многозначительную паузу и, оставив на время борьбу с узлом, поднял голову: — Дело в том, что она агент службы безопасности Чёрного совета. А теперь смейся паяц.
И вновь вернулся к шнурку.
Ашгарр опешил:
— Агент?
— Угу, агент.
— Точно?
— Никаких сомнений, она мне свою бляху показывала.
— До или после?
— Вместо!
— Не психуй.
— А ты не хами. Говорю тебе: видел бляху. Так что всё без балды. Дама реально действующий боец карагота. Личный номер — три шестёрки и ещё куча всяких цифр. Уровень вовлечения фиолетовый. Допуск к активным линиям Силы неограниченный. Короче говоря, всё у неё по-взрослому.
Ашгарр нахмурился:
— Серьёзная, выходит, дамочка.
— Серьёзная, — подтвердил я. — Серьёзней не бывает.
— А чего в Городе делает?
— Прислана с миссией. С тайной, разумеется.
— Кем прислана?
— Вот это как раз самое интересное. Жан её прислал. Тот Жан, который Калишер.
— Претёмный усмиритель? — не поверил Ашгарр.
— Представь себе, — уверил я и попытался ковырнуть настырный узел ногтём.
— Интересно… Очень интересно. И это зачем же он её прислал?
— Говорит, чтоб нас прикрывать. Вернее не нас, а сам знаешь, что.
Выдержав паузу, Ашгарр тяжело вздохнул и признал очевидное:
— Значит, всё-таки Атака.
— А ты до сих пор сомневался? — хмыкнул я и, поскольку узел так и не сдался, попытался снять ботинок, не развязывая шнурка. С этим тоже ничего не вышло, ботинок сидел на ноге плотно. Тогда я попросил поэта: — Слышь, сгоняй на кухню, принеси нож. Ну или там ножницы.
— Зачем? — не понял Ашгарр.
— Чего тупишь? Не видишь, шнурок бастует.
— А ты не психуй, — вновь посоветовал Ашгарр, присел на корточки и в две секунды распутал узел. Вставая, сказал: — Вот и всё. Делов-то.
— Ну ты, блин, и колдун, — восхитился я, зашвырнул ботинок в угол, а следом и второй, натянул тапки и, оттеснив Ашгарра плечом, прошёл на кухню.
Успев ткнуть кулаком мне в спину, поэт двинул следом. И по пути выпалил очередью:
— Скажи, а кто нас атакует? Что за наглая сволочь? Местная тварь или пришлая? Твоя чаровница тебе об этом, надеюсь, поведала?
Я вытащил из холодильника бутыль с гранатовым соком и отхлебнул изрядно. Когда лицо перестало кривить от кислого, только тогда ответил:
— Дама не из болтливых. Так что нет, не сказала, кто такой смелый. Впрочем, я уже и сам скумекал.
— Иди ты, — удивился Ашгарр и потребовал. — Ну давай, выкладывай тогда.
Я всучил ему бутыль, после чего поделился:
— Думал я тут, думал, и вот что надумал. Судя по тому, что Калишер прикрывает нас втихаря от иных регуляторов колдовского мира, а он прикрывает нас именно втихаря, по другому и не скажешь, в деле замешан его братишка. Руку даю на отсечение, что это именно так. Даже голову, если желаешь, могу дать.
Ашгарр чуть не выронил бутыль из рук:
— Имеешь в виду Неудачника?
— Ну а кого же ещё? Его самого. Не к ночи будет помянут. Других братьев у Жана, насколько я знаю, нет.
— Вот же хрень!
Столь остро отреагировал на мою гипотезу Ашгарр не без причины. Мягко говоря, не в чести у нас великий тёмный маг со столь говорящим прозвищем. А если говорить без дипломатических кренделей, считаем мы его великой сволочью. Настоящее его имя Поль Калишер и он на самом деле приходится родным братом Жану Калишеру, который уже много-много (с ума сойти можно, если подсчитать, сколько именно) лет занимает пост Ответственного председателя Великого круга пятиконечного трона. Поль и Жан близнецы. Те, кто их видел, утверждают, что они похожи друг на друга, как две капли воды. Даже теперь похожи, по прошествии долгой жизни, наполненной событиями, которые, казалось бы, должны были придать облику каждого из братьев индивидуальные черты. Но нет, не придали. Свидетели уверяют, что сколько не приглядывайся, а до тех пор пока не заговорят, отличить Поля от Жана невозможно. А ещё говорят, что и Силой они обладают одинаковой. А всё потому, что кто бы из них её не заработал, она чудесным образом делится между ними поровну. Вот такие вот пироги с котятами. Правда, не смотря на такое равенство, Поль, по мнению знатоков, в магическом деле вроде как мастеровитее будет. Однако по какой-то загадочной причине никогда и ни в чём не мог превзойти Жана. Потому и «Неудачник».
А помимо того, что неудачник, так ещё и человек с гнилой душонкой. Гадкий человечишка. Дрянной. Даже в среде Тёмных подлость его стала притчей во языцах. Чураются его все прочие маги и привечают нерукопожатием. И даже с братом Неудачник постоянно в контрах. Завидуя Жану чёрной (белой Тёмные отродясь не ведали) завистью и не оставляя надежды однажды занять его место, постоянно интригует всячески и козни учиняет. Просто утомил он уже всех своей неуёмной настырностью. Уж насколько мы, драконы, от всех этих суетных человечьих разборок далеки, а и нам порою приходится страдать. В последнее же время Неудачник так и вовсе активно взялся дискредитировать наше крылатое племя. К примеру, года три тому назад стал приписывать факт появления Вещи Без Названия злому умыслу драконов. Якобы доподлинно стало ему известно, что для того мы создали сей артефакт артефактов, чтобы впоследствии отыграть тему ее охраны в свою пользу и выбить тем самым для себя известные преференции. Вот такую вот чушь порол несусветную.
Оно, конечно, верно, что рассованную по тайникам Вещь Без Названия охраняем по решению Великого совета именно мы, драконы. Это так же верно, как и то, что вышли благодаря этому обстоятельству мы из-под воздействия официальных органов колдовского мира. Но, видит Сила, не мы были инициаторами такого решения. Сами люди, которые сроду не доверяли, не доверяют, и никогда не будут доверять друг другу, обратились к нам с такой просьбой, чтоб не сказать — с мольбой, как к стороне нейтральной. Так что врал Неудачник. А для чего он так врал, для всякого здравомыслящего яснее ясного. Ведь если поверить в то, что драконы втайне от всех сами сотворили великую Вещь, а Жан утвердил передачу артефакта артефактов крылатым под охрану, согласившись при этом на их условия, тогда выходит, Жан либо глупец, либо изменщик. А раз так, следовательно: долой Жана с трона, даешь на трон кого-нибудь другого. К примеру, Поля. Почему, собственно, не Поля? Он же после брата самый-самый. Ведь так? Именно так. В том и дело, что так.
Однако не вышло у Неудачника ничего, не прокатила его злостная инсинуация. Лишь немногие, буквально единицы ему поверили, основная же масса посвящённых на это мерзостное враньё не повелась. Да и созданная по изучению данного вопроса комиссия Большого совета (хлебом чиновников не корми, дай какой-нибудь вопрос рассмотреть) причастность драконов к созданию Вещи доказать не сумела. И в принципе не могла доказать. Не возможно доказать недоказуемое.
Сокрушительное поражение (натура есть натура) не отвратило Неудачника от грязных делишек. И двух лет не прошло, как взялся он слух распускать, что мы, драконы, собираемся присвоить Вещь Без Названия. Утверждал на голубом глазу, что вот-вот мы вытащим все части Вещи из тайников, соберём воедино и, проведя Ритуал Ренессанса, установим свою власть над миром людей. Что просто спим и видим, как ловко провернуть этот свой коварный план. И вновь его бредни никто всерьёз не воспринял. Проверки внеплановые однако устроили и заставили тем самым нас, Хранителей, изрядно понервничать. И хотя всё обошлось, и даже принесены были официальные извинения, теперь при упоминании одного только имени Неудачника в душе у любого из нас поднимается волна негодования.
— Крепись, чувак, — похлопал я расстроенного Ашгарра по плечу. — И утешься тем, что он по жизни неудачник.
— И давно тебя насчёт этого парня озарило? — поинтересовался поэт.
— Только что. На пролёте между первым и вторым. Снизошло, понимаешь ли, такое вот откровение.
— Думаешь, это продолжение прошлогодней истории?
— Думаю, да.
Рассеяно покивав, Ашгарр сунул бутылку с соком в морозильник. Вот же как загрузился капитально. Получив отрезвляющий подзатыльник, очнулся, исправил ошибку, после чего спросил:
— Как думаешь, почему из двухсот шестидесяти пяти именно наш Тайник выбран для Атаки?
— Да чёрт его знает, — пожал я плечами. — А какая, собственно, разница?
— Для космоса — никакой. Для нас — существенная. Хочется надеяться, что данный Тайник выбран не потому, что агрессор посчитал местного Хранителя слабаком.
— Хочется — надейся.
— Куратору нужно сообщить, — напомнил Ашгарр.
— Нужно, — согласился я, однако тут же и оговорился: — Но пока, пожалуй, с докладом повременим.
— Но ведь положено.
— Мало ли что положено. Много чего положено. С ума можно сойти, сколько всего положено. Просто офигеть сколько всего. Столько, что всего и не исполнишь. Так что — повременим. Чуток. Ну а уж потом доложим. Обязательно. Всенепременно. Так доложим, что никому мало не покажется.
— Чего-то я, Хонгль, не понимаю тебя, — признался Ашгарр. — Какой смысл тянуть? Ведь дело так может обернуться, что поддержка понадобиться. Ты сам подумай.
— Поддержка? — Я ухмыльнулся. — Поддержка — это хорошо. Поддержка — это здорово. Плохо то, что, получив поддержку, свяжем себя по рукам и ногам. Однозначно лишимся гибкости манёвра. Не знаю как ты, а лично я гибкость собственного манёвра ставлю гораздо выше любой поддержки со стороны.
— Ты это о чём?
— Не понимаешь?
— Нет.
— А ты догадайся с трёх раз.
Ашгарр догадался с первого:
— Ты о спасении Леры?
— Так точно, чувак, — кивнул я. — Так точно. Где она кстати?
— Там. — Ашгарр махнул рукой. — Хандрит. Телек смотрит.
Войдя уже через несколько секунд в комнату Ашгарра, я увидел, что лежащая на кровати Лера действительно пялится в ящик. Со скучающим, так не свойственным для её деятельной натуры, видом. На моё появление девушка никак не отреагировала, шуметь я не стал, аккуратно присел на край кровати, замер, тоже уставился на экран и стал наблюдать, как два потерянных для народного хозяйства паренька разыгрывают сценку в жанре стэнд-ап. Сценка была занимательной. Первый паренёк пытался узнать у второго, что такого ужасного с ним приключилось за то время, пока они не виделись. Второй уверял, что в этом смысле — ничего. Абсолютно ничего. Всё у него нормально. Первый второму почему-то не верил, искренне за него беспокоился и настаивал на правдивом ответе. Второй какое-то время недоумевал, потом настырность первого его достала, причём достала так основательно, что он начал отбиваться. Сперва вяло, затем всё настойчивее. А первый наседал и наседал. Наконец второй не выдержал и стал грубить откровенно. Первый не отступал и нудил, нудил, нудил. В итоге абсурд достиг предела, и они благополучно расплевались. Чего, собственно, и следовало ожидать.
Когда сценка закончилась, случился блок рекламы. Лера вздохнула. Я скосился на неё и, кивнув в сторону телевизора, попытался завязать разговор:
— Что за клоуны были?
— Резиденты «Камеди Клаб», — не поворачивая головы, пояснила девушка. — Того, что справа стоял, Гариком «Бульдогом» Харламовым зовут. Того, что слева, — Тимуром «Каштаном» Батрутдиновым. А что, шеф, вам не понравилось?
— Отчего же, понравилось. Правда, ребята содрали эту сценку из одного широко известного в узких кругах фильма.
— Да-а? — апатично протянула Лера. — Из какого?
— «Кофе и сигареты» называется, — ответил я.
Лера призналась:
— Слышала, но не видела. — После чего ещё раз вздохнула нерадостно и, чуть помолчав, совершенно безучастным, каким-то не своим, убитым голосом уточнила: — Про что фильм?
— Трудно сказать про что, — задумался я. — Знаешь… Пожалуй, не смогу сказать про что. Могу только сказать, о чём. О взаимоотношениях человеческих. Впрочем, как и всегда у Джармуша.
— О, о, о, — пропела Лера. — Выходит, парни слямзили сюжет у самого Джармуша?
Я кивнул:
— И даже глазом черти не моргнули.
— Осуждаете?
— Ни разу. Пофиг. Только одно скажу: у ребят отличный вкус, правильные фильмы смотрят. Хотя чему тут удивляться: надо же им, звёздно-талантливым, как-то предохранять себя от собственных перехлёстов.
Реакция Леры на мои ничего, в общем-то, незначащие слова, была не совсем неадекватной. Она вдруг резко вырубила телевизор, отбросила в сторону пульт и запричитала:
— Они талантливые, они известные, они крутые, они звёзды, а я… А я… А я бездарная серая мышь. Вот. Даже не мышь, а мышка. Даже не мышка, а… Никто. Вот. Никто. Никто-никто-никто. Никто я и звать меня никак.
Вынесла себе приговор, перевернулась на живот и уткнулась в подушку.
Это был срыв.
Но этот был ещё не срыв в пропасть.
— Всё сказала? — спросил я.
— Всё, — ответила она, не отрывая лица от подушки.
— Теперь я скажу. Готова выслушать?
Девушка промолчала.
— Готова, спрашиваю? — вызверился я.
— Ну, — буркнула она.
— Хочешь быть кем-то из немногих?
— Допустим.
— Будь.
— Не получится, — выдержав долгую паузу, заявила она.
— Почему это? — поинтересовался я.
— Не получится и всё.
— А пробовала?
— Пробовала. Не получилось. И не получится.
Я не стал спорить:
— Ну не получится, и не получится. Ничего страшного. Как говорит одна моя добрая знакомая, для женщины главное не кем быть, а с кем быть.
— Точно. — Лера резко перевернулась и села. — Очень точно сказано. Только и тут, шеф, у меня полный облом. Полнейший. Никто меня не любит, никто не приголубит, никому я нафиг не нужна. Вот.
— Уверена?
— Больше чем.
Жалко ей саму себя, подумал я. Утешение выпрашивает.
И хотя сочувствовал ей всей душой, подыгрывать не стал, сказал как можно спокойней:
— Ну не нужна и не нужна. Бывает. Сейчас не нужна, а потом раз, и станешь нужна.
Лицо Лера стало отрешённо-серьёзным.
— Потом? Хорошее слово «потом». Удобное. А сейчас что мне делать? Что мне делать сейчас? А, шеф?
— Что все в таких случаях делают, то и ты делай. — Сведя ладони, я показал крышу у себя над головой. — Затаись на время в домике, береги себя и слушай Боба Марли. Живи потихоньку да полегоньку.
— Для чего?
Началось, подумал я, сейчас начнём смысл жизни выискать.
И не желая мусолить сказку про белого бычка, попытался пресечь гнилой заход на корню:
— «Для чего?» — это, Лера, правильный вопрос, но не актуальный. Актуальный — «как»?
— Да? — Она моргнула несколько раз. — Может быть. Ну и как же?
— Мужественно. Рассчитывая на лучший исход и счастливое будущее.
Лера станцевала на попе макарену:
— Ах, ах, какие, шеф, громкие слова. Будущее… Счастливое… Знать бы ещё, что это такое. — Она подёргала меня за рукав. — Что такое счастье? А, шеф? Вы умный, наверняка знаете. Что это? Что это есть такое и с чем его едят? А, шеф?
И уставилась на меня глазёнками встревоженного зверька.
— Счастье? — Я задумался и из миллиарда готовых формул выбрал такую: — Счастье, детка, это заслуженная радость от осознания собственного существования и великолепных возможностей, которые оно открывает.
Уже в процессе произнесения этой умной умности, сумел сообразить, что со всей дури луплю по пустоте. Смутился, но виду не подал и тут же заметил назидательно:
— Вообще-то, Лера, взрослой женщине негоже задаваться столь подлыми вопросами. Что есть счастье? В чём жизни смысл? Кто виноват? Что делать? Поиск ответов на эти вопросы — прерогатива мужчин. Исключительно. Да и то не всех, а лишь особо одарённых. Таких, знаешь, из интеллектуального гетто.
— А почему это женщинам нельзя? — тряхнула Лера чёлкой. Насупилась и затрещала с нарастающим гневом: — Потому что тупые поголовно? Да, шеф? Так, что ли? А блондинки вообще тупее всех тупых? Да? Так выходит?
— Я так не говорил. И ты так не говори.
— Тогда объясните, а то… А то обижусь. Вот.
— Объяснить? Да запросто. Слушай сюда и не говори потом, что не слышала. Слушай, как я считаю. Слушай. Женщине не стоит думать о смысле жизни, не потому что у неё ума нет, вовсе нет, а потому что женщина это и есть сама жизнь во всех её проявлениях и со всем бесконечным набором её смыслов. Понимаешь о чём я?
— Туманно говорите, шеф, — призналась Лера, — не врубаюсь пока.
— Не врубаешься? Странно. А я-то думал… Ладно, как бы тебе тогда… — Я задумался. — Женщина, она… она… она ведь… — Понимание сути никак не хотело вылиться в простые и ясные слова, вдохновение предало-продало меня, я помучался-помучался, поблеял, помычал, и в конце концов сдался: — Блин, блин, блин. Не знаю, как объяснить. Трудно. Не умею. Таланту нет. Слов не хватает. Извини.
— Вот так всегда, — вздохнула Лера. — Нет слов. Слов нет и смысла нет.
И замолчала.
А я практически на физическом уровне, всеми фибрами своими и жабрами ощутил, как её сознание начинает затягивать та жуткая воронка, куда рано или поздно, схлопнувшись в точку, устремиться всё сущее. Как, постепенно теряя волю к жизни, начинает моя девонька предчувствовать скорое освобождение. Как близко подошла она к тому, чтобы отбросить постылую телесность, превратиться в светлый журчащий ручеёк и влиться в лучезарный поток небытия. Почувствовал я всё это, здорово разозлился, прежде всего, конечно, на себя, и рубанул:
— Давай кончай нудить. Раскисла, понимаешь. Повод нашла. Нет повода. Нету его. Потому что ты баба, а не мужик. Баба. А раз баба, значит, когда-нибудь да понесёшь. По любви ли, по залёту — не важно. Главное — понесёшь. А потом ребятёнка родишь. Девку или парня. Или, даст бог, сразу несколько. А как родишь, так и обретёшь ответы. Все проклятые вопросы снимутся тогда одним махом. Фьють, и как и не было их.
Тут я не пожалел Силы одного из заряженных колец и сотворил из ничего цветок одуванчика. Повертел в руке, дал ему состариться, а когда яичная желтизна сменилась сединой, взял, да и — фу-у-у — сдул все эти парашютики.
Смотрела Лера на то, как разлетаются эти воздушные штучки по комнате, моргала ресницами и повторяла:
— Как это? Как? А? Как это?
То был шок от столкновения с чем-то совершенно невиданным. Мне уже ни раз и ни два приходилось встречаться с подобной реакцией. Но вот дальше…
На лице девушки появилась такая беззащитность, что меня с головой накрыла волна жалости. Не выдержав, я потянулся и провёл рукой по её волосам, погладил дурочку. А она вдруг ухватила мою руку, притянула к лицу и ткнулась носом в ладонь. Спрятаться, видать, решила от страшного и неуютного мира.
Но не вышло.
Сразу отпрянула, будто током долбануло, а затем прошептала, кольнув меня быстрым взглядом:
— Пахнет.
— Чем пахнет? — Я поднёс к носу и понюхал ладонь. — Бензином? Спиртом? Табаком?
Она слегка качнула головой и произнесла так тихо, что я не услышал, а прочитал по губам:
— Духами. Дорогими. Очень-очень… дорогими.
Её список неправд, обид и претензий к жизни вмиг пополнился новым пунктом, сдерживать она себя не стала и тут же разревелась.
Моё сердце чуть не лопнуло, кинулся было утешать, да понял, что бессмысленно, любое слово утешения — хворост в огонь. Тогда обнял её бережно, но крепко, поскольку вырваться пыталась, и прочитал, почти пропел заговор на сон:
Ещё договаривал последние слова, а девчонка уже перестала вырываться, обмякла, голова её безвольно повалилась на моё плечо. Уснула бедолажка. Я поднял её осторожно на руки, потом уложил на кровать и накрыл одеялом.
— Умиляет картинка, — вполголоса сказал Ашгарр, нарисовавшись в дверном проёме.
— Да иди ты, — процедил я сквозь зубы.
— Серьёзно говорю, — попытался оправдаться поэт. — Без подколок.
Вытолкав его в гостиную, я бросил:
— Присматривай тут.
И пошёл на выход.
За тем как, я собираюсь, поэт наблюдал молча, и только когда я уже натянул ботинки, спросил:
— Куда теперь?
— Мочить гадов, — ответил я, сорвал с крючка куртку и вышел.
Как ехал, не помню, очнулся уже на Киевской. Бросил машину в одном из двориков и отправился по адресу ночного вампирского шалмана пешком. Дошагал, бодро рассекая мордой изморось, до пересечения с Дзержинского, обозвал бараном козла, который, не притормозив, окатил меня грязными брызгами, перебрался на другую сторону, повернул направо, прошёл ещё где-то тридцать метров, нырнул в нужную ограду и оказался на крыльце нужного дома. Проверяя себя, глянул на табличку (оно — N12) и осмотрелся.
Брошенным выглядел этот дом, мёртвым. Честно говоря, странно было видеть в самом центре города такие вот в грязных потёках стены, прикрытые грубыми металлическими ставнями окна без стёкол, худую кровлю, прочие признаки разложения. Всё тут говорило о том, что старые хозяева давным-давно выехали, а новые всё никак не удосужатся въехать. Может, какие-нибудь сложности у них случились юридические. Или денег нет на ремонт. Или не прошёл срок вступления в право наследования. Или — могло быть и так, почему бы и нет — вампиры дикие беспардонно отваживают. Как бы там ни было, но некогда добротная каменная домина, стоящая на этом месте уже без малого полтора века, превратилась за последние два года в облезлое одноэтажное безобразие.
Однако каким бы убогим с виду не казался этот дом, он по-прежнему представлял собой маленькую крепость, проникнуть в него сходу оказалось делом не таким уж и простым. Входная дверь — я осторожно подёргал — была заперта. Ключ От Всех Замков помочь мне в данном случае не мог, поскольку врезной замок отсутствовал как таковой и огромную дыру от него прикрывал кусок фанеры. Выходило, что дверь заперта изнутри на засов или чем-то подперта. Сообразив, что ловить с парадного особо нечего, я оставил крыльцо, обошёл дом кругом и в результате недолгой экскурсии выяснил следующее. Запасного входа нет. Металлические полосы на ставнях стянуты болтами заржавевшими настолько, что сорвать их без ключа не представляется возможным. Оконца подвального этажа решётками не оборудованы, но плотно забиты — «спасибо» уличным торговцам — пустыми коробками, ящиками из-под фруктов и прочим хозяйственным мусором. Какие-либо иные лазы, через которые можно было бы тайком проникнуть в дом, не предусмотрены проектом. Попросту нет их.
Вернувшись, не солоно хлебавши, на крыльцо, я стал соображать, чем бы таким заменить скрытность и внезапность. И решил — быстротой и натиском. Выбить дверь к чертям собачьим, вломиться внутрь, подавить неприятеля пальбой да ором, а дальше уже действовать по обстановке — чем не план? Отличный план. Что мешает так сделать? Ничего не мешает.
Однако до штурма дело не дошло. Только я собрался отойти, чтоб взять разбег, за дверью послышались голоса, а через несколько мгновений — и лязг задвижки. Мигом слетев с крыльца, я отбежал к растущей в глубине двора рябине, и уже оттуда, из глухой тени, стал наблюдать, что будет дальше.
Ждать пришлось недолго, дверь вскоре скрипнула и на крыльцо вышли два любопытных кадра. Один, худой и высокий, смахивал на студента. На нём была брезентовая куртка с капюшоном и расклешённые джинсы, а за плечами болтался рюкзак из грубой чёрной кожи. Второй, среднего роста, коренастый, одетый в тёмное строгое пальтишко, показался мне кадровым военным в чине не ниже капитана. Почему мне так показалось, честно говоря, не знаю, не анализировал. Может, дело в выправке. Может, в стрижке. Может, ещё в чём-то. Впрочем, не важно, кем эти двое были в миру. Важно, что по природе своей они были вампирами.
Даже Взглядом не пришлось ауры шерстить, чтобы это понять. И так было видно. Хотя внешне и отличались они друг от друга разительно, однако имелось в их облике кое-что и общее, а именно — характерно выпяченная нижняя челюсть. Нормальные вампиры, вампиры, которые придерживаются пусть несколько и усечённых, но всё же норм приличия, пытаются различными способами скрыть столь яркую физиологическую свою особенность, а вот дикие её не скрывают. Дикие наоборот, особенность эту в себе культивируют. У них считается это особым шиком. А по отношению к остальному упыриному сообществу — вызовом.
Едва вампиры вышли на крыльцо, дверь за ними сразу захлопнулась. Того, кто закрывал дверь, я со своей позиции видеть не мог, зато услышал, как он громко пожелал уходящим в ночь удачной охоты.
— Свет тебе в морду, — хрипло выругавшись, избежал сглаза «майор».
«Студент» же обронил через плечо:
— Не скучай, Хабиб. — После чего накинул на голову капюшон и обратился к «майору»: — Ну что — как обычно? На Тимирязева, до пожарной вышки, а потом по кругу?
— Погоди, братец, не гони лошадей, — откликнулся «майор». Вытащил неспешно сигарету, чиркнул зажигалкой и, выпустив дым после первой затяжки, заметил мечтательно: — Эх, не пёхом бы сейчас кругаля выписывать, а мышью летучей полететь. — И тут же спустил себя с небес на землю: — Только рождённый ползать, увы, летать не может.
На что «студент» справедливо заметил:
— Вообще-то, может. Если випом станет.
— Место випа у нас всего одно и оно занято, — напомнил «майор». — Или ты, Гоша, собрался Урмана сковырнуть?
— Я? — «Студент» заметно напрягся. — Нет. Что я самоубийца, что ли?
— А чего ж ты тогда?
«Студент» недоумённо мотнул головой:
— Погоди-погоди, Петрович, чего-то я чуток не догнал. Это же ты сказал, что летать хочешь. Ты. Не я.
— А ты типа не хочешь?
— Я? — Гоша оскалился в попытке улыбнуться. — Я, Петрович, и так летаю. Не всегда, конечно, время от времени, но летаю.
— Как это? — не понял «майор».
— Как птица.
— Шуткуешь, братец?
— Зачем? Правду говорю. Про бэйсд джампинг слышал?
— Что за ересь?
— Прыжки со специальным парашютом.
— С самолёта, что ли?
— Нет, с горы какой-нибудь. Или с небоскрёба. Или ещё с чего-нибудь типа этого. Я вот, например, недавно с башенного крана сиганул. Теперь вот с вышки телевизионной собираюсь.
— Ну и как оно?
— Мне по кайфу. Прикинь, ветер свищет, земля хрен знает где, облака — вот они, и ты паришь, словно птица. Огромная такая птица. Просто высший класс. Была бы моя воля…
— Ладно, братец, кончай ля-ля, — грубо оборвал напарника «майор». — Идти надо. Рассвет скоро, а ты тут раскудахтылся.
Швырнул бычок на землю, зло раздавил его и пошагал со двора. Гоша пожал плечами, недоумевая, чего это Петрович вдруг так завёлся, выяснять отношения однако не стал, накинул гарнитуру на ухо и поплёлся следом.
Спору нет, можно было бы напасть и на этих двоих. Одного вырубить, другого прихватить, дальше — по плану. Пожалуй, справился бы. Но не стал этого делать. Зачем? Воевать нужно с умом, по возможности — экономя силы. Пожелание-совет вампира Гоши не скучать, подсказал мне, что тот, кого он назвал Хабибом, остался в доме один. Теперь не нужно было ломать дверь, кричать дурным голосом «Всем на пол, работает ОМОН!» и палить в воздух. Одного можно заломить и без кавалерийской атаки. Даже дикого. Пусть он весь из себя и дикий, но не вип же. Вип в этой банде по определению всего один. И зовут его Урман. Ни фига не Хабиб.
Короче, дождался я, когда стихнут шаги ночных охотников, вернулся из своего укрытия на крыльцо и с силой постучал по двери. Не успела осыпаться шелуха старой краски, внутри послышались шаги. Потом глухой голос спросил:
— Кто?
— Открой, Хабиб, — попросил я, пытаясь подражать вампиру Гоше. — Я плеер забыл.
Хабиб чертыхнулся, потом ещё раз, и стал греметь засовом. Ну а когда открыл дверь, благополучно уткнулся носом в дуло моего кольта. Узнав, выдохнул:
— Дракон?
И попятился.
— Дракон, дракон, — подтвердил я. Не опуская пистолет, вошёл внутрь, прикрыл за собой дверь и принял из рук обалдевшего вампира подсвечник с тремя горящими свечами. Огляделся и кивнул на выход из прихожей: — А ну-ка давай шагай в комнату.
Хабиб, оказавшийся колоритным типом с растоманской шапочкой на голове, но в белоснежной форме олимпийской сборной России, подчинился приказу и безропотно пошёл по коридору. А я естественно за ним.
Комната, в которую мы вошли, дважды повернув направо и один раз налево, оказалась к моему удивлению огромной залой, увешанной восточными коврами и обставленной древней, но добротной, ещё той, сделанной из дерева, а не из стружек, мебелью. И, между прочим, в этой зале стояло, помимо стола и кресел, аж четыре дивана. Легко можно было представить, как на рассвете сползаются сюда, утолив дурную жажду, дикие всей своей развесёлой стаей. И тут же переживают сообща под присмотром дежурного прохождение пика усвоения — те самые знаменитые сто семьдесят минут мучительного отходняка, про которые так поётся в одной их актуальной песне: «Не знаю, когда увидимся вновь. Полночь. Но почти сто семьдесят минут тебя кто-то ждёт».
Осмотревшись, я показал Хабибу на одно из кресел:
— Падай, вампир.
Сам оставил подсвечник на покрытом алом бархатом столе и сел в другое кресло, в то, которое стояло у стены между двумя пилястрами.
— Убьёшь? — выполнив мой приказ, спросил вампир угрюмо.
— Будешь паинькой, нет, — ответил я. — А нет, да.
— Убьёшь, наши тебя найдут потом.
— И что?
— На куски порвут.
— Не пугай, оставлю без обеда.
— Найдут… Не вопрос. Уже ищут.
— Ищут, говоришь. Плохо ищут. Помочь хочу. Я им помогу, а ты мне. — Я поводил дулом пистолета. — Если, конечно, не мечтаешь хлебнуть в полный рост серебра заговорённого.
Вампир, непрерывно следя за движением пистолета, выговорил с трудом:
— Не понимаю тебя.
— А и не надо тебе ничего понимать, — успокоил я его. — Твоя задача Урмана вызвать.
— Урмана? — Вампир дёрнулся как от удара. — Зачем это Урмана?
— А толковать я с ним буду. Так что давай, вызывай. Вызывай-вызывай.
Вампир отвёл глаза:
— Я номера его не знаю.
— Пургу не гони. Я в курсе, что ты у него на своре. Кликнешь, услышит. Давай-давай, не томи.
Хабиб ощерился и ударил ребром правой руки по сгибу левой.
— Как хочешь, — спокойно сказал я. — Найду кого-нибудь другого.
И сразу выстрелил.
Глава 19
Палил я, разумеется, мимо, в диван, что стоял напротив и чуть левее, но Хабиб вдруг взял и опрокинулся вместе с креслом. Трах, бах, и только ножки кверху. И худые ножки вампира в дешёвых тряпичных кедах с ярко-жёлтыми шнурками, и исполненные в виде львиных лап ножки кабриоль. Я было подумал, что пуля-дура вышла из-под контроля и, как водится, дырочку нашла, но потом разглядел прореху в обшивке дивана и сообразил, что нет, ничего подобного, это просто-напросто вампир так резко дёрнулся с перепуга.
Когда чудик пришёл в себя и зашевелился, я поинтересовался сочувственно:
— Эй, как ты там? Не убился?
— Сволочь ты, дракон, — осторожно выглянув из-за кресла, с надрывом отозвался вампир.
Я приложил руку к груди:
— Извини, промазал. — А затем вновь прицелился: — Сейчас исправлюсь.
Хабиб, который всё ещё стоял на карачках, проворно убрал голову за кресло, но уже через секунду сообразил, что дерево не броня, и промямлил умоляюще:
— Не надо, дракон, не стреляй. Вызову я Урмана.
Для закрепления результата торопиться с ответом я не стал и какое-то время делал вид, что думаю, как поступить. Только через эти несколько секунд, которые, думаю, показались Хабибу вечностью, я опустил пистолет и поторопил, прибавив холода в голос:
— Только давай резвее. И без того провозились из-за твоей глупой настырности.
Вскочив, как новобранец при утренней побудке, вампир поправил съехавшую набок красно-жёлто-зелёную шапчонку, раскидал дреды по плечам, зыркнул на меня исподлобья боязливо, затем закрыл глаза, сложил руки на груди Андреевским крестом и запрокинул голову, вытянув шею так, как вытягивает её гусак, когда глотает воду. Стоял он так с минуту, наверное. Может (я не засекал), немного больше. Затем уронил руки обессилено, открыл глаза, мазнул меня рассеянным взглядом и сообщил еле слышно:
— Всё, дракон, вызвал я Урмана.
— Точно? — спросил я строго.
Вампир ничего не ответил, лишь понуро уронил голову на грудь, получился кивок — да, дескать, точно.
Нутром почуяв, что он не врёт, я приступил к осуществлению следующего этапа своего каверзного плана и, поднимаясь из кресла, спросил притворно-дружеским тоном:
— Скажи, Хабиб, а как вы это делаете? Ментально? Да? Или воете на неслышимой частоте? Или ещё как? Поделись. Уж больно мне это интересно.
И опять ничего вампир мне не ответил, только зубами заскрежетал. Я между тем подошёл к нему вплотную и похлопал несколько раз по плечу:
— Извини, братец, за глупый вопрос. Не сообразил, что это ваша главная военная тайна. Извини. И давай-ка пока передохни.
С этими словами без особой ненависти, исключительно по необходимости хоть как-то уравнять шансы в этой войне я саданул его рукояткой кольта по тыковке. И едва успел пристроить обмякшее тело на прострелянном диванчике и вернуться в кресло, как уже началось. Прежде всего что-то зашуршало на чердаке, затем загрохотала жесть, как я понял, в воздуховоде, после чего по зале, тревожа пламя свечей, какое-то время металась расплывчатая тень. Потом тень успокоилась, замерла под потолком, и стало видно, что это ничто иное, как неимоверно крупная, размером с кошку, летучая мышь. Толком рассмотреть её омерзительную морду я не успел, потому как уже в следующую секунду мышь, ощерив зубастую пасть, издала пронзительный визг, после чего случился негромкий хлопок, а следом и скрывающая от посторонних глаз неаппетитные метаморфозы яркая вспышка. Когда дым рассеялся, а пыль осела, стало видно, что к нам прибыл тот, кто мне и был так нужен, тот, ради кого я всё это затеял, — Дикий Урман. Не самый, между прочим, последний в нашем городе вип.
Именно так — випами или вурдалаками, испросившими пакибытие, величают у нас этих бездушных существ с лёгкой руки одного языкастого монаха-расстриги. Лет уже эдак восемьдесят, получается, их так величают. А до тех бодрых, но кровавых времён, когда в моду вошли всевозможные аббревиатуры, как их только их не обзывали: и вурдалаками вурдалаков, и козырными вампирами, и смурчаками, и анчуками, и кревсами, и ещё много как. Впрочем, как их не называй, суть от этого не меняется. Випы, они и есть випы.
С научной точки зрения, випы — это следующая ступень в эволюции вампиров. Отличий от вульгарных упырей у них масса, всех не перечислишь, но главных — тех, которые имеют принципиальное значение, всего два. Во-первых, випы поголовно колдуны высочайшего класса, а во-вторых, они не потребляют сырец, то есть обычную человеческую кровь, лакают исключительно продукт её перегонки — кровь ординарных вампиров. Из неё, из мутной вампирской крови, которую мы, любители алхимии, между собой называют «вражьей брагой», и получают капля за каплей положенную по статусу и отмеренную природой Силу.
По замысловатым вампирским законам (во всей своей полноте и запутанности они пусть и не с академической дотошностью, но очень подробно описаны в работе «Природные явления полу-жизни и полусмерти» немецкого исследователя Йохана Йозефа фон Герреса), випы имеют право на формирование собственной стаи, членов которой по мере надобности, собственно, и доят. По тем же самым законам, что, в общем-то, на мой взгляд, весьма логично, налагается на випов и вытекающая из права высокая обязанность всегда, везде и всеми доступными средствами защищать членов вверенной стаи. И от других випов защищать, и от охотников на вампиров, и от всяких прочих врагов, которых, к слову сказать, у вампиров в силу их природной непоседливости во все времена было предостаточно. Вот потому-то Урман и нарисовался по первому зову во всей своей красе. Не мог ни нарисоваться. Не мог бросить Хабиба в беде. Обструкция ему бы вышло, если бы не поспешил на помощь. Обструкция, поругание и всеобщее вампирское презрение. Хотя, быть может, дело не только и не столько в этом, а в том, что он по жизни (или что там у них вместо неё?) весьма ответственный вожак. Почему бы, собственно, и нет? Впрочем, без разницы. Как бы там ни было, но он явился.
Где бы и когда бы ни встречал я Дикого Урмана, этого отморозка с лицом херувима и манерами аристократа, всегда он одет щеголевато. Вот и на этот раз будто с раута светского прибыл: лакированные штиблеты, классический пиджак, отутюженные брюки, ослепительно-белая, хрустящая, как жесть, рубашка, и всенепременная атласная бабочка. А в руках тяжёлая серебряная трость-стилет с золотым набалдашником в виде лягушки. Весь Урман хорош сам собой, а в трости его винтажной так ещё и особенный шик. Как никак — кто в курсе, тот понимает — сделана из смертоносного металла. А помимо шика ещё, разумеется, и особое послание тут присутствует. Все должны видеть, какой он рисковый парень. Все должны понимать, что чёрт ему не брат, что плевал он на опасность, что ничего на этом свете не боится. Хотя на самом деле боится, конечно. Каким бы супер-пуперным вампиром ни был, а серебро для него всё одно натуральная смерть. И к тому же — мгновенная. Потому-то и держит трость за изолятор из золота самой высокой пробы, потому-то и в перчатках из отлично выделанной, но отнюдь не тонкой лайковой кожи. Шик шиком, понты понтами, а меры безопасности соблюдает. Куда без них.
Касательно же лягушки золотой, всегда мне было интересно, что означает сей странный татем? Уж больно неблагородное какое-то животное. Не волк, не ястреб, не змея опять же. Почему, спрашивается? Трудно сказать. Напрашивается версия, что это толстый намёк на известные обстоятельства: как лягушка питает себя комарами-кровососами, так и он, Урман, берёт Силу от своих подданных, которые в свой черёд тянут кровь из людей. Возможно, что и так. Но не факт. Слишком версия очевидная и слишком выглядит она простовато. А випы не просты. Ох, не просты они. Особенно дикие. У этих всегда всё своеобычно, всё всегда с какими-то выкрутасами. Честно говоря, иногда подмывает спросить про эту лягушку у Дикого Урмана напрямую, да как тут спросишь, когда в постоянных контрах. И тут опять такой случай вышел, что не до праздного любопытства.
После яркого и шумного прибытия Урман мельком глянул в сторону Хабиба, в секунду оценил ситуацию и, никак меня не поприветствовав, сразу стал крутить рога. Поначалу в своей типичной высокомерно-презрительной манере:
— Позволь, дракон, узнать, что это ещё за безмерная наглость такая с твоей стороны? — Потом ещё раз глянул на Хабиба, марку не удержал и, поигрывая желваками, перешёл на стиль, который более соответствовал ситуации: — Белены объелся? Или этих своих дурацких Зёрен? Чего ухмыляешься, гад чешуйчатый? Отвечай.
Оставив его вопросы, а равно грубость, без ответов, я сунул кольт под мышку и поаплодировал:
— Эффектно, эффектно ты, Урман, прибыл. Ничего не скажешь. В лучших традициях. Зверьком летучим шмыг-шмыг, и, глядите, вот он я. Впечатляет. Реально впечатляет.
Я старался говорить тоном, в котором было бы невозможно уловить даже намёка на иронию, но чёрные усики на холённым лице Урман дрогнули.
— Зубы не заговаривай, — процедил он со злостью. — Отвечай, на каком основании парней моих третий день косишь?
— Сто лет упырьков не трогал, — ответил я, — позабыл уже, какие на вкус.
— Не ври. Парни возле трупа Гурона твою зажигалку нашли.
— И что? Да хоть бы и паспорт. Нет, Урман, не я твоих парней убил.
— А кто?
— Ты.
Урман вскинул брови:
— Я?!
— Да, — подтвердил я. — Их всех убил именно ты.
— Странные вещи ты, дракон, говоришь. Это как же я их убил? А главное — зачем?
— Зачем? А не зачем. По глупости. А что касается «как», так очень просто. Подставил ты их под удар, в чужую опасную игру ввязавшись. — Предъявив обвинение, я окинул его взглядом с головы до ног и с ног до головы и задумался вслух: — Интересно, чего тебе такого наобещали, что ты так повёлся? — А потом решил: — Хотя, собственно, какая разница, всё равно ничего не получишь. Сольют тебя. К бабке не ходи — сольют. И не таких сливали.
— А ну-ка пасть свою заткни! — сорвавшись на откровенную грубость, проорал разоблачённый Урман, и его холодные чёрные глаза хлестнули по мне с нескрываемой ненавистью.
— Что, упырёк, задело за живое? — злорадно ухмыльнувшись, подначил я. — Впрочем, ерунду говорю, откуда в тебе диком живому-то быть. Зла не ведаешь, злом являешься. И не злишься, а сущность нутряную являешь.
Пока я это говорил, Урман сумел взять себя в руки, вновь нацепил маску оперного героя-любовника и, дождавшись своего черёда, чуть ли не с зевком произнёс:
— Мне твои глупости, дракон, слушать смешно. И про сущность мою нутряную, о которой ты знать ничего не ведаешь. И про то, что это я своих клевретов собственноручно извёл.
— Тебе смешно, — рассудил я деловито, — а вот Молотобойцам, может, и не смешно будет. Почему-то мне так кажется, что их эти дела строгие заинтересует. Да и прелатам «Братства кровных уз», быть может, будут небезынтересны мои, как ты утверждаешь, глупости. Как считаешь?
— Разоблачением угрожаешь, дракон?
— Конечно.
— А доказательства где? Твоё слово против моего?
— Для Белова моё слово твоего потяжелее будет. Хочешь проверить?
— Не пойму, чего добиваешься? — после напряжённой паузы уточнил вампир.
— Сделку хочу предложить, — пояснил я.
— Сделку? Забавно… Какую?
— А такую, знаешь, незамысловатую. И незамысловатость её заключается в следующем. Я забываю про твою роль в этой поганой истории, а ты говоришь, где мне карлика найти.
— Какого ещё карлика? — по инерции прикинулся Урман невинной овечкой.
— Хомма горбатого, — терпеливо пояснил я. — Того самого пришлого хомма, который тебе на днях заказал двух нагонов.
Изменившись в лице, Урман нервно дёрнул подбородком и процедил, скорее утверждая, чем спрашивая:
— Значит, всё уже знаешь.
— Всё, не всё, — признал я, — но кое-что — точно.
Чем бы всё кончилось, напади Урман на меня внезапно, не известно. Но по каким-то непостижимым для моего понимания причинам вип решил показать себя джентльменом и благородно предупредил:
— Ты труп, дракон. — Поправил бабочку и повторил: — Ты труп.
— Э-э, — попытался я его осадить, — давай только без этих ваших идиотских выходок. Прекрасно знаешь, что всё равно меня воскресят. Тебе нужен враг до гроба?
— Не будет никакого врага, — сказал он твёрдо и объяснил: — Потому что дракона не станет. Развоплощу я тебя.
Не до конца ещё веря, что Урман решился на крайность, я поинтересовался:
— А Силы хватит?
— Хватит, — заверил он без тени сомнения. — Приберёг для такого случая.
Сказал и — мужик сказал, мужик сделал — без промедленья начал колдовать. Произнеся на неведомом мне языке то, что я услышал как «Юденс айзсист зелтс», он ловко перекинул трость из левой руки в правую, и сделал такое движение освободившейся ладонью, будто хотел обрызгать пол водой. В тот же миг воздух в комнате колыхнулся, по нему пробежала стеклянная рябь, и на меня неспешно, но с неотвратимостью прущего под наклоном многотонного асфальтового катка пошла, перекатываясь из Запредельного в Пределы, Волна Кроеберга. Сознаться честно, не ожидал я от випа такой прыти, и будь между нами дистанция вполовину меньше этих семи шагов, Волна, охватившая фронтом всё пространство залы, обязательно бы перемолола меня в кровавый фарш. Никаких сомнений — перемолола бы. А Дикий Урман потом бы собрал аккуратно в небольшой мусорный пакет всё то, что от меня осталось, и не без удовольствия скормил какому-нибудь Вепрю Оттуда. Ну или иному потустороннему чудищу, гораздому переводить содержимое Пределов в бессодержательный компост Запредельного.
Однако ничего такого не случилось. Воткнув руку в карман, я успел разрядить кастет Адлера и, скинув в спешно сочинённое заклинание рифмы «час прилива», «справедливо», «торопливо», соорудил брекватер, такой же невидимый и столь же явный, как и та магическая волна, которой предстояло ему противостоять. Вышел брекватер не слишком мощным (для более мощного и Силы требуется гораздо больше), но Волну, тем не менее, сдержал и даже отбросил. И пока Урман её обессиленную, но по-прежнему представляющую серьёзную опасность (теперь уже для него) гасил, я сам перешёл в нападение. Выхватил кольт и, целясь врагу в голову, разрядил всю обойму. Когда нажал на спусковой крючок в последний раз, только тогда в оглушённом выстрелами моём мозгу всплыло запоздало: елки-палки, что ж я делаю, он же нужен мне живым, в смысле — невредимым. Но уже секундой позже подумалось: но ведь и я себе нужен невредимым, в смысле — живым. И, пожалуй, я себе гораздо больше, чем он мне.
К моему счастью или к несчастью (в тот заполошный миг я так и не смог определиться) Урман не оплошал, сумел среагировать и, продолжая усмирять Волну, умудрился соорудить ещё и Расстрельную Стенку. Были бы мои пули простыми железками, ткнулись бы они об эту невидимую глазу профана защиту, да и осыпались на пол. Но в своё время каждую из них я заговорил персонально до умопомрачения, потому Стены не устрашились и стали вгрызаться в неё с настырностью шахтёрских буров. Двух-трёх секунд хватило шахидкам, чтобы прорваться. Другое дело, что силу они убойную потеряли, да и скорость их угасла настолько, что к тому моменту уже справившийся с предыдущей угрозой Урман отмахнулся от них как от стайки назойливых, но по-зимнему заторможенных мух.
Я между тем тоже не сидел без дела, отпустив на волю инстинкт самосохранения, полез за второй обоймой. Но — вот дела! — к своему большому удивлению в кармашке кобуры её не нашёл.
А дальше случилось несколько мгновений передышки.
— Есть ещё чем удивить? — глядя на моё растерянное лицо, спросил запыхавшийся Урман.
— Беспримерным мужеством перед лицом неминуемой смерти, — ответил я. И с силой кинул в него ставший бесполезным пистолет.
Не меняя позы, Урман едва заметно повёл рукой, кольт метнулся в сторону, описал дугу и, словно бумеранг, полетел назад. Как я не пытался увернуться, а своё получил. Удар в грудину был настолько сильным, что меня отшвырнуло к стене, туда, где стоял массивного вида комод. Мало того, что я пребольно ударился спиной при падении на пол, так об этот самый комод ещё и затылком ударился, отчего на какое-то время потерял сознание.
Сколько прошло времени, пока я был в отключке, не знаю, но когда пришёл в себя, обнаружил, что по-прежнему лежу на полу у комода, а окончательно потерявший вменяемость Урман стоит там, где стоял, с высоко поднятыми руками. Между ладонями его наливался энергетический шар, в серебристом сиянии которого пламя свечей казалось чёрным, а всё остальное — тёмно-фиолетовым. Ничего хорошего это сияние для меня не предвещало, зато говорило о том, что для расправы со мной вип нашёл самый надёжный способ из своего магического арсенала. Это был способ, суть которого можно описать простой, но всё объясняющей фразой: «Преврати дракона в тень дракона и утопи тень дракона в море теней».
Сообразив по напряжённому, но удовлетворённому лицу випа, что преобразование из Силы той гадкой субстанции, которая должна будет отправить меня в Запредельное навсегда, подходит к своему завершению, я прибегнул к крайнему — черпнул из Десятинного Котла.
Пусть слова заклинания в силу моего растрёпанного состояния сложились и в нестройный ряд, но — ну, ну, да! — Силу притянуть мне всё же удалось. Вздрогнули, проснулись и забились в конвульсиях несколько ближайших линий Силы, и каждая из тех, которые находились в активном состоянии, отдала мне столько, сколько смогла. Немного. Но в сумме получилось достаточно.
Ощутив прилив, на миг осветивший содержимое моей черепной коробки перламутровым светом, я невольно вскрикнул от восторга, но удержал себя от дальнейшего ослиного ликования, встал на нетвёрдые ноги, сосредоточился и всю полученную Силу незамедлительно обратил в Поцелуй Мери Пикфорд. Что, безусловно, было огромадной ошибкой.
Мне бы задуматься тогда хотя бы на секунду, мне выбрать подходящий боевой приём. Но я не задумался и не выбрал. Ляпнул сходу. Вот и вышла ошибка. Такая ошибка, которая больше, чем преступление.
Чего хотел добиться этим обезоруживающим заклятием, которое лично придумал много лет назад и не раз успешно применял? Понятно, чего. Того, чтобы Урман обмяк, расквасился и вошёл в состояние круасана, обмакнутого в кофе, то есть в такое состояние ума и духа, при котором я мог бы вытащить из него любые сведения. Причём, вытащить без тяжких последствий для него и для меня. А что вышло на поверку? А ничего вышло. Поцелуй стёк с випа, как воды с жирного гуся, и жизнерадостным, переливающимся всеми цветами спектра ручейком убежал куда-то туда, в полумрак, за пределы освещённого свечами и Силой пространства. А вип всего этого даже не заметил. И не почувствовал ничего.
Поначалу я подумал, что напортачил с заклинанием, что переврал слова или нечётко пропечатал желаемый образ, но потом — твою ж в маю, мою в апреле! — вспомнил запоздало, что на вампиров-то чары Поцелуя не действуют. Не то чтобы слабо, а вообще никак. Кровь-то у них в венах не горячая алая течёт. Иная у них там кровь. Серая. Холодная. Гнусная. Кровь, в которую, как утверждала царица Египта Энн Райс Акаша, вошёл злобный природный дух Амель. Такую кровь Поцелуем не взбудоражишь. Не размякнет носитель такой крови от Поцелуя. Пусть даже этот Поцелуй и идентичен самому нежному поцелую златокудрой красавицы по имени Мери Пикфорд.
Осознав, какую лажу спорол, я выкрикнул «Банзай!» и тупо кинулся в рукопашную. Терять мне было уже нечего. Всё потерял. А так ещё была надежда перевести бой из высокого магического плана в низкий физический. Чем чёрт не шутит. И как говорится — была не была.
Однако нанести Урману, как задумал в запале, парочку-другую увесистых плюх, мне не удалось. Сила во всех её проявлениях проживала в этот день, увы, не на моей улице. Урман уже вошёл в такое состояние, что теперь ему достаточно было кинуть один только короткий взгляд, чтобы превратить меня в мыслящую парковую скульптуру «Боксёр-разрядник». Достаточно было ему это сделать, и он это сделал. Пригвоздил и приморозил.
Замерев как по команде «Море волнуется — три» в пяти шагах от лиходея, я, разумеется, с таким положением дел смирился не сразу. Попытался сорваться с места. И ещё раз. И ещё. И каждый раз тщетно. Попробовал хотя бы ногу одну оторвать. Нет, не вышло. Руку вытянуть. Напрасные старания. Только боль волнами по всему хребту от копчика до шейного отдела и неисполнимое желание чихнуть.
Подёргался я так, подёргался внутренне, и в конце концов пошёл на мужественный поступок — признал очевидное. Что ж, подумал не столько смиренно, сколько философски, видать пришло и моё время прощаться с Пределами.
Поскольку у випа в принципе всё уже было на мази и быть-пребывать в Пределах мне оставалось всего несколько секунд, занялся я прощанием ускоренными темпами. Повинился мысленно перед Лерой, передал ментальный привет Ашгарру с Вуангом и зашептал хвалы Великому Неизвестному. В тот момент, когда я уже поблагодарил Его за то, что создал меня крылатым, и начал благодарить за то, что дозволил мне прожить жизнь хоть и негромкую, но не скучную, Урман закончил накопление Силы и, издав душераздирающий вопль, который правильнее, наверное, будет всё-таки назвать воем, швырнул в меня смертоносный шар.
Честно говоря, мне захотелось в тот миг закрыть глаза. Не вижу ничего в том стыдного, но по известной причине сделать этого я не мог. Может, поэтому в моём сознании не пронеслась вся моя длинная жизнь, как оно это положено, а вспомнился из неё всего лишь один короткий эпизод. Такой вот. Однажды, когда я был ещё ребёнком, Наставник выгуливал меня на берегу большой реки и, совмещая приятное с полезным, пытался объяснить взаимосвязь Пределов и Запредельного. Я тупил. Я бестолковился. Я ничего не понимал. И в конце концов устал от умных слов. До слёз устал. Услышав мои всхлипы, Наставник пожалел меня, оставил умные слова, ковырнул сандалией прибрежный песок и сказал: «Это Запредельное». Потом взял у меня бронзовый куличек в виде пятиконечной звезды и сказал: «Это Пределы». Набрал в куличек песка, опрокинул себе на ладонь и показал на песчаную звезду: «Это ты». Потом скинул звезду с ладони и, когда она, упав и развалившись от удара, смешалась с остальным песком, произнёс: «А это ты в Запредельном». Потом он спросил меня: «Теперь ты понял?». И я сказал, что понял. Я тогда действительно всё понял. Хотя, конечно, ничего на самом деле не понял. И всю жизнь не понимал. И даже когда Урман в меня эту свою штуку страшную запустил, меня не озарило. Я просто подумал тогда: интересно, после воплощения и развоплощения возможно перевоплощение? И следом: сейчас узнаю.
Но ничего я не узнал.
Шар, озаряющий зал отвратительно-тревожно пульсирующим светом, прекратил свой завораживающий полёт с полуметре от моего лица, замер на мгновение, а потом стремительно рванул в сторону выхода.
— Что за… — выдохнул озадаченный Урман и повернул голову.
А я вдруг почувствовал, что вновь владею собой, и тоже посмотрел в ту сторону. Или сначала посмотрел, а потом почувствовал. Или даже не почувствовал, а понял. Но это всё не важно. Важно, что именно я увидел, посмотрев в ту сторону. А увидел я, что в дверях стоит Медяковй Штым, непринуждённо, словно воздушный шарик, мнёт-сдувает сверкающую сферу и впитывает её Силу мало-помалу. И когда я это увидел, то подумал: редко выпадает в жизни день, когда удаётся увидеть все ступени эволюции вурдалаков.
Подумал я так неспроста. Медяковый Штым, этот худой, почти костлявый старик, который вечно ходит в старой солдатской шинельке, — один из трёх обитающих в Городе личеров. Личеры — высшая (есть ещё наивысшая, но это за гранью моего знания) ступень развития вампирской расы. Личеры — это вампиры, которые настолько круты в своём бесстыдстве, что не заморачиваются на вытягивание Силы из человечьей или вампирской крови, а тянут Её напрямую из подопечных випов. Известно, что способ обретения Силы, определяет и общественное положение посвящённых, поэтому нет ничего удивительного в том, что личеры являются аристократами вампирского мира. Медяковый Штым один из таких вот беспардонных высокоблагородий. Мало того он ещё и самый главный в городе от Братства, на что и указывает вросший в мясо его правого безымянного пальца перстень с огромным агатом.
Ну а дальше было, что было.
В охотку присвоив Силу волшебного шара, наглый личер довольно крякнул, прошёл в комнату и уселся в кресло, в котором ещё недавно сидел я. Огляделся неспешно и похвалил подопечного випа:
— Подходящая у тебя, Урманчик, шамочная. Ничего не скажешь. В такой выхаживаться — самое оно. Засуху потушил, и тут же на диванчик мягонький. И до утра.
Урман ничего ему не ответил. Он был ошарашен. Никак не ожидал, что поймают его за руку при попытке развоплотить нагона. За подобное самоуправство по головке его вышестоящие вампиры не погладят. К бабке не ходи. Нет, не потому что главари «Братства кровных уз» питают какие-то нежные чувства к нашему крылатому племени, просто за злодеянием такого толка обычно случается война всех против всех, а в такой войне, как показало многовековая практика, горькие кренделя в первую очередь перепадают вампирам. Оно это верховным упырям надо?
Я понял, что ситуация для Урмана сложилась нехорошая. Аховая для него сложилась ситуация. Однако, какие я с поимею выгоды при таком раскладе, сказать было трудно. То, что фортуна повернулась к Урману задницей, вовсе не означало, что она повернулась передом ко мне. Давно живу на белом свете и уже в курсе, что это перед у фортуны всего один и он постоянно занят, а вот задниц у неё много, хватает на всех.
Поначалу Медовый Штым вида не подал, что недоволен поведением подшефного випа. Обжившись (если так можно сказать про нежить) в кресле, расстегнул шинельку, под которой ни оказалось ничего помимо не совсем свежего вида майки, почесал впалую грудь и спросил с тем задором, каким пытают малышей Деды Морозы:
— Ну, Урман, врубаешься, чего это папа вдруг пришкандыбал на огонёк?
Говорил он с веселой придурковатостью, а глядел так, что казалось, подсунь гвоздь, взглядом его вобьёт Урману между глаз. Однако вип глаз не отвёл, выдержал давление и ответил с завидным спокойствием:
— Причина вашего визита, уважаемый личер, мне, признаться, не ведома. Тем не менее, я рад. И весьма.
— Зря, — ухмыльнулся Штым. — Зря, Урманчик, радуешься. На твоём месте, родной мой, не радоваться нужно, а потеть.
— Это отчего же? — почти вызывающе уточнил Урман.
Стало видно, что он страшным усилием воли подавляет непреодолимое желание вцепиться Штыму в горло. Самой лютой ненавистью ненавидел высоко себя ставивший вип старого прощелыгу. И за вид его помойный, и за отношение хамское, и за то, что помешал расправиться по-свойски с драконом. А самое главное — за то, что волею судьбы и решением Братства вынужден ему подчиняться и по первому его требованию Силой питать.
У-у, как у них всё тут непросто, подумал я. Чего доброго сцепятся сейчас. Подумал так и решил: пока суд да дело нужно хоть как-то подготовиться к возможной заварушке. Нашёл взглядом кольт, поднял его и, вспомнив, что где-то лежит футляр с тем самым патроном, которую прикупил давеча в кабаке у Адлера, стал шарить по карманам. Как ни крути, а один патрон гораздо лучше, чем ни одного. В сто тысяч миллионов раз лучше.
Тем времен Медяковый Штым произнёс, не сбиваясь с клоунского тона:
— А потеть тебя нужно, потому как виноват ты, Урманчик. Сильно ты перед папой провинился.
Урман нервным жестом поправил бабочку:
— Это в чём же?
— А ты не торопись, Урманчик. Сейчас тебе папа всё растолкует в лучшем виде. — Штым вдруг посерьезнел, сдвинул брови, отчего на лбу его прорезалась глубокая морщина, и стал цедить через губу: — Сдаётся прошлым разом ты, меринос бакалайный, перед сливом на ампуляк повёлся. Да ещё и с гомыркой. Нехорошо это, нехорошо. Ох, как нехорошо. Поплохело папе потом и опосля. Конкретно поплахело. Такой абстяг у папы кручённый случился, что три дня трикотажем закусывал. Что за гормыдор такой? Что за выверт тухлый?
Судя по всему, Урман никак не ожидал упрёка в преднамеренном отравлении. В чём, в чём, только не в этом. Оторопел на секунду, смутился и, видимо, не чувствуя за собой такой вины, стал как-то очень по-детски оправдываться:
— Не может такого быть. Свежак пользовал, ни разу не консервированные массы. Честное слово.
— Аще бо нет? — кисло хохотнул Штым.
Урман помолчал нмного, взял себя в руки и дёрнул горделиво подбородком:
— Обидны мне ваши претензии, уважаемый.
И тут повисла длиннющая пауза, в течение которой вампиры с переменным успехом лупили друг друга взглядами, а я, переведённый обстоятельствами в разряд статиста, заряжал пистолет найденным таки патроном.
Первым мёртвую тишину прервал Медяковый Штым.
— Ладно, — поправив сначала одну лямку майки, затем другую, сказал он если и не миролюбиво, то, во всяком случае, уже не так угрожающе, — замнём пока. Может, и не твоя вина, может, папа мидий лишку хватил. Всяко случается, замнём. Другая тема имеется. И эта тема поважнее будет. — И тут его голос вновь преобразился и сделался грозен. — Чего бегал, скажи? А, игрун? Чего хоронился? Отдачу пропустил. Потом и опосля ещё одну. Нехорошо это, нехорошо. Ох, нехорошо. Что за дела? Ась? Думаешь, мирволить буду по старой дружбе? Так не будет того. Вам, испольщикам, раз только дай слабину, блокадником сдохнешь. Чего молчишь? Рисуй давай. Лепи горбатого. Или неча сказать?
— Виноват, — спокойно сказал Урман. — Но — обстоятельства. Дела случились неотложные.
— О, как! — театрально всплеснул руками Медяковый Штым, а потом вдруг резко убрал дурашливую улыбку с лица и злобно зашипел: — Не шушерь, меринос. Дела он делал. У тебя, меринос ты бакалайный, одно дело — папу Силой снабжать своевременно. Другие дела — стос поганый. Аль иначе думаешь? Мозгом-то?
И этот агрессивный выпад ничуть не смутил Дикого Урмана, напротив он как-то весь подобрался и ответил с достоинством:
— Мой незавидный статус требует смирения, и я, уважемый лечер, готов явить смирение. Но трамвайного хамства не потерплю.
Урман аж подпрыгнул:
— Незавидный, говоришь, статус. Так, так, так. То-то до меня слухи стали доходить, что силёнку копишь. Соскочить решил? Или на третье рождение намылился? Не рано ли?
— В самый раз, — самонадеянно ответил вип, выкрикнул какую-то тарабарщину на всё том же непонятном мне языке и поднял руку.
Но ничего не успел сотворить. Чуток, видать, могущество свое переоценил. Штым только бровью повёл, и вожак диких мигом был повержен. Рухнул на пол с переломанными руками и с переломанными ногами. Рухнул тряпичной куклой. И завыл от нестерпимой боли.
— На кого руку, сучонок, поднял, — злобно выдохнул Штым. Некоторое время дрожал от негодования, потом успокоился, откинулся на спинку, прикрыл глаза, сказал: — Стала кровь хитра — а только мы похитрей.
И стал тянуть Силу из содрогающегося Урмана.
Заворожено глядя на яркую дугу, в свете которой пламя догорающих свечей стало вновь чёрным, я стал дожидаться, когда всё это дело кончится. Должно же оно когда-то кончится, думал я. И уйти не мог. Мне нужен был Урман. Мне нужно было с ним договорить. Я должен был каким-то образом вытрясти из него информацию о том, где скрывается горбатый карлик. А так бы конечно бежал я от этой семейной склоки. Во всю прыть бы бежал и не оглядывался. Не люблю присутствовать при подобных экзекуциях. Не человек, удовольствия от чужого страдания не получаю. Никакого.
Вопреки моим ожиданиям, Штым набрался под завязку достаточно быстро, и трёх минут не прошло. Видимо, до этого уже кого-то из випов обнулил. А может, даже и ни одного. Когда дуга передачи между ними оборвалась, Урман остался лежать, где лежал, а Штым поднялся из кресла, не обращая на меня никакого внимания, дошагал до прострелянного дивана, грубым образом скинул на пол Хабиба и, по-стариковски кряхтя, сам растянулся.
Я дождался, когда личер успокоится, и, старясь не шуметь, подошёл к затихшему и на вид совсем уж какому-то дохлому Урмуну. Присел на корточки, энергично потряс его за плечо, а, когда он открыл глаза, поводил стволом кольта ему под носом, словно баночкой с нашатырём:
— Чуешь, дурилка, чем пахнет. Говори, где горбун, иначе, кердык.
— Шёл бы ты, дракон, — простонал Урман, кривясь от невыносимой боли. Потом с трудом приподнялся на локтях, нашёл взглядом до сих пор не пришедшего в сознание Хабиба и что-то тихо прошептал.
Дальше случилось чудное. Хабиб, до этого не подававший признаков жизни, вскочил с пола, как ужаленный, и, не приходя в сознание, с закрытыми глазами, подошёл к столу. Нашарил оставленную Урманом трость, ухватил её как дворник хватает ломик при колке льда и направился к спящему Штыму.
Мне это не понравилось, я проорал випу:
— Чего творишь!
И вырубил его коротким, но сильным ударом в челюсть.
Хотя он и отъехал, но это ничего не изменило, Хабиб послушно продолжил выполнение полученного приказа. Навис над безмятежно сопящим Штымом и замахнулся.
— Видит Сила, не хотел, — произнёс я и выстрелил, почти не целясь.
Трудно промазать, стреляя с пяти шагов, я и не промазал. Пуля Адлера вошла Хабибу под левую ключицу. Он качнулся, выронил трость и рухнул на Штыма. Застрявшее в теле Хабиба серебро стало стремительно разъедать плоть. Плоть зашипела, задымилась и стала смердеть.
— Хорошо, дракон, пульнул, — сказал личер, распахнув глаза. — Мастерски.
С брезгливой миной на лице отбросил от себя тело Хабиба, резко сел, громко зевнул и, почёсывая впалую грудь, пнул ботинком трость Урмана. Трость покачнулась. Он пнул её сильнее, и она покатилась по полу, каким-то непостижимым образом удачно преодолевая огромные щели между досками. Докатилась до своего хозяина, взлетела набалдашником вниз метра на три, почти под потолок, затем перевернулась и с жуткой силой вонзилась випу в грудь. Урман даже не охнул. Он не охнул, зато я, глядя на то, как расползается дымящееся пятно на груди упокоенного випа, воскликнул:
— И на кой хрен ты это сделал, Штым?
— Плохой он был испольщик, — доверительным тоном, как старому другу, ответил личер. — Ненадёжный. Короче, заслужил, поганец.
— Возможно, и заслужил, только он был мне нужен.
— Зачем это?
— Затем.
Штым зевнул так, что аж на слезу его пробило, растёр слезу эту одинокую по плохо выбритой щеке и сказал:
— Небось, дракон, хомма с него хотел стребовать?
— Откуда знаешь? — напрягся я.
— Как это откуда? Всё оттуда же. Силу берём по праву, память — в нагрузку. Чужие мыслишки — дрянь несусветная, спору нет, но иной раз бывает что и на руку. — Он пнул ногой дымящегося Хабиба. — Видишь, что без присмотра творят. Хулиганства безобразничают. А иной раз и в спину пырнуть норовят.
Переварив то, что он сказал, я осторожно поинтересовался:
— Надо понимать, ты теперь знаешь, где скрывается горбун?
— Ну а как же, дракон, конечно. Теперь-то.
— А поделишься?
Штым посмотрел на меня пристально, потом расплылся в подобии улыбки, оскалив кривые прокуренные зубы, и продекламировал нараспев:
После чего восхищённо потряс головой:
— Да ты, дракон, типа того… витий.
— Угу, — кивнул я. — Витий. Только не я — другой. Так ты ответишь?
— Про хомма-то? Про хомма — запросто. Дворец ледовый знаешь?
— Недостроенный?
— Вот-вот. Там твой горбун. Иди, бери.
Ни доли секунды больше не желая оставаться в этом паршивом месте, я сразу потопал на выход. Но на пороге остановился, обернулся и сказал:
— Спасибо тебе, Медовый.
— Это тебе, дракон, спасибо, — ответил вновь растянувшийся на диване личер. — Ты спас меня.
— Ты первым, — напомнил я.
— Ну, коль так считать, то ты, дракон, тогда уж Воронцову скажи спасибо. Это он мне шепнул, где Урмана ловить. А так бы…
Штым не говорил, щёлкнул пальцами, свечи тут же погасли и сделалось темно.
Выйдя на свежий воздух (ох каким же он мне действительно свежим показался после тамошней вони и гари), вздохнул я полной грудью, умыл лицо дождём и пошёл спешным шагом к машине. А по дороге пытался понять, кто же кого в этой истории использовал грубо. Я ли Воронцова, Воронцом ли меня или Медяковый Штым нас обоих. Думал-думал, но так ничего и надумал. И так решил: да какая, собственно, разница, кто кого. Этот мир на том и стоит миллион лет, что все всех имеют. И ещё миллион на этом простит.
Глава 20
Запасную обойму я нашёл в бардачке в тот момент, когда перебирался по плотине на левый берег. Сунулся за сигаретами, и вот она. Когда и при каких обстоятельствах я её туда закинул, в упор не помнил, и, честно говоря, даже не попытался вспомнить. Хотя надо было бы, конечно. В последнее время всё чаще так бывает, что погрузишься в глубины своего богатого внутреннего мира, а на том, что в это время делают ноги-руки и куда смотрят глаза, не сосредоточиваешься. Эдак и пропасть недолго. Но сейчас мне было не до самоанализа, нашёл и нашёл. Перезарядил пистолет на ходу и сунул его обратно в кобуру.
Подъехал я замысловатыми развязками к тому безобразию, которое задумывалось как ледовый дворец, да в виду крайней скудности городского бюджета так им и не стало, где-то в половине пятого. Вырубил фары, заглушил мотор и осмотрелся. Мрачно. Дождь, тёмное низкое небо, в мутном мареве фонарного света размытые очертания причудливого строения — небольшой пирамиды, поставленной на большую усечённую. Забора нет. Избушки сторожа или чего-то в этом роде тоже, во всяком случае, с этой стороны точно. Между дорогой и стройкой тянется на несколько десятков метров пустырь, поросший бурьяном и диким кустарником. Хорошо видно, как пожухлые стебли и лысые прутья клонятся то в одну сторону, то в другую на хлёстком ветру. Ветру-бродяге тут, вообще, есть, где разгуляться. И чем поживится, тоже есть. Носится беспрепятственно туда-сюда и точит, грызёт, глодает на пару с дождём железобетонный скелет, кинутый людьми на растерзание.
Подняв воротник, я выполз из машины и быстро побежал к жутковатому сооружению сначала по гравию, а потом и — чпок, чпок, чпок — по откровенной жиже. Вскоре добрался до широкого, вырытого под какие-то коммуникации и уже укреплённого рва. Хотел было прыгнуть вниз на бетонный короб, а потом с него на земляную насыпь и тем решить проблему одоления преграды, но вовремя разглядел невдалеке подобие мостика из пробитой в двух местах плиты перекрытия, от дурацкой мысли корчить из себя кенгуру отказался и перебрался на ту сторону, не рискуя здоровьем. А там до цели было уже рукой подать. Через несколько шагов расплывчатая махина вдруг обзавелась вполне конкретными деталями, и я увидел подходящий проём в стене. Метнулся туда и благополучно пробрался внутрь.
Внутри было так, как оно и должно быть на объекте, скоропостижно превратившимся в долгострой. Какие-то путанные лестничные пролёты, технологические выступы, кучи строительного хлама, монтажные леса, голая арматура, металлические непонятного назначения конструкции и неведомо куда ведущие коридоры. И никого вокруг. Тишина как ночью на кладбище. Только слышно, как бьют по жестяному листу капли неутомимого дождя да тревожно гудят стальные балки.
Признаться, поначалу мне показалось, что ошибся Медный Штым, обмишурился, зря послал меня в железобетонные безмолвие. Но только собрался отправить в адрес личера пару ласковых, где-то там, далеко за буреломами из металлоконструкций и высоко под недоделанным сводом, вспыхнул и пробился ко мне рванными ошмётками электрический свет. После чего кто-то очень высоким, почти писклявым, но при этом достаточно громким голосом позвал меня:
— Иди сюда, дракон. Иди сюда.
Вытащив пистолет, я снял его с предохранителя, передёрнул затвор и пошёл по лабиринту коридоров сначала на голос, а когда он стих — уже наугад.
Как известно, все дороги мира ведут в Вечный город, тут все пути, похоже, выводили на центральную арену. Возможно, я выбрал и не самый оптимальный маршрут, но, немного поплутав и несколько раз попав в ситуацию, где был вынужден проявить гимнастическую ловкость, всё-таки выбрался на эту кусками выхваченную из темноты светом двух бьющим крест накрест прожекторов и щедро усыпанную строительным керамзитом площадку.
Хомма обнаружил не сразу, а только тогда, когда услышал доносящийся сверху тихий металлический визг. Задрав голову в поисках источника столь противного звука, я увидел, что к одной из потолочных балок присобачены два троса, концы которых закручены в небольшие петли, а в петли просунут кусок стальной трубы диаметром чуть больше спичечного коробка. На этом неудобном огрызке и сидел горбун. Он не просто так сидел, он раскачивался на этой незамысловатой конструкции как на самых обыкновенных качелях. Отсюда и визг.
Высота, на которой чудачил хомм, была приличной, метров пять, не меньше. И на такой высоте он был до меня недосягаем. Нет, разумеется, я мог бы снять его пулей, но это был не тот вариант. Потому предпочёл воздержаться от резких движений, набраться терпения и посмотреть, что будет дальше. Как я и полагал, ждать пришлось недолго. Не прекращая раскачиваться, хомм понаблюдал несколько секунд за тем, как я наблюдаю за ним, и вдруг с сильным южнославянским акцентом пропищал назидательно:
— Между прочим, дракон, из такой вот непогоды можно извлечь полезный урок. Ты спросишь, какой? Я отвечу. — Добиваясь большей амплитуды, он стал при махе вперёд откидываться назад и выбрасывать ноги, а при махе назад подбираться, при этом не прекращал велеречиво рассуждать: — Когда начинается дождь, ты, чтоб не намокнуть, бежишь в укрытие, но как бы резво не бежал, всё равно прибегаешь мокрым. А если бы не бежал, но шёл, добрался бы до места точно таким же мокрым, зато не запятнал бы себя суетой. Вот и урок: не стоит суетиться, когда попадаешь под дождь. И так же, без суеты, надлежит действовать и в иных обстоятельствах.
Не очень понимая, куда клонит этот мелкий плут в тёмно-синем комбинезоне строителя и в белой каске на непропорционально огромной голове, я счёл за лучшее помолчать. Хомм между тем раскачался так мощно, что стал пролетать уже почти над всей ареной. Я даже стал переживать за него. Вернее, не за него, конечно, а за Леру. Разобьётся, кто её расколдует?
И как в воду глядел.
В какой-то момент хомм при махе вперёд вдруг резко откинулся назад, но не свалился, а зацепился за трубу ногами и так повис. А ещё через мах выкрикнул что твой заправский воздушный акробат «Опля!», выгнулся, оторвался от перекладины и пошёл вертеть в воздухе сальто-мортале. Сколько карлик там этих оборотов исполнил, я не считал, но последний он точно не докрутил, и в результате приземлился не ноги, а на спину. «Приземлился» — это мягко сказано, на самом деле — рухнул. Ах, бах, и только каска в сторону. У меня аж оборвалось всё внутри и похолодело.
Матюгнувшись в сердцах, я подбежал к распростёртому телу и с силой пнул его ногой:
— Эй ты, циркач грёбанный, не вздумай сдохнуть.
Хомм, глаза которого были закрыты, а руки-ноги раскинуты в стороны с разнузданностью, присущей трупам, никак на мой удар не отреагировал, даже не охнул. Я ещё больше забеспокоился и наклонился, чтобы уловить дыхание. И тут вдруг горбун ожил, распахнул глаза, обхватил меня обеими руками за шею, как маленький мальчик долго отсутствующего папу-подводника, и горячо зашептал прямо в ухо:
— Давным-давно в Китае жил почтенный муж, который жутко любил драконов. Он украшал свою одежду и мебель изображениями этих существ, собирал фигурки крылатых и книги про них. Дошло до того, что его увлечение привлекло внимание драконьего бога, и однажды перед окном этого китайца появился самый настоящий дракон. И вот ужас: в ту же секунду почтенный муж скончался от страха. Видимо, он был из тех, кто говорит громкие слова, а на деле ведёт себя иначе. Я, дракон, не из таких. Я из других. Я не умру.
Когда я сумел оторвать от себя его руки-клещи, он как ни в чём не бывало вскочил на кривые ножки, дотянулся рукой до горба и пощупал — не исчез ли от удара? Убедился, что не исчез, огорчаться не стал, проковылял, по-утиному раскачиваясь из стороны в сторону, к потерянной каске, нахлобучил её на голову, постучал по пластмассе в районе гордой надписи «СМУ — 18» и повторил:
— Нет, не умру. — После чего добавил: — И убить меня нельзя. Так что спрячь свою глупую игрушку, дракон.
Ни фига я его не послушался, не спрятал.
Тогда хомм расхохотался в голос, а когда насмеялся вдоволь, вытащил из кармана один за другим пять огромных апельсинов и стал жонглировать ими. Получалось это у него достаточно ловко, и он похвалился:
— Видишь, дракон, чему научился, пока ждал тебя. Если б не это, сдох бы от скуки.
— Снял бы номер в «Интуристе», не скучал бы, — понимая, что ещё не пришёл момент говорить о главном, заметил я.
После этих моих слов и без того морщинистое личико хомма ещё больше сморщилось:
— Не люблю я, дракон, когда на меня пялятся. А там бы пялились. Всегда пялятся. А тут нормально — никого.
С этими словами он вытащил ещё два апельсина и умудрился пристроить их в круг к остальным.
Тут моё терпение лопнуло, и я начал раздражаться:
— А может, уже хватит цирка? А? Может, о деле поговорим?
— Обязательно. — Руки хомма тотчас повисли плетьми, и оранжевые шары один за другим попадали на керамзит. — Ты прав, дракон: делу время, потехе час. Итак, о деле. — С этими словами он одной ладонью оттянул лямку комбинезону, а второй обхватил подбородок. Сделал умное лицо и спросил: — Ситуацию чётко понимаешь?
— В общих чертах, — ответил я и, чтоб не быть голословным, обрисовал широким мазком: — Твоему хозяину Вещь нужна, а мне нужно, чтоб ты девчонку расколдовал. Вот, собственно, и вся ситуация. Так?
Лицо хомма растянулась в лягушечьей улыбке:
— Умный ты, дракон. Всё понимаешь.
— Нет, не всё, — признался я. — Есть вещи, которые в упор понять не могу. Объясни, чего сразу ко мне не пришёл? Зачем нужно было, чтоб я тебя так долго искал?
— Хозяин так велел. Сказал: надо подождать, чтобы дракон подёргался, и крючок поглубже заглотнул. Чужие люди это чужие люди, а вот когда кого-нибудь из его знакомых проклятие зацепит, другая песня начнётся. Прав хозяин оказался. Как будто предвидел, что журнал к девчонке попадёт. А может, не «как будто», а точно предвидел. С него станется. Гений гениальный. — Хомм поднял руки над головой, потряс ими и повторил по слогам с театральным пафосом: — Ге-ни-аль-ный! — После чего ударил по кончикам ушей и вынес диагноз: — А вот ты, дракон, лопух предсказуемый. Просчитал тебя хозяин. Куда ты теперь денешься? Никуда не денешься.
Вряд ли горбун хотел обидеть меня специально, он ляпал языком просто так, не думая о последствиях, но я, тем не менее, обиделся. И не утерпел, попробовал унизить:
— Ты, фашист психованный, с таким придыханием поминаешь хозяина, будто кайф реальный ловишь, оттого что раб.
— А ты, дракон глупнький, — быстро парировал хомм, — слово «раб» говоришь с таким презрением, будто сам не раб.
— А что — раб?
— Конечно. Раб собственного долга. — С этими словами он вытащил из пустого кармана очередной апельсин, вонзил в него когти и двумя нетерпеливыми движениями содрал кожуру. Затем разломил надвое, одну половину поспешно сунул в рот, вторую протянул мне. Когда я брезгливо отмахнулся, он и мою долю затолкал в себя. Быстро всё это дело прожевал, обтирая подбородок от неопрятно стекающего сока, проглотил шумно, удовлетворённо крякнул и продолжил: — В этом мире, дракон, нет свободных, все рабы. Рабы любви, обстоятельств, кредитных обязательств, социального статуса, ещё чего-нибудь типа этого. Свободных людей нет в принципе. Как, впрочем, нет и свободных наций. Европейцы — рабы своего благополучия, африканцы — нищеты, американцы — туполобого мессианства, русские — идиотского благородства, китайцы — усердия ничем неоправданного. Разве нет? Все рабы. Таков мир, такова природа людей.
— Я не человек, — на всякий случай напомнил я.
Хомм не обратил на моё замечание ни малейшего внимания и стал развивать тему:
— Но если суждено быть рабом, почему бы тогда ни выбрать хозяина самостоятельно. Разве это, дракон, не разумно? Что плохого в том, чтобы смириться с неизбежным, сознательно презреть тело и разум и всецело посвятить себя служению избранному господину? Можно считать удачей, если ты к тому же наделен мудростью и талантами и умеешь правильно воспользоваться ими. Но если даже…
— Кончай трындеть, — грубо прервал я его высокопарный спич. — Меня от твоего гимна раболепию сейчас стошнит. Причём, натуральным образом.
Хомм прижал ручонки к груди:
— Молчу, молчу, молчу.
— Молчать не надо, — сказал я требовательно, — дело надо говорить. Я вот тут ещё кое-чего не понимаю. Скажи, на кой чёрт хозяин приказал вампиров на меня науськать?
Этот вопрос хомма явно смутил. Он потупил взор, спрятал руки за спину и, как нашкодивший малыш, стал ковырять керамзит носком ботинка. А когда вырыл изрядную яму, признался:
— Это не хозяин приказал, это была моя личная инициатива. Подумал, зачем сложности городить? Зачем время тратить? Почему бы, подумал, не прикончить двух нагонов, а их тела потом на Вещь у третьего не обменять. Увы, не вышло ничего. Подвели меня вампиры.
— Ну ты и урод, — покачал я головой. — А с виду не скажешь.
— Ничего личного, дракон, — промямлил сконфуженный хомм.
— Типа — бизнес?
— Ага, просто бизнес. А что не вышло, так, знаешь, я этому даже рад. Есть лишний повод восхититься мудростью хозяина.
— А он в курсе твоих выкрутасов? Не настучал ещё по черепушке?
Хомм, будто ждал от меня такого вопроса, вскинул назидательно указательный палец и вновь заговорил как по писанному:
— Известно, что рыба не будет жить там, где есть только чистая вода. Но если вода покрыта ряской и прочими водорослями, рыба будет жиреть и резвится. Хомм тоже будет лучше исполнять обязанности, если некоторые стороны его жизни будут скрыты от постороннего внимания. Мой хозяин понимает это, и относится к подобным проявлениям моей самобытности с пониманием.
— Повезло тебе, шустрила, с хозяином. Другой бы кто за подобную реализацию свободы воли головёнку-то оторвал.
Здесь хомм меня поправил горделиво:
— Ошибаешься, дракон, — не повезло мне. Я предпочёл этого господина сознательно.
— Ну это ты, конечно, молодец, — похвалил я, едва сдержав презрительную улыбку. После чего спросил: — Скажи, а почему выбрали именно наш Тайник? По жребию?
— Никакого жребия, — помотал головой карлик и сказал просто, даже как-то до обидного буднично: — Он первый в списке. А на самом деле все будем потрошить.
Эта новость меня, признаться, здорово ошарашила:
— О как! Я-то думал, Неудачник решил урок брату припадать показательный, а он, выходит, на все фрагменты Вещи позарился. А ты, фашистская морда, в курсе, зачем ему это?
— В планы хозяина, не посвящён, — ответил хомм. — Но верю, что они грандиозны.
— Как бы твой хозяин не надорвался. Вещь — штука неподъёмная. Ой, неподъёмная. Не боишься сиротой остаться?
— А это не твоя забота, дракон.
— Правильно, не моя, — согласился я. — Моя забота — девушка спасти. Говори, как будем сделку проводить.
Хомм посмотрел на меня недоверчиво, убедился, что не шучу и даже не иронизирую, после чего пожал плечами:
— Странно.
— Что «странно»?
— Странно, что ты так легко согласился Вещь предать. Признаться, не ожидал я, дракон, от тебя такого.
— И чего ж тут странного? Думал, я тут в падучей биться буду?
— Нет, но… Неужели муки морального выбора тебя, дракон, не тревожат?
Это было уже слишком, и я взревел:
— Шёл бы ты, дядя, морковку корчевать! Где ты тут выбор видишь?! Девчонка должна жить, другого — не дано.
— Одну спасёшь, а миллионы погибнут, — издевательски-плаксивым тоном напомнил карлик. Подошёл поближе и стал заглядывать мне в лицо. — Слышишь, дракон, — погибнут. Хозяин-то мой, сам знаешь, крут. И коварен ещё. Ох, как он коварен! На пути к короне, щадить людишек не станет. Тебя это не смущает?
Я схватил его за грудки и поднял. Хомм зажмурился, подумав, что сейчас ударю, но я лишь прорычал ему в лицо:
— А ты думаешь, можно спасти миллионы душ, погубив одну? Если ты так думаешь, то ты идиота кусок.
Сказал и аккуратно вернул его на прежнее место.
— Не хами, дракон, хомму, — оправив курточку, грозно пропищал карлик. А потом не выдержал и прыснул: — Смотри-ка, каламбур вышел. — Затем помолчал важно и, погрозив мне пальчиком, заговорил в разоблачительном тоне: — Знаю, знаю, что ты дракон надумал. Ты так про себя решил: Вещь отдам, девчонку спасу, а потом, когда руки будут развязаны, надеру Неудачнику задницу. А заодно и хомму его. Так?
— А хотя бы и так, — сказал я с вызовом.
— Ха-ха, — произнёс хомм и, изображая, как ему смешно, схватился за живот. — Ха-ха. Вздумал теля бодаться с дубом.
— Врёшь, сука. И я не теля, и твой господин ни разу не дуб.
Хомм перестал лыбиться, сделал серьёзное лицо и кивнул:
— Да, дракон, точно, он не дуб. Он, как я уже выше отметил, гений. Он всё предусмотрел. Он знаешь, как мне сказал? Он сказал: «Чтоб победить дракона, нужно сделать его своим».
Я скрутил фигу и, чуть наклоняясь, сунул ему под нос:
— Вот вам. Понял? Никогда я для вас своим не стану.
— Это смотря что под словом «свой» понимать, — сведя глаза в кучу, сказал хомм. — Впрочем, не важно. Послушай, чего скажу. Чтоб у нас всё сладилось, ты помимо того, что Вещь мне отдашь, ещё одно обязательное условие исполнишь.
Тут уж я завёлся не на шутку:
— Что вам ещё такого сделать? Песню спеть? Танец сбацать? Да ради бога. — Поставил одну ладонь на пояс, другую положил на затылок и, пританцовывая на месте, проревел: — Эх, яблочко, куда ты котишься, к Колчаку попадёшь, не воротишься. А я бедненький, а я несчастенький, развалился я да на частеньки.
— Браво, браво, брависсимо, — прервал меня хомм вялыми аплодисментами. — «На частеньки» — это жизненно и очень впечатляет. Но исполнить ты, дракон, должен не это. Другое. Вот что: вместе с Вещью принести мне сердце своё золотое.
Сначала меня чуть удар не хватил, а потом я налетел:
— Чего-чего ты сказал?! Повтори!
— Да ты не волнуйся так, — испугавшись моей реакции, попятился хомм и затараторил: — Я же не профан какой, понятие имею. В надёжное место помещу, пропасть не дам. В тиши, да в хладе держать буду.
— Слушай, — наклоняясь, постучал я его по каске, — а тебе не кажется, что вы немного зарываетесь?
— А чего тут такого? Чего страшного? Какая разница, у тебя в тайнике оно будет лежать или у меня? Как по мне, так большой разницы нет.
— Ну вы и подонки, — только и смог выдохнуть я.
— Спасибо, — скромно потупившись, пискнул хомм. Выдержал долгую-долгую паузу и поднял на меня своё гутаперчивое личико: — Ну что, дракон? Договорились?
Сил нет, как мне хотелось сказать ему какую-нибудь увесистую резкость, после чего пнуть так, чтоб летел долго-долго. Но я лишь выдавил из себя:
— Договорились. — А потом не выдержал и, имея в виду Неудачника, проорал в никуда: — Черт меня побери, неужели у него всё получится?!
— Никогда, — был мне немедленный ответ.
Вздрогнув от неожиданности, я оглянулся на голос и увидел, что из плохо освещённого проёма в той зоне, где по плану должна была быть южная трибуна, выходит Варвара.
И на этот раз она была в чёрной коже, правда, без мотоциклетного шлема. Зато держала в левой руке бронзовый кхопеш, похожий формой на турецкий ятаган. Эта штука выглядела настолько древней, что, пожалуй, легко могла принадлежать одному из бойцов личной гвардии Рамсеса Второго.
Узнав в непрошенном госте агента карагота, хомм нахмурил густые свои бровки:
— Ты зачем здесь, Барбара?
— Как будто ты, Газзтан, не знаешь, — усмехнулась ведьма и, продолжая приближаться, демонстративно поиграла своим ужасным резаком.
— Что за дела? — промямли карлик. — Ведь был же уговор. Ты помнишь, Барбара? Помнишь ту ночь в Палермо?
— Тогда ты был молодым, высоким и голубоглазым, а я влюблённой дурой, — сухо, без каких либо эмоций сказала ведьма. — Теперь всё иначе.
Огорчённый хомм всплеснул ручонками:
— Барбара, ну как же так? Ведь уговор был навсегда.
И получил немедленный отлуп:
— Удивительно подобную чушь слышать от Тёмного. — Варвара тряхнула своими рыжими космами. — А я всегда считала, что для Тёмного нет никаких договоров за пределами текущего мгновения. Или ты, Газзтан, резко масть сменил?
— Послушай, Барбара, — упавшим голосом сказал хомм, — пусть Жан и Поль смертельные враги, но мы-то с тобой…
— Газзтан, — оборвала его ведьма, — послушай меня и заруби себе на носу: нет никаких «мы с тобой».
— Сейчас нет, — согласился хомм. — Но почему бы в будущем… Да-да, почему бы в будущем, памятуя прошлое…
И вновь Варвара его оборвала:
— Похоже, долгое пребывание в России действует разлагающе на слабые тёмные умы.
После чего сокрушённо покачала головой, как бы искренне сожалея об ужасающей беде, что приключилась со старым её знакомым.
Осознав, что с ведьмой не договориться, хомм стал теребить меня за рукав:
— Дракон, чего молчишь. Слышишь, дракон? Ты слышишь меня? Ну чего ты молчишь? Если она меня прикончит, девчонке тоже не жить.
Я понимал, что шансов у него нет никаких. Абсолютно. Стоящий за ним знаменитый колдун был, как я знал, не менее силён, чем приславший Варвару глава Великого круга пятиконечного трона, но заговорщик-интриган не то же самое, что боец карагота, способный при случае кому хочешь тыкву срубить. Совсем не то же самое. При равной Силе второй первого в порошок разотрёт за три секунды и за милую душу. Поэтому действительно стоило вмешаться.
И я начал с главного.
— Послушай, Варвара, — обратился я к ведьме, — понятно, что твой шеф во чтобы то ни стало намерен отстоять Тайник. Но ты можешь мне сказать, что будет с Лерой, когда ты зарежешь этого клоуна?
И кивнул в сторону поддакивающего мне горбуна.
— Наберись мужества, дракон, — глядя куда-то поверх моего плеча, ответила Варвара. — Не мне тебя учить: мир, который держится на этически двусмысленных принципах, крайне суров.
Эти слова она произнесла таким бесстрастным и докторальным тоном, что мне показалось, что говорит не она, что её устами говорит кто-то другой, тот, кто привык поучать и властвовать. Возможно, даже — скорее всего, так оно и было. Но возразил я именно ей:
— Нет, подруга, так не пойдёт.
— Решение уже состоялась, — отрезала ведьма. — Угроза должна быть ликвидирована любой ценой.
Произнеся в чужой манере эти чужие слова, она перешла от слов к делу, перекинула кхопеш в правую руку и, выкрикнув «Нет добра, нет зла, есть усмирение!», направилась к смертельно перепуганному хомму.
Пытаясь упредить непоправимое, я решительно встал на её пути. Это было смело, но не очень продуктивно. Не помедлив ни секунды, ведьма ухватила свободной рукой моё запястье, сделала короткий шаг в сторону и молниеносно провела столь ловкий приём, что я, перекувыркнувшись, рухнул на спину. А когда, отослав ведьме букет проклятий, поднялся, увидел, что она, активировав оружие (отчего покрытый зелёной патиной серп превратился в тугую огненную дугу), нависла над присевшим от страха карликом.
— Не надо! — проорал я и от дикого отчаянья сделал то, что в этот день уже делал. Кинул в неё пистолет. А что я мог ещё сделать?
На этот раз бросок получился, кольт угодил ведьме рукояткой между лопаток. Хотя удар вышел сильным, она устояла на ногах и лишь охнула от неожиданности и боли. А потом обернулась. И для того, чтобы бросить укоризненный взгляд, обернулась и для того чтобы глянуть, не надумал ли я ещё чего-нибудь глупого учудить. Затратила она на это не больше секунды, но карлик воспользовался этим мигом между прошлым и будущим, отскочил, словно жаба в сторону и попытался, быстро-быстро перебирая кавалерийскими ножками, скрыться за одной из несущих колонн. Далеко однако убежать не сумел. Варвара нагнала его без особых усилий и, когда ей оставалось сделать лишь два шага, вновь замахнулась. На том бы, пожалуй, жизнь коварного посланника злодейского колдуна и закончилась, но тут вдруг с громким хлопком взорвались прожектора, и на некоторое время наступила темень.
А потом полную кромешность, которую никоим образом не могла рассеять своим зелёноватым огнём узкая плеть кхопеша (она скорее эту кромешность подчеркивала), вытеснил сумрак — тень, брошенная Запредельным на Пределы. И вот тут-то стало видно, что карлику со странным именем Газзтан пришла на выручку серьёзная подмога: то ли сам он умудрился наколдовать, то ли хозяин выручил, но на пути агента-усмирителя выросла шеренга удам-тугеннов.
Девять двухметровых монстров-гоплитов, чьи доспехи отсвечивали благородным перламутром, а забрала глухих шлемов не могли скрыть уродливости морд, как по команде выдернули из ножен мечи майхары, и от холодно-синеватого сияния широких лезвий стало светло так, как будто в ограниченное бетонном пространство, где мы все находились, каким-то чудом свалился шмат луны.
Варвара, явно не ожидавшая такового поворота, отступила на шаг, потом ещё на один, и ещё на один, а удам-тугенны пошли в атаку. С присущей им уверенной неспешностью они стали, выбивая пугающий ритм ударами мечей о круглые щиты гоплоны, обходить ведьму с флангов и брать её в кольцо. Упреждая тот момент, когда кольцо сомкнётся, Варвара коснулась пола кончиком огненной дуги и, крутанувшись на месте, начертала неотрывным движением охраняющий круг. Нерасторопные монстры, лишь через секунду замкнувшие фланги, замерли у опасной черты и страшные морды их, освещённые теперь не только сиянием ледяных мечей, но и всполохами огненного коловорота, перекосило гримасами злобы.
Понимая, что выиграла лишь минуты, но не жизнь, ведьма закружилась на месте с поднятым кхопешем. Не веселья ради, конечно, она кружилась. Вглядываясь в морды удам-тугеннов, пыталась угадать, который из девяти броситься первым, когда ослабнет Сила круга. Однако демоны не стали дожидаться, когда схлынет опасность, один из них (что здорово меня удивило — всякое видел, такое в первый раз) издал яростный вопль, от которого содрогнулись стены, и шагнул вперёд, замкнув тем самым на себя всю Силу отврата. В следующее мгновение он, как и следовало ожидать, вспыхнул очищающим пламенем и стал обращаться в прах. Остальные монстры до поры до времени перетаптывались на месте, возбуждённо трясли мечами и ревели от нетерпения. Первым почуял, что магическая защита даёт слабину, тот, который в эти секунды стоял за спиной застывшей от удивления ведьмы. Он одновременно и взмахнул мечом, и потянулся к шее моей спасительницы клейким щупальцем.
Древние учат, что человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов. Я не человек. Я дракон. Я принял решение сразу. «Принял решение» — это, конечно, громко сказано, на самом деле просто сработал на автомате. Сделав длинный кувырок, добрался до зарывшегося в керамзит кольта, выкрикнул короткое, но верное проклятие и разрядил всю обойму в замахнувшегося на Варвару демона.
Пули из мягкого благородного металла не могли, разумеется, причинить удам-тугенну большого вреда, они и не причинили, расплющились на стальных листах его кирасы. Зато высвобожденная из них Сила благодаря моему проклятию создала Нарезной Винт, который, кромсая и смешивая пограничные области Пределов и Запредельного, в доли секунды разорвал монстра на куски. Что стало с теми фрагментами, которые закинуло в Запредельное, не знаю и знать не хочу. А те, которые остались в Пределах, осыпались в бесформенную кровавую груду, которая тут же занялась тусклым пламенем, но разгореться отчего-то не сумела и стала дымно тлеть.
Такой успех меня не слишком удивил, удивило другое. Кровь у конченного мною удам-тугенна оказалась — вот же колдовские причуды! — точно такого же цвета, как и у человека, — алой. Меня это, признаться, даже немного смутило. Хотя и понимал умом, что кровь эта самого дремучего-предремучего происхождения и к тому же никакая не живая, но всё одно — как так вот смутило. Однако быстро, чтоб не расползлось, пробормотал, поцеловав большой палец, магическую присказку:
И отпустило.
А между тем Варвара, очень грамотно воспользовавшись моей помощью и временным смятением врага, вырвалась из окружения и во всю прыть побежала к стене. Благополучно добралась до неё, обезопасила тыл и встала в боевую стойку Левосторонний Бык. Устремившиеся за ведьмой монстры, поначалу сбились в кучу, но потом исправились: рассредоточились, восстановили строй и вскинули мечи.
Положа руку на сердце, я думал, что Варваре не продержаться и нескольких секунд, и приготовился лицезреть нечто страшное. Каково же было моё удивление, когда увидел, что она, умело чередуя кварты с терциями и мандритты с реверсами, достаточно уверенно справляется с натиском. Возможно, ей помогало то, что удам-тугеннов было много, и они волей-неволей мешали друг другу. Или то, что арсенал их фехтовальных приёмов был крайне скуден: ударил сверху вниз, прикрылся щитом, опять ударил, прикрылся, ударил и так дальше с тупой монотонностью. А может, просто Варвара была классным, даже первоклассным бойцом. Как бы там ни было, но она здорово держалось. Хотя, конечно, и было понятно, что рано или поздно умается, и тогда дело для неё уж точно примет скверный оборот.
Что касается меня, то я, пребывая в лёгкой растерянности, пытался сообразить, что делать и как поступить. Ум подсказывал: Тёмные выясняют отношения, ну и пусть себе выясняют, не вмешивайся. А сердце говорило: надо дамочке помочь. С одной стороны, мне было на руку, чтоб удам-тугенны одолели ведьму и спасли хомма, а с другой — не мог я отбросить симпатию к Варваре. А симпатия, чего уж тут скрывать, имела место быть. Ведь у нас с ней «было», а у меня «было» никогда не случается, если женщина мне не симпатична. Я же не зверюшка какая.
Скорее всего, сердце бы в очередной раз одержало сокрушительную победу над умом. И потому что Варвара уже была мне не чужой, и потому что не люблю, когда кого-то одного уродуют толпой. Виновата ли жертва, права ли — не важно. Не люблю. Противно это моей натуре. Так что да, сердце, скорее всего, взяло бы верх. И слава Силе. Жизненный опыт подсказывает, что сердце на поверку всегда умнее ума оказывается. Правда, чем бы я в таком случае Варваре сумел помочь, знать не ведаю. Силы-то у меня не было, оружия тоже. Я даже мечи погибших удам-тугеннов использовать не мог. Не осталось мечей. Исчезли они. Из Запредельного пришли в комплекте, в Запредельное в комплекте и ушли. Так что, всего вероятнее, нашёл бы я какую-нибудь железяку поувесистей (там было где найти) и рубился бы ею. Понятно дело, что рубился бы с нулевым результатом, но это уже было бы всё равно. Потому что когда сердце ум побеждает, результат становится неважен, тогда уже важен сам процесс. Сам факт борьбы за симпатичное тебе существо.
Однако изображать из себя дрыномашща мне не пришлось. Пока я созревал до того, чтобы ввязаться в драку (а ушло у меня на это от силы секунды три), обстановка на поле боя неожиданно изменилась. И изменилась она кардинально. Сначала послышался нарастающий рёв мотора, а потом на арену, лихо перелетев мусорную кучу, ворвался не понять откуда чёрная «ямаха». За прозрачное ветровое стекло с изящными зеркалами на тонких ножках (из-за которых, кстати, мотоцикл походил на усатое насекомое) прятала голову — кто бы сомневался! — молодая ведьма, которую я знал под именем Ирма. Она была в таком же кожаном наряде, что и Варвара, только тёмно-красного, почти бардового цвета. И так же, как и у старшей подруги, в правой её руке ярким зелёным светом горел-переливался полный Силы кхопеш.
Не успел я ахнуть по поводу её появления, как уже пришлось ахать по поводу её бесшабашной удали.
Ирма оказалась самой настоящей сорвиголовой. Не сбрасывая скорости, она исполнила красивую фигуру высшего пилотажа, накренив мотоцикл сперва влево, потом сразу вправо, после чего направила мотоцикл по дуге к месту схватки. Однако таранить монстров, как можно было бы поначалу предположить, не стала, поступила хитрее. Когда до удам-тугеннов оставалось метра полтора, она резко выкрутила руль, заложила лихой вираж и пронеслась мимо вражеского строя с тыльный стороны. Этот её кавалерийский манёвр оказался не просто эффектным, но и весьма эффективным: с казачьей лихостью — вжик, и ещё раз вжик — она умудрилась, дважды привстав на подножках, срезать голову одному демону, а второго с левого плеча наискось развалила до пояса. Оставляя за спиной огонь и чад, пронеслась дальше, удовлетворённо выкрикнула: «Ну где-то так!», после чего бросила руль, оттолкнулась руками от сиденья и соскочила с мотоцикла на полном ходу. Мотоцикл умчался дальше, вскоре повалился набок, заглох, кончено, но какое-то время продолжал крутить колёсам. А Ирма, чтоб погасить инерцию, перекувыркнулась через правое плечо (что удивительно — не выронив при этом меча и не поранившись об него), проявив невероятную пружинистость, исполнила подъём разгибом и, по-женски в сторону отмахивая рукой, побежала с пронзительным и протяжным криком ура на выручку подруге. Та, кстати, пользуясь тем, что в стане потусторонних случилось понятное смятение, тоже сумела сразить одного из удам-тугеннов. Сделала она это ударом, который в некоторых западных боевых школах называется обезьяньим. Опять там горела и чадила плоть, а злобный дух спасался бегством.
С появлением Ирмы у меня сразу полегчало на душе: по два демона на ведьму — это уже почти игра при равных составах. К тому же стало понятно, что агенты карагота и на этот раз проводят силовую акцию не с бухты-барахты. Держат ситуацию под максимальным контролем и работают с поддержкой.
Они справятся, подумал я. Должны справиться.
И таким образом (не без остаточного внутреннего борения, конечно) выведя себя за скобки происходящего, пошёл к колонне, за которую после появления демонов спрятался горбатый хомм.
Но его там не было.
Обнаружив пропажу переговорщика, я заволновался. А ну как смылся с концами? Но подумал и решил: дело ещё не сделано, поэтому нет, не мог сбежать, просто где-то затаился и выжидает. Надо отыскать. Срочно.
И только я собрался кинуться на поиски хомма, как необходимость в этом отпала сама собой. Дело в том, что в этот самый момент через проход, который использовала до этого Варвара, на арену вышли один за другим те, о ком когда-нибудь потом будут слагать легенды, как о каких-нибудь мифологических кентаврах: Серёга Белов, Володя «Нырок» Щеглов и ещё три боевых мага из их знаменитого отряда. А за ними, чуть отстав, но отнюдь не отдельно от всех, вышёл Боря Харитонов, он-то и тащил за шкирку дрыгающего ногами карлика.
Свой выход молотобойцы никогда не обставляют какими-либо дополнительными эффектами, но всегда у присутствующих создаётся точно такое же впечатление, как во время просмотра эпизода вертолётной атаки на вьетнамскую деревню в ленте Фрэнсиса Форда Копполы «Апока?липсис сейчас». Вот и на этот раз всё выглядело столь же мощно.
Но не очень уместно.
— Менты как всегда опаздывают, — хмуро заметил я, хотя сказать мне хотелось: «Вас только тут не хватало».
— Ну почему сразу «опаздывают», — ответил Архипыч с невозмутимым видом. — Вижу, тут для нас ещё полным-полно работы.
Сказав это, он чуть повёл подбородком.
— Заровнять по нивелиру! — продублировал молчаливый приказ командира Володя «Нырок».
И в ту же секунду боевые маги выхватили и активировали инхипы.
Участь демонов была предрешена. Четыре боевых мага — это серьёзная сила, в данном случае — даже избыточная. К тому же к ним через несколько секунд присоединился ещё и заместитель Белова. Увидев Ирму, Боря забыл про все свои недавние обиды (он, сдаётся, вообще, про всё на свете в тот момент забыл), отбросил хомма к чёртовой матери и, расталкивая подчиненных, поспешил ей на помощь. Помощь, кстати, ведьмочке уже требовалась. Она была бледна, волочила раненную ногу и отбивалась от монстров из последних сил.
Активная фаза операции закончилась где-то, наверное, в течение одной минуты. Действуя уверенно, просто, без излишнего геройства, но очень чётко и слаженно, молотобойцы быстренько разобрали монстров и кто раньше, кто чуть позже аккуратно их утихомирили. После чего рядовые маги, не ожидая каких-либо дополнительных команд, незамедлительно приступили к зачистке территории и деактивации остаточной Силы, а Боря, подхватив Ирму на руки (у неё уже потерявшей сознание пошла волдырями от ожога правая щека и как-то неправильно висело ухо), быстро побежал на выход. Архипыч, который наблюдал за сечей со стороны, крикнул ему в спину, чтобы он по дороге снял посты охранения, потом попросил меня обождать и направился к сидящей у стены Варваре.
Отловив (что походило на ловлю зайца в чистом поле) хомма и надавав ему подзатыльников, чтоб не смел больше прятаться, я задумался на тем, смыться ли мне сразу или повременить. Мне бы дураку взять тогда и уйти по-английски, прихватив с собою горбуна. Но я подумал, что в присутствии представителей Поста ведьма убить хомма не осмелится. А раз так, имело смысл задержаться на минутку и выяснить, не получится ли так, что ведьма будет вынуждена — чего бы мне очень не хотелось — рассказать кондотьеру и про Тайник, про которой он ни гу-гу, и про угрозу, нависшую над Вещью Без Названья. Выяснить это можно только одним способом — подслушать, о чём они говорят. Поэтому я, продолжая крепко держать карлика за руку, подошёл к ним как можно ближе, но так, чтоб это не выглядело бесцеремонно, и развесил уши.
Как ни старался, как ни напрягался, ничего толком не расслышал. Говорили они чуть ли ни шёпотом, и даже когда разговор пошёл у них на повышенных тонах, разобрал я только несколько слов. Слова это были страшные: «правовое отношение представительства», «юрисдикция», «субординация», «служебная этика», «превышение полномочий» и «посох Азута». Все эти слова произнёс Архипыч. И он же, в какой-то момент покосившись на меня, сказал, прибавив громкости:
— Тридцать три.
Пришлось отойти.
Хотя ничего толком я не узнал, появилась уверенность, что Варвара держится стойко и фиг в чём-либо кондотьеру признается. И ещё одно я понял: Архипыч страшно недоволен тем, что ведьма сунула нос в его епархию без спроса. Впрочем, в этом его неудовольствии как раз ничего удивительного не было. Молотобойцы терпеть не могут, когда спецслужбы малых Советов (будь то карагот Великого круга пятиконечного трона или же контрразведка Большого собрания несущих Дар) проводят свои операции в зоне ответственности Поста. И уж тем паче, когда они их проводят без предварительного согласования.
Не знаю, чем бы закончилась напряжённый разговор между главным опером и тайным агентом (надо думать, ничем хорошим), но только вскоре им стало не до выяснения того, кто из них круче. Случился переполох, виновником которого стал горбатый карлик.
Он всё это время скулил, требовал, чтобы мы ушли, грозил мне всяческими карами и периодически порывался выскользнуть. Но я держал его крепко. Так крепко как Кист Рода в «Четырнадцати футах» Александра Грина. До тех самых пор его так держал, пока он меня не укусил. А он меня укусил. Извернулся каким-то образом и пребольно (натурально — бультерьер) цапнул за кисть между большим и указательным. Я вскрикнул, ослабил невольно хватку и он, сволочь такая, побежал куда-то на выход.
Первой на его побег отреагировала Варвара. Видать, ни на секунду она не выпускала хомма из поля зрения, а может, даже и Виденья. Оттолкнув Архипыча с такой силой, что он чуть не упал, она тут же припустила за карликом. Тот, учуяв погоню, заработал локтями с бешенством жерты, а, когда Варвара была уже на расстоянии руки, точнее — меча, он вдруг взлетел. Взлетел самым дивным образом. Сначала треснул, будто переспевший бутон цветка, его уродливый горб, потом, раздвигая и расширяя щель, наружу пробились два сморщенных чёрных крыла-лепестка, а когда они расправились и стали упругими, хомм замахал ими часто-часто, легко оторвался от пола, на секунду завис, взвизгнул радостно и устремился к прорехе в своде.
Варвара и тут не растерялась. С завидным проворством перейдя в состояние левитации, взмыла свечёй, нагнала беглеца и схватила его за ногу. Затем потянула его вниз и в который раз за последние полчаса замахнулась на него мечом. Но и на этот раз ей не повезло.
Зелёная огненная дуга была уже в сантиметрах от шеи карлика, когда он внезапно и с той невероятной лёгкостью, какая присуща сказочным снам, превратился в огненную хризантему. Это случилось мгновенно. Вот ещё был перед глазами огромный чёрный жук, но раз — и вот уже пульсирующая шаровая молния. И сразу за этим удивительной метаморфозой, случился такой мощный взрыв, что ни я, ни Архипыч, ни его бойцы не сумели устоять на ногах. Всех нас уложила ударная волна.
Когда я мягко приземлился на керамзит, чистый и сильный голос неведомой женщины пропел в моей голове: «Он говорил мне: будь ты моею, и будем жить мы, от страсти сгорая». А потом песня сменилась звоном. А может, не сменилась. Может, она и была тем звоном. Вернее, звон ею.
Глава 21
Помимо того, что взрыв нас всех оглушил и раскидал кого куда, он ещё и деактивировал мечи молотобойцев, поэтому вокруг стало темно как в брюхе левиафана. Когда успокоилось всё, чему положено было дрожать, и затихло всё, чему должно было гудеть, Архипыч грозно прорычал:
— Кто-нибудь посветит? Или я так и буду тыкаться как мышь слепая?
Выполняя распоряжение полковника, Силу молотобойцы тратить не стали, поставили на колёса оставленный Ирмой мотоцикл. Завёлся он не сразу, покочевряжилась немного, когда же затарахтел, мощного света его передней фары вполне хватило, чтобы увидеть то, о чём я догадывался, но во что боялся верить: хомм и ведьма исчезли.
Вот и всё, подумал я. Вот и всё.
Поднялся неспешно, стёр с лица пепел, стряхнул с волос всю ту дрянь, что налипла при падении, и направился к Архипычу, который с деловым видом что-то уже рассматривал у себя под ногами. Встав рядом, я прокашлялся (во рту было горько, в горле першило) и поинтересовался — а ну как ошибаюсь? — его профессиональным мнением:
— Как думаешь, где они?
— Погибли, — ни на секунду не задумавшись, и с обидным равнодушием ответил кондотьер.
— Уверен?
Он наклонился, поднял с пола и сунул мне то, что при ближайшем рассмотрении оказалось бляхой Варвары:
— При иных раскладах, она бы эту штуку ни за что не бросила.
Машинально приняв под завязку наполненной Силой артефакт, я в следующую секунду опомнился и тут же протянул его назад. Но Архипыч решительно мотнул головой и даже спрятал руки за спину:
— Мне без надобности.
— Как так? — вяло удивился я. — Это же вещдок.
— Зачем мне вещдок, если протокола не будет?
— Почему не будет?
— Потому что расследования не будет.
— Почему?
— А почему мужик в кафтане, а баба в сарафане? — попробовал отмахнуться Архипыч.
— Нет, скажи, почему? — настаивал я.
Он поглядел на меня пристально, силясь понять, издеваюсь или просто туплю. Обнаружил, что издеваться и не думаю, и выдержанно, как уцелевший контуженному, стал объяснять:
— Потому, Егор, что хомм не регистрировался, а ведьма промышляла без предписания и на учёт не вставала. Вот почему. — Тут он для красочности начертил руками в воздухе огромный круг. — Их тут как бы официально и не было вовсе. Пришли без приглашения, и ушли, следов не оставив. И слава богу. Я даже докладывать никому не стану. На кой мне лишняя головная боль. Понял? А бляху, если хочешь, себе оставь. На память.
Спорить я не стал, стёр рукавом пыль с осиротевшего артефакта и сунул его поглубже во внутренний карман куртки. А когда пуговку застегнул, только в этот момент осознал в полной мере, что произошло. Вздохнул: эх, Варвара, Варвара, всё у нас как в той песне грустно и очень обычно вышло. Ушла от меня и в ночь теперь слёзно кричу.
Действительно прорычал от обиды, горечи и бессилия что-то непотребное, взъерошил волосы двумя руками и задал на рикошете вполне себе такой риторический вопрос:
— Скажи, Серёга, отчего так несправедливо всё устроено на свете?
— О чём ты? — наморщил лоб кондотьер.
— Почему нельзя жизнь на жизнь обменять? Как бы, согласись, было здорово иметь право на такой обмен. Это могло бы нас хоть как-то примирить с равнодушием бытия.
— Это ты сейчас о даме из карагота говоришь?
— Нет, я не о Варваре. Её жалко… — Поймав недоверчивый взгляд кондотьера, я повторил твёрдо: — Да, Серёга, жалко. Неплохая она баба была. Честное слово мне жалко её. Только ведь она мужественно и до конца прошла путь, который выбрала сама. Это такое дело… Сам знаешь, какое. А вот Лера не при делах. Невинная жертва колдовского беспредела. Колдовского беспредела и ещё драконьей глупости. Скажи, как её спасти?
Громко хлопнув в ладоши, Архипыч сначала объявил окружившим нас бойцам:
— Господа, операция закончена, всем спасибо, отходим. — Потом положил руку мне на плечо и, увлекая на выход, вздохнул: — Вообще-то, Егор, расклад действительно грустный. Хомма больше нет, проклятье снять некому. Если честно, ума ни приложу, что теперь делать. Даже не знаю, что и посоветовать.
— Может, попробовать добраться до его хозяина? — ухватился я за соломинку.
— Смеёшься? Мы тут между делом подноготную горбуна пробили и кое-чего выяснили. Знаешь, кто его господин? Сказать?
— Не надо, сам знаю.
— Да неужели?
— Представь себе.
— Ну вот и отлично. Вот и отлично. Подумай теперь, где ты и где он.
— А что теперь, прикажешь лапки кверху поднять? — сбросив руку кондотьера с плеча, спросил я запальчиво. — Сдаться предлагаешь? Это у вашего брата ни друга, ни свата, а мы драконы своих в беде не бросаем.
С моей стороны это было, конечно, злым и несправедливым выпадом. Я это сразу понял, как только отчебучил, но слово, как известно, не воробей. Только и оставалось, что смущённо набычиться.
Вопреки моим ожиданиям кондотьер ни оправдываться, ни осуждать меня не стал. С самым невозмутимым выражением лица откинул полу расстёгнутой кожанки, вырвал из-за ремня плоскую флягу и протянул:
— На вот, дракон, глотни коньячку. А то видок у тебя какой-то потерянный.
Возмущённо фыркнув, дескать, посмотрел бы я на тебя, окажись ты на моём месте, флягу я однако у него взял. В знак примирения. А вот дальше случилось странное: ко рту поднести эту серебряную штуку с личным гербом рода Беловых (на острие меча взъерошенный снегирь с цветком кислицы в клюве) у меня не получилось. Руку сначала судорогой свело, а потом её любимую, рабочую, правую обожгло от кончиков пальцев до предплечья таким нестерпимым огнём, что захотелось благим матом заорать.
— Что с тобой? — озаботился Архипыч, приметив, что моё лицо исказила гримаса боли.
— Руку печёт. Похоже, Серёга, горю.
Простонал я эти бодрые слова, выронил в следующую секунду флягу и, поскольку мир вокруг предательски поплыл, стал оседать.
Рухнуть не успел. Вернее — не дали. Моментально среагировавший Архипыч подхватил меня с одной стороны, подбежавший Володя Щеглов — с другой. Аккуратно усадили на пол, быстро сорвали куртку, а потом вытряхнули и из свитера. Тот боец, который вёл мотоцикл, моментально развернул его и направил на меня луч фары.
— Ни фига ж себе картинка, — не сдержавшись, сказал Володя и даже присвистнул после этого от удивления.
Повернув и чуть наклонив голову, я увидел, что от запястья к плечу тянутся по пылающей моей руке похожие формой на побег плюща стигматы. Изрядные, надо сказать, стигматы. Таким бы, пожалуй, позавидовал сам Франциск Ассизский.
Внимательнейшим образом осмотрев эти уродливые кляксы и борозды, Архипыч спросил:
— Где это тебя, Егор, так угораздило?
— Горбун, сука, цапнул, — озвучил я первую пришедшую на уме версию. — Сдаётся, слюна у него ядовитая. — Потом ещё раз глянул на руку, на чёрно-кровавый «напульсник» вокруг запястья, и справедливости ради внёс уточнение: — А может, не хомм виноват, может, ведьма. Хватала вот здесь, дёргала… Вполне возможно, что это она посеяла проклятое семечко.
— А зачем это ей надо было? — полюбопытствовал Володя.
— Чёрт его знает, — ответил я. — Да мне теперь уже и без разницы, зачем. И кто это сделал, тоже, честно говоря, теперь без разницы. Одно скажу: кто бы это ни был, дело своё он знает. Боль адская. Как думаете, братцы, выживу?
— Не дрейф, дракон, — ободряюще похлопав меня по плечу, успокоил Архипыч: — Жить будешь. Если, конечно, ещё от жизни не устал.
И вновь стал рассматривать мои кровоточащие язвы с тем увлечённым видом, с каким студенты-биологи впервые препарируют лягушку.
— Командир, — предложил между тем Володя, — может, его в нашу больничку? Мы это мигом сейчас.
— Отставить больничку, — строго осадил подчинённого Архипыч. — Не нужно никакой больнички. Это не колдовская хворь, тут другое. Давай-ка, Нырок, отводи парней. Грузитесь и вперёд — на базу. А мы с драконом тут немного ещё пошепчемся. Всё понял?
— Есть, мой коннетабль, — взял под козырёк Володя.
— Объяви, что развод будет в девять, — добавил Архипыч уже ему в спину. — Пусть парни немного выспятся.
И вновь Володя ответил бодро:
— Есть, мой коннетабль.
Похоже, ему искренне нравилась эта мужская игра.
Как только бойцы оставили помещение, всё вокруг вновь погрузилось в кромешную тьму.
— Ну и на кой хрен сдался им этот мотоцикл, — покачал возмущённо головой Архипыч. — Как дети малые, ей богу. Траться теперь.
Поворчал, но завесил над нами копеечное солнце, после чего подобрал с пола и сунул мне флягу в здоровую руку:
— Ты всё-таки, Егор, хлебни давай. Оно, знаешь, не помешает.
Я сделал добрый глоток («коньячок», кстати, на деле оказался ядрёным дагестанским бренди), перевёл дух и посетовал:
— Банку с бальзамом одному человечку сегодня заслал, вот бы сейчас пригодилось.
— Без мазей твоих вонючих управимся, — пообещал Архипыч. Энергично потёр ладонь о ладонь и попросил: — Ты главное, дракон, расслабься и не мешай.
Я глазом не успел моргнуть, как он уже схватил меня огромной пятернёй за запястье больной руки, сжал до хруста, и какое-то время держал так, не ослабляя хватки.
Поначалу боль усилилась (я даже порывался вырваться), но мало-помалу стихла, потом совсем ушла, кровь, сочащаяся из ран, стала быстро сворачиваться, сами раны — покрываться рубцами. Вскоре я смог пошевелить пальцами, а там и вовсе отпустило. Архипыч это почувствовал и больше нужного держать не стал.
— Премного благодарен, — сказал я, когда всё закончилось. — Вот не знал, что ты, Серёга, знатный эскулап. В отставку выйдешь, сможешь практику открыть.
— Я уже решил, что буду звездочётом, — сказал Архипыч в ответ и даже не улыбнулся.
А я сделал ещё один глоток, вернул ему флягу и, потянувшись к свитеру спросил:
— Ты сказал, что это не хворь, а тогда что?
— Письмо, — пояснил он.
— В каком смысле письмо?
— В самом что ни наесть прямом. Это обыкновенное письмо, написанное на унгологосе. Впрочем, может и не письмо, а записка. Одним словом, какая-то эпистола.
— Шутишь? — не поверил я.
— С такими делами не шутят, — строго ответил кондотьер. — Страшно сказать, но грех утаить: кто-то из этих двух Тёмных оставил тебе послание. Вернее, конечно, не оставил, а передал, поскольку оба были высшими магами, а не великим, стало быть, унгологоса не ведали.
У меня не было оснований ни верить словам Архипыча. Даже напротив — имелось масса причин ему поверить. И я поверил. А как только поверил, так сразу, что вполне естественно, захотел узнать, какое такое послание мне оставили. Похлопал себя осторожно (конечно осторожно, ведь ещё помнил недавнюю боль) левой рукой по правой и спросил:
— Ну и что же тут, Серёга, написано?
— А хрен его знает, — пожал плечами кондотьер. — Я, Егор, позволь напомнить, тоже ни фига не великий. Вижу вязь унгологоса, а что конкретно означает — тут извини.
— Ну и на кой мне тогда, скажи, это письмо? — развёл я руками от досады. — Какой такой в нём практический толк, если я его прочесть не могу. И ты не можешь. И никто в Городе не может. Это не письмо, получается. Это издёвка какая-то.
— Подожди, не гоношись, дай подумать.
Я дал ему только несколько секунд, а затем полез в пекло вперёд батьки:
— Слушай, Серёга, а может, срисовать, да послать факсом тому, кто сможет прочесть.
— Не срисуешь, — сходу отверг идею кондотьер. — И не сфотографируешь. Это же унгологос. Он живой, он не дастся.
Тут я уже не выдержал и разразился трёхэтажными ненормативными конструкциями.
— А ну-ка не психуй, — одёрнул меня Архипыч. — Скажи лучше, ты Леху Боханского помнишь?
— Допустим, — резко оборвав поток отборнейшей брани, ответил я. — И что с того? И высшим был, и вышел весь. Разве не он во время Гражданской нырнул в Запредельное с концами? Сдаётся, он. Или я что-то по старости лет путаю?
Хорошенечко взболтнув суровый напиток, Архипыч сделал подряд три глотка, вытер губы плечом, завинтил пробку и, сунув флягу за пояс, сказал доверительно:
— Открою тебе, Егор, тайну. Маленькую такую. Малюсенькую. За полгода до того, как нырнуть в Запредельное, Лёха великим стал.
— Да иди ты.
— Ага, было дело. Стал наш Леха великим. А потому, насколько понимаешь, имеет возможность Оттуда возвращаться. Возможностью этой, доложу тебе, пользуется регулярно, каждый день приходит. На полчасика всего, но приходит. На рассвете.
— А зачем?
— Кто ж его эмигранта знает. Полагаю, родного воздуху хлебнуть. Чутка.
— А это точно?
— Уж поверь.
— И где выныривает?
— Да здесь недалеко, полтора часа езды. Если поторопимся, успеем.
В ту же секунду Архипыч схватил мою куртку и навис надо мной в угодливой позе швейцара.
А через десять минут мы уже наматывали тягучий предрассветный час на колёса «хаммера». За рулём сидел Боря, рядом дремал Архипыч, а мне позволили развалиться на заднем сиденье. Ехали мы молча, разговаривать было не о чём, да и незачем. Я всю дорогу пялился в окно. Пялился тупо, пялился так, как пялится беззаботный пассажир, которому нет надобности отслеживать и запоминать маршрут. А помимо того ещё пытался освежить в памяти всё то, что знал о Лёхе Боханском. Оказалось, что знал я о нём до обидного мало, да и то, что знал, знал с чужих слов, а потому очень приблизительно.
Появился Лёха на свет в одной из местных деревенек в семье самых обычных людей. Не смотря на столь незавидное происхождение, мальчиком он рос необыкновенным. Грамоте сызмальства без сторонней помощи обучился, слова всякие мудрёные употреблял, каких отродясь в округе никто слыхом не слыхивал, а ещё взглядом своим нездешним здорово пугал недалёких своих односельчан. Шло время, и к восьми годам созрел Лёха до глубокого и драматичного понимания, что он ни такой как все. Должно было случиться так, так оно и случилось. Ну а дальше уже по накатанной. Если уж почуял человек за собою великий Дар, судьба ему рано или поздно прибиться. И преград этому течению по большому счёту нет никаких.
Сам ритуал уже в Городе случился, куда Лёха, сбежав от родни неродной, подался в неполные свои двенадцать. До пятнадцати на подхвате у разных знатных магов был, затем обособился и разным промышлял, в основном — магическим целением душ человечьих. В деле этом тонком и непростом достиг он, надо признать, мастерства необычайного. От Восточных Саян до Урал-Камня молва о нём в народе шла и, оттолкнувшись от Камня, назад к Саянам бежала. Ну а когда восемнадцать ему стукнуло, гражданская война по местным степям разлилась, и подался наш Лёха в Когорту Железных. Прельстило его чем-то братство светлых чародеев, поддержавших советскую власть в её руководстве движением народа по прямой линии к общему благу. А пришло время, настал час, записался Лёха и в Красную Армию. Не из глупой ажитации, не из конъюнктурной выгоды, исключительно из горячего, искреннего и непреодолимого желания поспособствовать умением своим магическим утверждению на земле всеобщего царства братской любви.
Ну а потом уже довелось Лёхе, не без этого, и отряды Колчака громить, и белочехов на запад гнать, и архаровцев атамана Семёнова — до самого Китая. И гнать-громить, по правде говоря, преимущественно не волшебством-колдовством орудуя, а шашкою казачьей. Сколько Лёха народишка всякого-разного порубил, сколько кровушки людской пролил, о том ни в сказке сказать, ни пером описать, да и просто так представить весьма затруднительно. Одно известно доподлинно: за беспримерную отвагу и преданность делу революции орден Красного Знамени за двузначным номером Лёха получил от власти комиссарской, а помимо того — ещё и наган именной. Да только радости никакой ему такой почёт не доставил. Говорят, загрустил Лёха через зиму на лето. До того загрустил, что как-то раз над телом очередного беляка краснооколошного, который на поверку вовсе и не беляком никаким оказался, а совсем даже загулявшим инженером-геологом, заплакал от обиды герой наш доблестный. Горько-прегорько заплакал. Так горько, как только и могут плакать одни только герои доблестные. А потом растёр слёзы стыдные по плохо бритым щекам, и сказал, к товарищам боевым обращаясь: что же это за любовь такая братская, царство которой шашкою да пулей утверждать приходится? А как только произнёс он эти слова вслух, так сразу во всём и разуверился. Потому как жалость, сука буржуазная, она вере революционной как раз и есть самый лютый и наиглавнейший враг.
С тех самых пор не видел больше никто в здешних местах высшего мага Лёху Боханского. Бойцы-товарищи, обнаружив на утро приколотую шашкой к стене записку: «Братцы, не ищите меня, я в Эльдорадо», порешили про меж себя, что застрелился Лёха. А что тело не нашли, так Сибирь велика. Среди же посвящённых слух прошёл, что, мук совести не вынеся, навсегда подался он в Запредельное. И я вместе со всеми так думал до этих самых пор. Да вот, выходит, зря.
Мои воспоминания о невесёлой Лёхиной судьбе, вернее уже не сами воспоминания, а всякие путаные мысли по поводу этих воспоминаний, прервал голос Архипыча. Вот только ещё вроде спал кондотьер, а тут вдруг встрепенулся весь, повертел седой башкой туда-сюда и приказал громогласно:
— Всё, Боря, тормози. Кажись, приехали.
Мы в это время неслись чёрт знает где, но по просёлочной дороге, разделяющей две неравные части скошенного поля. Прямо по курсу смутно виднелась берёзовая роща, за ней — сопка, поросшая соснами. Макушки сосен касались низкого неба, которое лишь на востоке чуть-чуть порозовело, а так кругом было сплошь серым.
— Где это мы? — спросил я, когда машина встала.
— В нужном месте, — пригладив растрепавшуюся бороду, заверил Архипыч. И после того как сочно зевнул, начал меня инструктировать: — Дальше, Егор, пойдёшь пешком и пойдёшь один, поэтому запоминай. Топаешь по дороге до рощи, через рощу пройдёшь, там развилка будет, натуральная «курья ножка»: налево тропа, прямо и направо. Ты, Егор, налево не ходи. Налево западло ходить. Прямо тоже не ходи. Там снег башка попадёт. Ходи направо. И до тех пор ходи, пока ургу не увидишь.
— Ургу? — напрягся я. — Что такое есть урга?
— Шест высокий, к нему тряпка привязана. Знак такой. Знак этот на большой поляне стоит. Поляну напрямки перейдёшь, а там… Ну а там уже всё сам увидишь. Как с Лёхой переговоришь, тем же макаром скоренько топай назад. Мы будем ждать до упора. Усёк, дракон?
Я кивнул и, прихватив зелёный брезентовый сидр, за которым специально заезжали на Свердлова в штаб-квартиру Молотобойцев, вылез из машины.
Едва вступил на жнивьё, тотчас почувствовал, что мы на самом деле приехали туда, куда надо: понизовый ветер легко и порывисто пробежал, теребя стерню, от моих ног через всё поле к роще. Берёзы качнули голыми макушками, и с одной из них взлетела большая чёрная птица (не то ворон, не то ворона), каркнула обижено и, тяжело загребая крылами, потянулась на запад.
Как и было приказано, я бодро и скорым шагом перешёл поле, минул березняк и, очутившись на развилке, отверг по наущению кондотьера избитые да исхоженные левую и центральную тропы, решительно встал на заросшую правую. Ступая по ней, взобрался сначала на бугор и успешно спустился с него поросшей папоротником-орляком лощиной. Там, уже внизу, ненадолго попал в туман, а когда он остался за спиной, оказалось, что иду вдоль извилистой речушки, берега которой густо заросли ивой и багульником. Затем тропа взяла в сторону от реки, и я через некоторое время вошёл в сосновый бор. Солнце к тому времени уже начало восхождение к зениту, и, хотя небо по-прежнему было затянуто облаками, всё равно заметно посветлело. Стали видны бусины брусники на мху, а в траве — пёстрые грибные шляпки. Засверкала роса на паучьих сетках и смола на тёмно-жёлтых стволах. Оживились и заорали дурными голосами местные пичуги. Пробудившиеся дятлы начали дружный перестук. И даже непуганая белка один раз перебежала передо мной тропу.
Всё рано или поздно заканчивается, закончился и этот развесёлый лес, я благополучно вышел на край обещанной поляны. Поляна действительно оказалась немаленькой. Да и не поляна это вовсе была, а настоящая луговина, поскольку она только с трёх сторон была окружена лесом, а на юге терялась в просторе, который ограничивался только ничего не ограничивающем горизонтом.
Шест-ургу я увидел сразу: выцветшая, уже непонятно какого цвета тряпка приветственно реяла на его подрагивающей от ветра верхушке. Разгребая ногами и руками пожухлое, но ещё плотное разнотравье — страшную своими ожогами купину неопалимую, осоку, иван-чай, борщевик, душицу, прочие всякие травы-муравы, я пошёл на этот знак и, перейдя луг от леса к лесу, как яхта залив — от берега к берегу, обнаружил на той стороне что-то вроде туристической стоянки. Имелся там навес из почерневших от времени и непогод, но ещё крепких жердей, под ним грубо сколоченный стол и чурбаны-стулья, невдалеке — обложенное валунами кострище. Над мокрыми угольями стоял самопальный треног с обгорелым солдатским котелком. Котелок был до краёв наполнен дождевой водой. По воде плавали сосновые иглы.
Сообразив, что пришёл туда, куда послали, я кинул сидр на стол, уселся на чурбан и стал ждать. Делать это было нескучно и невесело. Мыслей не было. Вернее была одна грустная, но она застыла как река зимой, и не хотела думаться. И она сама не хотелась думаться, и я не хотел её думать. Такая у нас обоюдная лень с ней случилась к взаимному удовольствию. Если по уму, нужно было бы, конечно, не сидеть сиднем, а наломать дровишек, развести костёр и обсушиться, потому как ноги промокли по самое ни могу, а в ботинках откровенно хлюпало. Но я на эту неприятность забил. Когда же стал озноб колотить, просто достал сигареты и закурил. Две выкурил, третью не успел. Только огонёк высек и к кончику поднёс, раздался такой громкий хлопок, будто где-то рядом взорвали взрыв-пакет. Обратив взор в ту сторону, откуда пришёл звук, я увидел, что возле шеста возник даже не из воздуха, а просто из ничего всадник на резвом жеребце, масть которого можно было бы назвать вороной, если бы не имел он рыжих подпалин вокруг глаз и в районе крупа с правой стороны. На голове всадника сидела чёрная папаха с красной полосой. И бурка, что покрывала его плечи, тоже была чёрной. Ни винтовки за спиной, ни шашки в плечевой портупее я у него не увидел. Сама портупея была, а вот шашки в ней — нет. И вот именно отсутствие шашки, почему-то убедило меня в том, что я вижу перед собой Лёху Боханского, которого до этого видел всего несколько раз, да и то мельком.
Легко, что говорится по-молодецки, выпрыгнув из седла, коня Лёха привязывать к шесту не стал, хлопнул его ободряюще по холке, дескать, давай пасись, и сразу направился ко мне. Шёл небыстро, но и не медленно. На лице ни радости не промелькнуло, ни огорчения. А когда подошёл, не поздоровался, но и прогонять не стал. Присел напротив, предусмотрительно подложив под зад папаху, какое-то время глядел исподлобья, потом сказал:
— А ты, дракон, не изменился почти.
— Про тебя, Алексей Батькович, такого не скажешь, — подхватил я его запанибратский тон. — На первый взгляд — пацан пацаном, даже вон чубчик по-прежнему без единого седого волоса, а приглядишься…
— Старик?
— Угу, старик. Натурально. Не ведал бы, что это ты, не признал бы. Хотя ты же теперь великий. У великих, говорят, душа с телом так перемешены, что и не понять, где душа, а где тело. И когда смотришь на великого, не факт, что видишь именно то, что видишь. Ведь так? Или врут?
Видимо, мой интерес к этой теме показался ему несерьёзным, а может, и сама тема была для него столь мелкой, что не заслуживала слов. Как бы там ни было, он ничего мне не ответил. Покосился на мешок и сам спросил:
— Скажи, дракон, а Белов мне курева часом не передавал?
— Откуда знаешь, что это он меня сюда притащил? — спросил я, потянувшись к мешку с харчами.
— Кроме него про это место никто не знает. Теперь вот ещё ты.
— Не рад?
Он вновь промолчал.
Развязав тугой, связанный сильными ручищами Бори Харитонова, узел сидра, я выставил на стол гостинцы: медицинскую банку спирта, буханку «Бородинского», шмат сала, пачку чая со слоном на этикетке, коробку разноцветного рафинада, три упаковки сигаретного табака «Taste Mocca Mint» и не очень свежий номер «Коммерсанта». Потом кинул пустой мешок под стол и сделал приглашающий жест рукой:
— Прошу.
— Благодарю, — кивнул Лёха.
Первым делом он вырвал от газеты кусок, тем самым на веки вечные отделив хитро-мудрого госсекретаря Райс от мудро-хитрого министра Лаврова, разодрал пачку табаку, быстро скрутил «козью ножку» и закурил с видимым удовольствием. Я тоже закурил. Только свои фабричные, разумеется. Какое-то время мы курили молча. Я ничего не спрашивал, потому как толку спрашивать, если ничего не отвечают. А Лёха просто наслаждался кофейным ароматом дорогого, а главное настоящего, ни наколдованного, табака и, видимо, не хотел ломать кайф. Но когда от самокрутки осталась одна треть, пришелец из Запредельного всё-таки нарушил тишину. Вспомнив об этикете, спросил, не заинтересовано, но вежливо:
— Как оно, дракон?
— По-разному, — втерев бычок в каблук, ответил я. — Жизнь — как арбуз. штука полосатая. Но в целом — ничего. А у тебя как?
— Тоже ничего. Строю помаленьку в силу своего разумения и умения новый справедливый мир.
— И что, вытанцовывается?
— Слава Силе.
— Забавно, наверное, себя демиургом ощущать? — спросил я безо всякой иронии.
— Ответственно, — ответил он очень серьёзно. После чего показал самокруткой на банку: — Ну что, дракон, отметим встречу?
— Само собой, — отозвался я с готовностью.
Тут же сдвинул кружки, вырвал зубами из банки резиновую пробку и, сверяясь с выпуклыми рисками на стекле, разлил по сто. А Лёха тем временем, вытащив из-за голенища широкий черкесский кинжал, ловко порубал хлеб и сало. Затем взял одну кружку, понюхал и спросил:
— Шило, что ли?
— Шило, — подтвердил я.
Покачав обескуражено головой, он поднялся, дошёл до кострища, снял с крюка и принёс котелок. Плеснул воды в свою кружку, быстро накрыл её ладонью и передал котелок мне. Не имея привычки спирт разбавлять, я поставил котелок на стол.
— Даже запивать не будешь? — удивился Лёха.
— Занюхаю, — ответил я храбро. И поднял кружку: — Ну что, Алексей Батькович, будем здоровы?
— Будем, — пообещал великий.
Мы чокнулись и выпили.
Лёха закусил солидным бутербродом, а я быстро заткнул отдачу пахучею горбушкой. Затем мы какое-то время прислушивались к себе, ждали, когда расползётся жар по венам, а когда колокольчики зазвенели, пошёл и разговор.
— Что-то от тебя, дракон, Силой тёмной веет, — заметил Лёха. — Неужели в тёмный стан переметнулся?
Я обиженно фыркнул:
— За кого ты меня держишь, Алексей Батькович? Нет, конечно. Просто в кармашке артефакт чужой лежит. Вот и вся разгадка.
— Стало быть, по-прежнему с нечистью воюешь?
— Это обязательно. Кому-то ведь надо этот мир улучшать.
— Ты только шибко-то не старайся. А то оно ведь как: чем его бойчее улучшают, тем он гаже становится.
Сообразив, куда он клонит, я строго погрозил ему пальцем:
— Ты, Алексей Батькович, пончик-то с булочкой не путай.
— Что имеешь в виду? — прищурился великий.
— Не гоже с больной души на здоровую грех перекидывать.
— Это чья же больная-то? Моя?
— Ну а то чья же. Твоя, конечно. Даром, что ли, свалил отсюда так резко.
В такой неприкрытой дерзости был, конечно, определённый риск, но я посчитал его оправданным. И. надо сказать, не ошибся. Лёха ничуть не обиделся, воспринял мою откровенность как должное, и только одно спросил:
— Осуждаешь, дракон?
— Зачем? — пожал я плечами. — Каждый в своём праве. Да и кто я такой, чтоб великого осуждать? Нет, я не осуждаю твой поступок. Но я его и не одобряю. Уж извини.
То ли Лёха не так меня понял, то ли я выразился не совсем ловко, но великий зачем-то стал оправдываться.
— Я же, дракон, не просто так сбежал, — сказал он, отведя в сторону глаза. — Я мечту осуществил заветную, новый мир построил с нуля. Мир, в котором нет зла, хулы и горя. Понимаешь?
— Чего ж тут не понять. Понимаю, конечно. Только скажи, почему ты сюда постоянно возвращаешься, если у тебя там всё так замечательно?
— Почему? А потому что… Разливай.
В этот раз я налил по сто пятьдесят. Великий последовал моему передовому опыту, и свой спирт бадяжить не стал. Тосты мы друг другу простили, просо молча чокнулись и дёрнули. Поморщились, как положено, покрякали, а затем Лёха, мастеря себе ещё одну самокрутку, продолжил прерванный разговор:
— Такое дело дракон. Мир, что я там учудил, преотличный, доложу я тебе, мир. Ни печалей житейских его обитатели не знают, ни страданий душеных, ни болезней телесных. Ничего такого. И солнце там… — Он ткнул уже изготовленной «козьей ножкой» в тяжёлое небо. — Такого вот непотребства сроду у меня там не бывает. Не допускаю. Слежу.
— И трава там у тебя зеленее, — хмыкнул я. — И вода мокрее.
Лёха сунул сигарету в зубы, умело сдвинул её в угол рта и пьяно кивнул:
— Да, представь себе, мокрее. Всё у меня там вот так вот. — Он оттопырил и показал мне большой палец. После чего, внезапно помрачнев лицом, оторвал этот большой палец с характерным хрустом и отбросил в сторону. — А только счастья нет. И любви никакой нет. Пустота одна.
— Забавный ты, Алексей Батькович, всё-таки человек, даром что великий, — сказал я, с живым интересом наблюдая за тем, как быстро отрастает из его рваной раны новый палец. И с лёгкостью слегка опьяневшего существа стал выдавать на-гора прописные истины: — Откуда счастью взяться там, где горя нет? А любви как вырасти без ненависти? Ты сам-то рассуди. Идеал, он только в уме штука живая и тёплая, а на практике — мёртвецкий хлад. Отчего, скажи, предки ваши из райских кущ улизнули? Дураки, думаешь, были? Отнюдь. Счастья захотели, вместо сытости тупой. Да они и людьми-то только тогда по-настоящему стали, когда взяли на душу первородный грех. Да? Нет?
По лицу великого ничего не было видно (ни нам смертным читать лица великих), но я прекрасно понимал: произношу вслух то, что он и без меня прекрасно знает. Уже тысячу раз он всё это обдумал бессонными ночами. И понимает в тысячу раз всё лучше меня. Во всех нюансах и подробностях понимает. Только вот беда — понимать-то понимает, однако поделать уже ничего не может. Застрял в тупике. Увяз. И видя, какая жестянка корявая из мечты вышла, убегает от неё на время, дабы, как справедливо отметил высший маг Сергей Архипович Белов, грешного здешнего воздуха чутка хлебнуть.
Так я полагал ничтоже сумняшеся. А спустя несколько секунд Лёха и сам это подтвердил, сказав с печалью вселенской в голосе:
— Так и есть, дракон. Так и есть. Прав ты. И по существу прав, и по-всякому. А только что тут теперь поделать? Ничего не поделать. Что сделано, то уже сделано. Ни мерзости же туда здешней подпустить.
— Почему бы и нет? — воткнул я откровенно.
Лёха поморщился:
— А какая тогда разницы между этим миром и моим будет?
— Никакой. И пусть.
— Хм, пусть… Скажешь тоже. Выйдет тогда, что я напрасно столько лет…
— А так, что ли, не выходит?
Лёха вздрогнул и удручённо закачал головой:
— Под дых ты меня, дракон. Со всей дури под дых.
— Не убивайся, Лёха, не раскисай, — попытался я как-то сгладить свою хмельную дерзость. — Всякий опыт, он же не напрасен.
— Тебе, дракон, легко говорить. Ты-то вон…
— А что я? Думаешь, Алексей Батькович, у меня жизнь шоколад?
— Что шоколад, не думаю. Но ты хотя бы уверен в том, что пыхтишь не напрасно.
— Зря ты так думаешь, — сказал я. — Зря. Есть, конечно, ситуации, когда предельно понятно, что делать и чем это в итоге обернётся. Сам погибай, например, а товарища выручай. Раненых с поля боя обязательно выноси. Подонку руки не подавай, а если взбесится, к миру принуждай непропорциональной силой. Не стучи, не подставляй, не подстрекай. Стариков, детей, женщин в спасательные шлюпки сажай первыми. Ну и прочая, прочая. Здесь всё ясно. Предельно. Делай так, и молодец. — Я вытащил новую сигарету, прикурил от протянутой дрожащей самокрутки и продолжил: — Но бывают, Алексей Батькович…
— Петрович, — впервые за всё время беседы удосужился поправить меня Лёха.
Приняв его поправку к сведению, я кивнул и продолжил мысль:
— Но бывают, Алексей Петрович такие моменты, когда не понять ничего. Делаешь так — хорошо, делаешь противоположное — и тоже вроде неплохо. Или, бывает, не вмешаешься — подлец подлецом, а в другой раз в такой же ситуации вмешаешься — всё одно подлец. Вот тут и начинаешь чуять под ногами зыбь, а сердцем — бездну. А иной раз…
Тут я сообразил, что меня несёт куда-то не туда, потому что уже говорю не я, а спирт во мне, помотал головой и волевым решением подвёл черту:
— Ладно, проехали. Не буду ныть. И ты не ной. Перестань себе голову морочить несбыточным, закрывай лавчонку, и возвращайся. Нам в Городе порядочный великий позарез нужен.
— Давно бы вернулся, — уверил Лёха. — Но как подопечных бросить? Что с ними будет?
— Что будет, то и будет, — рубанул я с плеча. Потом похлопал ладонью по столешнице и сказал: — Этот вот мир давно бог покинул, ничего, крутится всё как-то само собой. И твои подопечные без няньки уж как-нибудь справятся. Вот посмотришь, они ещё там без тебя коллайдер андронный соорудят, чтоб доказать научно, что тебя не было никогда. Так что давай изживи тоску пастуха по овцам, доверься низовому действительному уму и возвращайся. Будешь здесь моральным примером смягчать нравы людские.
— С кондачка такое не решишь, — растягивая слова, сказал Леха, — тут подумать надо.
— А чего тут думать? Нечего тебе в Запредельном делать. Факт.
— Я дракон, вообще-то, не в Запредельном обитаю, — вдруг ошарашил меня великий.
— Да? — озадачился я. — А где? Подожди, дай сам догадаюсь. На другом лоскуте Пределов?
— Вот именно, что на другом. На совершенно другом.
— А мне говорили…
— Думают, что Запредельное на самом деле существует, вот и говорят.
Тут я окончательно впал в ступор и вышел из него не сразу. А когда вышел, спросил:
— А что, разве Его нет?
— Нет, — как отрезал Лёха. И помолчав значительно, стал разъяснять: — Тут ведь как. Профаны думают, что есть только Пределы. Посвящённые верят, что кроме Пределов есть ещё и Запредельное. Высшие маги уверены, что на самом деле есть только Запредельное, а никаких Пределов нет. А великие…
Я тормознул Лёху энергичным жестом гаишника, и сам закончил логический ряд:
— А великие знают, что никакого Запредельного нет, есть только Пределы. Так, что ли?
— Вот именно, — утвердил мою версию великий. — Умный ты дракон. Уважаю.
— Я, Алексей Петрович, не умный, я догадливый.
— Всё равно уважаю.
— Это сколько хочешь. Только скажи, а чем же в таком случае великие маги отличаются от профанов?
— Только одним, — сказал Лёха и показал мне указательный палец. — У них ещё есть выбор, а у нас его уже нет. Они-то Силы не знают.
— Та-а-ак, — протянул и хлопнул я себя по коленкам: — Без бутылки тут не разобраться. Разливаю?
— Погоди, — остановил меня Лёха. — Дай сначала скажу, что там у тебя на руке накарябано. А то вырублюсь, будешь потом скакать как лось подбитый.
Понятно дело, что от великого при встрече можно ожидать чего угодно, в том числе и разгадки твоих истинных намерений, и я к подобным фокусам был внутренне готов. Но всё равно его проницательность меня потрясла. Всегда потрясает. К такому ни привыкнуть, ни подготовиться нельзя.
— Выходит, ты в курсе, зачем я пришёл? — смущённо выговорил я.
— Обязательно, — кивнул Леха. — Как никак великий, а не кукла самоварная.
— Честно говоря, я боялся, что упрашивать тебя придётся.
— Это я уловил. И, как понимаю, подпоить решил, чтоб сподручнее было дело обстряпать?
Это было неправдой. Вернее — не совсем правдой. Поэтому я поводил пальцем перед его носом:
— Нет, друг разлюбезный, всё не так. Не подпоить я тебя решил, а расположить.
— Эх, плохо ты меня дракон знаешь, — легонько, по-дружески ткнул Леха меня кулаком в лоб.
— Я тебя вообще не знаю.
— Ну-у-у! Пошёл из лога в степь.
— Правда, не знаю.
— Ладно, узнаешь ещё, чай не последний день на свете живём.
Подёргав себя за лацкан куртки, я спросил:
— Ну и что, мне шкурку скидывать? Или как?
— Не нужно, — мотнул Лёха головой. — Ты ж не у лекаря на приёме, я и так всё вижу. То, что там написано, на здешний язык можно так перевести: «Жду тебя, дракон, в том самом месте». Всё.
— Это как понять?
— А чего тут не понять? Ясно же всё. Как божий день ясно. Ждут тебя где-то, дракон. Ожидают.
— Понимаю, что ждут. Не понимаю, где ждут. Что это за место такое — «то самое»?
— Ну, брат, это ты давай у себя спрашивай. Тебе написано, значит, адресок знаешь. Тут я тебе не помощник.
— А кто меня ждёт, там не написано? Подпись не стоит?
— Вот чего нет, дракон, там, того нет.
Затратив некоторое время на то, чтобы переварить полученную информацию, я задумался вслух:
— Где ждут — не понять. Кто ждёт — не известно. Когда ждут — тоже не сказано.
— Насчёт «когда» это ты, дракон, глупость порешь, — сказал Лёха. — В Запредельном нет понятия «когда». Там вообще времени нет. Но если так тебе легче будет, считай, что ждут тебя там всегда.
— Подожди, это место, оно что, в Запредельном находится?
— Очевидно.
В свете раннее изложенной Лёхой доктрины его убеждённость показалась мне подозрительной.
— Я чего-то тебя, Алексей Петрович, не пойму, — поймал я его на нестыковке в показаниях. — Ты же вот только что сказал, что Запредельного нет.
Он в ответ прищурился хитро:
— А ты что великий?
— Нет… пока.
— А раз нет, значит, для тебя Запредельное есть.
— А что ж ты тогда…
— Это я тебе для общего развития. Ты дракон, тебе можно.
— А был бы человеком?
— Тогда бы ничего не сказал.
— Почему?
— Почему? Хороший вопрос. А ты вот скажи, чем отличается ум дракона, от ума человека?
— Человек может понять то, чего не может вообразить. А дракон может вообразить то, чего не может понять.
— Во-о-от, — не совсем уже трезвым голосом протянул Лёха. — Вот ты сам и ответил на свой вопрос.
Взял банку, глянул сквозь неё на свет и разлил остатки спирта по кружкам. А когда чокнулись и выпили, он закусывать не стал и сказал на выдохе:
— Уважаю я тебя, дракон. Вот ты меня критиковал давеча, а я тебя всё равно уважаю. Ну а ты меня?
— И я тебя уважаю, — ответил я.
Леха ткнул сначала меня в грудь, потом себя и сказал:
— Мы с тобой уважаемые люди.
И я не человек, подумалось мне, и ты уже не совсем.
Вслух ничего не сказал. Похлопал Леху по плечу на прощание и пошёл, стараясь идти прямо, по направлению к шесту, который, как я понял, торчал сразу в двух лоскутах Пределов. Не успел я и трёх шагов сделать, как Лёха меня окликнул. Потом зачерпнул из коробки горсть сахара, подошёл, слегка шатаясь, и сунул мне словами:
— На дорожку.
— Зачем? — стал я отнекиваться.
Но он, упреждая все доводы, сунул сахар мне в карман куртки и полез обниматься. Обхватил меня крепко и прижал к груди, как брата родного. А когда я сумел от него оторваться, увидел, что стоит передо мной не великий маг и живой бог Лёха Боханский, а кондотьер Серёга Белов. Стоит весь такой удивлённый и косится на машину, из окна которой смотрит на нас не менее удивлённый Боря Харитонов.
Глава 22
После того, как я пересказал Архипычу содержание анонимки, кондотьер обмозговал это дело быстренько и заявил, что «то самое место» мне, дракону кручённому, конечно же, известно, просто моё засоренное всякой чепухой сознание не может сходу соотнести его с тем, о котором сказано в послании. Говорил он убеждённо, решительно, не выказывая ни малейших сомнений, а я слушал и думал: до чего ж обидно, когда розы истины расцветают на медоточивых устах мудрейшего из мудрейших, а тебе почему-то от этого ничуть не легче. Даже напротив — во стократ труднее.
Одно место, которое мы, нагоны, между собой называем «тем самым», вернее с заглавных букв — «Тем Самым», я действительно знал, но оно по моему разумению в эту тему никоим образом не вписывалось. Настолько «никоим», что просто караул. На птичьем нашем языке эвфемизм «То Самое Место» означает удивительную точку на пересечении улицы Марата и переулка Гашека, где находится вход в драконье Подземелье. Место это хотя и публичное, но по сути своей тайное, ибо никто чужой о его предназначении никогда не догадывался, не догадывается и не будет догадываться. Вот почему у меня имелись веские причины сомневаться, что пославший записку (кем бы он там ни был — боссом Варвары или господином хомма) ждёт меня именно там. А то обстоятельство, что словосочетание «то самое место» было мной, действующим Хранителем, услышано здесь и сейчас вне служебного контекста, отнёс я к чистой случайности.
— Нет, — сказал я твёрдо в ответ на все уверения Архипыча. — Ерунда это полная. Сам, Серёга, подумай: если понимать послание в прямом смысле, то выходит, что мы — я и тот, кто руку мою приказал изуродовать — пересекались где-нибудь когда-нибудь и поэтому у нас с ним есть некие общие воспоминания. Но это не так. Уверяю тебя.
— Ты, Егор, как-то уж больно по-житейски рассуждаешь, — возразил кондотьер. — А тут не житейские пласты вспаханы, тут о-го-го какие пласты вспаханы. Может, он всё, то есть абсолютно всё о тебе знает. И не нужно ему никаких общих воспоминаний. Ему достаточно твоих.
Это замечание прокомментировать я не успел, потому что в наш разговор вмешался Боря Харитонов. Продолжая рулить, и не отрывая взгляда от мокрой щербатой дороги, он посоветовал простодушно:
— Ты, братишка, мозги-то включи на полную катушку. Из Города уже лет двести никуда не уезжал, сидишь как на привязи, стало быть, и место это должно быть где-то здесь. Рядом. Быть может, это просто место Силы какое-нибудь? Почему нет? Коса Адмирала, к примеру. Или перекрёсток Маркса и Ленина. Или — чем чёрт не шутит — подземный переход Чёрной Невесты на Лермонтова. Или ещё что-то типа того. Ты копни хорошенько. Копни-копни. Глядишь, что-нибудь дельное на ум и придёт. Только не очень глубоко копай. Глубоко копать — заранее облажаться.
— Спасибо тебе, добрый человек, — поблагодарил я его искренне за посильную помощь и сочувствие, но тут же и заявил категорично: — Только это всё сразу отпадет. Моментально.
Боря собрался было привести какие-то дополнительные аргументы, но я его остановил:
— Погоди, солдатик, не горячись. Я тебе объясню, почему отпадает. Лёха Боханский, опираясь на какие-то одному ему ведомые намёки, которых, к слову, в самом тексте нет, убеждён, что имеется в виду локация в Запредельном. Так что давайте будем исходить из этого.
Молотобойцы переглянулись, и на несколько секунд в салоне воцарилось молчание. Нарушая его, Архипыч спросил:
— А как у тебя, Егор, обстоят на данном историческом этапе дела с Запредельным?
— Да никак, — с максимальной, каковая в таких обстоятельствах только, пожалуй, и требуется, честностью ответил я. — За последнюю сотню лет всего только один… Нет, два… Нет, теперь уже три Образа поднимал. Образ Храма Книги, посещение которого нам, драконам, вменено в обязанность, и ещё два Образа, о которых в силу разных причин сейчас умолчу. Все три эти Образа никакого отношения к данной истории не имеют. И это точно. Они очень личные, чужие там не ходят.
— Это как сказать, — произнёс Боря тоном бывалого человека. — Иной раз, думаешь — не имеет никакого отношения. А потом так оборачивается, что бац — и имеет. Причём, по полной программе, во все дырки и без предварительных ласк.
— Может быть, может быть, — проговорил я, уступая его напору. Однако после небольшого раздумья всё-таки высказал сомнение: — Нет, братцы мои, такая вот игра в угадайку мне решительно не нравится. Это путь в никуда.
И только я произнёс эти слова, Архипыч тотчас выкрикнул какое-то малопонятное, но энергичное словцо и заявил решительно:
— Ладно, хорошо, раз путь логического перебора — путь в никуда, тогда попробуем решить вопрос иначе. — С этими словами откинул дверку бардачка, покопался там недолго и вытащил узкую коробочку, обитую синим бархатом. Открыл её, подцепил из углубления тёмно-коричневую, почти чёрную горошину и, бережно зажав большим и указательным пальцами, протянул мне между кресел: — На, дракон, глотай.
— Что это? — напрягся я.
— Глотай, говорю, не бойся.
Он был настойчив, но я упёрся:
— Пока не скажешь, что за гадость, даже не подумаю.
— Сыворотка правды, — оскалился Архипыч.
— А если честно? — нахмурился я.
— Честно? Да я и так тебе честно. А если хочешь ещё честнее, то — пожалуйста. Это пилюля Гамсунуса. Знаешь, кто такой Гамсунус?
Так сложилось, что я знал, кто такой господин Гамсунус, и даже видел как-то раз этого удивительного человека. Случайно видел и что говорится мельком, однако видел. Сидим, помнится, с Кикой в кабаке у Жонглёра, выпиваем-закусываем, рассуждаем о том, о сём, в том числе и о гадостной природе современного человека. И вот в тот самый момент, когда Кика обозвал современного человека варваром и стал обосновывать это тем, что восприятия современного человека настолько грубы, что ему кажется, будто посредством тупого технического прогресса он способен достичь того, что можно достичь лишь долгой духовной эволюцией, в зал спустился неизвестный мне долговязый растрёпанный дядька потерянного вида. Приметив вошедшего, эгрегор осёкся на полуслове, показал на него, смешно кося глазами, и прошептал: вот смотри, Егор, это тот самый Виктор-Викторин Де Фон Ван Гамсунус, который у местных Преображённых за идейного вождя.
Ну а кто такие Преображённые я и до этого знал. Говоря без излишне умных заворотов, это такие посвящённые светлой масти, которые сознательно отказались использовать магическую силу, но зато развили в себе естественную способность воспринимать связь между вещами, которые обычному человеческому рассудку кажутся абсолютно никаким образом не связанными. В дела земные и суетные эти гордые ребята, против которых наши признанные ведуны и провидцы — дети малые, особо не вмешиваются, но если вдруг придёшь к ним в недобрый час за добрым советом, в помощи не откажут. И это точно. Ну а не дай Сила придёшь за советом недобрым да ещё и в добрый час, опустят по полной программе и за милую душу. В моральном, конечно, плане. Вот такие вот правильные ребята, эти Преображённые. А про то, что они помимо советов ещё и какие-то особые таблетки распространяют, услышал я от Архипыча впервые.
Не особо вдаваясь в фармакопею, кондотьер вкратце, но с бойкостью опытного дилера описал чародейственные свойства препарата и убедил таки меня закинуть в рот это снадобье, похожее консистенцией и цветом на мумиё, однако пахнущее чабрецом, вереском, мятой и ещё чем-то до боли родным, но чего я вспомнить так и не сумел. Проглотив пилюлю, я не умер, но и не прозрел, лишь почувствовал во рту горьковатый привкус лаврового листа. Это поначалу. Но минут через сорок (именно настолько в среднем тормозит драконья кровь против человечьей), когда мы уже почти подъехали к городу и Боря завернул на заправку возле поста ГАИ, средство наконец начало действовать. Меня вдруг резко бросило в холод, потом сразу в жар, а когда отпустило, я самым безобразным образом раскис. Захлопал осоловелыми глазами и стал засыпать. Однако не уснул, а погрузился в то состояние между сном и явью, которое называется грёзой. Точнее даже не в грёзу я погрузился, а в такой странный вид воспоминания, когда кажется, что всё происходит здесь и сейчас. Оно, это воспоминание, было очень коротким, но при этом достаточно информативным. Дико звучит, но из салона летящей в пробуждающийся город машины, я в один миг и чудесным образом перенёсся на кухню Альбины Ставиской, где увидел, как хозяйка, загадочно улыбаясь, вытягивает карту из потрёпанной колоды Таро. Вытащив карту, ведьма перевернула её рубашкой вниз и показала мне. При этом сказала игриво:
— Вот оно, милый мой Егор, то самое место.
На карте был изображён аркан «Мистерия», во многих мистических системах известный так же под названием «Луна» и в немногих — под названием «Сумерки». Впрочем, как его не называй, по счёту это восемнадцатый аркан. Старший, разумеется, аркан. Аркан, олицетворяющий не самый удачный расклад судьбы и не лучшее состояние духа.
Впившись взглядом в картинку, где волк и собака воют на луну, сидя на пустынной дороге, я пролепетал непослушными губами:
— Ты это, Альбина, серьёзно?
— До известной степени, — ответила ведьма, подмигнула заговорщицки и приложила палец к губам: — Т-с-с-с.
После чего растворилась в густом, как сгущённое молоко, тумане.
Вот и всё.
Из состояния прострации меня вывел резкий сигнал клаксона. Это Боря, встраиваясь в общий поток, дал понять заметавшейся маршрутке, кто тут у нас вообще-то главный. Очнувшись, я — лучшего способа быстро привести себя в норму не знаю, разве только — кусок льда за шиворот — энергично растёр ладонями уши. А когда окончательно пришёл в чувство, обнаружил, что Архипыч участливо наблюдает за мной и внимательно-внимательно отслеживает мой долгий приход после краткосрочного отхода.
— Чего уставился? — спросил я у него с полушутливой грозностью.
— Сдаётся, ты всё вспомнил, — удовлетворённо произнёс кондотьер.
— Да. Кажется.
— Кажется или точно?
— Кажется, точно.
— Ну, это лучше, чем «точно кажется».
— Лучше, — согласился я. — Только теперь новая проблема на очереди.
— Что ещё? — нахмурился Архипыч.
— Нужный образ я ухватил, это хорошо и даже здорово. Но как мне теперь в Запредельное попасть? Вот вопрос. Самовольно не могу, ворота мне Туда открываются ненадолго и лишь в указанный срок. Что делать?
— Снять штаны и бегать, — проворчал Архипыч. Потом потрепал в глубоком раздумье бороду и предложил: — Послушай, Егор, а может, я вместо тебя схожу? С тебя, похоже, выкуп какой-то потребует, так я посредником выступлю. Не бойся, я справлюсь. Наш Тарас не хуже вас.
Меня этот вариант категорически не устраивал.
— Верю, Серёга, что справишься, — сказал я. — Но в таком случае мне придётся одну тайну раскрыть, которую тебе, извини, знать не положено. Я этого сделать не могу. Так что — увы.
— Хреново тогда.
На какое-то время после этого воцарилось молчание. Мы все дружно и наряжёно думали. Потом я решился и, глядя за окно (в это время мы уже проезжали мимо сгоревшего и покуда ещё не отремонтированного здания военной типографии), спросил:
— Серёга, не сочти за наглость, но ты не можешь мне предоставить свои каналы?
— Могу, — не оборачиваясь, сказал Архипыч. — Но только это тебе ничего не даст. Ты в них не протиснешься.
— Ой, Серёга, не ври.
— О чём это ты?
— О том самом. Ты высший, ты в курсе: Пределов нет, есть лишь различные аспекты Запредельного. А раз так, значит, и каналы твои безразмерны.
— Откуда знаешь?
— Знаю.
Архипыч повернулся, посмотрел на меня осуждающе и, поведя головой в сторону своего заместителя, спросил:
— Ну и зачем об этом при детях?
— Тоже мне секрет полишинеля, — фыркнул Боря. Но стоило только Архипычу на него цыкнуть строго, отпустил руль и зажал руками уши: — Всё-всё, мой коннетабль, ничего не знаю, ничего не слышал.
— Кончай придуряться, Улома, рули давай, — приказал Архипыч и потом вновь обратился ко мне: — Да, Егор, я знаю, причём, знаю точно, что Пределы лишь фантом реальности. Знаю и не сомневаюсь в этом. Ну и что с того? Знание это только знание, оно ни к чему не обязывает, оно даёт право на выбор. Есть два пути. Первый: порвать с иллюзией, пройти по ступеням просветления и слиться с истиной. Второй: не дёргаться, оставит всё как есть и дальше жить иллюзией. Я, как, впрочем, и все другие высшие из ныне живущих, выбрал второй. Выбрал и живу по законам Пределов.
— Почему так? — не преминул спросить я.
— А потому что мне так интересней, — с вызовом и задиристо ответил кондотьер. — Это, во-первых. А во-вторых, всерьёз подозреваю, что, истина — это тоже иллюзия. Только высшего порядка. А есть ещё в-третьих, в-чётвёртых… Тебе доложить? Или этого хватит?
— Пожалуй, хватит.
— Вот и хорошо. Разговор на эту тему может быть длиннее сказки про белого бычка, а нам недосуг. Нам решение нужно найти. А о высоком поговорим как-нибудь после войны.
И вновь в салоне надолго повисло молчание. На этот раз прервал его Боря. Вырулив возле Знаменского монастыря на кольцо, он вдруг предложил:
— Мой коннетабль, а что если задействовать канал номер двести?
— Ну ты, брат, и хватил! — не то изумился, не то возмутился Архипыч. — Сам-то понял, что сказал?
Боря стушевался и вновь проглотил язык, а вот я за его идею зацепился:
— Колитесь, господа, что за канал такой?
— Это, Егор, технический канал, — выдержав паузу, пояснил Архипыч. — Мы через него отправляем тех, кого уже развоплотили, Грубо говоря, двухсотый служит грузовым порталом для компоста.
— А что, живому туда нельзя нырнуть?
— Отчего же. Можно. Но только… — Архипыч обернулся ко мне. — Слышал про жёсткую посадку спускаемых космических аппаратов?
— Слышал, конечно, — кивнул я. — Это когда они падают по баллистической траектории.
— Правильно. Так вот это приблизительно то же самое будет. Попасть ты Туда попадёшь, но в каком состоянии, это я тебе, Егор, сказать не могу. Просто не представляю этого. Вдруг тебя так перекрутит всего, что нужный Образ не сможешь поднять, тем более — удержать. Что если так? Ведь для двухсотого, увы, не существует никаких стабилизирующих и защитных ритуалов. Почему, сам понимаешь.
— Но другого выхода нет, — после паузы, сказал я.
— Входа, — поправил Архипыч. Глянул на меня долгим, оценивающим взглядом, понял, что в своём намеренье я твёрд, и покачал головой: — Ну, как знаешь, как знаешь. Моё дело — предупредить.
— Не бойся, начальник, — с напускным запалом сказал я. — Прорвёмся.
Архипыч кивнул:
— Ну, хорошо. Тогда сейчас прямиком к нам в штаб-квартиру и сразу в процедурную.
Едва он это произнёс, в кармане у него зазвенел телефон. Кондотьер крякнул недовольно, долго рылся в карманах, наконец достал и приложил трубку к уху. Послушал, ответил на приветствие звонившего:
— Привет. — И протянул трубку мне: — Это тебя.
— Меня? — не поверил я, но трубку взял.
Звонил Ашгарр.
— Как там у тебя? — спросил он.
Чувствовалось, что сильно взволнован, хотя и старается говорить спокойно.
— Работаю, — ответил я.
— Подвижки имеются?
— Определёно. Что, с Лерой плохо?
— Совсем плохо, уже заговаривается.
Я отвёл руку с трубкой в сторону, выплюнул грубое слово, опять приставил трубку к уху и, не желая удваивать тревогу, сказал чётко и спокойно:
— Всё будет хорошо. Держи её, не отпускай.
— Я стараюсь, Хонгль, — сообщил поэт. — Я очень стараюсь. Но ты бы как-нибудь там побыстрее, что ли.
— Всё вот-вот закончится. Я уже подобрался к гаду… Почти подобрался. Сейчас вот метнусь в Запредельное, встречусь с ним и, думаю, вопрос закрою.
— В Запредельное? — насторожился Ашгарр. — Ты собрался в Запредельное?
— Так надо, — сказал я тоном, сразу отметающим всякие возражения.
Но поэт возражать и не собирался, просто здорово переживал за меня.
— А каким образом ты туда попадёшь? — спросил он озабочено.
— Не тревожься об этом. Молотобойцы пообещали канал подогнать. Правда, этот канал, скрывать не буду, суровый, меня может здорово помять, но выбора нет.
— Суровый… Тогда ведь может и меня… А как же Лера? — На том конце повисла пауза, которая заставила задуматься и меня. Потом Ашгарр опомнился и произнёс: — Послушай, у нас в Подземелье…
И вновь замолк.
— Что там у нас? — поторопил я, косясь на Архипыча.
— Запретная дверь…
— Ну не тяни ты ради Силы кота за хвост. Говори живее.
— За этой дверью ход в Запредельное.
Я чуть не пробил головой дырку в крыши «хаммера»:
— Что там?!
— Прямой ход в Запредельное, — тихо повторил Ашгарр. — Если хочешь — портал. Вуанг им давно пользуется. Несколько лет уже.
— И ты молчал!
— А ты никогда не спрашивал. Да и он просил не выдавать.
— Сволочи вы оба, вот вы кто.
— Он не злоупотребляет, — сразу, как это у нас и бывает всегда, стал оправдывать поэт воина. — Он в основном из одной точки Пределов в другую… Ну ты понимаешь.
А моим возмущениям не было предела:
— Блин, а я-то думаю чего он такой чистенький и прилизанный всегда наружу выбирается. А оно вон оно как. Нормально.
— Ну, в общем, я сказал, а ты там смотри.
— Уж посмотрю.
— Всё, конец связи, мне пора к Лере.
Услышав имя девушки, я сразу опомнился, успокоился и сбавил экспрессию:
— Давай Ашгарр, давай, чувак. Держись там. Я скоро. Я уже.
Сразу после этого Ашгарр отключился. Я вернул трубку Архипычу. Он спрятал её в карман и спросил:
— Как там Лера?
— Плохо.
— А чего шумел?
— Да так, ничего особенного, — ответил я. — Просто у меня сегодня день великих открытий. Надо будет его в календаре кружком обвести, и каждый год отмечать.
— А поподробней нельзя?
— Забей, Серёга. Это наши дела, драконьи. Но теперь так: канал ваш по боку, пойду, как Ульянов-Ленин, другим путём.
— Каким?
— Этого сказать не могу. Не обижайся.
— Уж как-нибудь не обижусь, чай не барышня, — понимающе обронил Архипыч, после чего спросил: — Ну и где тебя в таком случае высадить?
— Если можно, то возле памятника Ленину, — прикинул я расклад. — Только, чур, потом не подглядывать. Лады?
Архипыч в ответ только хмыкнул, а Боря обиженно покачал головой.
Через восемь минут они, пожелав удачи и выдав по моей просьбе большую отвёртку и фонарь, высадили меня там, где попросил. Прежде чем уйти, я сказал им на прощанье:
— Не падайте духом и не качайте головой. Так уж написано мне на роду — потягаться с этим злодеем. Я одолею его или погибну. Если погибну — что за беда? Моя жизнь — не ахти какая потеря. Этот сильный город будет и впредь сопротивляться Козлиной Бороде ничуть не хуже, чем до моего прибытия.
Ничего не понимая, Архипыч с Борей переглянулись и одновременно пожали плечами.
А через две минуты я уже был на пересечении переулка Гашека с улицей Марата, где два противоположно направленных потока Силы рвут Пределы в лоскуты.
Подбежав к водосливу у обочины, я воровато огляделся, ничего и никого подозрительного не увидел, подцепил отвёрткой чугунную решётку, аккуратно сдвинул её в сторону и полез в дыру. Упёрся ногами в края сливного желоба, опустился с головой и, подтащив в два приёма, поставил решётку на место. Затем откинул крышку люка, высеченного в бетонной стене, схватился за вбитую на уровне головы скобу, подтянулся и сунул ноги в распахнувшееся отверстие. Нащупав ступень металлической лестницы, осторожно развернулся, спустился вниз и, врубив фонарь, пошёл по узкому технологическому лазу. Через тридцать три шага луч фонаря воткнулся в ориентир, которым служила муфта на коаксиальном кабеле связи в оплетке оранжевого цвета. Я постучал каблуком и убедился, что стою на медной плите, скрывающая вход в подземелье Тайника. Примостив фонарь на муфте, я отошёл на шаг назад, присел, нащупал кольцо, ухватился двумя руками и, ухнув по-молодецки, что было сил его дёрнул. Петли скрипнули, массивная плита поддалась, пошла и — я едва успел отскочить — тяжело опрокинулась на бетон. Дальше двадцать восемь скоб-ступеней вниз, и вот он — небольшой зал с арочным сводом и тремя проёмами в кладке противоположной стены. Как и положено, я проследовал в левый проём. Прошёл сто метров по настилам из лиственницы, которая за те века, что тут лежит, стала прочнее мрамора, и вновь попал в зал с тремя проёмами. Теперь я нырнул в правый тоннель и снова — вперёд, вперёд, вперёд. В общей сложности затратив полчаса (я шёл очень быстро, быстрее обычного, чуть ли не бегом) и миновав ещё полдесятка залов-близнецов, я добрался до последнего. В этом зале, который я называю Предбанником, напротив входа глухая стена. Для тех, кто знает секрет, на самом деле никакая не глухая. Используя фонарь вместо кисти, я быстро нарисовал лучом на стене пылающий цветок с нераскрывшимся бутоном, полюбовался чуточку своим художеством и произнёс заклинание с одиннадцатью «о» и одиннадцатью «е»:
Не прошло и секунды, как заклинание стало работать. Бутон раскрылся, и из него вырвалась наружу чудесная роза. Чудесной она оставалась недолго, вскоре превратилась в безобразную огненную кляксу, которая стала расползаться во все стороны. Через минуту уже вся стена полыхала огнём. Мне оставалось лишь войти в него и выйти.
Всегда при прохождении Огненной Стены власть над моим сознанием захватывают различные визуальные образы из чужого бывалого и своего неизбывного. Вот и на этот раз поплыли перед внутренним взором: широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью бежевых холмов; шоссе, идущее мимо кладбища и пропадающее среди волнистых полей; кресты, которые ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы авто; мелькающие вдоль шоссе кучки щебня; металлически-меловая хвоя чахлого ельника; заброшенные каменные хижины; маленькая площадь; одинокий, словно единственный во всем мире и неизвестно для чего светящий фонарь, ну и, конечно, — как без этого? — самоцветные глаза бессонной кошки, испугавшейся шума мотора.
Через пять шагов и один полушаг огонь остался позади, и я очутился в большом круглом зале с куполообразным сводом. Этот зал, стены которого украшены трофейным оружием, и есть бункер, в котором устроен Тайник с фрагментом Вещи Без Названия. Тайник находится за одной из пяти обитых медными пластинами деревянных дверей. Ещё за тремя — кельи Хранителей. За четвёртой — кухня с очагом. Что скрывалось за последней, за пятой, нам знать было не положено. Открывать её запрещалось.
Вуанг, моя бритая и мускулистая копия, уже давным-давно почувствовал, что я приближаюсь, зажёг дополнительные факелы (сам он вполне обходится двумя или даже одним) и, когда стена за моей спиной вновь стала каменной, поприветствовал сдержанным кивком. Как и всегда на воине была его любимая подземная униформа — просторные хлопчатобумажные штаны чёрного цвета и такая же курточка с одной, но огромной деревянной пуговицей, пришитой в районе пупка. На ногах — и это принципиально — ни ботинок, ни тапок. На лице — маска непроницаемости. В глазах — вопрос: какого ты, дружок, припёрся в неурочный час?
Чтоб обрисовать ситуацию, мне хватило трёх фраз. Хотя, наверное, Вуангу достаточно было бы услышать и трёх слов: «атака», «заложник» и «выкуп». Узнав, что в качестве выкупа от нас требуют помимо сердца ещё и фрагмент Вещи Без Названия, Вуанг сказал строго:
— Вещь — нельзя.
И при этом на его лице не дрогнул ни один мускул.
— Это не обсуждается, — похлопал я его по плечу. — Мужайся. Будет надо, возьмём на время, а потом вернём.
— Нельзя, — твёрдо стоял немногословный воин на своём.
— Говоришь, нельзя? — Я показал рукой на запретную дверь. — Эту дверь вот тоже открывать нельзя. А поэт говорит, что ты давно положил болт на это «нельзя».
— Случайно, — сказал Вуанг, ничуть не смутившись.
— Один раз случайно, а второй? Третий? Потом?
— Запрет можно нарушить только раз.
С логикой Вуанга, завидно железной, как и его мускулы, было трудно не согласиться, и я согласился:
— Тут ты, чувак, определённо прав, девственность действительно можно потерять только один раз. — После чего предложил: — Давай не будем ссорится. Давай это оставим на потом. Изъятие Вещи на данный момент не актуально и не ясно, станет ли актуально. А сейчас мне срочно нужно в Запредельное.
После этих слов я направился к запретной двери и решительно схватился за чугунное кольцо.
— Подожди, — сказал по-кошачьи бесшумно ступавший за мной Вуанг.
— Что ещё?
— Откроешь дверь, нарушишь запрет.
— Вуанг, — взмолился я, — не начинай ради Силы сначала.
Он постучал кулаком по двери:
— Я открою, а ты войдешь. Входить никто не запрещал.
— Вот ты про что, — усмехнулся я. — Я в таком случае чистым останусь?
Воин кивнул, рванул дверь, и на нас пахнуло холодом.
— О, блин! — задохнулся я.
— А ты думал, тут мёртвые женщины по стенам, как у Синей Бороды? — с угрюмой вежливостью поинтересовался Вуанг.
Я мотнул головой — помолчи ради Силы. Сам выдержал паузу, а затем приказал помертвевшим голосом:
— Если не вернусь, вызывайте Куратора.
Про себя же, задержавшись на пороге и набрав полную грудь воздуха, решил: если всё сладится, брошу пить, курить и буду бегать по утрам трусцой.
Шаг вперёд сделать не успел.
Чувствуя, что за всей моей внешней решимостью скрывается тревога за благополучной исход предприятия, Вуанг напомнил:
— Не забудь расслабиться.
И, словно инструктор начинающего парашютиста, с силой втолкнул меня в темноту.
Не найдя ногами никакой опоры, я тотчас полетел вниз. А возможно, вверх. Но лучше, наверное, сказать (поскольку в Запредельном нет никакого низа, а равно верха), что полетел я в бездну. Применительно к данному случаю это очень удачное слово: ничего конкретного не обозначает, но даёт возможность кое-что прочувствовать. Впрочем, может, и не летел я ни в какую в бездну, мало больше — вовсе не летел. Может, ощущение полёта было иллюзией, порождённой характерным для прохода по узкому коридору между жизнью и смертью изменённым состоянием сознания. Поди там разбери, когда нет никаких ориентиров, а есть только одна темнота. И даже когда через время (на самом деле, с учётом того, что времени в Запредельном нет, не понять когда) темнота сменилась светом, легче от этого не стало. Свет был настолько тотальным, настолько ярким, что всё равно ничего видно не было. Да и смотреть особо не хотелось, хотелось зажмуриться, так было больно глазам. А потом свет простыл, сквасился и благополучно выродился в серые переливы, запрудившие всё пространство. На само же деле с учётом того, что пространства в Запредельном нет, запрудил он, конечно, не понять что. Но под завязку. И тут я наконец в полной мере воспользоваться советом воина — расслабился.
Это в Пределах для того, чтобы наколдовать чего-нибудь, нужно сосредоточиться, напрячься, сконцентрироваться, собрать всю свою Силу в кучу и наложить её на образ. В Запредельном надо действовать с точностью до наоборот. Силы тут как грязи. Все эти серые переливы и есть визуализация Силы, которая в Запредельном никакая уже не Сила, а просто сила. Вот почему Здесь надо поступать по следующей методике: успокоился, расслабился, наметил в сознании нужный Образ и вперёд — накладывай его на силу, роняй его в эту многозначительную и всепоглощающую грязь. И вот что интересно: на то, чтобы воспроизвести в сознании прообраз Образа, тоже не стоит тратить особых усилий. Мозг настолько мощный аппарат, что сам всё сделает без дополнительных с твоей стороны стараний. Ему в таких экстремальных условиях достаточно лишь намёка. Достаточно какой-нибудь самой малой детали. Достаточно какой-нибудь косой линии на белом листе, чтобы он решил — вот линия горизонта, сверху — небо, снизу — земля. А как решит он так, сразу и начнёт этот мир обустраивать. Да так напористо, что уже не остановишь. Он такой. Он ассоциативный. Он способен накуролесить и нагромоздить.
Обычно, попадая по известному графику в Запредельное, я начинал с того, что представлял покатую крышу Храма Книги. Даже не саму крышу, а её контур, галочку такую, две иголки сосновые. На этот раз я представил луну — полную, яркую, с родимым пятном в виде охотника. Мне показалось, что этого хватит и даже с лихвой. Но я ошибся. Переливы стали ярче, пошли волны и круги, но нужный Образ не проявился. Мало того, на меня хлынула волна чужой и ненужной мне фантазии. Я явственно — этого вот только не хватало! — услышал, как кто-то не то закашлялся, не то зашёлся кудахтующим смехом, а после этого приступа пробормотал хриплым голосом:
— Как сказал мой папа перед тем, как убить маму: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам».
Потом раздались выстрелы. А когда стихли и они, и гулкое эхо, ими вызванное, всё тот же хриплый проорал:
— Умри! Умри! Почему ты не умираешь?! Почему ты не умираешь?
— Под этой маской больше, чем плоть, — ответил ему кто-то молодо, звонко и задорно. — Под этой маской — идея, мистер Криди. А идеи — пуленепробиваемы.
Так не пойдёт, подумал я. Чего доброго сейчас стану героем чужой истории. Какого-нибудь детектива в стиле нуар. Или городского комикса. Или ещё чего похуже.
Скомкал всё чужое, отбросил в сторону, раскрепостил сознание и вновь завесил луну, на этот раз прикрыв один её бок живописным облаком. Однако затем подумал, что облако это слишком уж по-детски, убрал его и навёл вокруг луны много-много радужных кругов. И как только замкнул последний — всё сработало как надо. Уже в следующий миг (так, во всяком случае, мне показалось, хотя быть может, минула и целая вечность) я оказался там, где и мечтал оказаться: в ночи на пыльной дороге посреди пустынной равнины. Вздохнув тёплого воздуха, наполненного густыми горькими ароматами палёных трав, я посмотрел туда, где на фоне багрового зарева виднелись две одинаковые, но разделённые километрами башни-донжоны, и подумал: оно.
И вот что было удивительно: куда бы, в какую бы сторону я не глядел — вправо, влево, назад, куда угодно, везде видел эти трёхъярусные каменные башни и дорогу, пролегающую между ними. Дивиться этому обстоятельству было глупо, не с руки, да и просто некогда. Отметив себе, что вот как здорово всё тут устроено — захочешь, не заблудишься, я восславил Высшего Неизвестного и зашагал в предложенном направлении.
Не успел пройти и десяти шагов, как на дорогу с прытью, которая казалась мне раньше не свойственной подобным раскоряченным существам, выполз рак устрашающих размеров. «Устрашающих» — эта никакая ни гипербола. Рак действительно был огромен, разве только чуть-чуть поменьше слоновой черепахи.
Понимая, что нахожусь не в Пределах, и случиться может всякое, я насторожился, и, как оказалось, не напрасно. Развернувшись ко мне отвратительной своей усатой мордой, рак вдруг сделался ещё огромней, правая передняя его конечность стремительно и чудесным образом вытянулась в телескопическом режиме и пребольно пережала мне клешнёй правое предплечье.
— Чего тебе уродище? — морщась не столько от боли, сколько от брезгливости, спросил я.
— Загадка, — просвистел рак на своём тухлом языке.
— Валяй. Только побыстрее.
— Кто смотрит восьмью глазами?
— Тот, кто смотрит со стороны.
Получив скорый, а главное точный ответ, рак присвистнул сконфуженно и глазища его, состоящие из тысяч и тысяч маленьких глазёнок, смешно завращались на подвижных стебельках. В следующий миг он разжал клешню, сделался привычных размеров рачком и медленно попятился с дороги, страшась, как бы я его не раздавил. Ждать, когда уберётся восвояси, я не стал, перешагнул и двинул дальше.
Визуально казалась, что дорога, по которой я иду, прямая как столб и ровная как стол, но это так только казалось. На самом деле я чувствовал, что иногда она берёт круто в гору, а потом переходит в резкий спуск и тогда, чтоб не упасть, мне приходилось быстро-быстро перебирать ногами. Таких подъёмов и спусков я насчитал аж целых три. До поры до времени это было единственной трудностью, но потом я наткнулся на огромный кусок скалы, непонятно как (не было рядом никаких гор и скал) и непонятно когда (за пять шагов я его ещё не видел) попавший сюда. А когда я этот камень обошёл, увидел впереди, метрах примерно в шести-семи, лежащую посреди дороги собаку. Не домашнюю болонку и не дворового пустобреха, а настоящую собаку. Натурального зверя. Чёрного, лохматого и злобного вида. Почуяв меня, собака вскочила резко и, нет, не залаяла, но зарычала так, что у меня похолодело в животе от нехорошего предчувствия. Замерев на месте, я показал, что мои руки пусты, и повёл подбородком вопрошающе. Мол, чего тебе надо, зверюга? Чего пугаешь?
Склонив голову чуть набок, собака в свой черёд спросила, причём спросила на внятном человечьем языке.
— Што си направио тако кисело лице, човек?
— Насчёт человека ошибаешься, — сказал я в ответ. — Не человек, а дракон. К тому же русский дракон.
— Правда, что ли? — перешла она с сербского на русский. Поводила носом, вынюхала воздух и подтвердила: — А ведь и впрямь — дракон.
Тут я не выдержал, недоумённо закачал головой и признался:
— Первый раз в жизни вижу собаку, говорящую на человеческом языке. Да ещё и вот такого полиглота. Похоже, я не в своём уме.
— Конечно не в своём, — согласилась псина. — Иначе как бы ты здесь оказался?
После этого повисла пауза, невыносимо долгая и напряжённая.
— Пропустишь? — наконец не вытерпел я.
— Возможно, — ответила собака. — Если сумеешь договориться со мной, ничего не говоря.
— Это как же так?
— А ты подумай.
Пришлось подумать.
Не придумав ничего лучшего, я сунул руку в карман и выгреб оттуда куски сахара, которые сунул мне давеча великий, ужасный и прозорливый маг Лёха Боханский.
— Соображаешь, — унюхав лакомство, похвалила меня собака и невольно замахала хвостом. Правда, тут же опомнилась, перебила непристойный свой щенячий восторг, приблизилась ко мне гордой и неторопливой поступью и взяла протянутой сахар с ладони так, как будто сделал мне великое одолжение. Похрустела громко, сглотнула, потом уже, не сдерживая себя, блаженно закатила глаза и вдруг завыла, покачивая в такт головой: — I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you…
На этом месте оборвала свою неожиданную песню и посмотрела на придорожные кусты, будто ждала, что оттуда кто-то выползет, выйдет или выскочит. Но никто не выполз, не вышел и не выскочил. Тогда она громко-громко пролаяла призывно, подождала какое-то время, а когда услышала ответный извиняющийся вой, повторила окончание своего запева:
— I wanna be kissed by you…
— Тир-ли, тир-ли, тир-ли ю, пум-пи-ду, пу, — прокричал вынырнувший из кустов облезлый и очень запыхавшийся волк. После чего изобразил, смешно скрестив задние ноги, некое подобие танцевального па и стремглав ускакал назад в кусты.
Я зажал рот обеими руками, чтоб не рассмеяться. А собака, не обращая никакого внимания на такую мою реакцию, разрешила или даже, пожалуй, повелела величественно:
— А теперь шагай, дракон, куда шагал.
— Много сам вам захвален, — отвесив полупоклон, сказал я по-сербски и аккуратно по дуге обошёл вновь упавшую в дорожную пыль собаку.
Дальше какое-то время шёл без особых приключений, но потом новая беда, да ещё какая — вышел на развилку. Признаться, её появление вызвало в моей голове лёгкое замешательство. Что за турусы такие? Что за вычуры? Ведь ещё за два шага от этого места никаких намёков на то, что дорога распадётся, и в помине не было. Я шёл и чётко видел, что дорога одна, что проходит она аккурат по середине между огороженными крепостными стенами башен и уходит куда-то за пылающий горизонт. А теперь — вот. Вместо одной дороги целых две. Левая прямиком к левой башне ведёт, а правая, разумеется, — к правой. Я-то надеялся, что когда дойду до башен, будет подан мне знак, в какой из них меня ждут. И вдруг вот эта вот развилка. И никаких указующих знаков. Вместо знаков вопрос: к которой из двух башен направляться?
Никаких умных мыслей у меня по этому поводу не было. Хотел было монетку бросить, но тут вспомнил про недавний сон, где я был самолётом и летел к небоскрёбам-близнецам. Срочно переведя этот сон в разряд вещих, я стал вспоминать, в какой из небоскрёбов я должен был врезаться — в правый или в левый? Показалось, что в левый. Решил: будь посему. И, отвергнув всяческие сомнения, направился к левой башне.
А вскоре выяснилось, что вполне можно было идти и к правой. Спокойно. И вот почему: чем ближе я подходил к башне, тем ближе становилась к ней её каменная сестра. Сначала это было едва заметно, и я отписал странное явление на обман зрения. Потом очевидное отвергать стало глупо, расстояние между башнями с каждым моим шагом действительно таяло и таяло заметно. А когда я подошёл к оборонительному рву, башни и вовсе благополучно слились в одну единственную. И остроконечный шпиль этой единственной разрезал луну на две равные доли.
Глава 23
Чёрная вода, которая заполняла широкий ров, отражала помимо луны ещё и звёзды, хотя никакими звёздами на небе и не пахло. Неестественно чистым оно было, здешнее ночное небо. Чистым и серым, как загрунтованный холст. Ни звёзд, ни облаков, ничего такого, только луна одна. Кстати говоря, отражая то, чего на самом деле нет, меня вода почему-то не отражала. Воистину темна вода в облацех воздушных, подумал я об этой удивительной тайне. Впрочем, усердствовать в её разгадке не стал и перевёл взгляд на ту сторону, на высокую стену, окружающую башню. И вот дела: по моему ли неосознанному желанию, по высшему ли наущению, но уж точно не по случайной случайности в этот самый момент где-то там внутри, там, где за мощной кладкой скрывался сложный механизм, вздрогнули лебёдки, заскрипели блоки, зазвенели цепи и подъёмный, сбитый из прочных деревянных щитов мост, который помимо своего главного предназначения ещё и заменял собою створки входных ворот, стал плавно опускаться. Выглядел мост массивным, даже очень массивным, и не только выглядел, но и являлся таковым: едва его край тяжело ухнул на этот берег, вверх взметнулся высоченный столб пыли.
Ну а когда пыль медленно осела, тут-то я и увидел стражника, чья фигура с алебардой в руке выделялась на фоне открывшегося воротного проёма. Это был здоровенный швейцарский гвардеец, облаченный в петушиных цветов форму эпохи Юлия Второго. Он стоял вытянувшись во фрунт как на параде и, круто задрав подбородок, глядел куда-то вверх. И хотя он демонстративно не обращал на меня никакого внимания, я прекрасно понимал, что моё появление для этого ряженного не осталось ни замеченным. Мало того, я мог побиться об заклад, что он предупреждён насчёт моего прибытия и готов примерно измордовать. Так оно всё и вышло. Когда я перебрался по мосту на тот берег, казённый человек первым делом сделал то, с целью чего, видимо, и был вытащен на этот свет, — пригородил мне путь алебардой.
— И как это понять, уважаемый? — вежливо, чтоб излишне не нагнетать обстановку, осведомился я. — Сегодня частная вечеринка? Пройти нельзя?
— Отчего же, герр дракон, можно, — ответил стражник учтиво, при этом продолжая неучтиво глядеть поверх моей головы в скучную даль.
Я махнул рукой в глубь ворот:
— Тогда я пройду?
— Сделайте одолжение, герр дракон, — проурчал стражник по-кошачьи и, кинув на меня короткий взгляд сверху вниз, добавил: — Только сперва внесите плату.
— Звонки бубны за горами, — ахнул я. — А что, просто так пройти нельзя?
— Отчего же, можно. Ваша воля, герр дракон.
Я кивнул удовлетворённо:
— Другое дело. — И изобразил рукой домкрат: — Давай, солдатик, убирай свою штуковину.
Стражник торопиться не стал. Сперва поправил пряжку ремня, потом одёрнул край камзола и лишь после этого с иезуитской неторопливостью, медленно-медленно поднял алебарду. Удержав себя от резких комментариев, я поблагодарил его сдержанным кивком и, пригибаясь, чтобы не снять скальп о зубья не до конца поднятой заградительной решётки, благополучно проследовал в узкий проход меж двух стен. Такие превратные укрепления в виде хорошо простреливаемых каменных мешков называли раньше на Руси захабами, а как называют здесь — чёрт его знает. Скорее всего, никак не называют. Потому что некому называть.
Оказавшись на внутреннем дворе, местами замощенном гладким булыжником, а местами, в проплешинах, поросшим высоким бурьяном, я сделал несколько шагов в направлении башни и оглянулся — как там наш разлюбезный стражник? И не увидел сзади никакого стражника. Исчез он. И захаб исчез. И ворота. Всё это исчезло. Зато я увидел ров, мост через него и дорогу, по которой только что шагал. Меня аж передёрнуло всего от нехорошего предчувствия. Ну а когда я в следующий миг посмотрел вперёд, то к глубокому своему неудовольствию обнаружил, что — так и есть! — вновь стою перед центральным входом и всё тот же гвардеец в фиолетовом, украшенном страусиным пером, берете преграждает мне путь своей дурацкой палкой.
— Что за глупые фокусы? — возмутился я. — Ты же, солдатик, сказал, что можно пройти и без платы.
— Пройти можно, герр дракон, — бесстрастно подтвердил вояка. — Дойти нельзя.
— Почему сразу не сказал?
— Так вы, герр дракон, не уточняли.
— Действительно, — хмыкнул я и, начиная злиться, постучал кулаком по древку алебарды. — Ну и что ты от меня, служивый, хочешь? Курева? Денег? Исполнения желания?
— Нет, ничего такого не нужно, — чётко выговорил он, выдержал паузу и пояснил: — Нужно только то, что нужно для того, что ненужно.
Я опешил и по-собачьи мотнул головой:
— А ну-ка, ну-ка повтори. Что тебе нужно?
— То, что нужно для того, что ненужно, — терпеливо повторил стражник хорошо заученную фразу.
Может, просто морду ему набить, подумал я в первую секунду. Кулаки, честно говоря, чесались. Но стерпел, оставил глупые мысли и начать рыскать по карманам. Потому как очевидно же было, раз что-то с меня просят, значит, это у меня с собой. Ну и понеслось: расчёска в чехле, носовой платок с кавказской анаграммой «В.А.Х.», ключи от машины, зажигалка, пачка сигарет, связка ключей от дома и гаража, бляха Варвары, два разряженных кастета, Ключ От Всех Замков, чужая заколка для галстука, ручка, блокнот, сдохший мобильник, горсть мелочи и невесть как попавший в карман джинсов Послушный кубик. А помимо того ещё портмоне и в нём: фотография актрисы Ксении Раппопорт (это если кому-то при знакомстве нужно в оперативных целях показать жену), денег бумажных немного, водительские права, паспорт, одна кредитная карточка и несколько дисконтных, истрёпанная лицензия частного сыщика, два надорванных билета на спектакль «Планета» (Лера дико обожает убаюкивающий трёп Гришковца), несколько визиток своих и чужих, календарик с предвыборным портретом Жириновского в кислотном стиле Энди Уорхола и ещё какая-то непонятная квитанция, которую я, не разворачивая, тут же отбросил в сторону.
Ну и что, спрашивается, из всего этого барахла может быть нужно для того, что ненужно? Пораскинув могучим своим умищем, я решил, что практически все эти вещи либо самодостатачны, либо нужны для чего-то нужного, кроме — бинго! — заколки для галстука. Сама заколка, понятное дело, нужна и даже очень. Чтобы, допустим, галстук не затянуло в вентилятор или чтоб не его кончик не попал в тарелку с харчо. Хотя бы для этого. Но для чего нужен сам галстук? Вот вопрос. Чтоб пятно прикрыть на рубахе? Сразу отвергаем за никчемностью повода. Чтоб повеситься? Ага-ага. Чтоб сожрать в минуту душевного смятения? Придурок, какой-нибудь малохольный, конечно, может и сожрать, с него станется. Но это исключение. Так для чего же? А ни для чего. Абсолютно галстук ни для чего не нужен. Как, впрочем, и сто тысяч миллионов прочих бесполезных вещей на свете, которые человек придумал в приступе творческого зуда.
Спешно рассовав по карманам всё то, что до этого вытащил, я оставил только эту подобранную в доме покойного поэта Всеволода Бабенко вещицу. Чтоб стала краше, подышал на неё, потёр о рукав и протянул гвардейцу:
— На, служивый, держи, что просил.
Стражник штучку ручищей своей моментом заграбастал, поднёс к глазам и долго-долго-долго, ужас просто как долго рассматривал. Потом одобрительно повёл тяжёлым подбородком и, ничего не говоря, поднял алебарду.
Бежал я к башне, не оборачиваясь — нафиг-нафиг все эти местные кунштюки. Добежал благополучно, поднялся с боевой площадки на высокое гранитное крыльцо, толкнул дверь и ворвался внутрь. Арочный входной проём на первый ярус, к моему удивлению, оказался наглухо заложен свежей кирпичной кладкой. Зато был свободен путь в узкий проход между внешней и внутренней стеной башни. Вот что пока не надо делать, подумал я, так это ломиться в закрытые двери. Смело нырнул в проход и начал восхождение по винтовой лестнице.
Путь наверх по спирали мало того, что меня не напряг, так ещё и дал возможность подивиться очередному здешнему чуду чудному. Дело в том, что во всех окнах-бойницах, начиная со второго яруса, была видна луна. Я шёл по кругу, но с какой бы стороны у бойницы ни оказывался, везде видел это огромный холодный шар. Создавалось впечатление, что луна находится не снаружи башни, а внутри неё в качестве пленницы. Легко можно было с ума сойти от подобного фокус-покуса. И я бы, пожалуй, сошёл бы, если бы эта радость со мной уже не приключилась где-то в другом месте и чуть раньше.
Вход в помещения второго яруса тоже оказался заложен кирпичом, я понял этот тонкий намёк правильно, огорчаться не стал, набавил ходу и вскоре добрался до самого верха. Там, на последней лестничной площадке, и обнаружил чуть приоткрытую кованую дверь. Стучать и не подумал, толкнул ногой и ворвался внутрь преисполненный решимостью.
Просторная комната, в которую я попал, меньше всего походила на помещение оборонного построения, к которым, несомненно, можно отнести дозорную башню. Скорее она походила на рабочий кабинет человека какой-нибудь свободной творческой профессии. Учённого мужа, к примеру, астролога или сочинителя. За то говорили горящие свечи в напольных скульптурах-канделябрах, книжные шкафы, огромный письменный стол, удобные кресла и уютный диван. Всё убранство это было в стиле позднего барокко: много мягких элементов, много тонкой резьбы и много изогнутых линий. И только наглые ветры, врывающиеся с четырёх сторон в окна-бойницы, напоминали, что не всё так очевидно. Что в действительности не всё так, как на самом деле. Что за всем за этим скрывается некая тайна.
Возле одного окна (уж не знаю, какого именно — южного или северного, восточного или западного; как понять, когда всё шиворот-навыворот) стоял спиной к двери коротко стриженый человек среднего роста. Он был в переливающемся тёмно-фиолетовом, почти чёрном балахоне до пят, а на голове его сидела небольшая шапочка, напоминающая узбекскую тюбетейку, только сшитую не из ситца пёстрых тонов, а из чёрного бархата. Руки, сложив кисти в замок, он держал сзади, и я видел, что почти каждый палец его окольцован перстнем с небедным драгоценным камнем.
Человек не заметил моего появления, слишком увлечён был, видимо, своим занятием. А занимался он тем, что смотрел на луну. И ещё диктовал. Диктовал по-французски не то какое-то послание, не то трактат. Он диктовал, а перо-самописец, сухо скребя по лежащему на столе листу хорошо отбеленной бумаги, записывало за ним то, что на русский язык можно было бы перевести приблизительно так:
— Красота мира в своих лучших проявлениях чаще всего недоступна глупцам. Пресыщенность заставляет их странствовать по свету в поисках непривычного, а красота содержится едва ли не в любом окружающем нас ничтожнейшем предмете, рассеяна едва ли не в самом воздухе, которым мы дышим, заключена чуть ли не в каждом звуке, который…
И так далее, и так далее, и в том же духе.
Голос у доморощенного философа был густой и сочный, но не громкий, и в какой-то степени ласковый, но не приторно-ласковый, а ласковый по-отечески. Таким голосом удобно поучать уму-разуму половозрелых отроков и отдавать команды придворным палачам.
Не дожидаясь, когда пересохнет высокопарный поток, я хлопнул дверью и для верности ещё громко покашлял в кулак. Философ вздрогнул, прервался на полуслове и резко обернул ко мне бледное, ничем не примечательное (если не считать глубокого шрама на лбу) лицо пятидесятилетнего человека. Затем прищурился близоруко и улыбнулся одними губами:
— Всё-таки пришёл.
Сказал он это уже по-русски и без малейшего акцента. А я ничего ему на это не сказал. Мне пока нечего было сказать. Я просто воткнул мешающие мне руки в узкие карманы джинсов и уставился на обитателя башни с нескрываемым вызовом.
Моя напряжённая холодность его ничуть не смутила.
— Как добрался, дракон? — спросил он если не дружелюбно, то заинтересовано уж точно.
— Добрался, — буркнул я, стараясь не попасть в плен его сумеречного обаяния. И, неспешно окинув его взглядом с ног до головы, в свой черёд спросил: — Уважаемый, а, собственно, кто ты такой?
— Да, да, да, да, — закивал человек. — Как же, как же, как же. Полагаю, этот вопрос тебя жутко терзает, дракон. Причём, терзает давно. Сложный вопрос. Да, дракон? Кто? Жан или Поль? Поль или Жан? — Он ткнул в серебряный подсолнух, что висел у него на толстой цепи поверх балахона, и скромно, но с достоинством поведал: — Если это тебе чем-то поможет, то знай: я Жан Калишер. Претёмный усмиритель. Глава Великого круга пятиконечного трона.
Хотя и ожидал я услышать что-то в этом роде, всё равно испытал некоторое душевное волнение. Как ни крути, не каждый день встречаешься лицом к лицу с одним из вершителей судеб колдовского мира. Так что да, прочувствовал структуру — хо-хо — момента. Однако внешне постарался выглядеть всё таким же строгим и независимым. Поклонился сдержанно и уточнил:
— Так это ты, претёмный, меня сюда вызвал?
Лицо великого из великих на какое-то мгновение исказила — вот уж никак я не предполагал увидеть от полубога столь непосредственную реакцию — болезненная гримаса. Впрочем, он тотчас превратил её в подобие улыбки. Потом убрал и улыбку, потёр, собираясь с мыслями, шрам на лбу и произнёс:
— Это, дракон, трудный вопрос. Это вопрос, на который нет однозначного ответа. Да и так ли это…
Тут он вдруг прервался, показал жестом, чтоб я присел в любое из кресел, а сам пошёл к дивану. Проходя мимо стола, на котором помимо писчих принадлежностей находились книги, небольшие песочные часы и магический жезл, он усталым движением стянул с себя цепь и бросил её на исписанный мелкими каракулями лист. Потом уселся на диван, взбил круглую подушку из гобеленовой ткани, прилёг, сложил руки на груди и, повернув голову в мою сторону, продолжил с того места, на котором остановился:
— А так ли это тебе важно знать, дракон, кто тебя позвал? Я или Поль? Поль или я? Какая тебе, в сущности, разница?
Говорить он стал медленнее и менее внятно, а глаза его сделались пьяными как у замерзающей птицы.
— В сущности разницы нет, — не дождавшись от меня ответа, заявил великий из великих. — Я или Поль, Поль или я — это всё равно. Главное, что ты уже здесь. И вот что я тебе скажу… Я скажу, а ты, дракон, внимательно послушай. Сейчас я на время усну, буквально на несколько минут, и как только я усну, ослабнет защита башни и сюда придёт мой брат Поль. Он сразу же примется смущать твой разум всякими глупостями, но ты, дракон, его не слушай. И ничего ему не обещай… — Тут претёмный откровенно зевнул, поленившись прикрыть рот ладошкой, после чего добавил: — Впрочем, можешь что-нибудь и пообещать. Это, в сущности, не важно. Главное — дождись меня. Я скоро.
В следующую секунду глаза его закрылись, он повернулся на бок, принял, поджав ноги к животу, позу эмбриона и уснул.
Из всего этого полусонного бормотания я понял лишь одно: сейчас в эту странную комнату, длинна и ширина которой чудесным образом превышает диаметр самой башни, заявится Поль Неудачник. Гад из гадов. Воплощение коварства. Враг наш навеки. Посему стоило внутренне подготовиться если не к драке, то к разговору на повышенных тонах уж точно. И ещё к торгу. Чего ужас как не люблю.
Поцеловав на счастье большой палец, я уселся в кресло, сложил руки на груди и стал поджидать душегуба.
Прошло пять секунд.
Десять.
Пятнадцать.
И ещё десять.
Почему-то я думал, что брат претёмного войдёт в комнату так же, как вошёл в неё и я, то есть через дверь. Хотя ведь в принципе он свободно мог и птицей влететь в окно, и мышью выскочить из норы, и вообще как угодно, самым невероятным образом мог появиться. А я как дурак всё пялился и пялился на дверь. Ну и, конечно же, зря. Он не вошёл. Нет, не вошёл. Впрочем, и не влетел, и не выскочил и не явился. Ничего такого не случилось. И не случилось по той простой причине, что он в этой комнате уже давно присутствовал. Это я понял, когда на исходе второй минуты томительного ожидания тот, кто представился мне Жаном Калишером, очнувшись ото сна, резко поднялся с дивана, потянулся до хруста в суставах, как отлично выспавшийся человек, после чего посмотрел на меня так, будто видит впервые, и воскликнул:
— А-а-а, дракон! Явился, не запылился. Ну-ну.
Лицо его стало живее, жесты энергичнее, взгляд жёстче и ещё что-то случилось с голосом. Он стал хрипловатым, как у хронически простуженного человека, а помимо того из него ушла патриархальная ласковость, зато появилась резкость и наступательная деловитость.
Без особого труда сообразив, что здесь к чему и в чём подвох, я тем не менее, решил утвердиться в своих предположениях и, с непринужденностью, которая далась мне ох как нелегко, закинув ногу на ногу, поинтересовался:
— Уважаемый, а, собственно, кто ты такой?
— Я? — Он вскинул белёсые брови домиком и ткнул себя в грудь. — Ты спрашиваешь, кто я такой?
И тотчас расхохотался. И так сильно расхохотался, что даже слёзы выступили у него на глазах. А когда истерика прекратилась, он скинул с себя балахон (под ним оказался бежевый свитер да такого же цвета, но на два тона темнее, стильный вельветовый костюм) и сказал:
— Я, дракон, тот, кто тебе нужен. Я Поль Калишер. Величайший романтик всех времён и народов.
Отрекомендовавшись столь вычурно, он лёгким, пружинистым шагом подошёл к письменному столу и перевернул стоящие на нём песочные часы. Потом, разогревая мышцы, побоксировал воздух, сделал несколько наклонов влево и несколько вправо и направился к десертному столику, на котором стояли какие-то напитки в изящных графинах и ваза с фруктами. Он долго выбирал, что из неё взять, выбрал апельсин, вонзил в него ногти и, не глядя на меня, спросил:
— Принёс?
— О чём ты? — уточнил я, с напряжением наблюдая, как летят на ковёр, куски оранжевой кожуры.
— Давай, дракон, не будем понапрасну воду в ступе толочь, — предложил Неудачник. После чего посмотрел на меня снисходительно, подмигнул развязно, забросил в рот несколько сдвоенных долек, прожевал их и, выплюнув косточки себе под ноги, повторил вопрос: — Так ты принёс?
— Нет, не принёс, — сказал я и откинулся на спинку кресла.
— А чего тогда пришёл?
— Звали, вот и пришёл.
Метко запустив недоеденный апельсин в окно, Поль подскочил ко мне, навис и прорычал:
— Ты что, дракон, думаешь, я шутки здесь с тобой шучу? Ты, вообще, знаешь, кто я такой? Да я тебя…
— Не сверкай глазами, дядя, — прервал я его грубый наезд и преспокойно стряхнул несуществующую пыль с левой брючины.
Неудачник отстранился, поглядел на меня изумлённо и, моментально сбросив накал, хмыкнул:
— Да ты дракон, смотрю, смелый у нас.
— На том и стоим.
— Нет, дракон, ты не стоишь. Ты плаваешь. В дерьме ты, дракон, плаваешь.
После этих слов он тщательно вытер руки о полы пиджака и вытащил из кармана артефакт, напоминающий китайский резной шар. Подобную штуку я видел однажды у колдуна Лао Шаня. Преждерождённый утверждал, что на изготовление этой безделицы, которая содержит в себе пятьдесят шесть вложенных друг в друга сфер, древний мастер У Чхао потратил всю свою долгую жизнь. В артефакте Неудачника сфер было гораздо меньше, и был он вырезан не из слоновой кости, а из горного хрусталя. А помимо этих отличий имелось в нём и ещё одно. Более существенное. В его центре не зияла пустота. Там, в хрустальной глубине, пульсировало нечто прозрачно-розовое, и в этом розовом извивался отвратительного вида червяк.
— Видишь? — сунул Неудачник артефакт мне под нос.
— Вижу, — ответил я, отстраняясь. — Твой червяк жрёт невинную душу. Червяк этот — сволочь. И ты, Неудачник, тоже сволочь.
— Не груби, я всё-таки великий.
— Извини. Ты не сволочь, ты великая сволочь.
Как ни хотел я, но вывести Неудачника из себя у меня не получилось.
— Грубость твою, — сказал он спокойно, — отписываю я, дракон, исключительно на незнание мотивов моих поступков. И не обижаюсь ничуть. Быть объектом презрения — удел всякого деятельного мечтателя.
— Это ты-то мечтатель?
— Представь себе, — сказал он, повертел артефакт в руке словно ёлочную игрушку и даже подкинул его несколько раз в воздух.
Не сводя глаз с этого, на вид исключительно хрупкого, предмета, я спросил:
— И о чём же таком ты, Неудачник, мечтаешь?
— О чём? О, я тебе сейчас скажу о чём. — Он ещё раз подкинул шар, теперь выше, под самый потолок и, пока шар летел, быстро-быстро произнёс: — О том мечтаю, чтобы порушить жалкое единство мирового многообразия и выстроить на его месте мощную систему многообразного единства. — Поймал шар у самого пола, развёл руками — вуаля, и спросил: — Слышал о такой?
— Нет, не слышал, — переведя дух, сказал я. — И слышать не хочу.
— Похоже, дракон, — с ноткой некоторого сожаления в голосе сказал Неудачник, — и ты меня понять не готов. Ну что ж, я к этому привык. Быть непонятым современниками — удел всякого гения.
— А чего тут понимать? — усмехнулся я презрительно. — Всё и без того предельно ясно. Власти над миром хочешь, для того и Вещь Без Названия пытаешься в личное пользование заполучить. А насчёт гениальности своей ты, Неудачник, лучше бы помолчал. Ведь по трупам идёшь. А гений и злодейство…
— Дурак ты, дракон. Власти над миром… Тьфу, плевал я на это. Не власти над миром я хочу, но власти над смыслами. Истины, истины я, дракон, алкаю. Ответы мечтаю найти на вопросы, каждый миг вечные и вечно актуальные.
— О, как! — не выдержав, всплеснул я руками. — И зачем тебе это?
— Как это зачем? — удивился Неудачник. — Чтоб одарить человечков идеями светлыми и мудрыми. За этим вот. Зачем же ещё.
— Светлые идеи от Тёмного — это сильно. Это очень сильно. Ну и какая тебе от этого предприятия выгода будет? В тотальном контроле над носителями мудрых идей?
— Зря так говоришь, дракон. Ох, зря. Никакой я выгоды не ищу. Я ж тебе не какой-нибудь там усмиритель ненасытный, а бескорыстный романтик.
— Угу, — произнёс я скептически. — Что-то в последнее время до фига романтиков развелось бескорыстных, у которых руки по локоть в крови.
— Уж так прям и по локоть.
— А что не по локоть? — Я ткнул пальцем в артефакт. — А это тогда что? Шутка?
— Это? — Неудачник хитро прищурился. — Это ultima ratio. Последний довод. Последний и решительный довод для глупцов вроде тебя, дракон. Вы же, благодушные скептики, слов нормальных не понимаете. Вас же носом всё время тыкать нужно. Вы же… — Он прервался, замер, прислушался к чему-то и оглянулся на часы, весь песок в которых уже почти просочился в нижнюю часть колбы. — Ладно, это всё разговоры в пользу бедных. Убеждать я тебя ни в чём не собираюсь. Метание бисера перед свиньями — неактуальный метод. Актуальный — гонять свиней за бисером. Значит, так, дракон. Чтобы принести мне Вещь и сердце, у тебя… — Он вытянул руку, и посмотрел сквозь хрусталь на пламя свечи. — Где-то, я думаю, минут тридцать осталось. Полчаса. Дерзай, дракон.
И спрятал артефакт в карман.
Уложив время на дистанцию, я мотнул головой:
— Не успею.
— Успеешь. Ещё как успеешь. У тебя же маргалдос с собой.
— Что у меня с собой?
— Волшебный кубик.
— Кубик да, кубик есть, — согласился я, мысленно помянув гвардейца-стукача недобрым словом. — Только я не знаю, как…
— А там и знать-то нечего, — перебил меня Неудачник. — Про то, как во времени гулять, не скажу. Обойдёшься. А в пространстве — пожалуйста. Загадывай четвёрку, произноси трижды «Абиссус абиссум инвокавит», рисуй в голове то место, куда тебе нужно попасть, и швыряй кубик. Вот и всё. Вперёд, дракон, вперёд. А я пока… — Он передёрнул плечами, заложив руки за голову, потом вновь метнул взгляд на песочные часы и закончил: — …вздремну чуток.
И действительно, едва добрался неверным шагом до дивана, повалился на него и сразу уснул.
Глянув на свои «Командирские», я засёк время и поспешно вытащил Послушный кубик. Загадал четвёрку, выкрикнул трижды подсказанную волшебную присказку и бросил кубик под потолок. В ладонь кубик не вернулся, завис в воздухе на уровне глаз. Не сам собой завис, разумеется. Это его проснувшийся претёмный усмиритель так ловко усмирил.
— Да, да, да, да, — пропел великий из великих, приближаясь ко мне. Вырвал кубик из загустевшего воздуха, сунул мне в карман и дальше запел: — Жалость, жалость. Она подводит. Она самая. Она подлая. Особенно сейчас всё чаще подводит, когда все вокруг играют не по правилам.
— А раньше что, по правилам играли? — хмыкнул я и полез в карман.
— Погоди, не доставай, — остановил меня претёмный, ещё и за руку придержал.
Я попытался руку вырвать:
— Вообще-то, мне торопиться нужно.
— Не нужно, — покачал он головой и в ответ на мой недоумённый взгляд произнёс: — Сейчас объясню. Секунду. — Отошёл к столу, перевернул песочные часы и прежде чем продолжить спросил: — Про Неудачника всё понял?
— В целом — да. Насколько понимаю, у вас расстроилась синергия.
— Не расстроилась, дракон, а полностью разрушилась. Окончательно и бесповоротно. А когда-то, не поверишь, эта моя… наша патология давала ощутимый сверхаддитивный эффект. Но теперь… — Претёмный вздохнул и, закрыв глаза, стал тереть веки. — Устал я, дракон. Устал от Поля. От этого маньяка-экспериментатора с его затеями разной степени экзотичности. Устал чертовски. Это уже для меня стало просто невыносимо. Слишком стар для всего этого кавардака. И самое страшное: как и раньше ему достаётся лишь четверть суток, но если раньше промежутки между приступами исчислялись часами, то сейчас — минутами.
С этими словами великий усмиритель невольно посмотрел в сторону песочных часов, после чего замолк и молчал достаточно долго. И лишь когда я поднял руку, чтобы поглядеть на свои наручные часы (разговоры разговорами, а Леру нужно было спасать), он оживился и сказал:
— Слушай меня, дракон. Слушай внимательно. Вот что я тебе предлагаю. Я спасу твою девушку, а ты взамен помоги мне избавится от Неудачника. Что скажешь на это?
Когда до меня дошёл смысл предложения, я на некоторое впал в ступор, а потом стал вслух рассуждать:
— Каким это образом мне тебя, претёмный, от Неудачника избавить? Убить, что ли его? Вряд ли сумею. А если вдруг сумею, ты ведь в таком случае тоже умрёшь.
— Не нужно никого убивать, — успокоил меня великий из великих. — Просто помоги нам разделиться. Ты дракон, ты знаешь, как это делать.
Сначала я подумал, что он шутит, потом смотрю — вроде нет. Подумал хорошенько, ещё раз хорошенько подумал и постарался деликатно отказать:
— Как однажды справедливо заметил философ Мик Джаггер, не всегда в этой жизни можно получить то, что хочешь. Боюсь, претёмный, твои шансы невелеки.
— Пусть даже один из миллиарда, — произнёс он горячечно. — Всё равно я хочу попробовать.
— Никто из людей такого раньше не делал.
— Кому-то ведь нужно быть первым.
Я посмотрел на него новыми глазами. Передо мной стоял грустный, способный вызвать искреннее сострадание человек. Но мне его жалко не было. Ни капли. А вот девушку Леру — очень. Так мне её было жалко, что готов был душу дьяволу заложить. Вот почему согласился и сказал:
— Ну хорошо, претёмный, попытка — не пытка. Но только тогда уж давай в темпе. Времени в обрез.
— Я готов, — произнёс он решительно. — Говори, дракон, что делать.
— Обязательно скажу, но только ты сначала…
И я показал на его карман.
Претёмный усмиритель понял меня в момент, нащупал в кармане и вытащил на свет хрустальный артефакт. Повертел его в руках и сразу начал действовать. Сначала поднёс шар к губам и что-то стал ему нашёптывать на непонятном мне унгологосе. Слова заклинания, отзвучав, тут же превращались в сереньких пичуг, что пометавшись по комнате, вылетали в разные окна. Вылетело их не меньше сотни, прежде чем хрусталь стал потрескивать. Внимательно прислушиваясь к звонкому треску, претёмный улучил момент, резко оборвал заклинание и так глянул на шар, что тот мгновенно рассыпался в пыль. А потом претёмный сдул эти сверкающие крупицы, и на его ладони осталась лишь розовая субстанция. Теперь свободная, но всё ещё угнетаемая смертельным паразитом. И вновь претёмный стал бормотать. И вновь стали разлетаться во все стороны света перепуганные птицы-слова.
В какой то миг мне показалось, что ритуал слишком уж затягивается, и я глянул на часы. Нет, не на те, что были у меня на руке, а на хозяйские, песочные. В верхней половине колбы песка осталось две трети. Хотя при бодрствовании Жана песчинки падали вниз медленнее, чем при бодрствовании Поля, всё равно они падали. Время шло. И время поджимало.
Впрочем, претёмный своё дело знал.
Закончив читать второе заклинание, он стал совершать свободной рукой такое движение над образом Лериной души, будто выкручивает из патрона лампочку. И вот что интересно: вертел он пустоту, но вспотел так, будто вагон кирпичей в одиночку разгрузил. Прошло минуты две, не меньше, прежде чем, подчиняясь пассам великого мага, полез «червяк» наружу. Он выползал медленно, но он, сволочь, а выползал. А когда выбрался наружу полностью, дальше уже всё пошло гораздо быстрее. Через секунду образ страшного проклятия уже оказался на полу, под каблуком великого из великих. Носок ботинка туда-сюда, и всё — истошный поросячий взвизг и тонкая струйка вонючего дыма. Червяк издох. Проклятье было снято. Ну а розовый комочек претёмный осторожно донёс до окна и отпустил на волю. Улетев на небо, она стала там единственной звездой.
Когда всё было кончено и на сердце моём заметно полегчало, претёмный обратился ко мне:
— Ну, что ж, дракон, свою часть уговора я выполнил. Теперь очередь за тобой.
Слово своё надо держать всегда и при любых обстоятельствах. Иначе как? Иначе нельзя. Так что попросил я прощения у Великого Неизвестного и приступил:
— Слушай, великий из великих, драконий рецепт сепарации, слушай и запоминай. Прежде всего нужно раздеться донага и встать между трёх… в твоём случае, разумеется, между двух зеркал. После чего, отрешившись от всего суетного, следует прочитать заклинание, которое по форме и содержанию есть ничто иное, как обращение к собственному естеству. Тут, претёмный, суть вот в чём. Требуется испросить позволения принять вид, позволяющий жить и выжить в мире, в котором жить и выжить в ином виде нельзя. Если пожелаешь, я тебе могу выдать подстрочник нашего заклинания, но, думаю, для тебя, великого, сплести собственное особого труда не составить. Итак, произносим обращение и… И, собственно, на этом всё. С получением разрешения подготовка к сепарации заканчивается. Дальше нужно каким-нибудь стандартным заклинанием призвать любые три стихии. Мы вызываем воздух, воду и огонь. Разумеется, тебе будет достаточно вызвать две. Когда случится, нужно быстренько-быстренько снять с себя все степени защиты и стереть, если такие имеются, все круги отврата. Если нигде не ошибёшься, то стихии обязательно разорвут единое на части. Став тем, кем ты станешь, не зевай, сразу проходи сквозь зеркало, напротив которого стоишь. Как ты устроишь, чтобы Поль прошёл сквозь своё, не знаю. Полагаю, как-нибудь сообразишь. Это всё. Как воссоединиться, рассказать?
— Не надо, — мотнул головой претёмный. — Думаю, не понадобится. А вот насчёт зеркал хочу уточнить.
Упреждая понятный вопрос, я конкретизировал:
— Мы используем воздушное зеркало, огненное и водяное. — Потом сказал: — Какие тебе выбрать, решай сам. Тут я не подсказчик. И вот ещё что: нужна какая-нибудь посудина для сердца.
— Посудина?
— Ну да. Сердце ведь после ритуала будет жить от вас отдельно. Если, конечно, дело выгорит.
— Выгорит, — убеждёно сказал претёмный и попросил меня жестом отойти в сторону.
Однако, не желая больше ни секунды оставаться в логове Тёмных, я сказал:
— Пожалуй, я, претёмный, двину в обратный путь. Сепарация — штука интимная, зрелище не для чужих глаз. — Тут же попрощался кивком и сразу направился к двери. А когда дёрнул за ручку, обнаружил, что дверь заперта. Резко обернулся к коварному хозяину и осведомился: — В чём дело, претёмный? Как это понимать?
— Не уходи, дракон, — вроде как попросил, а на самом деле приказал великий из великих. — Подскажешь, если вдруг что-то сделаю не так. Дело для меня новое. Случиться может всякое.
Не дожидаясь ответа, да, видимо, особо в нём и не нуждаясь, он приступил к исполнению задуманного. Сдвинул, навалившись всем телом, тяжеленный стол в сторону, вышел на середину комнаты, поставил у ног вазу из-под фруктов и начал быстро раздеваться. Ему действительно следовало поторопиться — песка в часах осталось на несколько минут. Он это очень хорошо понимал. И, чтоб зря не тратить время, умудрился по ходу дела сотворить два зеркала, огненное и ледяное. Приметив, что отражаюсь сразу в обоих, я на всякий случай отошёл в сторону, к окну. И уже оттуда стал наблюдать за тем, что будет происходить дальше.
А претёмный между тем уже плёл-сплетал — птички так и вылетали стайками — первое заклинание. Видимо, сплёл он его удачно, поскольку уже через несколько секунд получил благословение. Это я понял по тому, как просветлело его лицо. А потом сразу, я даже глазом моргнуть не успел, его голое, дряблое, совсем не атлетическое тело закружило в мощном ледяном круговороте. И почти сразу его накрыло и огненным облаком. Дальше произошло, что и должно было произойти. Стихии пожрали друг друга, а попутно разорвали человека. Вырвали из единого существа две его противоположные сущности.
После того как пар осел, я увидел, что там, где раньше стоял один, теперь стоят спиной друг к другу двое. Сначала я не понял, кто из них кто. А потом, тот, который стоял напротив ледяного зеркала, развернулся и толкнул в спину ничего непонимающего второго. Это Жан толкнул Поля. Толкнул он его так сильно, что тот, не удержавшись на ногах, влетел в огонь и, прихватив своё отражение, пронёсся огненным метеором к одному из шкафов. Сам Жан времени даром не терял и чинно прошёл сквозь зеркало ледяное.
А потом случилось то, чего я никак предположить не мог. Удивительно быстро сообразив, что к чему, Поль — о, что за тошнотворные это были метаморфозы! — немедленно превратился во льва с плоской мордой, хвостом дельфина и короткими, как у пингвина, крыльями. Хлестнув хвостом по полу, он издал душераздирающий рёв и прыгнул через всю комнату в сторону Жана. Казалось претёмному уже не спастись, но он не сплоховал. Хотя и начал превращение на мгновенье позже, но к тому моменту, когда подлетел обращённый Поль, претёмный уже стал грузным химерическим созданием, похожим на бегемота с головой и хвостом крокодила. И в результате вышло так, что лев-урод угадил на спину уродского бегемота.
Не сумев взять Жана вероломностью, Поль решил взять его силой. Ещё раз злобно рыкнув, лев выгнулся всем телом, а потом вцепился зубами в холку бегемота и стал трепать что было силы. То ли жилу какую-то пытался перегрызть, то ли на бок повалить. А скорее всего — ярился безумно и безотчетно. Бегемотный крокодил на этот счёт оказался толковее. Подёргался влево и право, пытаясь скинуть противника со спины, а когда не вышло (тот засадил когти в его шкуру очень глубоко и держался крепко), просто хлестнул хвостом так, как лошадь в знойный день лупит по настырному слепню. Одного точного удара оказалось достаточно. Крылатый лев не охнул, не вскрикнул, а просто повалился на пол замертво с перебитым хребтом. Вот какова была сила удара, и вот насколько остро было заточено ребро изуверского крокодильего хвоста.
Ну а дальше… Дальше — всё понятно. Мёртвый лев так и остался мёртвым львом. А вот крокодилий бегемот очень скоро претерпел обратную трансформацию и стал человеком. Жаном Калишером. Только уже, конечно же, не совсем Жаном Калишером. И не совсем человеком. Разве можно назвать человеком того, чьё сердце пульсирует не в груди, а во фруктовой вазе? Пожалуй, нет. Это уже не человек. Это… Чёрт его знает кто. Но всё-таки что-то человеческое в нём ещё осталось. Иначе бы он не плакал. А он плакал. Стоял голый на четырёх ветрах, дрожал всем телом и плакал. Я не знаю, почему он плакал. Может, горевал оттого, что безвозвратно потерял часть себя. А может, наоборот — радовался тому, что освободился от ненавистного альтер эго, и плакал от счастья. Не знаю. Одно скажу — смотреть на это было неприятно. И я бочком так, бочком потянулся к двери.
На этот раз она оказалось не заперта, я благополучно выбрался на лестницу и стал спускаться, мучительно соображая по пути, почему так получается, что всякая промежуточная победа Добра является ступенью к окончательному торжеству Зла. Ответа так и не нашёл, зато когда миновал второй ярус, вдруг с ужасом обнаружил, что не спускаюсь, а поднимаюсь. Да-да, поднимаюсь. Иду вверх по лестнице, ведущей вниз. И пока пытался понять, что это означает, вновь оказался перед дверью в обитель претёмного усмирителя. Очень мне не хотелось открывать эту дверь. Совсем не хотелось. Но я её открыл. Вопреки своей воле. И вопреки же своей воле, прошёл внутрь.
Претёмный усмиритель уже не плакал. Кутаясь в балахон, он стоял у своего любимого окна спиной к двери.
— Отпустил, а потом передумал? — спросил я прямо с порога голосом полным упрёка.
Он помолчал, потом сказал, не оборачиваясь:
— За мелкими птицами устает следить взгляд. Ввинчиваются в небо и пропадают. Не уследишь.
— Это мне всё равно. Скажи лучше, зачем вернул?
— Видишь ли, дракон… — Претёмный медленно повернулся ко мне. — Видишь ли… Вот, что я тебе хочу сказать. Мир, который держится на этически двусмысленных принципах, крайне…
— Да-да, слышал уже. Мир такой крайне суров. А ещё я слышал, что угроза должна быть ликвидирована любой ценой? Не так ли?
— Вот именно.
— И в чём угроза?
— В тебе, дракон. Даже так: ты и есть угроза.
Я нервно хохотнул:
— И кому же это я угрожаю? Тебе, что ли, претёмный?
— Нет, не мне, — мотнул он головой, — но константности нашего колдовского мира.
— Ах, вот как. Понятно. Я не в тебя стреляю, а во вредное нашему делу донесение. Так, претёмный? Боишься, что тайной твоей шантажировать тебя буду? Напрасно. Впрочем, переубеждать не буду. Сдаётся, напрасный труд.
Выплеснув всё это с обидой, я устало плюхнулся в кресло, вытащил сигареты и закурил.
Претёмный тем временем подошёл к столу, взял с него свой магический жезл, увенчанный засушенной лапой какого-то зверька, и произнёс сочувственно:
— Зря ты, дракон, ввязался в эту историю. Зря. И мне искренне жаль тебя. Поверь.
— А ты меня, дядя, не жалей, — выпустив порцию дыма, попросил я. — Ты себя пожалей. Я умру с честью, а ты как был сукой, так сукой и останешься. Думаешь, я не понимаю, что идея Атаки — это твоя идея? Понимаю. Прекрасно понимаю. Откуда Поль мог узнать, где находится Тайник? Только от тебя. Ты подсказал. Подсказал, науськал и подставил. Вёл игру и выиграл. Никого не пожалел, ни чужих, ни своих. Мало того…
— Хватит! — не выдержал претёмный, тотчас взмахнул жезлом и, выпустив на волю несколько волшебных птиц, наслал на меня убийственный поток Силы.
Я был к этому готов. Я был к этому готов с той самой секунды, как только вошёл сюда. Я был готов к этому настолько, что уже давным-давно сжимал в левой руке бляху Варвары. Осталось только, с благодарностью вспоминая милого агента карагота, произнести подсказанное управляющее заклятие и сотворить из высвобожденной тёмной Силы какую-нибудь крепкую броню.
Я успел и произнести, и сотворить.
Откинув сигарету в сторону, произнёс:
— Mea maxima menda.
И сотворил вокруг себя Зеркальную Сферу.
Что было сразу после этого, помню смутно. А несколько мгновений — так жёстко накрыло грохотом и сиянием — просто напрочь выпали из жизни. Одно только знаю точно: светился почему-то звук, а громыхал свет. Ну а потом, когда уже отпустило, нашёл я себя всё в той же комнате, только уже сплошь усыпанной осколками Зеркальной Сферы. И в каждом из этих тысяч, тысяч и тысяч осколков махал руками, к чему взывал и о чём-то молил некогда такой величественный, а сейчас такой ничтожный Жан Калишер. Бывший претёмный усмиритель. Отставной глава Великого круга пятиконечного трона. Отныне — раб разбитой Сферы.
Я не поленился и подобрал один осколок. Глянул на яростно жестикулирующего страдальца и сказал ему:
— Не шут совал, сам попал. — И уже бросив осколок на пол, добавил с презрением: — Неудачник.
Пошёл на выход, однако через три шага вспомнил о Послушном кубике, который, оказывается, вовсе никакой не Послушный кубик, а некий таинственный маргалдос. Ну а как вспомнил, так сразу его услугами и воспользовался. Заказал четвёрку, произнёс, что положено, подкинул, поймал и сам не понял, как оказался в Пределах. Всё произошло так быстро, что умом охватить не сумел. Вот только ещё стоял у двери в чужой башне, а вот уже стою перед дверью в собственную квартиру.
Звонить не стал, полез за ключами, но только их вытащил, замок щёлкнул и дверь открылась.
— Никак, почуял? — спросил я у Ашгарра, переступив порог.
— Почуял, — ответил поэт. — И как ты пришёл. И всё, что было до этого.
Всё его лицо было обезображено глубокими царапинами. Некоторые из них он уже аккуратно замазал йодом, а некоторые ещё нет. Похоже, я застал его в самом разгаре нанесения макияжа. Обведя рукой овал своего лица, я уточнил:
— Это тебя Лера так уделала?
— Ну не сам же я себя, — хмыкнул поэт.
— Как она сейчас?
— Сейчас нормально.
— А было как?
— Лучше, Хонгль, не спрашивай.
После этих слов он исчез в ванной, откуда доносился звук бьющей о раковину струи, а я, скинув куртку и ботинки, прошёл в его комнату.
Лера сидела на кровати и пила из моей кружки с трещиной в виде буквы «Л» что-то пахнущее мёдом, чабрецом и мятой. Выглядела девушка измученной, она заметно осунулась, лицо её было бледным, вокруг глаз темнели круги. Однако, увидев меня, она хорошо улыбнулась и воскликнула радостно:
— Ой, шеф!
— Как ты тут? — спросил я, присев рядом.
— Теперь хорошо. А ещё недавно плохо было. Ох, как же мне было, плохо, шеф. Так плохо, как никогда плохо не было. Артём Владимирович сказал, что меня отравили. Это правда?
— Да, детка, это правда.
— А кто это сделал?
— Нехороший один человек.
Девушку тотчас вскинулась:
— Когда? Как? За что? Что я ему такого сделала?
— Успокойся, детка, — погладил я её по руке. — Забудь об этой истории, как о страшном сне. Всё уже позади. Ты здорова. Забудь.
Он понимающе кивнула, помолчала немного, потом поставила кружку на тумбу и произнесла мечтательно:
— Артём Владимирович сказал, что за каждым плохим человеком однажды прилетит такой дракон, который есть ангел возмездия. Вот бы и вправду так было.
— Так оно так и есть, детка, — покивал я. — Так оно и есть. Прилетит. За каждым. Обязательно. Рано или поздно.
Лера улыбнулась:
— Вы, шеф, так говорите, как будто драконы на самом деле существуют.
— Сомневаешься?
— Немножко.
— Тогда я тебе, детка, вот что скажу. Может, существуют драконы, а может, и нет. Но лучше всё-таки жить так, как будто они существует. Потому что, если вдруг окажется, что драконов на самом деле нет, то ничего не потеряешь. А если они на самом деле есть, то тем более ничего не потеряешь. Просто проживёшь праведную жизнь. Разве это плохо?
— Это хорошо, — кивнула Лера, потом посмотрела на меня как-то по-особенному, так, как никогда раньше не смотрела, и упрекнула: — Вас так долго не было, шеф. А я ждала вас. Всё ждала и ждала. А вы всё не приходили и не приходили. А мне был так плохо без вас. А вы… А я… Почему, шеф? Ну почему?
— Так получилось, детка, — смущённо сказал я. — Извини.
— Теперь уже никуда не уйдёте? — помолчав, спросила она.
— Нет, детка, никуда.
— И всегда будете рядом?
Так уж этот мир странно устроен, что люди лгут, чтобы скрыть правду, а драконы лгут, чтобы правду сказать. Я не человек. Я дракон. И я солгал:
— Да, детка. Всегда.