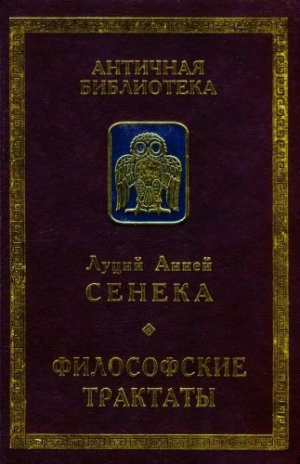
Луций Анней Сенека и его философская проза
К началу нашей эры провинция Испания была уже вполне романизирована и много талантливых ее уроженцев делали блестящие карьеры в столице империи. Среди них был и Луций Анней Сенека (ок. 55 г. до н. э. — 40 г. н. э.), римский всадник из Кордубы (нынешняя Кордова). В юности он учился в Риме ораторскому мастерству, слушал знаменитых ораторов и учителей риторики, о чем на старости лет написал книгу для своих детей и внуков. Позднее он переехал в Рим с женой Гельвией и старшим сыном Новатом, поступив на государственную службу, а также выступая адвокатом в суде и поверенным в делах. В Риме в 1 г. до н. э.[1] родился второй из трех его сыновей — в будущем знаменитый политик, оратор, поэт, философ и воспитатель Нерона, Луций Анней Сенека Младший.
По словам Квинтилиана, Сенека писал orationes, poemata, epistulas, dialogos (Quint. Inst. 10, 1, 12), т. е. «речи, стихи, письма, диалоги». Соответственно и мы представляем его себе, во-первых, как государственного деятеля эпохи Калигулы, Клавдия и Нерона; во-вторых, как поэта и писателя, автора девяти трагедий; в-третьих, как учителя жизни и наставника в добродетели; в-четвертых, как философа-стоика, неизменного представителя школы во всех учебниках по истории философии. Впрочем, все эти ипостаси разделены достаточно условно: на политическом поприще Сенека знаменит прежде всего как наставник и воспитатель юного Нерона; в поэзии он моралист; в философии, по всеобщему признанию, противоречив и поверхностен, ибо склонен привносить глубину и связность мысли в жертву красотам риторики и этическому пафосу проповедника; видимо, вернее всего было бы определить его именно как учителя жизни, философа-практика, а не теоретика, но мешает порой разительное несоответствие проповедей и наставлений Сенеки его собственному образу жизни и поступкам, чем возмущались еще его современники и что отлично сознавал он сам (ср.: De vita beata 17, 3; ep. 6).
Речи до нас не дошли, хотя известно, что именно они доставили громкую славу Сенеке в начале его карьеры, прерванной болезнью и отъездом в 26 или 27 г. на лечение в Египет, и едва не стоили ему жизни по возвращении к общественной деятельности десять или одиннадцать лет спустя, когда Калигула настолько позавидовал успеху его речей, что решился убить оратора-соперника (хоть и называл презрительно введенный Сенекой в моду новый «рубленый» стиль «песком без извести»). Упомянутые Квинтилианом «стихи» — это десять сохранившихся трагедий, предназначенных для рецитации в интеллигентном кругу и для чтения, а не для театра (десятая, «Октавия», приписывавшаяся Сенеке, по-видимому, ему не принадлежит), несколько эпиграмм и пародия на апофеоз Клавдия — «Апоколокинтосис» («Отыквление»). «Письма» — это 124 нравственных письма к Луцилию в 20 книгах, одно из самых влиятельных вплоть до наших дней духовных руководств в европейской литературе[2]. По содержанию они не отличаются от «диалогов» — этических трактатов Сенеки, но форма их более свободна; в полной мере оценена она была уже в Новое время, превратившись в особый жанр и получив благодаря Монтеню, почитателю и подражателю Сенеки, название «эссе».
Под заголовком «Диалоги в 12 книгах» собраны в Codex Ambrosianus[3] десять трактатов Сенеки: «О провидении», «О постоянстве мудреца», «О гневе» (три книги), «Утешение к Марции», «О блаженстве», «О досуге», «О спокойствии духа», «О скоротечности жизни», «Утешение к Полибию» и «Утешение к Гельвии». К «диалогам» же Квинтилиан, видимо, причислял и семь книг «О благодеяниях» и семь книг «Рассуждений о природе» — бесед о природе, обращенных к Луцилию, поскольку формальное построение их такое же: они обращены к определенному лицу, и каждый раздел начинается, как правило, с вопроса условного адресата или возражения воображаемого оппонента. Квинтилианово «диалоги» означает, видимо, то же, что греческое dialerxeis или diatribai. Как особый жанр философствования диатриба получила распространение в кинической и стоической школах; Виламовиц определил ее как «разработку отдельного философского, чаще всего этического положения в легком, непринужденно-разговорном тоне»[4]; первоначально одной из непременных черт диатрибы, как и сатиры, было смешение или чередование серьезного со смешным — spoudogerloion, но уже в императорскую эпоху смешное либо вовсе исчезло, либо было оттеснено далеко на задний план серьезностью, с какой воспринимали жизнь и свою проповедь Сенека или Эпиктет. Тематика этических трактатов Сенеки — типичная тематика диатриб: добродетель вообще или отдельные добродетели, бесстрастие или борьба с какой-то определенной страстью, например с гневом или печалью, мудрость, самодостаточность, смерть и самоубийство, бедность, изгнание и вообще страдание и т. п. Столь же типичны и стилистические приемы: условный диалог с анонимным или условным собеседником, цитаты из поэтов и — особенно многочисленные у Сенеки — исторические примеры и иллюстрации.
Из десяти диалогов-диатриб Сенеки одни больше тяготеют к проповеди, в других сильнее софистический элемент, в третьих Сенека старается придерживаться правил «нормального», школьного философского трактата (помимо название diatribai к таким популярным философским беседам применялись столь же часто обозначения scholae или theseis). Так, Сенека не столько рассуждает «о скоротечности жизни», сколько убеждает собеседника изменить свою жизнь, и пламенный пафос оставляет немного места точным определениям времени или смерти. «О блаженной жизни» — апология; не только недоброжелатели Сенеки резонно полагали, что столь пламенная проповедь стоической добродетели, довольствующейся необходимым, т. е. самой собой, и расцветающей лишь среди нищеты, страданий и лишений, мало совместима со столь же пламенным честолюбием и обладанием чудовищными богатствами. Ко времени Сенеки тезис о том, что для блаженной жизни и счастья не нужно ничего, кроме добродетели, давно стал одним из отличительных признаков стоической школы (сложившись в полемике с перипатетиками, полагавшими, что даже и мудрецу для счастья необходимы внешние блага, прежде всего здоровье и богатство). И вот, на каждом шагу клянясь в верности стоическому учению, Сенека с помощью хитроумнейших софизмов и блестящих аргументов доказывает, что именно для правоверного стоика лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. В еще большей степени требованиями злобы дня и личными соображениями продиктовано «Утешение к Полибию» (впоследствии сам Сенека пытался отыскать и уничтожить все его копии, что, к его несчастью, ему не удалось)[5].
Рассуждение Сенеки «О гневе» ближе всего по форме к трактату, т. е. schole или thesis, хотя и здесь достаточно проповеднического пафоса и чисто личного чувства (главным образом, в третьей книге, где речь идет о Калигуле). Сенека очевидным образом заботится о полноте рассмотрения предмета, о точности определений, старается привести все известные ему возражения против своего тезиса и дать исчерпывающее их опровержение. Относительной строгостью и систематичностью, «научностью» диалог «О гневе» выделяется среди других этических диалогов; именно он дает основание квалифицировать Сенеку не просто как тонкого психолога (что и так всем понятно), но как выдающегося исследователя психологии; такая точка зрения предполагает, что Сенека сделал существенный шаг вперед в изучении возникновения и развития аффектов и что диалог «О гневе» отличается от всех прочих большей научной самостоятельностью. На наш взгляд, именно большая «научность» обычно свидетельствует у Сенеки о меньшей самостоятельности, и из всех этических диалогов рассуждение «О гневе» ближе всего по манере повествования к «Рассуждениям о природе», где Сенека прямо заявляет, что не намерен претендовать на какую-либо самостоятельность (в этом, как известно, отнюдь не видели порока, и собирание и «возрождение» правильных и ценных мыслей предшественников было занятием едва ли не более почетным, нежели публикация собственных новых измышлений; сам Сенека не раз напоминает о том, что все мысли, с которыми он согласен, — это его мысли, и потому не всегда называет их источник). Определить степень самостоятельности учения Сенеки о механизме аффектов вообще и гнева в частности затруднительно, поскольку тексты предшественников не сохранились, хотя сочинение трактатов под названием «О гневе» приписывается очень многим философам, начиная от Аристотеля (фрагменты этого трактата собраны у Г. Бонитца) и до Сотиона, который обучал юного Сенеку философии. О сочинениях этого Сотиона мы только и знаем, что он написал трактат «О гневе»; Сенека сообщает, что он учил о переселении душ и был пифагореец и ученик Секстия (Ep. 49, 2 и 108, 17—21). А о Квинте Секстии известно, что он преподавал философию в Риме во времена Августа и чрезвычайно сердился, когда его называли стоиком, а потом основал в Риме общину философов-практиков по пифагорейскому образцу под названием Romani roboris secta, отказался от cursus honorum, который предлагал ему Август, и работал над созданием подлинно римской философии жизнестроительства, т. е. не слова, а дела, однако также и писал, в том числе трактат «О гневе».
Так или иначе, использовал ли Сенека сочинение «О гневе» Сотиона или кого-то еще, влияние пифагорейства в нем не ощущается, ибо учение об аффектах разрабатывали именно стоики и — в полемике с ними — перипатетики, а пифагорейцы этим не занимались.
Философия, согласно стоическому учению, состоит из физики (включающей в себя также учение о боге, поскольку и он естествен и материален), этики и логики[6]. Была ли этика главным предметом и целью исследования уже для Зенона, Клеанфа и Хрисиппа или нет, но для Сенеки и Эпиктета она, несомненно, стала не только главной, но и практически единственной частью философии, вызывающей подлинный, жизненный, а не только чисто академический интерес. Если, согласно традиционному, восходящему к Аристотелю пониманию, этика, так же как и политика, есть дисциплина чисто практическая, в отличие от теоретических метафизики, или богословия, и физики, то для стоиков этика (а не философия в целом) подразделяется на теоретическую и практическую. Теория рассматривает высшее благо, которое есть добродетель, и высшую цель жизни — счастье, которое состоит в том, чтобы быть добродетельным, т. е. вести жизнь, согласную с природой. Для этого человеческое поведение должно быть согласовано со всеобщим законом природы, мировым разумом, божественной волей.
Важнейшее практическое требование такой этики — преодоление страстей (по латыни — «аффектов», по-гречески «пафосов», по-русски — «страстей», «чувств» или пассивных «состояний» души, обусловленных воздействием внешнего мира). Теория требует жизни в согласии с природой (по Клеанфу — с природой вселенной, т. е. с мировым разумом, по Хрисиппу — с человеческой природой, а человек по природе существо разумное; большинство позднейших стоиков также говорят именно о человеческой природе)[7]; природа — и мира и человека — разумна; значит, все неразумное, тем более противящееся разуму, — противоестественно и подлежит искоренению, ежели мы хотим быть естественны, добродетельны и счастливы. В нашей душе противоестественны страсти. Согласно определению Зенона, страсть есть «неразумное и противное природе души движение или порыв»[8]; по Хрисиппу, страсть — ложное суждение (как у Платона и платоников всякий грех и порок есть результат незнания и заблуждения). Четыре главные разновидности страстей: удовольствие и вожделение (т. е. то, что мы склонны ошибочно считать благом), печаль и страх (т. е. то, что мы по невежеству принимаем за зло). Удовольствие (радость) и печаль (горе, боль) — ложные блага в будущем. Каждый из родов подразделяется на многие виды и подвиды (так, гнев — разновидность печали, или огорчения). Мудрец, т. е. человек, достигший совершенства, бесстрастен, т. е., во-первых, полностью подчинил разуму свои внутренние движения и, во-вторых, никак не реагирует на внешние раздражения, приятные или неприятные. Напротив, глупец, грешник, порочный человек, а таких для стоиков подавляющее большинство, полностью утратил контроль над собой и подобен буйнопомешанному; он раб и игрушка как собственных противоречивых страстей, так и внешних меняющихся обстоятельств, и потому всегда несчастен. с. 10 Между несколькими мудрецами, к числу которых относятся Сократ и Катон Младший, и всем прочим буйнопомешанным человечеством находятся сами стоики, знающие истину и потому борющиеся со своими страстями. Сенека сравнивает себя в этом отношении с кормчим, который плывет в бурю на корабле с пробитым днищем и, зная, что обречен, все же ни на минуту не перестает вычерпывать воду — и в этом его величие.
Исследование механизма возникновения и развития страстей, которое позволит определить стратегию и тактику борьбы с ними, есть, таким образом, насущнейшая задача всякого стоика. Именно этим и занят Сенека, исследуя гнев как с этической точки зрения, в его отношении к благу, счастью и добродетели, так и с психологической, наблюдая его движение в человеческой душе. Оппонентом, чьи возражения помогают Сенеке развивать свою мысль, в данном случае выступают Аристотель и перипатетики. Согласно Аристотелю, страсти вообще в человеческой душе естественны и не могут быть ни хороши, ни дурны, поскольку не сознательны (proairetikar); осуждения или похвалы заслуживает наше сознательное отношение к ним; а гнев, в частности, даже хорош, ибо без него человек туп, вял, лишен собственного достоинства и никудышный воин[9].
Аргументацию Сенеки можно считать заимствованной, но первоисточники ее до нас не дошли, и потому три книги «О гневе» считаются одним из самых полных и интересных образцов исследования психологии аффекта в античности. С другой стороны, один из издателей Сенеки считает, что диалог «О гневе» отличается от всех прочих диалогов необыкновенным обилием иллюстративного материала и потому представляет интерес главным образом для истории[10]. Действительно, написан он был в самом начале корсиканской ссылки Сенеки, в 41 или 42 г., когда обида его на Калигулу была еще очень жива, а сам Калигула уже умер, и потому осторожность уже не заставляла изгнанника скрывать все, что он думает о Гае Цезаре. Быть может, и вся эта беседа, увещевающая не давать воли гневу и не обижаться на несправедливо обижающих нас, обращена не столько к брату Новату, сколько к самому себе, обиженному сумасшедшим Калигулой и несправедливо изгнанному Клавдием на дикий остров на краю света.
Мы предлагаем читателю новые переводы философских диалогов Сенеки — возможно, наиболее известных. На протяжении более чем двухсот лет трактаты и письма Сенеки составляли непременную часть школьной программы во Франции, а в иезуитских школах — и по всей Европе.
Если принять условное, но плодотворное разделение понятий «Стоя» и «стоицизм», где под Стоей понимается определенная хронологическими и дисциплинарными рамками философская школа, а под стоицизмом — характерное умонастроение без четко определенных границ, но с легко узнаваемым ядром, своеобразную духовную с. 11 терапию и «религию кризисов» (А. А. Столяров), философскую пропедевтику, обучающую ориентироваться в повседневных и пограничных ситуациях, — то большую часть сочинений Сенеки следует отнести именно ко второй категории.
Философские диалоги, или, скорее, философские проповеди Сенеки роднит одна общая черта, придающая им обаяния и убедительности: философ-проповедник стоит здесь не на пьедестале собственной неуязвимой мудрости (хотя именно ее и проповедует), а внизу, вместе с читателями, еще только стремящимися к этой мудрости подняться. «О скоротечности жизни» — размышления политика и делового человека, потерпевшего фиаско в политике и делах (диалог написан около 49 г., вскоре по возвращении Сенеки из трехлетней ссылки, оборвавшей начало блистательной карьеры). «О блаженной жизни» (написано десять лет спустя, в зените политической карьеры, славы и богатства) — апология философа, обвиняемого общественным мнением в том, что ведет нефилософский образ жизни, что проповедует одно, а делает другое; что призывает к добродетели и аскезе, к отказу от наслаждений и презрению к порокам, а сам нажил несметное состояние (известно ведь, большие деньги не делаются честным путем, и слухи утверждали, что Сенека нажился на конфискациях имущества репрессированных граждан) и не отказывается от высокого положения при дворе Нерона, где коррупция, разврат, интриги, убийства стали повседневностью и где порядочному человеку, не говоря уже о проповеднике добродетели, не место.
Любопытно, что в литературе последних десятилетий трактаты Сенеки стали предметом не только отстраненно-исторических и филологических штудий; идет — в особенности среди английских исследователей — своего рода общественный суд над Сенекой, словно он наш современник, еще один подсудимый Нюрнбергского процесса. Вновь и вновь применительно к воспитаннику и другу Сенеки Нерону звучат имена Гитлера и Сталина, и одни обвиняют философа в коллаборационизме, пресмыкательстве перед властью и попытках обосновать идеологию тоталитарного режима, а другие сочувственно живописуют мучительную трудность честного философствования в коррумпированном обществе под железной пятой тоталитарной власти (см.: Rist J. M. Seneca and Stoic Orthodoxy. ANRW, II, 36. P. 1993—2012). Верно ли это, судить читателю. Однако несомненно, что это — не единственная проблема, позволяющая нам читать Сенеку как нашего современника. В его диалогах подняты и другие вопросы, может быть, менее злободневные, но более глубокие и не менее насущные как для него, так и для нас.
Т. Ю. Бородай
О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ
К брату Галлиону
Глава I
1. Все, брат Галлион[11], желают жить счастливо, но никто не знает верного способа сделать жизнь счастливой. Достичь счастливой жизни трудно, ибо чем быстрее старается человек до нее добраться, тем дальше от нее оказывается, если сбился с пути; ведь чем скорее бежишь в противоположную сторону, тем дальше будешь от цели. Итак, прежде всего следует выяснить, что представляет собой предмет наших стремлений; затем поискать кратчайший путь к нему и уже по дороге, если она окажется верной и прямой, прикинуть, сколько нам нужно проходить в день и какое примерно расстояние отделяет нас от цели, которую сама природа сделала для нас столь желанной.
2. До тех пор пока мы бродим там и сям, пока не проводник, а разноголосый шум кидающихся во все стороны толп указывает нам направление, наша короткая жизнь будет уходить на заблуждения, даже если мы день и ночь станем усердно трудиться во имя благой цели. Вот почему необходимо точно определить, куда нам нужно и каким путем туда можно попасть; нам не обойтись без опытного проводника, знакомого со всеми трудностями предстоящей дороги; ибо это путешествие не чета прочим: там, чтобы не сбиться с пути, достаточно выйти на наезженную колею или расспросить местных жителей; а здесь чем дорога накатанней и многолюдней, тем вернее она заведет не туда.
3. Значит, главное для нас — не уподобляться овцам, которые всегда бегут вслед за стадом, направляясь не туда, куда нужно, а туда, куда все идут. Нет на свете вещи, навлекающей на нас больше зол и бед, чем привычка сообразовываться с общественным мнением, почитая за лучшее то, что принимается большинством и чему мы больше видим примеров; мы живем не разумением, а подражанием. Отсюда эта вечная давка, где все друг друга толкают, стараясь оттеснить.
4. И как при большом скоплении народа случается иногда, что люди гибнут в давке (в толпе ведь не упадешь, не увлекая за собой другого, и передние, спотыкаясь, губят идущих сзади), так и в жизни, если приглядеться: всякий человек, ошибившись, прямо или косвенно вводит в заблуждение других; поистине вредно тянуться за идущими впереди, но ведь всякий предпочитает принимать на веру, а не рассуждать; и насчет собственной жизни у нас никогда не бывает своих суждений, только вера; и вот передаются из рук в руки одни и те же ошибки, а нас все швыряет и вертит из стороны в сторону. Нас губит чужой пример; если удается хоть на время выбраться из людского скопища, нам становится гораздо лучше.
5. Вопреки здравому смыслу народ всегда встает на защиту того, что несет ему беды. Так случается на выборах в народном собрании: стоит переменчивой волне популярности откатиться, и мы начинаем удивляться, каким образом проскочили в преторы[12] те люди, за которых мы сами только что проголосовали. Одни и те же вещи мы то одобряем, то порицаем; в этом неизбежный недостаток всякого решения, принимаемого большинством.
Глава II
1. Раз уж мы повели разговор о блаженной жизни, я прошу тебя, не отвечай мне, как в сенате, когда отменяют обсуждение и устраивают голосование: «На этой стороне явное большинство». — Значит, именно эта сторона хуже. Не настолько хорошо обстоят дела с человечеством, чтобы большинство голосовало за лучшее: большая толпа приверженцев всегда верный признак худшего.
2. Итак, попробуем выяснить, как поступать наилучшим образом, а не самым общепринятым; будем искать то, что наградит нас вечным счастьем, а не что одобрено чернью — худшим толкователем истины. Я зову чернью и носящих хламиду[13], и венценосцев; я не гляжу на цвет одежды, покрывающей тела, и не верю глазам своим, когда речь идет о человеке. Есть свет, при котором я точнее и лучше смогу отличить подлинное от ложного: только дух может открыть, что есть доброго в другом духе.
Если бы у нашего духа нашлось время передохнуть и прийти в себя, о как возопил бы он, до того сам себя замучивший, что решился бы наконец сказать себе чистую правду:
3. «Как бы я хотел, чтобы все, что я сделал, осталось несодеянным! Как я завидую немым, когда вспоминаю все, что когда-либо произнес! Все, чего я желал, я пожелал бы теперь своему злейшему врагу. Все, чего я боялся — благие боги! — насколько легче было бы вынести это, чем то, чего я жаждал! Я враждовал со многими и снова мирился (если можно говорить о мире между злодеями); но никогда я не был другом самому себе. Всю жизнь я старался выделиться из толпы, стать заметным благодаря какому-нибудь дарованию, и что же вышло из того? — я только выставил себя мишенью для вражеских стрел и предоставил кусать себя чужой злобе.
4. Посмотри, сколько их, восхваляющих твое красноречие, толпящихся у дверей твоего богатства, старающихся подольститься к твоей милости и до неба превознести твое могущество. И что же? — все это либо действительные, либо возможные враги: сколько вокруг тебя восторженных почитателей, ровно столько же, считай, и завистников. Лучше бы я искал что-нибудь полезное и хорошее для себя, для собственного ощущения, а не для показа. Вся эта мишура, которая смотрится, на которую оборачиваются на улице, которой можно хвастать друг перед другом, блестит лишь снаружи, а внутри жалка».
Глава III
1. Итак, будем искать что-нибудь такое, что было бы благом не по внешности, прочное, неизменное и более прекрасное изнутри, нежели снаружи; попробуем найти это сокровище и откопать. Оно лежит на поверхности, всякий может отыскать его; нужно только знать, куда протянуть руку. Мы же словно в кромешной тьме проходим рядом с ним, не замечая, и часто набиваем себе шишки, спотыкаясь о то, что мечтаем найти.
2. Я не хочу вести тебя длинным кружным путем и не стану излагать чужих мнений на этот счет: их долго перечислять и еще дольше разбирать. Выслушай наше мнение. Только не подумай, что «наше» — это мнение кого-то из маститых стоиков, к которому я присоединяюсь: дозволено и мне иметь свое суждение. Кого-то я, наверное, повторю, с кем-то соглашусь отчасти; а может быть, я, как последний из вызываемых на разбирательство судей, скажу, что мне нечего возразить против решений, вынесенных моими предшественниками, но я имею кое-что добавить от себя.
3. Итак, прежде всего я, как это принято у всех стоиков, за согласие с природой: мудрость состоит в том, чтобы не уклоняться от нее и формировать себя по ее закону и по ее примеру. Следовательно, блаженная жизнь — это жизнь, сообразная своей природе. А как достичь такой жизни? — Первейшее условие — это полное душевное здоровье, как ныне, так и впредь; кроме того, душа должна быть мужественной и решительной; в-третьих, ей надобно отменное терпение, готовность к любым переменам; ей следует заботиться о своем теле и обо всем, что его касается, не принимая этого слишком близко к сердцу; со вниманием относиться и ко всем прочим вещам, делающим жизнь красивее и удобнее, но не преклоняться перед ними; словом, нужна душа, которая будет пользоваться дарами фортуны, а не рабски служить им.
4. Я могу не прибавлять — ты и сам догадаешься — что это дает нерушимый покой и свободу, изгоняя все, что страшило нас или раздражало; на место жалких соблазнов и мимолетных наслаждений, которые не то что вкушать, а и понюхать вредно, приходит огромная радость, ровная и безмятежная, приходит мир, душевный лад и величие, соединенное с кротостью; ибо всякая дикость и грубость происходят от душевной слабости.
Глава IV
1. Наше благо можно определить и иначе, выразив ту же мысль другими словами. Подобно тому как войско может сомкнуть ряды или развернуться, построиться полукругом, выставив вперед рога, или вытянуться в прямую линию, но численность его, боевой дух и готовность защищать свое дело останутся неизменными, как бы его ни выстроили; точно так же и высшее благо можно определить и пространно и в немногих словах.
2. Так что все дальнейшие определения обозначают одно и то же. «Высшее благо есть дух, презирающий дары случая и радующийся добродетели» или: «Высшее благо есть непобедимая сила духа, многоопытная, действующая спокойно и мирно, с большой человечностью и заботой о ближних». Можно и так определить: блажен человек, для которого нет иного добра и зла, кроме доброго и злого духа, кто бережет честь и довольствуется добродетелью, кого не заставит ликовать удача и не сломит несчастье, кто не знает большего блага, чем то, которое он может даровать себе сам; для кого истинное наслаждение — это презрение к наслаждениям.
3. Если хочешь еще подробнее, можно, не искажая смысла, выразить то же самое иначе. Что помешает нам сказать, например, что блаженная жизнь — это свободный, устремленный ввысь, бесстрашный и устойчивый дух, недосягаемый для боязни и вожделения, для которого единственное благо — честь, единственное зло — позор, а все прочее — куча дешевого барахла, ничего к блаженной жизни не прибавляющая и ничего от нее не отнимающая; высшее благо не станет лучше, если случай добавит к нему еще и эти вещи, и не станет хуже без них.
4. Это благо по сути своей таково, что вслед за ним по необходимости — хочешь не хочешь — приходит постоянное веселье и глубокая, из самой глубины бьющая радость, наслаждающаяся тем, что имеет, и ни от кого из ближних своих и домашних не желающая большего, чем они дают. Разве это не стоит больше, чем ничтожные, нелепые и длящиеся всего какой-то миг движения нашего жалкого тела? Ведь в тот самый день, когда тело уступит наслаждению, оно окажется во власти боли; ты видишь, сколь тягостное и злое рабство ожидает того, над кем по очереди станут властвовать наслаждение и боль — самые капризные и своевольные господа? Во что бы то ни стало нужно найти свободу.
5. Единственное, что для этого требуется, — пренебречь фортуной; тогда душа, освободившись от тревог, успокоится, мысли устремятся ввысь, познание истины прогонит все страхи, и на их место придет большая и неизменная радость, дружелюбие и душевная теплота; все это будет весьма приятно, хоть это и не само по себе благо, а то, что ему сопутствует.
Глава V
1. И раз уж я решил не скупиться на слова, то могу еще назвать блаженным того, кто благодаря разуму ничего не желает и ничего не боится. Правда, камни тоже не ведают ни страха, ни печали, равно как и скоты; однако их нельзя назвать счастливыми, ибо у них нет понятия о счастье.
2. Сюда же можно причислить и тех людей, чья природная тупость и незнание самих себя низвели их до уровня скотов и неодушевленных предметов. Между теми и другими нет разницы, ибо последние вовсе лишены разума, а у первых он направлен не в ту сторону и проявляет сообразительность лишь себе же во вред и там, где не надо бы. Никто, находящийся за пределами истины, не может быть назван блаженным.
3. Итак, блаженна жизнь, утвержденная раз и навсегда на верном и точном суждении и потому не подвластная переменам. Лишь в этом случае душа чиста и свободна от зол, а такая душа избежит не только ран, но даже царапин; устоит там, где встала однажды, и защитит свой дом, когда на него обрушатся удары разгневанной судьбы.
4. Что же касается наслаждения, то пусть оно затопит нас с головы до ног, пусть льется на нас отовсюду, расслабляя душу негой и ежечасно представляя новые соблазны, возбуждающие нас целиком и каждую часть тела в отдельности, — но кто из смертных, сохранивших хоть след человеческого облика, захочет, чтобы его день и ночь напролет щекотали и возбуждали? Кто захочет совсем отказаться от духа, отдавшись телу?
Глава VI
1. Мне возразят, что дух, мол, тоже может получать свои наслаждения. Конечно, может; он может сделаться судьею в наслаждениях роскоши и сладострастия, он может сделать своим содержанием то, что обычно составляет предмет чувственного удовольствия; он может задним числом смаковать прошедшие наслаждения, возбуждаясь памятью уже угасших вожделений, и предвкушать будущие, рисуя подробные картины, так что пока пресыщенное тело неподвижно лежит в настоящем, дух мысленно уже спешит к будущему пресыщению. Все это, однако, представляется мне большим несчастьем, ибо выбрать зло вместо добра — безумие. Блаженным можно быть лишь в здравом рассудке, но явно не здоров стремящийся к тому, что его губит.
2. Итак, блажен тот, чьи суждения верны; блажен, кто доволен тем, что есть, и в ладу со своей судьбой; блажен тот, кому разум диктует, как себя вести.
Глава VII
1. Те, кто утверждает, будто высшее благо именно в наслаждениях, не могут не видеть, что оно у них оказывается не слишком возвышенным. Вот почему они настаивают, что наслаждение неотъемлемо от добродетели и что честная жизнь не может не быть приятной, а приятная — также и честной. Я, признаться, не вижу, каким образом можно объединить вещи столь различные. Умоляю, объясните, почему нельзя отделить наслаждение от добродетели? Видимо, раз добродетель есть источник всех благ, из того же корня берет начало и все то, что вы любите и чего добиваетесь? Однако если бы они и в самом деле были нераздельны, нам не приходилось бы встречать вещей приятных, но позорных, и наоборот, вещей достойнейших, но трудных и достижимых лишь путем скорбей.
2. Добавь к этому, что жажда наслаждений доводит до позорнейшей жизни; добродетель же, напротив, дурной жизни не допускает; что есть люди несчастные не из-за отсутствия наслаждений, а из-за их обилия, чего не могло бы случиться, если бы добродетель была непременной частью наслаждения: ибо добродетель часто обходится без удовольствия, но никогда не бывает лишена его совершенно.
3. С какой стати вы связываете вещи столь несхожие и даже более того: противоположные? Добродетель есть нечто высокое, величественное и царственное; непобедимое, неутомимое; наслаждение же — нечто низменное, рабское, слабое и скоропреходящее, чей дом в притоне разврата и любимое место в кабаке. Добродетель ты встретишь в храме, на форуме, в курии, на защите городских укреплений; пропыленную, раскрасневшуюся, с руками в мозолях. Наслаждение чаще всего шатается где-нибудь возле бань и парилен, ища укромных мест, где потемнее, куда не заглядывает городская стража; изнеженное, расслабленное, насквозь пропитанное неразбавленным вином и духами, зеленовато-бледное либо накрашенное и нарумяненное, как приготовленный к погребению труп.
4. Высшее благо бессмертно, оно не бежит от нас и не несет с собой ни пресыщения, ни раскаяния: ибо верно направленная душа не кидается из стороны в сторону, не отступает от правил наилучшей жизни и потому не становится сама себе ненавистна. Наслаждение же улетучивается в тот самый миг, как достигает высшей точки; оно невместительно и потому быстро наполняется, сменяясь тоскливым отвращением; после первого взрыва страсти оно умирает, вялое и расслабленное. Да и как может быть надежным то, чья природа — движение? Откуда возьмется устойчивость (substantia) в том, что мгновенно приходит и уходит, обреченное погибнуть, как только его схватят, ибо, увеличиваясь, оно иссякает и с самого своего начала устремляется к концу?
Глава VIII
1. Я бы сказал, что наслаждение не чуждо ни добрым, ни злым и что подлецы получают не меньшее удовольствие от своих подлостей, чем честные люди от выдающихся подвигов. Вот почему древние учили стремиться к жизни лучшей, а не приятнейшей. Наслаждение должно быть не руководителем доброй воли, указывающим ей верное направление, а ее спутником. В руководители же нужно брать природу: ей подражает разум, с ней советуется.
2. Итак, блаженная жизнь есть то же самое, что жизнь согласно природе. Что это такое, я сейчас объясню: если все наши природные способности и телесные дарования мы станем бережно сохранять, но в то же время не слишком трястись над ними, зная, что они даны нам на один день и их все равно не удержать навсегда; если мы не станем по-рабски служить им, отдавая себя в чужую власть; если все удачи и удовольствия, выпадающие на долю нашего тела, займут у нас подобающее место, какое в военном лагере занимают легковооруженные и вспомогательные войска, то есть будут подчиняться, а не командовать, — тогда все эти блага пойдут на пользу душе.
3. Блажен муж, не подвластный растлению извне, восхищающийся лишь собою, полагающийся лишь на собственный дух и готовый ко всему; его уверенность опирается на знание, а его знание — на постоянство; суждения его неизменны, и решения его не знают исправлений. Без слов понятно, что подобный муж будет собранным и упорядоченным, и во всех делах своих будет велик, но не без ласковости.
4. Разум побуждается к исследованию раздражающими его чувствами. Пусть так: у него ведь нет другого двигателя, и только чувства дают ему толчок, заставляя двинуться к истине. Но беря свое начало в чувственности, он должен в конце вернуться к самому себе. Точно так же устроен и мир: этот всеобъемлющий бог и правитель вселенной устремлен вроде бы наружу, однако отовсюду вновь возвращается в самого себя. Так должна поступать и наша душа: следуя своим чувствам, она достигнет с их помощью внешнего мира, но при этом должна остаться госпожой и над собой, и над ними.
5. Именно таким образом может быть достигнуто в человеке согласное единство сил и способностей, и тогда родится тот разум, который не будет знать внутренних разногласий и колебаний во мнениях, восприятиях и убеждениях; которому достаточно будет раз и навсегда себя упорядочить, чтобы его части согласовались друг с другом и, если можно так выразиться, спелись, и он достигнет высшего блага. Ибо в нем не останется неправды и соблазна, он не будет наталкиваться на препятствия и оскальзываться на сомнениях.
6. Все его дела будут диктоваться лишь его собственной властью, и непредвиденных случайностей для него не будет; все его предприятия легко и непринужденно будут обращаться к благу, а сам предприниматель никогда не покажет спины, изменяя благим решениям, ибо колебания и лень — это проявления непостоянства и внутренней борьбы. А посему смело можешь заявлять, что высшее благо есть душевное согласие, ибо добродетели должны быть там, где лад и единство, а где разлад — там пороки.
Глава IX
1. «Но ты сам, наверное, чтишь добродетель только потому, что надеешься извлечь из нее какое-то наслаждение» — могут мне возразить. — Прежде всего я отвечу вот что: если добродетель и приносит наслаждение, достичь ее стремятся не ради этого. Неверно было бы сказать, что она приносит наслаждение; вернее — приносит в том числе и его; не ради него она обрекает себя на труды и страдания, но в результате ее трудов, хотя и преследующих иную цель, получается между прочим и оно.
2. Подобно тому как на засеянной хлебом пашне меж колосьев всходят цветы, но не ради них предприняли свой труд пахарь и сеятель, хоть цветы и радуют глаз; цель их была — хлеб, а цветы — случайное добавление. Точно так же и наслаждение — не причина и не награда добродетели, а нечто ей сопутствующее; оно не признается чем-то хорошим только оттого, что доставляет удовольствие; напротив, добродетельному человеку оно доставляет удовольствие, только если будет признано хорошим.
3. Высшее благо заключено в самом суждении и поведении совершенно доброй души: после того как она завершила свой путь и замкнулась в собственных границах, достигнув высшего блага, она уже не желает ничего более, ибо вне целого нет ничего, так же как нет ничего дальше конца.
4. Так что ты напрасно доискиваешься, ради чего я стремлюсь к добродетели: это все равно, что спрашивать, что находится выше самого верха. Тебя интересует, что я хочу извлечь из добродетели? Ее саму. Да у нее и нет ничего лучшего, она сама себе награда. Разве этого мало? Вот я говорю тебе: «Высшее благо есть несокрушимая твердость духа, способность предвидения, возвышенность, здравый смысл, свобода, согласие, достоинство и красота», — а ты требуешь чего-то большего, к чему все это служило бы лишь приложением. Что ты все твердишь мне о наслаждении? Я ищу то, что составляет благо человека, а не брюха, которое у скотов и хищников гораздо вместительнее.
Глава X
1. «Ты извращаешь мои слова, — заявит мой собеседник. — Я утверждаю, что никто не может сделать свою жизнь по-настоящему приятной, если не будет жить честно, а это уже не может быть отнесено к бессловесным животным, для которых благо измеряется количеством пищи. Я недвусмысленно и во всеуслышание объявляю, что та жизнь, которую я зову приятной, не может быть достигнута без добродетели».
2. Помилуй, да ведь все знают, что полнее всего упиваются вашими так называемыми наслаждениями самые непроходимые дураки; что подлость купается в удовольствиях; что дух, поспешая за телом, придумывает для себя множество новых извращенных наслаждений. Вот лишь некоторые из них: чванство и преувеличенная самооценка, напыщенность, возносящая себя над окружающими, слепая любовь ко всему, что имеет отношение ко мне лично; погоня за радостями и разболтанность; ни с чем не соразмерный ребячливый восторг по поводу пустяков и мелочей; болтливость и высокомерие; удовольствие оскорблять других; праздная распущенность обленившегося духа, который свернулся клубочком и сам в себе заснул.
3. Всю эту дремоту добродетель с него стряхивает, больно дергая его за ухо и напоминая, что наслаждение следует сперва оценить и лишь потом допускать к себе; наслаждения, которые нельзя одобрить, не имеют в ее глазах цены; но и все прочие она допускает с большой осторожностью, получая радость не от самого наслаждения, а от своей в нем умеренности. — «Но ведь умеренность, уменьшая наслаждения, тем самым наносит ущерб и высшему благу!» — Ну что же: ты стремишься поймать наслаждение, а я — укротить его и обуздать; ты упиваешься удовольствием, я его использую; ты считаешь его высшим благом, для меня оно вовсе не благо; ты делаешь ради удовольствия все, я — ничего.
Глава XI
1. Когда я говорю, что я ничего не делаю ради удовольствия, то имею в виду не себя лично, а мудреца, того самого, кто, по-твоему, единственный может испытывать настоящее наслаждение. Я же называю мудрецом того, над кем нет господина, и в первую очередь как раз того, кем не командует наслаждение: ибо как может занятый им человек выстоять среди трудов и нужды, среди опасностей и угроз, со всех сторон с грохотом надвигающихся на человеческую жизнь? Как может он глядеть в лицо смерти, как перенесет боль и скорби? Как встретит мировые потрясения и полчища ожесточенных неприятелей тот, над кем одержал победу столь изнеженный противник? — «Но он свершит все, что повелит ему наслаждение». — Будто ты сам не знаешь, что может повелеть наслаждение.
2. «Оно не может повелеть ничего недостойного, ибо неотделимо от добродетели». — Всмотрись еще раз внимательно: разве ты не видишь, что высшее благо нуждается в страже, чтобы оставаться благом вообще? А как добродетель будет управлять наслаждением, если будет ему следовать? Ведь следовать — дело подчиненного, а управлять — дело властителя. То, что должно властвовать, ты помещаешь сзади. Хорошенькую же роль играет у вас добродетель, обязанная, как рабыня, опробовать наслаждения перед подачей на стол!
3. Мы еще увидим впоследствии, сохраняется ли вообще добродетель у тех, кто так ее унижает, ибо, сдавая позиции, она теряет право называться своим именем; покамест же я, в ответ на твое возражение, приведу тебе множество примеров людей, помешанных на наслаждениях, осыпанных всевозможными дарами фортуны, но кого даже ты принужден будешь признать людьми далекими от добродетели.
4. Взгляни хотя бы на Номентана и Апиция[14], переваривающих все, как они выражаются, дары земли и моря; взгляни, как они высоко возлежат на розовых лепестках, обозревая свою кухню, и у себя на столе изучают животных всех стран. Уши их при этом услаждаются музыкой, глаза зрелищами, нёбо — всевозможными вкусами. Кожу щекочут мягкие, нежно согревающие ткани, а дабы ноздри не оставались тем временем не у дел, разнообразные ароматы пропитывают помещение, где дается пир в честь роскоши, словно в честь усопшего родителя. Скажи, разве не купаются эти люди в наслаждениях? — А в то же время добра им это не принесет, ибо не добру они радуются.
Глава XII
1. Ты скажешь: «Да, им будет плохо, ибо в их жизнь постоянно будут вторгаться обстоятельства, смущающие их дух, а противоречивые мнения будут вселять в душу тревогу». — Все это верно, я согласен, и тем не менее взбалмошные глупцы, ничем не защищенные от уколов раскаяния, вкушают великие наслаждения, и приходится признать, что с тяжестью страданий они познакомятся не раньше, чем со здравомыслием, что они безумны веселым безумием, как, впрочем, и большинство людей, и бред их выражается в хохоте.
2. У мудрецов же, напротив, наслаждения тихи, умеренны, сдержанны, почти что вялы, едва заметны; они, как незваные гости, принимаются хозяевами без почестей и без особых изъявлений радости; их кое-где подмешивают в жизнь в небольших количествах, как чередуют изредка серьезные дела с играми и шутками.
Глава XIII
1. [XII, 3]{1} Пора перестать совмещать несовместное, объединяя добродетель с наслаждением: дело это скверное, и ничего, кроме лести последним негодяям, из него не получится. Человек, потонувший в наслаждениях, вечно икающий, рыгающий и пьяный, знает, что не может жить без удовольствий, а потому верит, что живет добродетельно, ибо он слыхал, что наслаждение и добродетель неотделимы друг от друга; и вот он выставляет напоказ свои пороки, которые следовало бы спрятать от глаз подальше, под вывеской «Мудрость».
2. [XII, 4] Собственно, не Эпикур побуждает их предаваться излишествам роскоши: преданные лишь собственным порокам, они спешат прикрыть их плащом философии и со всех сторон сбегаются туда, где слышат похвалу наслаждению. Они не в состоянии оценить, насколько трезво и сухо то, что зовет наслаждением Эпикур (по крайней мере я, клянусь Геркулесом, именно так его понимаю); они слетаются на звук самого имени, ища надежного покровительства и прикрытия своим вожделениям.
3. [XII, 5] Таким образом, они теряют единственное благо, которое было у них среди многих зол: способность стыдиться своих грехов. Теперь они превозносят то, за что вчера краснели, и громко хвастаются пороками. А из-за этого и подрастающее поколение сбивается с пути, ибо позорная праздность получила отныне почетное звание. Вот отчего ваше восхваление наслаждения столь губительно; достойные наставления преподаются у вас шепотом в стенах школы, а разлагающие изречения красуются на виду.
4. [XIII, 1] Сам-то я считаю — и в этом расхожусь со своими коллегами, — что учение Эпикура свято и правильно, а если подойти к нему поближе, то и весьма печально; его наслаждение мало, сухо и подчинено тому закону, какой мы предписываем добродетели: оно должно повиноваться природе; а того, чем довольствуется природа, никогда не хватит для роскоши.
5. [XIII, 2] Что же получается? Всякий, кто зовет счастьем праздное безделье с поочередным удовлетворением вожделений похоти и чрева, ищет добрый авторитет для прикрытия дурных дел, находит его, привлеченный соблазнительным названием, и отныне считает свои пороки исполнением философских правил, хотя наслаждения его не те, о каких он здесь услыхал, а те, какие он принес сюда с собой; зато теперь он предается им без опаски и не таясь. Большинство наших называют школу Эпикура наставницей в гнусностях; я же скажу так: у нее незаслуженно дурная репутация.
6. [XIII, 3] Кто, кроме посвященных, может знать наверняка? Она сама так убрала свой фасад, чтобы дать повод к сплетням и возбуждать опасения. Она подобна доблестному мужу, одетому в женскую столу: стыдливость не нарушена, мужественность не оскорблена, тело не открыто для взоров нечистой страсти, но в руке тимпан. Следовало бы выбрать более пристойную вывеску, чтобы она сама возбуждала дух к добродетели; та, что висит сейчас, зазывает пороки.
7. [XIII, 4] Всякий, устремившийся к добродетели, являет собой пример благородной натуры; приверженец наслаждения предстает безвольным, сломленным, лишенным мужественности вырожденцем, которому суждено скатиться на самое позорное дно, если кто-нибудь не научит его различать наслаждения и он не узнает, какие из них не выходят за рамки естественных желаний, а какие — беспредельны и увлекают в пропасть, ибо чем больше их насыщают, тем ненасытнее они становятся.
Глава XIV
1. [XIII, 5] Ну, ничего, лишь бы впереди у нас шла добродетель, тогда любая дорожка будет безопасна! Чрезмерное наслаждение вредно, а чрезмерной добродетельности опасаться не приходится, ибо она сама есть мера; не может быть благом то, что проигрывает от большого размера. Кроме того: вам в удел досталась разумная природа; что же может быть для вас лучше разума? Но если вам так уж мило это соединение, если вы не согласны идти к блаженной жизни без обоих сразу, то пусть добродетель идет впереди, а наслаждение — следом, увиваясь, словно тень, вокруг нашего тела; но отдавать добродетель, высочайшую вещь на свете, в служанки наслаждению немыслимо для того, чей дух в состоянии постигать не только ничтожные предметы.
2. [XIV, 1] Пусть добродетель шагает впереди со знаменами; наслаждение никуда от нас не денется, зато мы окажемся его командирами и укротителями; оно всегда сможет выпросить у нас уступку — но не сможет вынудить. Те же, кто передаст бразды правления наслаждению, лишатся обоих: они упустят добродетель и не смогут удержать наслаждения, ибо отныне оно само будет держать их; они будут то терзаться его недостатком, то задыхаться от его обилия, несчастные, если оно их покинет, еще несчастнее — если обрушится на них; подобно морякам, сбившимся с пути в Сиртском море[15], они будут оказываться то на мели, то в потоке бушующих волн.
3. [XIV, 2] А происходит все это от невоздержности и слепой любви к удовольствию; кто принимает дурное за хорошее, тому опаснее всего успех в достижении желанного. Подобно тому как мы с великими трудами и опасностью для жизни охотимся на диких зверей, но последующее обладание ими приносит не меньше хлопот, и плененному зверю нередко случается растерзать своего хозяина, — точно так же и обладатели наслаждений попадают в великую беду, делаясь собственностью того, чем, казалось, обладали. И чем больше, чем сильнее наслаждения, тем ничтожнее и мельче их бывший хозяин, а ныне раб многих господ, тот самый, кого чернь величает счастливцем.
4. [XIV, 3] Продолжу сравнение: охотник, для которого нет ничего дороже, чем выслеживать звериные логовища и «арканить хищников петлей», «сворой собак окружая обширные дебри»[16], чтобы не сбиться со следа, бросает ради этого более важные дела и пренебрегает своими обязанностями; точно так же охотник за наслаждениями откладывает все остальное и в первую очередь пренебрегает свободой: ею он платит за удовольствия живота, но в результате не он покупает себе наслаждения, а они покупают себе его.
Глава XV
1. «Однако что же все-таки мешает объединить добродетель и наслаждение и устроить высшее благо таким образом, чтобы честное и приятное было одно и то же?» — Ни одна составная часть чести не может быть бесчестной, и высшее благо утратит свою подлинность, если в нем окажется хоть что-то не вполне наилучшее.
2. Даже радость, порождаемая добродетелью, как она ни хороша, не может быть частью высшего блага, так же как покой и веселье, от каких бы прекрасных причин они ни возникали; все это, конечно, блага, но не из тех, что составляют высшее благо, а из тех, что ему сопутствуют.
3. Тот, кто попытается объединить добродетель и наслаждение, пусть даже и не на равных правах, привяжет к более прочному благу более хрупкое, надеясь его упрочить, после чего оба станут шаткими; а на свободу свою, непобедимую до тех пор, пока для нас нет ничего дороже ее, он наденет ярмо рабства. Ибо ему сразу понадобится фортуна; но нет рабства горшего! Жизнь его отныне наполнится тревогой, подозрениями, страхом; он будет трепетать от любого случая, и каждое из сменяющих друг друга мгновений будет таить в себе угрозу.
4. Ты не хочешь водрузить добродетель на твердое, неподвижное основание; ты оставляешь ей лишь шаткую почву под ногами, ибо нет ничего более шаткого и ненадежного, чем надежда на случай, чем изменчивое тело со всеми его способностями и потребностями. Как может человек повиноваться богу, как может благодушно принимать все, что бы с ним ни случилось, не жаловаться на судьбу и толковать все свои несчастья в лучшую сторону, если самые ничтожные уколы наслаждения или боли заставляют его содрогаться? Из него не выйдет ни добрый защитник родины, ни борец за своих друзей, если он покорился наслаждению.
5. Итак, высшее благо нужно поместить настолько высоко, чтобы никакая сила не могла его принизить, чтобы оно оказалось недосягаемо для скорби, надежды и страха. На такую высоту способна подняться одна лишь добродетель. Лишь ее твердой поступи дано покорить эту вершину. Она выстоит, что бы ни случилось, перенося несчастья не просто терпеливо, но даже охотно, ибо она знает, что все трудности нашего временного существования — закон природы. Она, как добрый воин, будет спокойно принимать раны, считать шрамы и, если надо, умрет, пронзенная вражескими копьями, но полная любви к полководцу, ради которого пала; и всегда будет хранить в душе древнее наставление: «Следуй богу».
6. А кто жалуется, плачет и стонет, не желая выполнять приказаний, того заставляют силой и против воли волокут туда, куда нужно. Какое, однако, безумие не идти самому, а заставлять тащить себя волоком! Клянусь Геркулесом, какая глупость, какое непонимание своего положения — скорбеть оттого, что чего-то тебе не хватает или что выпала тебе жестокая доля; это, право же, не умнее, чем удивляться и возмущаться тем, что равно не минует плохих и хороших: болезнями, смертью, старческой слабостью и прочими превратностями человеческой жизни.
7. Есть вещи, которые нам положено терпеть, ибо таков порядок, установленный во вселенной; их нужно принимать не теряя присутствия духа: ведь мы принесли присягу — нести свою смертную участь и не расстраивать наших рядов из-за того, чего избежать не в нашей власти. Мы рождены под царской властью: повиноваться богу — наша свобода.
Глава XVI
1. Итак, истинное счастье — в добродетели. Какие советы даст тебе добродетель? Не считай ни дурным, ни хорошим того, что не имеет отношения к добродетели или пороку. Кроме того, будь непоколебим перед лицом зла и добра, дабы уподобиться богу, насколько это позволительно.
2. Какую награду она сулит тебе за это? — Поистине огромную и божественную: ты не будешь знать ни принуждения, ни нужды; получишь свободу, безопасность, неприкосновенность; никаких тщетных попыток, никаких неудач: все, что ты задумал, будет получаться, исчезнут досадные случайности, препятствующие исполнению твоей воли и твоих планов.
3. Ну как? Достаточно добродетели для блаженной жизни? Ее одной — совершенной и божественной — может ли не хватить тебе, и даже с избытком? Да и чего может не хватать тому, кто стоит по ту сторону всех желаний? Тому, кто все свое собрал в себе, что может понадобиться снаружи? Однако тому, кто еще только стремится к добродетели, даже если он уже далеко продвинулся на этом пути, еще нужна некоторая милость фортуны, пока он ведет борьбу в человеческом мире, пока он не выбрался из узла сковывающих его смертных пут. Оковы эти бывают разные: одни люди связаны, стянуты, даже целиком обмотаны тугой, короткой цепью; другие, уже поднявшись в горние области и воспарив ввысь, тянут за собой свою длинную, свободно отпущенную цепь: они тоже еще не свободны; это нам кажется, что они на воле.
Глава XVII
1. Кто-нибудь из любителей облаять философию может задать мне обычный у них вопрос: «Отчего же ты сам на словах храбрее, чем в жизни? Зачем заискиваешь перед вышестоящим и не брезгуешь деньгами, полагая их необходимым для тебя средством к существованию? Зачем переживаешь по поводу неприятностей и проливаешь слезы при вести о смерти жены или друга? Зачем дорожишь доброй славой и не остаешься равнодушен к злословию?
2. Зачем твое имение ухожено более, чем требует природа? Почему твои обеды готовятся не по рецептам твоей философии? К чему столь пышное убранство в доме? И почему здесь пьют вино, которое старше тебя по возрасту? Зачем заводить вольеры для птиц? Зачем сажать деревья, не дающие ничего, кроме тени? Почему твоя жена носит в ушах целое состояние богатой семьи? Почему рабы, которых ты посылаешь в школу, одеты в драгоценные ткани? Для чего у тебя учреждено особое искусство прислуживать за столом, и серебро раскладывается не как попало, а строго по правилам, и заведена отдельная должность нарезателя закусок?» К этому можно добавить, если хочешь, и много других вопросов: «Зачем тебе заморские владения, и вообще столько, что ты не можешь счесть? Ты не знаешь всех твоих рабов: это либо постыдная небрежность, если их мало, либо преступная роскошь, если их число превышает возможности человеческой памяти!»
3. Когда-нибудь после я сам присоединюсь к твоей брани и поставлю себе в вину больше, чем ты думаешь; покамест же я отвечу тебе вот что: «Я не мудрец и — пусть утешатся мои недоброжелатели — никогда им не буду. Поэтому не требуй от меня, чтобы я сравнялся с лучшими, я могу стать лишь лучше дурных. С меня довольно, если я каждый день буду избавляться от одного из своих пороков и бичевать свои заблуждения.
4. Я не выздоровел и, вероятно, никогда не буду здоров; против моей подагры я применяю больше болеутоляющие средства, чем исцеляющие, и радуюсь, если приступы повторяются реже и зуд слабеет; впрочем, по сравнению с вашими ногами я, инвалид, выгляжу настоящим бегуном». — Разумеется, я говорю это не от своего лица — ибо сам я погряз на дне всевозможных пороков, — но от лица человека, которому уже удалось кое-что сделать.
Глава XVIII
1. «Ты живешь не так, как рассуждаешь» — скажете вы. О злопыхатели, всегда набрасывающиеся на лучших из людей! В том же обвиняли и Платона, Эпикура, Зенона, ибо все они рассуждали не о том, как живут, а о том, как им следовало бы жить. Я веду речь о добродетели, а не о себе; и если ругаю пороки, то в первую очередь мои собственные: когда смогу, я стану жить как надо.
2. Ваша ядовитая злоба не отпугнет меня от лучших образцов; яд, которым вы брызжете на других, которым медленно убиваете самих себя, не помешает мне упорно восхвалять ту жизнь, какую я не веду, но какую, я знаю, вести следует; не помешает преклоняться перед добродетелью, пускай нас разделяет безмерное расстояние, и стараться приблизиться к ней, пусть даже ползком.
3. Стану ли я дожидаться, пока найдется человек, которого не посмеет оскорбить ваша злоба, не признающая священной неприкосновенности даже за Рутилием[17] и Катоном?[18] Стоит ли стараться не прослыть у вас чересчур богатым, если даже киник Деметрий[19] для вас недостаточно беден? А ведь сей муж — образчик суровости — боролся против всех, даже естественных желаний и был беднее всех киников: они запрещали себе иметь, он запрещал и просить. И он-то для вас недостаточно нищий! А ведь нетрудно заметить, что не наука добродетели, а наука нищеты была главным делом его жизни.
Глава XIX
1. Эпикурейский философ Диодор несколько дней назад собственной рукой положил конец своей жизни; но они не хотят признать, что он перерезал себе глотку по завету Эпикура. Одни предпочитают видеть в его поступке проявление безумия, другие — необдуманность; в то время как это был человек блаженный и вполне доброй совести; он сам перед собой засвидетельствовал, что настала пора уходить из жизни, воздал хвалу покою, который он вкушал, проведя весь свой век на якоре в тихой гавани, и произнес слова, которые вам так неприятно слышать, как будто вас заставляют сделать то же самое: «Прожил довольно и путь, судьбою мне данный, свершил я»[20].
2. Вы охотно рассуждаете о чужой жизни и чужой смерти; стоит упомянуть при вас имя какого-нибудь великого мужа, стяжавшего особую славу, как вы кидаетесь на него с лаем, словно деревенские дворняжки на незнакомого прохожего. Видно, вам выгодно, чтобы ни один человек не казался добрым, как будто чужая добродетель станет укором вашим недостаткам. Полные зависти, вы сравниваете свою грязь с чужим великолепием, не понимая, насколько этим вредите самим себе. В самом деле, если их, стремящихся только к добродетели, следует признать все же корыстными, распутными и тщеславными, то кем же окажетесь в сравнении с ними вы, для кого само имя добродетели ненавистно?
3. Вы утверждаете, что никто не соблюдает на деле того, что говорит, никто не живет согласно собственным поучениям. А что тут удивительного, когда говорится о вещах великих, требующих огромного напряжения сил, превышающего человеческие пределы? Пусть неудачны их попытки вырвать гвозди и освободиться от креста, на котором их распинают; но из вас-то каждый сам забивает себе гвозди. Когда их приводят на казнь, каждый из них повисает на одном-единственном столбе; а вы, сами себя ежедневно приговаривающие к казни, будете растянуты между столькими крестами, сколько у вас страстей. Просто вам приятно злословить и поносить других. Я бы, может, и поверил, что сами вы свободны от пороков, если бы мне не случалось наблюдать, как иные, уже вися на кресте, плюются в зрителей.
Глава XX
1. «Философы сами не соблюдают своих правил». — Они делают многое уж одним тем, что высказывают подобные правила, тем, что душа их занята достойными понятиями. Если бы дела их сравнялись со словами, они достигли бы уже высших степеней блаженства. Но и без того не стоит презирать добрые речи и сердца, исполненные добрых помышлений. Предаваться спасительным занятиям само по себе достойно похвалы, независимо от результата.
2. Нужно ли удивляться, что, пытаясь взобраться по отвесной стене, они не достигают вершины? Если ты мужчина, уважай в других великие дерзания, даже когда они кончаются крахом. Это благородное дело: предпринимать попытки, сообразуясь не с собственными силами, а с возможностями своей природы; устремляться ввысь и вынашивать в душе планы столь грандиозные, что их не под силу осуществить даже тем, кто украшен величайшими духовными дарованиями.
3. Дай себе такие обеты: «Я изменюсь в лице, увидав смерть, не больше, чем услыхав о ней. Я заставлю свое шаткое тело подчиняться духу, скольких бы трудов и страданий это ни стоило. Я стану презирать богатство, которое у меня есть, и не пожелаю того, которого у меня нет; не огорчусь, если оно будет лежать в другом доме, не обрадуюсь, если заблещет вокруг меня. Я не стану переживать из-за капризов фортуны, приходит ли она ко мне или уходит. Я стану смотреть на все земли, как на мои собственные, и на мои, как на принадлежащие всем. Я стану жить так, будто знаю, что рожден для других, и возблагодарю природу вещей за это: ибо каким способом она могла бы лучше позаботиться о моих интересах? Одного меня она даровала всем, а всех — мне одному.
4. Имение свое я не стану ни стеречь с чрезмерной скаредностью, ни мотать направо и налево. Я стану считать, что полнее всего обладаю тем, что с умом подарил другому. Я не стану отмеривать свои благодеяния ни поштучно, ни на вес, меряя их лишь степенью моего уважения к получателю; вспомоществование достойному я никогда не сочту чрезмерным. Я не стану делать ничего ради мнения окружающих, но лишь ради собственной совести; о чем знаю я один, я стану делать так, будто на меня смотрит толпа народа.
5. Есть и пить я буду для того, чтобы утолить естественные желания, а не для того, чтобы то набивать, то освобождать брюхо. Приятный друзьям, кроткий и обходительный с врагами, я всегда буду идти навстречу людям, не заставляя себя упрашивать, и всегда исполню честную просьбу. Я буду знать, что моя отчизна — мир, мои покровители — боги, стоящие надо мной и вокруг меня, оценивающие дела мои и речи. В любой миг, когда природа потребует вернуть ей мое дыхание (spiritum) или мой собственный разум отпустит его к ней, я уйду, подтвердив под присягой, что всю жизнь любил чистую совесть и достойные занятия, что никогда ни в чем не ущемил ничьей свободы, и менее всего своей собственной». — Тот, кто пообещает себе сделать это, кто действительно пожелает и попытается так поступать — тот на верном пути к богам; даже если ему не удастся пройти этот путь до конца, то «все ж он погиб, на великий отважившись подвиг…»[21]
6. А вы, ненавистники добродетели и ее почитателей, — вы не изобрели ничего нового. Больные глаза не выносят солнца, ночные животные бегут от сияния дня, первые лучи солнца повергают их в оцепенение, и они спешат укрыться в свои норы, забиться в дыры и щели, лишь бы не видеть страшного для них света. Войте, скрежещите, упражняйте ваши несчастные языки в поношении добрых людей. Разевайте пасти, кусайте: вы скорее обломаете зубы, чем они заметят ваш укус.
Глава XXI
1. «Отчего этот приверженец философии так богато живет? Сам учит презирать богатство и сам же его имеет? Учит презирать жизнь, но живет? Учит презирать здоровье, но сам заботится о нем, как никто, и старается иметь возможно лучшее? Говорит, что изгнание — пустой звук: “Ибо что же дурного в перемене мест?” — но сам предпочитает состариться на родине? Он заявляет, что не видит разницы между долгим и кратким веком, но отчего же тогда сам он мечтает о долгой здоровой старости и все силы приложит к тому, чтобы прожить подольше?»
2. Да, он утверждает, что все эти вещи следует презирать, но не настолько, чтобы не иметь их, а лишь настолько, чтобы иметь не тревожась; не так, чтобы самому гнать их прочь, но так, чтобы спокойно смотреть, как они уходят. Да и самой фортуне куда выгоднее помещать свои богатства? — Конечно же, туда, откуда можно будет забрать их, не слушая жалобных воплей временного владельца.
3. Марк Катон всегда прославлял Курия[22] и Корункания[23], да и весь тот век, когда несколько пластинок серебра составляли преступление в глазах цензора[24]; однако сам он имел сорок миллионов сестерциев, поменьше, конечно, чем Красс[25], но поболее, чем Катон Цензор. От прадеда его в этом сопоставлении будет отделять значительно большее расстояние, чем от Красса, однако если бы ему вдруг достались еще богатства, он бы от них не отказался.
4. Дело в том, что мудрец вовсе не считает себя недостойным даров случая: он не любит богатство, однако предпочитает его бедности. Он принимает его, только не в сердце свое, а в дом. Он не отвергает с презрением того, что имеет, а оставляет у себя, полагая, что имущество составит вещественное подкрепление для его добродетели.
Глава XXII
1. Можно ли сомневаться, что богатство дает мудрецу гораздо более обильную материю для приложения способностей его духа, нежели бедность? Ведь бедность помогает упражняться лишь в одном роде добродетели: не согнуться и не дать себе прийти в отчаяние; богатство же предоставляет обширнейшее поле деятельности и для умеренности, и для щедрости, для аккуратности, распорядительности и великодушия.
2. Мудрец не станет стесняться своего маленького роста, но все же и он предпочел бы быть высоким и стройным. Конечно, мудрец может чувствовать себя прекрасно, имея хилое тело или лишившись глаза, однако он все же предпочел бы телесное здоровье и силу, хоть и знает, что у него есть сила значительно бо́льшая.
3. Он будет терпеливо сносить дурное здоровье, но желать себе будет доброго. Есть вещи с высшей точки зрения ничтожные; если отнять их, главное благо нисколько не пострадает; однако они добавляют кое-что к той беспрерывной радости, что рождается из добродетели: богатство веселит мудреца и действует на него примерно так же, как на моряка — хороший попутный ветер, как погожий день, как солнце, вдруг пригревшее среди темной, морозной зимы.
4. Далее, все мудрецы — я имею в виду наших мудрецов, для которых единственное благо — добродетель, — признают, что и среди тех вещей, что зовутся безразличными, одни все же предпочтительнее других и даже имеют известную ценность. Некоторые из них довольно почтенны, другие почтенны весьма. И дабы ты не сомневался, уточню: богатство вещь безусловно предпочтительная.
5. Тут ты, конечно, можешь воскликнуть: «Так что же ты надо мной издеваешься, если богатство означает для нас с тобой одно и то же?» — Нет, далеко не одно и то же; желаешь знать, почему? Если мое уплывет от меня, то кроме себя самого ничего от меня не унесет. Тебя же это поразит; тебе будет казаться, что, потеряв состояние, ты потерял самого себя. В моей жизни богатство играет кое-какую роль; в твоей — главную. Одним словом, моим богатством владею я, твое богатство владеет тобой.
Глава XXIII
1. Итак, перестань корить философов богатством: никто не приговаривал мудрость к бедности. Ничто не помешает философу владеть солидным состоянием, если оно ни у кого не отнято, не обагрено кровью, не осквернено несправедливостью, не накоплено грязными процентами[26]; если доходы и расходы будут одинаково честными, не причиняя горя никому, кроме злодеев. Увеличивай свое состояние, насколько пожелаешь, что в том постыдного? Богатство, которое всякий желал бы назвать своим, но в котором никто не может назвать своей ни крупицы, не постыдно, а почетно.
2. Такое честным путем нажитое состояние не отвратит от философа благосклонность фортуны, не заставит его ни превозноситься, ни краснеть. Впрочем, у него будет чем гордиться, если он сможет распахнуть настежь двери своего дома и заявить, предоставив согражданам осмотреть все, чем владеет: «Пусть каждый унесет то, что признает своим». Воистину велик тот муж и благодатно его богатство, если после подобного призыва он сохранит все, что имел! Я так скажу: кто может спокойно и не смущаясь выставить свое имущество для всенародного обозрения, уверенный, что никто не найдет там, на что наложить руку, тот будет открыто и смело богат.
3. Мудрец не впустит в свой дом ни денария, пришедшего дурным путем; но он не отвергнет даров фортуны и плодов своей добродетели, сколь бы велики они ни были. В самом деле, с какой стати отказывать им в добром приеме? Пусть приходят, их приветят как дорогих гостей. Он не станет ни хвастаться деньгами, ни прятать их (первое — свойство духа суетного, второе — трусливого и мелочного, который хотел бы, если можно, засунуть все свое добро за пазуху), не станет, как я уже говорил, и выкидывать их из дома.
4. Ведь не скажет же он: «От вас нет проку» или: «Я не умею вами распорядиться». Дальнюю дорогу он может проделать и пешком, однако предпочтет, если можно, воспользоваться экипажем. Так же и будучи бедным он, если можно, предпочтет стать богатым. Итак, настоящий философ будет богат, но относиться к своему богатству будет легко, как к веществу летучему и непостоянному, и не потерпит, чтобы оно причиняло какие-либо тяготы ему или другим.
5. Он станет одаривать… — но что это вы навострили уши? что подставляете карманы? — …он станет одаривать людей добрых либо же тех, кого в состоянии сделать добрыми. Он станет раздавать подарки не прежде, чем отберет, по тщательнейшем размышлении, самых достойных, как человек, помнящий, что ему придется давать отчет не только о доходах, но и о расходах. Он станет делать подарки, исходя из требований должного и справедливого, ибо бессмысленные дары — один из видов позорного мотовства. Карман у него будет открытый, но не дырявый: из него много будет выниматься, но ничего не будет высыпаться.
Глава XXIV
1. Ошибается, кто думает, будто нет ничего легче, чем дарить: это дело чрезвычайно трудное, если распределять со смыслом, а не разбрасывать как придется, повинуясь первому побуждению. Вот человек, которому я обязан, а этому возвращаю долг; этому я приду на помощь, а того пожалею; вот достойный человек, которого надо поддержать, чтобы бедность не сбила его с пути или не задавила совсем; этим я не дам, несмотря на их нужду, потому что если и дам, нужда их не уменьшится; кому-то я сам предложу, кому-то даже буду всовывать насильно. В таком деле нельзя допускать небрежности: подарки — лучшее помещение денег.
2. «Как? Неужто ты, философ, даришь для того, чтобы получить доход?» — Во всяком случае, для того, чтобы не понести убытки. Подарки следует вкладывать туда, откуда можно ждать возмещения, но не нужно его требовать. Мы помещаем наши благодеяния, как глубоко зарытый клад: без нужды ты не станешь его выкапывать.
3. Сам дом богатого человека — обширное поле для благотворительной деятельности. Щедрость называется у нас «свободностью» — «liberalitas» — не потому, что должна быть обращена только на свободных, а потому, что ее источник — свободный дух. Кто скажет, что щедрость следует проявлять лишь к одетым в тогу? Природа велит мне приносить пользу людям независимо от того, рабы они или свободные, свободнорожденные или вольноотпущенники, отпущенные по закону или по дружбе, — какая разница? Где есть человек, там есть место благодеянию. Так что можно упражняться в щедрости и раздавать деньги, не переступая собственного порога. Щедрость мудреца никогда не обращается на недостойных и подлых, но зато и не иссякает и, встретив достойного, изливается всякий раз, как из рога изобилия.
4. Честные, смелые, мужественные речи тех, кто стремится к мудрости, не дадут вам повода для превратного толкования. Только запомните: стремящийся к мудрости — это еще не мудрец, достигший цели. Вот что скажет вам первый: «Речи мои превосходны, но сам я до сих пор вращаюсь среди бесчисленных зол. Не требуй, чтобы я сейчас соответствовал своим правилам: ведь я как раз занят тем, что делаю себя, формирую, пытаюсь поднять до недосягаемого образца. Если я дойду до намеченной мною цели, тогда требуй, чтобы дела мои отвечали словам». Второй же, достигший вершины человеческого блага, обратится к тебе иначе и скажет так: «Прежде всего, с какой стати ты позволяешь себе судить о людях, которые лучше тебя? Сам-то я уже, по счастью, внушаю неприязнь всем дурным людям, а это доказывает мою правоту.
5. Но чтобы ты понял, отчего я не завидую никому из смертных, выслушай, что я думаю по поводу разных вещей в жизни. Богатство — не благо; если бы оно им было, оно делало бы людей хорошими; но это не так; а поскольку то, что мы находим у дурных людей, не может называться хорошим, постольку я не соглашаюсь называть его этим именем. В остальном же я признаю, что оно полезно, доставляет много жизненных удобств и потому его следует иметь.
Глава XXV
1. Что ж, выходит, что и вы и я одинаково полагаем, что богатство следует иметь; послушайте же, почему я не считаю его одним из благ и в чем я отношусь к нему иначе, чем вы. Пусть меня поселят в самом богатом доме, где даже самые обыденные предметы будут только из золота и серебра, — я не возгоржусь, ибо все это хоть и окружает меня, но лишь снаружи. Перенесите меня на Сублицийский мост[27] и бросьте среди нищих: я не почувствую себя униженным, сидя с протянутой рукой среди попрошаек. Разве тому, у кого есть возможность умереть, так уж важно, что у него нет корки хлеба? Какой же из этого вывод? Я предпочту блистательный дворец грязному мосту.
2. Поместите меня среди ослепительной роскоши и изысканного убранства: я не сочту себя счастливее оттого, что сижу на мягком и сотрапезники мои возлежат на пурпуре. Дайте мне иное ложе: я не почувствую себя несчастнее, опуская усталую голову на охапку сена или ложась отдохнуть на резаную солому, вылезающую сквозь дыры в ветхой парусине. Какой из этого вывод? Я предпочту гулять в претексте, чем сверкать голыми лопатками через прорехи в лохмотьях.
3. Пусть все дни мои будут один удачнее другого, пусть несутся ко мне поздравления с новыми успехами, когда еще не отзвучали прежние: я не стану любоваться сам собой. Отберите у меня эту временную милость: пусть потери, убытки, горе обрушивают на мой дух удар за ударом; пусть каждый час приносит новую беду; среди моря несчастий я не назову себя несчастным, ни одного дня я не прокляну; ибо я все предусмотрел так, что ни один день не может стать для меня черным. Какой отсюда вывод? Я предпочту воздерживаться от излишней веселости, нежели подавлять чрезмерную скорбь».
4. И вот что скажет тебе еще этот Сократ: «Хочешь, сделай меня победителем всех народов мира, пусть пышно украшенная колесница Вакха везет меня во главе триумфа от самого солнечного восхода до Фив, пусть все цари приходят просить меня утвердить их на царстве, — в тот самый миг, когда со всех сторон меня будут величать богом, я яснее всего пойму, что я человек. Хочешь — внезапно, без предупреждения, сбрось меня с этой ослепительной вершины; пусть головокружительная перемена судьбы взгромоздит меня на чужеземные носилки и я украшу собой торжественную процессию надменного и дикого завоевателя: волочась за чужой колесницей, я почувствую себя не более униженным, чем тогда, когда стоял на собственной. Какой же из этого вывод? А такой, что я все-таки предпочту победить, а не попасть в плен. (5) Да, все царство фортуны не удостоится от меня ничего, кроме презрения; но если мне предоставят выбор, я возьму лучшее. Все, что выпадет мне на долю, обратится во благо, но я предпочитаю, чтобы выпадало более удобное, приятное и менее мучительное для того, кому придется это обращать во благо. Не подумай, конечно, будто какую-нибудь добродетель можно стяжать без труда; но дело в том, что одним добродетелям нужны шпоры, а другим — узда.
6. Это как с телом: спускаясь под гору, нужно его удерживать, поднимаясь в гору — толкать вперед; так вот, и добродетели бывают направлены либо под гору, либо в гору. Всякий согласится, что терпение, мужество, стойкость и все прочие добродетели, противопоставляемые жестоким обстоятельствам и подчиняющие себе фортуну, карабкаются в гору, упираются, борются. (7) И столь же очевидно, что щедрость, умеренность, кротость идут под гору. Здесь мы удерживаем свой дух, чтобы он не сорвался вперед, там — гоним его, понукаем, толкаем самым жестоким образом. Так вот, в бедности нам понадобятся более мужественные, воинственные добродетели; в богатстве — более утонченные, стремящиеся сдерживать шаг и удержать себя в равновесии.
8. Перед лицом такого разделения, я всегда предпочту те, в которых можно упражняться спокойно, тем, которые требуют крови и пота. Таким образом, — заключит свою речь мудрец, — и жизнь моя не расходится с моими словами; это вы плохо их слышите: ваши уши улавливают только звучание слов, а что они означают, вы даже не интересуетесь спросить».
Глава XXVI
1. «Но какая же разница между мной, дураком, и тобой, мудрецом, если мы оба хотим иметь?» — Очень большая: у мудрого мужа богатство — раб, у глупого — властелин; мудрый не позволяет своему богатству ничего, вам оно позволяет все; вы привыкаете и привязываетесь к своему богатству так, будто кто-то обещал вам вечное им обладание, а мудрец, утопая в богатстве, тут-то и размышляет более всего о бедности.
2. Ни один полководец не понадеется на перемирие до такой степени, чтобы оставить приготовления к уже объявленной войне, даже если она до времени не ведется; а вас один красивый дом заставляет возомнить о себе и утратить представление о действительности, как будто он не может ни сгореть, ни обрушиться; куча денег делает вас глухими и слепыми, как будто они отведут от вас все опасности, как будто у фортуны не хватит сил мгновенно уничтожить их.
3. Богатство — игрушка вашей праздности. Вы не видите заключенных в нем опасностей, как варвары в осажденном городе не подозревают о назначении осадных орудий и лениво наблюдают за работой неприятеля, не в силах уразуметь, для чего возводятся в таком отдалении все эти сооружения. Так и вы: когда все благополучно, вы расслабляетесь, вместо того чтобы задуматься, сколько несчастных случайностей подстерегает вас со всех сторон. Они вот-вот уже готовы пойти на приступ и захватить драгоценную добычу.
4. Мудрец же, если у него вдруг отнимут богатство, ничего не потеряет из своего достояния; он будет жить, как жил, довольный настоящим, уверенный в будущем. «Самое твердое среди моих убеждений, — скажет вам Сократ или кто-нибудь другой, наделенный таким же правом и властью судить о делах человеческих, — это не изменять строя моей жизни в угоду вашим мнениям. Со всех сторон я слышу обычные ваши речи, но по мне это не брань, а писк несчастных новорожденных младенцев».
5. Так скажет вам тот, кому посчастливилось достичь мудрости и чей свободный от пороков дух велит ему порицать других — не из ненависти, но во имя исцеления. И вот что он еще прибавит: «Ваше мнение волнует меня не из-за меня, а из-за вас, ибо ненавидящие добродетель и гонящие ее с улюлюканием навсегда отрекаются от надежды на исправление. Меня вы не обижаете, но и богов не обижают те, кто опрокидывает алтари. Однако дурные намерения и злые замыслы не становятся лучше оттого, что не могут причинить вреда.
6. Я воспринимаю ваши бредни так же, как, вероятно, Юпитер всеблагой и величайший — непристойные выдумки поэтов, которые представляют его то крылатым, то рогатым, то не ночующим дома блудодеем; жестоким к богам и несправедливым к людям; похитителем свободных людей и даже родственников; отцеубийцей, беззаконно захватившим отчий престол и еще чужой в придачу. Единственное, чего достигают подобные сочинения, — освобождают людей от всякого стыда за свои прегрешения: мол, чего стесняться, если сами боги такие.
7. Меня ваши оскорбления нисколько не задевают, но ради вас самих я предупреждаю вас: уважайте добродетель, верьте тем, кто сам неуклонно ей следовал и теперь возвеличивает ее перед вами: пройдет время, и она предстанет в еще большем величии. Почитайте добродетель как богов, а исповедующих ее — как жрецов, и да благоговеют языки ваши[28] при всяком упоминании священных письмен. Это слово: “favete” — “благоговейте” происходит вовсе не от благожелательного одобрения — “favor”, оно не призывает вас к крикам и рукоплесканию, как в цирке, а повелевает молчать, дабы священнодействие могло свершиться как положено, не прерываемое неуместным шумом и болтовней. Вам вдвойне необходимо исполнять это повеление и всякий раз, как раздадутся речи этого оракула, закрывать рот, чтобы слушать внимательно.
8. Ведь вы все сбегаетесь послушать, когда какой-нибудь наемный лжец забренчит на улице систром[29], когда какой-нибудь умелый самоистязатель начнет резать, не слишком, впрочем, твердой рукой, свои предплечья и плечи, заливая их кровью; когда какая-нибудь женщина с завыванием поползет по дороге на коленях; когда старик в льняных одеждах, держа перед собой лавровую ветку и зажженный среди бела дня фонарь, пойдет кричать о том, что разгневали кого-то из богов, — вы все застываете, пораженные, и, заражая друг друга страхом, верите, что это — глашатаи божества».
Глава XXVII
1. Вот о чем взывает Сократ из темницы, которая очистилась, едва он вошел в нее, и сделалась почетнее всякой курии[30]: «Что за безумие, что за природа, враждебная богам и людям, заставляет вас поносить добродетель и оскорблять святыню злобными речами? Если можете, хвалите добрых людей, не можете — пройдите мимо; а если уж вы не в силах сдержать своей мерзкой распущенности, нападайте друг на друга: ибо обращать вашу безумную брань к небу, я не скажу что кощунство, но напрасный труд.
2. В свое время я сам сделался мишенью для шуток Аристофана[31], а вслед за ним двинулся и прочий отряд комических поэтов, излив на меня весь запас своих ядовитых острот, и что же? Эти нападки лишь укрепили славу моей добродетели. Ей полезно, когда ее выставляют, словно раба на продажу, и тычут в нее пальцами, пробуя на крепость, к тому же нет лучше способа узнать, чего она стоит и какова ее сила, чем полезть на нее в драку и попытаться побить: твердость гранита лучше всего известна камнерезам.
3.{2} Вот я — стою подобно скале на морской отмели, и волны беспрестанно обрушивают на меня свои удары, но ни сдвинуть меня с места, ни разбить им не под силу, хотя нападки их не прекращаются столетиями. Нападайте же, бейте: я вынесу все, и в этом — моя победа над вами. Нападающие на неодолимую твердыню употребят свою силу себе же во зло; а потому ищите мягкую и уступчивую мишень, чтобы вонзать ваши стрелы. (4) Вам нечем занять себя, и вы пускаетесь в исследование чужих недостатков, изрекая свои приговоры: “Не слишком ли просторно живет этот философ и не слишком ли роскошно обедает?” Вы замечаете чужие прыщи, а сами покрыты гнойными язвами. Так урод, покрытый с ног до головы зловонными струпьями, стал бы высмеивать родинки или бородавки на прекраснейших телах.
5. Поставьте в вину Платону то, что он искал денег, Аристотелю — что брал, Демокриту — что презирал, Эпикуру — что тратил; мне самому поставьте в вину Алкивиада и Федра — вы, которые при первой возможности кинетесь подражать всем нашим порокам, не помня себя от счастья!
6. Оглянитесь лучше на собственные пороки, на зло, осадившее вас со всех сторон, вгрызающееся в вас снаружи, палящее огнем самые ваши внутренности! Если вы не желаете знать вашего собственного положения, то поймите хотя бы, что дела человеческие вообще сейчас в том состоянии, чтобы вам оставалось много досуга чесать языки, порицая лучших, чем вы, людей.
Глава XXVIII
1. Но вы этого не понимаете и строите хорошую мину при плохой игре, словно люди, сидящие в цирке или в театре и еще не успевшие получить горестных вестей из дома, уже погруженного в траур. Но я-то гляжу сверху и вижу, какие тучи собираются над вашими головами, угрожая взорваться бурей в недалеком будущем, а некоторые так уже и вплотную нависли над вами и вашим добром. И даже более того: разве ужасный шквал не захватил уже ваши души, хоть вы того и не чувствуете, не завертел их в вихре, заставляя от одного убегать, к другому слепо устремляться, то вознося под облака, то швыряя в пропасть?..»
[На этом текст в рукописях обрывается.]
О СКОРОТЕЧНОСТИ ЖИЗНИ
К Паулину
Глава I
1. Большинство смертных жалуется, Паулин[32], на коварство природы: дескать, рождаемся мы так ненадолго и отведенное нам время пролетает так скоро, что, за исключением разве что немногих, мы уходим из жизни, еще не успев к ней как следует подготовиться. Об этом всеобщем, как принято считать, бедствии вопит не только невежественная толпа; не только чернь, но и многие славные мужи не сдержали горестных жалоб перед лицом такой напасти.
2. Вот величайший из врачевателей восклицает: «Жизнь коротка, искусство длинно»[33]. Вот Аристотель предъявляет природе претензию, мало приличествующую мудрецу: «Иным животным она по милости своей настолько удлинила век, что они переживают по пять, а то и по десять поколений; а человеку, рожденному для великих дел, положила конец куда скорейший»[34].
3. Нет, не мало времени мы имеем, а много теряем. Жизнь дана нам достаточно долгая, и ее с избытком хватит на свершение величайших дел, если распределить[35] ее с умом. Но если она не направляется доброю целью, если наша расточительность и небрежность позволяют ей утекать у нас меж пальцев, то когда пробьет наш последний час, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь, течения которой мы не заметили, истекла.
4. Именно так: мы не получили короткую жизнь, а сделали ее короткой. Мы не обделены ею, а бессовестно ее проматываем. Как богатое царское достояние, перейдя в руки дурного хозяина, в мгновение ока разлетается по ветру, а имущество, пусть и скромное, переданное доброму хранителю, умножается, так и время нашей жизни удлиняется для того, кто умно им распорядится.
Глава II
1. Что мы жалуемся на природу вещей? Она к нам благосклонна, и жизнь длинна, если знаешь, на что ее употребить. Но чем мы заняты? Один погряз в ненасытной алчности, другой — в суете бесконечных трудов и бесплодной деятельности; один насасывается, как губка, вином, другой дремлет в беспробудной лени; одного терзает вечно зависимое от чужих мнений тщеславие, другого страсть к торговле гонит очертя голову по всем морям и землям за наживой; иных снедает воинственный пыл: они ни на миг не перестают думать об опасностях, где-то кому-то угрожающих, и тревожиться за собственную безопасность; есть люди, полные беззаветной преданности начальству и отдающие себя в добровольное рабство.
2. Многих захватила зависть к чужому богатству, многих — попечение о собственном; большинство же людей не преследует определенной цели, их бросает из стороны в сторону зыбкое, непостоянное, самому себе опротивевшее легкомыслие; они устремляются то к одному, то к другому, а некоторых и вовсе ничто не привлекает, они ни в чем не видят путеводной цели, и рок настигает их в расслаблении сонной зевоты. Вот уж поистине прав величайший из поэтов, чье изречение мы могли бы принять как оракул: «Ничтожно мала та часть жизни, в которую мы живем»[36]. Ибо все прочее не жизнь, а времяпрепровождение.
3. Со всех сторон обступили и теснят людей пороки, не позволяя выпрямиться, не давая поднять глаза и увидеть истину, уволакивая вниз, на дно, и там накрепко привязывая к страстям. Человек не в силах освободиться и прийти в себя[37]. Даже если случится вдруг в жизни покойная передышка, в человеке не прекращается волнение, как в море после бури еще долго несутся волны, и никогда он не знает отдыха от своих страстей.
4. Думаешь, я говорю об общепризнанных неудачниках? Взгляни на других, чье счастье всем кружит головы: они же задыхаются под тяжестью того, что зовут благами. Сколь многих гнетет богатство! Сколько крови портит многим красноречие и ежедневная обязанность блистать умом! А сколькие теряют здоровье в нескончаемых наслаждениях! Скольким не дают перевести дух неиссякающий поток клиентов! Да перебери ты, наконец, всех их, снизу доверху: этот ищет адвоката, этот бежит ходатайствовать, тот обвиняется, тот защищает, тот судит — никому нет дела до себя, каждый поглощен другим. Спроси о тех, чьи имена у всех на устах: чем таким они примечательны? А вот чем: один — попечитель одних, другой — других, только о себе самом никто не печется.
5. Иные возмущаются, жалуются, что вот, мол, высокопоставленные лица презирают нас, не находят, видите ли, времени нас принять, когда мы желаем их видеть: чистейшее безумие! Да как смеешь ты сетовать на высокомерие другого, если сам для себя никогда не находишь времени? Он-то тебя, какой ты ни есть, все-таки заметит иногда, хоть и с досадой на лице; он тебя все-таки выслушает и домой к себе пустит; ты же сам себя никогда не заметишь, никогда не выслушаешь. А значит, и нечего тебе роптать на кого-то, будто тебе отказали в твоем праве на внимание; ты говоришь, что хотел побыть с другим, но ведь ты сам с собой ни минуты побыть не в силах.
Глава III
1. Всякий светлый разум, всякая голова, хоть раз в жизни озаренная мыслью, не устанет удивляться этому странному помрачению умов человеческих. В самом деле, никто из нас не позволит вторгаться в свои владения и, возникни хоть малейший спор о границах, возьмется за камни и оружие; а в жизнь свою мы позволяем другим вмешиваться беспрепятственно, более того, сами приглашаем будущих хозяев и распорядителей нашей жизни. Нет человека, желающего разделить с другими деньги, а скольким раздает каждый свою жизнь! Мы бдительны, охраняя отцовское наследство, но как дойдет до траты времени — сверх меры расточительны, а ведь это то единственное, в чем скупость достойна уважения.
2. Хочется остановить в толпе какого-нибудь старика и спросить: «Достиг ты, видно, последнего доступного человеку возраста — лет тебе, верно, сто, а то и больше; попробуй-ка припомнить свою жизнь и произвести подсчет. Прикинь, сколько отнял из этого времени кредитор, сколько подружка, сколько патрон, сколько клиент; сколько ушло на ссоры с женой, на наказание слуг, на беготню по делам; добавь сюда болезни, в которых сам повинен, добавь просто так без пользы проведенное время, и ты увидишь, что тебе сейчас гораздо больше лет, чем ты действительно прожил.
3. Вспомни, когда ты исполнял свои собственные решения; посчитай дни, прошедшие так, как ты наметил; вспомни дни, когда ты располагал собой, когда твое лицо хранило свое естественное выражение, когда в душе не было тревоги; прикинь, сколько настоящего дела успел ты сделать за столь долгий век, и увидишь, что большую часть твоей жизни расхитили по кускам чужие люди, а ты и не понимал, что теряешь. Вспомни, сколько отняли у тебя пустые огорчения, глупые радости, алчные стремления, лживо-любезная болтовня и как ничтожно мало осталось тебе твоего, — подсчитай, и ты поймешь, что в свои сто лет умираешь безвременно».
4. В чем же дело? — А в том, что вы живете, как вечные победители, забыв о своей бренности, не отмечая, сколько вашего времени уже истекло; вы бросаетесь им направо и налево, словно его у вас неисчерпаемый запас, а ведь, может быть, тот самый день, который вы так щедро дарите какому-нибудь человеку или делу, — последний. Вы боитесь всего на свете, как смертные, и всего на свете жаждете, как бессмертные.
5. Прислушайся, и едва ли не от каждого ты услышишь такие слова: «В пятьдесят лет уйду на покой, а с шестидесяти освобожусь от всех вообще обязанностей». — А кто, интересно, тебе поручился, что ты до этих лет доживешь? Кто повелит событиям идти именно так, как ты предполагаешь? И к тому же, как тебе не стыдно уделить для себя самого лишь жалкие остатки собственных лет, оставить для доброй и разумной жизни лишь то время, которое уже ни на что другое не годится? Не поздно ли начинать жить тогда, когда пора кончать? Что за глупое забвение собственной смертности — отложить здравое размышление до пятидесяти или шестидесяти лет и собираться начать жизнь с того возраста, до которого мало кто доживает!
Глава IV
1. Присмотрись: люди, вознесенные на вершины власти и могущества, невольно вздыхают порой о желанном досуге и восхваляют его так, что можно подумать, они предпочли бы его всему, что имеют. Нередко они мечтают опуститься с этих своих высот — если бы только они могли быть уверены, что уцелеют при этом; ибо чрезмерное счастье обрушивается под собственной тяжестью, даже без внешнего потрясения или нападения со стороны.
2. Божественный Август, получивший от богов больше, чем кто-либо, не переставал молиться о ниспослании ему покоя и отдыха от государственных забот. Всякую беседу он обыкновенно сводил к тому, как хорошо было бы освободиться наконец от дел. Среди своих трудов он утешался ложной, но сладостной мыслью, как в один прекрасный день отвоюет себя для себя самого.
3. В одном письме[38], посланном сенату, он обещает, что дни его будущего отдыха будут не вовсе лишены достоинства и, может быть, принесут ему славу ненамного меньше прежней; там я прочел такие слова: «Конечно, о таких вещах не следовало бы говорить заранее: чтобы произвести должное впечатление, нужно показывать уже сделанное. Однако я так желаю поскорее достичь этой желанной поры, лучшего времени моей жизни, что раз уж эта радость не торопится ко мне в действительности, я забегаю вперед и вкушаю часть будущего удовольствия в сладостных разговорах о ней».
4. Вот так: досуг представляется ему вещью столь чудесной, что, не имея возможности насладиться им на деле, он находил удовольствие уже в одной мысли о нем. Человек, видевший, что все в мире зависит от него одного, решавший судьбу людей и народов, считал, что счастливейшим днем его жизни будет тот, когда он сбросит облекающую его власть.
Он-то знал, сколько пота выжало из него это счастье, блещущее на весь мир, сколько тайных тревог скрыто за его лучами.
5. Сначала с согражданами[39], потом с коллегами по должности[40], наконец, с родственниками[41] он должен был оружием решать вопрос: «Кто кого?», заливая моря и земли римской кровью. Пройдя войной Македонию, Сицилию, Египет, Сирию, Азию, обойдя кругом все почти Средиземное море, он повернул, наконец, уставшие от междоусобной резни войска против внешних врагов. И пока он усмирял Альпы и укрощал неприятеля, вторгшегося посреди перемирия в сердце империи; пока отодвигал границы за Рейн, Евфрат и Дунай, в самом городе на него точились кинжалы Мурены, Цепиона, Лепида, Эгнация и прочих[42].
6. Не успел он избежать этой напасти, как новая повергает его, уже надломленного годами, в содрогание: на сей раз его собственная дочь и целый рой благородных юношей, которых прелюбодеяние связало крепче любой клятвы; а тут новый страх, повторяющий тот, который уже был однажды: опять женщина в союзе с Антонием[43]. Эти гнойники[44] он отсек вместе с членами; но тут же вспухли новые. Словно в слишком полнокровном теле, где-то постоянно прорывалось кровотечение. И вот он мечтал об отдыхе и досуге; мысли о нем заставляли отступить заботы и горести — это было главное желание человека, имевшего власть исполнять желания.
Глава V
1. Марк Цицерон, которому пришлось разрываться между Катилинами и Клодиями, с одной стороны, Помпеями и Крассами, с другой, между откровенными врагами и сомнительными друзьями; которого швыряло и било в волнах водоворота вместе с идущим ко дну государством, а он все пытался спасти его и в конце концов потонул с ним вместе; которому не довелось ни узнать покоя в счастье, ни терпеливо переждать несчастье, — сколько раз он проклинал свой ненавистный консулат, хотя сам же и восхвалял его — если и не без причины, то во всяком случае без меры.
2. В одном письме к Аттику, отправленном, когда Помпей-отец уже был разбит, но сын вновь собирал в Испании рассеянную армию, он просто рыдает: «Ты спрашиваешь, чем я занят? Торчу в своем Тускулане, полусвободный, полураб». И затем принимается оплакивать всю свою прошедшую жизнь, жаловаться на настоящую, с отчаянием глядя в безнадежное будущее.
3. Цицерон назвал себя «полусвободным». Но, клянусь Геркулесом, мудрец никогда не унизится до того, чтобы его можно было назвать подобным именем! Мудрец не может быть полусвободным: его свобода тверда и всегда остается незыблема; он ничем не связан, сам себе хозяин и не подчиняется никому. Ибо кто может встать над тем, кто возвысился над самой судьбой?
Глава VI
1. Ливий Друз, муж весьма решительный, крутого и горячего нрава, вздумал внести новые, неслыханные прежде законы, чем навлек на страну большую беду в лице двух Гракхов[45]. Окруженный толпами приверженцев со всей Италии, он не предвидел исхода своего дела, пока не очутился в таком положении, когда и продолжать его было нельзя, и бросить однажды начатое уже не в его власти; тут-то он, говорят, проклял свою жизнь, с малолетства не знавшую ни минуты покоя, и высказался в таком роде: дескать, один он среди римлян даже маленьким мальчиком не знал ни выходных, ни праздников. Еще совсем крошкой, одетый в претексту[46], он решался выступать перед судом в защиту обвиняемых и испытывать силу своего влияния на форуме, причем, говорят, настолько действенно, что некоторые приговоры определялись его речами.
2. Да во что же еще могло вылиться такое не по возрасту раннее честолюбие? Уже тогда можно было сказать с уверенностью, что недетская наглость и самоуверенность этого ребенка приведет к великим бедам, и частным и общественным. Так что он поздно начал жаловаться, что в детстве не знал ни отдыха, ни развлечений, озабоченный лишь серьезными делами форума. Некоторые предполагают, что он сам наложил на себя руки, ибо скончался он внезапно от одной единственной раны, нанесенной в низ живота; не все соглашаются признать его смерть добровольной, но никто не отказывается признать ее своевременной.
3. К чему умножать примеры людей, казавшихся всем баловнями счастья, чьи слова правдиво свидетельствуют об их собственном отвращении ко всему, что они сделали за свою жизнь? Их жалобы не изменили ни тех, кто их слышал, ни тех, кто произносил; не успели отзвучать невольно вырвавшиеся признания, как страсти вновь заняли привычное место.
4. Будь ваша жизнь длиной хоть в тысячу лет, все равно она окажется ничтожно мала, клянусь Геркулесом: подобные пороки способны пожрать без остатка сколько угодно столетий. Отведенный нам срок природа сделала скоротечным, но разум его удлиняет; у вас же он просто не может не пролететь мгновенно: вы не стараетесь сохранить его, удержать, замедлить стремительный бег времени — вы позволяете ему проходить, словно у вас его в избытке и вам нетрудно восстановить утраченное.
Глава VII
1. Тут на первое место я поставлю, пожалуй, тех, у кого нет времени ни на что, кроме вина и сладострастия; ибо нет занятий более постыдных. Заблуждения прочих людей, даже тех, кто всю жизнь гоняется за призраком славы, все-таки менее неприглядны. Ты можешь указать мне на корыстолюбцев, на склочников, на тех, кто живет беспричинной ненавистью или несправедливыми войнами, — по-моему, эти пороки как-то более мужественны. Но целиком отдаться чревоугодию и похоти — срам и разложение.
2. Посмотри, на что уходит их жизнь, прикинь, сколько времени они тратят на низкие расчеты, сколько на интриги, сколько отнимает у них страх, сколько угождение тем, кто им нужен, и сколько — угожденье тех, кому они нужны, сколько времени уходит на хождение в суд по своим или чужим делам, сколько на пиршества, которые для них, впрочем, и есть собственно обязанности. Ты увидишь, что весь этот кошмар — или счастье, с какой стороны взглянуть — не дает им перевести духа.
3. Ну и наконец, всем известно, что занятый человек ничему не может выучиться как следует: ни красноречию, ни свободным наукам, поскольку рассеянный дух ничего не усваивает глубоко, как бы выплевывая все, что пытаются насильно впихнуть в него. Самое недоступное для занятого человека — жить, ибо нет науки труднее. Преподавателей всех прочих наук сколько угодно; в некоторых, случается, даже маленькие мальчики настолько преуспевают, что сами могут преподавать. Жить же нужно учиться всю жизнь, и, что покажется тебе, наверное, вовсе странным, всю жизнь нужно учиться умирать.
4. Сколько великих мужей, оставив все, что им мешало, отказавшись от богатства, от обязанностей, от удовольствий, отдавались вплоть до глубокой старости одному занятию — научиться жить: однако большинство из них ушли из жизни, признавая, что так и не научились. Что уж говорить о прочих?
5. Поверь мне, подлинно великий муж, поднявшийся выше человеческих заблуждений, не позволит отнять ни минуты своего времени. Его жизнь — самая долгая, потому что все отпущенное время он был свободен для самого себя. Как самый бережливый хозяин, он не бросил ни кусочка времени валяться праздным и невозделанным; ни малейшей доли не отдал в чужое распоряжение и не нашел вещи столь замечательной, чтобы ее стоило добывать в обмен на собственное время. Поэтому ему его времени хватило. Но его никак не может хватить тем, чью жизнь по кускам растаскивают посторонние люди.
6. Не думай, однако, что сами они не начинают рано или поздно понимать, что потеряли. Прислушайся к счастливцам, отягощенным успехом, и ты услышишь, как часто, окруженные толпами клиентов, посреди судебных разбирательств или какой-нибудь другой почетно-утомительной суеты они восклицают: «Мне не дают жить!» Конечно, не дают.
7. Все, кто зовет тебя в адвокаты, отнимают у тебя жизнь. Сколько дней украл у тебя обвиняемый? Сколько тот кандидат на выборную должность? Сколько та старуха, уставшая хоронить своих наследников? Сколько тот мнимый больной, желавший подразнить алчность всех, кто зарился на его деньги? Сколько отнял твой чересчур высокопоставленный друг, который вас считает не столько друзьями, сколько предметами своего обихода? Проверь свои расходы, говорю я тебе, и подведи итог дням своей жизни: ты увидишь, что у тебя осталось всего несколько — и то лишь те, которые не пригодились другим.
8. Тот, кто страстно желал получить фаски[47] и наконец-то добился должности, мечтает теперь сложить ее и без конца повторяет: «Когда же кончится этот год?» Другой мечтал устроить игры и долго ждал, когда ему выпадет счастливый жребий, а теперь вздыхает: «Когда же, наконец, я от них отделаюсь?» Третий — знаменитый адвокат, всегда нарасхват на форуме; при огромном стечении народа, так что задние не могут даже его слышать, он выигрывает любое дело, за какое берется, и думает: «Когда же, наконец, судебные каникулы?» Каждый несется по жизни сломя голову, снедаемый тоской по будущему, томимый отвращением к настоящему.
9. Напротив, тот, кто каждый миг своего времени употребляет себе на пользу, кто распорядок каждого дня устраивает так, будто это — вся его жизнь, тот без надежды и без страха ожидает завтрашнего дня. В самом деле, какие неизведанные удовольствия может принести ему наступающий час? Все известно, всего он вкусил и теперь сыт. Прочим пусть распорядятся, если угодно, случай и фортуна: жизнь его уже вне опасности. К ней можно еще что-то прибавить, но ничего нельзя отнять: так сытому человеку можно предложить еще кусочек, и он возьмет его, но без жадности.
10. Итак, пусть седина и морщины не заставляют тебя думать, что человек прожил долго: скорее, он не долго прожил, а долго пробыл на земле. Ведь встретив человека, которого буря настигла при отплытии из гавани и разбушевавшиеся ветры долго гоняли по кругу, не вынося из родного залива, ты не станешь считать его бывалым мореходом? Верно, он долго пробыл в море, но не совершая плавание, а болтаясь в волнах игрушкой ветров.
Глава VIII
1. Я не перестаю удивляться, видя, как люди просят уделить им время, а другие без малейшего затруднения соглашаются это сделать. При этом те и другие обращают внимание лишь на предмет, ради которого просят о времени, и ни один не замечает самого времени: как будто один ничего не просил, а другой ничего не отдал. Драгоценнейшая вещь на свете не принимается всерьез: их обманывает то, что она бестелесная. Ее нельзя ни увидеть, ни потрогать, и оттого она ценится дешевле всего, вернее, никак не ценится.
2. Годовое или единовременное жалованье люди принимают весьма охотно, расплачиваясь за него своим трудом, старанием или усердием; время никто не оценивает, его используют так небрежно, будто получают даром. Но взгляни на тех же людей, когда они заболеют, когда над ними нависнет угроза смерти и они станут обнимать колени врачей; взгляни на приговоренных к казни: они готовы отдать все, что имеют, лишь бы жить! Что за непоследовательность в чувствах!
3. Если бы каждый из нас мог сосчитать оставшиеся у него впереди годы с той же точностью, с какой считают прожитые, то с какой трепетной бережливостью стали бы относиться ко времени те из нас, кому его осталось мало! А ведь на самом деле, даже малым остатком, если он точно известен, распорядиться легко; особой бережливости требует то, что может кончиться в любую минуту.
4. Не надо, впрочем, думать, будто людям никогда не приходит в голову, что время — вещь дорогая. Тому, кого любят особенно сильно, обычно говорят, что готовы отдать ради него сколько-то лет своей жизни. И действительно отдают, но сами не понимают этого. Отдают так, что те, ради кого это делается, ничего не получают; отдают, так и не удосужившись выяснить, что это такое и чего они себя лишают. Они разбрасывают свое время на что попало спокойно и без сожалений, ибо не видят своих убытков.
5. Никто не возместит тебе потерянные годы, никто не вернет тебе тебя. Время твоей жизни, однажды начав свой бег, пойдет вперед, не останавливаясь и не возвращаясь вспять. Оно движется беззвучно, ничем не выдавая быстроты своего бега: молча скользит мимо. Его не задержат ни царский указ, ни народное постановление: как оно пустилось в путь с первого мига твоей жизни, так и будет бежать вперед без остановки. Что же получается? Ты занят своими делами, а жизнь убегает; вот-вот явится смерть, и для нее-то уж тебе придется найти свободное время, хочешь ты того или нет.
Глава IX
1. Есть ли на свете кто-нибудь глупее людей, которые хвастаются своей мудрой предусмотрительностью? Они вечно заняты и озабочены сверх меры: как же, за счет своей жизни они устраивают свою жизнь, чтобы она стала лучше. Они строят далеко идущие планы, а ведь откладывать что-то на будущее — худший способ проматывать жизнь: всякий наступающий день отнимается у вас, вы отдаете настоящее в обмен на обещание будущего. Ожидание — главная помеха жизни; оно вечно зависит от завтрашнего дня и губит сегодняшний. Ты пытаешься распоряжаться тем, что еще в руках у фортуны, выпуская то, что было в твоих собственных. Куда ты смотришь? Куда тянешь руки? Грядущее неведомо; живи сейчас!
2. Вот какое спасительное пророчество изрекает величайший из поэтов, словно по внушению божественных уст:
«Что ты стоишь? — говорит он тебе. — Что медлишь? Хватай их, не то убегут». Впрочем, они убегут, даже если ты их схватишь; вот почему со скоротечностью времени нужно бороться быстротой его использования, торопясь почерпнуть из него как можно больше, словно из весеннего потока, стремительно несущегося и так же стремительно иссякающего.
3. А что за великолепное выражение: порицая нашу вечную медлительность, он говорит не о лучшей поре жизни, а о лучшем дне ее. А ты, не обращая внимания на необратимый бег времени, беззаботно и неспешно выстраиваешь перед собой длинную череду месяцев и лет, как будто их число зависит лишь от твоей жадности. Послушай, тебе говорят, что дня — и того не удержать.
4. Ну разве можно усомниться в том, что «первый же лучший их день бежит от несчастливых», то есть вечно занятых, «смертных»? Старость вдруг наваливается всей тяжестью на их еще ребяческие души, а они к ней не подготовлены, они беспомощны и безоружны. Они ничего не предусмотрели заранее и с удивлением обнаруживают, что внезапно состарились: ведь они не замечали ежедневного приближения к концу.
5. Так беседа, чтение или напряженное размышление обманывают путешественника, и он оказывается на месте, не заметив, как приехал. То же самое случается и в нашем постоянном и стремительном путешествии по жизни, которое мы совершаем наяву и во сне с одинаковой скоростью: занятые люди замечают его, лишь когда остановятся у цели.
Глава X
1. Я мог бы, если бы захотел, обосновать свое положение по всем правилам, разделив его на части и доказав каждую: мне приходит в голову множество доводов, подтверждающих, что самая короткая жизнь — у занятых людей. Однако, как говаривал Фабиан[49], для борьбы со страстями нужно напрягать силы, а не подыскивать тонкие аргументы, а он был из настоящих философов, старого закала, не из нынешних говорунов с кафедры. Он говорил, что строй наших страстей может сокрушить только лобовая атака, а не легкие ранения от пущенных издалека словесных стрел. Он не одобряет хитросплетения словес: страсти нужно истреблять, а не щекотать. Но для того чтобы люди увидели и осудили собственные заблуждения, их все-таки нужно учить, а не только оплакивать.
2. Жизнь делится на три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Из них время, в которое мы живем, кратко; которое должны будем прожить — неопределенно; прожитое — верно и надежно. Ибо фортуна уже утратила свои права на него и ничей произвол не может его изменить. Этого времени лишены занятые люди: им некогда оглядываться на прошлое, а если бы и было когда, они не стали бы этого делать; неприятно вспоминать о том, в чем приходится раскаиваться.
3. Итак, им не хочется мысленно возвращаться в дурно прожитые годы; они не решаются взглянуть на свои прежние пороки — ведь в свое время их скрашивала, подобно хитрому своднику, и как бы оправдывала близость желанного наслаждения, а на расстоянии они видятся как есть, без прикрас. Ни один человек не обречет себя добровольно на мучения воспоминаний, за исключением того, кто все свои поступки подвергал собственной цензуре, которая никогда не ошибается.
4. Кто действовал, руководствуясь честолюбивыми устремлениями, высокомерным презрением, необузданной жаждой власти, коварством и обманом, алчным стяжательством или страстью к расточительству, тот не может не бояться собственной памяти. А ведь прошлое — это святая и неприкосновенная часть нашей жизни, неподвластная превратностям человеческого существования, отвоеванная у царства фортуны; его не потревожат больше ни нужда, ни страх, ни внезапные приступы болезни; его нельзя ни нарушить, ни отнять; это наше единственное пожизненное достояние, за которое нужно опасаться. В настоящем у нас всегда лишь один день, и даже не день, а отдельные его моменты; но прошедшие дни — все твои: они явятся по первому приказанию и будут терпеливо стоять на месте, длясь столько времени, сколько тебе будет угодно их рассматривать. Впрочем, занятым людям делать это некогда.
5. Спокойная и беззаботная душа вольна отправиться в любую пору своей жизни и гулять, где ей угодно; души занятых людей, словно волы, впряженные в ярмо, не могут ни повернуть, ни оглянуться. Вот почему жизнь их словно проваливается в пропасть: сколько ни наливай в бочку, если в ней нет дна, толку не будет — ничего в ней не останется; так и им — сколько ни дай времени, пользы не будет, ибо ему не за что зацепиться; сквозь их растрепанные, дырявые души оно проваливается не удерживаясь.
6. Настоящее время — кратчайший миг, до того краткий, что некоторые вовсе не признают за ним существования. Оно всегда течет, движется вперед с головокружительной быстротой; проходит, не успев наступить, и так же не терпит остановки, как мир и его светила, не знающие покоя в своем круговращении и никогда не остающиеся на одном месте. Так вот, для занятых людей существует исключительно только настоящее время, краткое до неуловимости; однако даже и оно отнимается у них, вечно занятых множеством дел одновременно.
Глава XI
1. Как недолго они живут! Не веришь? Посмотри сам: как страстно все они жаждут жить долго! Дряхлые старики любой ценой пытаются вымолить себе еще хоть несколько лет и пускаются на всякие ухищрения, лишь бы выглядеть моложе; более того — им удается и себя обмануть, и они с таким упорством внушают сами себе приятную ложь, словно надеются провести заодно и смерть. А когда болезнь или слабость напомнит им наконец об их смертности, с каким страхом они умирают, словно не уходят из жизни, а кто-то силой вырывает их из нее. Они плачут, причитая, какими же, дескать, были глупцами, что не пожили раньше; клянутся, если только выкарабкаются из этой болезни, посвятить остаток жизни досугу; и впервые тогда им приходит в голову мысль, что все их труды оказались тщетны, что за всю жизнь они лишь накопили ненужное добро, которым так и не успеют попользоваться.
2. Но у тех, чья жизнь протекает вдали от забот, она воистину длинна. Она не отдается в чужое распоряжение, не разбрасывается то на одно, то на другое, не достается фортуне, не пропадает по небрежности, не растранжиривается по неумеренной щедрости, не тратится впустую: вся она, если можно так выразиться, помещена туда, где принесет надежный доход. Поэтому, как бы ни оказалась она коротка, ее хватает вполне: вот отчего мудрец всегда без промедления пойдет навстречу смерти твердым шагом, когда бы ни пришел его последний час.
Глава XII
1. Ты, может быть, спросишь, кого я зову занятыми людьми? Не только тех, кого можно выгнать из базилики[50], лишь натравив на них собак; не только тех, кого ты вечно видишь в давке — будь то на почетном месте в окружении собственной свиты или на менее почетном — среди чужого окружения; не только тех, кого обязанности выгоняют из собственного дома, заставляя стучаться у чужих дверей, или тех, кого преследует преторское копье[51] за бесчестную тайную наживу, ибо такого рода дела рано или поздно всегда выходят наружу, словно прорвавшийся гнойник.
2. Нет, бывают люди, остающиеся занятыми и на досуге: в полном уединении, на своей вилле или на ложе, удалившись от людей и забот, они продолжают быть самим себе в тягость; их досуг правильнее назвать не беззаботной жизнью, а занятым бездельем. Разве можно назвать беззаботным того, кто без конца переставляет коринфские вазы[52], усилиями нескольких сумасшедших слывущие драгоценными, и содрогается от мысли, что может допустить малейшую ошибку в их расстановке? Разве это досуг — рыться целыми днями в кучах позеленевших медных горшков? Или торчать возле ринга болельщиком, не спуская глаз с борющихся мальчиков (вот уж воистину позор на наши головы! у нас и пороки-то уже не римские)[53]. Или распределять своих умащенных благовониями челядинцев по возрастам и мастям? Или покровительствовать самым модным атлетам?
3. А разве можно назвать досугом бесконечные часы, проведенные у парикмахера, когда выщипывается все, что успело отрасти за ночь; когда пускаются в длиннейшие совещания по поводу каждого волоска; когда восстанавливается рассыпавшаяся прическа или, за неимением таковой, оставшиеся еще там и сям волосы старательно начесываются на лоб? До чего страшен бывает их гнев при малейшей небрежности брадобрея, если он вдруг забудется и вообразит, будто стрижет мужчину! Как быстро они добела раскаляются от ярости, если отстрижена лишняя прядь их шевелюры, если не все колечки падают так, как надо, если хоть волос выбился из положенного ему завитка! Да предложи любому из них выбирать между разрушением его государства или его прически, — всякий без колебания предпочтет первое. Есть ли среди них хоть один, кому здоровье собственной головы было бы дороже ее убранства? Найдется ли такой, чтобы предпочел честь наряду? Неужели ты назовешь досугом жизнь этих занятых людей, разрывающихся между гребешком и зеркалом?
4. А бывают еще такие, кто неустанно трудится над сочинением, прослушиванием, разучиванием песен; голос, которому природа повелела выходить из горла прямым и простейшим путем, чтобы звучать лучше всего, они коверкают самыми невероятными, но равно бездарными модуляциями; пальцы их вечно барабанят, выбивая ритм мысленно повторяемой мелодии; и даже когда они поглощены серьезным, а часто и печальным делом, слышно, как они мурлычут про себя какой-нибудь мотивчик. Разве у таких бывает досуг? Нет, это скорее вечно занятая праздность.
5. Но вот уж что поистине никак нельзя назвать свободным временем, так это, клянусь Геркулесом, их пиры! Посмотри, как озабочены их лица, когда они проверяют, в каком порядке разложено на столе серебро; сколько внимания и терпения требует подпоясывание мальчиков-любовников, чтобы туника, не дай бог, не была длиннее, чем надо; какое страшное напряжение, какие муки неизвестности: как-то выйдет у повара дикий кабан? С какой скоростью влетают по данному знаку безбородые прислужники; с каким бесподобным искусством рассекается на куски птица, чтобы порции не вышли чрезмерно велики; с какой заботливостью несчастные маленькие мальчуганы мгновенно подтирают блевотину опившихся гостей, — да ведь все это устраивается лишь ради того, чтобы прослыть изысканным и щедрым; во всех своих жизненных отправлениях они настолько рабы тщеславия, что уже не едят и не пьют иначе, как только напоказ.
6. Не вздумай причислить к беззаботным людям тех, кто не делает и шагу без портшеза или носилок; кто соблюдает часы своих ежедневных прогулок так, словно нарушить их — кощунство; кто только от других узнает, когда ему мыться, когда плавать, когда обедать; чьи изнеженные души настолько ослабели и зачахли, что сами по себе не могут узнать, проголодались они или нет.
7. Рассказывают, будто один из этих неженок (не знаю, впрочем, много ли неги в том, чтобы отучиться от простейших привычек человеческой жизни), когда его вынесли на руках из бани и усадили в кресло, спросил: «Я уже сижу?» Но если он не знает, сидит ли он, то откуда же ему знать, жив ли он, видит ли он что-нибудь и пользуется ли он досугом или обременен заботами? Я даже затрудняюсь сказать, в каком случае я больше ему сочувствую: если он действительно не знал или если сделал вид, что не знает.
8. Они действительно забывают многие вещи, но часто, конечно, и притворяются, будто забыли. Некоторые недостатки нравятся им, так как считаются свидетельством счастливой жизни их обладателя; знать, что делаешь, стало для них, видимо, признаком человека низкого и презренного. Вот и думай после этого, что мимы много выдумывают и преувеличивают, желая высмеять страсть к роскоши. Клянусь Геркулесом, они скорее преуменьшают, не зная многих подробностей. Наш век, одаренный единственным талантом — усовершенствоваться в пороках, — изобрел такое количество новых и невероятных, что мы, наконец, можем даже мимов обвинить в нерасторопности.
9. Так вот, значит, есть уже человек, зашедший в изнеженности так далеко, что, желая выяснить, сидит ли он, вынужден полагаться на слово другого. Разумеется, его не назовешь беззаботным, тут больше подходит другое имя: больной или даже мертвец; беззаботен тот, кто осознает свой досуг и отсутствие забот. Этот полутруп нуждается в указчике даже для того, чтобы понять, в каком положении находится его тело; как же может он быть господином хотя бы ничтожного времени?
Глава XIII
1. Впрочем, перечислять по очереди всех, чья жизнь уходит на игру в камешки или в мяч, или на то, чтобы ежедневно прожаривать свое тело на солнце[54], слишком долго. Никто из тех, кто вечно занят удовлетворением своих желаний, не знает досуга.
Однако есть разряд людей, насчет которых никто обычно не сомневается, что уж они-то и впрямь не заняты никакими деловыми заботами, будучи целиком поглощены изучением бесполезных наук; в последнее время людей такого типа и в Риме развелось множество.
2. Первоначально эта болезнь появилась у греков: они вдруг кинулись исследовать, сколько гребцов было на кораблях Улисса, что было написано раньше: «Илиада» или «Одиссея», и один у них был автор или разные, и прочее в том же роде, из тех вещей, которые ничего не дадут твоей душе и уму, если ты сохранишь их про себя, а если выскажешь их вслух, то тебя станут считать не ученым, а докучливым занудой.
3. Теперь вот и римлян захватила бессмысленная страсть изучать никому не нужные вещи. На этих днях я слушал один доклад о том, кто из римских вождей что сделал впервые. Я узнал, что победу в морском сражении первым одержал Дуилий[55], а Курий Дентат[56] первым провел в триумфальной процессии слонов. Ну ладно, это все хоть и не имеет отношения к подлинной славе, все же вертится вокруг образцовых гражданских деяний; подобное знание не принесет, конечно, никакой пользы, но в нем, по крайней мере, есть нечто привлекательное для нас — по сути своей пустое и мелкое, но блестящее и любопытное.
4. Пожалуй, нет ничего предосудительного и в таких исследованиях, как например, кто первый убедил римлян взойти на корабль (это был Клавдий, именно поэтому получивший прозвище Кавдекс[57]: ведь в старину словом «caudex» называли пригнанные и соединенные друг с другом доски, откуда и произошло название дощечек, на которых записывались общественные постановления — «кодексы»; кроме того, и корабли, доставляющие грузы вверх по Тибру, до сих пор сохраняют старинное название «codicariae» — «кодикарии»).
5. Не лишено, конечно, известного интереса и то, что Валерий Корвин первым взял Мессану и, присвоив себе имя побежденного города, первым в роде Валериев стал называться Мессаной; со временем, оттого, что народ перепутывал буквы, это имя постепенно превратилось в Мессалу[58].
6. Но стоит ли по твоему отдавать свои силы выяснению того, что Луций Сулла первым выпустил в цирке несвязанных львов[59], которых должны были прикончить присланные царем Бокхом[60] стрелки, а до этого львов всегда показывали только на привязи? Нет, конечно, этим тоже вполне можно заниматься. Но дознаваться, что именно Помпей[61] первым устроил в цирке сражение, в котором двадцать два слона выступали против приговоренных преступников, обязанных драться по-настоящему, — что хорошего может дать такое исследование? Первый среди граждан, отличившийся меж великими людьми древности, если верить молве, исключительной добротой, изобрел новый, доселе невиданный способ уничтожения людей, решив, что это будет замечательное зрелище. «Заставить их убивать друг друга? — Мало. Разрывать на куски? — Мало. Сотрем-ка их в порошок ногами животных-великанов!»
7. Это следовало бы предать забвению, дабы не узнал о столь бесчеловечном деле какой-нибудь властительный потомок и, обуреваемый завистью, не вздумал бы перещеголять предка.
О, каким непроницаемым мраком окутывает наши души большое счастье! В те дни, швыряя толпы несчастных обреченных под ноги чужеземным чудищам, устраивая для потехи битву между столь неравными по силе породами живых существ, проливая на глазах римского народа потоки крови, чтобы в недалеком будущем заставить этот народ пролить еще больше своей собственной крови[62], — в те дни Помпей полагал себя вознесенным превыше самой природы вещей. Но вот прошло время — и тот же Помпей, обманутый александрийским вероломством, подставил горло под нож последнего из рабов, впервые, наверное, осознав, что прозвище его было лишь пустой похвальбой[63].
8. Однако я отвлекся; я ведь желал показать тебе, насколько пустопорожними могут быть самые добросовестные научные занятия. Так вот, тот же самый исследователь открыл, что Метелл, справляя триумф после победы над пунийцами на Сицилии, был первым и единственным из римлян, кто провел перед своей колесницей сто двадцать захваченных у неприятеля слонов; что Сулла был последним из римлян, кто перенес померий[64], который в древности принято было отодвигать лишь в случае завоевания италийского поля, а не провинциальных земель. Однако и это, пожалуй, не мешает знать; во всяком случае, это полезнее, чем соображения того же автора, насчет того, почему Авентин остался за чертой города; он указывает две возможные причины: во-первых, то, что на этот холм удалялся плебс[65]; во-вторых, что при ауспициях Рема птицы не велели выбирать это место. Все дальнейшее у него написано в том же роде: бесчисленные побасенки, содержащие либо чистое вранье, либо нечто очень к нему близкое.
9. Впрочем, даже если предположить, что можно верить каждому слову подобных авторов и все ими написанное соответствует действительности, — что из этого? Кого они наставят на истинный путь? Кого избавят от власти страстей? Кого сделают мужественнее, справедливее, щедрее? Наш Фабиан часто говорил, что лучше было бы, наверное, вовсе бросить научные занятия, чем заниматься такой ерундой.
Глава XIV
1. Только те из людей, у кого находится время для мудрости, имеют досуг; только они одни и живут. Они сохраняют нерастраченными не только собственные годы: к отведенному им времени они прибавляют и все остальное, делая своим достоянием все годы, истекшие до них. Если мы не совсем еще утратили способность принимать благодеяния, то именно для нас были рождены прославленные создатели священных учений, именно нас они подготовили к жизни. Нас ведут к ослепительным сокровищам, которые вырыла чужая рука и вынесла из тьмы на свет. Нет столетия, куда нам воспрещалось бы входить, повсюду путь для нас свободен, и стоит нам захотеть разорвать силою нашего духа тесные рамки человеческой слабости, как в нашем распоряжении окажутся огромные пространства времени для прогулок.
2. Мы можем спорить с Сократом, сомневаться с Карнеадом, наслаждаться покоем с Эпикуром, побеждать человеческую природу со стоиками или выходить за ее пределы с киниками[66]. Раз природа вещей позволяет вступать в общение с любым веком, то почему бы нам не обратиться всей душой от этого ничтожного, мимолетного, переходного обрывка времени, который зовется настоящим, к неизмеримой вечности, где мы к тому же вместе с лучшими из людей?
3. Вон люди, которые вечно бегут по делам, не давая покоя ни себе, ни другим, — предположим, что они дадут полную волю своему безумию и станут ежедневно обивать пороги всех римских домов, не пропуская ни единой отпертой двери, разнося свое оплачиваемое утреннее приветствие решительно по всем концам города, — как ты думаешь, большую ли часть этого чудовищно многолюдного, раздираемого самыми разными вожделениями города удастся им повидать?
4. От скольких дверей прогонит их сонливость, высокомерная роскошь или невежливость хозяев! Сколько раз, часами помучив в передней, их даже не пригласят сесть, ссылаясь на спешные дела! В скольких домах хозяин, не отваживаясь выйти в битком набитый клиентами атрий, потихоньку выскользнет через черный ход, как будто обмануть — учтивее, чем не пустить на порог! А как много встретится этим несчастным, вечно недосыпающим, лишь бы успеть к пробуждению других, людей полусонных, с тяжелой от вчерашнего похмелья головой, которые ответят на имя, сотню раз названное им почтительнейшим шепотом, лишь самым наглым зевком!
5. Я же думаю — если вы позволите мне сказать то, что я думаю, — что подлинным делом заняты лишь те, кто ежедневно стремится сделаться насколько возможно своим человеком у Зенона, Пифагора, Демокрита и прочих выдающихся мастеров истинно добрых искусств, кто желает стать приближенным Аристотеля и Теофраста. Никто из них не укажет вам на дверь за неимением времени; всякий пришедший к ним уйдет осчастливленный, воспылав к ним еще большей любовью; ни один гость не оставит их с пустыми руками; во всякое время дня и ночи их двери открыты для любого смертного.
Глава XV
1. Ни один из них не станет принуждать тебя к смерти, но каждый научит умирать. Ни один из них не украдет у тебя твои годы, но каждый охотно прибавит тебе своих. Среди них нет ни одного, с кем откровенная беседа была бы опасна, дружба — могла бы стоить головы, кто требовал бы разорительных знаков внимания. Ты вынесешь из них все, что захочешь. Если ты почерпнешь у них меньше, чем мог бы вместить, в этом будет не их вина.
2. Какое счастье, какая прекрасная старость ожидает того, кто отдаст себя под их покровительство! У него будет с кем порассуждать и о мелочах, и о самом главном; будет с кем посоветоваться каждый день о своих делах; будет от кого услышать правду без упрека и похвалу без лести; будет кому подражать.
3. Мы часто говорим о том, что выбирать родителей не в нашей власти, что жребий нашего рождения случаен. На самом же деле мы вольны по собственному усмотрению решать, где нам родиться. Есть семьи благороднейших умов и дарований; выбирай, какой семьи ты желаешь стать членом. Благодаря усыновлению, ты приобретешь не только имя; ты станешь наследником всего семейного достояния, а это такое богатство, которое тебе не придется сторожить, превратясь в жестокого скупца: его становится тем больше, чем больше людей, среди которых его разделят.
4. Твои новые родственники укажут тебе дорогу к вечности и помогут подняться на ту вершину, с которой никто никуда не падает. Это — единственный способ продлить наш смертный век, более того — обратить его в бессмертие. Почести, памятники, государственные постановления, которых добилось честолюбие, постройки, которые оно возвело, — все это быстро рушится; ничто не в силах противостоять старости, все сотрясающей и обращающей в развалины. Но то, что освящено мудростью, для старости неуязвимо; сколько бы ни прошло веков, оно не тускнеет, не уменьшается, напротив, с каждым столетием растет его слава, ибо близкое — всегда предмет зависти, а отдаленным проще восхищаться.
Итак, жизнь мудреца длится долго. Он не заключен в пределах того же земного срока, что прочие смертные: он не связан законами рода человеческого; все века служат ему, как богу. Проходит какое-то время: он сохраняет его в своем воспоминании; какое-то настает: он его использует; какое-то должно настать: он заранее предвосхищает его. И вот это соединение всех времен в одно и делает его жизнь долгой.
Глава XVI
1. Самая короткая и беспокойная жизнь бывает у людей, которые не помнят прошлого, пренебрегают настоящим, боятся будущего. Когда наступает конец, несчастные слишком поздно сознают, что всю жизнь были заняты, но ровно ничего не делали.
2. Не думай, пожалуйста, что если они иногда сами призывают смерть, это доказывает, что они прожили долгую жизнь: ничего подобного. Просто по неразумию они часто сами не знают, чего хотят, и устремляются как раз к тому, чего боятся; так нередко и смерть они призывают именно оттого, что страшатся ее больше всего на свете.
3. Не вздумай также считать признаком долгожительства и то, что многим из них день зачастую кажется непомерно длинным и они жалуются, что никак не дождутся обеденного часа. Дело в том, что как только они перестают быть вечно заняты и оказываются на покое, они не могут найти себе места, не зная, как распорядиться своим досугом, как выдержать его. И вот они начинают искать себе каких-нибудь занятий, а всякий перерыв между ними им в тягость, так что они, клянусь Геркулесом, мечтали бы просто перепрыгнуть через несколько дней, если, например, объявлен день гладиаторских игр или назначен срок другого долгожданного зрелища либо удовольствия.
4. Время, отделяющее их от исполнения желаний, кажется им непомерно долгим, зато сладостное для них время пролетает с головокружительной быстротой, укорачиваясь еще и по их собственной вине: не в силах остаться верными собственной страсти, они вечно перескакивают от одного вожделения к другому. День для них не столько долог, сколько ненавистен; зато как коротки кажутся им ночи, проведенные в объятиях шлюхи или за вином!
5. Вот откуда взялась кощунственная и безумная выдумка поэтов, будто Юпитер, вконец разомлевший от любовных наслаждений, удлинил ночь вдвое: пища поэтических мифов — человеческие заблуждения. Видимо, единственная цель, которую они преследуют, — посильнее раздуть пожар наших пороков, ибо к чему еще это может привести? Богам приписывается изобретение всех наших мерзостей, и любая человеческая испорченность, осененная божественным авторитетом, получает извинение и оправдание.
А людям — как могут не показаться слишком короткими ночи, покупаемые столь дорогой ценой? Ожидание ночи убивает их день, страх рассвета губит их ночь.
Глава XVII
1. Даже наслаждения их исполнены тревоги и разнообразных страхов; момент наивысшего восторга им отравляет беспокойная мысль: «Долго ли это продлится?» Именно такое чувство заставляло царей оплакивать свое могущество: их уже не радовало дарованное судьбой счастье, зато несказанно страшил грядущий конец.
2. Один персидский царь непомерной гордыни[67] велел выстроить в степи свое войско, но не в силах сосчитать солдат, измерил лишь его длину и заплакал, что, дескать, не пройдет и ста лет, как из тысячи этих отборных юношей не останется ни одного. Но ведь сам он, обливавшийся слезами, вел их навстречу року; сам он, так тревожившийся о том, что будет с ними через сто лет, погубил их всех в течение немногих месяцев — кого в море, кого на суше, кого в битве, кого в бегстве.
3. Да разве не все их радости смешаны со страхом и тревогой? Ведь они порождены не основательными причинами, а ничтожной суетностью, которая затем их же и отравляет. Но если даже в те моменты, когда восторг, по их словам, поднимает их на неземные высоты, они не могут испытать чистой радости без примеси страха, то подумай, каковы должны быть времена, которые они сами называют несчастными?
4. Чем больше благо, тем больше связанное с ним беспокойство; чем полнее счастье, тем меньше можно на него полагаться. Чтобы удержать доставшуюся, нужна другая удача; если исполнилось то, ради чего ты приносил жертву, нужно скорее нести жертву за это исполнение — и так без конца. Все, что досталось благодаря везению, непрочно; чем выше поднимет случай, тем легче упасть. Но кого же будет радовать то, что в любой момент может упасть? Это значит, что не только самой короткой, но и самой несчастной жизнью живут люди, с превеликими трудами добывающие себе блага, обладание которыми потребует от них еще больших трудов.
5. Прилагаются все усилия, чтобы достичь желаемого, а сколько потом тревог, чтобы удержать достигнутое! Между тем безвозвратно уходящее время совсем не принимается в расчет: еще не закончены старые дела, как уже появились новые; один честолюбивый план порождает другие, надежда ведет за собой надежду. Но мы и не пытаемся положить конец нашим несчастьям, мы лишь наполняем их новым содержанием. Мы замучились, добиваясь почетных должностей для себя — теперь тратим еще больше времени, добиваясь для других. Не успели мы отделаться от тягостной роли кандидата — начинаем собирать голоса для кого-нибудь. Не успеем вздохнуть с облегчением, сложив обязанности обвинителя, — ан судейские полномочия уже тут как тут. А кто перестанет быть судьей — глядишь, уже назначен следователем или председателем суда. Вот человек состарился, управляя за жалованье чужими имениями, — теперь заботы о собственном, накопленном за все эти годы богатстве, и нет ему покоя.
6. Не успел Марий[68] снять солдатских сапог — а уже консульство требует себе всех его сил и внимания. Квинций[69] торопится сложить с себя диктатуру — его уже зовут скорее возвращаться к плугу. А вот Сципион[70]: юношей, еще не доросшим до таких дел, он пойдет на пунийцев; победитель Ганнибала, победитель Антиоха, украшение собственного консульства, поручитель братнего, он был бы вознесен на трон рядом с Юпитером, если бы сам не умерял народные восторги; но гражданские раздоры не дадут покоя спасителю, и вместо почестей, не уступающих божественным и презрительно отвергнутых юношей, старику достанется лишь одна радость — гордиться своим упрямым изгнанничеством. Никогда не будет недостатка в причинах для беспокойства — будь то страх за нынешнее счастье или перед грозящим несчастием; одна забота так и будет толкать жизнь к другой; вечно желанный досуг не наступит никогда.
Глава XVIII
1. Так вырвись же наконец из людского водоворота, дражайший Паулин, возвратись в тихую гавань: тебя и так носило по волнам дольше, чем это подобало бы твоему возрасту. Вспомни, сколько раз тебя застигала в море непогода; сколько домашних гроз пришлось тебе выдержать, сколько общественных бурь ты сам вызвал на себя. Поверь мне, в многочисленных трудах, заботах и тревогах ты вполне доказал уже свою добродетель; пора испытать, чего она стоит на досуге. Пусть большая и лучшая часть жизни отдана государству — но хоть какую-то часть принадлежащего тебе времени возьми себе.
2. Я не призываю тебя к ленивому и бездеятельному отдыху, не хочу, чтобы ты погрузился в дремоту или утопил свои живые дарования в любезных толпе наслаждениях: не это я называю покоем. Нет, тебя ждут великие дела, больше всех, за какие ты брался до сих пор с присущей тебе бодростью и рвением; и ты займешься ими вдали от тревог и людской суеты.
3. Ты поверяешь денежные счета со всего земного шара бескорыстно, словно чужие, тщательно, словно свои, видя в них священную обязанность, словно они общественные. Ты снискал себе любовь, занимая такую должность, на которой редко кому удается избежать ненависти. И все же, поверь мне, лучше подвести итог собственной жизни, чем заготовок государственного хлеба.
4. Твой дух полон жизни и бодрости, он способен еще к величайшим свершениям — так освободи же его от службы: она почетна, нет сомненья, но мало годится для блаженной жизни. Подумай: для того ли ты посвящал с малых лет все свое рвение изучению свободных наук, чтобы теперь заботиться о сохранности многих тысяч пудов пшеницы? Нет, от тебя ожидали большего и высшего.
В распорядительных хозяйственниках и усердных тружениках недостатка и без тебя не будет. Медлительные тяжеловозы гораздо больше подходят для перевозки грузов, чем кровные жеребцы; кто станет навьючивать тяжести на породистых скакунов?
5. И вот еще о чем подумай: сколько беспокойства и тревоги добавляется и без того к тяжкому бремени, которое ты на себя взвалил! Ведь тебе приходится иметь дело непосредственно с желудком человеческим; а голодный народ не слушает доводов, не оправдывает невинного, не смягчается мольбами о милости.
Совсем недавно, в те дни когда погиб Гай Цезарь, государственные закрома опустели настолько, что хлеба оставалось на каких-нибудь семь-восемь дней! (Если покойники могут что-нибудь чувствовать, как он, наверное, мучится, бедняжка, что римский народ-таки его пережил!) Пока он сооружал мосты из грузовых кораблей, превратив мощь империи в игрушки, вплотную приблизилось бедствие, самое страшное даже для осажденных неприятелем — недостаток продовольствия. Подражание безумному чужеземному царю, которого сгубила гордыня, едва не стоило нам голода и гибели, ибо за голодом неизбежно последовало бы крушение всего и вся[71].
6. Как же должны были чувствовать себя в те дни люди, которым была поручена забота о государственных запасах хлеба? Ведь им угрожали камни, мечи, огонь и сам Гай? Призвав на помощь все свое притворство, они скрывали чудовищный недуг, уже поразивший внутренности государства, и в этом был резон: некоторые болезни следует лечить, не рассказывая о них больному. Многие умерли от того, что узнали, чем больны.
Глава XIX
1. Скорее бросай это и уходи к делам спокойным, безопасным, великим! Неужели тебе безразлично, будешь ли ты по-прежнему заботиться о том, чтобы зерно доставлялось на склады без потерь, неразворованное мошенниками, нерастерянное лентяями, чтобы не подмокло, не испортилось, не сопрело, чтобы точно сходился его вес и объем, — или же приступишь к изучению священных, высших предметов и узнаешь, какова материя бога, его воля, его состояние, его форма; какая судьба ожидает твою душу; куда денет нас природа, когда освободит от тела; какая сила удерживает самые тяжелые части этого мира в середине, легкие подвешивает над ними, а сверх всего возносит огонь и заставляет светила двигаться каждое своим путем; и другое многое, исполненное невообразимых чудес?
2. Разве тебе не хочется оставить землю и устремить свой духовный взор туда, ввысь? Именно теперь, пока не остыла кровь, не иссякли силы, надо отправляться на поиски лучшего! Я предлагаю тебе такой род жизни, где тебя ожидают многочисленные благородные искусства, любовь к добродетели и практическое ее применение, забвение вожделений, познание жизни и смерти, глубокий покой.
Глава XX
1. Участь всех занятых людей достойна жалости, но самая жалкая доля досталась тем, кто занят даже не своими делами, кто засыпает, приноровляясь к чужому сну, гуляет, подлаживаясь под чужой шаг, кто даже любит и ненавидит по указке, хотя уж в этом-то, казалось бы, все свободны. Если бы они пожелали узнать, насколько коротка их жизнь, им достаточно было бы прикинуть, какая ее часть принадлежит им.
2. Поэтому не завидуй, когда видишь не в первый раз надетую претексту[72], когда слышишь имя, знаменитое на форуме: эти вещи добываются ценой собственной жизни. Люди готовы убить все свои годы на то, чтобы один-единственный назывался их именем[73]. Иные не успевают добраться до вершин, к которым зовет их честолюбие: жизнь покидает их, когда они только начали в жестокой борьбе пробиваться наверх. Иные, продравшись сквозь тысячи бесчестных подлостей, все же вырываются к вершинам чести и славы, и тут только их осеняет горестная мысль, что все тяготы перенесены ими лишь ради надгробной надписи. Иные на склоне лет расцвечивают свое будущее лучезарными надеждами, путая старость с юностью, и дряхлые силы изменяют им в разгаре новых бесстыдно грандиозных предприятий.
3. Мерзок старик, испускающий дух посреди судебного заседания, разбирая тяжбу ничтожнейших склочников, жадно ловя одобрение ничего не смыслящих зрителей! Позор тому, кто умирает при исполнении служебных обязанностей, устав от жизни прежде, чем от работы! Позор тому, кто отправляется на тот свет, сидя за счетными книгами, на посмешище истомленному ожиданием наследнику!
4. Не могу не привести еще один пример, только что пришедший мне в голову. Гай Туранний[74] был старец редкой аккуратности, но когда ему перевалило за девяносто, Гай Цезарь освободил его от прокураторской должности без просьбы о том с его стороны. Тогда Туранний велел уложить себя на смертное ложе и оплакивать всем домом как покойника. И все домочадцы, собравшись вокруг, рыдали о том, что их престарелый хозяин получил, наконец, возможность отдохнуть, и траур не закончился до тех пор, пока старика не восстановили на работе. Неужели настолько приятно умереть занятым?
5. Впрочем, так устроено большинство людей: они жаждут работать дольше, чем могут. Они изо всех сил борются с телесной слабостью, и сама старость лишь оттого им в тягость, что не позволяет работать. Закон не призывает в армию после пятидесяти; не назначает в сенат после шестидесяти; добиться для себя досуга людям легче от закона, чем от самих себя.
6. Но пока они хватают, что можно, и становятся чужой добычей сами, пока не дают друг другу покоя, пока делают друг друга несчастными, — тем временем жизнь проходит, бесплодная, безрадостная, бесполезная для души. Никто не думает о смерти, всякий заходит в своих надеждах далеко вперед, а некоторые стараются забежать в своих планах вовсе по ту сторону жизни, заботясь об огромных надгробиях, о посвящении общественных зданий, о дарах, которые будут положены в погребальный костер, и о пышной всем на зависть похоронной процессии. А ведь прожили они, клянусь Геркулесом, так ничтожно мало, что следовало бы хоронить их при свечах и факелах[75].
О СТОЙКОСТИ МУДРЕЦА,
или О том, что мудреца нельзя ни обидеть, ни оскорбить.
К Серену
1. (1) Я утверждаю, Серен[76], и не без основания, что между стоиками и всеми прочими, кто сделал мудрость своей специальностью[77], существует такое же различие, как между мужчинами и женщинами. В самом деле, и те и другие одинаково участвуют в человеческой жизни, но первые рождены повелевать, а вторые — повиноваться. Все прочие мудрецы обращаются к людям примерно так же, как домашние врачи-рабы к больным господам: слова их мягки и льстивы, и лечат они не тем средством, которое действует лучше и быстрее, а тем, на какое согласится больной. Стоики берутся за дело по-мужски и не заботятся о том, чтобы указываемый ими путь казался привлекательным для новичков: они ищут путь самый короткий, который сразу заставит нас карабкаться вверх к высочайшей вершине, недосягаемой для любых стрел, ибо она возвышается даже и над судьбой.
—(2) Но дорога, на которую нас зовут, чересчур крута и обрывиста.
—А вы думали, что дорога к вершине пологая? Впрочем, она далеко не так крута, как некоторые думают. Она только вначале выглядит непроходимым нагромождением валунов и скал, но так бывает чаще всего: глядя издали, видишь отвесную стену обрыва, ибо зрение наше обманывается большим расстоянием; а по мере того как подходишь ближе, картина, которую глаза принимали сначала за сплошную стену, открывается в подробностях, и то, что на расстоянии представало обрывом, оказывается пологим склоном.
(3) Помнишь, недавно, когда зашла речь о Марке Катоне, ты, не переносящий никакой несправедливости, возмущался, что Катона совсем почти не поняли его современники; что того, кто вознесся выше Помпеев и Цезарей, они ставили ниже Ватиниев. Тебе казалось позором, что с него сорвали тогу на форуме, когда он убеждал народ не принимать закона[78]; что мятежная толпа тащила его от Ростр до самой Фабиевой арки, и ему пришлось всю дорогу выносить ругательства, плевки и множество других оскорблений со стороны обезумевшей черни.
2. (1) Я отвечал тебе тогда, что волнение твое оправдано, если ты переживаешь за государство, которое продавали с молотка с одной стороны Публий Клодий, с другой — Ватиний[79], да и вообще любой подлец, кому не лень; увлеченные и ослепленные вожделениями, они не понимали, что, продавая его, будут проданы с ним вместе.
Но за Катона я велел тебе не беспокоиться, ибо мудрецу нельзя нанести ни обиды, ни оскорбления, а в Катоне бессмертные боги дали нам такой образец мудрого мужа, до которого далеко и Улиссу и Геркулесу[80] предшествовавших столетий. Наши стоики провозгласили их мудрецами за то, что они были неутомимы в преодолении трудностей, презирали наслаждения и победили всех чудовищ. (2) Катон не ходил с голыми руками на диких зверей: преследовать их — дело охотников и грубых дикарей; он не уничтожал огнем и мечом чудовищ и не застал те времена, когда можно было верить, будто небо держится на плечах одного человека[81]. Живя в тот век, когда старинная доверчивость была давно отброшена и человеческое хитроумие достигло вершины всякого искусства, он сражался с многоглавым злом честолюбия, с непомерной жаждой власти, которой не мог насытить даже весь земной шар, поделенный на троих[82]; он один выступил против пороков вырождающегося общества, обваливающегося под собственной тяжестью; он стоял, держа на своих плечах рушащееся государство, насколько мог удержать его один человек, до тех пор, пока не рухнул вместе с бременем, которому так долго не давал упасть. Они перестали существовать одновременно, ибо разделить их было бы невозможно, да и кощунственно: ни Катон не пережил свободы, ни свобода — Катона. (3) И ты думаешь, что такого человека народ мог обидеть, лишив его претуры[83] или сорвав с него тогу? Что плевками своих грязных ртов они могли осквернить эту священную голову? Мудрец вне опасности: ни обида, ни оскорбление не могут задеть его.
3. (1) Сейчас я так и вижу перед собой твою пылкую, кипящую негодованием душу; ты готов уже выпалить мне в ответ:
«Вот это-то как раз и лишает убедительности все ваши поучения. Вы обещаете много такого, во что не только поверить нельзя, но чего и пожелать невозможно. Вы длинно и высокопарно рассуждаете о том, что мудрец не бывает беден, однако не отрицаете, что у него часто нет ни раба, ни крыши над головой, ни пищи. Вы говорите, что мудрец всегда сохраняет здравый рассудок, однако не отрицаете, что он нередко ведет себя как помешанный, произносит безумные речи и отваживается на явно сумасшедшие поступки. Вы говорите, что мудрец не бывает рабом, однако не отрицаете, что он может быть продан, исполнять приказания и оказывать своему господину рабские услуги. Таким образом, вы только высоко задираете нос, но в суждениях своих не поднимаетесь выше общепринятого мнения, а лишь меняете названия вещей. (2) Я подозреваю, что нечто подобное кроется и за этим вашим, на первый взгляд таким красивым и величественным утверждением, что будто бы мудреца невозможно ни обидеть, ни оскорбить. Ты считаешь, что мудреца нельзя обидеть или что он не может обидеться? — тут очень большая разница. Если ты утверждаешь, что он спокойно снесет любую обиду, то в чем же его преимущество? Это дело самое обыкновенное, привычка научит ему любого, кого будут часто обижать, и называется оно — терпение. Если же ты утверждаешь, что его нельзя обидеть в том смысле, что никто не осмелится даже пробовать обижать его, тогда я сию минуту бросаю все свои дела и становлюсь стоиком».
—(3) Что до меня, то я, право же, вовсе не собирался украшать мудреца словесными венками воображаемых достоинств; я действительно полагаю его недосягаемым ни для каких обид. Ты спросишь: «Неужели в самом деле никто не будет нападать на него, никто даже не попытается обидеть?»
В природе вещей нет ничего настолько святого, на что не нашелся бы свой святотатец. Но горние высоты божества не оказываются ниже оттого, что существуют люди, пытающиеся нападать на высоко вознесенное над ними величие, до которого дотянуться они не в силах. Неуязвим не тот, кто не получает ударов, а тот, кому они не причиняют вреда. Через это уподобление я постараюсь объяснить тебе мудреца.
(4) Разве не очевидно, что несломленная сила — не та, на которую никто не нападал, а та, которую никто не победил? Неиспытанная мощь сомнительна, но та, что отразила все удары, по праву может считаться несокрушимой. Так и с природой мудреца: ты вправе признать ее лучше нашей, если обиды не причиняют ей вреда, а не в том случае, если ее никто не обижает. Ведь храбрым мужем я назову того, кого не сломили войны, кого не пугают подступающие вражеские полчища, а не того, кто жиреет на покое среди ленивых мирных народов.
(5) Поэтому я говорю так: мудрец неподвластен обидам; неважно, сколько в него выпустят стрел, важно, что он неуязвим для них. Есть камни настолько твердые, что их не берет железо: так, адамант[84] нельзя ни рассечь, ни разрезать, ни распилить; без единой царапины отражает он всякую попытку нападения. Есть вещи, которые не берет огонь: посреди пламени они сохраняют обычный свой вид и не теряют твердости. Есть скалы, выступающие далеко в море, которое на протяжении многих столетий налетает на них со всей свирепостью, пытаясь разбить, однако на них не остается ни следа от бесчисленных ударов. Дух мудреца по твердости и силе не уступает всем этим вещам: он так же неуязвим для обид, как адамант для ударов.
4. (1) «Но разве ты не обещаешь, что обидеть мудреца никто и пытаться не станет, раз это невозможно?»
—Пытаться станет, но не достигнет своей цели. От низменных людей его отделяет такое большое расстояние, что никакая вредоносная сила просто не в состоянии до него добраться. Даже если самые могущественные люди, облеченные властью и окруженные толпой раболепных приверженцев, вознамерятся навредить ему, любой их удар теряет силу раньше, чем прикоснется к мудрости. Так снаряды, пущенные вверх из лука или метательной машины, взлетают высоко, порой даже скрываясь из глаз, но все-таки никогда не долетают до неба. (2) Может быть, ты думаешь, что когда глупый царь тучей стрел погасил дневной свет, хоть одна стрела попала в солнце?[85] Или что когда он приказал сечь цепями море, ему удалось выпороть Нептуна?[86] Небесное не дается человеческим рукам; святотатцы, грабящие храмы и переплавляющие священные изображения, никакого вреда богам не причиняют. Точно так же и с мудрецом: наглость, грубая брань, высокомерие — это расточается на него напрасно.
—(3) Но все-таки было бы лучше, если бы никто и не хотел его обидеть.
—Чтобы исполнилось твое желание, человеческий род должен быть невинен, а это труднодостижимо. Кроме того, ненанесение обид — в интересах тех, кто склонен их наносить, а не того, кто все равно не воспримет их, даже если они будут нанесены. Более того, я, пожалуй, думаю, что спокойствие среди постоянных нападок лучше всего обнаруживает силу мудрости; как мощь полководца и отсутствие недостатка в людях и оружии лучше всего доказывается его спокойной уверенностью на вражеской земле.
5. (1) Если хочешь, Серен, давай отделим обиду от оскорбления[87]. Обида тяжелее; оскорбление легче и тяжело переносится лишь самыми щепетильными людьми: ибо оно не причиняет вреда, а только сердит. Бывают, однако, души настолько распущенные и суетные, что оскорбление полагают горше обиды. Ты можешь встретить раба, который предпочитает плети пощечине и согласен умереть под палками, лишь бы не слышать оскорбительных слов. (2) Мы дошли в нашей нелепости до того, что мысль о боли мучит нас не меньше самой боли, словно мы маленькие дети, пугающиеся темноты, гримас и уродливых масок; чтобы заставить их плакать, достаточно произнести неприятное слово или погрозить пальцем; обуреваемые собственными заблуждениями, они опрометью кидаются прочь от вещей самых ничтожных.
(3) Обида имеет целью причинить кому-либо зло. Однако мудрость не оставляет места злу. Единственное зло для нее — бесчестье, а оно не может войти туда, где уже поселились добродетель и честь. Следовательно, если без зла не бывает обиды; если зло — только в бесчестье; и если бесчестье не может коснуться того, кто исполнен честных достоинств, то обида не может коснуться мудреца. В самом деле, если обида есть принуждение стерпеть некое зло, а мудрец не терпит никакого зла, то обида мудреца не касается.
(4) Всякая обида отнимает нечто у того, кому наносится. Она либо умаляет наше достоинство, либо наносит ущерб телу, либо отнимает что-то из внешних по отношению к нам вещей. Но мудрецу нечего терять: все его достояние в нем самом, фортуне он не доверил ничего; все его добро помещено в самое надежное место, ибо он довольствуется своей добродетелью, которой не нужны дары случая и которая поэтому не может ни убавиться, ни прибавиться. Он совершенен, и потому ему некуда дальше расти; а отнять у него фортуна не может ничего, кроме того, что сама дала. Но добродетель дает не она, а потому и отнять ее не в силах.
Добродетель свободна, неуязвима, неподвижна, безмятежна; любой случайности она противостоит настолько твердо, что не только одолеть, но и поколебать ее невозможно. Не опуская глаз, она смотрит на орудия пытки и не меняется в лице, являются ли ей вещи страшные или приятные. (5) Итак, мудрец не может потерять того, потеря чего была бы для него чувствительна. Единственное его достояние — добродетель, которую нельзя отнять; все остальное дано ему во временное пользование; кого может тронуть потеря чужого имущества? А раз обида не может причинить вред чему-либо, что составляет собственность мудреца, ибо сохраняя добродетель, он сохраняет все свое при себе, значит, обиды у мудреца не бывает.
(6) Деметрий по прозвищу Полиоркет[88] взял Мегару. Когда он спросил философа Стильбона, велики ли его потери, тот ответил: «Я ничего не потерял. Все мое со мной». А ведь все его имение стало добычей солдат, дочерей его захватил неприятель, родина подчинилась чужой власти, и самого его допрашивал царь, сидящий на возвышении в окружении победоносного войска. (7) Но он вырвал победу из царских рук и, стоя посреди захваченного города, доказал, что он не только не побежден, но и не понес никакого убытка. Истинные блага, на которые нельзя наложить руку, были при нем, а то, что было разгромлено и разграблено, он считал не своим, а посторонним, случайным, приходящим и уходящим по знаку фортуны. Он ценил все это, но не как свою собственность, зная, что всякое достояние, притекающее извне, скользко и ненадежно.
6. (1) А теперь подумай, какую обиду мог бы нанести подобному мужу вор или клеветник, злобный сосед или какой-нибудь богач, ищущий, над кем бы проявить власть на склоне бездетной старости, если ни война, ни неприятель, ни самый выдающийся мастер разрушения городов ничего не смогли у него отнять. (2) Среди блеска обнаженных мечей, в сутолоке занятых грабежом солдат, в море огня и крови, посреди сраженного и гибнущего города, между храмами, рушащимися на своих богов, один человек сохранял спокойствие.
Итак, у тебя нет причин считать мое обещание бесстыдным преувеличением; но если ты все еще не веришь, вот тебе мой поручитель. Тебе, наверное, не верится, что одному человеку может достаться столько твердости, столько величия духа; но вот выходит вперед Стильбон и говорит:
(3) «Не стоит сомневаться в том, что рожденный человеком может подняться выше человеческого; может без тревоги взирать на угрожающие ему муки, беды, язвы, раны, на горестное крушение всего, что его окружало; может равно спокойно переносить и жестокие удары и небывалые удачи, не отступая перед первыми и не обольщаясь вторыми; в самых разных обстоятельствах может оставаться одинаковым и равным себе и ничего не считать своим кроме себя, да и то только в лучшей своей части.
(4) Вот я стою перед вами, дабы доказать вам, что это возможно. Под натиском этого сокрушителя стольких государств от ударов тарана расползаются укрепления; высокие башни, незаметно подкопанные рвами и туннелями, внезапно оседают; стремительно растут насыпи, достигая высоты самих крепостей, — но нет таких машин, которыми можно было бы потрясти дух, укрепившийся на добром основании. (5) Я едва успел выбраться из-под развалин своего дома и, освещаемый со всех сторон пожарами, бежал от огня по крови; я не знаю, какая участь постигла дочерей — может быть, худшая той, что досталась городу; одинокий старик, окруженный отовсюду врагами, я заявляю, что все мое имущество в целости и сохранности. Я сохранил все, что было у меня моего. (6) Ты не вправе считать меня побежденным, а себя победителем. Твоя фортуна победила мою, только и всего. Я не знаю, где те бренные, меняющие хозяев вещи; что касается моих, то они при мне и при мне останутся. (7) Богачи потеряли свое имение, унаследованное от отцов; сладострастники — своих возлюбленных шлюх, на которых они истратили весь имевшийся у них стыд; честолюбцы потеряли курию, форум и прочие места, предназначенные для публичного совершенствования в пороках; ростовщики лишились табличек[89], с помощью которых скупая алчность наслаждалась призраком воображаемых богатств. Что до меня, то все мое цело и нетронуто. Впрочем, расспроси лучше тех, кто плачет и причитает, кто подставляет обнаженную грудь под острия мечей, защищая свои деньги собственным телом, или кто, нагрузив все, что мог, за пазуху, бегом спасается от врагов».
(8) Вот так, Серен: сей совершенный муж, исполненный человеческих и божественных добродетелей, не потерял ничего. Его добро защищено неодолимо прочными стенами. С ними не идут ни в какое сравнение ни стены Вавилона, в которые вошел Александр, ни стены Карфагена или Нуманции, которые взяла одна и та же рука[90], ни Капитолийская крепость, ибо и за ее стены ступала вражеская нога[91]. Стены, обеспечивающие безопасность мудреца, нельзя ни проломить, ни сжечь, ни взять приступом: необоримые, они высятся наравне с богами.
7. (1) Теперь тебе не удастся возразить мне, по твоему обыкновению, что такого мудреца, как наш, нет на свете. Мы не выдумали его, тщась приукрасить врожденные способности человека, он — не ложный плод разгоряченного воображения, но мы представляли и будем представлять его именно таким, каким он был, хотя такие люди являются, наверное, один на несколько столетий. Ибо великое и выдающееся над обычным уровнем толпы рождается не часто. Впрочем, я склонен думать, что тот самый Марк Катон, с которого мы начали наше рассуждение, явил собой еще более высокий образец мудрости.
(2) Наконец, чтобы принести вред, нужно быть сильнее своей жертвы; но подлость не бывает сильнее добродетели; следовательно, мудрецу нельзя причинить вреда. Обидеть добрых людей пытаются лишь дурные; но меж добрыми людьми царит мир, в то время как дурные опасны друг для друга не меньше, чем для добрых. И если причинить вред можно только более слабому; если дурной человек слабее доброго; если, таким образом, доброму может угрожать обида лишь от равного ему, то мудрому мужу обида не грозит. Тебе ведь не нужно напоминать, что добрым человеком может быть только мудрый.
(3) Нам могут возразить: «Но если Сократу вынесли несправедливый приговор, значит, он был обижен». — Здесь нам нужно ясно понять вот что: бывает так, что некто нанесет мне обиду, но я не буду обижен. Например, если кто-нибудь, украв какую-то вещь у меня на вилле, принесет и положит ее в моем городском доме, то он совершит воровство, но я ничего не потеряю. (4) Человек может стать вредителем, не причинив никому вреда. Если кто-то спит со своей женой так, будто она жена чужая, то он прелюбодей, хотя она остается честной женщиной. Допустим, кто-то дал мне яд, который, смешавшись с пищей, утратил свою силу; подмешав яд, этот человек сделал себя преступником, хотя и не причинил вреда. Разбойник, чей нож скользнул по одежде, не ранив жертвы, от этого не перестает быть разбойником. Всякое преступление, даже если оно не достигло своей цели, уже совершено — поскольку это касается его виновника. (5) Есть такой род взаимосвязи, когда одно может существовать без другого, но второе без первого нет.
Попытаюсь разъяснить свои слова. Я могу двигать ногами и при этом не бежать, но не могу бежать, не передвигая ноги. Находясь в воде, я могу не плавать; но если плаваю, то не могу не находиться в воде. (6) К этой же разновидности относится и то, о чем я говорю. Если я обижен, значит, кто-то непременно меня обидел; но если кто-то меня обидел, то я не обязательно обижен, ибо могли вмешаться различные обстоятельства, которые отвели от меня обиду. Какой-нибудь случай мог не дать занесенной руке опуститься на мою голову или отклонить выпущенную в меня стрелу; точно так же и все прочие обиды могут натолкнуться на какое-то препятствие, так что они будут и нанесены, и в то же время не получены тем, кому предназначались.
8. (1) Кроме того, справедливость не может потерпеть ничего несправедливого, ибо противоположности несовместимы. Но обида бывает только несправедливая; следовательно, мудрецу нельзя причинить обиды. Не удивляйся: никто не может его обидеть, но никто не может и принести ему пользу. Ибо мудрец ни в чем не нуждается, что он мог бы принять в дар; к тому же у дурного человека не может найтись ничего такого, что было бы достойным подарком для мудреца. Ведь прежде чем дарить, нужно иметь, а у него нет ничего, чему мудрец мог бы обрадоваться. (2) Таким образом, никто не в силах ни повредить мудрецу, ни оказать ему услугу, поскольку божество не нуждается в помощи и не воспринимает обид, а мудрец — существо наиболее близкое к богам, во всем подобное богу, за исключением смертности. Напрягая все силы, не давая себе передышки, он стремится ввысь, туда, где все упорядочено, непоколебимо, уравновешено, все движется ровным согласным потоком, надежно, приветливо, благотворно для него и для других, создано на всеобщее благо, — он никогда не возжелает ничего низменного, ни о чем не заплачет. (3) Кто шагает сквозь превратности человеческой жизни, опираясь на разум, кто наделен божественным духом, тот неуязвим для обиды. Ты думаешь, я говорю только об обиде, наносимой человеком? Нет, его не в силах обидеть и фортуна, которая никогда не выдерживает схватки с добродетелью.
Если мы спокойно и легко относимся к самому страшному, чем могут грозить нам наисуровейшие законы и самые жестокие властители, в чем власть фортуны достигает своего наивысшего предела, — если мы знаем, что смерть не есть зло, а значит, и не обида, то насколько же легче мы будем переносить все остальное: утраты и муки, позор и перемену мест, смерть близких, разлуки и раздоры. Даже если все это хлынет на мудреца одновременно, он не пойдет ко дну; тем более не станет он горевать и предаваться отчаянию, если подобные удары будут наноситься ему по одному. Но если он не теряет самообладания, когда его обижает фортуна, то насколько спокойнее относится он к обидам от людей, хотя бы и самых могущественных; ведь он знает, что они — всего лишь орудия фортуны.
9. (1) Все подобные вещи мудрец терпеливо переносит, как зимние морозы и бури, как болезни и приступы лихорадки и прочие неприятные случайности. Нет никого, о ком бы он держался достаточно высокого мнения, чтобы думать, что тот хотя бы в одном своем поступке мог руководствоваться разумным решением; ибо такое свойственно одному лишь мудрецу. Все же прочие действуют не по разумному решению, но по заблуждению, по злобе или следуя неуправляемым душевным порывам, так что их поступки мудрец относит к числу случайностей. Но вихрь случайностей всегда свирепствует вокруг нас, ударяя куда попало.
(2) Подумай также о том, что обида чаще всего питается нашим страхом, когда нас пытаются подвергнуть опасности, например подсылают тайно доносчика, или выдвигают против нас ложное обвинение, всячески возбуждают ненависть к нам у людей власть имущих, или подстраивают другие западни, принятые среди одетых в тогу[92] разбойников. Не реже случаются обиды и оттого, что у кого-то перехватят прибыль, на которую он рассчитывал, или обойдут наградой, которой он долго добивался; уплывет наследство, которое человек уже заполучил было ценой тяжких трудов, или кто-то перебьет благосклонность богатого и щедрого дома. Мудрец избегает всего этого, ибо не живет ни надеждой, ни страхом.
(3) Прибавь, наконец, и то, что обида всегда предполагает душевное волнение, что человек приходит в смятение от одной мысли о ней. Но муж, вырвавшийся из-под власти заблуждений, не знает волнения; он полон сдержанности, самообладания и тихого глубокого покоя. Кого обида трогает, того она возбуждает и выводит из равновесия; мудрецу же неведом гнев, возбуждаемый обидой, а он не был бы свободен от гнева, если бы не был также неуязвим и для обид; мудрый знает, что обидеть его нельзя. Вот отчего он так прям, отважен, весел и всегда всем доволен. Удары, наносимые ему людьми или обстоятельствами, настолько безвредны для него, что он обращает обиды себе же на пользу, испытывая себя и свою добродетель.
(4) Молчите, заклинаю вас! Да внемлют наши уши и наши души в благоговейной тишине провозглашаемому ныне приговору; да умолкнет все, пока мудрец освобождается от обиды![93]
Не бойтесь: вам не придется поступиться ни каплей вашей наглости, ваших хищных вожделений, вашей гордыни и слепого безрассудства. Все ваши пороки благополучно останутся при вас — не за счет них дается мудрецу эта свобода. Речь идет не о том, чтобы вы не смели причинять несправедливые обиды, а о том, что всякая обида будет отскакивать от мудреца, защищенного броней терпения и величием духа. (5) Так, на священных состязаниях многие выходили победителями благодаря упорному терпению — руки нападавших уставали бить. Знай, что мудрец принадлежит к породе тех, кто долгим и ревностным упражнением достиг могучей крепости, которая способна вынести натиск любой враждебной силы и утомить ее.
10. (1) Теперь, поскольку мы бегло рассмотрели первую часть нашего предмета, перейдем ко второй и с помощью доводов кое-где собственных, а больше — общих для всех стоиков, докажем невозможность оскорбить мудреца. Оскорбление меньше обиды. На оскорбление мы скорее можем жаловаться, чем мстить за него или преследовать по закону, ибо законы не назначают за него никакого наказания.
(2) Чувство оскорбления возбуждается в низкой душе, которая сжимается от любого недостаточно почтительного слова или поступка: «Такой-то не принял меня сегодня, а других между тем принимал» или: «Как высокомерно он отвечал мне» или «откровенно расхохотался в ответ на мои слова»; а то еще: «Он поместил меня за столом не посередине, а в самом низу» и прочее в том же духе. Это не назовешь иначе, как жалобами капризной души, которую мутит от любого движения. Такой болезни подвержены, как правило, лишь счастливцы и неженки: у кого есть беды посерьезнее, тем просто не хватает времени замечать подобные вещи. (3) К ним восприимчивы характеры женственные и нестойкие от природы, которые при избытке досуга и в отсутствие настоящих обид делаются совершенно распущенными; большая часть оскорблений — плод дурного истолкования. Таким образом всякий, кто принимает оскорбления близко к сердцу, выказывает полное отсутствие проницательности и уверенности в себе. Он без колебания решает, что к нему выразили презрение, и чувствует болезненный укол, но это происходит от своего рода низости души, унижающейся и склоняющейся перед другими. Мудреца же нельзя унизить: ибо он знает свое величие и убежден, что никто не смеет позволить себе такую вольность по отношению к нему; ему не приходится побеждать то, что я бы даже не назвал душевной невзгодой, но скорее досадным раздражением: он просто нечувствителен к этому.
(4) Есть вещи, которые задевают мудреца, хотя и не могут его победить: телесная боль и слабость, утрата друзей и детей, крушение отечества, охваченного пожаром войны. Я не стану отрицать, что все это мудрец чувствует: мы же не приписываем ему твердость камня или железа. Какая же это добродетель, если она не чувствует того, что терпит? К чему я веду? А вот к чему: есть вещи, способные уязвить его, однако, получив рану, он одерживает над ней победу, зажимает ее и залечивает. Но таких мелочей, как оскорбления, он не чувствует; тут ему не нужно пускать в ход свою добродетель, закаленную в ежедневном противостоянии жестоким ударам; он либо не замечает их вовсе, либо смеется над ними.
11. (1) Кроме того, оскорблять других свойственно обычно людям надменным, высокомерным и плохо переносящим свое счастие; но мудрецу дано встречать всякое надутое чванство с презрительным безразличием, ибо он наделен прекраснейшей из добродетелей — величием духа. Он проходит мимо подобных вещей, не удостаивая их вниманием, как пустые сновидения, как ложные и бесплодные ночные призраки. (2) К тому же, по его убеждению, все прочие люди настолько ниже его, что не могут осмеливаться презирать существо неизмеримо высшее. Слово «оскорбление» — «contumelia» происходит от «contemptus» — «презрение», ибо подобного рода обиду можно нанести лишь тому, кого презираешь. Однако никто не в состоянии презирать большего и лучшего, хотя может поступать так, как обыкновенно поступают презирающие. Так дети бьют родителей по лицу, младенец больно дергает мать за волосы и плюет в нее; на глазах у родных ребенок обнажает то, что следовало бы прикрывать, и не стесняется самыми грязными выражениями; однако мы не считаем эти действия оскорблением. Почему? Потому что знаем, что совершающий их презирать нас не может.
(3) По той же самой причине оскорбительные выходки наших рабов по отношению к господам доставляют нам удовольствие и считаются верхом утонченных манер; начав с хозяина, они могут затем обратить свою наглость на гостей; и чем презреннее раб, чем больше он сам посмешище для окружающих, тем больше мы поощряем его распускать язык. Некоторые специально покупают для этого самых развязных и дерзких мальчишек и поручают особому наставнику развить и отточить их бесстыдство, дабы они могли со знанием дела изливать потоки непристойных поношений. Для нас они не оскорбления, а тонкое остроумие. Но это же чистейшее безумие — то радоваться, то негодовать по поводу одного и того же; одни и те же слова из уст друга принимать как грубую брань, а из уст раба — как забавную шутку!
12. (1) Как мы относимся к детям, так мудрец относится ко всем людям, ибо они не выходят из детства ни к зрелости, ни до седых волос, ни когда и седых волос уже не останется. Разве с возрастом они изменяются к лучшему? Они сохраняют все недостатки ребяческой души, разве что прибавляют к ним более серьезные заблуждения; они отличаются от детей лишь ростом и телесным развитием, а во всем прочем сохраняют ту же неуверенность невежества; так же без разбора кидаются то туда, то сюда за всяким сиюминутным удовольствием, пугаются всего на свете и если утихомириваются на время, то не от большого ума, а от страха. (2) Разве можно полагать между ними и ребятишками существенную разницу только на том основании, что одни жадны до орехов, бабок и медяков, а другие — до золота, серебра и городов? Что одни изображают друг перед другом магистратов понарошку, копируя претексты, фаски и трибунал, а другие всерьез играют в те же игры на Марсовом поле, на форуме и в курии? Что одни строят на берегу дома из песка, а другие громоздят каменные стены и кровли, воображая, будто создают нечто великое и делая опасным для жизни то, что первоначально должно было служить безопасным убежищем для наших тел?[94]
Так что дети и взрослые живут во власти равного заблуждения, только у старших оно обращено на другие предметы. (3) Поэтому мудрец совершенно прав, принимая их оскорбления в шутку и время от времени угрожая им наказанием и больно наказывая — не оттого, что он на них обиделся, но оттого, что они вели себя дурно, и для того, чтобы впредь они этого не делали. Так ведь и скотину укрощают кнутом. Мы не сердимся на лошадь, сбрасывающую седока, но стараемся обуздать ее, причиняя ей боль не со зла, а ради преодоления ее упрямства. Таким образом, мы, как видишь, ответили еще на одно обычное возражение: «Отчего мудрец наказывает обидчиков, если он не восприимчив ни к обиде, ни к оскорблению?» — Дело в том, что он не за себя мстит, а их исправляет.
13. (1) Ты отказываешься поверить, что мудрый муж может быть до такой степени тверд? Но ведь точно такую же твердость ты сам можешь наблюдать чуть не каждый день, только причина ее другая. Скажи, какой врач станет сердиться на буйного сумасшедшего? Кто станет истолковывать в дурную сторону брань лихорадочного больного, которому не дают пить? (2) Мудрец ко всем людям относится так, как врач к своим больным; а тот не брезгует ни прикасаться к срамным частям больного, если они требуют лечения, ни рассматривать его кал и мочу, ни выслушивать ругательства охваченных горячечным бредом. Мудрец знает, что все, кто важно разгуливает в пурпурных тогах[95], словно здоровые, на самом деле всего лишь разряженные больные, а больным простительна несдержанность. Поэтому он не раздражается, если болезненное возбуждение заставит их нагрубить своему целителю, и так же ни в грош не ставит их малопочтенные выходки, как и их почетные звания.
(3) Точно так же как мудрец не возомнит о себе, если его начнет расхваливать нищий попрошайка, и не сочтет себя оскорбленным, если последний плебей не ответит на его приветствие, — так он не станет задирать носа и тогда, когда богатые люди один за другим начнут выказывать ему уважение: он ведь знает, что они ничем не отличаются от нищих, и даже более жалки, поскольку нищему нужно мало, а им много; и так же мало тронет его, если персидский царь или повелитель Азии Аттал[96] в ответ на его приветствие молча прошествует мимо с надменным лицом. Он знает, что у царя положение не многим завиднее, чем у того, кому поручат в многолюдном имении заботу о больных и помешанных.
(4) Неужели я стану огорчаться, если со мной не поздоровается один из тех, кто целыми днями торгует у храма Кастора, продавая и покупая негодных рабов, один из тех, чьи лавки вечно битком набиты грязнейшей сволочью? Думаю, нет. Ибо что доброго может быть у того, кому подчинены лишь дурные? Мудрецу же решительно безразлична вежливость или невежливость к нему не только со стороны подобных людей, но и со стороны царей: «Тебе подчинены и парфяне, и мидийцы, и бактрийцы, но ведь ты держишь их силой; но ведь из-за них ты не можешь ни на миг ослабить тетиву своего лука; но ведь они — самые страшные твои враги, насквозь продажные, вечно мечтающие о новом господине».
(5) Таким образом, никакое оскорбление не заденет мудреца. Все люди непохожи друг на друга, но для мудреца они одинаковы — всех равняет глупость. К тому же если бы он хоть раз опустился до того, чтобы обидеться или оскорбиться, он никогда уже не смог бы обрести прежней безмятежности. А ведь безмятежность — особое свойство именно мудреца и великое для него благо. Он никогда не позволит себе оскорбиться, ибо тем самым он оказывал бы честь тому, кто нанес оскорбление. Тут существует необходимая связь: если нас очень огорчает чье-то презрение, значит, нам особенно приятно было бы уважение именно этого человека.
14. (1) Некоторые помешались уже до такой степени, что считают возможным быть оскорбленными женщиной. Какая разница, как ее содержат, сколько у нее носильщиков, сколько весят серьги в ее ушах и насколько просторно ее кресло? Все равно она остается тем же неразумным животным, диким и не умеющим сдерживать свои вожделения, если только она не получила особенно тщательного воспитания и образования в науках. Есть люди, чувствующие свое достоинство задетым, если их случайно толкнет парикмахер, считающие оскорблением, если привратник мешкает распахнуть перед ними двери, если номенклатор[97] говорит высокомерным тоном или кубикулярий[98] хмурит бровь. О, до чего все это смешно! И до чего сладостное наслаждение испытывает душа, отворачиваясь от сумятицы чужих заблуждений, чтобы созерцать собственный покой!
—(2) Выходит, мудрец не подойдет к дверям, возле которых сидит сердитый привратник?
—Разумеется, подойдет, если будет в том действительная нужда, и как бы страшен ни был привратник, смягчит его, как злую собаку костью, не считая для себя унизительным немного потратиться, чтобы получить право переступить порог, помня, что бывают и мосты такие, где за переход надо платить. Так и тут он даст, как бы мало почтенен ни был этот новоявленный откупщик доходов с приветственных визитов; мудрец ведь знает, что все продажное покупается за деньги. Надо иметь душу самую ничтожную, чтобы находить повод для гордости и самодовольства в том, чтобы высокомерно отвечать привратнику, обломать палку о его спину или пойти к его господину жаловаться и просить выпороть дерзкого. Вступая в препирательство с кем-то, мы признаем его своим противником, а следовательно, равным себе, даже если мы и победим в стычке.
—(3) А как поступит мудрец, если его ударят кулаком?
—Как поступил Катон, когда ему дали пощечину? Он не рассердился, не стал мстить за обиду, и даже не простил ее: он заявил, что обиды не было. Величие его духа поднималось выше прощения: он вообще не признал обиды. Впрочем, на этом не стоит долго останавливаться, ибо кто же не знает, что вещи, которые все люди считают хорошими или, наоборот, плохими, мудрец воспринимает иначе, так что их оценки никогда не совпадают. Какое ему дело до того, что люди сочтут унизительным или жалким? Он не идет туда, куда валит народ; как звезды движутся навстречу миру[99], так он идет наперекор общественному мнению.
15. (1) Поэтому перестаньте без конца спрашивать: «Неужели мудрец не обидится, если его побьют? А если ему вырвут глаз? Неужели он не оскорбится, если его протащат через весь форум, осыпая грязными ругательствами? Если на царском пиру ему прикажут лечь под стол или есть с последними из рабов, делающих самую черную работу? Если его принудят вынести все, что может выдумать изобретательный ум невыносимого для гордости свободного человека?»
—(2) Можно без конца наращивать и число и размеры подобных вещей — природа их будет одинакова. Если мудреца не трогают мелочи, то не тронут и обиды покрупнее. Если его не задевает одна или две, то не заденет и множество.
Но вы воображаете себе колоссальный дух мудреца по вашему собственному слабому и ничтожному духу, и, зная примерно, что способны были бы вынести вы сами, вы приписываете мудрецу чуть побольше терпения. Ошибаетесь: он не имеет вообще ничего общего с вами; благодаря добродетели он занимает место совсем в другом конце вселенной. (3) Припомните все, что вы знаете тягостное, труднопереносимое, устрашающее слух и взор, обращающее людей в бегство; обрушьте все это на мудреца, хоть все сразу, хоть по отдельности — он устоит, не дрогнув. Кто полагает границы душевному величию, кто говорит, что это-де мудрец может вынести, а это нет, тот неправ: если мы победили фортуну лишь отчасти, значит, она рано или поздно победит нас.
(4) Не думай, будто только стоики такие суровые. Вот что говорит Эпикур, которого вы считаете покровителем вашей праздности[100], учителем изнеженности и безделья, отправляющим вас в погоню за наслаждениями: «Фортуна редко становится на пути у мудреца»[101].
Да ведь эти слова почти впору истинному мужу! Ну, еще чуть-чуть, выразись немного мужественнее — убери ее совсем с дороги! (5) Вот дом мудреца: тесный, неухоженный, без удобств; в нем ни шума, ни беготни многочисленной челяди, ни привратников, с продажной придирчивостью разбирающих толпы визитеров по статьям; однако фортуна никогда не осмелится переступить за этот пустой и никем не охраняемый порог. Ибо знает, что ей не место там, где ничто ей не принадлежит.
16. (1) Но если против обиды восстал даже весьма снисходительный к потребностям тела Эпикур, то кто может счесть невероятным и превосходящим возможности человеческой природы точно такое же требование, выдвигаемое нами? Эпикур говорит, что мудрец спокойно переносит обиды; мы говорим, что он не воспринимает их. (2) Что тут, по-твоему, противоречит природе? Мы ведь не отрицаем, что быть избитым, выпоротым или лишиться какого-либо члена — вещи малоприятные; мы только говорим, что это не обиды. Мы не отнимаем у них болезненности; мы отнимаем лишь название — «обида», ибо нельзя обидеться, не нанеся урона добродетели. Мы еще посмотрим, кто из нас более прав в остальном, однако и мы и Эпикур полностью совпадаем в одном: обиду следует презирать. Ты спросишь, какая разница между им и нами? Разница, какая бывает между двумя гладиаторами отменного мужества: один зажимает рану рукой, не отступая ни на шаг; другой, взглянув на шумящих зрителей, делает знак, что ничего не произошло и что он не желает вмешательства[102]. (3) Расхождения между нами очень невелики. К тому единственному, что важно для нас, о чем мы с тобой здесь ведем речь, одинаково призывают и стоики и Эпикур, а именно: презирать обиды и то, что я назвал бы тенью обид и безосновательным подозрением — оскорбления; чтобы презирать эти последние, достаточно быть даже не мудрецом, а мало-мальски здравомыслящим человеком[103], который мог бы сказать себе так: «По заслугам меня оскорбили или нет? Если по заслугам, то это не оскорбление, а справедливое суждение; если не по заслугам, то пусть краснеет тот, кто совершил несправедливость».
(4) В самом деле, что такое это так называемое оскорбление? Кто-то пошутил насчет моей лысины или близорукости, насчет худобы моих ног или насчет моего роста. Что оскорбительного в том, чтобы услышать и без того очевидное? Один и тот же рассказ может рассмешить нас, если нас двое, и возмутить, если его слышит много народу; мы не позволяем другим заикнуться о том, о чем сами говорим постоянно; мы получаем удовольствие от шуток, когда они умеренны, и впадаем в ярость, когда они переходят известные границы.
17. (1) Хрисипп[104] рассказывает, как возмутился один человек, когда другой назвал его холощеным морским бараном[105]. Мы видели, как плакал в сенате Корнелий Фид, зять Овидия Назона[106], когда Корбулон[107] обозвал его ощипанным страусом; и ведь никакие несчастья, ранившие его нрав и портившие ему жизнь, не пошатнули его твердости и не заставили опустить голову; а такая глупая нелепица довела его до слез: вот насколько слабы становятся души, покинутые разумом! (2) Что обидного мы находим в том, что кто-то передразнивает наш выговор или походку, если кто-то преувеличенно изображает наш телесный или речевой недостаток? Как будто без них никто бы этого не заметил! Некоторые не выносят упоминания при них старости, седины и прочих вещей, о которых люди обычно молят богов. Иных выводит из себя разговор о проклятой бедности — но кому можно поставить ее в вину, кроме того, кто ее скрывает?
Ты отнимешь предмет для насмешки у дерзких на язык и слишком язвительных острословов, если, не дожидаясь их, сам над собой посмеешься.
(3) Ватиний, человек, рожденный словно нарочно для возбуждения смеха и ненависти, был, как передают, отменно забавный и язвительный шут; он вечно сам смеялся над своими кривыми ногами и короткой шеей, избегая тем самым острого языка своих врагов, которых у него было больше, чем болезней, и в первую очередь, конечно, Цицерона. Но если на это был способен человек, разучившийся стыдиться, чей рот затвердел, изрыгая бесконечные потоки брани, то почему бы не суметь этого и тому, кто уже достиг кое-чего в изучении свободных наук и в попечении о мудрости?
(4) Кроме того, не забывай, что здесь возможна особого рода месть — ты можешь отнять у обидчика все удовольствие от нанесенного оскорбления. Ты ведь слышал, как иногда восклицают: «Вот не повезло! До него, кажется, не дошло!» Ибо весь смысл оскорбления — в том, чтобы его почувствовали и возмутились. Ну и, наконец, твой насмешник когда-нибудь нарвется на равного себе, и ты будешь отомщен.
18. (1) Говорят, что Гай Цезарь[108] отличался помимо прочих немалочисленных своих пороков каким-то удивительным сладострастием в оскорблениях; ему непременно нужно было на всякого повесить какой-нибудь обидный ярлык, при том что сам он представлял собой благодатнейший материал для насмешек: омерзительная бледность, выдающая безумие; дикий взгляд глубоко спрятанных под старческим лбом глаз; неправильной формы безобразная лысая голова с торчащими там и сям жалкими волосенками; прибавь к этому шею, заросшую толстенной щетиной, тонюсенькие ножки и чудовищно громадные ступни. Насмешки и оскорбления, которые он отпускал в адрес своих родителей и предков, я мог бы перечислять без конца; он оскорблял все сословия без разбора; но я остановлюсь сейчас лишь на тех случаях, которые впоследствии привели его к гибели.
(2) Среди ближайших его друзей был Валерий Азиатик[109], муж отважный и гордый, от которого едва ли можно было ожидать терпеливого и спокойного отношения к оскорблениям. И вот на пиру, при большом собрании народа, Гай Цезарь начинает пенять ему самым громким голосом, что жена его нехороша в постели. Благие боги, это мужу-то такое выслушивать! Это принцепсу-то такое знать! Это до чего же должен дойти разврат, чтобы принцепс рассказывал о своем прелюбодеянии и о своей неудовлетворенности — кому? — самому мужу! Да ведь не просто мужу, а консуляру, и не просто консуляру, а лучшему другу!
(3) Иначе вышло с Хереей, военным трибуном: у него был тоненький нежный голос, не соответствовавший его руке и способный внушить подозрение всякому, кто не знал его в деле. Когда он спрашивал Гая, какой назначить пароль, тот всегда называл ему то Венеру, то Приапа, всякий раз на новый лад издеваясь над воином как над распутником; сам он при этом обычно так и сиял, весь покрытый золотом, обутый в сандалии[110]. Так он заставил Херею взяться за оружие, чтобы не просить больше пароля! Херея первым из заговорщиков нанес удар, сразу перерубив шею; за ним тотчас посыпалось множество ударов мечей, мстивших за личные и общие обиды, однако первым был муж, который менее всех таковым казался, женственный Херея.
(4) При этом тот же Гай принимал за оскорбление любой пустяк, как это чаще всего и бывает: чем больше человек склонен обижать других, тем хуже он сам переносит обиды. Так, он впал в ярость, когда Геренний Макр, здороваясь, назвал его Гаем, и наказал примипилярия[111], назвавшего его Калигулой: он ведь родился в лагере и рос среди легионов, так что солдаты звали его обычно Калигулой[112], ибо он не сумел стать им ближе под каким-нибудь другим именем; однако, став взрослым и возвысившись до котурнов[113], он стал, видимо, считать Калигулу позорной и бранной кличкой.
(5) И вот что, кстати, может послужить нам утешением: если мы будем снисходительны и не станем мстить, то все равно найдется кто-нибудь, кто накажет нашего высокомерного, наглого и насмешливого обидчика, ибо это пороки такого свойства, что никогда не могут ограничиться одним человеком и одним оскорблением.
(6) Обратимся, однако, к тем, чье превосходное терпение должно служить нам образцом. Сократ совершенно добродушно принимал все остроты на свой счет в комедиях, которые публиковались и представлялись зрителям в театре[114]; слушая их, он смеялся не меньше, чем когда жена Ксантиппа обливала его помоями. Антисфена укоряли происхождением: мол, мать его варварка из Фракии; он же отвечал, что и у богов мать — с Иды[115].
19. (1) Не надо вмешиваться в ссоры и драки. Надо подальше уносить ноги и не обращать внимания, когда их затевают люди неразумные. Пусть чернь воздает нам почести или поносит — нам должно быть безразлично. (2) Не следует ни огорчаться первому, ни радоваться второму; в противном случае, опасаясь оскорблений или обидевшись, мы забросим необходимые общественные и частные обязанности и, по-женски заботясь лишь о том, как бы не услышать чего-либо неприятного, упустим многое благодетельное. Иногда, обидевшись на кого-то из власть имущих, мы скрываем наш гнев подчеркнуто вольным и независимым обращением. Но мы ошибаемся: свобода — не в том, чтобы никогда не становиться жертвой обиды или насмешки. Свобода — в том, чтобы поднять свой дух на недосягаемую для любых обид высоту; чтобы сделать самого себя единственным источником всех своих радостей, а все внешнее удалить от себя; в противном случае жизнь наша пройдет в беспрерывном беспокойстве и мы станем дрожать от страха перед любым насмешливым языком.
Нет человека, не способного оскорбить; кого же тогда можно не бояться? (3) Дабы защитить себя, мудрец и тот, кто пока лишь стремится к мудрости, будут прибегать к разным средствам. Тому, кто еще не достиг совершенства и продолжает ориентироваться на общественное суждение, следует помнить, что они обречены жить среди сплошных обид и оскорблений; всякое зло переносится легче, если его предвидели заранее. Чем более высокое положение занимает человек, будь то происхождение, добрая слава или наследственное имение, тем мужественнее он должен себя вести; пусть помнит, что высокое воинское звание обязывает стоять в первом ряду. Пусть переносит оскорбления, бранные слова, позор и прочее бесчестье как боевой клич неприятеля, как пущенные издалека стрелы и камни, свистящие возле шлема, не причиняя вреда; на обиды же пусть смотрит как на раны, ломающие его оружие и пронзающие грудь, но не позволяющие не только отступить ни на шаг, но хотя бы поколебаться. Даже если враг нажимает и теснит тебя со всех сторон, отходить — позорно; сохраняй назначенное тебе природой место. Ты спросишь, что это за место? Место мужа.
(4) У мудреца род защиты совсем иной, даже, пожалуй, противоположный: ведь вы в разгаре боя, а он давно одержал победу. Не сопротивляйтесь же собственному благу; питайте в душах ваших надежду добраться до истины; воспринимайте благотворные поучения с охотой и помогайте им собственным убеждением и молитвой. Государство рода человеческого стоит благодаря тому, что есть нечто непобедимое, есть некто, перед кем фортуна бессильна.
О ПРОВИДЕНИИ,
или О том, почему с хорошими людьми[116] случаются неприятности, несмотря на то, что существует провидение.
К Луцилию
1. (1) Ты как-то спросил меня, Луцилий, отчего с добрыми людьми случается столько дурного, если мир управляется провидением. Конечно, отвечать на такой вопрос следовало бы в объемистом труде, где доказывалось бы, что провидение начальствует над вселенной и что бог принимает в нас участие. Но раз ты хочешь получить решение одного противоречия, не трогая всего запутанного клубка и вырвав часть из целого, я не стану усложнять себе задачу и возьмусь отвечать на твой иск как адвокат богов.
(2) Здесь ни к чему доказывать, что столь великое создание не стоит без хранителя и стража, что сонм размеренно движущихся светил не порожден случайным порывом; что предметы, приведенные в движение случаем, несутся беспорядочно и сталкиваются между собой, а этот стремительный и беспрепятственный бег происходит по велению вечного закона, которому повинуется все на земле, который зажег столько сверкающих в стройном порядке лучезарных светил на небе. Столь стройный порядок не свойствен бесцельно мечущейся материи; бессмысленное совпадение не могло бы подвесить небесные тела с таким искусством, чтобы земля — самое тяжелое, что есть в мире, — неподвижно уселась в центре, созерцая стремительный бег вращающегося вокруг нее неба; чтобы моря проливались в долины[117], орошая почву, и не переливались через край оттого, что в них впадают реки; чтобы из крошечных семян рождались исполины-деревья.
(3) Не случайны и такие, на первый взгляд, внезапные и непредсказуемые явления, как тучи, ливни, громовые удары молний, извержение пламени, когда взрываются вершины гор; землетрясения и прочие бурные вещи, постоянно тревожащие поверхность земли и воздух над нею. Они так же имеют свои причины, как и те явления, которые мы считаем чудесными лишь оттого, что обнаружили их, где не ожидали: например, горячие воды посреди морских волн или новые острова, вдруг вынырнувшие на поверхность пустынного дотоле моря. (4) Более того: наблюдая, как отступает от берегов морская пучина, обнажая песок, а через некоторое время вновь накрывает его, всякий может подумать, что это какое-то слепое колебание моря то оттягивает волны назад, то вновь выталкивает их, заставляя бурно устремляться к своему прежнему месту; в то время как в действительности они поднимаются и опускаются постепенно, в определенный день и час, повинуясь притяжению лунного светила, повелевающего океанскими приливами.
Всем этим мы займемся в свое время, но не теперь, тем более, что ты и так не сомневаешься в наличии провидения, а лишь жалуешься на него. (5) Я примирю тебя с богами, ибо для лучших из людей они — лучшие из богов. В самом деле, природа не допускает, чтобы доброе вредило доброму. Добрых людей и богов связывает дружба, родившаяся из общей для них добродетели.
Что я говорю — дружба? Нет, это родство и сходство, ибо добрый человек отличается от бога лишь по времени; он — его ученик, его подражатель, его подлинное потомство, которое великий родитель, суровый наставник добродетели, воспитывает твердо и жестоко, как и земные строгие отцы. (6) Поэтому когда видишь, как добрый муж, угодный богам, страдает, трудится, потеет, карабкается на крутизну, а дурной веселится и купается в наслаждениях, подумай о том, что собственных детей мы желаем видеть скромными, а развязными — детей рабов; что своих мы приучаем к суровой дисциплине, а в рабах поощряем наглость. Подумай, и ты поймешь, что с богом — то же самое. Доброму мужу он не дает веселиться, испытывает его, закаляет, готовит его для себя.
2. (1) «Отчего же с хорошими людьми часто происходят несчастья?» — С хорошим человеком не может случиться ничего дурного: противоположности не смешиваются. Как бесчисленные реки, изливающиеся с неба потоки дождей, великое множество минеральных источников не меняют вкуса морской воды, не делая ее хотя бы чуть-чуть менее соленой, так и дух мужественного человека не сгибается под натиском невзгод. Он не двигается с места и окрашивает все происходящее в свои собственные цвета, ибо он сильнее всего внешнего.
(2) Я не собираюсь утверждать, что он не ощущает тягот. Нет, но он побеждает их; спокойный и умиротворенный во всем прочем, он неизменно поднимается навстречу всякой напасти. Невзгоды он считает упражнениями. Да кто же откажется — если, конечно, он мужчина и не лишен стремленья к чести, — пострадать за правое дело и подвергнуться опасности при исполнении своего долга? (3) Посмотрите: атлеты, которым приходится заботиться о своей телесной силе, вступают в поединок с самыми сильными противниками и требуют от тех, кто готовит их к состязаниям, драться с ними в полную силу; они терпеливо сносят удары и раны, а если не удается найти достойного противника, вызывают на бой сразу нескольких. (4) Без противника чахнет и добродетель. Она должна проявить всю свою выдержку, чтобы стало ясно, чего она стоит и на что способна. Добрый муж должен действовать, как атлет: не бояться суровых испытаний и не жаловаться на судьбу; принимать за благо все, что случается, и обращать это во благо. Важно, не что, а как ты переносишь.
(5) Разве ты не видел, насколько по-разному проявляют любовь отцы и матери? Первые приказывают детям вставать чуть свет и приступать к занятиям; даже в праздники не позволяют им бездельничать, заставляя лить пот, а порой и слезы. Напротив, матери норовят прижать к себе, усадить на колени, не пускать на солнцепек, желая, чтобы дети никогда не узнали огорчений, слез и мучительного труда. (6) Бог по отношению к добрым мужам имеет душу отцовскую; он любит их мужественной любовью, словно говоря: «Пусть работа, скорби и утраты помучат их как следует, чтобы они накопили настоящую силу». Ожиревшее от праздности тело слабеет и уже не выдерживает не только трудов, но и просто движения и даже собственного веса. Кто знал лишь безоблачное счастье, не снесет ни одного удара. Но кто постоянно боролся с невзгодами, чья кожа задубела от ударов несправедливой судьбы, тот не отступит перед бедой, а если упадет, будет драться дальше, хотя бы на коленях. (7) Неужели тебя удивляет, что бог, возлюбивший добрых мужей превыше всех и желающий, чтобы они стали как можно лучше, назначает им такую судьбу, которая могла бы стать для них упражнением в доблести? Что до меня, то я бы не удивился, даже узнав, что богов иногда тянет полюбоваться, как великий муж станет сражаться с какой-нибудь ужасной напастью. (8) Мы ведь получаем порой удовольствие, глядя, как стойкий духом юноша встречает рогатиной бросившегося на него дикого зверя или бесстрашно ждет львиного прыжка; такое зрелище тем приятнее, чем благороднее его герой. Впрочем, это — ребяческие забавы человеческого легкомыслия, совсем не то, на что могли бы обратить благосклонный взор боги. (9) Есть одно зрелище, заслуживающее внимания бога, которого волнует участь его создания; есть один борец, достойный бога: это доблестный муж в поединке со злой судьбою, особенно если сам он и бросил ей вызов.
Я не знаю, право слово, смог бы Юпитер найти на земле, если бы пожелал обратить на нее внимание, зрелище прекраснее, чем Катон, очередной раз потерпевший поражение в своем деле, но все так же прямо стоящий на развалинах республики. (10) «Пусть весь мир, — говорил он, — подчинится единовластию, пусть легионы Цезаря займут все земли, флот — все моря, пусть воины Цезаря осадят городские ворота: у Катона всегда есть выход; одной рукой он проложит себе широкий путь на свободу. Этот меч, оставшийся чистым и незапятнанным в гражданской войне, сослужит, наконец, добрую и знатную службу: принесет Катону свободу, которую не смог принести родине. Приступай, душа моя, к исполнению давнего своего замысла: вырвись из путаницы дел человеческих! Вот Петрей и Юба[118] уже сошлись в поединке и лежат, сраженные рукой друг друга. Этот шаг навстречу року — деяние выдающейся доблести, но нашему величию оно не подобает: Катону так же мало пристало просить у кого-то смерти, как и жизни». (11) Я уверен, что боги с величайшим удовольствием наблюдали это зрелище: как сей славный муж, для себя — самый неумолимый палач, для других — заботливый советчик и помощник, устроивший бегство покидавших его друзей, проведший последнюю ночь жизни за своими научными занятиями, вонзил меч в свою священную грудь, а затем вырвал собственные внутренности, своей рукой выведя на свободу пресвятейшую душу, которой меч недостоин был осквернить. (12) Вот почему, я думаю, рана его оказалась неверной и несмертельной: богам недостаточно было один раз насладиться зрелищем Катоновой смерти. Они не отпустили его доблестную душу, призвали ее назад, дабы она показала себя в еще более трудной роли: повторный шаг навстречу смерти требует куда большего присутствия духа, чем первый[119]. Разве могли боги без радости смотреть на то, как их питомец уходит из жизни столь славным и достопамятным путем? Смерть освящает тех, чей дух восхваляют даже вопреки страху.
3. (1) А теперь я поведу свое рассуждение дальше и докажу тебе, что не все то зло, что злом кажется. Начну с того, что вещи, которые ты зовешь трудностями, превратностями и ужасными бедствиями, не являются таковыми, во-первых, для тех, на чью долю они выпали, во-вторых, для человечества в целом, о котором боги заботятся больше, чем об отдельных людях; что, кроме того, те, кому выпадет подобная злая участь, принимают ее добровольно, а если не желают принимать, то заслуживают такой участи. Затем я покажу тебе, что это приключается с добрыми людьми по воле рока и по тому же самому закону, по которому они добрые люди. Наконец, я постараюсь убедить тебя никогда не жалеть доброго мужа, ибо он может иногда казаться достойным жалости, но не может им быть.
(2) Труднее всего мне будет исполнить первое мое обещание: доказать, что вещи, вызывающие у нас страх и трепет, идут на пользу тем самым людям, которым достаются. Ты спросишь: «Неужели им на пользу ссылка, нищета, утрата детей и жены, позор или болезнь?» Если тебе не верится, что это может пойти кому-нибудь на пользу, то ты не поверишь также и в лечение огнем и железом, или голодом и жаждой. Но если ты, поразмыслив, согласишься, что некоторым ради исцеления отпиливают и вынимают кости, другим вытягивают наружу жилы, а иным ампутируют конечности, которые нельзя сохранить без угрозы гибели всего тела, то ты, может быть, позволишь убедить себя и в том, что некоторые неприятности приносят пользу тем, на чью долю достаются. Ведь точно так же, клянусь Геркулесом, многие вещи, которые все хвалят и к которым стремятся, приносят вред тем, кто ими наслаждается, вроде обжорства, пьянства и прочих подобных и губительных удовольствий.
(3) Среди многих великолепных изречений нашего Деметрия есть одно, которое я услыхал совсем недавно; оно еще не отзвучало и до сих пор дрожит в моих ушах: «На мой взгляд, — сказал он, — нет существа более несчастного, чем тот, кому не встретилось в жизни ни одного препятствия». Это значит, что ему не удалось испытать себя. Пусть сбывалось все, что он пожелает, пусть даже прежде, чем он пожелает, — все равно, боги вынесли ему плохой приговор. Его сочли недостойным поединка с фортуной и, возможно, победы над ней; а от трусов фортуна всегда бежит прочь, словно говоря: «К чему мне такой противник? Он сразу бросит оружие. Мне не придется пускать в ход свою силу: он либо сбежит от простой угрозы, либо свалится замертво при виде моего лица. Придется поискать другого, с кем я могла бы скрестить оружие. Стыдно вызывать на бой человека, заранее готового сдаться». (4) Если гладиатору дают неравного противника, он расценивает это как бесчестие, ибо знает, что победа без риска — победа без славы. Так же и фортуна: она ищет себе равных, самых доблестных, а других обходит с презрением. Она нападает на самых упорных и несгибаемых, ей нужен противник, с которым она могла бы помериться всей своей силой: она испытывает Муция огнем, Фабриция бедностью, Рутилия ссылкой, Регула пыткой, Сократа ядом, Катона смертью[120]. Лишь злая судьба открывает нам великие примеры.
(5) Неужели несчастлив Муций, оттого что попирал своею десницей огонь вражеского костра и сам себя приговорил к наказанию за ошибку? Может быть, он несчастлив оттого, что обгорелая его рука обратила в бегство царя, чего не смогла сделать рука здоровая и вооруженная? Разве он был бы счастливее, грея свою руку на груди у подруги?
(6) Неужели несчастлив Фабриций, оттого что в свободное от государственных дел время он пахал свое поле? Оттого что обедал, сидя у очага, только что выполотыми из пашни кореньями и сорными травами, он, триумфатор и дряхлый старик? Может быть, он был бы счастливее, набивая брюхо редкими рыбами от дальних берегов и чужеземными птицами, глотая ракушки Верхнего и Нижнего морей[121] в надежде возбудить аппетит в вялом желудке, страдающем несварением и тошнотой; окружая грудами плодов первоклассную дичь, поимка которой стоила жизни не одному охотнику?
(7) Неужели несчастлив Рутилий, оттого что судьи, вынесшие ему приговор, отныне сами будут стоять перед судом всех последующих столетий? Или, может быть, оттого что разлуку с родиной перенес спокойнее, чем мысль о разлуке со своей ссылкой? Или оттого, что был единственным, кто в чем-то отказал диктатору Сулле, и, когда его просили вернуться, не только не отправился назад, но убежал еще дальше? Он говорил: «Пусть смотрят на все это те, кого держит в Риме твое “счастливое”[122] правление. Пусть смотрят на залитый кровью форум, на головы сенаторов над Сервилиевым озером (там был Суллин сполиарий[123], где добивали и обирали тех, кто пал жертвой его проскрипций). Пусть смотрят, как по всему городу рыщут шайки убийц, как тысячи римских граждан сгоняются в одно место, чтобы быть перерезанными, как на бойне, после того как им была дана гарантия неприкосновенности, а точнее, с помощью этой самой гарантии. Пусть смотрят на это, сколько хотят, те, кому не досталась ссылка». (8) Так что же, по-твоему, счастлив Луций Сулла, оттого что спускался к форуму по расчищаемой мечами дороге? Или оттого, что ему показывали головы консулярных мужей, а он приказывал квестору оплатить связанные с казнью расходы из общественной казны? Подумать только, что все это делал именно он, человек, который внес Корнелиев закон![124]
(9) Что же касается Регула, то чем повредила ему фортуна, сделав его навеки образцом верности и терпения? Гвозди вонзаются в его тело, и в какую сторону ни склонил бы он усталое тело, он будет лежать на ране; глаза его не закрываются, обреченные на вечное бодрствование. Чем больше мука, тем больше будет слава. Думаешь, он раскаивался, что так дорого оценил добродетель? Ничего подобного: вынь его из той бочки и поставь посреди сената — он повторит свое прежнее решение. (10) Неужели по-твоему счастливее Меценат[125], потерявший сон от любовных переживаний и огорчений ежедневными отказами капризной своей жены[126], так что он пытался усыпить себя с помощью мелодичных звуков музыки, тихо доносящихся издалека? Пусть одурманивается неразбавленным вином, пусть пытается отвлечься журчанием вод, пусть услаждает свою душу на тысячу ладов, стараясь обмануть ее, — его ждет на пуховике такая же бессонница, как иного — на кресте. Только того будет утешать мысль, что он страдает во имя чести, и воспоминание о причине, из-за которой он терпит муки, будет облегчать ему терпение; а этому, вялому и расслабленному от наслаждений, страдающему от избытка счастья, легче будет перенести сами свои муки, чем мысль о причине, заставляющей его их переносить. (11) Все-таки пороки еще не настолько овладели родом человеческим, чтобы нам сомневаться, кем бы предпочло родиться большинство людей, если предоставить им выбирать себе судьбу: Регулами или Меценатами; а если и найдется такой, кто осмелится заявить, что предпочел бы родиться Меценатом, а не Регулом, то он будет неискренен: про себя он, конечно, предпочел бы родиться Теренцией![127]
(12) Может быть, ты считаешь, что Сократу причинили зло, оттого что он проглотил питье, приготовленное для него обществом и бывшее для него всего лишь снадобьем, помогающим достичь бессмертия? Или оттого, что до самой смерти он вел о ней беседу? Ты скажешь, что ему причинили зло, потому что в нем застыла кровь и жизнь постепенно останавливалась, по мере того как холод распространялся по жилам? (13) Насколько же больше он достоин зависти, чем те, кому вино подает в драгоценном кубке продажный распутник, приученный терпеть любую мерзость, лишенный мужественности или обоеполый, разбавляя его горным снегом из золотой чаши! Бедняги, они платят за выпитое немедленной рвотой, закусывая собственной желчью, с унынием на лице; Сократ же выпил свой яд охотно и весело[128].
(14) Что же касается Катона, то о нем сказано достаточно; придет время, и все люди единодушно признают, что он достиг вершин счастья, когда природа вещей избрала его, чтобы сразиться с ним и устрашить. «Тяжело враждовать с могущественными людьми; пусть будет противником Помпея, Цезаря и Красса[129] одновременно. Тяжело, когда в соискании почетной должности тебя побеждают людишки намного хуже тебя; пусть его обойдет Ватиний[130]. Тяжело участвовать в гражданских войнах; пусть сражается за благое дело против всего земного шара столь же упорно, сколь неудачно. Тяжело наложить на себя руки; пусть совершит и это. Чего я этим добьюсь? А того, чтобы все знали, что если я сочла Катона достойным чего-либо, то это не может быть злом».
4. (1) Успех может достаться и плебею и бездарности; но укрощать ужасы и подчинять несчастья — удел великого мужа. Всегда быть счастливым и прожить жизнь без единой царапины на душе — значит не узнать ровно половину природы вещей. (2) Ты великий муж? — Но как мне убедиться в этом, если фортуна не дает тебе возможности проявить свою доблесть? Ты выступал в Олимпии? — Да, но кроме тебя не выступал никто. Ты получил венок, но не одержал победы. Я не могу поздравить тебя как доблестного мужа; могу лишь так, как поздравил бы с получением консульской или преторской должности: ты добился почестей. (3) То же самое я могу сказать и доброму мужу, которому не выпало ни одного случая проявить силу своего духа: «Бедный ты, несчастный — оттого, что никогда не был несчастен. Ты прожил жизнь, не встретив противника; и никто никогда не узнает, на что ты был способен, даже ты сам». Ибо для самопознания необходимо испытание: никто не узнает, что он может, если не попробует. Вот почему некоторые сами идут навстречу замешкавшемуся злосчастию и ищут случая дать своей уже начинающей тускнеть доблести возможность заблистать. (4) Повторяю, великие мужи иногда радуются несчастию, как храбрые воины — войне. Во времена цезаря Тиберия я сам слыхал, как гладиатор-мирмиллон[131] по имени Триумф жаловался, что редко устраиваются игры: «Лучшие годы пропадают напрасно!»
Добродетель алчет опасности и думает лишь о цели, а не о трудностях, которые придется перенести, тем более, что и они составят часть ее славы. Воины гордятся ранами и не без хвастовства показывают льющуюся кровь, радуясь своей удаче: раненому почет куда больше, чем тому, кто вышел из битвы невредимым, пусть даже совершив не меньшие подвиги. (5) Повторяю, бог сам заботится дать повод для свершения мужественных и смелых деяний тем, кого хочет видеть достигшими высшей чести; а для этого им необходимо столкнуться с трудностями. Кормчий познается во время бури, воин — во время битвы. Откуда я знаю, хватит ли у тебя духу вынести бедность, если ты утопаешь в богатстве? Откуда я знаю, хватит ли у тебя твердости перед лицом поношения, позора и всенародной ненависти, если ты состарился под аплодисменты, если всеобщее расположение и благосклонность неизменно следуют за тобой по пятам? Откуда я знаю, сможешь ли ты со спокойной душой перенести утрату семьи, если покамест ты окружен всеми, кого произвел на свет? Я слышал, как ты утешал других; но мне нужно посмотреть, как ты сам себя утешишь, как запретишь себе скорбеть.
(6) Прошу вас, не пугайтесь того, что бессмертные боги используют вместо стрекала для возбуждения нашего духа: бедствие — самый удобный случай для проявления доблести. По-настоящему несчастными можно назвать тех, кого избыток счастья превратил в расслабленных, кто покоится в праздности, словно корабль, попавший в полосу полного безветрия. Что бы с ними ни случилось, все застанет их врасплох. (7) В жестоких обстоятельствах хуже всего приходится неопытным; для нежной шеи ярмо — непосильная тяжесть. Новобранец бледнеет от одной мысли о ране, ветеран же не боится вида своей крови, ибо знает, что не раз уже, пролив кровь, одерживал победу. Так и знай: кого бог признает, кого любит, кем доволен, того он закаляет, без конца испытывает, заставляет без отдыха трудиться.
Тех же, к кому он, на первый взгляд, снисходителен и милостив, он оставляет мягкими и беззащитными перед лицом грядущих зол. Ибо если вы думаете, что кто-то может вовсе избежать их, вы ошибаетесь. Вечный баловень судьбы тоже дождется своей доли бед; и вообще всякий, кто кажется избежавшим зла, просто еще его не дождался.
(8) Почему, как ни появится очень хороший человек, бог непременно норовит уязвить его: либо дурным здоровьем, либо горем каким-нибудь или другими неприятностями? А потому же, почему на войне самые опасные задания поручаются самым храбрым и сильным: если нужно напасть на врага ночью из засады, разведать путь или снять защитников укрепления, военачальник посылает избранных. И никто из них при этом не говорит: «Вот какую гадость устроил мне начальник», — но говорят, довольные: «Он правильно решил». Точно так же могли бы сказать и те, кому бог повелевает терпеть то, что исторгло бы слезы и вопли у ленивых трусов: «Видно, бог счел нас достойными и на нас решил испытать выносливость человеческой природы».
(9) Бегите радостей, бегите счастья, лишающего нас сил, иначе души ваши размякнут, и если не стрясется что-нибудь, что напомнило бы им об общей человеческой участи, то они навеки уснут у вас, словно пьяные. Человек, которого застекленные окна защищали от малейшего дуновения, на чьих ногах постоянно менялись мягкие согревающие повязки, у кого в столовой под полом и в стенах всегда работало отопление, подвергается смертельной опасности, даже если его коснется самый легкий ветерок. (10) Вообще-то вредит все, что переходит меру, но самое страшное — неумеренное счастье: оно возбуждает беспокойное волнение в мозгу, в душе — пустые мечтания и заливает границу, отделяющую истинное от ложного, густым мраком. Разве не лучше, призвав на помощь добродетель, переносить постоянные несчастья, чем лопнуть от притока всевозможных благ? От голода умирают тихо и спокойно, от обжорства с треском лопаются.
(11) В отношении добрых мужей боги следуют той же методе, что и учителя в отношении учеников: они требуют больше работы от тех, кто подает большие надежды. Неужели ты думаешь, что лакедемоняне ненавидели своих детей, если ради испытания мужества они секли их публично? Рядом стояли их собственные отцы и подбадривали их, чтобы храбро сносили удары, и просили истерзанных и полумертвых мальчиков крепиться и подставлять сплошь израненное тело под новые раны. (12) Так что же удивляться, если бог жестоко испытывает благородные души? Доказательство добродетели не может быть мягким. Пусть фортуна сечет нас и терзает: будем терпеть! Это не жестокость, это состязание, и чем чаще мы будем вступать в него, тем сильнее мы станем.
Самая крепкая часть тела — та, которой чаще всего пользуются. Надо подставлять себя под удары судьбы, чтобы, сражаясь с нами, она делала нас тверже; постепенно она сама сделает нас равными себе, и привычка к опасности даст нам презрение к опасности. (13) Так, у корабельщиков, борющихся с морем, бывает твердая загрубелая кожа; у земледельцев — натертые мозолями руки; у солдат от метания дротиков могучие предплечья; у бегунов — подвижные, легкие члены, словом, крепче всего бывает то, что чаще упражняется. Терпеливо перенося беды, душа достигает того, что начинает презирать это терпеливое перенесение, как вещь совершенно ничтожную. Во что могло бы превратить нас подобное терпение, ты поймешь, если обратишь внимание на племена, так сказать, голые, лишенные самого необходимого и благодаря этому отличающиеся телесной крепостью: им приходится постоянно сталкиваться с трудностями, и как много это им дает! (14) Я имею в виду те племена, на которые не распространяется римский мир, — германцев и разные кочевые народы, бродящие у берегов Истра. У них там вечная зима, мрачное, низко нависающее небо придавливает их к земле, скупая бесплодная почва не дает им почти ничего; от дождя они накрываются листвой или соломой, рыщут по льду замерзших болот и озер, добывая себе пропитание охотой. (15) Они кажутся тебе несчастными? Не может быть несчастья там, где обычай привел людей назад к природе. Занятия, первоначально вызванные необходимостью, постепенно превратились в удовольствие. Они не строят домов, не имеют собственных жилищ, отдыхая там, где застигнет их усталость; пища самая простая, и добывать ее приходится голыми руками; климат у них чудовищный; тела не покрыты одеждой; все это кажется тебе ужасным, но подумай, сколько народов всегда так живут!
(16) Ты удивляешься, что на долю хороших людей выпадают потрясения: но ведь без этого они не обрели бы твердости. Дерево вырастает сильным и крепким лишь там, где его постоянно сотрясают порывы ветра; терзаемое бурей, оно становится тверже и прочнее вонзает корни в землю; а те, что выросли в солнечных долинах, легко ломаются. Так что хорошим людям полезно жить среди ужасов: только так они могут стать бесстрашными — и почаще переносить то, что является злом лишь для того, кто плохо его переносит.
5. (1) Прибавь к этому еще вот что: лучшие люди трудятся и, так сказать, несут воинскую службу ради общего блага.
Бог, как и мудрый человек, желает показать всем: то, к чему стремится чернь, не есть благо, а то, чего она боится, не есть зло. Настоящее благо — это то, что достается на долю только хороших людей, а настоящее зло бывает уделом только мерзавцев. (2) Слепота может по праву считаться проклятием, если будут слепнуть лишь те, кто заслуживает ослепления; и вот, дабы люди не сочли ее настоящим злом, пусть не увидят больше света такие, как Аппий и Марцелл[132]. Богатство не есть благо, и, дабы сделать это очевидным, пусть богатеет сводник Элий, пусть люди видят деньги не только в храмах, но и в публичном доме. Каким еще способом удалось бы богу выставить на посрамление вожделенные для нас вещи, как не отняв их у лучших из людей и не отдав самым низким подлецам?
(3) «Однако все-таки несправедливо, чтобы добрый человек болел, чтобы его заковывали в цепи или вздергивали на дыбе в то самое время, как дурные люди ходят себе здоровые, свободные и ухоженные». Ты так думаешь? В таком случае несправедливо и то, чтобы доблестные мужи брались за оружие, ночевали в лагере и с наскоро перевязанными ранами стояли бы на часах у вала, в то время как всякие педерасты и развратники гуляют в полной безопасности по городу. В таком случае будет несправедливо и то, чтобы благороднейшие из дев поднимались среди ночи для свершения священнодействий[133], в то время как гулящие девки наслаждаются глубоким сном. — (4) Работа зовет лучших. Сенат часто заседает целый день напролет, а в это время люди, не стоящие ни гроша, отдыхают за городом на лужайке, или сидят где-нибудь в кабачке, или развлекаются в веселой компании.
Так уж заведено в мире — этом большом государстве: добрые люди трудятся, расходуют все силы и сами расходуются, причем по своей воле; судьбе не приходится тащить их, они сами идут за ней и торопятся поспеть. Если бы они знали, как, они бы перегнали ее. (5) Помню, вот еще какую мужественную речь я слыхал от нашего доблестного Деметрия: «О бессмертные боги, у меня на вас только одна жалоба: почему вы не открыли мне вашу волю раньше? Я первым, по собственному почину принялся бы за то, к чему вы меня сейчас призвали. Вы хотите взять моих детей? — Я для вас завел их. Хотите какую-то часть моего тела? — Берите, это немного, ведь скоро мне все равно отдавать все. Хотите дух мой? — Пожалуйста, я без промедления верну вам то, что вы мне дали. Я охотно отдам вам все, чего бы вы ни попросили. Но дело в том, что я предпочел бы предложить вам сам, не дожидаясь просьбы. Зачем вам было отнимать то, что вы всегда могли получить в дар? Впрочем, и сейчас вы не отнимаете, ибо нельзя отнять вещь у того, кто не старается ее удержать».
(6) Я ничего не делаю по принуждению; я ничего не терплю против воли; я не раб божий, я божий последователь, тем более, что я знаю, что все на свете происходит по твердо определенному вечному закону. (7) Каждого из нас ведет судьба, и с первой минуты рождения определено, сколько кому осталось жить. Одна причина ведет за собой другую, длинная цепь событий определяет всякое происшествие и частной и общественной жизни. Надо мужественно переносить все, что случается, ибо то, что мы считаем случайностью, на самом деле происходит закономерно. Чему ты будешь радоваться, о чем плакать, — все это было изначально установлено; и хотя жизни отдельных людей на первый взгляд поражают разнообразием, смысл их сводится к одному: мы овладеваем обреченными на гибель вещами, и сами тоже обречены на гибель. (8) Так что же мы возмущаемся? Что жалуемся? На то мы и рождены. Пусть природа распорядится принадлежащими ей телами, как захочет; мужественные и всем довольные, мы будем думать о том, что погибает не наше достояние: наше все при нас.
Как поступает добрый человек? — Отдается на волю рока. Большое утешение — знать, что тебя тащит вместе со всей вселенной; мы не знаем, что распоряжается нашей жизнью и смертью, но знаем, что та же необходимость управляет и богами. Одно и то же необратимое движение увлекает за собой богов и людей. Сам творец и правитель вселенной, написавший законы судьбы, следует им; однажды издав приказ, он сам теперь вечно повинуется. — (9) «Отчего же, однако, бог был так несправедлив в распределении судеб, зачем для хороших людей он предначертал бедность, раны и горькую смерть?» — Мастер не властен изменить саму материю, но лишь может придать ей ту или иную форму. Есть вещи, которые невозможно отделить от других: они встречаются только вместе, нераздельно. Существа, тупые и ленивые от природы, рождающиеся для сна или для бодрствования, едва отличимого от сна, составляются из слабых, косных элементов. Чтобы получился муж, о котором стоило бы говорить, надо, чтобы действовал более сильный рок. Путь его не будет гладок: он должен будет подниматься и падать, бороться с волнами и направлять свой корабль меж водоворотов. Ему придется прокладывать себе дорогу наперекор фортуне, по каменистым кручам; сделать их ровнее и мягче — его задача. Золото получает пробу в огне, доблестный муж — в несчастье. (10) Посмотри, как высоко надо подняться добродетели, и ты поймешь, что путь ее не может быть безопасным:
(11) Услышав эти слова, благородный юноша отвечал: «Эта дорога по мне; поднимаюсь. По таким местам стоит пройти, даже если мне суждено упасть». Его собеседник вновь пытается запугать отважную душу:
А юноша в ответ: «Готовь обещанную колесницу! То, чем ты надеешься отпугнуть меня, лишь возбуждает мою решимость. Мне хочется бестрепетно встать там, где трепещет само Солнце». Искать безопасных путей — дело низкого труса и лентяя; добродетель стремится вверх.
6. (1) «Но как же все-таки бог допускает, чтобы с добрыми людьми случались несчастья?» — А он не допускает. Он ограждает их от подлинных несчастий: от преступлений и подлостей, от нечистых помышлений и корыстных замыслов, от слепого вожделения и от алчности, покушающейся на чужое добро. Он блюдет и защищает их самих: неужели кто-то станет требовать от бога еще и того, чтобы он охранял поклажу добрых людей? Впрочем, они сами снимают с бога подобную заботу: они презирают все внешнее. (2) Демокрит отказался от богатства, сочтя его лишь бременем для доброй души. Стоит ли удивляться, если бог порой допускает, чтобы с добрым мужем случалось то, чего добрый муж иногда сам себе желает? Добрым людям случается терять сыновей. Почему бы и нет? Ведь они иногда и сами их убивают[136]. Добрых людей убивают. Почему бы и нет? Ведь они иногда и сами налагают на себя руки. (3) Почему им приходится переносить жестокие невзгоды? Чтобы других научить терпению; они рождены в пример и поучение.
Итак, считай, что бог словно бы говорит нам: «Есть ли вам за что на меня пожаловаться, вам, кто возлюбил правду? Других я окружил ложными благами, посмеялся над пустыми душами, заставив их поверить в обманчивое сновидение длиною в жизнь. Я украсил их золотом, серебром и слоновой костью, но внутри там нет ничего хорошего. (4) Вы смотрите на них как на счастливцев; но взгляните не на то, что они выставляют напоказ, а на то, что прячут: они жалки, грязны, бесчестны, низки; они ухаживают за собой, как за стенами собственных домов, украшая только снаружи. Это не прочное, неподдельное счастье, а всего лишь оболочка, и притом тонкая. Пока ничто не нарушает их покоя и не мешает принимать такой вид, какой им хочется, они всякого могут ввести в заблуждение наружным блеском; но стоит случаю нарушить их равновесие или откинуть с них покров, как обнажается глубокая и истинная мерзость, прежде скрывавшаяся под заемным блеском.
(5) Вам же я даровал блага прочные, постоянные; их можно разглядывать со всех сторон, поворачивать как угодно — они будут казаться все больше и лучше. Я позволил вам не бояться страшного, презирать вожделения. Вы не блестите снаружи: ваши достоинства обращены вовнутрь. Так космос презрел внешнее и радуется созерцанию самого себя. Все благо я поместил внутри; ваше счастье в том, чтобы не нуждаться в счастии. — (6) “Да, но сколько выпадает на нашу долю горя, ужасов, непереносимо жестоких испытаний!” — Не в моей власти было избавить вас от этого, и потому я вооружил ваши души против всех невзгод; переносите их мужественно. В этом вы можете превзойти бога: он — по ту сторону зол, вы же можете подняться выше их. Презирайте бедность: никто не бывает при жизни так беден, как был при рождении. Презирайте боль: она уйдет от вас либо вы от нее уйдете. Презирайте смерть: это либо конец, либо переход куда-то. Презирайте фортуну: я не дал ей ни одной стрелы, которая могла бы поразить дух. (7) Главной моей заботой было избавить вас от всего, что могло бы заставить вас поступать против воли: вам всегда открыт выход. Не хотите драться — можете бежать. Вот почему из всех вещей, которые я счел необходимыми для вас, самой легкодоступной я сделал смерть. Я поместил душу на покатом месте: от малейшего толчка она скользнет к выходу; приглядитесь и увидите, какая короткая и удобная дорога ведет на свободу. Я не заставляю вас ждать у выхода так же долго, как у входа. Если бы человек умирал так же долго, как рождается, фортуна забрала бы слишком большую власть над вами. (8) Всякое место, всякое время могут научить вас, как легко отказаться от жизни и кинуть назад природе полученный от нее дар. Стоя пред алтарем, глядя на торжественные обряды священнодействия, внимая молитвам о продлении жизни, учитесь смерти. Вот тучные быки валятся замертво от крошечной раны, и человеческая рука одним ударом поражает могучих животных; тоненький нож перерезает связку на затылке, разъединяя сочленение, связывающее голову с шеей, и вот вся громадная туша валится наземь.
(9) Дух спрятан неглубоко; чтобы выпустить его, не нужно непременно железо; не надо пронзать грудь глубокими ранами в поисках обиталища души: смерть везде под рукой. Я не назначал определенного места для смертельных ударов: этой цели можно достичь любым путем. А само то, что зовется умиранием — когда душа отходит от тела — свершается с молниеносной быстротой, какую не в силах воспринять наши чувства. Стянется ли удавка на шее, заткнет ли вода дыхательные пути, разобьется ли голова от падения на твердую землю, или попавший внутрь огонь перережет круговой бег души в теле, — как бы это ни произошло, оно произойдет быстро. Что, краснеете? Вы так долго боитесь того, что происходит так быстро!»
О ГНЕВЕ
Книга I
1. (1) Ты просил меня написать, Новат, как справляться с гневом. Просьба твоя показалась мне основательной: нам следует бояться гнева больше, чем всех прочих чувств, волнующих нашу душу, как самого отвратительного и самого неукротимо-буйного. В самом деле, остальные чувства наши хоть временами бывают спокойными и мирными, но гнев — это всегда возбуждение, раздражение, взрыв; неистовая, нечеловеческая жажда оружия, крови, казни; гневу безразлично, что станется с ним самим, лишь бы навредить другому; он лезет прямо на рожон, горя желанием отомстить во что бы то ни стало, хотя бы ценой жизни мстителя.
(2) Вот отчего некоторые из мудрых мужей называли гнев кратковременным помешательством. И верно: гнев так же не владеет собой, не заботится о приличиях, не помнит родства; так же упорен и целеустремлен в том, за что взялся, так же наглухо закрыт для советов и доводов разума; так же возбуждается по самому пустому поводу; неспособен отличать справедливое и истинное; человек во гневе подобен рушащемуся дому, который сам разваливается на куски над телами тех, кого задавил. (3) Присмотрись, как ведут себя люди, одержимые гневом, и ты убедишься, что они не в своем уме. Есть несколько верных признаков, позволяющих отличить буйнопомешанных: выражение лица бесстрашное и угрожающее; чело нахмурено; взор дик и мрачен; походка тороплива, руки в беспрестанном движении; цвет лица необычный; дыхание прерывистое и учащенное. Таковы же отличительные признаки разгневанных: (4) глаза горят и сверкают; все лицо чрезвычайно красное, ибо кипящая кровь поднимается из самой глубины сердца; губы трясутся, зубы стиснуты, волосы шевелятся и встают дыбом; дыхание вырывается со свистом и шипением; суставы трещат, выворачиваясь; он стонет, рычит, речь его прерывается и полна малопонятных слов; он то и дело хлопает в ладоши, топает ногами; все тело его дрожит от возбуждения, грозя великим гневом; страшное и отталкивающее лицо — искаженное, распухшее; не знаешь, чего больше в этом пороке — дурного или безобразного. (5) Другие пороки можно скрыть, предаваясь им без свидетелей; гнев не спрячешь — он весь отражается на лице, и чем он сильнее, тем заметнее.
Разве ты не замечал, что у всех животных нападение предваряется особыми признаками и тело их утрачивает обычный спокойный облик, на глазах ощетиниваясь и становясь более диким? (6) У кабана выступает из пасти пена, он начинает с громким лязгом точить клыки друг о друга; быки трясут рогами в воздухе и взрывают копытами песок, львы рычат, рассерженные змеи надувают шеи, бешеные собаки глядят мрачно. Самый страшный и опасный от природы зверь в приступе гнева начинает выглядеть еще более диким и грозным. (7) Я знаю, другие чувства тоже трудно скрыть: и похоть, и испуг, и дерзость выдают себя известными признаками, их можно угадать. Ни одно более или менее сильное внутреннее возбуждение не может не отразиться на лице. В чем же тогда отличие гнева? Прочие чувства бывают заметными; гнев же выдается настолько, что не заметно уже ничего другого.
2. (1) Хочешь, посмотри на разрушительные действия гнева: ни одна чума не обошлась человеческому роду так дорого. Ты увидишь окровавленные трупы; приготовленные яды; потоки грязи, которой обливают друг друга истец и ответчик; развалины городов; истребленные племена; головы вождей, пускаемые с молотка; факелы, поджигающие кровли; пожары, распространяющиеся за городские стены, и целые огромные страны, пылающие в неприятельском огне. (2) Посмотри, что осталось от знаменитейших некогда государств: мы с трудом различаем последние следы их фундаментов — их разрушил гнев. Посмотри на пустыни, тянущиеся на многие и многие мили без единого жителя: их опустошил гнев. Посмотри, сколько великих вождей осталось в памяти потомков примерами злосчастной судьбы: одного гнев заколол на собственной постели, другого сразил за пиршественным столом вопреки священным законам трапезы, третьего растерзал в клочья на глазах заполненного народом форума, где, казалось бы, место одним лишь законам[137], кровь четвертого пролил собственный сын, пятому перерезала царственное горло рабская рука, шестого распяли на кресте. (3) До сих пор я говорю лишь об отдельных случаях; но, может быть, тебе захочется, оставив тех, кого гнев испепелил поодиночке, взглянуть на целые собрания, вырезанные мечом; на толпы плебса, перебитые солдатами; на целые народы, приговоренные к смерти и обреченные совместной гибели… (лакуна) …(4) словно они пренебрегают нашей заботой или презирают наш авторитет. Как ты думаешь, отчего народ гневается на гладиаторов, и гневается так несправедливо, обижаясь, что они гибнут без особой охоты? Народ решает, что его презирают, и вот уже все — лица, жесты, пыл — обличает в нем не зрителя, а противника. (5) Но что бы это ни было, это не гнев, а некое подобие гнева, как дети, когда упадут и ушибутся, хотят, чтобы высекли землю; они часто сами не знают, отчего гневаются, просто гневаются, без причины и без обиды; впрочем, они всегда имеют в виду какую-нибудь воображаемую обиду и жажду воображаемого наказания обидчика. Сделайте вид, будто вы их бьете, и они поверят; затем сделайте вид, что вы плачете, и просите прощения, и они успокоятся, так как невсамделишная боль проходит от удовлетворения невсамделишным мщением.
3. (1) Нам возразят: «Мы часто гневаемся не на тех, кто причинил нам зло, а на тех, кто еще только собирается это сделать; следовательно, гнев рождается не из обиды». Верно, мы гневаемся на тех, кто собирается причинить нам зло, но самая мысль об этом уже есть зло, и собирающийся нанести обиду уже есть обидчик.
(2) «Но гнев не есть также и жажда возмездия[138], — возразят нам, — поскольку самые беспомощные часто гневаются на самых могущественных, но не жаждут возмездия, ибо не могут на него надеяться». Прежде всего, мы говорили, что гнев есть жажда возмездия, а не возможность осуществить его; желать могут и те, кто сделать не может. Кроме того, нет человека, стоящего так низко, чтобы он не мог надеяться как-нибудь наказать другого, даже если тот занимает самое высокое положение; что-что, а вредить все люди умеют неплохо. (3) Аристотелевское определение гнева близко к нашему; он говорит, что гнев есть желание воздать болью за боль[139]. Чем отличается наше определение от этого, объяснять долго. Но против обоих выдвигается обычно такое возражение: что, мол, дикие звери гневаются, не будучи обижены, и не оттого, что стремятся причинить кому-то боль или добиться справедливого наказания; ибо даже если в результате именно так и получается, то цель у них иная. (4) На это следует ответить, что дикие звери вообще не знают гнева, равно как и все прочие животные, за исключением человека. Ибо гнев, будучи врагом разума, не рождается там, где нет разума. У диких зверей бывает возбуждение, бешенство, свирепость, склонность нападать на всякого; но гнева у них не бывает, так же как и склонности к роскоши, хотя в иных страстях и удовольствиях они бывают даже разнузданнее, чем человек. (5) Не верь тому, кто говорит:
«Гневом» поэт называет их возбуждение, готовность броситься, напасть; в действительности, они не более способны гневаться, чем прощать. (6) У бессловесных животных нет человеческих чувств, хотя есть некоторые похожие побуждения. В противном случае, если бы они умели любить и ненавидеть, между ними существовали бы дружба и вражда, раздоры и согласия. Кое-какие следы таких чувств у них, правда, можно обнаружить, однако вообще-то все дурное и хорошее может жить лишь в человеческой груди. (7) Никому, кроме человека, недоступны благоразумие, предусмотрительность, усердие, рассудительность, зато животные, обделенные человеческими добродетелями, свободны также и от пороков. Они совершенно непохожи на человека ни внешне, ни внутренне: царственное и главенствующее начало[141] в них устроено по-другому. Так, у них есть голос, но неясный, нечленораздельный, неспособный произносить слова; у них есть язык, но он малоподвижен и не может производить достаточно разнообразные звуки; и точно так же главенствующему началу в них недостает тонкости и четкости. Оно воспринимает образы вещей, которые призывают его к определенным действиям, но образы эти смутные и расплывчатые. (8) От этого животные, хоть и приходят порой в сильнейшее смятение или возбуждение, все же не знают страха и тревоги, печали и гнева, но способны испытывать лишь нечто отдаленно их напоминающее. Вот отчего их настроения быстро проходят, сменяясь противоположными, и животное, только что бушевавшее яростью или потерявшее голову от страха, вдруг начинает мирно пастись, и после безумных воплей и скачков сразу ложится и тихо засыпает.
4. (1) Что такое гнев, мы объяснили достаточно подробно. Как он отличается от такой вещи, как гневливость, я думаю, понятно: как пьяный отличается от пьяницы, а испуганный от трусливого. Разгневанный человек может быть не гневлив; а гневливый бывает иногда не разгневанным.
(2) Греки различают множество разновидностей гнева, давая каждой свое имя[142]; я не стану подробно останавливаться на этом, поскольку в нашем языке для этих видов нет особых названий. Впрочем, и мы называем иной характер крутым или резким, а также говорим о людях раздражительных, злобных, бешеных, крикливых, тяжелых, колючих, — все это обозначения разных видов гнева; к ним нужно отнести и человека «нравного» — самая мягкая разновидность гневливости. (3) Бывает гнев, полностью выходящий в крике; бывают приступы гнева столь же упорные, сколь частые; бывает гнев скупой на слова, зато свирепый на руку; бывает такой, что весь выливается потоками горьких слов и проклятий; бывает такой, что проявляется вовне лишь холодностью или упреком; бывает глубокий тяжкий гнев, целиком обращенный внутрь. И еще тысяча других видов есть у этого многоликого зла.
5. (1) Итак, мы выяснили, что есть гнев, подвержено ли ему какое-либо животное, кроме человека, чем он отличается от гневливости и сколько бывает его разновидностей. Теперь попытаемся выяснить, сообразен ли гнев природе[143] и полезен ли он, а если да, то не следует ли сохранять его в себе хотя бы отчасти?
(2) Сообразен ли гнев природе, станет нам ясно тотчас, как только мы посмотрим, что такое человек. Что может быть мягче и ласковее человека, когда дух его настроен правильно? А гнев — самая жестокая вещь на свете. Какое существо любит других больше, чем человек? А гнев враждебен ко всем на свете. Человек рожден для взаимопомощи, гнев — для взаимоистребления; человек стремится к объединению, гнев — к разъединению; человеку свойственно приносить пользу, а гневу — вред; человек приходит на помощь даже незнакомому, гнев нападает даже на самых близких; человек готов пойти на издержки, чтобы сделать другому приятное, гнев готов сам подвергнуться опасности, лишь бы извести другого. (3) Следовательно, всякий, кто станет приписывать лучшему и совершеннейшему созданию природы этот дикий и губительный порок, тот изобличит полнейшее незнакомство с природой вещей. Мы уже говорили о том, что гнев есть жажда мести; но такому желанию нет места в груди человека, от природы он самое миролюбивое существо на свете. Человеческая жизнь держится благодеяниями и согласием, и не страх, а взаимная любовь побуждает человечество заключать договоры об общественной взаимопомощи.
6. (1) «Так что же, выходит, человек никогда не нуждается в наказании?» — Отчего же, нуждается, только наказывать нужно без гнева, с умом; наказание должно не вредить, а лечить под видом некоторого вреда[144]. Искривленное древко копья мы обжигаем на огне и забиваем клиньями в тиски не для того, чтобы сломать или сжечь, но чтобы выпрямить. Точно так же мы выправляем исковерканные пороком нравы, причиняя телесную или душевную боль. (2) Именно так поступает врач: при легком заболевании он прежде всего пытается немного изменить повседневные привычки больного, назначает порядок еды, питья, занятий, чтобы укрепить здоровье таким изменением жизненного распорядка. Как правило, помогает уже одно изменение образа жизни; если же не помогает, врач делает распорядок строже, кое-что полностью исключая из него; если и это не приносит пользы, вовсе отменяет питание и изнуряет тело голодом; если все эти более мягкие меры окажутся напрасными, врач открывает вену и пускает кровь; наконец, если какие-то члены, оставаясь соединенными с телом, наносят ему вред, распространяя болезнь, врач налагает на них руку; никакое лечение не может считаться жестоким, если его результат — выздоровление.
(3) Так и тому, кто стоит на страже законов и управляет обществом, подобает направлять подопечные души лишь словом, да и то выбирая слова помягче: он должен советовать, что следует делать, внушать стремление к честному и справедливому, ненависть к порокам, уважение к добродетелям, затем пусть переходит к речам более суровым, к выговорам и предупреждениям; и только в последнюю очередь к наказаниям; и то, выбирая вначале легкие, не безвозвратно губящие; высшую меру наказания пусть он назначает лишь за высшее преступление, дабы на гибель осуждались лишь те, чья гибель была бы в интересах всех, включая самого погибающего. (4) От врача он будет отличаться лишь тем, что врач по возможности облегчает уход из жизни для тех, кого уже не может спасти; а управляющий государством выгоняет осужденных из жизни с позором, выставляя их на публичное поругание: не оттого, конечно, что наказание доставляет ему удовольствие — мудрый далек от такой бесчеловечной жестокости, — а для того, чтобы они послужили предостережением для всех прочих, и раз уж не захотели приносить пользу при жизни, чтобы послужили государству хотя бы своей смертью. В человеческой природе нет стремления кого-то наказывать; поэтому и гнев, всегда стремящийся наказать кого-то, не сообразен человеческой природе.
(5) Приведу еще один аргумент, позаимствованный мной у Платона (я не вижу ничего дурного в том, чтобы приводить чужие мысли; если я их разделяю, то они — и мои тоже): «Добрый человек не причиняет зла»[145]. Но наказание есть причинение зла; следовательно, доброму человеку не подобает наказывать, а значит, не подобает и гневаться, поскольку гнев связан с наказанием. Если хороший человек не радуется чужому наказанию, он не станет радоваться и тому чувству, для которого наказание — высшее удовольствие; следовательно, гнев не естественен для человека.
7. (1) Но может быть, хоть гнев и не прирожден, нам следовало бы взять его на вооружение, поскольку он часто бывает полезен? Он поднимает дух и возбуждает его; без гнева самый мужественный человек не совершил бы на войне подвигов: это пламя необходимо, чтобы подогревать мужество и посылать храбрецов в самую гущу опасности. Вот отчего некоторые полагают, что лучше всего — ввести гнев в известные границы, но не уничтожать его совсем; нужно избавляться от излишков гнева, переливающих через край, оставив умеренное количество, ровно столько, сколько нужно для благотворного воздействия на человека, чтобы не ослабела его деятельная решимость, не увяли силы и жизненная энергия[146].
(2) Но, во-первых, от всякой пагубной страсти легче всего совсем избавиться, чем научиться ею управлять; легче не допустить ее, чем, допустив, ввести в рамки умеренности. Ибо, едва вступив в права владения, страсти сразу становятся могущественнее, чем их предполагаемый правитель — разум, и не позволят ни потеснить себя, ни умалить. (3) Во-вторых, сам разум, которому мы вручаем вожжи, сохраняет свою власть лишь до тех пор, пока остается вдали от чувств; стоит ему соприкоснуться с ними и впитать в себя часть скверны, и он уже не в состоянии сдерживать те самые чувства, от которых без труда мог держаться подальше. Однажды взволнованная и потрясенная душа становится рабыней того, что нарушило ее покой. (4) Есть вещи, начало которых — в нашей власти, но затем они захватывают нас силой и не оставляют нам пути назад. Так бывает с телами, летящими вниз, в пропасть; единожды сорвавшись, они уже не властны выбирать дорогу, замедлить свое движение или остановиться; стремительное и необратимое падение словно отрубает у них всякую решимость или раскаяние, и им уже нельзя не достичь конца пути, которого можно было не начинать. То же самое происходит и с нашей душой, когда она бросится очертя голову в гнев, любовь или другое подобное чувство: она уже не в состоянии остановиться; собственный вес увлекает ее вниз, и тянет на дно всегда устремленная книзу природа порока.
8. (1) Самое лучшее — тотчас прогнать только возникающее раздражение, подавить гнев в самом зародыше и всегда внимательно следить за собой, как бы не вспылить. Ибо если гневу удастся схватить нас и потащить в другую сторону, нам трудно будет вернуться назад, в здравое состояние, поскольку там, куда однажды получило доступ чувство, не остается ни следа разума; если наша воля предоставит чувству хоть малейшие права, оно сделает со всем прочим, что есть в нас, то, что захочет, а не то, что мы ему позволим. (2) Повторяю: врага надо отражать, как только он перешел границу; ибо когда он уже вошел в городские ворота, он едва ли станет выслушивать условия своих пленников. Дело в том, что дух наш не может беспристрастно наблюдать за чувством со стороны, не позволяя ему заходить дальше, чем следует; он сам превращается в чувство и, преданный нами, ослабленный, уже не в состоянии вернуть себе былую силу, столь полезную и благотворную. (3) Чувство и разум, как я уже говорил, не помещаются в нас отдельно, независимо друг от друга, но являются изменениями духа к худшему или лучшему[147]. Как может воспрянуть разум, поддавшийся гневу, если он захвачен и подавлен пороками? Как может он высвободиться из беспорядочного смешения, если в этой смеси преобладает худшее?
(4) «Однако бывают люди, — возразят мне, — сдержанные в гневе». Насколько сдержанные? Настолько, что не делают ничего, что диктует им гнев, или делают лишь кое-что? Если ничего, то, значит, гнев совсем не так необходим для решительных действий, как вы полагали, призывая его на помощь разуму, у которого будто бы нет такой мощи, как у гнева. (5) Наконец, я поставлю вопрос так: гнев сильнее разума или слабее? Если сильнее, то как же смог бы разум его обуздывать, ведь повинуется обычно только слабейшее? Если слабее, то разум и без него справится с любым делом, не нуждаясь в помощи более слабого. (6) «Но есть ведь люди, которые и в гневе остаются верны себе и не теряют самообладания». Да, но когда? Когда гнев начинает утихать и сам по себе уже проходит; а не тогда, когда он распален до белого каления — тут он сильнее их. (7) «Так что же, ты не согласишься, что иногда и в пылу гнева отпускают ненавистных людей целыми и невредимыми, воздерживаясь от мести?» — Бывает. Но в каких случаях? Когда одно чувство одержит верх над другим, и страх или жадность одолеют гнев. Это не покой, устанавливающийся под благодетельным воздействием разума, а дурное и ненадежное перемирие между чувствами.
9. (1) Гнев не приносит пользы и не побуждает дух к воинским подвигам. Ибо самодовлеющая добродетель не нуждается в помощи порока. Когда необходимо решительно действовать, она сама воспрянет, не распаляясь гневом, и будет усиливать или ослаблять свое напряжение ровно настолько, насколько сочтет нужным, как метательные снаряды вылетают из катапульты с такой силой, какая желательна выпускающему их. (2) Аристотель говорит: «Гнев необходим, ибо без него нельзя выиграть ни одного боя; для военного успеха нужно, чтобы он наполнил душу и воспламенил дух. Следует, однако, употреблять его не в качестве полководца, а как простого солдата»[148]. Это неверно. Если гнев внемлет разуму и следует туда, куда его ведут, то это уже не гнев, чье отличительное свойство — упрямство. Если же он сопротивляется разуму, не утихая, когда приказывают, но продолжая буйствовать по собственному произволу, тогда он такой же негодный помощник душе, как солдат, не исполняющий приказа к отступлению. (3) Итак, если он позволяет заключить себя в известные границы, то это уже не гнев, и надо называть его каким-либо другим именем, ибо под гневом я понимаю чувство необузданное и неуправляемое. Если же не позволяет, то он пагубен для нас и не может считаться ни союзником, ни помощником. Итак, он либо не гнев, либо бесполезен. Ибо если человек требует возмездия не ради возмездия, а потому, что так должно, его не следует считать разгневанным. Полезный воин — тот, кто умеет повиноваться приказу, а любое чувство — столь же плохой исполнитель, сколь и распорядитель.
10. (1) Вот почему разум никогда не возьмет себе в помощники непредсказуемые и неистовые побуждения, для которых он сам ровно ничего не значит и не может усмирить их иначе, как столкнув с другими такими же: гнев со страхом, лень с гневом, робость с жадностью. (2) Да минует добродетель такое несчастье, чтобы разуму пришлось прибегать к порокам. Такой дух никогда не обретает надежного покоя, в нем всегда будет бушевать буря и вспыхивать мятеж, если он привык полагаться лишь на собственные недостатки, если он не может быть мужествен без гнева, деятелен без жадности, спокоен без страха: подобная тирания ожидает всякого, кто отдаст себя в добровольное рабство какому-нибудь чувству. Неужели вам не стыдно делать добродетели клиентами пороков? (3) Если разум ни на что не способен без чувства, он в конце концов утратит и свою разумность, во всем сравнявшись с чувствами и уподобившись им. Какая разница между чувством и разумом, если разум без чувства бездеятелен, а чувство без разума опрометчиво? Выходит, они равны, если одно без другого существовать не может. Но кто же согласится приравнять чувство к разуму? (4) Нам возражают, что «чувство полезно, если оно умеренно». Только в том случае, если оно полезно по природе. Но если оно не терпит над собой власти разума, то эта его полезная умеренность может выражаться лишь одним правилом: чем меньше его будет, тем меньше от него будет вреда. Иными словами, умеренное чувство есть не что иное, как умеренное зло.
11. (1) «Но в схватке с врагом гнев необходим». — Здесь менее, чем где бы то ни было. Тут особенно важно, чтобы напор и возбуждение не вырывались как попало, а были точно рассчитаны и повиновались нам. Почему нам уступают в бою варвары, превосходящие нас и телесной силой и выносливостью? Их злейший враг — их собственный гнев. Так же и гладиаторов спасает искусство, обезоруживает гнев. (2) Кроме того, зачем нужен гнев, если разум может сделать то же самое? Или ты полагаешь, что охотник гневается на зверя? Но тем не менее он смело встречает нападающего и преследует убегающего хищника: все это разум делает без гнева. Кто остановил бессчетные тысячи кимвров и тевтонов, потоками лившихся через Альпы, да так остановил, что и вестника не осталось сообщить домой об ужасном истреблении[149], если не гнев, заменивший им добродетель? Бывает, что гнев крушит и низвергает все на своем пути, однако еще чаще он губит сам себя. (3) Кто превзойдет германцев в храбрости? А в стремительности атаки? А в любви к оружию? Они ведь и рождаются и вскармливаются ради того, чтобы было кому носить оружие, оно у них — единственная забота, все прочее их не волнует. А кто превзойдет их в выносливости и терпении? Ведь у большинства из них нечем даже прикрыть тело и нет убежища, которое могло бы защитить от вечных морозов их страны. (4) И этим-то мужам наносят поражение испанцы с галлами и азиаты с сирийцами, воины изнеженные и никудышные, еще до того, как римский легион показался ввиду сражения, и виной тому — исключительно гневливость. А попробуй-ка только научи дисциплине эти тела, дай разум этим душам, не ведающим пока ни наслаждений, ни роскоши, ни богатства, что будет? В лучшем случае, нам придется немедленно возвращаться к древним римским нравам, а в худшем — не буду и загадывать.
(5) Чем иным сумел Фабий[150] восстановить сломленные силы империи, как не медлительностью, бесконечными проволочками и выжиданием; а ведь именно на это решительно неспособны разгневанные. Империя стояла тогда на краю гибели и погибла бы несомненно, если бы Фабий решился действовать так, как подсказывал ему гнев. Но ему предстояло решать общую судьбу государства, и, взвесив все силы, из которых нельзя было пожертвовать ни одной, не рискуя потерять все, он отложил в сторону и свою боль, и жажду мщения, целиком сосредоточившись на соображениях пользы и выжидая удобного случая; таким образом, он сначала одержал победу над гневом, а потом — над Ганнибалом. (6) А Сципион? Разве не казалось, что он вовсе забыл и про Ганнибала, и про пунийское войско, на которых ему следовало бы гневаться, и настолько не торопился переносить войну в Африку, что дал своим недоброжелателям повод объявить себя погрязшим в роскоши лентяем?[151] (7) А второй Сципион? Разве не сидел он долго-долго под Нуманцией, спокойно перенося ту мучительно обидную и для него, и для народа мысль, что Нуманция не сдается дольше, чем Карфаген?[152] Он обнес город сплошным валом и продолжал осаду, пока не довел врагов до того, что они стали гибнуть от собственных мечей. (8) Так что гнев не приносит пользы ни в бою, ни вообще на войне: он слишком склонен действовать опрометчиво и, желая подвергнуть опасности противника, не остерегается ее сам. Куда надежнее добродетель, которая сначала долго осматривается, выбирает нужное направление и, все обдумав, неторопливо начинает действовать строго по плану.
12. (1) «Так что же, — скажут нам, — добрый человек не разгневается, если на его глазах станут убивать его отца или насиловать мать?»[153] — Нет, не разгневается, но будет защищать их и покарает обидчиков. Или вы боитесь, что сыновняя почтительность окажется для него недостаточно сильным побуждением, если не будет подкреплена гневом? Вы еще спросите так: «Неужели, видя, как режут его отца или сына, добрый человек не заплачет, не упадет в обморок?» Мы видим, что так обычно ведут себя женщины, теряющие присутствие духа при малейшем упоминании об опасности. (2) Добрый муж будет исполнять свой долг без смятения и страха; не совершив ничего недостойного мужчины, он тем самым совершит достойное доброго мужа. Будут убивать отца — я стану защищать его; убьют — стану мстить, но не потому, что мне больно, а потому, что так должно.
(3) «Добрые люди гневаются, когда обижают их близких». Эти твои слова, Теофраст, отвращают людей от более мужественных наставлений: ты взываешь не к судье, а к зрителям. Ведь в подобном случае всякий человек ощущает гнев за своих близких; а все люди охотно признают должным то, что они и так делают. Почти каждый считает справедливым то чувство, которое сам разделяет. (4) Но ведь то же чувство они испытывают, когда нет горячей воды, когда разобьется стеклянный сосуд или башмак забрызгается грязью. Этот гнев вызывается не преданной любовью, как у детей, которые одинаково горько плачут, потеряв игрушку и лишившись родителей. (5) Гневаться за своих — свойство не преданной души, а слабой. Прекрасно и достойно выступить на защиту родителей, детей, друзей, сограждан, руководствуясь самим долгом, действуя добровольно, рассудительно, предусмотрительно, а не под воздействием внезапного бешеного побуждения. Ни одно чувство не возбуждает в нас такой жажды мести, как гнев; но именно поэтому он малопригоден для осуществления мести. Он чересчур пылок, тороплив, безумен; и как всякое почти вожделение, сам мешает осуществлению того, к чему стремится. Итак, гнев никогда не послужил ни к чему хорошему ни в мирное время, ни в войне. Ибо мир он превращает в подобие войны, а на войне забывает, что Марс беспристрастен, и стремится подчинить себе других, хотя сам собой не владеет.
(6) Кроме того, не следует ожидать от пороков пользы и принимать их на службу только потому, что когда-то в чем-то они оказались полезными: ведь и лихорадка приносит облегчение при некоторых болезнях, но тем не менее лучше всего было бы обойтись и без болезней, и без лихорадки. Выздороветь благодаря другой болезни — отвратительный вид исцеления[154]. Примерно так же обстоит дело и с гневом: пусть иногда он и оказывался неожиданно спасительным, как яд, кораблекрушение или падение с высоты, однако это не основание, чтобы считать его благотворным; нередко ведь бывало, что смертоносная вещь служила во благо.
13. (1) Далее, если что-то стоит того, чтобы им обладать, то чем больше его у нас будет, тем лучше[155]. Если справедливость — благо, то никто не скажет, что она станет лучше оттого, что немного поубавится. Если мужество — благо, то никто не пожелает, чтобы его у него стало меньше. (2) В таком случае и гнева, чем больше, тем лучше: кто же станет отказываться от прибавки какого-либо блага? Однако в большом количестве он неполезен; следовательно, и в любом неполезен. Благо, которое, увеличиваясь, становится злом, не благо.
(3) Нам говорят: «Гнев полезен, ибо делает людей воинственнее». В таком случае, полезно и опьянение, ибо делает людей задиристыми и дерзкими; нетрезвый человек гораздо скорее хватается за меч. Скажи уж тогда, что и умопомешательство необходимо для придания сил: известно ведь, что в приступе бешенства безумцы часто становятся намного сильнее. (4) А разве не бывало такого, чтобы страх делал человека храбрее? Часто последние трусы под страхом смерти сами кидались в битву. Но гнев, опьянение, страх и прочие столь же отвратительные и столь же мимолетные раздражения не способствуют укреплению добродетели, ибо она не нуждается в пороках; они могут лишь ненадолго возбудить обычный косный и трусливый дух. (5) Гнев делает мужественнее лишь того, кто без гнева вообще не знал, что такое мужество. Таким образом, он служит не подкреплением добродетели, а ее заменой. Если бы гнев был благом, разве не стал бы он отличительным свойством самых совершенных среди людей? Но кто же в действительности легче всего поддается гневу? Младенцы, старики и больные, и вообще все слабые и нездоровые отличаются раздражительностью.
14. (1) «Добрый человек, — говорит Теофраст, — не может не гневаться на злых». Выходит, чем человек лучше, тем гневливее. Ничего подобного, все наоборот: чем он лучше, тем миролюбивее, тем свободнее от власти любых чувств и ни к кому не питает ненависти. (2) В самом деле, за что ему ненавидеть тех, кто поступает дурно? Ведь на подобные поступки толкает их заблуждение. А благоразумный человек не станет ненавидеть заблуждающегося: в противном случае ему придется когда-нибудь возненавидеть самого себя. Он подумает о том, что и сам во многом грешит против добрых нравов; что многие его поступки нуждаются в прощении, и станет гневаться на себя. Ведь справедливый судья не может по-разному подходить к решению своего и чужого дела. (3) А я говорю вам, что не найдется такого человека, который мог бы отпустить себе все; а если кто-то заявляет, что он невинен, значит, он имеет в виду не собственную совесть, а свидетелей, ибо можно согрешить и без свидетелей. Насколько человечнее отнестись к грешникам мягко, с отеческой душой, и не преследовать их, но пытаться вернуть назад! Ведь если человек, не зная дороги, заблудится среди вспаханного поля, лучше вывести его на правильный путь, чем выгонять с поля палкой.
15. (1) Итак, согрешающего нужно исправлять: увещанием и силой, мягко и сурово; как ради него самого, так и ради других делать его лучше; тут не обойтись без наказания, но гнев недопустим. Ибо кто же гневается на того, кого лечит?
Вы скажете, что они неисправимы, что в них не осталось ничего мягкого, податливого, способного внушить добрую надежду. Ну что же, от тех, кто и впрямь не может не портить все, с чем соприкасается, следует избавить человечество; пусть перестанут быть дурными единственно доступным им образом, раз на другое они не способны; однако ненависти в этом быть не должно. В самом деле, за что мне его ненавидеть? (2) Напротив, избавляя его от него самого, я приношу ему самую большую пользу, какую могу. Разве, давая отрезать себе ногу, человек ее ненавидит? Это не ненависть, а полная жалости забота и тяжелое лечение. Мы убиваем бешеных собак; закалываем неукротимо дикого быка; пускаем под нож больных овец, чтобы они не перезаразили все стадо; мы уничтожаем всякий неестественный уродливый приплод; даже детей, если они рождаются слабыми и ненормальными, мы топим. Но это не гнев, а разумный расчет: отделить вредоносное от здорового. (3) Тому, кто распоряжается наказаниями, менее всего на свете приличен гнев, ибо наказание лишь тогда может быть благотворно и целительно, когда назначается решением суда. Вот почему Сократ однажды сказал своему рабу: «Я побил бы тебя, если бы не был сердит». Он отложил наказание раба до более спокойного времени, а в тот момент счел нужным заняться собственным исправлением. Но если даже Сократ не решался поддаться гневу, то у кого же он будет держаться в рамках умеренности?
16. (1) Итак, для обуздания заблудших и наказания преступников нет нужды в гневе наказующего; ибо если гнев есть душевный порок, то не следует, чтобы грешный карал чужие прегрешения. «Выходит, я не должен сердиться на разбойника? Выходит, я не вправе гневаться на отравителя?» — Нет; я ведь не стану гневаться на себя, вскрывая себе вену[156]. Всякое наказание я применяю в качестве лекарства. (2) Если, например, ты только еще вступил на путь заблуждений, и тебе еще не случилось тяжко упасть, хотя спотыкаешься ты часто, попытаюсь исправить тебя порицанием: сперва с глазу на глаз, затем — принародно. Если же ты зашел уже слишком далеко, чтобы тебя можно было исцелить словами, пусть тебя впредь сдерживает общественное бесчестье. А если тебя нужно пронять чем-нибудь посильнее, чтобы ты почувствовал, отправишься в ссылку в незнакомые места. Вот еще один закоренелый негодяй; его испорченность настолько окрепла, что и лечение требуется крутое: пропишем цепи и государственную тюрьму. (3) А иному я скажу так: «Твоя душа неизлечима; ты нанизываешь преступление на преступление, уже не дожидаясь, пока появится причина для их совершения, хотя в причинах для злых дел недостатка никогда не будет; для того, чтобы грешить, тебе довольно одной великой причины — греха. Ты опился подлостью, и она настолько пропитала твои внутренности, что вынуть ее можно только с ними вместе; бедняга, ты уже давным-давно ищешь смерти — мы поможем тебе, вылечим, избавим тебя от безумия, из-за которого ты мучаешься и мучишь других; мы предоставим тебе единственное еще доступное тебе благо — смерть». Зачем я стану гневаться на того, кому помогаю, чем могу? Ведь убить — это иногда высшее милосердие. (4) Если бы я пришел в больницу или в богатый дом как знающий врач, я не стал бы прописывать одно и то же лечение разным больным. Теперь же мне поручена забота о здоровье общества, и я вижу в разных душах самые разные пороки; для каждой болезни нужно изыскать свое средство: одного исцелит страх перед бесчестьем, другого изгнание, третьего боль, четвертого нужда, пятого железо. (5) Так что даже если мне придется надеть мою одежду магистрата наизнанку и созывать народное собрание трубным сигналом[157], я взойду на трибунал без всякой враждебности и ярости, и лицо мое будет лицом закона, а торжественные слова я произнесу не срывающимся от бешенства, а спокойным и серьезным голосом, чтобы приказ исполнить закон прозвучал не гневно, а сурово. Отдавая повеление обезглавить преступника, зашивая в мешок отцеубийцу, посылая на казнь солдата, ставя на вершину Тарпейской скалы предателя или врага государства, я буду действовать без гнева, с тем же выражением лица и настроением души, с каким я убиваю змей и ядовитых животных.
(6) «Гнев необходим, чтобы наказывать». — Неужели? Может быть, тебе кажется, что закон гневается на тех, кого не знает, кого не видел, о чьем появлении на свет не подозревал? Мы должны перенять дух закона, который не гневается, а постановляет. Ибо если доброму человеку позволительно гневаться на дурные поступки, то ему непредосудительно и завидовать счастью дурных людей. В самом деле, может ли быть зрелище отвратительнее, чем процветание иных нечестивцев, злоупотребляющих милостью фортуны, в то время как для таких, как они, трудно даже придумать достаточно злую судьбу, чтобы она была по заслугам? Однако добрый человек испытывает не больше зависти, наблюдая их благоденствие, чем гнева, когда видит их преступления: добрый судья осуждает негодные поступки, но не испытывает к ним ненависти.
(7) «Так что же, неужели, когда мудрецу приходится заниматься подобными делами, они нисколько не трогают его души и не выводят ее из обычного бесстрастия?» — Да, наверное, и он чувствует какое-то легкое, едва заметное волнение. По словам Зенона, и в душе мудреца остается шрам от зажившей раны. Так что и он, видимо, испытывает что-то вроде теней или призраков чувств, хотя сами они ему совершенно чужды.
17. (1) Аристотель говорит, что некоторые чувства, если правильно ими пользоваться, могут служить хорошим оружием[158]. Это было бы верно, если бы их можно было брать и откладывать в сторону по усмотрению того, кто ими пользуется, как военное снаряжение. Но это оружие, которым Аристотель снабжает добродетель, вступает в бой само по себе, не дожидаясь руки; вы им не владеете — оно само владеет вами. (2) Нет, нам не нужно никакое другое снаряжение: природа достаточно снарядила нас разумом. В нем она дала нам оружие твердое, надежное, не знающее износа, послушное, не обоюдоострое; оно никогда не обратится против своего хозяина. Одного разума достаточно не только для того, чтобы заранее обдумать ход сражения, но и для того, чтобы провести его; и ко всему прочему, что может быть глупее, чем разуму просить поддержки у гнева, чтобы вещь прочная опиралась на ненадежную, верная полагалась на неверную, здравая просила помощи у больной?
(3) А если я скажу тебе, что разум сам по себе много сильнее гнева даже в тех делах, для которых один только гнев и считается полезным? Ведь разум, однажды рассудив, что нечто должно быть сделано, остается тверд в своем решении: он никогда не найдет ничего лучшего, чем он сам, к чему стоило бы перемениться, и потому остается верен единожды выбранному решению. (4) А гнев часто отступает, например, перед милосердием; в нем нет настоящей крепости, он надут пустой спесью и внушителен лишь с виду, а разрушителен лишь вначале, как ветры, поднимающиеся от земли и берущие начало в реках и болотах: они порывисты, но быстро утихают. Так и гнев: (5) начинается порывом огромной силы, а потом слабеет и иссякает раньше времени; тот самый гнев, который весь так и горел кровожадностью, изобретая мысленно неслыханные виды казни, к тому времени, как надо казнить, уже, глядишь, утих и смягчился. Чувство сникает быстро, разум всегда одинаков. (6) Там, где чрезвычайная суровость судьи основывается на гневе, нередко случается, если заслуживающих смертной казни окажется много, что после крови двоих или троих гнев иссякает и на дальнейшие убийства его не хватает. Страшны всегда первые его приступы; как укусы ядовитой змеи смертельны, когда она, потревоженная, только что выползла из своей норы; но после нескольких укусов яд иссякает, и зубы ее становятся безвредны. (7) Таким образом получается, что совершившие равные проступки претерпевают неравные наказания, и даже провинившийся меньше терпит больше, если попадается под более горячую руку, да и вообще гнев неуравновешен: то он переходит всякую меру, то исчезает раньше времени, ибо он очень снисходителен к себе, во всем дает себе волю; суждения его произвольны, и слушать он никого не желает; не признает чужих доводов и ходатайств, твердо держась однажды принятого направления, и ни за что не отступится от своего суждения, даже если оно окажется неправильным.
18. (1) Разум терпеливо выслушивает обе стороны, а затем и сам просит отсрочки, чтобы хватило времени взвесить все и найти истину; гнев торопится. Разум хочет вынести такое решение, которое было бы справедливым; гнев хочет, чтобы считалось справедливым то, что он заранее решил. (2) Разум не смотрит ни на что, кроме самого предмета, о котором идет речь; гнев возбуждается пустыми и не идущими к делу мелочами. Его может воспламенить слишком уверенное лицо, чересчур громкий голос, чуть вольнее обычного речь, чуть изысканнее наряд, слишком честолюбивый адвокат или явная благосклонность народа; нередко гнев против защитника заставляет осудить обвиняемого; даже когда истина обнаруживается со всей очевидностью, гнев лелеет и бережно хранит свое заблуждение; он ни за что не позволит себя переубедить, и упорствование в дурных начинаниях кажется ему достойнее раскаяния.
(3) Я помню Гнея Пизона[159], мужа, свободного от многих пороков, но имевшего превратные представления: он почитал твердостью отсутствие гибкости. Он однажды приказал отвести на казнь солдата, вернувшегося из отпуска без своего спутника, за то, что тот якобы убил своего товарища, раз не может его предъявить. Солдат просил отсрочки, чтобы отыскать пропавшего, но ему не дали. Осужденный был выведен за вал и уже подставил шею, как вдруг объявился его товарищ, считавшийся убитым. (4) Тут центурион, назначенный руководить казнью, приказывает охраннику спрятать меч и отводит осужденного назад к Пизону, чтобы Пизон снял с него обвинение, ибо его уже сняла с солдата фортуна. При огромном стечении народа обоих товарищей, обнявших друг друга, везут назад через лагерь, под громкие радостные крики их соратников. Тут на трибунал в ярости поднимается Пизон и приказывает вести на казнь обоих, и того солдата, который не убивал, и того, которого не убили. (5) Что может быть недостойнее? Двое должны были погибнуть оттого, что один оказался невиновным. Но Пизон добавил и третьего. Он приказал казнить и того центуриона, который вернул осужденного. Из-за невиновности одного человека обречены были на гибель трое — тут же на месте. (6) О, до чего же изобретателен бывает гнев, когда ему нужно придумать причины своего бешенства. «Тебя, — сказал Пизон, — я приказываю казнить потому, что ты уже осужден; тебя — потому, что ты был причиной осуждения товарища по оружию; а тебя — за то, что не исполнил приказа своего военачальника убить этого солдата». Так он придумал три преступления — оттого, что не смог найти ни одного.
19. (1) Повторяю: главное зло гневливости заключается в том, что она неуправляема. Она гневается на саму истину, если ей покажется, что истина противоречит ее воле. С криком, шумом, сотрясаясь всем телом, она преследует тех, кого однажды выбрала, осыпая их руганью и проклятиями. (2) Разум никогда не делает этого; но если надо, молча, спокойно, с корнем вырывает целые дома, уничтожая целые семейства, опасные для государства, вместе с женами и детьми, сравнивая с землей жилища и навеки истребляя самые имена, враждебные свободе. Но при этом он не станет скрежетать зубами, дергать головой и производить телодвижения, неприличные для судьи, которому следует быть тем спокойнее и сохранять на лице тем большую важность, чем серьезнее выносимый им приговор.
(3) Как говорит Иероним: «Если тебе хочется кого-то зарезать, какой смысл вначале кусать губы?»[160] Интересно, что бы он сказал, если бы увидел, как проконсул спрыгивает со своего возвышения, вырывает у ликтора фаски и раздирает собственную одежду — и все это только потому, что на ком-то другом одежду раздерут позже, чем ему хотелось бы? (4) Какой смысл переворачивать стол? Зачем бить посуду? Зачем биться о колонны? К чему рвать на себе волосы и ударять себя по бедру или в грудь? Какой великий гнев! — думаете вы. Оттого, что ему нельзя сей же момент обрушиться на другого, как ему хочется, он обращается против самого себя! И вот человека уже крепко держат окружающие, умоляя помириться с самим собой.
(5) Ничего подобного не станет делать тот, кто свободен от гнева. Он назначит каждому наказание, какого тот заслуживает, а часто отпустит даже и того, кого уличил в проступке. Если раскаяние в содеянном позволяет надеяться на лучшее, если он поймет, что подлость в этом человеке еще не пустила глубокие корни, а запачкала только, как говорится, краешек души, он отпустит его безнаказанно, что не повредит ни прощенному, ни простившему. (6) Такой судья будет иногда карать большие преступления не так сурово, как меньшие, если первые совершены непреднамеренно и без жестокости, а последние обнаруживают и тщательно скрывавшееся коварство. За один и тот же проступок он назначит разное наказание, если один человек допустил его по небрежности, а другой, напротив, старался причинить как можно больше вреда. (7) Он будет стараться никогда не забывать о том, что любое наказание применяется с определенной целью: одно — для исправления дурных людей, другое — для их уничтожения. И в том и в другом случае он будет иметь в виду не прошедшее, а будущее, ибо, как говорит Платон[161], благоразумный человек наказывает не потому, что было совершено преступление, но для того, чтобы оно не было совершено впредь: прошедшее нельзя изменить, но будущее можно предотвратить. Иных он будет убивать публично, как образцы закоренелого порока, не поддающегося исправлению, не только для того, чтобы их самих предать смерти, но чтобы их смертью устрашить других.
(8) Дабы все это взвесить и правильно оценить, нужен человек, свободный от всякого душевного смятения: только такого следует допускать к делу, требующему величайшей осмотрительности, — к власти над жизнью и смертью. Хуже нет, как доверить меч разгневанному.
20. (1) Не следует также думать, будто гнев в какой-то степени способствует величию духа. Это не величие; это надутая опухоль. Когда больное тело раздувается, наливаясь злокачественной жидкостью, это не рост, а опасная отечность. (2) Все, кого безрассудный дух побуждает считать себя сверхчеловеком, думают, что стремятся к чему-то необыкновенно возвышенному; но под ногами у них нет твердого основания, а все, что выросло без фундамента, обречено упасть. У гнева нет опоры. Он рождается из того, что не прочно и не постоянно, и сам поэтому — пустое и ветреное чувство; он так же далек от подлинного величия духа, как наглость от храбрости, заносчивость в себе — от уверенности, уныние от серьезности, жестокость от суровости. (3) Между возвышенным духом и надменным, повторяю, очень большая разница. Гнев не предпринимает никаких усилий совершить что-нибудь прекрасное или великое; напротив, гневливость кажется мне отличительной чертой несчастного, вялого, ничтожного духа, сознающего собственную слабость; подобные души бывают так же болезненно чувствительны, как больные гноящиеся тела, легчайшее прикосновение к которым вызывает громкие стоны. Так что гнев — самый женственный и ребяческий из пороков. — «Однако он встречается и у мужей». — Конечно, потому что и у мужей бывает женский или детский характер.
(4) «Ничего подобного, — возразят нам, — послушайте, как иные говорят в гневе, и вы увидите, что сами эти речи выдают великий дух». — Да уж, великий — только для тех, кто не знает, что такое настоящее величие. А для тех, кто знает, такие речи страшны и омерзительны: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»[162]. Сразу видно, что написано во времена Суллы. Я даже не знаю, какое из двух пожеланий хуже: быть предметом ненависти или страха. — «Пусть ненавидят». — Но, сказав это, он сообразил, что рано или поздно они станут проклинать вслух, устраивать заговоры и, наконец, с ним покончат. И чего же он тогда пожелал в придачу? Да покарают его боги, он придумал средство, достойное того, от чего оно должно помочь — ненависти. «Пусть ненавидят…» — и что же дальше? Лишь бы повиновались? — Нет. Лишь бы уважали? — Нет. Так что же? — «Лишь бы боялись». На таком условии я не захотел бы и любви. (5) Ты думаешь, что это сказано от величия духа? Ошибаешься; это не сверхчеловеческое величие, а великая бесчеловечность.
Не верь словам людей, охваченных гневом: они много шумят, много грозятся, а внутри — самая трусливая душа. (6) Не верь тому, что написано у красноречивейшего мужа Тита Ливия: «Муж характера скорее великого, нежели доброго»[163]. Эти вещи неотделимы друг от друга: характер либо будет добрым, либо не будет великим. Я понимаю под величием души ее неколебимую безмятежность и внутреннюю прочность; снизу доверху она равно тверда и неизменна, чего не может быть в дурных характерах. (7) Они могут быть буйны, могут внушать страх и нести разрушение; но величия в них не будет никогда, ибо его сила, его прочность и его основание — в доброте. (8) Впрочем, манерной речью, поведением и всем своим внешним видом они часто производят впечатление величественное; изрекают что-нибудь многозначительное, что ты принимаешь за проявление величия духа, вроде Гая Цезаря[164], который разгневался однажды на небеса за то, что своим громом они помешали ему смотреть пантомиму; ему, правда, не столько хотелось ее смотреть, сколько потом самому представить, а тут молнии перепугали всю разгульную компанию — вот уж, поистине, они попали не туда, куда нужно! — и он вызвал Юпитера на бой, причем не просто так, а на смертный, выкрикнув небу гомеровский стих: «Или ты меня, или я тебя!»[165] (9) Какое безумие! То ли он был уверен, что ему не может причинить вреда даже Юпитер, то ли думал, что сам может повредить Юпитеру. Я полагаю, что это его восклицание прибавило немало решимости заговорщикам: они решили, что дольше уживаться с тем, кто не может ужиться даже с Юпитером, переходит предел человеческого терпения.
21. (1) Итак, в гневе нет решительно ничего великого, ничего благородного, каким бы он ни казался могучим, какое бы ни высказывал презрение к богам и людям. А если кому-то угодно считать гнев источником душевного величия, то пусть считает таковым и страсть к роскоши: ведь она стремится воссесть на слоновой кости, одеться в пурпур, кровлю обить золотом, перенести с места на место целые земли, перегородить моря, реки превратить в водопады, а рощи подвесить в воздухе. (2) Пусть тогда источником величия считается и корыстолюбие: оно покоится на горах золота и серебра, возделывает пашни размером с хорошую провинцию, и каждый из виликов управляет у него имением куда бо́льшим, чем доставалось в управление консулам. (3) Пусть и похоть считается величием духа: как-никак, она переплывает проливы[166], кастрирует целые стада мальчиков, идет прямо на меч разгневанного супруга, презирая смерть. Величием духа придется признать и честолюбие: не удовлетворяясь годичными почестями, оно хочет, если удастся, заполнить одним-единственным именем весь календарь, назвать в честь одного имени все поселения на земном шаре.
(4) Нет, все эти страсти, как бы далеко они ни заходили и сколько бы пространства ни захватывали, всегда останутся узкими, жалкими, низменными. Одна добродетель велика и возвышенна. Да и не может быть величия без спокойствия.
Книга II
1. (1) В первой книге, Новат, у нас была очень благодарная материя: нетрудно скользить вниз, следуя наклонной плоскости пороков. Теперь нам нужно поставить вопрос уже: что дает начало гневу — решение или порыв? — то есть возникает ли он непроизвольно, сам по себе, или, как большинство других чувств, рождается внутри нас не без нашего ведома? (2) Нам придется спуститься в нашей с тобой беседе к предметам столь низким для того, чтобы впоследствии иметь возможность подняться выше. Точно так ведь в нашем теле сначала устанавливается его основа: кости, сухожилия, суставы, все жизненно важное, однако на вид малоприятное; затем на эту основу налагается то, что впоследствии составит красоту лица и всей внешности человека; и наконец, в самую последнюю очередь, по совершенно готовому уже телу разливается самое привлекательное и радующее глаз — цвет.
(3) Гнев возбуждается представлением о нанесенной нам обиде — в этом сомневаться не приходится. Но следует ли он сразу же за этим представлением, разгораясь сам, без всякого участия души, или приходит в движение лишь с согласия души, — это мы попробуем сейчас выяснить.
(4) Мы считаем, что гнев ничего не осмеливается предпринимать сам, действуя только с одобрения души. В самом деле, составить представление о понесенной обиде, возжаждать мести, затем связать первое со вторым и прийти к заключению, что меня нельзя обижать и что я должен быть отомщен, — все это не может быть делом порыва, возбуждающегося в нас без участия нашей воли. Порыв всегда прост; а тут мы имеем нечто сложное и составленное из многих частей. Человек испытал впечатление, понял нечто, возмутился, осудил, а теперь пытается отомстить: такого не может быть, если душа сама не присоединилась к непроизвольно тронувшему ее порыву.
2. (1) Ты спросишь: «А для чего нам, собственно, заниматься этим вопросом?» — Чтобы знать, что такое гнев. Если он рождается помимо нашей воли, то он не подлежит разуму. В самом деле, любое движение, возникающее в нас невольно, непобедимо и неизбежно, как мурашки по коже, когда нас неожиданно обрызгают холодной водой, или как отвращение при некоторых прикосновениях. Когда мы внезапно получаем очень дурные вести, волосы наши встают дыбом; когда мы слышим непристойные речи, по щекам разливается румянец, а когда заглядываем в пропасть, кружится голова. Все это — не в нашей власти, поэтому разум никак не может предотвратить этого. (2) Гнев же прогоняется убеждением, поскольку он — произвольный порок души и не принадлежит к числу тех порывов, которые вытекают из общих условий человеческой участи и потому бывают свойственны даже мудрейшим из людей; к этим последним следует отнести и тот первый укол, какой ощущает наша душа, восприняв обиду.
(3) Такой укол мы невольно чувствуем и глядя на представляемую на сцене драму, и читая о старинных событиях. Мы часто замечаем, что гневаемся, например, на Клодия[167], когда читаем, как он изгнал Цицерона и убил Антония; а кому не приходилось возмущаться выступлением Мария, проскрипциями Суллы? Кто не приходил в ярость против Теодота и Ахиллы, против того мальчика, что отважился на недетское преступление?[168] (4) Нас часто возбуждает пение или быстрый ритм, или воинственные звуки труб; страшная картина также волнует души, а зрелище казней, пусть наисправедливейших, повергает нас во мрак. (5) По той же причине мы начинаем смеяться со смеющимися, печалимся, попав в толпу горюющих, и приходим в возбуждение, глядя, как другие состязаются.
Такой гнев — ненастоящий, как и печаль, которая хмурит наше чело, когда мы смотрим мимическое представление кораблекрушения, как и страх, морозом пробегающий по душам слушающих чтение о том, как Ганнибал после Канн осадил стены Рима. Все это — невольные движения души; не чувства, а некие первоначальные порывы, предшествующие возникновению чувств. (6) Так звук трубы вдруг заставит насторожиться бывшего солдата, хотя он давно мирный гражданин и одет в тогу; так боевые кони напрягаются, заслышав бряцанье оружия. Говорят, рука Александра всегда тянулась к мечу, стоило Ксенофанту заиграть на флейте.
3. (1) Ни одно из этих движений, случайно захватывающих наш дух, не следует называть чувством. Все это дух, так сказать, скорее претерпевает, нежели делает. Чувство же состоит не в том, чтобы быть тронутым представляющимися нам образами вещей, а в том, чтобы позволить увлечь себя и самому последовать за подобным случайным движением. (2) Если кто-нибудь, заметив бледность, выступившие на глазах слезы, или капли пота, глубокий вздох и внезапно вспыхнувшие глаза, или еще что-нибудь в этом роде, сочтет это признаком чувства и проявлениями души, то ошибется: все это — телесные, а не душевные движения. (3) Самый мужественный муж, берясь за оружие, бледнеет; у самого неустрашимого и яростного солдата при сигнале к бою немного дрожат коленки; у самого великого полководца, когда два враждебных строя двинулись друг на друга, но еще не сшиблись, сердце словно подпрыгивает вверх и останавливается в горле; и у самого красноречивого оратора, когда он готовится произнести речь, холодеют руки и ноги.
(4) Гнев должен не просто возникнуть: ему нужно разойтись. Гнев — порыв, но такой порыв, какого никогда не бывает без согласия души, ибо без ведома души не может идти дело о мщении и каре. Предположим, некто счел себя обиженным и хотел мстить, но по какой-то причине решил отказаться от этого намерения и тотчас успокоился. Такое движение, послушное разуму, я не называю гневом. Гнев — это то, что захлестнуло разум и увлекло его за собой. (5) Итак, первое волнение души, вызванное представлением об обиде — не больше гнев, чем само представление об обиде. А вот следующий порыв, в котором содержится уже не только восприятие, но и одобрение представления об обиде, — это гнев, возбуждение души ко мщению, основанное на суждении и воле. Никто никогда не усомнится в том, что страх предполагает бегство, а гнев — наступление; так поразмысли же хорошенько: можешь ли ты устремиться в наступление или избегать чего-либо без согласия твоей души.
4. (1) Узнай также, каким образом чувство начинается, растет и становится всепоглощающим: первое движение — невольное, как бы подготовка чувства и своего рода предостережение; второму уже сопутствует воля, но еще не упрямая; например, если меня обидели, мне следует отомстить, или если некто совершил преступление, то мне следует покарать его; третье движение — уже необузданное: оно желает мстить не потому, что так следует, а независимо от этого, и совершенно подчиняет себе разум. (2) Первого удара наш разум не может отвести от души, как не может предотвратить и тех непроизвольных движений тела, о которых мы говорили: мы не можем не зевать, когда другие вокруг зевают, не можем не зажмуриться, если нам внезапно ткнут пальцем в глаз. Над этим разум не властен; может быть, лишь привычка и постоянное внимание в состоянии ослабить такие непроизвольные движения. Второе же движение чувства рождается благодаря решению и решением же уничтожается.
5. (1) Теперь нужно разобрать еще вот какой вопрос: есть люди, отличающиеся постоянной свирепостью и радующиеся человеческой крови; в гневе ли убивают они тех, кто ничем их не обидел, настолько, что и сами убийцы не считают себя обиженными? Таким были Аполлодор[169] или Фаларид[170]. (2) Это не гнев, это зверство. Такой человек вредит другим не потому, что его обидели; наоборот, он готов принять обиду, лишь бы получить возможность вредить. Он жаждет бить и терзать не ради мести, но ради удовольствия. (3) Отчего это бывает? Источник этого зла — гнев. Если ему часто дают волю и утоляют досыта, он доходит до полного забвения милосердия и вытесняет из души все человеческие обязательства по отношению к ближним, превращаясь в конце концов в жестокость. Эти люди лютуют, словно отдыхают, смеясь и радуясь и получая великое наслаждение, и на вид они сильно отличаются от тех, кто охвачен гневом.
(4) Рассказывают, что когда Ганнибал увидел ров, полный человеческой крови, он воскликнул: «Что за прекрасное зрелище!» Оно показалось бы ему еще красивее, если бы он наполнил кровью целую реку или озеро! Но стоит ли удивляться, что такое зрелище — самое захватывающее для человека, рожденного для кровопролития и с младенчества видевшего вокруг себя резню? Фортуна будет благосклонна к тебе и на протяжении двадцати лет станет потворствовать твоей жестокости; повсюду глаза твои будут находить любезное им зрелище: ты увидишь его и возле Тразумена, и у Канн, и, наконец, в родном своем Карфагене[171].
(5) Волез[172], бывший не так давно при божественном Августе проконсулом Азии, обезглавил как-то в один день топором триста человек и, шагая с надменным лицом среди трупов, воскликнул по-гречески, словно совершил нечто великое и достопримечательное: «О царственное дело!» Что бы он натворил, если бы был царем? Это был уже не гнев, а нечто худшее и неисцелимое.
6. (1) «Однако, — возразят нам, — добродетель, столь благосклонная к делам чести, должна столь же сильно гневаться на дела позорные». Пусть бы нам лучше возразили, что, дескать, добродетель должна быть одновременно и велика и низменна. Ведь они говорят именно это: они желают и возвысить добродетель, поскольку радоваться правильным поступкам — дело славное и великое, и одновременно принизить ее, поскольку гневаться на чужое прегрешение — дело пренедостойное и свидетельствует о душевной узости. (2) Нет, добродетель никогда не позволит себе укрощать пороки, перенимая для этого их образ действий. Гнев для нее достоин порицания, ибо он сам ничем не лучше тех поступков, которые его возбуждают, а часто даже и хуже. Природное свойство добродетели — радость и веселье; гневаться, как и горевать — ниже ее достоинства. А ведь огорчение — спутник гнева: всякий гнев превращается в печаль либо из-за раскаяния, либо от неутоленности. (3) Если мудрец должен гневаться на прегрешения, то он будет гневаться очень часто и тем сильнее, чем больше проступок; а это значит, что мудрец будет уже не просто разгневанным, но гневливым. Если же мы верим, что в душе мудреца нет места ни для сильного, ни для слишком частого гнева, то не лучше ли нам совсем освободить его от этого чувства? (4) Ведь об умеренности его не может быть и речи, если гнев должен соразмеряться с тяжестью прегрешения. Таким образом, мудрец будет либо несправедливым, равно гневаясь на неравные проступки, либо гневливым сверх всякой меры, если всякий раз в нем будет вспыхивать такой гнев, какого заслуживают совершенные преступления.
7. (1) Да и что может быть постыднее, чем мудрецу зависеть в своих чувствах от чужой испорченности? Выходит, Сократ никогда больше не сможет вернуться домой с тем же лицом, с каким выходил из дому? Ведь если мудрец должен гневаться на все позорные деяния, волноваться или огорчаться из-за всякого преступления, то нет на свете существа унылее, чем мудрец. Вся жизнь его будет проходить в гневе и горе. (2) Разве будет у него хоть миг, когда бы он не видел ничего, заслуживающего порицания? Стоит ему выйти из дому, как придется прокладывать себе путь среди преступников и стяжателей, мотов и бесстыдников, и все они счастливы своими пороками; куда бы он ни обратил взор, всюду глазам его представится что-нибудь возмутительное. Он просто обессилит, если станет требовать от себя гнева всякий раз, как для него найдется причина. (3) Вот несметные тысячи с рассветом хлынули на форум: до чего гнусны все их тяжбы, и насколько гнуснее их адвокаты! Один опротестовывает завещание родного отца, которое следовало бы уважить; другой тягается с собственной матерью; третий выступает доносчиком по тому преступлению, в котором он сам — очевидный виновник; вот избирается судья, который станет выносить приговоры за такие поступки, каких и сам совершал немало: а вокруг зрители, сбитые с толку речью защитника, выражают одобрение дурному решению.
8. (1) Но к чему перечислять по отдельности? Когда ты видишь битком набитый форум или переполненную площадку народного собрания, или цирк, в котором народ являет большую свою часть, — знай, что здесь столько же пороков, сколько людей. (2) Ты видишь их в тогах — но меж ними нет мира[173]: за самое скромное вознаграждение каждый согласится погубить другого. Прибыль любого из них достигается только обидой и несправедливым убытком другого. Счастливого они ненавидят, несчастного — презирают; они не выносят тех, кто больше их, и сами невыносимы для тех, кто меньше. Они мечутся, подстрекаемые противоречивыми вожделениями, и ради малейшего удовольствия или пустяковой наживы согласятся, чтобы погиб хоть целый мир. Они живут, точно в гладиаторской школе: с кем сегодня пили, с тем завтра дерутся. (3) Это сборище диких зверей, только звери не кусают себе подобных и со своими живут в мире, а эти насыщаются, терзая друг друга. От бессловесных животных они отличаются одним: животные приручаются и становятся ласковыми к тем, кто их кормит; люди же в своем бешенстве пожирают и тех, кто вскормил их.
9. (1) Мудрец никогда не перестанет гневаться, если однажды начнет. Все кругом исполнено преступлений и пороков; их совершается столько, что не помогут самые суровые меры пресечения. Повсюду идет великое состязание в негодяйстве. Жажда грешить что ни день, то больше; стыдливости, что ни день, меньше. Вожделением и произволом проникнуто все в пределах видимости; изгнано всякое уважение к добру и справедливости, и преступления уже не совершаются украдкой. Они происходят прямо на глазах на каждом шагу; разложение и подлость настолько захватили все общество, взяли такую силу надо всеми сердцами, что невинность перестала быть редкой — стала несуществующей. (2) Разве лишь немногие отдельные личности нарушают закон? Со всех сторон словно по сигналу поднялся народ сметать границы между дозволенным и недозволенным;
(3) Однако тут перечислена лишь ничтожная часть преступлений! Поэт не описал нам два неприятельских стана, в которых ждут боя друг с другом сыновья одной матери, и отцов, сражающихся с детьми под противными знаменами; не описал, как рука гражданина тянет факел — поджечь отчизну; как летают повсюду буйные отряды конницы в поисках укрывшихся жертв проскрипций; отравленные ядом родники; моровую язву, пущенную рукой человека; ров, вырытый сыновьями для осады собственных отцов; переполненные тюрьмы; пожары, выжигающие целые города; правителей, после которых от граждан остаются одни могилы; тайные сговоры о царской власти и о погублении республики; прославление деяний, которые обычно зовутся преступлениями — до тех пор, пока закон в силах с ними справиться; грабеж, разврат, распутство, не брезгающее осквернять даже уста человеческие. (4) Добавь сюда откровенное предательство целых народов, бесстыдное нарушение договоров; всякий, кто сильнее, захватывает себе в добычу все, что не сопротивляется; мошенничество, воровство, обман, надувательство и неплатеж долгов: для судебных разбирательств не хватило бы и трех форумов[175]. Если, по-твоему, мудрец должен чувствовать гнев, какого требует возмутительность каждого преступления, то ему придется не гневаться, а сойти с ума.
10. (1) Лучше поразмысли о том, стоит ли гневаться за ошибки? В самом деле, станет ли кто-то гневаться на людей за то, что они оступаются в темноте? Или на глухих за то, что они не слышат приказов? Или на детей за то, что они, бросив свои обязанности, наблюдают за играми и дурацкими проделками своих сверстников? Может быть, тебе захочется рассердиться и на больных или стариков — за то, что быстро утомляются? Среди прочих недостатков нашей смертной природы есть и этот — помрачение ума, и не столько неизбежность заблуждения, сколько любовь к своим заблуждениям. (2) Чтобы не гневаться попусту на отдельных людей, прости всех сразу, окажи снисхождение роду человеческому. Если ты станешь сердиться на молодых и старых за то, что они грешат, тебе придется сердиться и на новорожденных — за то, что они непременно будут грешить. Разве кто-нибудь гневается на ребятишек, чей возраст еще не позволяет им различать, что хорошо, что плохо? Но если можно извинить ребенка, то с куда большим основанием можно извинить и человека — это будет только справедливо. (3) Такими уж мы уродились: животные, подверженные душевным болезням еще больше, чем телесным; и хотя острие нашего разума от природы не тупо и не лениво, мы плохо им пользуемся, служа один для другого примером порока. Но разве нельзя извинить человека, последовавшего за другими, которые вступили на дурной путь? Ведь он заблудился, идя по большой дороге. (4) Отдельных солдат полководец может наказывать по всей строгости, но если провинилось все войско, ему придется оказать снисхождение. Что удерживает мудреца от гнева? Обилие грешников. Он понимает, насколько несправедливо и насколько опасно было бы гневаться на всеобщий порок.
(5) Гераклит, всякий раз, как выходил из дому и видел вокруг себя столько скверно живущих, а точнее сказать, скверно гибнущих людей, начинал плакать и жалеть всех попадавшихся ему навстречу прохожих, даже если они были веселы и счастливы; его душа была снисходительна и ласкова, но слишком слаба: его самого стоило оплакивать вместе с теми несчастными. Про Демокрита же рассказывают, наоборот, что он никогда не появлялся на людях без улыбки: до того несерьезным казалось ему все, чем серьезно занимались все вокруг. Но где здесь место гневу? Нужно либо смеяться надо всем, либо плакать.
(6) Мудрец не станет гневаться на тех, кто грешит. Почему? А потому что знает, что никто не рождается мудрым, но только становится; знает, что из каждого поколения выходит лишь один-два мудрых человека; потому что ему ясно видны все условия человеческой жизни, а на природу не станет сердиться никто, пока он в здравом уме. Не прикажешь ли ему удивляться, что на колючках лесных зарослей не висят сладкие яблоки? Что на сорной траве не вызревает полезное зерно? Никто не станет гневаться там, где порок стоит под защитой природы. (7) Так что мудрец станет относиться к заблуждениям спокойно и миролюбиво, а к согрешающим — не как враг, а как наставник, указывающий правильный путь; и каждый день, собираясь выйти из дому, он скажет себе: «Мне встретится много пьяниц, много сладострастников, много неблагодарных, много скупых и жадных, много таких, кому не дают покоя фурии честолюбия». На всех них он будет взирать с такой же благосклонностью, с какой врач смотрит на своих больных. (8) Разве тот, чей поврежденный корабль со всех сторон пропускает воду, станет гневаться на матросов или на сам корабль? Нет, он скорее поспешит на помощь, затыкая, где может, течь, где не может, вычерпывая воду, заделывая видимые пробоины, а против невидимых борясь неустанным трудом, и не бросит работы только потому, что сколько бы воды ни вычерпали, столько же наберется снова. Постоянному и плодовитому злу должен противостоять медленный и упорный труд: не для того, чтобы уничтожить его, но для того, чтобы оно нас не одолело.
11. (1) Нам возразят: «Гнев полезен, поскольку позволяет избежать презрения, поскольку устрашает дурных людей». Во-первых, если гнев действительно так грозен, как кажется, то, вызывая страх, он тем самым вызывает и ненависть; внушать страх гораздо опаснее, чем презрение. Если же гнев бессилен, он становится предметом тем большего презрения и насмешек: в самом деле, что может быть нелепее попусту бушующей ярости?
(2) Во-вторых, не все оказывается тем сильнее, чем больше внушает страх. Я бы не хотел, чтобы мудрецу говорили, что «оружие у мудреца то же, что и у дикого зверя, — страх, который он вызывает». Разве не внушают страха лихорадка, подагра, злокачественный нарыв? Неужели от этого в них появляется что-то хорошее? Или наоборот: все они презренны, позорны и отвратительны, и оттого-то их так боятся? Гнев сам по себе безобразен и не страшен, а боятся его большинство людей по той же причине, что маленькие дети боятся безобразной маски.
(3) Страх всегда возвращается и словно волна окатывает тех, кто его вызывает, и человек, которого боятся, никогда сам не чувствует себя в безопасности, — об этом ты не подумал? Припомни-ка, кстати, тот стих Лаберия[176], который, прозвучав в театре во время гражданской войны, произвел на всех такое впечатление, словно раздался вдруг голос общего народного чувства:
«Бояться многих должен тот, кого боятся многие»[177]. (4) Так природа установила: кто возвеличился за счет чужого страха, не бывает свободен от собственного. Как дрожит сердце в львиной груди при малейшем шорохе! В какое волнение приходят самые свирепые звери от любого незнакомого запаха, тени! Все, что вселяет ужас, само трепещет. Вот отчего ни один мудрец не пожелает внушать страх и не станет считать гнев чем-то великим на том лишь основании, что его боятся: ведь боятся часто самых презренных вещей: яда, смертоносных костей[178], укусов бешеных собак.
Огромные стада диких животных не решаются переступить через веревку, к которой привязаны перья, и загоняются таким образом в засаду; эта веревка так и называется formido — «ужас». (5) Тут нет ничего удивительного: неразумные существа боятся пустяков. Движение колесницы и вращение ее колес заставляет львов забиваться назад в клетку; слоны пугаются поросячьего визга. Именно так мы боимся гнева: как дети — темноты, как звери — красных перьев. В самом по себе гневе нет ни твердости, ни смелости, но на легкомысленные души он действует.
12. (1) Мне возразят: «Если ты хочешь истребить в природе вещей гнев, тебе придется сначала истребить испорченность; однако ни то, ни другое невозможно». — Во-первых, несмотря на то, что в природе вещей есть зима, кто-то может и не замерзнуть. Несмотря на существование жарких месяцев, кто-то может и не страдать от жары. Либо благодетельное убежище защитит его от ежегодных периодов неумеренной жары и холода, либо телесная выносливость позволит ему не чувствовать ни того ни другого.
(2) Во-вторых, измени-ка чуть-чуть свое возражение: если ты хочешь впустить в душу гнев, тебе придется сначала истребить в ней добродетель, ибо добродетели и пороки несовместимы, и никто не может гневаться, оставаясь одновременно добрым человеком — не более, чем быть одновременно здоровым и больным.
(3) Ты скажешь: «Нельзя совсем изгнать гнев из души — этого не потерпит человеческая природа». Ничего подобного: нет таких трудностей, которых не одолел бы ум человеческий, которые не стали бы понятными и простыми благодаря постоянному упорному размышлению; нет чувств настолько неистовых и своевольных, чтобы их нельзя было укротить с помощью дисциплины. (4) Дух добьется всего, что сам себе прикажет. Есть люди, научившиеся никогда не улыбаться; есть такие, что лишили свое тело вина, другие — любви, третьи — воды; иной приучил себя довольствовать коротким сном и бодрствует сутки напролет, нисколько не утомляясь; можно выучиться бегать по тоненькой и почти отвесно натянутой веревке; переносить чудовищные грузы, неподъемные для обычного человека; погружаться в море на непомерную глубину и долго обходиться под водой без дыхания. Есть еще тысяча других навыков, в которых человеческое упорство преодолевает всякое препятствие; они свидетельствуют о том, что душа вынесет любую трудность, если сама себе прикажет быть терпеливой. (5) Все люди, о которых я только что говорил, за столь упорные занятия не получают либо вовсе никакого, либо несоразмерно маленькое вознаграждение: в самом деле, какая великолепная награда может ждать того, кто задумал научиться ходить по натянутым веревкам? Или перетаскивать на спине невероятные тяжести? Или день и ночь не смыкать глаз? Или опускаться на дно моря? И тем не менее, несмотря на то что награда ожидала их совсем небольшая, они довели свой труд до конца. (6) Неужели же мы, кого ожидает величайшая в мире награда — безмятежное спокойствие счастливого духа — не призовем на помощь все наше терпение? Ведь это же так замечательно, избавиться от гнева, худшего из зол, а вместе с ним — от бешенства, свирепости, жестокости, ярости, от всех сопровождающих его чувств!
13. (1) Не следует нам искать себе оправдания, говоря, что гнев либо полезен, либо неизбежен; да и есть ли, наконец, такой порок, у которого был бы недостаток в защитниках? Не говорите, что его нельзя истребить; мы болеем исцелимыми недугами, и сама природа, родившая нас для правильной жизни, поможет, если мы захотим исправиться. Многие утверждали, что путь к добродетели крут и тернист; ничего подобного: можно дойти по ровной дороге. (2) Это не пустые слова: я сообщаю вам самую серьезную и важную вещь. Путь к блаженной жизни легок: только вступите на него, и да помогут вам добрые предзнаменования и сами боги. Куда труднее делать то, что вы делаете. Какой отдых лучше душевного покоя, какой труд тяжелее гнева? Что требует от вас меньше напряжения, чем милосердие, и больше, чем жестокость? Стыдливость не доставит вам хлопот, сладострастие вечно занято по горло. Одним словом, блюсти любую добродетель совсем не трудно, пороки же требуют постоянного внимания. (3) От гнева нужно избавляться; с этим отчасти соглашаются и те, кто говорит, что его нужно уменьшать. Лучше отбросить его совсем — от него никогда не будет ничего путного. Без него легче и справедливее пресекаются преступления, наказываются и исправляются злодеи. Для того чтобы исполнить все, что нужно, мудрец не нуждается в помощи какого бы то ни было зла. Он не подпустит к себе ничего, что придется потом с величайшим трудом и вниманием удерживать в границах допустимого.
14. (1) Итак, гневливость недопустима ни при каких обстоятельствах; иногда приходится притвориться разгневанным, когда нужно разбудить лениво дремлющие души слушателей, как упрямых и ленивых лошадей мы заставляем сдвинуться с места с помощью палки или факела. Иногда нужно пронять страхом тех, на кого не действуют разумные доводы. Однако по-настоящему гневаться не полезнее, чем горевать или бояться.
(2) «Что же, разве не бывает случаев, возбуждающих в нас гнев?» — Вот именно в этих случаях и нужно решительнее всего подавлять его. Одержать победу над своей душой совсем нетрудно: ведь даже атлеты, упражняющие лишь низшую часть своего существа, спокойно переносят боль ударов — ведь им надо изнурить противника; и сами наносят удары не тогда, когда велит им гнев, а когда диктует удобный случай. (3) Пирр, знаменитейший наставник в гимнастических состязаниях, всем, кого тренировал, давал, говорят, одно и то же наставление: не поддаваться гневу. Ибо гнев нарушает все правила искусства, и все его помышления сводятся к одному — как бы навредить побольше. Нередко бывают обстоятельства, в которых разум советует набраться терпения, а гнев — добиваться возмездия, и, послушавшись его, мы запутываемся в новых бедах, гораздо страшнее первых. (4) Случалось, что люди, не пожелавшие спокойно снести одно-единственное слово, отправлялись в изгнание, а на тех, кто не пожелал молча снести легкую обиду, обрушивались тяжелейшие бедствия; кто возмущался малейшему ущемлению своей неограниченной свободы, те навлекли на себя рабское ярмо.
15. (1) «И все-таки в гневе есть что-то благородное. Ты сам признаешь это: посмотри на германцев и скифов — племена, более других склонные к гневу». Верно, мужественные и крепкие от природы характеры бывают склонны ко гневу до того, как их смягчит дисциплина. Есть прирожденные качества, которые бывают свойственны лишь более благородным характерам, как пышная растительность признак тучной, хотя и невозделанной земли, как высокий лес вырастает лишь на плодородной почве. (2) Точно так же и мужественные от природы характеры — подходящая почва для гневливости; огненно-кипучие, они не терпят ничего мелкого и низкого; однако их жизненная энергия требует обработки и совершенствования, как все, что произрастает лишь по милости природы без участия искусства; если такой характер быстро не укротить, все, из чего могло бы получиться мужество, превратится в опрометчивую дерзость. (3) А что? Разве более мягким душам не сопутствуют и более мягкие пороки, как чрезмерная сострадательность, любвеобильность, застенчивость? Таким образом, даже по недостаткам человека я могу показать тебе его превосходные природные задатки; и тем не менее, даже будучи признаками лучшей природы, они не перестают от этого быть пороками.
(4) Кроме того, все эти племена, свободные благодаря дикости, как львы или волки, так же неспособны к рабству, как и к господству над другими. Ибо сила их характера не столько человеческая, сколько дикая и неуправляемая. Но никто не может повелевать, не умея подчиняться. (5) Вот отчего власть всегда оставалась в руках народов, живущих в умеренном климате. Жители холодного севера отличаются неукротимыми характерами, как говорит поэт: «Своего подобие неба»[179].
16. (1) «Однако животные, более других подверженные гневу, считаются самыми благородными». Ставить их в пример человеку было бы заблуждением, потому что у них вместо разума — порыв, а у человека вместо порыва — разум. Но даже и среди животных, что одним хорошо, нехорошо другим: львам помогает гнев, а оленям страх, коршуну — нападение, голубке — бегство. (2) Более того, неверно даже и то, что всякое животное тем лучше, чем больше склонно ко гневу. Я согласен, что это верно применительно к хищникам, питающимся своей добычей: тут чем гневливее зверь, тем он лучше. Но быков и лошадей я стану хвалить не за гневливость, а за выносливость и терпение: они должны слушаться узды. Ну и наконец, ты выбрал крайне неудачный образец: зачем призывать человека подражать животным, когда есть вселенная и есть бог, которого одному лишь человеку из всех животных дано понимать — для того, чтобы подражать ему.
(3) «Но гневливые люди считаются самыми простыми и искренними (simplicissimi)». Они кажутся простыми по сравнению с лжецами и притворщиками, потому что они действительно не притворяются. Однако я назвал бы их не простыми, а безалаберными: так мы называем дураков, расточителей и любителей роскошной жизни, да и вообще такое имя подходит к любому пороку, не соединенному с хитростью.
17. (1) «Иногда оратору полезно бывает разгневаться — он тогда говорит лучше». — Совершенно верно, но не разгневаться, а изобразить гнев. Так и актеры, произнося стихи, волнуют народ не гневом своим, а хорошим подражанием гневу. То же самое относится и к судьям, и к выступающим на сходках: повсюду, где нам нужно бывает направить чужие души туда, куда мы считаем нужным, мы изображаем то гнев, то страх, то сострадание, чтобы внушить эти чувства другим; и часто сыгранное чувство производит куда более сильное действие, чем подлинное.
(2) «Безгневная душа расслаблена». — Да, если в ней нет ничего сильнее гнева. Не следует быть ни разбойником, ни жертвой, ни сострадательным, ни жестоким. У жалостливого душа чересчур мягкая, у разбойника чересчур затверделая. Мудрецу же следует держаться умеренности и для совершения дел, требующих мужества, применять не гнев, а силу.
18. (1) А теперь, поскольку мы рассмотрели все вопросы касательно гнева, перейдем к средствам борьбы с ним. Их, по-моему, два: первое — не поддаваться гневу, второе — в гневе не совершать дурных поступков. Забота о теле тоже предполагает два рода наставлений: одни — как сохранить здоровье, другие — как восстановить его. Так и с гневом: одна забота — не допустить его, другая — подавить. Тому, как избежать гнева, нас научат наставления, относящиеся ко всему образу жизни; одна их часть относится к воспитанию детей, другая — к взрослым.
(2) Воспитание требует самой большой тщательности, которая потом окупится сторицей; легко придать правильную форму душе, пока она еще мягкая; трудно искоренить пороки, которые повзрослели вместе с нами.
19. (1) Возникновению гневливости благоприятствует горячая по природе душа. В самом деле, существуют четыре элемента: огонь, вода, воздух и земля, наделенные в разной степени такими свойствами, как жар, холод, сухость и влажность[180]. Смешение элементов создает разнообразие местностей, животных, тел и нравов; также и человеческий характер проявляет особые склонности в зависимости от того, какой элемент в нем окажется сильнее и обильнее прочих. Так, какие-то области или страны мы зовем влажными или сухими, жаркими или холодными. (2) Такие же различия существуют и между животными, и между людьми: важно, сколько в ком содержится влаги или жара; какого элемента окажется больше, таков будет и нрав. Гневливыми делает людей огненная природа души, ибо огонь деятелен и упорен. Холодное смешение делает людей трусами, ибо холод сжат и малоподвижен.
(3) Некоторые из наших[181] считают, что движение гнева происходит в груди человека, когда закипает кровь около сердца. По всей видимости, они указывают на это место как на самое вероятное вместилище гнева потому, что грудь — самое горячее место в человеческом теле. (4) В ком больше влаги, в тех гнев нарастает постепенно, поскольку в них нет готового жара и они раскаляются по мере волнения. Вот почему у детей и женщин гнев вначале всегда легкий, да и вообще у них он скорее бурный, чем тяжелый. У людей сухих возрастов гнев силен и неудержим, но он обычно не растет и намного не увеличивается, потому что жар в них уже склоняется к убыли, а на смену жару идет холод. Старики бывают тяжелого и сварливого нрава, так же как больные и выздоравливающие; исчерпывается жар и от переутомления или потери крови. (5) Сюда же относятся и все истощенные голодом и жаждой, малокровные, недоедающие и вообще слабые и изнуренные. Вино воспламеняет гнев, поскольку горячит; пьяные — а некоторые даже слегка навеселе, в зависимости от природы каждого — из-за любого пустяка вспыхивают гневом. Самые гневливые — рыжие и краснолицые, и я не вижу другой причины этому, кроме одной: у них от природы такой цвет лица, какой у других делается обычно во время вспышки гнева; видимо, у них всегда очень подвижная и беспокойная кровь.
20. (1) У некоторых людей наклонность к гневу от природы; у других ее вызывают случайные причины, достигающие тех же результатов, что и природа. У одних такая наклонность появляется из-за болезни или увечья; у других — от слишком напряженной работы, или постоянного недосыпания, или от бессонницы, вызванной тревогой; у третьих — от любви или неутоленных желаний. Одним словом, любое телесное или душевное повреждение делает душу больной и склонной к жалобам и ссорам. (2) Впрочем, все это может служить лишь первоначальным поводом для гнева; гораздо большую пищу дает этому пороку привычка, особенно укоренившаяся.
Изменить свою природу трудно; смешать заново элементы, раз и навсегда смешавшиеся при нашем рождении, невозможно; однако полезно знать природные свойства каждого, для того, например, чтобы стараться не давать горячим характерам вина. Платон считает, что его не следует давать мальчикам[182], чтобы не прибавлять огня к огню. Горячим людям не следует также много есть: от обильной пищи растягивается тело и одновременно разбухает, надувается душа. (3) Их надо утруждать работой до усталости для того, чтобы их чрезмерный жар поуменьшился, не для того чтобы загасить его совсем; от утомления кипящая кровь хотя бы перестанет пениться. Полезны им также игры: умеренное удовольствие снимает душевное напряжение, умеряя лишний жар.
(4) Людям более влажным, чрезмерно сухим и холодным не угрожает опасность со стороны гнева; им следует остерегаться более низменных пороков: трусости, сварливости, отчаяния и подозрительности. Таких людей следует поддержать, приласкать, заставить развеселиться и воспрянуть духом. Против гнева и уныния следует применять не просто разные, а противоположные средства; поэтому всякий раз мы будем давать лекарства против того недуга, который в данный момент оказался сильнее.
21. (1) Итак, повторяю: лучше всего, чтобы мальчики с самого начала воспитывались в здоровых правилах. Однако задача эта оказывается трудна оттого, что приходится все время следить, как бы, с одной стороны, не вскормить в них гнев, а с другой — не притупить природную живость. (2) Дело это требует самого тщательного внимания; ибо и те свойства, которые следует взращивать, и те, которые надо подавлять, воспитываются сходными средствами, и это сходство легко может обмануть даже близкого наблюдателя. (3) Дух растет, когда ему дают волю; поникает, когда его принуждают к рабскому повиновению; он способен воспрянуть от похвалы, внушающей ему добрую самонадеянность, но та же похвала порождает заносчивое самомнение и гневливость. Поэтому нужно направлять мальчика между обеими крайностями, действуя то уздой, то шпорами. (4) Нельзя, чтобы ему пришлось терпеть унижения или рабство; пусть ему никогда не придется ни просить, ни умолять; то, что он когда-то был вынужден просить, не пойдет ему на пользу; пусть без просьб получает все в подарок — ради самого себя, или совершенных добрых поступков, или ради того добра, которого мы ждем от него в будущем. (5) В его состязаниях с ровесниками мы должны следить, чтобы он не уступал другим и чтобы не поддавался гневу. Надо постараться, чтобы он сблизился и подружился с теми, с кем обычно состязается; тогда в борьбе он привыкнет стремиться не сделать другому больно, а победить. Всякий раз, как он одержит победу или сделает что-нибудь, достойное похвалы, мы можем похвалить его и ободрить, но ни в коем случае нельзя допускать чрезмерной радости и гордости: ибо радость порождает восторг, а за восторгом следует заносчивость и чрезмерно высокая самооценка. (6) Мы будем давать ему передохнуть от напряжения, но не допустим, чтобы он распускался в праздном безделье, и станем держать его подальше от всякого соприкосновения с наслаждениями; ибо ничто не делает людей гневливыми в такой степени, как мягкое и ласковое воспитание. Вот почему чем снисходительнее родители к единственному чаду, чем больше ему позволяется с малолетства, тем сильнее бывает испорчена его душа.
Не сможет противостоять ударам тот, кому никогда ни в чем не было отказа, чьи слезы всегда спешила утереть заботливая мать, кто всегда мог потребовать наказать своего педагога. (7) Разве ты не видишь, что люди чем счастливее, тем гневливее? Это особенно заметно у богатых, знатных и чиновных: какой бы вздор не пришел им в голову, какого пустяка ни пожелала бы душа — все исполняется при попутном ветерке удачи. Счастье вскармливает гневливость. Толпа льстецов обступила твои высокомерные уши: «Подумать только, чтобы тебе так отвечал вот этот человечишко? Да ты опускаешься ниже своего достоинства, ты сам себя недооцениваешь!» — и прочее в том же роде, перед чем едва ли устоит и здравый ум, с самого начала правильно поставленный. (8) Вот почему детей нужно держать подальше от всякой лести; пусть слышат правду. Пусть они иногда испытывают страх, всегда — почтение, пусть встают при появлении старших. Надо, чтобы мальчик никогда ничего не мог добиться гневом; мы сами предложим ему, когда он будет спокоен, то, чего не давали, пока он требовал плачем. А что касается родительских богатств, то пусть он видит их, но не имеет права ими пользоваться. (9) Его нужно ругать за неправильные поступки. Важно также, чтобы учителя и педагоги у мальчиков были спокойные. Всякое нежное молодое существо прилепляется к тем, кто рядом, и вырастает, подражая им. Уже подросшие юноши воспроизводят нравы своих кормилиц и педагогов. (10) Когда один мальчик, воспитывавшийся у Платона, вернулся к родителям и увидел раскричавшегося в гневе отца, он сказал: «У Платона я никогда не видал ничего подобного». Я не сомневаюсь, что на отца он сделался бы похож гораздо скорее, чем на Платона.
(11) Прежде всего, пусть пища у детей будет простая и необильная, одежда — недорогая, и весь образ жизни — такой же, как у их сверстников. Если с самого начала ты заставишь его почувствовать себя равным многим, он впоследствии не станет гневаться, если его будут с кем-то сравнивать.
22. (1) Но все это относится к нашим детям. Что же касается нас, то оправданием наших пороков и жизненных правил не могут служить ни жребий рождения, ни воспитание; нам придется иметь дело уже с их последствиями. (2) Итак, мы должны бороться против первопричины. Причина гневливости — мнение о том, что нас обидели; не нужно с такой легкостью принимать это мнение на веру. Даже если обида была нанесена откровенно и совершенно очевидно, не надо сразу поддаваться чувству: то, что кажется правдой, нередко оказывается ложным. Всегда нужно дать пройти времени: утро вечера мудренее. (3) Пусть наши уши не будут так легко доступны обвинительным речам; мы должны знать о дурной склонности человеческой природы и остерегаться ее, а именно: против воли выслушав что-то нам неприятное, мы охотно верим и вспыхиваем гневом прежде, чем составим суждение об услышанном. (4) Более того, нас возбуждают часто не обвинения, а простые подозрения, и мы гневаемся на ни в чем не повинных людей оттого, что истолковали в дурную сторону чужое выражение лица или улыбку. Вот почему нужно удержаться от гнева и разобрать хорошенько все дело, выслушав также и доводы отсутствующего обвиняемого; ибо отложенное наказание мы всегда можем привести в исполнение, но уже исполненное нельзя забрать назад.
23. (1) Известный тираноубийца был схвачен, не успев сделать свое дело; Гиппий[183] подверг его пыткам, чтобы тот указал имена своих сообщников, и он назвал ближайших друзей тирана, кому, как он знал, было особенно дорого тираново благополучие, а тот немедленно приказывал казнить их, по мере того как назывались имена, и наконец спросил, остался ли еще кто-нибудь, на что получил ответ: «Ты один; больше я не оставил никого, кому ты был бы дорог». Так гнев заставил тирана действовать по указке тираноубийцы и собственным мечом перебить всех своих защитников.
(2) Насколько отважнее был Александр! Прочитав письмо, в котором мать предостерегала его против врача Филиппа и советовала беречься яда, он без страха выпил приготовленное Филиппом питье. Там, где дело шло о друге, он верил себе больше, чем матери. Он был достоин того, чтобы его друг оказался невиновен, и сам эту невинность доказал. (3) В Александре я хвалю этот поступок тем более, что никто больше него не страдал от приступов гнева; но чем реже встречается в царях умеренность, тем больше заслуживает она похвалы.
(4) Подобным образом поступил и Гай Юлий Цезарь: своей победой в гражданской войне он воспользовался чрезвычайно милосердно; перехватив шкатулки с письмами, отправленными в свое время к Гнею Помпею людьми, принадлежавшими либо к враждебным по отношению к Цезарю, либо к нейтральным партиям, он сжег их, не читая. Хотя он всегда если гневался, то лишь умеренно, тут он предпочел не давать себе и такой возможности; он решил, что самое великодушное прощение — не знать, в чем кто перед тобой провинился.
24. (1) Много зла проистекает от легковерия. Часто лучше вовсе не слушать, потому что бывают обстоятельства, когда лучше обманываться в ком-то, чем перестать ему доверять. Нужно истреблять в своей душе подозрение и всевозможные догадки, раздражающие нас и сбивающие с пути больше всего другого. «Он не слишком вежливо со мной поздоровался; он не ответил на мой поцелуй; он начал было говорить и вдруг как-то резко замолчал; он не пригласил меня к обеду; он, кажется, специально отвернулся, чтобы не заметить меня». — (2) У подозрительности никогда не будет недостатка в доводах. Нам нужны простота и благожелательное толкование событий. Будем верить лишь тому, в чем убедимся собственными глазами с несомненной очевидностью, и всякий раз, как наше подозрение окажется напрасным, сделаем сами себе выговор за легковерие: если мы каждый раз станем себя бранить, мы отвыкнем верить любому пустяку.
25. (1) Отсюда следует и еще один вывод: не стоит огорчаться из-за мелочей. Мальчик-слуга недостаточно быстро поворачивается; вода для питья слишком теплая; постель неразглажена; стол накрыт небрежно — раздражаться из-за подобных вещей — безумие. Кто простужается от малейшего ветерка — болен или хил от рождения; кого заставляет зажмуриться белая одежда — у того плохо с глазами; кто не может без сострадания видеть чужой труд — изнежен до полной распущенности. (2) Рассказывают, что был среди граждан Сибариса такой Миндирид, который, увидав однажды человека, копавшего землю и высоко взмахивавшего мотыгой, пожаловался, что устал от одного его вида, и запретил ему работать у себя на глазах. Он же жаловался однажды, что чувствует себя ужасно плохо оттого, что розовые лепестки, на которых он возлежал, смялись.
(3) Там, где удовольствия испортили и душу и тело, все на свете кажется невыносимым, не оттого, что условия жесткие, а оттого, что тот, кто должен их терпеть, мягок. В противном случае, кто бы стал приходить в бешенство оттого, что рядом чихнули или кашлянули, оттого, что забыли прогнать муху, что под ногами вертится собака, что раб нечаянно уронил на пол ключ? (4) Тот, чьи уши больно ранит скрип переставляемого стула, сможет ли вынести спокойно крики и брань сограждан, бурю проклятий, обрушивающихся на него в народном собрании или в курии? Вытерпит ли он голод и жажду летней кампании, если мальчик, смешавший с вином немного меньше снега, уже вызывает у него приступ гнева?
Итак, самая благоприятная для гневливости почва — это неумеренно роскошный образ жизни, ни в чем себе не отказывающей; с душой надо обращаться сурово и жестко, чтобы она стала нечувствительна к любым ударам, кроме действительно тяжелых.
26. (1) Наш гнев вызывают как те, кто действительно мог нас обидеть, так и те, кто никак не мог. (2) Среди этих последних — неодушевленные вещи, например книги: разве редко нам случается швырнуть в угол книгу, написанную слишком мелкими буквами, или разорвать в клочья, если в ней полно ошибок? А одежда? Разве мы не рвем ее за то, что она нам не понравилась? А ведь гневаться на них тем глупее, что они не только не заслужили нашего гнева, но и не могут его почувствовать. (3) «Да, но нас несомненно обидели те, кто сделал такие вещи». Во-первых, мы разражаемся гневом обычно прежде, чем такая мысль приходит нам в голову. Во-вторых, если спросить самих мастеров, они привели бы справедливые оправдания в свою пользу. Один не умел сделать лучше, чем сделал и остался неумехой вовсе не ради того, чтобы тебя оскорбить. Другой тоже и в мыслях не имел доставить тебе неудовольствие. Ну и в-третьих, что может быть безумнее, чем изливать на вещи желчь, которую ты скопил против людей?
(4) Гневаться на бессловесных животных — так же безумно, как и на бездушные предметы. Животные не могут обидеть нас, ибо не могут захотеть этого; а то, что совершено без умысла, — не обида. Они могут причинить нам вред, как железо или камень, но причинить обиду они не в состоянии. (5) И все же есть люди, обижающиеся, когда лошадь, послушно шедшая под одним всадником, начинает упрямиться под другим: они уверены, что лошадь их презирает, как будто она по своему усмотрению предпочитает одних людей другим, а не повинуется опыту и сноровке искусного наездника. Глупо гневаться на животных, но не умнее и на детей, а также на всех прочих, мало чем отличающихся от детей в рассуждении благоразумия: все их прегрешения в глазах справедливого судьи оправдываются неразумием.
27. (1) Есть существа, не способные причинять вред, наделенные только благотворной и целительной силой. К таким существам относятся бессмертные боги, которые и не желают, и не умеют причинять зло, ибо по природе миролюбивы и доброжелательны; обидеть кого-нибудь для них так же немыслимо, как побить самих себя. (2) Безумцы, не ведающие истины, приписывают им буйство моря, неумеренность осенних ливней, жестокие зимние холода; но ведь все эти вещи, приносящие нам вред или пользу, вовсе не для нас предназначены. Мир вновь приводит на землю зиму или лето вовсе не ради нас: у них свои законы, выполняющие божественные предначертания. Мы слишком много о себе думаем, если нам кажется, что мы достойны быть единственной причиной столь грандиозных перемен. Ни одна из них не совершается ради того, чтобы нас обидеть; более того, совсем наоборот: среди них нет ни одной, которую нельзя было бы обратить нам во благо.
(3) Мы уже говорили, что есть вещи и существа, не способные вредить, а есть — не желающие этого. В числе последних будут хорошие магистраты, родители, наставники и судьи: их порицание должно принимать так, как мы принимаем скальпель хирурга или запрещение врача есть и пить и прочие мучительные, но обещающие принести пользу процедуры. (4) Нас наказали; хорошо, если мы поразмыслим не только о том, что нам пришлось претерпеть, но и о том, что мы совершили, и попытаемся вынести беспристрастное суждение о нашей жизни; тогда, если мы пожелаем сами себе сказать правду, мы решим, что заслужили и большего наказания.
28. (1) Если мы желаем быть во всем справедливыми судьями, то давайте прежде всего убедим себя в том, что никто из нас не без греха. Ведь именно в этом главный источник нашего возмущения: «Я-то ни в чем не виноват» и «ничего не сделал». Ничего подобного: просто ты ни в чем не признаешься! Мы возмущаемся, когда нам делают выговор или наказывают, не понимая, что тем самым мы прибавляем к совершенным проступкам новый: дерзкое упрямство.
(2) Кто из нас осмелится заявить, что не нарушил ни одного закона? Но пусть даже найдется такой во всех отношениях невиновный: что за узкая невинность быть добрым лишь с точки зрения закона! Насколько правила долга шире, чем правила права! Как много еще есть требований благочестия, человеколюбия, вежливости, щедрости, справедливости, верности, для которых нет места на табличках государственных законов! (3) Однако мы не в силах соответствовать даже самым узким предписаниям — не нарушать закон. Мы не то делаем, не то думаем, не того желаем, не тому потворствуем, чему нужно; если в чем-то мы и остались неповинны, то только потому, что нам не удалось преступить закон — не повезло.
(4) Об этом мы не должны забывать, чтобы спокойнее относиться к тем, кто поступает дурно, чтобы с верой выслушивать тех, кто нас ругает. В особенности не следует нам гневаться на действительно добрых — если даже они станут вызывать в нас гнев, то кто же тогда не станет? — и менее всего на богов. Все, что нам приходится переносить неприятного, совершается не их волей, но по закону нашей смертности. «Но нас преследуют болезни и муки». — Ну что же, рано или поздно все равно надо уходить: жилье-то нам здесь досталось трухлявое, быстро гниющее.
(5) Тебе скажут, что вот, такой-то плохо говорил о тебе. Подумай, не говорил ли и ты раньше про него плохого? Подумай, сколько раз и о скольких людях ты дурно отзывался. Повторяю, нам следует всякий раз думать о том, что это не обижают нас, а воздают нам обидой за обиду. Следует помнить, что из тех, кто кажется нам обидчиком, один действует, может быть, ради нашего же блага; другой действует по принуждению, третий — по неведению; что даже те, кто обижает нас и добровольно и сознательно, ставили перед собой совсем другую цель: один не мог отказаться от удовольствия блеснуть остроумием; другой сделал это вовсе не ради того, чтобы повредить нам: просто он не мог добиться чего-то для себя, не оттолкнув нас с дороги; часто бывает, что, желая польстить одному, обижают при этом другого. (6) Пусть каждый припомнит, сколько раз на него самого падало ложное подозрение; как часто, когда он желал оказать добрую услугу, фортуна заставляла ее казаться обидой; сколько людей он сначала ненавидел, а потом полюбил; тогда он не станет мгновенно поддаватьcя гневу, в особенности если всякий раз, как его заденет что-нибудь, он станет говорить себе: «Я ведь и сам такое делал».
(7) Однако где найдешь такого справедливого судью? Человек, не пропустивший в своих домогательствах жены ни одного своего знакомого, для кого то обстоятельство, что это — чужая жена, вполне достаточный повод, чтобы влюбиться и пожелать ее, не позволяет даже взглянуть на свою собственную супругу. Вероломный больше всех настаивает на скрупулезном соблюдении договора; клятвопреступник первым кидается преследовать обманщиков; крючкотвор и мошенник больнее всех переживает, когда его присуждают к уплате штрафа; ревниво блюдет чистоту своих рабов тот, кто не пощадил своей собственной. (8) Чужие пороки у нас перед глазами, к собственным мы всегда повернуты спиной. Вот почему отец бранит сына за буйные пирушки, хотя сам не лучше его; вот почему не прощает чужой роскоши тот, кто сам себе ни в чем не отказывал; вот отчего тиран гневается на человекоубийцу, а святотатец наказывает воровство. Большинство людей гневается не на прегрешение, а на совершивших его. Давайте всегда оглядываться на самих себя: это сделает нас более терпимыми; давайте спрашивать себя: «А не совершил ли я чего-нибудь в таком же роде? А не заблуждался ли и я так же точно? А стоит ли мне осуждать эти проступки?»
29. (1) Главное лекарство от гнева — отсрочка. Первым делом требуй от твоего гнева подождать, не для того, чтобы простить, но для того, чтобы все взвесить и вынести суждение: у гнева силен лишь первый порыв; пока он будет ждать, он уляжется. И не пытайся одолеть его сразу целиком: ты победишь его весь, только уничтожая по частям. (2) Иногда нас неприятно поражает то, что мы видели и слышали сами, иногда нам передают обидные вещи. Мы не должны сразу верить таким рассказам: те, кто передает их, могут солгать, либо для того, чтобы обмануть нас, либо оттого, что сами обмануты. Есть такие, кто обвиняет других, чтобы втереться в милость, и сочиняет вымышленную обиду только ради того, чтобы показать, как он за нас переживает. Есть люди злокозненные, желающие разрушить наши самые тесные дружеские связи. Есть язвительные сплетники, жаждущие зрелищ и развлечения: ничто не доставляет им большего удовольствия, как столкнуть нас с кем-то лбами и с безопасного расстояния смотреть на драку.
(3) Если тебе придется рассматривать в суде дело о самой крошечной денежной сумме, ты не сможешь утвердить иск без свидетелей; свидетельские показания не будут признаны действительными без присяги; ты дашь выступить обеим сторонам, дашь им время, выслушаешь каждую, и не по одному разу: ибо чем чаще ты будешь возвращаться и пересматривать доводы за и против, тем яснее станет тебе истина. Так неужели же друга своего ты осудишь, не сходя с места? Не выслушав, не расспросив, не позволив ему узнать, кто и в чем его обвиняет, ты обрушишь на него свой гнев? Как, разве ты уже успел выслушать все, что могут сказать тебе обе стороны? (4) Да тот, кто перенес это тебе в уши, сам умолкнет тотчас, как только окажется перед необходимостью подтвердить свои слова. Он скажет: «Нечего на меня ссылаться; если ты вытащишь меня на суд, я стану все отрицать. И вообще я больше никогда ничего тебе не скажу». Он вас стравливает, а сам в то же время благополучно ускользает от разбирательства и наказания. Если кто-то хочет сообщить тебе нечто не иначе как по секрету, тому — я почти уверен в этом — нечего тебе сообщить. К тому же, что может быть непоследовательнее: тайно поверить — а потом явно разгневаться?
30. (1) Бывают обиды, которым мы сами свидетели. Тут нужно хорошенько взвесить их природу и волю тех, кто их нам нанес. Ребенок? Его возрасту это извинительно: он не знает, что хорошо, что плохо. Отец? — Либо он в свое время уже сделал нам столько добра, что имеет право быть неправым; либо — что очень вероятно — именно в том, что он говорит нам неприятные вещи, и состоит его перед нами заслуга. Женщина? — Не ведает, что творит. Подчиненный? — Значит, он не вполне в себе: ибо кто же сердится на неизбежность? Обиженный? — Это не обида: тебе просто придется вытерпеть то, что ты первый сделал. Судья? — Поверь лучше его решению, чем своему. Царь? — Что же, если он наказал виновного, подчинись справедливости; если невинного — подчинись судьбе. (2) Бессловесное животное или подобное бессловесному существо? Сердясь на него, ты сам ему уподобишься. Болезнь или несчастье? — Чем терпеливей ты будешь, тем легче они пройдут. Бог? — Гневаться на него — напрасный труд, все равно, что молить, чтобы он разгневался на кого-то другого. Тебя обидел добрый человек? — Не верь. Дурной? — Не удивляйся; его накажет за тебя кто-нибудь другой; к тому же он сам себя наказал тем, что совершил дурной поступок.
31. (1) Гнев, как я уже говорил, пробуждается в нас в двух случаях; во-первых, когда нам кажется, что нас обидели; об этом сказано уже достаточно. Во-вторых, когда нам кажется, что нас обидели несправедливо; об этом следует кое-что сказать. (2) Несправедливым люди считают либо то, что им приходится переносить незаслуженно, либо то, что приходится переносить неожиданно. То, чего мы не ждали, мы считаем возмутительно несправедливым. Нас больше всего возмущает то, что нарушает наши привычные надежды и расчеты: дома нас обижают самые ничтожные мелочи; малейшая небрежность наших друзей уже кажется нам оскорблением.
(3) Нас могут спросить: «Отчего же тогда мы сердимся на обиды, наносимые нам врагами?» — Оттого, что мы их не ожидали, или, во всяком случае, ожидали не таких сильных. Это происходит от нашей чрезмерной любви к себе. Мы считаем, что должны быть неприкосновенны даже для врагов. Внутри у каждого из нас царская душа, каждый хочет, чтобы ему было все позволено, но не хочет быть жертвой чужого произвола. (4) Таким образом, нас делает гневливым либо самоуверенность, либо непонимание действительности.
В самом деле, ну что удивительного в том, что дурные люди совершают дурные поступки? Что нового, невиданного в том, что враг вредит нам, друг нас задевает, сын оступается, слуга нет-нет и провинится? Фабий[184] говорит, что нет ничего позорнее для полководца, чем оправдываться: «Я не думал, что так выйдет». По-моему, нет ничего позорнее для человека вообще. Думай обо всем, ко всему будь готов: даже при самых добрых нравах не все шероховатости сглаживаются. (5) Человеческая природа порождает и коварные души, и неблагородные, и жадные, и нечестивые. Если ты захочешь строить свое суждение, исходя из нравов кого-то одного, подумай о нравах большинства людей.
Там, где ты найдешь больше всего радости, там будет больше всего и страха. Где все тебе покажется исполнено покоя, там опасность лишь замерла и притаилась. Считай, что всегда непременно должно случиться что-то обидное и неприятное. Кормчий никогда не станет беспечно распускать паруса, не приготовив всех снастей для того, чтобы быстро свернуть их в случае необходимости. (6) Помни прежде всего о том, что вредить другим — самое гнусное и мерзкое дело, самое противное природе человека, чья доброта приучает даже свирепых зверей. Взгляни, как покорно слоны подставляют шею ярму[185], как быки позволяют детям и женщинам безнаказанно плясать у себя на спине, ударяя по ней пятками[186]; как змеи безобидно скользят вокруг наших кубков и, не кусаясь, заползают под складки одежды; как приветливо смотрят морды медведей и львов на того, кто за ними ухаживает, когда он заходит к ним в клетку; как дикие звери ласкаются к своему хозяину — нам должно стать стыдно, что мы поменялись нравами с животными.
(7) Нельзя причинять зло родине. Значит, нельзя также и гражданину, ибо он — часть родины, а если целое заслуживает почтения, то и части его священны. И значит, нельзя причинять зла человеку вообще, ибо он вместе с тобой гражданин большого города. Подумай, что было бы, если бы руки захотели причинить вред ногам, а глаза — рукам? Нет, части нашего тела живут в согласии, ибо сохранность каждой — в интересах целого; так и люди, рожденные для союза, должны щадить отдельных его членов, ибо здоровое сообщество может существовать при бережном отношении и любви друг к другу всех его частей. (8) Мы бы, наверное, не стали убивать даже гадюк и ядовитых водяных змей, отравляющих нас зубами и жалом, если бы могли надеяться когда-нибудь приручить их или сделать неопасными для нас и для других. Следовательно, мы и человеку не станем причинять зла потому, что он провинился, но только для того, чтобы он не провинился впредь: наказание всегда должно считаться не с прошлым, а с будущим, ибо оно есть выражение не гнева, а предосторожности. В самом деле, если наказывать всякого с дурным и испорченным характером, то ни один из нас не избежит наказания.
32. (1) «И все-таки в гневе есть какое-то наслаждение; сладостно причинять боль за боль». — Нет; как нет ничего достойного в том, чтобы отвечать благодеянием на благодеяние и подарком на подарок, так же постыдно и отвечать обидой на обиду. В состязании позорно быть побежденным, здесь позорно быть победителем. «Месть» — бесчеловечное слово, хоть она и считается чем-то законным и справедливым; тот, кто причиняет боль за боль, тоже виноват, хотя у него и есть оправдание. (2) Какой-то неразумный человек, не узнав Марка Катона[187], побил его в бане: сознательно никто не поднял бы руку обидеть такого мужа! Когда впоследствии этот человек пришел просить прощения, Катон ответил: «Я не помню, чтобы меня побили». (3) Он решил, что лучше не признавать обиду, чем требовать воздаяния. Ты спросишь: «Неужели подобная наглость так и осталась безнаказанной?» — Не просто безнаказанной, но, напротив, получила еще и награду: ведь он смог узнать Катона. Великий дух презирает обиды. Самый обидный род мести — признать обидчика недостойным нашей мести. Многие, ища возмездия за легкие обиды, сами делают их более глубокими для себя. Велик и благороден тот, кто спокойно слушает лай мелких собачонок, как крупный и сильный зверь.
33. (1) «Если мы будем мстить за свои обиды, нас меньше будут презирать». — Если мы прибегаем к мести как к средству, то следует прибегать к ней без гнева, и не потому, что мстить сладостно, а потому, что полезно. Однако часто гораздо полезнее не мстить, а сделать вид, будто ничего не произошло. Например, обиды от власть имущих нужно сносить не просто терпеливо, но с веселым лицом: если они решат, что и впрямь задели вас, непременно повторят. Кроме того, в душах, развращенных большим успехом, есть скверная черта: они ненавидят тех, кого обидели. (2) Тут стоит прислушаться к примечательным словам человека, состарившегося в услужении у царей. Когда кто-то спросил его, как ему удалось достичь столь редкой при дворе вещи как старость, он отвечал: «Я принимал обиды и благодарил за них».
Иногда не только мстить невыгодно, но не стоит и виду подавать, что ты обижен. (3) Гай Цезарь[188] посадил в тюрьму сына блестящего римского всадника Пастора, обиженный тем, что юноша слишком нарядно одевался и слишком изысканно причесывался; когда отец пришел просить даровать жизнь сыну, Цезарь, словно ему вдруг напомнили о казни, приказал вести его на казнь тотчас; но чтобы не быть совсем бесчеловечным в отношении отца, пригласил его на этот же день к обеду. (4) Пастор пришел без тени упрека на лице. Цезарь велел ему пить гемину[189] за свое здоровье, а рядом поставил стража: бедняга выдержал, хотя пил так, словно это была кровь сына. Цезарь послал ему благовония и венки и велел наблюдать, примет ли; принял. В тот самый день, как схоронил сына, более того — когда еще и не схоронил сына, подагрический старик возлежал среди сотни других пирующих, накачиваясь вином в таком количестве, какое едва ли уместно было бы даже на празднике в честь сыновнего рождения, и за все это время не проронил ни слезинки, ни единым знаком не выдал своей боли; он пировал так, словно добился помилования сыну. (5) Ты спросишь, почему? У него был другой сын. Вспомни Приама[190]: разве он, спрятав свой гнев, не обнимал царских колен, не целовал руку убийцы, еще забрызганную кровью сына? Разве не обедал с ним? Да, но без благовонных притираний, без венков; свирепейший из врагов долго утешал его, уговаривая хоть немного подкрепиться пищей, а не заставляя осушать громадные кубки, поставив над головой надсмотрщика. (6) Ты был бы вправе презирать этого римского отца, если бы он боялся за себя; но его гнев сдерживала отцовская любовь. Поистине он заслуживал того, чтобы отпустить его с пира собрать кости своего сына; но юноша-хозяин не отпускал его, хотя во всем прочем был чрезвычайно радушен и любезен: он то и дело поднимал чашу за его здоровье, заставляя его пить без передышки, и напоминал не без угрозы, чтобы он развеселился, отбросив все заботы; и старик всем своим видом показывал, что веселится, забыв о том, что произошло в тот день. Чуть-чуть не угоди гость палачу — погиб бы и второй сын.
34. (1) Итак, нам следует воздерживаться от гнева, кто бы его ни вызывал: равный, высший или низший. Ссориться с равным рискованно, с высшим — безумно, с низшим — унизительно. Лишь жалкие ничтожества норовят ответить укусом на укус. Протяни руку к мыши или муравью: они станут кусаться; так все слабые существа: если до них только чуть дотронуться, им кажется, что их уже ударили. (2) Если кто-то вызвал наш гнев, вспомним о том, что он нам когда-то сделал хорошего: это заставит нас смягчиться; заслуги перевесят обиду. Стоит подумать и о том, что репутация снисходительного человека будет много способствовать нашей доброй славе; и о том, скольких полезных друзей мы приобретем благодаря прощению. (3) Не стоит гневаться на детей наших врагов и противников — пусть нас отвратит от этого пример жестокости, преподанный Суллой, который очищал государство от детей проскрибированных граждан. Делать кого-то наследником ненависти, вызванной отцом, — верх несправедливости. (4) Всякий раз, как нам трудно бывает простить кого-нибудь, давайте подумаем: а выиграем ли мы сами, если впредь никому ничего не будет прощаться? Как часто приходится просить прощения тому, кто прежде отказывал в нем! Как часто он бывает вынужден обнимать колени того, кого оттолкнул когда-то от своих! Что может быть замечательнее, чем сменить гнев на дружбу? Самые верные союзники римского народа — это те, кто были самыми упорными его врагами. Что бы осталось сегодня от римского владычества, если бы спасительная прозорливость не перемешала в свое время побежденных и победителей?
(5) Пускай кто-то сердится: ты в ответ сделай ему что-нибудь хорошее. Вражда сама угаснет, если одна из двух сторон откажется ее поддерживать: сражаться могут лишь двое равных соперников. Но если с двух сторон сошлись и схватились два гнева, лучше поступит тот, кто первым оставит поле битвы: здесь победителем будет побежденный. Тебя ударили? — Отступи. Отвечая ударом на удар, ты только даешь повод ударить тебя еще, и к тому же даешь оправдание своему противнику; и вырваться из схватки ты уже не сможешь, когда захочешь.
35. (1) Неужели кто-нибудь захотел бы поразить врага с такой силой, чтобы вся рука погрузилась в рану и ее нельзя было вытащить назад? А ведь гнев — именно такое оружие: оно не вытаскивается. Оружие мы выбираем себе поудобнее, присматриваем легкий и сподручный меч. Неужели же мы не станем избегать этого тяжелого, обременительного, неповоротливого оружия души: порывов гнева? (2) Мы любим быструю езду, но только такую, когда можно в случае надобности замедлить скорость, свернуть в нужную сторону, где надо, остановиться, а где надо — перейти с галопа на шаг. Если против нашего желания у нас дергаются мышцы, мы решаем, что нервы не в порядке.
Только старики и больные начинают невольно бежать, когда хотят идти шагом. Самыми здоровыми и сильными мы считаем те душевные движения, которые повинуются нашей воле, а не несутся, куда им самим заблагорассудится.
(3) Но полезнее всего будет как следует приглядеться к гневу: сначала увидеть все его безобразие, а затем — его опасность. Ни одно другое чувство до такой степени не выдает смятения своим видом: гнев способен сделать уродливыми прекраснейшие лица, исказить судорогой самые спокойные черты. В гневе люди теряют всякое благообразие: если плащ лежал на них красивыми складками и по моде, то вместе с заботой о себе они утрачивают и внимание к одежде, которая теперь висит как попало; если волосы красиво лежали благодаря природе или искусству, душевное волнение поднимает их дыбом; вены взбухают; грудь сотрясается от частого прерывистого дыхания; горло раздувается от бешеных выкриков; ноги дрожат, руки трясутся, все тело содрогается и трепещет. (4) Какова, по-твоему, в это время душа внутри, если снаружи ее отражение так отвратительно? Насколько страшнее выглядит гнев в сердце, насколько жарче внутри его дыхание, насколько сильнее порыв, грозящий взорвать человека, если не найдет себе выхода! (5) Вспомни, какое выражение бывает у врагов или у диких зверей, когда они насквозь промокли от еще теплой крови после резни или устремляются на убийство; вспомни придуманных поэтами подземных чудовищ, опоясанных змеями и выдыхающих пламя; вспомни, какие жуткие существа встают из преисподней, сея раздоры между народами, разжигая войны и в клочья раздирая мир, — именно таким мы и должны представить себе гнев: глаза горят огнем; из горла вырывается то ли шипение, то ли вой, то ли мычание, то ли скрежет, словом, самые отвратительные звуки, какие вы можете вообразить; каждая рука потрясает копьем (в оборонительном оружии он не нуждается, ибо мало заботится о своей безопасности); лицо сведено судорогой, окровавлено, покрыто шрамами и черно-синими пятнами от ударов; походка сумасшедшего; весь окутанный мраком, он нападает, опустошает, обращает в бегство и страдает от ненависти ко всем, а больше всего — к самому себе; равно ненавидящий и ненавистный, он жаждет уничтожить землю, моря и небо, если иначе нельзя уничтожить врага. (6) Или, если хочешь, вообрази его таким, каким он является у наших поэтов:
Или, если сможешь, придумай еще более устрашающий образ этого устрашающего чувства.
36. (1) Секстий[192] говорит, что некоторым людям в гневе полезно было посмотреться в зеркало: столь сильная перемена в себе смущала их; поставленные лицом к лицу с действительностью, они не узнали себя самих. А ведь лишь самая малая доля душевного безобразия обнаруживается на лице, отраженном в зеркале. (2) Если бы нам можно было показать нашу душу, если бы было какое-нибудь вещество, в котором она стала бы видима, то в какое смятение пришли бы мы, глядя на нее, — черную, грязную, бурлящую, корчащуюся, раздутую. Если даже теперь ее безобразие в состоянии пробиться наружу сквозь кости и мышцы, сквозь множество плотных преград, то что было бы, увидь мы ее голой? (3) Впрочем, я думаю, не стоит верить, будто зеркало заставило кого-то испугаться собственного гнева: ты спросишь, почему? Дело в том, что, если человек подошел к зеркалу, готовый перемениться, значит, он уже переменился. Для разгневанного самое красивое лицо на свете то, чьи черты перекошены, а волосы дыбом, ибо люди хотят выглядеть такими же, какими хотят быть.
(4) Лучше давай посмотрим, какой большой вред наносит людям гнев как таковой. У кого-то от чрезмерной разгоряченности лопаются вены; кто-то через силу кричал, и у него хлынула кровь горлом; у кого-то портится зрение от переувлажнения глаз; у выздоравливающих возобновляются сильные приступы болезни. Кроме того, это самый быстрый путь к безумию. (5) Многие так и остались в буйном помешательстве гнева: они не смогли вернуть назад ум, который на время отбросили. Аякса гнев подтолкнул к безумию, а безумие — к смерти[193]. Охваченные гневом призывают смерть на головы детей, нищету себе, крушение — дому, и при том уверяют, что они отнюдь не разгневаны, как сумасшедшие, что они в здравом уме. Они враги друзьям и пугало для близких, им нет дела до законов, кроме тех, с помощью которых можно как-нибудь ущемить обидчика, их выводят из равновесия мелочи, их не трогают ни уговоры, ни благодеяния, они не признают никакого образа действий, кроме насильственного, и всегда готовы поднять меч или броситься на него.
(6) Они находятся во власти величайшего из зол, превосходящего все прочие пороки. Другие захватывают нас постепенно — этот налетает и завладевает нами без остатка. Ведь он в конце концов подчиняет себе все остальные чувства. Он побеждает самую пламенную любовь, так что люди пронзают любимые тела и лежат в объятиях тех, кого сами зарезали. Гнев попирает даже алчность — самый жесткий и несгибаемый из пороков: он заставляет скупца швыряться накопленными богатствами или поджигать дом, собрав в него все свое добро. А разве не случалось самым честолюбивым людям в гневе срывать с себя знаки отличия и власти или отказываться от дарованных им почестей? Нет такого чувства, над которым гнев не взял бы верха.
Книга III
1. (1) Теперь, Новат, мы попробуем, наконец, исполнить самую главную твою просьбу: показать, каким образом можно изгонять гнев из душ или, во всяком случае, обуздывать его и останавливать его порывы. Иногда следует делать это прямо и откровенно — когда гнев невелик и допускает такое обращение; иногда — тайком, когда он распален до чрезвычайности и всякое препятствие лишь раззадоривает его и увеличивает. Тут важно знать, сколько сил у гнева и насколько они еще не израсходованы; а в зависимости от этого решить, стоит ли ополчаться на него и наступать, или, напротив, уступать и пятиться, пока не отшумит первая гроза, чтобы ее порыв не унес с собой и средства своего позднейшего обуздания.
(2) Выбирая образ действий, следует исходить из нравов данного человека. Есть люди, которые не могут отказать просьбам; другие, напротив, издеваются и нападают на тех, кто кажется им безобидным: этих мы напугаем, чтобы успокоить. У кого-то едва начавшийся приступ гнева пройдет от сурового порицания, у другого — если перед ним признают свою вину, третьего остановит стыд, (3) четвертого успокоит отсрочка — медленно действующее лекарство от стремительного недуга, к которому надо прибегать в последнюю очередь. Ибо все прочие чувства не так быстро распространяют свою власть, и там лечение можно начать не сразу; это обрушивается внезапно, увлекая само себя в бурном порыве; оно не развивается постепенно, но является во всем своем объеме с самого начала. В отличие от других пороков оно не соблазняет душу исподтишка, а захватывает ее силой, лишая власти над собой и заставляя ждать, если угодно, хоть и всеобщей погибели, и ярость его устремляется не только на вызвавший его предмет, но и на любой другой, случайно подвернувшийся. (4) Другие пороки возбуждают душу, гнев заставляет терять голову. Даже когда человек не в силах устоять против чувства, само чувство может приостановиться, но только не гнев: разбушевавшись, он не может остановиться, подобно молнии или урагану и прочим неудержимым порывам, ибо они не идут, а обрушиваются. (5) Другие пороки — восстание против разума, этот — против здравого ума вообще. Другие приближаются потихоньку и растут постепенно; в гнев души падают, как в пропасть. Словом, нет другой такой вещи, оглушающей, как удар грома, столь уверенной в своих силах, столь высокомерной при удаче, столь безумной при неудаче; гнев не может угомониться, даже если все его выпады оказываются тщетны, и если фортуна уведет противника за пределы его досягаемости, он бросается грызть самого себя. Велика или ничтожна породившая его причина, не имеет никакого значения: начавшись с пустяка, он достигает огромных размеров.
2. (1) Он не минует ни одного возраста, не делает исключения ни для какого рода людей. Есть племена, благодаря нищете никогда не знавшие роскоши; есть народы кочевые и деятельные, избежавшие лени; есть народы дикой жизни и некультурных нравов, которым совершенно неведомы обман, мошенничество и прочие виды зла, рожденные торговлей. Но нет племени, недоступного стрекалу гнева; его владычество одинаково распространяется на греков и варваров, и для боящихся закона оно не менее гибельно, чем для тех, чье право измеряется силой.
(2) Наконец, прочие пороки портят отдельных людей, а это — единственное чувство, способное иногда захватить целое общество. Не бывало такого, чтобы весь народ как один воспылал любовью к женщине; чтобы целое государство возложило все свои упования только на деньги и наживу; честолюбие тоже занимает лишь отдельных людей; но утрата власти над собой может быть и общественным недугом. Часто единый порыв гнева увлекает огромные полчища людей; (3) в гневе объединяются мужчины и женщины, старики и дети, знать и чернь, и вот вся толпа, возбужденная несколькими горячими словами, уже оставила далеко позади того, кто возбудил ее; тут же все хватаются за оружие, кидаются резать и жечь, объявляются войны соседям или начинаются без объявления между согражданами; (4) дотла сжигаются целые дома со всеми домочадцами; популярный оратор, только что всеми любимый за свое красноречие, становится жертвой гнева собравшихся слушателей; легионы обращают копья против своих командиров; весь плебс отходит от патрициев; государственный совет — сенат, не дожидаясь набора, не назначив полководца, вдруг выбирает вождей для осуществления своего гнева, преследует по всем домам в городе благородных мужей, взяв в свои руки меч правосудия; (5) послы становятся жертвами насилия, международное право поругано, несказанное яростное безумие охватило государство; и нет времени, чтобы хоть немного остыло общественное воспаление, опала опухоль народного гнева: уже выводятся военные корабли и загружаются как попало набранными солдатами; без подготовки, без благоприятных знамений выступает народ под руководством своего вождя — гнева, вооруженный как и чем попало, и потом расплачивается за дерзкую опрометчивость кровопролитными поражениями. (6) Такой исход имеют обычно внезапные, как лавины, войны варваров, когда они вообразят, что их обидели; мысль эта пронзает их неустойчивые души, и все они тотчас устремляются туда, куда влечет их обида, обрушиваясь подобно обвалу на легионы: беспорядочные, бесстрашные, неосторожные, ищущие себе опасности; они радуются ударам, наступают голой грудью на меч, телом своим отталкивают копья или погибают от ран, самим себе нанесенных.
3. (1) Ты скажешь: «Сомненья нет, это сильный и губительный недуг; поэтому покажи нам, как следует его лечить». — Сомненье есть: как я уже говорил в предыдущих книгах, Аристотель выступает в защиту гнева и запрещает нам искоренять его; он уверяет, что гнев — шпора добродетели, что без него душа безоружна и ленива, так что на великие дела ее не поднять. (2) Вот почему необходимо прежде всего показать всем, что гнев отвратителен и дик; надо, чтобы они собственными глазами убедились, какое чудовище — человек, пышущий яростью на человека, с какой неукротимой силой устремляется он, неся гибель другим и себе, разрушая то, что в своем крушении неизбежно должно увлечь с собой и его.
(3) Сам подумай: ну кто же назовет здоровым человека, который не идет, а несется, словно подхваченный бурей, и словно раб выполняет безумные повеления этого зла, а решив мстить, сам приводит свое решение в исполнение, равно кровожадный душой и руками, палач самых близких людей, истребитель самых дорогих вещей, над потерей которых он сам же вскоре будет плакать? (4) Неужели кто-то считает, что добродетель нуждается в подобном помощнике и спутнике: ведь это чувство спутывает и все решения, без которых добродетель ничего не предпринимает? И приступ болезни вызывает иногда прилив сил, но силы эти — не к добру, они быстро сменятся упадком и ничего, кроме зла, больному не принесут.
(5) Так что не думай, будто я попусту трачу время, доказывая всем и без того очевидные вещи, когда я стараюсь показать гнев во всей его неприглядности: у людей о нем мнение двойственное — настолько, что вот нашелся человек — и даже прославленный философ[194], — нашедший ему применение; он признает его весьма полезным и советует призывать его на помощь в сражении и в делах государства, словом, во всяком деле, требующем для своего исполнения некоторого жара. (6) Я же желаю показать его во всем его слепом и необузданном бешенстве, чтобы никто больше не обманывался насчет того, что будто бы при известных обстоятельствах времени и места гнев может принести пользу. Рядом с ним следует поместить и все его обычное снаряжение: дыбы и пыточные канаты, каторжные тюрьмы и кресты, костры, освещающие погребаемых заживо, крючья, вытаскивающие из тюрем трупы, все виды оков, казней, пыток, терзаний, клеймение лбов и клетки со страшными дикими зверями, — среди всех этих излюбленных его орудий следует поместить и сам гнев: из глотки у него вырывается ужасный скрежет или шипение, от которого волосы становятся дыбом, и вид его омерзительнее, чем у всех орудий его ярости вместе взятых.
4. (1) Что бы там ни говорили о гневе, одно совершенно несомненно: никакое другое чувство не делает человеческое лицо безобразнее. В предыдущих книгах мы уже описывали лицо гнева: грубое, жестокое, то резко бледнеющее от внезапного отлива крови, то вдруг краснеющее, когда весь жар и скопившийся внутри воздух бросаются в лицо, и краснеющее до того сильно, что кажется залитым кровью; вены разбухли, глаза то вращаются, чуть не выскакивая из орбит, то вдруг уставятся неподвижно в одну точку; (2) зубы стучат друг о друга, словно желая кого-то съесть, точь-в-точь как у вепря, когда он точит клыки; суставы трещат, ибо руки непроизвольно ломают друг друга, грудь часто вздымается, дыхание учащенное, прерываемое глубокими вздохами и стонами; тело неустойчивое; неразборчивые слова мешаются внезапными выкриками, губы дрожат, а время от времени плотно сжимаются, издавая какое-то устрашающее шипение. (3) Клянусь Геркулесом, даже у диких зверей, когда они оголодали или ранены засевшим в кишках копьем, не бывает такой жуткой отталкивающей морды, как у распаленного гневом человека, даже когда, полуживые, они в последний раз пытаются броситься и достать зубами охотника.
Пожалуй, если будет время, выслушай как-нибудь все эти крики и угрозы — узнаешь, как разговаривает истерзанная палачом-гневом душа! (4) Да разве найдется такой, кто не захочет избавиться от гнева, когда поймет, что это зло поражает его же первого? Неужели ты не хочешь, чтобы я предостерег их — тех, кто изо всех сил пестует в себе гнев, считая его доказательством силы, кто полагает возможность мщения одним из величайших благ, какие судьба дарует своим любимцам, вознося их на вершины власти, — разве я не должен объяснить им, что не только могущественным, но даже и свободным нельзя назвать пленника собственного гнева? (5) Неужели ты не хочешь, чтобы я убедил их как можно внимательнее следить за собой и постоянно быть настороже, ибо все прочие виды душевного зла бывают обычно принадлежностью человеческого отребья, но гнев прокрадывается даже в сердца людей образованных и во всех прочих отношениях здравых? Ведь никто этого не понимает — настолько, что считают гнев признаком простоты, и в народе всякий, подверженный этому пороку, слывет самым легким и приятным человеком.
5. (1) Спросишь: «К чему ты все это ведешь?» — к тому, чтобы никто не считал себя недосягаемым для гнева: самых ровных и спокойных от природы людей он заставляет лютовать и бесноваться. Никакая телесная крепость, самая тщательная забота о здоровье не спасает от чумы: она равно нападает на хилых и на силачей — точно так же и гнев угрожает как беспокойным, так и уравновешенным и даже вялым по нраву людям; для последних гнев тем опаснее и тем позорнее, что больше в них меняет.
(2) Итак, прежде всего надо научиться не гневаться, во-вторых, избавляться от гнева, в-третьих, исцелять от гнева также и других; соответственно и я расскажу сперва о том, что нужно делать, чтобы не поддаваться приступам гнева, затем — о том, как совсем от него освободиться, и, наконец, о том, как удержать и усмирить разгневанного и вновь привести его в здравый ум.
(3) Для того чтобы мы были в силах не поддаться очередной вспышке гнева, нам нужно то и дело представлять самим себе все пороки, связанные с гневом, и давать ему верную оценку. Мы должны обвинить его перед нашими собственными глазами и осудить; до мелочей выявить все то зло, какое он нам приносит, и вытащить его на свет. А чтобы заставить его обнаружить свою сущность, следует сравнить его с худшими из пороков.
(4) Стяжательство приобретает и копит, но в конце концов кто-то лучший, чем оно, воспользуется его накоплениями; гнев растрачивает, и немногим он обходится даром. От гневливого хозяина сколько рабов убегает, и скольких он сам убивает! Насколько больше потери от гнева, чем от того, что послужило гневу причиной! Гнев приносит отцу траур, мужу — развод, магистрату — ненависть, кандидату — провал на выборах. (5) Гнев хуже роскоши, ибо она наслаждается собственными удовольствиями, а он — чужими скорбями. Гнев далеко превосходит и злобу и зависть: ибо они желают, чтобы кому-то сделалось плохо, а он желает сам сделать плохо; они радуются несчастным случаям, он не может ждать случая — ему мало, чтобы врага поразил удар: ему надо нанести удар самому. (6) Что может быть тяжелее вражды? — А ведь ее порождает гнев. Что может быть страшнее войны? — Но ведь война — это прорвавшийся гнев власть имущих. Впрочем, даже плебейский частный гнев — это та же война, только без оружия и без войска.
Кроме того, гнев, стремясь покарать кого-то, карает в первую очередь самого себя, и это относится не только к его последствиям, таким как имущественные потери, склоки, вечное беспокойство из-за взаимного соперничества и раздоров, все это можно даже не упоминать, главное — гнев противоречит человеческой природе, ибо она побуждает нас любить, а он — ненавидеть, она велит нам приносить добро, а он — зло. (7) Не забудь и о том, что, хотя гневное возмущение проистекает из чрезмерно высокой самооценки и со стороны кажется проявлением высокого духа, на самом деле оно свидетельствует о ничтожной и мелочной узости: ибо если мы полагаем, что кто-то выказал нам презрение, мы не можем не быть мельче его.
Напротив, великий дух, ценящий себя по-настоящему, не карает обидчика, ибо не ощущает обиды. (8) От твердой поверхности отскакивают копья, а наносимые по ней удары причиняют боль бьющему; точно так же ни одна обида не в силах заставить великий дух почувствовать боль, ибо любая обида будет менее твердой, чем то, куда она метит. Насколько прекраснее прочих душа, подобная непробиваемому панцирю, от которой все обиды и оскорбления отскакивают, не удостаиваясь даже ее внимания! Мщение есть признание, что нам больно; не велик тот дух, который может согнуть обида. Обидчик либо сильнее тебя, либо слабее; если слабее, пощади его, если сильнее — себя.
6. (1) Самый верный признак величия души — когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия. Высшая часть мира, та, что ближе к звездам и где больше порядка, не затягивается тучами, не взметается бурями и не закручивается вихрями: в ней никогда не бывает смятения, молнии свирепствуют внизу. То же самое относится и к возвышенному духу: он всегда спокоен и недвижим в своей тихой устойчивости; все, что питает гнев, он оставил далеко внизу, а сам скромен, упорядочен и внушает уважение — качества, которых ты никогда не найдешь в разгневанном человеке. (2) Кто, отдавшись своей боли и пылая яростью, не отбрасывает первым делом стыд? Кто, обрушиваясь на другого в смятении гневного порыва, не бросает прочь все, что внушало к нему уважение? Кто в возбуждении помнит число и порядок своих обязанностей? Кто сдерживает свой язык? Кто владеет хоть какой-нибудь частью тела? Кто, дав себе волю, в состоянии управлять собой? (3) Нам пригодится весьма полезное наставление Демокрита, в котором он доказывает, что покой достижим лишь тогда, когда мы не будем много или сверх наших сил заниматься ни частными, ни общественными делами[195]. У того, кому приходится бегать по многим делам, ни один день не проходит настолько счастливо, чтобы кто-нибудь или что-нибудь не задело его — а именно от этого в душе рождается гнев. (4) Если вы, спеша куда-то, пойдете по многолюдным улицам города, вы непременно налетите на многих прохожих, где-то непременно поскользнетесь, где-то застрянете в толпе, где-то вас обрызгают грязью, — точно так же и в беспорядочной суете нашей жизненной деятельности нас ожидает много препятствий и много стычек. Один обманул наши надежды, другой не дал им сбыться, третий перехватил себе то, к чему мы стремились; все сложилось не так, как мы предполагали, и потекло не туда. (5) Фортуна никому не бывает предана настолько, чтобы отвечать всякой его смелой попытке. И выходит так, что человек, чьи предположения в чем-либо не оправдались, раздражается против людей и вещей, теряет терпение и по самым пустяковым поводам вспыхивает гневом то на какую-то личность, то на место, то на судьбу, то на себя. (6) Итак, чтобы душа могла успокоиться, не следует утомлять исполнением многих дел или стремлением к тому, что намного превышает наши силы. Нетяжелый груз легко взвалить на спину и нетрудно удобно пристроить, чтобы он не падал, когда мы перебрасываем его с одной стороны на другую; но бремя, взваленное на нас чужими руками и едва нам посильное, мы роняем, не пройдя и нескольких шагов, не в силах с ним справиться. Даже стоя неподвижно с этой тяжестью на плечах, мы шатаемся и вот-вот упадем, ибо груз не по нам.
7. (1) Знай, что это относится в равной степени к делам государственным и к делам домашним. Предприятия легкие и сподручные удаются так, как были задуманы; напротив, дела громадные и превосходящие способности того, кто за них взялся, не даются легко; когда человек займется ими, они начинают давить на него своей тяжестью и увлекать его за собой, а когда кажется, что все уже почти готово, громада обрушивается, хороня под своими обломками того, кто ее возводил. Есть люди, не желающие браться за легкие дела, но желающие, чтобы все, за что они ни возьмутся, давалось легко, — конечно, они часто разочаровываются в своем желании. (2) Всякий раз, как ты станешь пытаться что-то сделать, соразмерь хорошенько себя и то, что ты собираешься предпринять и что потребует от тебя известного количества предприимчивости; в противном случае сожаления о несделанном деле озлобят тебя. Впрочем, тут еще важно, какой у тебя от природы характер: пылкий или холодный и низкий; у благородного неудача вызывает гнев, у вялого и бездеятельного — уныние. Так что не будем брать на себя ни слишком мало, ни слишком много, безрассудно замахиваясь на то, что нам не по росту; не будем отпускать нашу надежду далеко вперед — пусть остановится поблизости; не будем предпринимать ничего, что заставило бы нас потом удивляться, как это нам удалось сделать.
8. (1) Раз уж мы не умеем переносить обиды, постараемся не получать их. Следует жить с человеком самого мирного и легкого нрава, который никогда не волнуется и не раздражается. Ибо мы перенимаем нрав тех, с кем общаемся, и подобно тому как некоторые болезни передаются телесным соприкосновением, душа передает свои недуги ближним. Пьяница заставляет своих постоянных сотрапезников пристраститься к неразбавленному вину; общество распутников делает неженку даже из храброго человека и вообще женщину из мужчины; алчность вливает свой яд во всех, кто рядом. (2) То же самое происходит и с добродетелями, только наоборот; они смягчают все, с чем соприкасаются. Подходящий климат и здоровая местность полезны для выздоравливающих, но куда полезнее для неокрепших душ общество тех, кто лучше их. (3) Чтобы ты понял, как много может это дать, вспомни, что даже хищники, живя с нами, становятся ручными, и что нет такого зверя, пусть даже самого свирепого, который не перестал бы нападать на человека, если прожил с ним вместе достаточно долго; не встречая отклика, их злоба постепенно притупляется, и в конце концов, живя среди тишины и мира, они вовсе отучаются от нее. Тот, кто живет среди спокойных людей, становится лучше не только благодаря примеру, но и оттого, что не находит причин для гнева и не упражняется в своем пороке. Вот почему надо избегать всякого, кто, как мы знаем, может возбудить в нас гнев. Ты спросишь: «Кто же это?» (4) Многие и по разным причинам оказывают на нас одно и то же действие: гордец возмутит тебя высокомерием, остроумец — оскорбительным замечанием, наглый тебя обидит, завистник сделает какую-нибудь гадость исподтишка, задира станет вызывать тебя на спор, а легкомысленный лгун рассердит тебя пустой суетностью; ты не сможешь вынести, что подозрительный человек тебя боится, упрямый не дает себя переубедить, а чересчур утонченный тобой гнушается. (5) Выбирай людей простых, легких, сдержанных, которые не вызовут твоего гнева или перенесут его спокойно. Еще лучше тебе будет с кроткими, человеколюбивыми и ласковыми, но только в том случае, если любезность не доходит до льстивости, ибо чрезмерная угодливость раздражает гневливых. У нас был друг — определенно хороший человек, только немного склонный ко гневу; так вот, льстить ему было так же небезопасно, как бранить в лицо.
(6) Известно, что оратор Целий был гневлив до чрезвычайности[196]. Рассказывают, что обедал с ним как-то в маленькой комнате один клиент редкого терпения, но и ему весьма трудно было избежать ссоры с патроном, поскольку лежали они бок о бок и деваться было некуда. Он рассудил за лучшее соглашаться с каждым словом и не делать ничего наперекор. Целий не выдержал поддакивания и воскликнул: «Возрази же хоть что-нибудь, чтобы нас стало двое!» Однако хоть он и разгневался на то, что ему не давали повода ко гневу, все же, не встречая сопротивления, быстро остыл. (7) Итак, если мы знаем за собой склонность ко гневу, будем лучше уж выбирать себе людей, подстраивающихся под наше слово или взгляд. Правда, они избалуют нас, выработав в нас дурную привычку слышать лишь то, что нам по нраву, зато мы отдохнем от нашего порока, и эта передышка пойдет нам на пользу. Самые тяжелые и неукротимые от природы характеры терпеливы к ласке. Ни одно существо не бросается в испуге на того, кто его гладит. (8) Когда спор затягивается и становится все ожесточеннее, оставим его поскорее, пока он не набрал силу. Борьба питает сама себя и не выпускает того, кто слишком глубоко в нее втянулся. Легче удержаться от ссоры, чем потом из нее выйти.
9. (1) Тем, кто подвержен гневу, следует оставить слишком усердные занятия, требующие напряжения, или, во всяком случае, ничем не заниматься до утомления. Не следует позволять душе обращаться сразу ко многому: пусть занимается тем, что ей приятно. Пусть смягчается за чтением стихов и увлекается историческими рассказами; обращайтесь с ней ласковее и бережнее. (2) Пифагор успокаивал душевное смятение лирой. Кто не знает, что рога и трубы действуют возбуждающе, и точно так же есть виды музыки, ласкающие душу и позволяющие ей расслабиться? Усталым глазам полезно смотреть на зелень, и есть цвета, на которых успокаивается слабое зрение, а есть такие, чей блеск слепит и вызывает боль; так приятные и радостные занятия исцеляют больные души. (3) Мы должны избегать форума, судов, выступлений — словом, всего, что растравляет наш порок; равным образом следует остерегаться и телесного утомления, ибо оно поглощает все, что есть в нас мягкого и мирного, возбуждая все резкое и злобное. (4) Так те, кто не полагается на свое пищеварение, приступая к делам, требующим многих хлопот, прежде усмиряют свою желчь обильной пищей, ибо усталость раздражает ее более, чем что-либо иное, то ли оттого, что сгоняет жар к середине тела и портит кровь, не давая ей свободно бежать по скованным усталостью венам, то ли потому, что ослабевшее и истощенное тело всей своей тяжестью наваливается на душу; вероятно, по этой последней причине наиболее подвержены гневу люди, измученные нездоровьем или преклонным возрастом. На том же основании следует избегать также голода и жажды: они ожесточают и воспламеняют души. (5) По старой поговорке «Усталый ищет ссоры» то же можно сказать и об изнуренном голодом или жаждой, да и обо всяком другом, сильно чем-нибудь удрученном человеке. Как нарыв болит от легкого прикосновения, а потом и от одной мысли о том, что к нему сейчас прикоснутся, так и пораженная недугом душа возмущается от любой мелочи, вплоть до того, что простое приветствие, письмо или несколько незначащих слов вызывают иных людей на ссору. До больного места нельзя дотронуться, не вызвав жалобы.
10. (1) Итак, самое лучшее — лечить себя сразу, как только вы почувствовали приближение болезни; затем — давать как можно меньше воли собственному своему языку и сдерживать свои порывы. (2) Обнаружить в себе чувство нетрудно, даже когда оно только еще зарождается: болезням предшествуют определенные признаки. Мы заранее узнаем о приближении грозы или ливня, и точно так же есть свои провозвестники у гнева, любви и прочих бурь, терзающих наши души. (3) Страдающие падучей болезнью заранее знают, что близится припадок: холодеют конечности, теряется четкость зрения, подергиваются мышцы, изменяет память, кружится голова; в этих случаях они прибегают к обычным средствам, чтобы предотвратить припадок в самом начале: стараются не потерять сознания с помощью резкого запаха или вкуса, борются против холода и окоченения с помощью согревающих повязок; наконец, если лечение не помогает, уходят из людных мест, чтобы упасть там, где их никто не увидит. (4) Полезно знать свою болезнь, чтобы расправляться с ней до того, как она войдет в полную силу. Давайте посмотрим, что нас больше всего раздражает. Одного больше волнует оскорбление словом, другого — делом; один требует уважения к своей родовитости, другой — к своей красоте; один желает слыть самым изящным, другой — самым ученым; один не выносит высокомерия, другой — упрямства; один считает ниже своего достоинства гневаться на рабов, другой лютует дома, а за порогом — сама обходительность; один, когда его беспокоят по делу, видит в этом злобное желание навредить, другой, когда его не беспокоят по делу, видит в этом оскорбительное пренебрежение. У каждого свое уязвимое место; нужно знать, где ты наиболее раним, чтобы надежнее прикрыться.
11. (1) Не полезно все видеть и все слышать. Нас миновали бы многие обиды — ведь большинство из них не задевают того, кто о них не знает. Ты не хочешь быть гневливым? — Не будь любопытным. Кто допытывается, что о нем говорят, кто старается докопаться до всякого дурного отзыва о себе, даже если он был сказан по секрету, тот сам себе доставляет беспокойство. Есть речи, которые только наше истолкование заставляет казаться обидными; что-то надо пропускать мимо ушей, над чем-то посмеяться, что-то пропустить. (2) Есть много способов обойти и обмануть гнев; большую часть обид можно обратить в смех и шутку. Говорят, что Сократ, когда его стукнули кулаком, пожаловался, как неудобно, что люди не знают, когда им выходить гулять в шлеме, а когда без. (3) Для нас не имеет значения, как нам нанесли обиду; важно, как мы перенесли ее. Я не вижу причин считать сдержанность чем-то уж очень трудным: я знаю случаи, когда даже тираны, чей нрав надут и горд от счастливый судьбы и вседозволенности, подавляли обыкновенную для себя ярость. (4) О Писистрате, афинском тиране[197], сохранилось совершенно достоверное предание, как один из его сотрапезников на пиру напился допьяна и много кричал о его жестокости; среди гостей было немало таких, кто с радостью обнажил бы меч на тирана, и со всех сторон то один, то другой подливал масла в огонь, разжигая обиду, но Писистрат вынес все это совершенно спокойно и отвечал дразнившим его, что сердится на пьяные речи не больше, чем если бы кто-нибудь налетел на него на улице с завязанными глазами.
12. (1) Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам или давая волю ложным подозрениям. Гнев приходит к нам часто, но чаще мы приходим к нему. Никогда не надо звать его; напротив, надо выгонять, как только он появится. (2) Никто не говорит себе: «Я сам сделал или мог сделать то, из-за чего теперь так гневаюсь». Никто не пытается понять душу того, кто поступил с нами дурно; всякий оценивает лишь сам поступок. А ведь надо рассматривать именно человека: хотел ли он обидеть или сделал это нечаянно; может быть, его заставили или обманули; следовал ли он ненависти или преследовал выгоду; доставлял ли этим поступком удовольствие себе или кому-то другому. Имеет значение и возраст обидчика, и его положение, ибо одну обиду вынести — человечно, а иную вытерпеть — унизительно. (3) Мы всегда должны поставить себя на место того, кто вызвал наш гнев: часто нас делает гневливыми неправильная оценка самих себя; к тому же мы не хотим снести того, что сами охотно сделали бы другому.
(4) Никто не заставляет себя подождать; а ведь отсрочка — главное средство от гнева; надо лишь подождать, пока остынет первый жар и окутывающий ум и душу мрак рассеется или станет не таким густым. Многое, что заставляло тебя терять голову, оказывается не таким уж важным не через день, а всего-навсего через час; многое за час и вовсе изглаживается из памяти; но если отсрочка ничего не изменила, значит, это был не гнев, а суждение. Если тебе захочется узнать, что представляет собой та или иная вещь, предоставь дело времени; на лету ничего нельзя рассмотреть как следует.
(5) Однажды Платон, разгневавшись на своего раба, не мог заставить себя подождать, и велел ему тотчас снять тунику и подставить спину под розги, намереваясь выпороть его собственноручно; тут он, однако, осознал, что поддался гневу, и как был с поднятой рукой, так и застыл в позе человека, который сейчас ударит; так он и стоял, когда случайно зашедший друг спросил его, что это он делает. «Наказываю гневливца», — отвечал ему Платон. (6) Словно окаменев, замер он в положении человека, намеревающегося дать волю своей ярости, — положении, позорном для мудрого мужа; он давно забыл о рабе, ибо нашел другого, гораздо больше заслуживавшего кары. Тогда-то он раз и навсегда отказался от всякой власти над своими людьми, и, сильно рассердившись как-то впоследствии за какой-то проступок, сказал: «Спевсипп, накажи-ка ты этого паршивого раба плетьми: я не могу — я гневаюсь на него»[198]. (7) Он не стал бить раба по той самой причине, по какой всякий другой непременно побил бы. «В гневе, — говорил он, — я сделаю больше, чем следует, и с большим удовольствием, чем следует; пусть раб не окажется во власти того, кто сам собой не владеет». Неужели и после этого кто-то будет настаивать, что месть — дело разгневанного человека, если сам Платон отказал себе в такой власти? Пока ты в гневе, тебе не должно быть дозволено ничего. Почему? Именно потому, что ты желаешь, чтобы было дозволено все.
13. (1) Борись сам с собой! Если ты захочешь победить гнев, он уже не сможет победить тебя. Ты сделаешь первый шаг к победе, когда начнешь его прятать, когда не дашь ему выхода. Постараемся скрыть все его признаки и, насколько удастся, держать его втайне, никому не показывая. (2) Нам это доставит немало мучений, потому что он жаждет вырваться на волю, зажечь огнем глаза, исказить лицо; но если мы позволим ему хотя бы выглянуть наружу, он вмиг окажется вне нашей власти. Пусть он будет погребен в самой глубине нашего сердца; лучше мы будем сносить его, чем он будет нести нас, куда ему вздумается; а все его внешние признаки постараемся сменить на прямо противоположные. Разгладим лицо, сделаем голос тише, а походку — медленнее; постепенно в подражание внешнему преобразуется и внутреннее. (3) У Сократа признаком гнева служило то, что он понижал голос и меньше говорил. В такие моменты было заметно, как он сам себе противостоит. Близкие уличали его и бранили, но обвинения в том, что он скрыл свой гнев, едва ли были ему неприятны. Да и как не радоваться, если многие догадались о его гневе, но никто его не почувствовал? А ведь могли бы и почувствовать, если бы он не дал друзьям права бранить себя, взяв такое же право себе в отношении друзей. (4) Насколько важнее было бы нам сделать то же самое! Право же, нам стоит попросить всех наших друзей говорить с нами с тем большей откровенностью, чем меньше мы в данный момент склонны ее переносить, и никогда не потворствовать нашему гневу. Пока мы в здравом уме, пока принадлежим себе, призовем помощников против этого зла, вдвойне могучего оттого, что оно нам любезно. (5) Люди, плохо переносящие вино и боящиеся, что, выпивши, наговорят лишнего и станут вести себя чересчур развязно, поручают своим увести себя с пирушки. Те, кто по опыту знает, что владеет собой во время болезни, запрещают повиноваться себе во время припадка. (6) Лучше всего заранее принять меры против тех пороков, которые мы за собой знаем, и в первую очередь так настроить свою душу, чтобы даже при самых тяжких и самых внезапных ударах она либо вовсе не чувствовала гнева, либо, не в силах удержаться от него при большой и нежданной обиде, скрывала его в самой своей глубине, ничем не обнаруживая своей боли. (7) Ты убедишься, что это вполне возможно, когда я приведу всего несколько из огромного числа примеров, свидетельствующих сразу о двух вещах: во-первых, о том, сколько зла несет гнев, когда в его распоряжении оказывается вся власть людей, наделенных чрезвычайными полномочиями; во-вторых, о том, до какой степени может владеть собой человек, чей гнев подавляется еще большим страхом.
14. (1) Царь Камбис отличался неумеренным пристрастием к вину, и один из любимых его друзей, Прексасп, увещевал его пить меньше, говоря, что стыдно быть пьяным царю, на которого обращены все глаза и уши[199]. На что царь отвечал так: «Дабы ты убедился, что я никогда не теряю власти над собой, я покажу тебе, насколько верно служат мне после винопития и глаза мои, и рука». (2) После чего он стал пить из более вместительной чаши и пил больше обычного, а когда нагрузился вином и опьянел, велел сыну своего хулителя выйти за порог комнаты и стать там, подняв над головой левую руку. Тут он натягивает лук и, сказав, что будет целиться в сердце, пробивает самое сердце юноши, а затем, надрезав грудь, показывает наконечник стрелы, застрявший в сердце, и, взглянув на отца, спрашивает, достаточно ли верная у него рука. На что тот отвечает, что и сам Аполлон не смог бы выстрелить более метко. (3) Да покарают боги злою смертью того, кто был невольником не столько по положению, сколько в душе! Хвалить то, на что и смотреть-то было невмочь! Рассеченную надвое грудь сына, сердце, еще трепещущее в ране, он счел удобным поводом для лести. Ему следовало бы оспорить славу царственного лучника и заставить его повторить выстрел, показав еще большую твердость руки на самом отце! (4) О, кровожадный царь! Поистине он заслуживал того, чтобы стать мишенью для луков всех своих подданных! Тот, кто заканчивает пирушку казнью и похоронами, достоин всяческих проклятий, однако восхвалять меткую стрелу было еще более гнусным преступлением, чем выпустить ее. Как должен был повести себя отец, стоя над трупом убитого при нем и из-за него сына, мы рассмотрим в другой раз. Покамест же мы доказали то, что хотели: гнев можно сдержать. (5) Он ни словом не упрекнул царя, ни звуком не выдал своего горя, хотя сердце его было пробито тем же выстрелом, что и сердце сына. Можно сказать, что он правильно сделал, проглотив все слова: ведь сколько бы он ни наговорил в качестве разгневанного человека, он все равно ничего уже не мог сделать в качестве отца. Скажу даже больше: может быть, в этом случае он повел себя мудрее, чем тогда, когда пытался убедить пить в меру царя, которого лучше было бы оставить упиваться вином, а не кровью, который пребывал в мире лишь тогда, когда руки его были заняты кубками. Так или иначе, он умножил число тех, кто ужасными своими несчастьями показал нам, какую цену приходится платить царским друзьям за добрые советы.
15. (1) Я не сомневаюсь, что Гарпаг тоже давал своему персидскому царю советы в таком же роде, на что тот обиделся и угостил его за обедом жарким из его собственных детей, а затем поинтересовался, как ему понравилась стряпня; увидев, что отец наелся своим несчастьем до отвала, царь приказал принести ему головы детей и спросил, хорош ли был прием. У несчастного еще и слова нашлись, еще и рот смог раскрыться: «У царя всякий обед приятен»[200]. Чего он достиг этой лестью? Наверное, того, чтобы его не пригласили доедать остальное. (2) Я не хочу сказать, что отцу нельзя было осудить поступок своего царя, что нельзя было попытаться достойно покарать столь чудовищное злодейство; я хочу пока вывести лишь то, что можно скрыть даже гнев, возбужденный поистине непомерными несчастьями, и принудить себя говорить прямо противоположное тому, что хочется. (3) Подобное обуздание своей боли необходимо всем, но особенно тем, кому выпало вести схожую жизнь, получая приглашения к царскому столу. У них только так и едят, так и пьют, так и отвечают, с улыбкой наблюдая гибель своих близких. Другой вопрос — стоит ли платить столько за жизнь; это мы увидим позднее.
Мы не станем утешать этих унылых кандальников, не станем поощрять их сносить власть своих палачей. Мы просто покажем, что из любого рабства открыт путь на свободу. Если душа ваша больна и несчастна от собственных пороков, вы вправе положить конец своим несчастьям, а заодно и себе. (4) Тому, кого случай забросил к царю, делающему себе мишени из груди своих друзей; и тому, чей господин любит кормить родителей внутренностями их детей, я бы сказал так: «Безумец, что ты стонешь? Чего ты ждешь? Чтобы за тебя отомстил какой-нибудь враг, перебив сперва все твое племя? Или чтобы какой-нибудь могучий владыка прилетел за тридевять земель к тебе на помощь? Оглянись: куда ни взглянешь, всюду конец твоим несчастьям. Видишь вон тот обрыв? С него спускаются к свободе. Видишь это море, эту речку, этот колодец? Там на дне сидит свобода. Видишь это дерево? Ничего, что оно полузасохшее, больное, невысокое: с каждого сука свисает свобода. Посмотри на свою глотку, шею, сердце: все это дороги, по которым можно убежать из рабства. Может быть, я показываю тебе выходы, которые требует слишком много труда, присутствия духа, силы? Ты спрашиваешь, какой еще путь ведет к свободе? Да любая жила в твоем теле!»
16. (1) До тех пор пока ничто не кажется нам настолько непереносимым, чтобы заставить нас расстаться с жизнью, будем гнать от себя гнев, в каком бы мы ни очутились положении. Гнев губителен для тех, кто служит. Всякое возмущение подневольного человека обращается ему же в мучение, и чем больше в нем упрямства, тем тяжелее ему выполнять приказы. Так зверь, пока рвется, лишь затягивает петлю у себя на шее; так птица, пока бьется и трепыхается, оставляет все перья на вымазанных клеем силках. Нет такого тесного ярма, которое не причинило бы меньше боли тому, кто влачит его, чем тому, кто пытается его сбросить. Единственное, что может облегчить безмерное несчастье, — это терпение и покорность неизбежности.
(2) Да, находящимся в услужении полезно сдерживать свои чувства, и в особенности это — самое бешеное и необузданное; однако еще полезнее сдержанность царям. Там, где высокое положение позволяет осуществить все, что подсказывает гнев, гибнет все вокруг, однако и власть, употребляемая во зло многим, не может устоять долго. Вот почему большинство царей погибло либо от руки отдельных убийц, либо всего народа, когда всеобщая боль заставляла людей объединить свой гнев. (3) Но несмотря на это, почти все они дают волю гневу, считая его своего рода знаком царского достоинства. Так поступал Дарий, первым получивший владычество над персами и большей частью востока после того, как была отнята власть у магов. Когда он объявил войну скифам, ближайшим своим соседям на востоке, один благородный старец по имени Эобаз просил его оставить ему одного из троих сыновей для утешения отцовской старости, взяв к себе на службу других двоих. Царь, обещая исполнить даже больше, чем тот просил, сказал, что оставит ему всех, и, убив юношей, бросил их тела перед родителем: мол, забрав троих в поход, он проявил бы жестокость[201]. (4) Насколько мягче был Ксеркс! Он позволил Пифию, отцу пятерых сыновей, просившему освободить одного от похода, самому выбрать, какого оставить, а затем разрубил избранного пополам и положил тело по обе стороны дороги, по которой отправлялось войско, как очистительную жертву. Так что исход войны оказался именно тот, какого он заслуживал: разбитый и рассеянный во все стороны, не в силах собрать остатки воинов, он видел дороги, устланные обломками его крушения, и ехал между двумя рядами трупов своих солдат[202].
17. (1) Так бесчинствовали во гневе варварские цари — но ведь они были совершенно необразованы, не напитаны книжной культурой. А вот тебе другой пример — царь Александр, взлелеянный на груди самого Аристотеля. Посреди пира он собственной рукой зарезал лучшего своего друга Клита, с которым вместе воспитывался, за то, что тот мало льстил ему и недостаточно быстро переделывался из македонянина и свободного человека в персидского раба. (2) А не менее близкого своего друга Лисимаха он бросил на растерзание льву. И что же? Стал этот Лисимах, выскользнувший благодаря какой-то счастливой случайности из львиных зубов, после этого царствовать мягче, когда сам добился власти? (3) Вот, пожалуйста: он изувечил своего друга Телесфора, отрезав ему уши и нос, посадил его в звериную клетку, как некое невиданное животное, и долго держал там в полном одиночестве, так что его безобразно обрубленное, изувеченное лицо окончательно утратило человеческий облик; этому способствовали голод, грязь и струпья, покрывавшие немытое тело, валяющееся в собственных нечистотах; (4) колени и ладони были покрыты затвердевшей мозолистой кожей, ибо низкий потолок вынуждал пользоваться ими вместо ног, а бока от постоянного трения о стенки клетки покрыты язвами; вид его был для приходящих взглянуть на него столь же омерзителен, сколь и страшен, и, превращенный в наказание в чудовище, он был лишен даже возможности внушать жалость. Но сколь бы мало ни был похож на человека обреченный на такую казнь, обрекший его был похож на человека гораздо меньше.
18. (1) О если бы лишь чужеземцы давали нам примеры столь лютой жестокости, о если бы вместе с другими заимствованными пороками в римские нравы не пришли бы и эти варварские казни — измышления гнева! Тому самому Марку Марию, которому народ одну за другой воздвигал статуи по мере его побед, кому повсюду курили ладан и возливали с молитвами вино, Луций Сулла приказал перебить голени, вырвать глаза, отрезать язык и руки, и так, член за членом, постепенно раздирал его на части, словно желая еще и еще убивать его, нанося каждую новую рану так, словно опять его убивает[203]. (2) Кто же был исполнителем этого приказа? Кто, как не Катилина, уже тогда набивавший себе руку на всевозможных гнусностях[204]. Он разрезал Мария на куски возле могилы Квинта Катула, ругаясь над прахом самого кроткого из мужей, над которым капля за каплей истекал кровью другой муж, быть может, поддавшийся дурному влиянию, однако любимый народом, и вполне заслуженно, хотя, наверное, чрезмерно. Я допускаю, что Марий был достоин таких мучений, Сулла — такого приказа, Катилина — роли исполнителя такого приказа, но государство-то ничем не заслужило того, чтобы одновременно и враг и защитник вонзали мечи в его тело.
(3) Впрочем, что я копаюсь в событиях столь давних? Вот только недавно Гай Цезарь[205] сек плетьми и подверг пыткам Секста Папиния, чей отец был консуляром, Бетилиена Басса, своего квестора[206] и сына своего прокуратора, и других римских сенаторов и всадников, всех в один день, причем пытал не ради того, чтобы получить показания, а ради собственного удовольствия; (4) затем он столь нетерпеливо возжелал следующего наслаждения, которое его жестокость почитала исключительным и хотела получить безотлагательно, что прямо на террасе сада, отделявшей портик от берега реки в имении его матери, в обществе матрон и других сенаторов, при фонарях отрубил им головы. Что за нужда была так спешить? Какая опасность угрожала ему лично или государству, если бы он подождал одну ночь? Да наконец, сколько там всего-то оставалось до рассвета, мог бы подождать чуть-чуть, чтобы хоть не убивать римских сенаторов в сандалиях!
19. (1) Рассказ о его высокомерной жестокости имеет прямое отношение к нашему предмету, хотя кому-то может показаться, что мы несколько отклонились в сторону и даже заблудились. На его примере мы покажем ту степень гнева, когда его ярость выходит за пределы обычного. Он бил сенаторов плетьми; нам могут сказать на это: «Бывает», — но именно он добился того, что такое перестало казаться чем-то из ряда вон выходящим. Он использовал всевозможные орудия пытки — самое мрачное, что есть на свете: пыточные канаты и башмаки, дыбу, огонь и собственную физиономию. (2) В этом месте нам тоже возразят: «Подумаешь, велика важность! каких-то троих сенаторов немножко посекли, словно подлых рабов, немножко поджарили на огне и разделили на части: но ведь это сделал человек, который замышлял перебить весь сенат целиком; который мечтал о том, чтобы у римского народа была одна шея, чтобы ему не приходилось растягивать свои преступления на столько дней и по стольким разным местам, а можно было наконец осуществить все сразу: в один день и одним ударом». Но разве совершалась когда-либо прежде вещь столь неслыханная, как ночная казнь? В потемках прячутся обычно злодейские убийства, напротив, справедливая казнь должна совершаться на виду у всех — тогда она принесет больше пользы как предостережение и средство исправления нравов. (3) Но и здесь, я чувствую, мне возразят: «То, чему ты так поражаешься, всего-навсего повседневные привычки этого изверга: он этим живет, ради этого бодрствует, ради этого зажигает у себя лампы». Хорошо, но кроме него вы не найдете, я думаю, никого, кто повелел бы затыкать казнимым рот губкой, чтобы лишить их возможности кричать. Где это видно, чтобы человеку, обреченному на смерть, нельзя было даже застонать? Видно, он боялся, как бы последняя мука не исторгла из их груди чересчур свободного выкрика, как бы ему не пришлось выслушать что-нибудь малоприятное, ибо он знал, что нет числа вещам, которые может осмелиться высказать ему в лицо лишь смертник. (4) Когда под рукой не оказывалось губки, он распоряжался раздирать одежду несчастных и набивать им рот тряпками. Откуда такая дикая жестокость? Позволь им сделать последний вздох, дай душе выйти, позволь испустить дух по-человечески, не через рану! (5) Долго и скучно было бы перечислять другие его злодейства, подобные этим, например, как однажды ночью он разослал по домам центурионов, чтобы прикончить отцов всех тех, кого он казнил днем: надо же, человек проявил милосердие и избавил их от горя и траура! Я задался целью описать жестокость не Гая, а гнева; его ярость обрушивается не только на отдельных людей, но истребляет и целые народы, наказывая заодно города, реки и другие предметы, начисто лишенные способности ощущать боль.
20. (1) Так персидский царь вырезал ноздри целому народу в Сирии, отчего их страна стала именоваться Риноколура[207] (то есть «Страна урезанных носов»). Может быть, ты решишь, что это было скорее проявлением милосердия, ведь он мог отрезать им и целые головы? Я думаю, что он наслаждался новизной кары. (2) Такая же участь чуть было не постигла и эфиопов, которых еще называют макробиями (то есть долгожителями), оттого что они живут дольше всех других людей. На них разбушевался гневом Камбис, потому что они, вместо того чтобы встретить предложенное им рабство с распростертыми объятиями и почтительными поклонами, дали его послам независимые ответы, которые цари обыкновенно называют оскорбительными. Камбис так рассердился, что, не заготовив продовольствия, не разведав пути, по бездорожью, по безводной пустыне потащил огромное, необходимое для войны войско. Уже после первого перехода дала о себе знать нужда в самом необходимом, ибо дикая, бесплодная, невозделывавшаяся и даже следа человеческого никогда не видавшая местность не могла снабдить их ничем. (3) Сначала они утоляли голод травой, какая понежнее, и верхушками деревьев, потом в ход пошли вареные кожаные ремни и прочее снаряжение, которое нужда сделала съедобным. Но после того как коренья и травы постепенно исчезли среди песков и вокруг открылась вовсе безжизненная пустыня, они съели по жребию каждого десятого: сытость, которая была страшнее голода. (4) Слепой гнев завел царя так далеко, что он успел часть войска потерять, часть поесть прежде, чем испугаться, что его самого могут заставить кидать жребий вместе со всеми. Только тогда он дал сигнал к отступлению. И на протяжении всего этого времени, что его солдаты метали жребий: кому — злую смерть, кому — еще злейшую жизнь, на верблюдах везли редких птиц и прочую снедь для роскошных царских пиров[208].
21. (1) Однако Камбиса можно понять, хоть гневался он на народ, которого не знал и который ровно ничего ему не сделал. Кир гневался на реку. Идя на Вавилон и спеша первым начать войну, поскольку судьба войны обычно решается тем, кто успеет воспользоваться удобным случаем, он попытался переправиться вброд через широко разлившуюся реку Гинд, небезопасную даже в середине лета, когда она сильнее всего обмелеет. (2) Там один из белых коней, которые обычно везли царскую колесницу, был унесен течением, и Кир сильно ушибся и испугался. Тогда он поклялся довести реку, осмелившуюся смыть царский поезд, до того, чтобы даже женщины могли переходить ее, презрительно топча ногами. (3) На это дело он употребил все, что было приготовлено для ведения войны и не отступался до тех пор, пока не прорыл на каждом берегу сто восемьдесят каналов поперек русла и не отвел воду в триста шестьдесят ручьев, так что она растеклась во все стороны и русло высохло[209]. (4) Так он потерял и время — большая потеря для больших начинаний, и воинский пыл своих солдат, который был сломлен бессмысленным трудом, и удобный случай напасть врасплох, а войну, объявленную врагам, повел против реки. (5) Это помешательство — ибо каким словом его еще назвать? — не обошло и римлян. Гай Цезарь снес необыкновенной красоты виллу в окрестностях Геркуланума в отместку за то, что на ней некогда была заточена его мать, и тем сделал ее судьбу общеизвестной; ибо, пока она стояла, мы спокойно проплывали мимо, теперь же каждый спрашивает, из-за чего ее снесли.
22. (1) Все это, надо понимать, были примеры того, чего следует избегать. Теперь покажу тебе примеры, которым стоит следовать: людей сдержанных и мягких, хотя у них не было недостатка ни в причинах для гнева, ни в средствах отомстить за себя. (2) В самом деле, для Антигона ничего не было легче, как приказать казнить двоих солдат, которые однажды, прислонясь к стенке царской палатки, высказывали вслух все, что они думают плохого о своем царе, — т. е. занимались тем, что все люди на свете делают и с наибольшим риском и с наибольшей охотой. Антигон, разумеется, все слышал, потому что между ним и беседовавшими не было ничего, кроме занавески; он легонько пошевелил ее и сказал: «Отойдите подальше, а то как бы царь вас не услышал». (3) Тот же Антигон однажды ночью услыхал, как несколько его солдат громко призывают все кары небесные на голову царя, который потащил их по этой дороге и завел в непролазную грязь; он подошел к тем, которым приходилось хуже всех, помог им выбраться и, прежде, чем они узнали, кто пришел им на помощь, объяснил: «Проклинайте на здоровье Антигона, по чьей милости вы тут завязли; но и благословляйте его за то, что вытащил вас из этой трясины». (4) Он так же благодушно переносил злословие своих врагов, как и собственных сограждан. Как-то он осаждал греков в маленькой крепости, которую они считали неприступной и, презирая неприятеля, отпускали шуточки по поводу Антигонова безобразия, высмеивая то его маленький рост, то приплюснутый нос; он говорил на это: «Я очень рад, что у меня в лагере есть Силен: это вселяет добрую надежду». (5) Когда он, наконец, укротил этих острословов голодом, то распорядился пленными так: годных к военной службе записал в свои когорты, всех прочих пустил с торгов, заявив, что никогда бы не сделал этого, если бы не был уверен, что людям, так плохо умеющим удерживать свои языки, лучше всего иметь над собой хозяина.
23. (1) Ему-то и приходился внуком Александр, запускавший копьем в своих сотрапезников и из двух своих друзей, о которых я рассказывал выше, бросил одного на растерзание дикому зверю, а другого — себе, причем из двоих выжил тот, кого бросили льву. (2) Этот свой порок он не унаследовал ни от деда, ни от отца, ибо если и были у Филиппа какие добродетели, то в первую очередь умение терпеливо сносить оскорбления — великое подспорье в деле охраны безопасности царства[210]. Однажды явился к нему в числе других афинских послов Демохар, прозванный Парресиастом за слишком острый язык. Благожелательно выслушав послов, Филипп обратился к ним с такими словами: «Скажите мне, что я мог бы сделать для афинян приятного». — «Повеситься», — тотчас отвечал ему Демохар. (3) Все, стоявшие вокруг царя, стали громко возмущаться столь невежливым ответом, но Филипп приказал им умолкнуть и отпустить этого Терсита домой здравым и невредимым[211]. «Вы же, прочие послы, — сказал он, — объявите народу афинскому, что люди, говорящие подобные слова, куда более высокомерны, чем те, кто позволяет говорить их себе безнаказанно».
(4) Божественный Август тоже сделал и сказал много такого, о чем стоило бы здесь упомянуть, ибо эти слова и поступки ясно показывают, что он не позволял гневу собой командовать. Историк Тимаген[212] в свое время говорил много гадостей и о нем самом, и о его жене, и о всем его доме, и высказывания его, как это бывает в подобных случаях, не пропали, став достоянием гласности, ибо люди всегда с большой охотой повторяют рискованные остроты. (5) Много раз Цезарь предупреждал его, чтобы он попридержал свой язык, но поскольку тот все продолжал свое, в конце концов отказал ему от дома. После этого Тимаген поселился у Азиния Поллиона[213], где спокойно состарился, наперебой приглашаемый всем городом. Ни одна дверь не закрылась для него из-за того, что Цезарь запер для него свою. Он не прекращал враждовать с Цезарем; (6) устраивал публичные чтения написанных им позже исторических книг, а те, что были сочинены раньше и повествовали о деяниях Цезаря Августа, он бросил в огонь и сжег. И тем не менее никто не боялся дружбы с ним, никто не отшатывался от него, точно от пораженного молнией, не было недостатка в людях, готовых принять его, падающего с такой высоты, к себе в объятия. (7) Цезарь, как я сказал, переносил все это терпеливо; его не задело даже то, что Тимаген покусился на его славу и подвиги; он ни разу не поссорился с гостеприимцем своего недруга. (8) Лишь один раз он заметил Азинию Поллиону: «Кормишь зверя»; но, когда тот начал было оправдываться, остановил его со словами: «Наслаждайся, дорогой мой Поллион, наслаждайся!» — «Если прикажешь, Цезарь, — сказал Поллион, — я сию минуту откажу ему от дома». На что Цезарь отвечал: «Неужели ты думаешь, что я на это способен? Кто восстановил вашу дружбу, как не я?» В самом деле, в свое время Поллион был разгневан на Тимагена и помирился с ним лишь потому, что на того стал гневаться Цезарь.
24. (1) Всякий раз, как мы почувствуем себя задетыми, станем говорить себе: «Разве я могущественнее Филиппа? А ведь над ним издевались безнаказанно. Разве у меня больше власти в собственном моем доме, чем было у божественного Августа на всем земном шаре? А ведь он удовольствовался тем, что стал держаться от клеветника подальше». (2) Если раб отвечал мне слишком громко, если во взгляде его я заметил упрямство, если он пробормотал себе под нос что-то, чего я не разобрал, разве это дает мне право наказывать его плетьми и колодками? Кто я такой, чтобы считать кощунством и преступлением все, что раздражает мой слух? Многие прощали своих врагов; неужели я не прощу ленивого, небрежного, болтливого? (3) Пусть ребенку послужит извинением возраст, женщине — пол, посторонним — независимость от нас, нашим домашним — близость. Если человек обидел нас впервые, будем помнить о том, как долго он делал все нам в угоду; если он часто обижал нас и прежде, стерпим еще раз то, что терпели так долго. Если нас обидел друг, значит, он не хотел этого сделать; если враг — значит, должен был это сделать. (4) Если благоразумный человек сказал что-то неприятное нам — поверим ему; если дурак — простим. Кто бы ни задел нас, ответим на это про себя, что и мудрейшим из людей нередко случается провиниться, что не бывает человека настолько во всем предусмотрительного, чтобы его осторожность никогда и ни в чем не допустила ни одного промаха; что нет человека настолько зрелого, чтобы случай хоть раз не заставил его увлечься и поступить чересчур горячо, несмотря на всю его солидарность; что нет человека, настолько боящегося обидеть кого-нибудь, чтобы не случалось сделать это нечаянно, иногда как раз потому, что он слишком старается избежать обиды кому-то.
25. (1) Слабый человек утешается в несчастьях тем, что и великим мужам изменяет счастье; ему легче оплакивать смерть сына в своем убогом углу, если он увидит, что даже из царского дома выходит горестная погребальная процессия; так и обиду или оскорбление мы станем переносить с более спокойной душой, если нам придет в голову, что никакое могущество не может защитить от обиды. (2) Если и самым благоразумным случается поступать дурно, то чье заблуждение нельзя оправдать объективными причинами? Вспомним собственную юность: сколько раз мы пренебрегали нашими обязанностями, вели нескромные речи, предавались неумеренному винопитию. Если кто-то разгневан, дадим ему время прийти в себя и увидеть, что он наделал; он сам себя выбранит. Может быть, он и заслуживает наказания, однако это еще не повод для нас вести себя так же, как он. (3) Не сомневайся, что всякий, кто попросту не замечает оскорбляющих его, поднялся выше толпы и встал над нею. Признак истинного величия — не ощущать ударов. Так огромный зверь не спеша оглядывается и спокойно смотрит на лающих собак; так волны в бешенстве наскакивают на неподвижно возвышающийся утес. Если человек не гневается, значит, он стоит твердо и обида не в силах поколебать его; если гневается, значит, она его пошатнула.
(4) А тот, кого я только что поместил на высоту, недосягаемую для любых неприятностей, держит как бы в своих объятиях высшее благо и отвечает не только человеку, но и самой судьбе так: «Делай, что тебе заблагорассудится, все равно у тебя не хватит сил омрачить мою ясность. Этого не допустит разум, которому я дал управлять своей жизнью. Гнев принесет мне больше вреда, чем обида. А как же иначе? У обиды есть определенная мера, а куда завлечет меня гнев — неизвестно».
26. (1) Ты скажешь: «Нет, не могу терпеть. Тяжко сносить обиду». Ты лжешь; кто же не может снести обиду, если может снести гнев? Скажи лучше, что тебе приходится одновременно и стерпеть обиду, и сдержать гнев. Но отчего ты спокойно выносишь припадки бешенства у больного, брань помешанного, дерзкие удары младенческих рук? Ну разумеется, потому, что видишь, что они не ведают, что творят. Но какая разница, какой недостаток заставляет каждого поступать неразумно? Неразумие служит общим и одинаковым оправданием всем проступкам. (2) «Неужели же, — воскликнешь ты, — оставить его безнаказанным?» Не бойся, это не сойдет ему с рук, даже если бы ты захотел этого. Самое большое наказание обидчику — то, что он нанес обиду; самая тяжкая месть — предоставить человека мукам раскаяния.
(3) Кроме того, следует принимать в расчет общечеловеческие свойства, чтобы выступать во всех случаях справедливым судьей: ведь ставить в вину одному порок, присущий всем, было бы несправедливо. Эфиоп не выделяется цветом кожи среди своих соплеменников; у германцев рыжие волосы, стянутые в пучок, не позорят мужчину. Ты не станешь осуждать как странное или постыдное в одном человеке то, что принято у целого народа; а ведь оправданием ему служит обычай лишь какой-то одной местности, небольшого уголка земли. Посмотри же сам, насколько справедливее будет извинить то, что распространено у всего рода человеческого? (4) Все мы непоследовательны, все неуверены, придирчивы, честолюбивы, — впрочем, что я прячу нашу общую язву под покровом смягчающих слов? — все мы дурны. Так что все, что не нравится нам в других, каждый из нас может, поискав, найти в себе самом. Перестань тыкать пальцем: как этот, мол, бледен, а тот вон исхудал, это чума, и заразная. Нам нужно быть терпимее друг к другу: нам приходится жить дурными среди дурных. Единственно, что может обеспечить нам покой, — это договор о взаимной снисходительности. (5) «Но он уже навредил мне, а я ему еще нет». Но наверное, ты в свое время навредил кому-нибудь другому или даже сейчас это делаешь. Не стоит принимать в расчет лишь один этот день или час: взгляни на общий строй твоей души: даже если ты до сих пор никому зла не сделал, то можешь сделать.
27. (1) Насколько лучше залечить обиду, чем мстить за нее! На мщение мы тратим много времени и, страдая от одной обиды, подставляем себя множеству других; да и гневаемся все мы дольше, чем ощущаем причиненную нам боль. Чем отвечать на скверный поступок столь же скверным, не лучше ли избрать противоположное поведение? Если кто-то кинется лягать лягающегося мула или кусать укусившую его собаку, разве не покажется нам не в своем уме? (2) «Но они, — скажешь ты, — не сознают, что поступают дурно». Во-первых, неужели быть человеком — означает иметь меньше права на снисхождение? Несправедлив тот, кто так думает. Во-вторых, если всех прочих животных освобождает от твоего гнева необдуманность поведения, то изволь так же относиться и к людям, действующим необдуманно. Может быть, в чем-то они и отличаются от бессловесных, но какое это имеет значение, если душа их окутана точно таким же мраком, что освобождает бессловесное существо от ответственности за дурные поступки? (3) Он согрешил; но разве в первый раз? Разве в последний? Не верь ему, даже если он скажет: «Никогда больше не буду так делать». И он снова будет поступать дурно, и с ним будут дурно поступать другие, и вся жизнь будет метанием от одного заблуждения к другому. С дикими нужно обращаться особенно мягко.
(4) На охваченных гневом лучше всего подействуют те же слова, которые обычно действуют на охваченных горем: ты когда-нибудь собираешься перестать или никогда. Если собираешься перестать, лучше сам оставь свой гнев, чем ждать, покуда он тебя оставит. Или ты полагаешь навсегда остаться в этом заблуждении? Посмотри, на какую беспокойную жизнь ты себя обрекаешь! Что за жизнь у человека, вечно распираемого гневом? (5) Да подумай еще о том, что, несмотря на все твои старания растравлять и разжигать себя, исподволь придумывая все новые и новые причины для гнева, он все равно потихоньку уходит сам и каждый новый день лишает его сил. Насколько было бы лучше, чтобы ты победил его, а не он сам себя.
28. (1) Ты станешь гневаться сначала на этого, потом на того: сначала на рабов, потом на отпущенников; сначала на родителей, потом на детей; сначала на знакомых, потом на незнакомых; повсюду будут являться все новые поводы для гнева, если не вмешается заступник — дух. Тебя будет бесить то один, то другой, отовсюду будут возникать все новые раздражения, и жизнь твоя станет непрекращающимся бешенством. Опомнись, несчастный! Когда же ты будешь кого-нибудь любить? О какое чудесное время ты губишь на скверную вещь! (2) Насколько лучше было бы употребить его, чтобы обзавестись друзьями, помириться с врагами, послужить государству, навести порядок в домашних делах, чем вечно озираться, ища, какую бы еще гадость сделать кому-то, как бы побольше ранить его достоинство, имущество или тело, а ведь достичь этого невозможно, не подвергая себя опасностям борьбы, даже если борешься с низшим! (3) Пусть ты получишь его закованным в цепи и обреченным терпеть все, что тебе заблагорассудится: помни, что чрезмерное увлечение битьем бывает нередко причиной вывиха суставов; а случается, что рука застревает в выбиваемых ею зубах. Гневливость многих лишила сил, многих сделала калеками, даже когда жертвы попадались терпеливые и безответные. Но не забывай о том, что нет существа настолько слабого, чтобы оно гибло без всякого сопротивления и тем самым не представляло вовсе опасности для своего убийцы; иногда боль, а иногда случай делают слабого сильнее самого сильного.
(4) К тому же большая часть того, что вызывает в нас гнев, — это препятствия, а не удары. Ведь большая разница, действует ли кто-то наперекор моей воле или просто не исполняет ее; отнимает или просто не дает. И тем не менее мы расцениваем одинаково, если у нас что-то отбирают или нам в чем-то отказывают; разрушают нашу надежду или просто откладывают ее исполнение; действуют против нас или просто в своих интересах, ради любви к кому-то другому или из-за ненависти к нам. (5) Бывает, что у людей есть не просто справедливые причины выступать против нас, но даже делающие им честь. Один защищает отца, другой брата, третий родину, четвертый друга. Но мы не прощаем им их поведения, хотя мы же первые и осудили бы их, веди они себя иначе; более того, что совершенно невероятно, но часто мы к самому поступку относимся хорошо, а к совершившему его — плохо. Напротив, великий и справедливый муж, клянусь Геркулесом, уважает самых храбрых из своих врагов, самых стойких защитников свободы и благополучия своей родины, и желает себе именно таких сограждан и таких солдат.
29. (1) Стыдно ненавидеть того, кого не можешь не хвалить; куда стыднее ненавидеть кого-нибудь именно за то, что делает его достойным сострадания. Если пленник, не успевший еще привыкнуть к рабству, сохраняет привычки свободного и неохотно берется за грязную или трудную работу; если, медлительный с непривычки, он не поспевает бегом за лошадью и повозкой хозяина; если, усталый от ежедневного недосыпания, раб задремлет; если раб, переведенный от необременительной городской службы с частыми праздниками, не справляется с деревенской работой или увиливает в страхе перед тяжким трудом, — постараемся разобраться, не может он или не хочет. (2) Мы многих простим, если начнем рассуждать прежде, чем гневаться. Однако мы предпочитаем следовать первому порыву, какими бы пустяками он ни был вызван, а затем считаем своим долгом не отступаться, чтобы наш гнев не показался беспричинным; и наконец, что самое несправедливое, сама неправость нашего гнева делает его более упорным: мы расходимся все пуще и не желаем перестать, словно сила нашей вспышки может служить доказательством ее справедливости.
30. (1) Насколько лучше уловить самое начало гнева — когда он еще так легок, так безобиден! Понаблюдай за бессловесными животными, и ты заметишь то же самое у людей: нас выводят из равновесия самые вздорные и пустые мелочи. Быка раздражает красный цвет; аспид бросается на тень; медведей и львов приводит в ярость взмах платком; все существа, дикие и буйные по природе, приходят в смятение из-за пустяков. (2) То же самое случается с характерами беспокойными и нерассудительными. Они ощущают болезненный удар от одного лишь подозрения, вплоть до того, что иногда считают обидой умеренное благодеяние — это как раз самый распространенный и, вероятно, самый горький повод для гнева. В самом деле, мы гневаемся на самых дорогих нам людей за то, что они сделали для нас меньше, чем мы воображали, или чем досталось другим. А ведь средство исцеления обеих этих обид самое простое. (3) К кому-то отнеслись лучше чем ко мне? — Не надо сравнивать, давайте радоваться тому, что есть у нас. Никогда не будет счастлив тот, кого мучит мысль, что есть кто-то счастливее. Я получил меньше, чем надеялся? — Но может быть, я надеялся на большее, чем заслуживал. Но вообще-то именно здесь надо быть настороже — здесь нас подстерегает самая страшная опасность, отсюда начинаются самые губительные вспышки гнева, посягающие даже на самое для нас святое.
(4) Среди убийц божественного Юлия было больше друзей, чем недругов, ибо он не исполнил их неисполнимых надежд. А ведь он хотел сделать это: ни один из победителей еще не пользовался плодами своей победы с такой щедростью; он не оставил себе ничего, кроме права распределения. Но как мог он удовлетворить столь бессовестно непомерные желания: каждый из них хотел получить все один. (5) Вот так и вышло, что он увидал вокруг своего кресла своих бывших соратников с обнаженными мечами: Цимбра Тиллия[214], в недавнем прошлом самого пылкого защитника своего дела, и многих других, ставших помпеянцами лишь после смерти Помпея.
Вот причина, обращающая против царей их собственное оружие и заставляющая самых преданных и верных замышлять смерть того, за кого и прежде кого они поклялись умереть.
31. (1) Кто смотрит на чужое, тому не нравится свое. Вот мы и гневаемся даже на богов оттого, что кто-то в чем-то нас превзошел, забывая о том, сколько людей еще позади нас; человек, завидующий немногим, не видит за собственной спиной огромного скопления зависти всех тех, кому далеко до него. Невыносимое бесстыдство человеческое заключается в том, что как бы много кому ни досталось, он всегда будет обижаться на то, что кому-то могло достаться больше. (2) «Он дал мне претуру, а я надеялся получить консулат. Дал двенадцать фасок, но не сделал ординарным консулом. Он согласился, чтобы год назывался моим именем, но мне не хватает жреческого звания. Меня сделали членом коллегии, но почему только одной? Он удостоил меня всех высших почестей, однако ничего не прибавил к моему состоянию. Он дал мне много, но лишь то, что все равно надо было дать кому-нибудь; из своего кармана не подарил ничего». (3) Ты лучше благодари за то, что получил. Остального жди и радуйся, что не получил всего: когда человеку не остается на что надеяться, чего жалеть, это тоже одно из больших удовольствий. Если ты превзошел всех на свете, радуйся лучше не этому, а тому, что ты — первый в сердце твоего друга. Если многие превосходят тебя, радуйся тому, что позади тебя все же гораздо больше людей, чем впереди. Ты спрашиваешь, в чем твой главный порок? — Ты ведешь неверные записи в своей расчетной книге: то, что ты дал, оцениваешь дорого, то, что получил, — дешево.
32. (1) Пусть в разных людях разные свойства удерживают нас от гнева. На кого-то нам помешает гневаться страх, на других — уважение, на третьих — брезгливость. Вот уж действительно великий подвиг мы совершим, отправив в эргастул несчастного мальчишку-слугу! Куда мы так торопимся: скорее сечь его, немедленно ломать ему голени? Наша власть над ним никуда не денется, если мы отложим наказание. (2) Подождем немного, чтобы отдать приказание самим; сейчас мы можем лишь повторить распоряжение, продиктованное нам гневом. Пусть он сначала пройдет: тогда мы увидим, велик ли ущерб и какое надо назначить наказание. Ведь в этом случае мы обычно ошибаемся больше всего: чуть что, мы хватаемся за меч, казня смертью, кандалами, темницей, голодом проступки, достойные легкой порки.
(3) Ты спросишь: «Как же ты прикажешь нам определять, насколько ничтожны, мелки и ребячески те вещи, которые кажутся нам обидными?» Что до меня, то лучшее, что я мог бы вам предложить, это приобрести подлинное величие духа: тогда все, из-за чего мы обычно бросаемся, задыхаясь, то туда, то сюда, пыхтим и тягаем друг друга по судам, покажется нам неизменной дешевкой, на которую и внимания не обратит человек, помышляющий о высоком или великом.
33. (1) Больше всего шуму поднимается вокруг денег. Деньги изнуряют бесконечными тяжбами форумы, деньги ссорят отцов и детей, деньги смешивают яды, деньги вкладывают мечи в руки отдельных разбойников и целых легионов. Деньги насквозь пропитаны нашей кровью. Из-за них каждая ночь на супружеском ложе оглашается громкими перебранками жен и мужей, из-за них толпы осаждают возвышения, на которых восседают магистраты, из-за них впадают в лютую ярость цари, грабя и сравнивая с землей государства, возведенные тяжкими трудами многих столетий, чтобы в пепле городов отыскивать слитки серебра и золота.
(2) Приятно глядеть на ящики с деньгами, составленные в углу. Это ради них будут орать так, что глаза вылезут из орбит; ради них судебная базилика будет сотрясаться от воплей, ради них будут призываться судьи из самых отдаленных областей и садиться на судейское возвышение, дабы решить, чьи алчные притязания справедливее. (3) А что ты скажешь о старике, стоящем одной ногой в могиле и не имеющем ни единого наследника, который не из-за ящика денег, но из-за пригоршни меди или одного жалкого динария, утаенного рабом, готов лопнуть от ярости? А что ты скажешь о больном ростовщике, у которого и ноги уже не ходят, и руки не могут даже деньги пересчитать, но он будет громко требовать свой ничтожный тысячный процент и обходить должников даже во время приступов своей болезни, трясясь за свои жалкие гроши?
(4) Да предложи ты мне все деньги, какие добываются сейчас во всех рудниках вместе взятых, в которые мы вгрызаемся без устали; свали передо мною в кучу все клады, зарытые в землю алчностью, которая снова спешит спрятать под землю то, что не к добру извлекла из-под нее, — я скажу, что вся эта груда не стоит того, чтобы добрый муж хоть раз поморщился. Насколько достойнее смеха то, из-за чего мы то и дело льем слезы!
34. (1) Ну а теперь ты сам перебери все остальное, что может служить причиной гнева: еда, питье, наряды, которыми мы стараемся украситься, отправляясь на пирушку, чтобы покрасоваться перед другими, оскорбительные слова, малопристойные телодвижения, упрямая скотина, ленивая челядь, подозрения и пристрастное толкование чужих высказываний в дурную сторону, так что и данный человеку дар речи приходится причислять к обидам природы. Поверь мне, все, что зажигает нас страшным пожаром, — сущие пустяки, не серьезнее тех, из-за которых дерутся и ссорятся мальчишки. (2) Среди вещей, повергающих нас в мрачное уныние, нет ни одной важной, ни одной значительной. Повторяю: вы предаетесь гневу и безумию оттого, что раздуваете мелочи до непомерной величины. Этот хотел отнять у меня наследство; этот оклеветал меня перед людьми, чьей благосклонности я так долго добивался, надеясь получить от них великие блага; этот воспылал страстью к моей любовнице. Люди хотят одного — и то, что должно было бы связать их любовью, становится причиной вражды и взаимной ненависти. Узкая тропинка заставляет сталкивающихся на ней прохожих ссориться, по широкой и просторной дороге целая толпа может идти не толкаясь. Ваши вожделения устремлены к предметам, которых на всех не хватает, и один не может завладеть тем, чем хочет, не отняв у другого, отчего и происходят ваши сражения и раздоры.
35. (1) Ты возмущаешься, когда тебе отвечают — будь то раб или вольноотпущенник, жена или клиент. А потом ты же жалуешься, что в государстве не стало свободы — а в своем доме ты сам ведь ее уничтожил. Кроме того, если на твой вопрос ответят молчанием, ты назовешь это оскорблением. (2) Пусть люди и говорят, и молчат, и смеются! «Как, перед своим господином?» — воскликнешь ты. Даже и перед отцом семейства. Ну что ты кричишь? Что ты кипятишься? Что ты требуешь прямо посреди обеда нести плети только потому, что рабы разговаривают, что в твоей столовой, битком набитой людьми, которых не меньше, чем в народном собрании, не царит тишина пустыни? (3) Уши даны тебе не для того, чтобы слышать только мягкое и нежное, мелодичное и стройное; приходится выслушивать и смех и плач, и лесть и брань, и радостное и печальное, и человеческий голос, и звериный рев и лай. Что ты, бедняга, бледнеешь от громкого слова, от звона меди, от стука в дверь? Как бы ты ни был утончен, тебе никуда не деться от ударов грома. (4) Все, что было сказано об ушах, можно отнести и к глазам, которым тоже частенько приходится страдать от отвращения, если их дурно воспитали. Их оскорбляет малейшее пятнышко, любая грязь, недостаточно блестящее серебро, вода, не прозрачная насквозь до самого дна. (5) Однако те же самые глаза, которые не переносят вида мрамора, если он плохого сорта и не протерт только что до блеска, которые не позволяют ногам ступить дома на пол, если он не дороже золота, не могут видеть стол, если его крышка не испещрена многочисленными прожилками, оказавшись за порогом своего дома, преспокойно глядят на непролазные от грязи и нечистот переулки, на прохожих, большая часть которых в грязных лохмотьях, на неровные, потрескавшиеся, изъеденные стены инсул. В чем же дело? Отчего на улице их не трогает то, что возмущает дома? Дело в том, что смотрят они предвзято: дома раздраженно и придирчиво, вне дома — спокойно и терпеливо.
36. (1) Все чувства следует приучать к выносливости. От природы они терпеливы, лишь бы только душа перестала их развращать: ее нужно каждый день призывать к ответу. Так делал Секстий: завершив дневные труды и удалившись на ночь ко сну, он вопрошал свой дух: «От какого недуга ты сегодня излечился? Против какого порока устоял? В чем ты стал лучше?» (2) Гнев станет вести себя гораздо скромнее и перестает нападать на нас, если будет знать, что каждый вечер ему придется предстать перед судьей. Что может быть прекраснее такого обыкновения подробно разбирать весь свой день? До чего сладок сон после подобного испытания себя, до чего спокоен, до чего глубок и свободен! Душа сама себя похвалила или предостерегла; свой собственный тайный цензор и соглядатай, она теперь знает свой нрав и свои привычки. (3) Я стараюсь не упускать такой возможности и каждый день вызываю себя к себе на суд. Когда погаснет свет и перестанет развлекать взгляд, когда умолкнет жена, уже знающая про этот мой обычай, я придирчиво разбираю весь свой день, взвешивая каждое слово и поступок: ничего я от себя не утаиваю, ничего не обхожу. В самом деле, что мне бояться своих ошибок, если я могу сказать себе: «Смотри, впредь не делай этого; сейчас я тебя прощаю. (4) В этом споре ты слишком горячился; не смей впредь сходиться с невеждами: кто никогда ничему не выучился, тот не хочет ничему учиться. Этого ты предостерег правильно, но чересчур свободным тоном: и вместо того, чтобы исправить, обидел человека. На будущее, смотри не только на то, правду ли ты говоришь, но и на того, кому говоришь: переносит ли он правду. Добрый человек радуется предостережению: а иной, чем он хуже, тем сильнее злится на пытающихся его исправить».
37. (1) На пиру тебя задели какие-то шуточки, какие-то слова, сказанные специально для того, чтобы тебя ранить. Помни, что лучше избегать вульгарных застолий: вино всем развязывает язык, а у них нет стыда и у трезвых. (2) Ты видишь, что друг твой разгневан на привратника какого-нибудь крючкотвора или богача, за то, что тот не пустил его, и вот ты сам уже пылаешь гневом за своего друга на этого последнего из рабов. Похоже, в следующий раз ты разгневаешься на цепного пса! Но и он, как бы громко ни лаял, тотчас сделается ручным — брось только ему хлеба. (3) Лучше отойди немного, взгляни на все это со стороны и рассмейся! Вот один — он считает себя важной персоной, потому что сторожит дверь, осаждаемую толпами тяжущихся. Вот другой — он лежит внутри, баловень счастья и удачи, и считает, что труднодоступная дверь — первый признак блаженного и могущественного человека. Видимо, он не знает, что труднее всего открываются двери тюрьмы.
Заранее приучи свою душу к мысли, что тебе много чего придется терпеть. Кто станет удивляться, что зимой ему холодно? Что на корабле его одолевает морская болезнь? Что в дороге его трясет? Душа мужественнее перенесет все, что с ней приключится, если будет к этому готова. (4) Тебя положили за обедом не на самое почетное место, и вот ты уже начинаешь гневаться и на того, кто пригласил тебя, и на того, кто размещал приглашенных, и на того, кого тебе предпочли. Безумец, какая разница, с какой стороны ложа возлежать? Неужели подушка может возвысить или обесчестить тебя? (5) Ты косо глядишь на кого-то из-за того, что он дурно говорил о твоем таланте. Неужели ты считаешь каждое его слово законом? И неужели Энний должен возненавидеть тебя оттого, что его поэмы не доставляют тебе удовольствия, Гортензий должен объявить тебе войну за то, что ты неодобрительно высказался о его речах, а Цицерон — стать твоим врагом из-за того, что ты пошутил насчет его стихов? А ведь когда ты выступаешь кандидатом, ты готов спокойно отнестись к результатам голосования!
38. (1) Кто-то оскорбил тебя. Неужели сильнее, чем философа Диогена? Как-то раз, когда он с особым воодушевлением рассуждал о гневе, какой-то дерзкий юнец подошел и плюнул ему в лицо. Тот отнесся к этому спокойно и мудро: «Я не гневаюсь, — сказал он, — хотя и не уверен, что мне не стоило бы разгневаться»[215]. (2) А насколько лучше повел себя наш Катон! Однажды, когда он разбирал в суде дело, тот самый Лентул, которого наши отцы запомнили как интригана без всяких правил, подошел и, набрав побольше густой слюны, плюнул Катону прямо в лоб; тот утерся и сказал: «Ну, Лентул, теперь я смогу всем засвидетельствовать, что неправы те, кто говорит, будто у тебя нет бесстыжего рта»[216].
39. (1) Ну вот, Новат, в собственной душе нам с тобой удалось установить добрый строй: она у нас либо вовсе не чувствует гнева, либо не опускается до него, будучи выше. Теперь посмотрим, как нам смягчить чужой гнев; ибо мы ведь желаем не только исцелиться, но и исцелять.
(2) Первую вспышку гнева мы не осмелимся унимать словами. Она глуха и безумна; посторонимся и дадим ей время. Лекарства приносят пользу, если давать их в промежутках между приступами. Мы стараемся не раздражать воспаленные, неподвижно уставленные в одну точку глаза, не моргать ими и не двигать; так же мы не беспокоим и прочие недуги, пока не пройдет первая лихорадка. В начале болезни главное лечение — отдых. (2) Ты скажешь: «Не много же пользы в твоем снадобье, если оно умиротворяюще действует на гнев лишь тогда, когда тот сам уже пойдет на убыль!» Не совсем так. Во-первых, мое лекарство заставляет его быстрее пойти на убыль. Во-вторых, оно не дает ему вспыхнуть снова. Не осмеливаясь унимать гневный порыв, оно обманывает его, убирая с глаз долой все орудия мщения, а также симулируя гнев, чтобы в качестве товарища и соболезнователя иметь большие влияния в качестве советчика, добиться отсрочки и отложить наказание под тем предлогом, что оно недостаточно и требуется большее. (3) Оно пойдет на любые ухищрения, чтобы успокоить вспышку буйного помешательства. Если гневный пыл растет все неудержимее, надо сбить его либо стыдом, либо страхом перед чем-нибудь таким, чему человек не в силах противиться. Если становится слабее, надо затевать приятные беседы и рассказывать интересные новости, чтобы жажда знания отвлекла человека от гнева. Рассказывают, что один врач, который должен был вылечить царскую дочь и не мог сделать этого без железа, спрятал скальпель в губку и, долго и нежно лаская ее пораженную опухолью грудь, неожиданно взрезал ее. Если бы он поднес лекарство открыто, девушка не далась бы; а нежданную боль ей пришлось вытерпеть. Бывают вещи, которые излечиваются только обманом.
40. (1) Одному ты скажи: «Смотри, как бы твоя гневливость не стала удовольствием для твоих врагов». Другому скажи иначе: «Смотри, как бы не уронить тебе свое душевное величие и ту твою знаменитую твердость, в которую верит большинство окружающих. Клянусь Геркулесом, я и сам возмущен и страдаю за тебя сверх всякой меры, но надо выждать некоторое время. Подлец будет наказан — схорони жажду мести в своей душе; позже, может быть, ты воздашь ему и за это вынужденное промедление». (2) Когда человек в гневе, не стоит в свою очередь гневаться на него за это или бранить: он только пуще разойдется. Ищи к нему разных подходов, но все помягче, разве что только ты окажешься лицом столь важным, что в силах будешь так пресечь чужой гнев, как это сделал божественный Август, когда обедал у Ведия Поллиона. Один из рабов разбил хрустальную чашу; Ведий приказал схватить его, предназначая для отнюдь не обычной казни: он повелел бросить его муренам, которых содержал у себя в огромном бассейне. Кто усомнится, что это было сделано ради удовлетворения прихоти изнеженного роскошью человека? Это была лютая жестокость. (3) Мальчик вырвался из рук державших его и, бросившись к ногам Цезаря, молил лишь об одном: чтобы ему дозволили умереть любой другой смертью, только не быть съеденным. Взволнованный неслыханной доселе жестокостью, Цезарь приказал мальчика отпустить, а все хрустальные чаши перебить перед своими глазами, наполнив осколками бассейн. (4) Так он употребил свое могущество во благо. Друга своего он мог бы побранить так: «В разгар пира ты велишь хватать людей и раздирать их на части в невиданных до сих пор казнях? У тебя разбили чашу — так за это надо выпотрошить человека? Ты так высоко себя ценишь, что в присутствии Цезаря уже отдаешь свои распоряжения о казни?»
(5) Пусть всякий, у кого достаточно власти, чтобы разговаривать с гневом сверху вниз, не жалеет его — во всяком случае, если это такой же гнев, с которым так сурово обошелся Цезарь: дикий, бесчеловечный, кровожадный, уже ничем неизлечимый, разве что испугается чего-нибудь намного больше себя.
41. (1) Дадим душе нашей мир, тот мир, что доставляется постоянным размышлением о спасительных наставлениях, свершением добрых дел и напряженным сосредоточением ума на стремлении к одному тому, что честно. Довольно, если мы будем удовлетворять нашей совести, не стоит трудиться для молитвы. Пусть за нами идет дурная слава, лишь бы мы в действительности заслуживали доброй.
(2) «Народ, однако, уважает крутой нрав и почитает дерзость. Миролюбивые считаются обычно трусами и лентяями». Может быть, и так, но лишь на первый взгляд. Когда народ присмотрится и уверится в том, что ровное течение их жизни обличает не бездеятельность, а мир и спокойствие души, он начинает уважать и чтить их.
(3) Итак, в этом омерзительном и враждебном чувстве нет решительно ничего полезного, напротив, оно несет с собой все мыслимые злодеяния, огонь и меч. Вот он, гнев: стыд растоптан под ногами, руки осквернены кровью зарезанных, вокруг валяются куски детских тел, и нигде не осталось ни одного места, которое он не превратил бы в место преступления; он не помнит о славе, он не страшится позора, он становится неисправим, когда окостенеет, затвердеет и из гнева превратится в ненависть.
42. (1) Итак, будем остерегаться этого зла, очищать душу и вырывать его с корнем, ибо где останется хоть мельчайший корешок, там он вырастет снова. Не стоит пытаться удерживать гнев в пределах умеренности — лучше изгнать его совсем, ибо какая может быть умеренность у столь дурной вещи? Мы справимся с ним — нужно только сделать усилие. (2) Самую большую помощь в этом деле нам окажет мысль о нашей смертности. Пусть каждый говорит себе и другому так: «Что за радость предаваться гневу, растрачивая на него свой мимолетный век, так, будто мы рождены для вечной жизни? Что за радость употреблять свои немногие дни на то, чтобы доставить кому-то боль и мучение, если можно потратить их на достойные удовольствия? У нас нет времени на то, чтобы терять его попусту, и жизнь не терпит расточительства. (3) Что мы все рвемся в бой? Зачем вечно придумываем себе какую-нибудь борьбу? Зачем, забывая о своей слабости, взваливаем на плечи бремя чудовищной ненависти и, сами такие хрупкие, подымаемся, чтобы кого-то сокрушать? Непримиримый дух наш не соглашается оставить вражду: подумайте о том, что вот-вот лихорадка или какая-нибудь другая телесная немощь вынудит нас прекратить ее. Вот-вот смерть разнимет самых яростных из сцепившихся противников. (4) И что мы такие мятежные — волнуемся, теряем голову и всю нашу жизнь превращаем в сплошное смятение? Над нашей головой стоит рок и считает каждый уходящий день, подходя все ближе и ближе; тот самый миг, на который ты назначаешь смерть своего врага, может оказаться как раз мигом твоей смерти».
43. (1) Не лучше ли бережно собрать свою короткую жизнь, сделав ее спокойной и мирной и для себя, и для других? Не лучше ли постараться, чтобы при жизни тебя все любили, а после смерти о тебе жалели? К чему так страстно желать унизить человека, обращающегося с тобой слишком свысока? К чему употреблять все свои силы на то, чтобы растоптать облаявшего тебя человека, низкого и презренного, но язвительного и злобного по отношению к высшим? К чему тебе гневаться на своего раба или хозяина, царя или клиента? Подожди немного: вот придет смерть и вас уравняет.
(2) В перерывах между утренними зрелищами нам обычно показывают на арене сражение привязанных друг к другу быка и медведя: они рвут и терзают друг друга, а рядом их поджидает человек, которому поручено в конце прикончить обоих. То же самое делаем и мы, нанося удары людям, с которыми мы связаны, а рядом с победителем и побежденным уже стоит их конец, причем очень близкий. Нам ведь осталось-то вот столечко! Что бы нам прожить эту капельку времени в мире и покое! Пусть, когда труп наш положат на стол, никто не проклинает его с ненавистью!
(3) Часто ссору прекращает раздавшийся по соседству крик «Пожар!», а вмешательство дикого зверя спасает путника от разбойника. Бороться против меньшего зла не остается времени, когда нависает опасность большего. Что мы так упиваемся склоками и взаимным подсиживанием? Что хуже смерти можешь ты пожелать тому, на кого гневаешься? Так успокойся: он умрет, даже если ты палец о палец не ударишь. Напрасный труд стараться сделать то, что и так произойдет непременно. (4) Ты скажешь: «Да нет, я вовсе не хочу его убивать; я желаю наказать его ссылкой, позором, материальным ущербом». Я скорее прощу того, кто жаждет нанести врагу рану, а не того, кто мечтает посадить ему чирей: тут уже не только злая, но и ничтожно мелкая душонка. Впрочем, о высшей ли мере наказания для врага ты мечтаешь или о более легких, подумай, сколечко времени всего-то и осталось до того мига, когда он будет подвергнут мучительной казни, и ты получишь удовольствие от чужой муки.
(5) Этот дух нам совсем уже скоро придется испустить. А пока он еще в нас, пока мы еще люди, давайте пестовать нашу человечность. Пусть нас никто не боится, пусть никому не грозит от нас опасность. Давайте презирать обиды, потери, ссоры, склоки, издевки, великодушно перенося скоротечные неприятности. Пока мы будем оглядываться, прислушиваясь, что говорят о нас за нашей спиной, смерть наша будет уже тут как тут.
О ПРИРОДЕ
Книга I
Об огнях в воздухе
Предисловие
1. Ты знаешь, Луцилий[217], лучший из людей, сколь велика разница между философией и прочими искусствами; не меньшая существует, по-моему, и внутри самой философии между той ее частью, которая касается людей, и той, которая относится к богам[218]. Вторая — и выше, и сильнее, и потому присвоила себе большее дерзновение; не удовлетворяясь видимым, она провидит нечто большее и прекраснейшее, спрятанное природой подальше от глаз.
2. Иными словами, разница между обеими такая же, как между богом и человеком. Одна учит, что́ следует делать на земле, другая — что делается на небе. Одна разъясняет наши заблуждения и служит нам лампой, при свете которой можно разобраться в жизненных трудностях; другая, поднимаясь ввысь, выходит далеко за пределы мрака, в котором мы вращаемся, и, вырвав нас из тьмы, ведет к самому источнику всякого света.
3. Я воистину благодарен природе не тогда, когда вижу в ней то, что видно каждому, а когда, проникнув в самые сокровенные ее глубины, узнаю, какова материя вселенной; кто ее создатель, начальник и страж; что такое бог; сосредоточен ли он всегда на себе самом[219] или же и на нас иногда взирает[220]; создает ли он каждый день что-нибудь или создал все однажды и навсегда[221]; часть ли он мира или сам мир[222]; можно ли ему и сегодня принимать решения и вмешиваться в законы судеб, или же признание ошибки — ведь он создал то, что нужно менять — нанесет ущерб его величию… Тот, кто способен хотеть лишь наилучшего, непременно будет хотеть всегда одного и того же. И ни свобода его, ни могущество не потерпят оттого никакого ущерба: ведь он сам себе необходимость[223].
4. Не будь мне доступно все это знание, не стоило бы, право, и родиться. Чего ради стал бы я радоваться, что попал в число живущих? Чтобы переварить горы пищи и питья? Чтобы без конца набивать это хилое и вялое тело, которое погибнет, если не наполнять его ежечасно, — чтобы жить слугой при больном? Чтобы бояться смерти, для которой одной мы рождены? Отнимите у меня это бесценное благо — без него жизнь не стоит пота и треволнений.
5. О сколь презренная вещь — человек, если не поднимется он выше человеческого! Пока мы лишь боремся со страстями — разве это подвиг? Даже если мы одержим верх — мы побеждаем призрачных чудовищ, а не достойного противника. Не уважать же нам самих себя только за то, что мы не сравнялись в мерзости с последним подонком? Я не вижу оснований для особого самодовольства у того, кто оказался крепче других в больнице.
6. Временное облегчение болезни — это еще не здоровье. Ты избежал пороков души: в угоду чужой воле не кривишь ни лицом, ни речью, ни сердцем; нет в тебе скупости, отказывающей даже себе в том, что отняла у других; нет расточительности, бесстыдно разбрасывающей деньги, которые она станет добывать вновь еще бесстыднее; нет честолюбия, которое не укажет тебе других путей к достоинству, кроме недостойных, — все равно, до сих пор ты не достиг ничего. Ты избежал многого, но еще не себя самого. Ибо добродетель, к которой мы стремимся, — вещь, конечно, превосходная, но не потому, чтобы свобода от зла сама по себе составляла благо, а потому, что она освобождает душу, подготовляет ее к познанию небесных вещей и делает достойной того, чтобы приобщиться к богу.
7. Вот тогда-то, поправ всякое зло и устремляясь ввысь, душа проникает в сокровенную глубину природы и в этом обретает самое полное и совершенное благо, какое только может выпасть на долю человека. Тогда сладостно ей, странствующей среди звезд, смеяться над драгоценными мозаичными полами в домах наших богачей, над всей землей с ее золотом, — я говорю не только о том, которое она уже извергла на свет, отдав на чеканку монеты, но и о том, которое еще хранит в своих недрах для разжигания алчности грядущих поколений.
8. Роскошные колоннады, сияющие слоновой костью наборные потолки, искусно подстриженные аллеи, струящиеся в домах реки не вызовут презрения в душе до тех пор, пока она не обойдет весь мир и, оглядывая сверху тесный круг земель, и без того закрытый по большей части морем, но и в остальной своей части почти везде пустынно-дикий, скованный либо зноем, либо стужей, не скажет сама себе: «И это — та самая точечка, которую столько племен делят между собой огнем и мечом?»
9. О как смешны все эти границы, устанавливаемые смертными! Вот, наше оружие не должно пускать даков через Истр[224], а фракийцев — через Гем[225]; парфянам должен преграждать путь Евфрат; Данубий — отграничивать римлян от сарматов; Рейн — положить предел Германии; Пиренейский хребет — возвышаться посредине между Галлиями и Испаниями[226]; мертвые безжизненные песчаные пустыни — разделять Египет и Эфиопию.
10. Интересно, если бы кто дал муравьям человеческий разум, неужто и они разделили бы свою полянку на множество провинций? Когда поднимешься в ту подлинно великую область и увидишь сверху какое-нибудь очередное войско, торжественно выступающее под развернутыми знаменами, словно происходит что-то действительно серьезное, конников, то выезжающих вперед, то съезжающихся к флангам, так и хочется сказать:
Право, это та же суета, что и у муравьев, толкущихся на тесном пятачке. Да и чем они от нас отличаются — разве что размерами крошечного тельца?
11. Пространство, где вы плаваете на кораблях, воюете, царствуете, — точка[228]. То, что вы создадите, будь это даже империя от океана до океана, — малее малого. В вышине же — безмерные просторы, во владение которыми вступает душа, если она взяла от тела лишь самую малость, если стряхнула с себя всякую грязь и взлетела, вольная, легкая, довольная малым.
12. Попав туда, душа питается и растет; освобожденная словно от оков, она возвращается к своему истоку[229], и вот доказательство ее божественности: все божественное ее радует, занимает — не как чужое, как свое. Беззаботно следит она за закатом и восходом светил, за их столь различными и столь гармонично согласованными путями; наблюдает, где какая звезда впервые засветилась над землей, где высшая точка ее пути, где низшая, — все обдумывает, все исследует любопытный наблюдатель. А почему бы и нет? Она ведь знает, что это — ее, родное.
13. Тогда-то и начинает она презирать тесноту прежнего своего жилища. Ведь от самых дальних берегов Испании до Индии расстояние какое? — Считанные дни, если ветер кораблю попутный[230]. А в той небесной области? — Стремительнейшая звезда, двигаясь без остановок и с равной скоростью все прямо, может мчаться здесь тридцать лет[231].
Наконец, именно там душа получает, наконец, ответ на то, о чем долго спрашивала: именно там она начинает познавать бога. Что такое бог? — Ум вселенной[232]. Что такое бог? — Все, что видишь, и все, чего не видишь[233]. Он один есть все; он один держит все созданное им и внутри и снаружи — только так можно воздать должное его величию, более которого нельзя ничего помыслить.
14. Какая же разница между природой бога и нашей? — В нас лучшая часть — душа; в нем нет ничего, кроме души. Он весь — разум.
А тем временем смертные настолько погрязли в заблуждении, что небо, которого ничего нет прекраснее, упорядоченное в раз навсегда заданном порядке, люди считают бессмысленным, подвластным лишь игре случая[234] и оттого беспрестанно смятенным всевозможными молниями, тучами, бурями, какие потрясают землю и ее окрестности.
15. И не только толпу заразило это безумие, но и некоторых, объявляющих себя приверженцами мудрости. Есть такие, кто думает, будто у них самих душа есть, и душа предусмотрительная, способная распорядиться своим и чужим; вселенная же эта, в которой мы живем, лишена будто бы всякого смысла, и то ли сама несется неизвестно куда; то ли движется природой, не ведающей, что творит[235].
16. Не кажется ли тебе, что узнавать все это — занятие весьма стоящее? Насколько могуществен бог? Создает ли он сам себе материю или пользуется данной? Что первее: разум ли предшествует материи или материя разуму? Создает ли бог все, что пожелает, или же во многих вещах то, с чем ему приходится иметь дело, сопротивляется ему, не дается, так что из рук великого искусника многое выходит дурно созданным, и не от недостатка искусства, а из-за сопротивления материала искусству?
17. Вот этим заниматься, это изучать, этому прилежать — разве не значит перепрыгнуть через свою смертность и сподобиться лучшей участи? — Ты спросишь, какой мне от этого прок? — Может, и никакого, хотя одна-то польза есть во всяком случае: примерившись к богу, я буду знать, что все остальное ничтожно мало.
Глава I
1. Теперь пора мне приступить к моему предмету; выслушай же, что я думаю об огнях, проносящихся сквозь воздух.
Они несутся по кривой и со стремительной скоростью; это доказывает, что они низвергаются с большой силой. Очевидно, что они не движутся сами по себе, но их что-то бросает.
2. Выглядят такие огни очень разнообразно. Какой-то из видов их Аристотель называет «козой»[236]. Если ты захочешь спросить меня почему, сначала ответь мне, почему козы называются козами. Если же, что будет гораздо удобнее, мы уговоримся не задавать друг другу вопросов, на которые другой заведомо не может ответить, достаточно будет исследовать само явление, не доискиваясь, с чего бы это Аристотель стал называть козой огненный шар. Ибо именно такова была форма огня, который явился — величиной с луну — во время войны Павла против Персея[237].
3. Мы и сами видели не однажды пламя в виде огромного столба, который на лету рассыпался. Подобное знамение мы видели незадолго до кончины божественного Августа[238]. Видели и во время казни Сеяна[239], да и кончина Германика[240] не обошлась без такого предзнаменования.
4. Возразишь мне: «Неужто ты настолько погряз в заблуждениях, что полагаешь, будто боги посылают предзнаменования смертей, словно на земле есть что-нибудь столь великое, что весь мир знает о его гибели?» Это мы обсудим в другое время. Тогда и увидим, происходят ли все вещи в определенном порядке, так что всякое предшествующее — либо причина, либо знамение последующих. Увидим, пекутся ли боги о делах человеческих; возвещает ли сама последовательность миропорядка о том, чему предстоит свершиться, определенными знаками.
5. Покамест[241] же я вот что думаю: подобные огни возникают от сильного трения воздуха, когда одна часть его теснит другую, а та не уступает и сопротивляется. Из этого противоборства возникают столбы, и шары, и факелы, и свечения. А при более легком столкновении и, так сказать, трении, высекаются более мелкие огоньки:
6. Тогда мельчайшие огоньки обозначают и протягивают по небу тоненькую огненную дорожку. Ни одна почти ночь не проходит без подобного зрелища: ведь для этого не нужно большого перемещения воздуха. Одним словом, возникают они так же, как и молнии, только силы для этого требуется меньше; подобно тому как столкновение туч со средней силой производит зарницы, а более сильное — молнии, так и здесь: чем меньше воздуха и чем слабее его сжатие, тем более мелкие получаются огоньки.
7. Аристотель предлагает еще и такое объяснение. Круг земель выдыхает много разных испарений: одни влажные, другие сухие, третьи горячие, четвертые легко воспламеняющиеся[243]. Неудивительно, что у земли бывают испарения разных видов: ведь и в небе явлены самые разные цвета: Пес ярко-красный[244], Марс — тусклее, Юпитер вовсе лишен цвета, испуская чистый свет.
8. Следовательно, среди множества частиц, испускаемых землей и уносящихся вверх, непременно должны попадать в тучи и некоторые легковоспламеняющиеся вещества, причем загораться они могут не только от удара, но даже и от дыхания солнечных лучей; ведь и у нас ветки, обрызганные серой, можно зажечь на расстоянии.
9. Вполне правдоподобно поэтому, что подобное вещество, скопившись в тучах, легко загорается, и возникают большие и маленькие огни, в зависимости от того, больше или меньше в них было сил.
Ничего нет глупее, как предполагать, будто это звезды падают или перепрыгивают с места на место, или будто от звезд что-то отваливается или отрывается.
10. Ведь если бы было так, звезд бы уже не осталось. А между тем каждая оказывается на своем обычном месте и в своих обычных размерах; следовательно, те огни рождаются ниже звезд и быстро пропадают, поскольку нет у них своего места и прочного основания.
11. — Но почему же они не появляются среди дня?
— Так ты скажешь, пожалуй, что и звезд днем нет, раз их не видно? Как не видно звезд, когда их затмевает солнечное сияние, так и эти факелы: они проносятся и днем, но яркость дневного светила скрывает их. Если же сверкнет порой вспышка такой силы, что блеск ее устоит и против дневного света, тогда появляются и днем.
12. На нашем веку точно появлялись дневные факелы, и не один раз: одни проносились с востока на запад, другие — с запада на восток.
Моряки считают, что если падает много звезд, значит, будет буря. Но если это — предвестие ветров, то рождается оно там же, откуда и ветры, то есть в воздухе, который посередине между Луной и Землей.
13. При сильных бурях часто появляются как бы звездочки, садящиеся на паруса; терпящие бедствие мореходы думают тогда, что это им помогают божества Кастора и Поллукса[245]. Но причина для доброй надежды здесь иная: очевидно, что буря уже переломилась и ветры утихают — в противном случае огни неслись бы, а не сидели.
14. Когда Гилипп[246] направлялся в Сиракузы, появилась звезда, остановившаяся на самом кончике его копья. В римских лагерях видели, как загорались дротики: это значит, что на них попали огни. Они часто являются в виде молний и тогда обычно поражают деревья и живые существа; но когда в них меньше силы, они просто тихо соскальзывают с неба и садятся на что-нибудь, никого не поражая и не раня.
Есть среди них такие, которые высекаются между туч; другие появляются при ясном небе, когда воздух достаточно сжат, чтобы испускать огни.
15. Ведь и гром гремит порой с ясного неба и по той же самой причине, что из туч — из-за столкновения масс воздуха; ведь и более прозрачный и сухой воздух может собираться и образовывать некие тела, подобные тучам; они-то, сталкиваясь друг с другом, и издают звук.
— Тогда в каком же случае получаются столбы? В каком — круглые щиты или подобия большого пожара?
— Когда на то же вещество воздействует подобная же причина, только бо́льшая.
Глава II
1. Посмотрим теперь, как получается сияние, окружающее иногда светила. Передают, что в тот день, когда божественный Август, вернувшись из Аполлонии, вступил в Рим, вокруг солнца был виден разноцветный круг[247], какой обычно бывает в радуге. Греки зовут его «гало»; мы можем назвать его, пожалуй, венцом[248]. Расскажу, как объясняют его происхождение.
2. Когда в бассейн брошен камень, мы видим, как по воде расходится множество кругов: сначала возникает первый — самый маленький, затем другой — побольше, затем — все больше и больше, пока не иссякнет первоначальный толчок и не растворится в глади неподвижных вод. Предположим, что нечто подобное происходит и в воздухе. Сгустившись, он становится чувствителен к удару; свет солнца, луны или любого другого светила, попадая в него, заставляет его расходиться кругами. Ведь жидкость, воздух, все, что приобретает форму от напора извне, сжимаясь, принимает облик того, что его сжимает; но всякий свет распространяется кругами; следовательно, и воздух от удара света будет расходиться кругами.
3. Из-за этого греки назвали подобное сияние тем же словом, что и «гумно» — ведь места, предназначенные для обмолота зерна, почти всегда круглые. Не следует, однако, полагать, что эти будь то гумна, будь то венцы, образуются действительно рядом со светилами. Ибо они, хотя и кажутся окружающими их и словно венчающими, на самом деле отделены от них огромнейшим расстоянием; светящийся образ, который зрение наше, обманутое обычной своей слабостью, считает расположенным вокруг самого светила, возникает совсем недалеко от земли.
4. Ничего подобного просто не может произойти рядом со звездами или солнцем — ведь там лишь тонкий эфир. Только в плотных и густых телах могут запечатлеваться формы; в тонких им негде утвердиться, не за что зацепиться.
Подобные венцы можно иногда наблюдать в банях вокруг светильников[249] из-за темноты спертого воздуха — и особенно часто при южном ветре, когда атмосфера самая тяжелая и сгустившаяся.
5. Венцы эти иногда постепенно расплываются и пропадают. Иногда разрываются с какой-нибудь стороны; оттуда, где расплелся венец, моряки ожидают ветра: если разошелся с северной стороны — будет аквилон, если с западной — фавоний. Вот лишнее доказательство того, что венцы возникают в той же части неба, что и ветры; выше не бывает венцов, поскольку нет и ветров.
6. Добавь к этим аргументам еще один: венец собирается только при неподвижном воздухе и слабом ветре — при других обстоятельствах его не бывает видно. Ведь только неподвижный воздух можно сжать или раздвинуть, придав ему определенный облик; а на поток воздуха свет не может нажать, ибо тот не оказывает сопротивления и не принимает никакой формы, поскольку каждая его часть тотчас уносится прочь.
7. Итак, подобное изображение никогда не появится вокруг какого бы то ни было светила иначе, как при густом и неподвижном воздухе, готовом принять и удержать попадающий в него луч круглого света. И на то есть причина. Вспомни-ка пример, который я недавно приводил. Брось камешек в бассейн или в озеро — в любую стоячую воду — пойдут бесчисленные круги; а в реке ничего не получится. Почему? Потому что текущая вода разметает любые очертания. То же самое происходит и в воздухе: неподвижный, он может принимать определенные очертания; текущий же и несущийся не дает такой возможности, сметая любое давление и любую форму.
8. Когда венцы, о которых я веду речь, равномерно расплываются и сами по себе тихо пропадают, это предвещает безмятежность воздуха, тишину и покой; если они исчезнут с одной стороны — оттуда, где они раскололись, будет ветер; если порвались во многих местах — будет буря.
9. Почему это так, можно понять из того, что я уже изложил. В самом деле, если все изображение исчезает целиком, значит, воздух уравновешен и тем самым спокоен. Если оно пропадет с одной стороны, очевидно, что оттуда на него налегает воздух — значит, оттуда будет и ветер. Если же отовсюду оно раздирается и рвется, ясно, что натиск происходит со всех сторон и неспокойный воздух налетает то оттуда, то отсюда; из такого непостоянства воздуха, налетающего со всех сторон множеством порывов, очевидно, что предстоит бурная схватка многих ветров.
10. Такие венцы можно наблюдать по ночам вокруг луны и других звезд; днем редко, поэтому кое-кто из греков заявляет, что днем их не бывает вовсе, хотя история утверждает обратное. Причина их редкости в том, что солнечный свет сильнее, и сам воздух, возбужденный и разогретый им, — разреженнее. Луна действует слабее, и поэтому свет ее легче удерживается разлитым вокруг воздухом.
11. Равным образом и прочие светила недостаточно сильны, чтобы прорвать воздух; поэтому их изображение воспринимается более прочной и менее податливой материей и в ней сохраняется. Воздух при этом должен быть не настолько густым, чтобы выталкивать и отбрасывать от себя посланный свет, и не настолько тонким и разреженным, чтобы совсем не задерживать попадающие в него лучи. Именно такое умеренное равновесие и достигается ночью, когда воздух гуще, чем бывает обычно днем, и светила не пронзают его резкими ударами, но мягко испускают в него свой свет.
Глава III
1. Зато радуги, напротив, не бывает по ночам, или, по крайней мере, очень редко, так как луна не настолько сильна, чтобы пронизать тучи и окрасить их так, как это делает проникающее в них солнце. Ибо именно таким образом объясняют происхождение многоцветной дуги[250]. Ведь в тучах одни части сильнее раздуты, другие — слабее, одни слишком густы, чтобы пропустить солнце, другие — чересчур жидки, чтобы его отражать; такая их неодинаковость перемешивает свет с тенью и дает в результате удивительное разноцветье радуги.
2. Можно и иначе объяснить происхождение радуги, примерно следующим образом. Когда где-нибудь прорвется труба, через маленькую дырочку бьет вода; если мы посмотрим на ее брызги против низко стоящего солнца, мы увидим в них изображение радуги. То же самое ты можешь увидеть, если понаблюдаешь за суконщиком: когда он наберет в рот воды и легонько опрыскивает натянутые на распялки ткани, в этом воздухе, полном брызг, появляются те же цвета, какие мы видим обычно в радуге.
3. Причина ее — жидкость, в этом можешь не сомневаться: ведь когда нет туч, никогда не бывает и радуги. Однако посмотрим, каким образом она получается.
Некоторые говорят, что бывают капли, пропускающие солнце, а бывают более сжатые и потому непрозрачные[251]; соответственно первые испускают свет, вторые отбрасывают тень; из смешения того и другого возникает радуга, в которой одна часть воспринимает солнце и оттого сияет, вторая же темнее — она не пропускает солнца и отбрасывает тень на соседние капли.
4. Не все, однако, согласны, что это так. В самом деле, если бы в радуге было всего два цвета, если бы она состояла лишь из света и тени, то это могло бы показаться правдоподобным. Однако
Мы видим в радуге и огненное, и желтое, и синее, и другие цвета, проведенные тонкими линиями, как на картине. Как сказал поэт, ты не отдаешь себе отчета в том, что это разные цвета, пока не сравнишь первого с последним. До чего удивительно здесь искусство природы: перелив красок ускользает от нас, и то, что началось неразличимо сходным, кончается несопоставимо различным. Так какие же тут два цвета, какие свет и тень, когда нужно объяснить неисчислимое разноцветие?
5. Некоторые думают, что радуга получается так: там, где уже начался дождь, каждая падающая дождевая капля оказывается зеркалом и отражает солнце. Бесчисленное множество таких отражений летит и отвесно и наклонно во все стороны, и радуга — смешение множества отражений солнца.
6. А приходят они к подобному заключению вот как. Выставьте, говорят они, на улицу в ясный день тысячу тазов с водой — во всех отразится солнце; обрызгайте каплями воды листья — каждая отразит солнце. Но возьмите самый необъятный водоем — в нем вы не получите больше одного отражения. Почему? Потому что всякая гладкая поверхность, заключенная в свои границы, есть одно зеркало. Раздели большой водоем внутренними стенками, и в нем будет столько же отражений, сколько отдельных бассейнов; оставь его как есть — и как бы он ни был велик, он даст тебе только одно отражение. Объем жидкости или величина водоема не имеют решительно никакого значения; если он ограничен, он представляет собой зеркало. Поэтому бесконечное множество капелек проливающегося дождя составляют бесконечное множество зеркал и дают столько же солнечных отражений. Со стороны они все кажутся перемешанными, ибо падают в разные стороны, и, кроме того, на расстоянии не видно разделяющего их пространства, так что вместо отдельных отражений мы видим одно, смешанное из всех сразу.
7. Аристотель судит об этом примерно так же. Всякая гладкая поверхность, как он говорит, возвращает глазу испускаемые им лучи; но самые гладкие вещи на свете — вода и воздух; поэтому от сгущенного воздуха наш взгляд отражается и возвращается к нам. Если же зрение слабое и нездоровое, то оно может оказаться не в состоянии преодолеть сопротивление даже обычного воздуха. Некоторые, например, страдают такой болезнью: им мерещится, что они повсюду натыкаются на самих себя, ибо везде они видят свое собственное отражение. Отчего это? А оттого, что больные глаза их не в силах прорвать даже ближайший слой воздуха, и взгляд сразу отскакивает назад.
8. На них всякий воздух действует так же, как на других — густой: ведь самой малой плотности достаточно, чтобы отразить немощный взгляд. Но гораздо сильнее отталкивает наш взор вода: она плотнее, и лучи наших глаз не могут ее пробить; она задерживает их и отсылает назад, откуда вышли. Итак, сколько капелек, столько и зеркал; но из-за малости своей они отражают лишь цвет солнца, а не его очертания. А так как один и тот же солнечный цвет воспроизводится в бесчисленных капельках, падающих беспрерывно, то мы начинаем видеть не множество разрозненных отражений, а одно длинное и непрерывное.
9. — Почему же, интересно, — возразишь ты мне, — я не вижу ни одного отражения там, где, как ты утверждаешь, их много тысяч? И почему эти отражения — разных цветов, если у солнца цвет один?
— Чтобы опровергнуть это твое возражение и прочие, не более твоего основательные, нужно заметить прежде всего следующее. Ничего нет обманчивее нашего зрения, и это касается не только тех вещей, которые нам мешает как следует разглядеть их удаленность, но даже и тех, которые у нас вроде бы под рукой. Весло, покрытое тонким слоем воды, кажется сломанным; плоды, если поглядеть на них через стекло, покажутся гораздо крупнее; на конце достаточно длинного портика исчезают промежутки между колоннами.
10. Вернемся к самому солнцу. Разум доказывает, что оно больше всего земного круга, а зрение уменьшает его до того, что многие мудрецы были убеждены, будто оно не больше фута в диаметре. Мы знаем, что оно движется быстрее всего на свете, и однако никто из нас не видит, как оно движется, так что мы бы и не поверили, что оно перемещается, если бы вдруг не замечали, что оно уже переместилось. Да ведь и сам мир несется с головокружительной скоростью, прокручивая в мгновение ока свои восходы и закаты, но никто из нас этого не чувствует. Так что же удивляться, если наши глаза не различают крошечные дождевые капли, и мельчайшие отражения кажутся с большого расстояния слитыми воедино?
11. Одно во всяком случае не подлежит сомнению: что радуга — это отражение солнца в полом и наполненном капельками росы облаке[253]. Ты можешь убедиться в этом и сам: во-первых, радуга бывает всегда только напротив солнца; во-вторых, она бывает высокая или низкая в зависимости от того, стоит ли солнце соответственно низко или высоко; движется она всегда в противоположную сторону, а именно поднимается, когда опускается солнце, и опускается тем ниже, чем выше солнце взойдет. Часто подобное облако оказывается сбоку от солнца; тогда оно не дает никакой радуги, ибо солнце отражается в нем не прямо.
12. Разнообразие же цветов происходит оттого, что часть цвета — от солнца, а часть от этого самого облака; влага чертит эти линии — то синие, то зеленые, то пурпурные, желтые или огнецветные, причем все это разнообразие получается из двух всего цветов — одного более насыщенного, другого более слабого. В самом деле, ведь даже окрашенные одними и теми же улитками[254] пурпурные ткани выходят самых разных цветов: тут важно и как долго их вымачивали, и какой был раствор — густой или жидкий, и окунали ли их один раз или несколько, вываривали их потом или нет.
13. Так не стоит удивляться тому, что всего две вещи — солнце и туча, т. е. отраженное тело и зеркало, — производят столько разных цветов: их ровно столько, сколько здесь может быть степеней усиления и ослабления света; ведь и свет бывает разного цвета — когда, например, огонь горит во всю мощь и когда он затухает и слабеет.
14. Бывают вещи, о которых мы не можем сказать ничего определенного и вынуждены довольствоваться самыми общими догадками; там наше исследование поневоле будет туманным и смутным. Но тут-то совершенно очевидно, что у радуги две причины — солнце и туча; очевидно уже из того, что ее никогда не бывает ни при совершенно ясном небе, ни при затянутом тучами так, чтобы солнца не было видно; а раз при отсутствии одного из двух ее не бывает, значит, она происходит из обоих.
Глава IV
1. С неменьшей очевидностью доказывается и то, что изображение радуги получается путем зеркального отражения, ибо оно никогда не возникает при противостоянии, то есть когда отражение (радуга) стоит с одной стороны, а отражающее (туча) — с противоположной. Геометры приводят на этот счет доводы, которые не убеждают, а прямо вынуждают всякого с ними согласиться, так что не может оставаться никакого сомнения, что радуга есть отражение солнца — плохо воспроизведенное из-за неправильной формы зеркала. А мы попробуем привести здесь другие доказательства, которые читатель сможет понять без специальной подготовки.
2. Одним из доказательств, что радуга рождается именно так, я считаю то, что она рождается чрезвычайно быстро. В самом деле, такое огромное и разнообразное тело в мгновение ока возникает на небе и так же быстро исчезает. Но ничто не получается с такой быстротой, как отражение в зеркале, ибо зеркало ничего не производит, а только показывает.
3. Артемидор Паросский[255] добавляет еще, какого именно рода должно быть облако, чтобы получалось такое отражение солнца. Если вы возьмете, объясняет он, вогнутое зеркало, которое можно получить, разрезав стеклянный шар, и встанете по ту сторону центра, то всех, кто будет стоять рядом с вами, вы увидите в зеркале перевернутыми и ближе к вам, чем к зеркалу.
4. То же самое, по его словам, происходит, когда мы смотрим со стороны на круглую и полую тучу: отражение в ней солнца отделяется от тучи, приближается к нам и поворачивается в нашу сторону. Огненный цвет у этого отражения — от солнца, синий — от тучи, а все остальные — от смешения двух первых.
Глава V
1. Против всего этого высказываются следующие возражения.
Во-первых, существуют два мнения о зеркалах. Одни полагают, что мы видим в них наши подобия, то есть очертания наших тел, которые самими этими телами испускаются, а затем от них отделяются; другие считают, что мы смотрим не на образы в зеркале, а на сами тела, так как взгляд наших глаз поворачивается зеркалом назад и отражается на нас же[256]. Впрочем, каким бы образом мы ни видели то, что мы там видим, к делу это не имеет ни малейшего отношения.
2. Ибо, каково бы ни было изображение, зеркало должно воспроизводить его похожим. Но разве есть вещи более непохожие, чем солнце и радуга — и по очертаниям, и по цвету, и по величине? Радуга куда больше, и в сияющей своей части куда краснее солнца, а остальные ее цвета и вовсе другие.
3. — Далее, — возразят мне, — если ты заявляешь, что зеркалом может быть просто воздух, изволь показать мне в воздухе такую же гладкую и ровную поверхность, такой же блеск, как у зеркала. Да и облака не имеют с зеркалом ни малейшего сходства: сколько раз нам случалось проходить сквозь них, а себя мы в них не увидели; все, кто взбирается на вершины гор, перестают видеть и само окутывающее их облако, и своих отражений при этом не видят.
4. — Или вот, ты утверждаешь, будто отдельные капли — это отдельные зеркала. Ладно, пусть так, но я не согласен, что облако состоит из капель. В нем есть нечто, из чего могут получиться капли, но не сами капли. В облаках нет воды, а есть только вещество, из которого может получиться вода.
5. — Впрочем, пусть даже и это будет по-твоему, пусть будут в облаках бесчисленные капли, пусть они отражают солнце; но ведь отражение будет не одно, а в каждой — свое. Возьми и соедини несколько зеркал — они не сольются в одно изображение, но каждое будет заключать в себе свой образ видимой вещи. Бывают зеркала, составленные из множества очень мелких кусочков: покажи такому зеркалу одного человека — в нем появится толпа народу: каждая частичка даст свое изображение. Будучи соединены и вплотную прижаты друг к другу, они тем не менее дают каждая отдельное изображение, делая толпу из одного человека, причем не смешивают их все в одну кучу, но показывают каждое отдельно, как бы разнимая их и разводя в стороны. А ведь радуга очерчена единой линией, как изображение чего-то единого и целого.
6. — Что из того, — продолжит возражения наш противник, — что брызжущая из прорванной трубы или взбитая вверх веслом вода бывает окрашена в те же цвета, какие видны в радуге. Это-то правильно, но причина тут совсем не та, какую ты хочешь усмотреть — будто бы каждая капля воспринимает изображение солнца. Ведь капли эти падают быстрее, чем могут схватить какое бы то ни было изображение. Чтобы поймать его, они должны бы стоять. К тому же они несут не изображение, а цвет. Кроме того, как говорит в красноречивейших стихах Цезарь Нерон[257], «шейка блестит Киферейской голубки при каждом движеньи», и у павлинов затылок сияет и переливается всеми цветами, стоит ему повернуться. Так что же, нам придется назвать зеркалами и перья, окрашивающиеся при каждом повороте в новый цвет?
7. Тучи ничуть не больше похожи на зеркала по своей природе, чем птицы, которых я привел в пример, или чем хамелеоны и все прочие животные, меняющие цвет — сами ли собою, когда воспламенится в них гнев или вожделение и прилив жидкости изменяет кожу, или в зависимости от освещения, принимая разную окраску, когда свет падает на них прямо или сбоку.
8. — Так что же общего между тучами и зеркалами? Одни прозрачны, другие не пропускают света; эти редки, а те — тверды и плотны; те — целиком из одного вещества, эти — случайно составились из самых разных веществ и потому непрочны и не держатся долго?
Кроме того, на восходе солнца мы видим, как часть неба краснеет, видим иногда огнецветные облака; что же мешает нам заключить, что как в этот один цвет они могли окраситься на восходе солнца, так могут принять и много цветов, хотя и не имеют никаких зеркальных свойств?
9. — Вот ты еще приводил такой аргумент, — добавит мой оппонент, — что, дескать, радуга всегда возникает напротив солнца, и зеркало тоже отражает предмет, прямо против него находящийся. Этот твой аргумент, — скажет он, — может послужить на пользу нам обоим: ибо как зеркало следует поместить напротив предмета, чтобы получить его отражение, точно так же и солнце должно стоять относительно туч, чтобы они могли окраситься. Ибо оно окрашивает их не из всякого положения — для этого дела тоже нужен удобный угол падения лучей.
10. Так говорят те, кто хочет, чтобы все считали, будто облака окрашиваются.
Посидоний[258] и другие, полагающие, что видимая нами радуга происходит путем зеркального отражения, отвечают: «Если бы в радуге был какой-нибудь цвет, то он там и сохранялся бы; и был бы виден тем отчетливее, чем ближе мы подойдем; но ведь в действительности образ радуги, издали столь ясный, пропадает, когда подойдешь близко».
11. С этим аргументом я, пожалуй, не соглашусь, хотя само отстаиваемое Посидонием мнение разделяю. Почему? Скажу: бывает, что туча окрашивается так, что цвет ее виден не отовсюду. Ведь и сама она не отовсюду видна; так, никто не может видеть облако, в котором сам находится. Что же удивительного, если не видит ее цвета тот, кто и ее саму разглядеть не может? Но она, хоть и невидимая, существует; так же и цвет. Поэтому то, что цвет по мере приближения перестает быть видим, еще не доказывает, что это ложный цвет. Такое ведь случается и с самими тучами, но они не станут ложными тучами оттого, что иногда перестают быть видимы.
12. Кроме того, когда говорят, что туча окрашивается солнцем, это не значит, что речь идет о таком же внедрении краски, как в какое-нибудь твердое, прочное и неизменное тело; она окрашивается как все текучее и непостоянное, лишь ненадолго принимая данный вид. А бывают и сами краски такие, что свойства их можно различить лишь с определенного расстояния: так, тирский пурпур, чтобы он заиграл всем своим блеском, следует держать тем выше, чем он лучше и насыщеннее. Из того, что эти ткани, в особенности лучшие из них, не являют своего цвета, будучи развернуты как попало, еще не следует, что они цвета не имеют.
13. В полном согласии с Посидонием я тоже считаю, что радуга возникает благодаря туче, имеющей форму вогнутого круглого зеркала — сегмента сферы. Это невозможно доказать без помощи геометров; они же, опираясь на не оставляющие ни малейших сомнений доказательства, учат, что радуга есть изображение солнца, хотя и непохожее.
Да ведь и зеркала не все отражают истинную правду.
14. Есть такие, что перепугаешься, в них заглянув, так уродливо исказят они твое лицо, сохранив сходство, но обезобразив ужасно; есть такие, что сам себе понравишься и возгордишься своей могучестью: настолько раздадутся у тебя плечи, и все тело увеличится, превосходя человеческие размеры; бывает, что зеркало отражает всякое лицо только справа, бывает, что только слева; бывают и такие, что перекручивают его и переворачивают. Так что же удивляться, если и в туче именно такого рода зеркало, отчего солнечное отражение получается искаженным?
Глава VI
1. Среди прочих пусть послужит аргументом в нашу пользу и то, что радуга никогда не бывает больше полукруга, и тем меньше, чем выше солнце… [как говорит Вергилий… предвещает[259]]…
2. Но почему радуга настолько больше солнца, если она его отражение? А потому что у одних зеркал природа такая, что они увеличивают то, что отражают, иногда до чудовищной величины, а у других такая, что уменьшают.
3. Ты мне лучше вот что скажи: зачем бы радуге быть круглой, если она не отражение шара? Ты, может, и сумеешь объяснить, откуда у нее разные цвета; но откуда у нее такая фигура, не объяснишь, если не укажешь образец, у которого она заимствует эту форму. А таким образцом может быть только солнце; ты ведь тоже признаешь, что оно дает радуге цвет; выходит, и форму должно давать оно же. Ведь мы с тобой в конце концов согласны в том, что цвета, в которые окрашивается часть неба, от солнца; не согласны мы только в одном: ты говоришь, что этот цвет там есть, а я — что только кажется. Но есть ли он или кажется, так или иначе он от солнца.
Зато ты не сможешь объяснить, почему этот свет пропадает внезапно, тогда как всякое светящееся тело гаснет постепенно.
4. Мгновенное его появление и исчезновение говорит в мою пользу. Ибо это отличительное свойство зеркала: то, что появляется в нем, не по частям выстраивается, а возникает все вдруг. И пропадает в нем всякое изображение настолько же быстро, как и складывается; ибо для того чтобы создать или устранить его, требуется только показать или отодвинуть отражаемый предмет. Следовательно, в этом облаке нет никакой особой субстанции, и видимый нами цвет — не тело, а обман зрения, одно подобие без уподобляемого предмета. Хочешь убедиться, что это так, а не иначе? Закрой солнце, и исчезнет радуга. Помести напротив солнца облако другой формы, и не будет того многообразия цветов.
5. — Однако радуга значительно больше солнца.
— Я уже сказал только что: бывают зеркала, увеличивающие всякое тело, которое отражают. Добавлю к этому, что если глядеть сквозь воду, то все кажется гораздо крупнее. Самые мелкие и неясные буквы можно увидеть крупно и отчетливо сквозь стеклянный шар, наполненный водой. Плоды кажутся красивее, чем на самом деле, если плавают в стеклянном сосуде. Звезды кажутся больше, если смотреть на них сквозь облака, ибо взгляд наш скользит во влаге и не может точно попасть туда, куда хочет. Убедись в этом своими глазами: наполни кубок водой и брось в него кольцо; и хотя оно будет лежать на самом дне, изображение его получится на поверхности воды.
6. Сквозь воду все кажется гораздо крупнее, чем на самом деле; так что же удивляться, что отражение получается больше солнца, если мы видим его во влажном облаке? Здесь совпадают сразу две причины: во-первых, в облаке есть нечто подобное стеклу, что пропускает свет; во-вторых, есть что-то и от воды, хотя самой воды еще и нет, то есть в нем содержится водная природа, в которую ему предстоит превратиться из своей, облачной, природы.
Глава VII
1. Тут снова заговорит мой оппонент: «Раз уж ты упомянул о стекле, я приведу еще один аргумент против тебя, который относится как раз к стеклу. Бывают такие стеклянные палочки — на них вырезают бороздки или, наоборот, делают множество выступов, так что палочка получается наподобие шишковатой дубинки. Если на такую палочку попадает солнце, она воспроизводит тот же цвет, что бывает обычно в радуге, из чего можно понять, что радуга — не изображение солнца, а подражание его цвету, происходящее из отражения».
2. Отвечу. Во-первых, многое в этом самом аргументе говорит в мою пользу: и то, что происходит это, очевидно, под воздействием солнца; и то, что для этого необходимо, как явствует из описания, нечто гладкое и подобное зеркалу, чтобы отражать солнечный свет; очевидно также и то, что здесь возникает не настоящий цвет, а лишь обманчивый образ цвета, такой же, какой приобретает и являет нам голубиная шейка, когда поворачивается, как я уже говорил. Но именно это происходит и в зеркале: оно не окрашивается в какой-то цвет — в нем появляется некое обманчивое подражание чужому цвету.
3. Таким образом, мне осталось разрешить только одно затруднение, именно то, что в этой палочке не бывает видно изображения солнца. Но она просто не способна отобразить его как следует, хотя и пытается сделать это, поскольку материя ее гладкая и вполне для того приспособленная; пытается, но не может, поскольку форма у нее неправильная. Если бы ее изготовили подходящим образом, она воспроизводила бы ровно столько солнц, сколько у нее граней. Но так как все грани разные и недостаточно блестящие для настоящего зеркала, то в каждой из них начинает получаться изображение, но не получается до конца; к тому же из-за того, что направленные в разные стороны плоскости расположены так близко, отражения перемешиваются и сливаются в один цвет.
Глава VIII
1. — Но почему же радуга не описывает полный круг, а представляет всегда только его половину[260] — ведь она бывает и чрезвычайно длинная и достаточно изогнутая?
Некоторые думают на этот счет следующее. Поскольку солнце находится значительно выше туч, оно освещает только верхнюю их часть, и потому нижняя не окрашивается солнечным светом; и так как солнце всегда обращено к ним только одной стороной, то они и отражают только одну его часть, которая никогда не бывает больше половины.
2. Такой аргумент не очень убедителен. Почему? Потому что солнце, хотя и сверху, но просвечивает все облако насквозь; а значит, все и окрашивает. Разве не так? Обычно его лучи пробивают всякое облако, любой густоты.
Кроме того, здесь есть противоречие. Ибо если солнце, находясь сверху, примешивается только к верхней части облаков, радуга никогда не опустится до земли; на самом же деле она спускается до самого низу.
3. Затем, радуга бывает только напротив солнца. Значит, не имеет никакого значения, вверху находится солнце или внизу — оно все равно освещает весь обращенный к нему бок тучи. Ну и наконец, радуга бывает иногда и на закате. Тогда-то уж солнце, склонившееся к самой земле, освещает тучи несомненно снизу; но ведь и тогда получается только половина круга, хотя солнечный свет идет к облакам из низких и грязных мест.
4. Наши[261], кто стремится доказать, что свет отражается в облаке, как в зеркале, делают это облако полым и имеющим форму отсеченной части шара, которая не может отразить целый круг, будучи сама только частью круга. К тезису я присоединяюсь, а с аргументом не согласен. Ибо в вогнутом зеркале получается полное изображение помещенного напротив него шара, так что ничто не мешает нам увидеть в полушарии целый шар.
5. Кроме того, мы только недавно говорили о похожих на радугу кругах, которые видны иногда вокруг солнца или луны: так почему же в них замыкается полный круг, а в радуге никогда? И кроме того, почему всегда только вогнутые облака отражают солнце, и никогда — ровные или выпуклые?
6. Аристотель говорит, что после осеннего равноденствия радуга бывает в любой час дня, летом же — только в начале или на исходе дня. Причина этого очевидна. Во-первых, в середине дня солнце самое жаркое и намного сильнее облаков, которые не могут отразить его, так как сами рассыпаются под его натиском. Зато утром или на закате сил у него уже меньше; поэтому облака могут выдержать и отразить удары его лучей.
7. Во-вторых, поскольку солнце создает радугу только в тех облаках, которые в данный момент находятся прямо напротив него, и поскольку по наступлении коротких дней оно всегда стоит ниже зенита, постольку в любое время дня, даже когда оно стоит выше всего, могут найтись облака напротив него, в которые его лучи будут ударять прямо. А летом оно движется прямо над нашей головой, так что в полдень, находясь в зените, смотрит на землю под слишком прямым углом, чтобы оказаться напротив какого-нибудь облака — они все под ним.
8. Как говорит наш Вергилий, «пьет огромная радуга воду»[262], предвещая дождь. Однако предвестия она может нести разные — в зависимости от того, где появится. Если она поднялась с юга, то принесет с собой страшные потоки воды; ибо это значит, что тучи настолько мощны, что даже самое сильное солнце их не одолело. Если радуга засияет на западе — будет роса и маленький дождик. Если она встала на востоке или где-нибудь поблизости — обещает ясную погоду.
Глава IX
1. Теперь нужно сказать несколько слов о так называемых «жезлах»[263]; они бывают раскрашены не менее ярко и пестро, чем радуга, и мы также считаем их обычно предвестниками дождя. Много говорить нам о них не придется, и трудностей здесь не будет, ибо жезлы — это несовершенные радуги. В самом деле, на вид они такие же пестрые, только не изогнуты, а вытянуты по прямой.
2. Бывают они совсем почти рядом с солнцем в мокром и уже начинающем рассеиваться облаке. Цвет у них такой же, как и у радуги, только очертания другие, поскольку другие очертания у облака, в котором они возникают.
Глава X
1. То же разнообразие цветов есть и в венцах. Различаются многоцветные небесные явления тем, что венцы возникают везде, где есть какое-нибудь светило, радуга — только напротив солнца, жезлы — только рядом с солнцем. Я могу, впрочем, различить их и так: если ты разделишь венец, получится радуга, если распрямишь — жезл. Все они окрашены в разные цвета — от синего до желтого. Жезлы появляются только возле солнца; радуги бывают солнечные и лунные; венцы же бывают у всех светил.
Глава XI
1. Можно наблюдать и другой вид жезлов: когда тонкие, вытянутые и отстоящие друг от друга солнечные лучи устремляются вниз сквозь тесные отверстия в облаках. Они тоже предвещают дожди.
2. Но как быть мне дальше? Каким именем назвать мне это? Образами солнца? Историки зовут их просто солнцами и рассказывают потомкам, как появлялись сразу по два и по три солнца[264]. Греки называют их «парелиями», то ли потому, что они видны всегда рядом с солнцем, то ли потому, что они достаточно на него похожи[265]. Впрочем, они уподобляются солнцу не во всем, а только в размерах и очертаниях: в остальном же непохожи — тусклые и бессильные, они нисколько не греют. Какое же дать им имя? Не поступить ли мне, как Вергилий: он посомневался насчет имени [винограда] и, в конце концов, дал то самое, насчет которого усомнился:
Так почему бы мне не назвать их парелиями?
3. Это изображения солнца, получающиеся, как в зеркале, в плотном и находящемся рядом с солнцем облаке. Некоторые определяют парелий так: круглое светящееся облако, похожее на солнце. Оно следует за солнцем и никогда не отстает от него, оставаясь все на том же расстоянии, на каком было при своем появлении. Кто из нас удивился бы, увидав отражение солнца в ручье или тихом озере? — Никто, я думаю. Но с таким же успехом, как здесь у нас, так и там в вышине может появляться его отражение, было бы только подходящее для этого вещество.
Глава XII
1. Когда мы хотим наблюдать солнечное затмение, мы ставим на землю тазы и наполняем их маслом или смолой, так как жирная жидкость не так легко поддается возмущению и потому хранит возникшее в ней изображение; а возникать изображения, как известно, могут не иначе, как в жидком и неподвижном веществе. Тут мы и наблюдаем обычно, как луна становится между нами и солнцем и, хоть оно во много раз больше, скрывает его своим телом — иногда только частично, если заденет солнце сбоку, иногда целиком. Последний случай называется полным затмением, при нем и солнце перестает светить, и звезды показываются, а бывает оно тогда, когда оба шара стоят на одной прямой линии.
2. Так вот, раз мы можем видеть отражение обоих светил на земле, то можем и в воздухе, если только имеется такой сжатый и ясный воздух, чтобы в нем могло получиться изображение солнца. В облаках оно тоже получается, но не сохраняется, если они подвижны, или разрежены, или грязны. Ибо подвижные облака рассеивают его, редкие — не удерживают, пропускают насквозь; мутные и грязные не отражают, подобно тому как и у нас покрытая пятнами поверхность не дает отражения.
Глава XIII
1. По той же самой причине часто бывают видны два парелия сразу. В самом деле, что мешает, чтобы их было столько, сколько оказалось облаков, подходящих для воспроизведения солнечного отражения? Некоторые, правда, полагают, что всякий раз, как появляются два подобных изображения, следует одно из них считать отражением солнца, а другое — отражением отражения. Ведь и у нас тоже, если расположить множество зеркал так, чтобы одно могло заглядывать в другое, во всех окажется отражение, причем в первом это будет отражение истинного предмета, а во всех остальных — отражения отражений. Ибо зеркалу решительно все равно, что показывать: что видит, то и отражает. Точно так и там, в вышине: если какому-нибудь случаю угодно будет расположить облака так, чтобы одно заглядывало в другое, то одно будет воспроизводить изображение солнца, а другое изображение изображения.
2. Но чтобы сыграть роль солнца, находящиеся рядом с солнцем облака должны быть плотны, гладки, блестящи и ровны. Все такого рода подобия солнца бывают белые и похожие на лунный диск, ведь так же, как и луна, они светят, отражая косо падающие на них солнечные лучи. Они не располагаются под солнцем или слишком далеко от него, ибо тогда не отражали бы лучей и не воспроизводили бы изображения; так же ведь и у нас — если зеркало от нас слишком далеко, наш облик в нем не отражается, ибо силы зрения нашего не хватает, чтобы проделать путь туда и обратно.
3. Эти солнца, я воспользуюсь здесь словами историков, тоже предвещают дожди, особенно если покажутся с южной стороны, откуда идут самые тяжелые облака. Если же подобные изображения появятся по обе стороны от солнца, значит, если верить Арату[267], собирается гроза.
Глава XIV
1. Пора перечислить и другие виды небесных огней, которые очертаниями своими бывают чрезвычайно разнообразны. То пронесется падающая звезда, то разольется сияние — иногда неподвижно застывшее в одном месте неба, иногда вертящееся. Их наблюдают множество видов. Бывает то, что греки называют «ямы», когда нечто вроде венца опоясывает огромный провал в небе, похожий на вырытую в нем круглую шахту; бывают так называемые «пифии», или «бочонки», когда большая круглая масса огня, похожая на бочонок, несется по небу или горит на одном месте; бывают «хасмы» — «зияния»[268], когда какой-то участок неба как бы расседается и в разверзшейся пропасти виднеется пламя.
2. Цвета у всех этих огней также бывают самые разнообразные: бывают огни ослепительно красные, бывают цвета бледного и потухающего пламени, бывают как белый дневной свет, бывают мерцающие, а бывают горящие ровным желтым светом без языков и без лучей. Наконец, бывает, что мы видим, как
длинный тянется след за огнями, белея на небе[269].
3. Эти огни похожи на звезды; они выскакивают внезапно и пролетают по небу с невероятной скоростью, отчего кажется, будто за ними тянется длинный огненный след: ибо глаз наш не в силах уследить за их перемещением и воспринимает как огненную нить весь пройденный ими путь. Скорость их движения столь велика, что, не будучи в состоянии различить его части, мы воспринимаем его в целом; мы замечаем скорее, где уже пронеслась звезда, а не где она сейчас проносится.
4. Таким образом, весь пройденный ею путь обозначается как бы непрерывным огнем, ибо медлительный взор наш не поспевает за передвижениями летящей звезды, отмечая одновременно, откуда она появилась и где скрылась из виду. То же самое происходит и с молнией. Огонь ее кажется нам вытянутым в длину, оттого что быстро пересекает все видимое пространство и глазам нашим представляется длиной в весь пройденный им путь. Но тело молнии никак не может быть такой же длины, как все пройденное ею расстояние: ибо столь длинные и тонкие тела не могут произвести достаточно сильного натиска.
5. Но каким же образом все эти огни возникают и приводятся в движение? — Огонь, зажженный трением воздуха, разгоняется до головокружительной скорости ветром. Однако не всегда это получается от ветра или трения; иногда они обязаны своим рождением благоприятному состоянию воздуха. Дело в том, что там, наверху, скапливается иногда много сухих, горячих, земляных частиц, среди которых занимается огонь и спускается постепенно все ниже в поисках пищи для себя и по этой же самой причине быстро перемещается.
6. — Но отчего же они разного цвета?
— А это зависит от того, что именно горит и сколько, и с какой силой действует то, что его зажгло. Предвещают же подобные явления ветер, и именно с той стороны, откуда появились падающие огни.
Глава XV
1. Ты спросишь, каким образом возникают свечения, которые греки называют σῆλαι[270].
— Говорят, от самых разных причин. Могут возникать они и от силы ветров, и от жара верхнего неба: широко разлитый там огонь перекидывается иногда на нижние области, если там окажется горючее; и звезды своим движением могут высечь огонь, который перекинется ниже. Что еще? А разве горящий воздух не может выбросить искры или языки пламени далеко вверх, до самого эфира, отчего там получится свечение, или сияние, или что-то вроде летучей звезды?
2. Некоторые из этих свечений летят стремглав, как падающие звезды, некоторые стоят на одном месте и светятся так ярко, что разгоняют темноту и ночь превращают в день, пока не иссякнут у их огня запасы пищи; тогда они сначала тускнеют, затем, как пламя угасающего костра, становятся постепенно все меньше и меньше и сходят на нет. Некоторые из них появляются среди облаков, некоторые — над облаками, когда сгустившийся воздух вытолкнет вверх до самых звезд огонь, долго разгоравшийся над землею.
3. Есть среди них и такие, которые не длятся нисколько, но мгновенно проносятся или же гаснут сразу, как только вспыхнули. Их называют зарницами (fulgures); они кратки и недолговечны и, падая, нередко причиняют вред и разрушения, как и молнии. Пораженные ими предметы или существа мы называем «siderata», то есть «получившие удар от светил», но не от молнии (fulmine), а греки зовут их ἀστερόπληκτα.
4. Некоторые из этих свечений, более продолжительные и сильные, иногда следующие движению неба, а иногда движущиеся собственным курсом, наши считают кометами[271]; о них мы уже рассказали выше. К ним относятся «погонии» — «бородатые», «кипариссии», «лампады» и все прочие, рассыпающие сзади себя пышный огненный хвост[272]. Не знаю, стоит ли к ним же относить редко наблюдаемые «столбы» и «бочки»: для их образования нужно скопление великого множества огненных частиц — ведь их огромные шары по размерам значительно превосходят даже восходящее солнце.
5. Сюда же, пожалуй, можно отнести и то, о чем мы часто читаем у историков: видели, как пылало небо — иногда так высоко, что пламя казалось разлитым прямо меж звездами, иногда так низко, что создавалось впечатление далекого пожара. При Цезаре Тиберии когорты ринулись на помощь Остийской колонии, думая, что она охвачена пожаром; действительно, большую часть ночи небо там пламенело неярким, густым и дымным огнем.
6. Что до всех только что перечисленных огненных явлений, то они, вне всякого сомнения, действительно горят тем огнем, который мы видим; в них есть определенная субстанция. Что же до рассмотренных нами раньше — я имею в виду радугу и венцы, — то тут возникает вопрос: существуют ли они благодаря ошибке и обману зрения, или и в них тоже явление соответствует чему-то истинному?
7. Наше мнение на этот счет таково: ни за радугой, ни за венцом не стоит никакое определенное тело; это, по нашему суждению, не что иное, как ложный зеркальный образ, обманом создающий подобие чужого тела. Ибо в зеркале нет того, что оно показывает. В противном случае образы в нем не возникали и не пропадали бы так мгновенно, стираемые другими, не сменялись бы молниеносно бесчисленные отражения — не успели появиться, как уже исчезли.
8. Так что же выходит? — А то, что это призраки и пустое подражание настоящим телам, да и те часто искажаются до неузнаваемости, если зеркало устроено подходящим образом. Я ведь уже говорил, что бывают зеркала, искривляющие лица всех, кто в них заглянет; а бывают увеличивающие до бесконечности, так что тела наши теряют в них всякие человеческие пропорции.
Глава XVI
1. Тут я хочу сделать небольшое отступление и рассказать тебе одну историю, чтобы ты увидел, до чего может дойти человеческая похоть в своей изобретательности, когда речь идет о возбуждении и поддержании ее накала, как не останавливается она ни перед каким средством, способным распалить и подогреть ее страсти. Был такой Гостий Квадра, непристойный до того, что был выведен даже на сцене. Богатый, жадный, раб своего стомиллионного состояния. Когда его зарезали его собственные рабы, божественный Август не счел его достойным даже обычного возмездия: еще немного, и он объявил бы во всеуслышание, что зарезали Квадру совершенно справедливо.
2. Этому человеку недостаточно было осквернять себя с одним полом — он равно жаждал и мужчин и женщин и завел у себя те самые зеркала, о которых я только что говорил: изображение в них чудовищно увеличивается, так что палец выглядит гораздо толще и длиннее руки. Зеркала эти он расставил так, чтобы, отдаваясь мужчине, видеть каждое движение находящегося сзади жеребца и наслаждаться искаженными размерами его члена так, как если бы они и вправду были такими.
3. А ведь он сам ходил по всем баням, выбирая себе мужчин, и сам измерял то, что ему было нужно; и тем не менее услаждал свою ненасытную похоть еще и фальшивыми образами.
Вот и говори теперь, что зеркало было изобретено ради красоты и чистоты! Мерзко описывать, что говорило и делало это чудовище, которому следовало бы быть растерзану собственными зубами, когда он бывал окружен со всех сторон зеркалами, чтобы самому быть зрителем собственных распутств, чтобы не только ртом, но и глазами участвовать во всех тех бесчинствах, которые, даже оставаясь скрыты в полнейшей тайне, отягощают совесть, в совершении которых никто никогда не решается признаться даже самому себе.
4. Ведь, ей-богу, преступления боятся собственного своего вида. Люди потерянные и погибшие, привычные уже к любому бесчестию, — и те сохраняют еще самую чувствительную стыдливость — стыдливость глаз. Этот же — как будто мало ему было на деле предаваться неслыханному и неведомому разврату — еще и глаза свои призывал сюда; более того, ему мало было видеть свои преступления в настоящем их размере — множа вокруг зеркала, он увеличивал и множил в них свои мерзости. К тому же он ведь не мог с достаточной отчетливостью наблюдать все происходящее, когда голова его была стиснута глубоко между чужими ляжками — вот он и представлял сам себе свои занятия в зеркальном отображении.
5. Так он рассматривал сладострастные проделки собственного своего рта; рассматривал, как кроют его одновременно во все возможные дырки нанятые им мужчины; иногда, распростертый между мужчиной и женщиной, отдаваясь всем телом, рассматривал недозволенное; да оставалось ли вообще хоть что-нибудь, что этот грязный человек делал бы в темноте? Он не только не стеснялся дневного света, он сам себе устраивал зрелища из собственных чудовищных соитий, сам себе при этом аплодировал, да что там — он, наверное, согласился бы и художнику позировать, чтобы его нарисовали в этом положении.
6. И у проституток остается какая-никакая скромность, и их тела, хоть и отданные на общественную забаву, норовят скрыть эту мало радостную отдачу за какой-нибудь занавесочкой; публичный дом — и тот до какой-то степени стыдлив. А это чудовище из собственного беспутства устраивало себе спектакль, выставляя перед самим собой такие гадости, для сокрытия которых ни одна ночь не была бы достаточно темной.
7. «Я, дескать, отдаюсь одновременно мужчине и женщине, что не мешает мне, впрочем, тут же исполнять и роль мужчины, бесчестя кого-нибудь незанятой в данный момент частью моего тела; таким образом, все члены мои заняты развратом; так пусть же и глаза мои примут участие в распутстве — и как свидетели, и как исполнители. Пусть все, что скрыто от глаз самим положением нашего тела, станет доступным обозрению благодаря ухищрениям искусства, чтобы никто не мог сказать мне, что я не ведаю, что творю.
8. Мало чем помогла нам природа; скудные средства отпустила она на удовлетворение человеческой похоти; у зверей соитие обустроено и то лучше; но ничего — я уж найду, как обмануть мою болезненную страсть и как насытить ее. Зачем называть это беспутством, если я грешу по законам природы? Что в том, что я расставляю кругом зеркала, увеличивающие до невероятных размеров отражения?
9. Было бы можно, так я бы увеличил размеры не отражения, а самой вещи; ну а нельзя — утешусь хоть иллюзией. Пускай похоть моя видит больше, чем может вместить, пускай сама удивится своей бездонности!» — Позорные дела! Убили его, наверное, быстро, так что он не успел ничего разглядеть; а надо было бы зарезать его не спеша и перед зеркалом.
Глава XVII
1. Конечно, в наши дни станут скорее смеяться над философами, рассуждающими о природе зеркала; исследующими, как это наше лицо возвращается назад, да еще повернувшись к нам навстречу; в чем состоял замысел природы вещей, что она, создав подлинные тела, захотела сделать видимыми и их изображения?
2. Какую она преследовала цель, изготовляя вещество, способное схватывать образы?[273] Уж наверное не ту, чтобы мужчины выщипывали перед зеркалом бороду и белили лицо — никогда и нигде не тратила она своих усилий ради того, чтобы потакать бесполезной роскоши — нет, причины здесь иные.
Во-первых, мы никогда не узнали бы, как выглядит солнце, ибо слабые наши глаза не в силах смотреть на него прямо, если бы природа не показала нам его, ослабив его свет. В самом деле, мы хоть и можем разглядеть солнце на восходе или закате, все же остались бы в полном неведении относительно его собственного истинного облика — не багряного, а сияющего ослепительно белым светом, — если бы не случалось нам увидеть его смягченным и не так слепящим взор в какой-нибудь жидкости.
3. Во-вторых, мы никогда не увидали бы встречи двух светил, когда затмевается дневной свет, и не смогли бы узнать, в чем там дело, если бы не могли свободно наблюдать на земле отражения солнца и луны.
4. Зеркала изобретены для того, чтобы человек познавал самого себя и делал бы из этого полезные выводы — прежде всего, составил бы правильное понятие о самом себе и, кроме того, кое в чем получал бы мудрый совет: красавец — избегать бесчестия; урод — пусть знает, что добродетелями он должен искупать телесные недостатки; юноше сам цветущий его возраст должен напоминать, что это пора учения и мужественного дерзания; старец поймет, что пора ему отложить неподобающие сединам попечения и потихоньку начать думать о смерти. Вот для чего природа вещей дала нам возможность видеть самих себя.
5. Прозрачный источник, гладкий камень покажут всякому его отражение:
Как, по-твоему, была устроена жизнь людей, причесывавшихся перед таким зеркалом? Их поколение было проще нашего; довольствуясь тем, что посылал им случай, они еще не научились извращать на службу своим порокам то, что было даровано им во благо, еще не грабили природу, отбирая ее изобретения для удовлетворения своей похоти и жажды роскоши.
6. Поначалу лишь случай показывал каждому его лицо. Позднее, когда врожденная любовь к самим себе разрослась и сделала созерцание собственного облика сладостным для смертных, они все чаще стали засматриваться на те предметы, в которых им случалось прежде увидеть свое отражение. Когда же народ испортился и полез даже под землю, чтобы выкопать оттуда то, что следовало бы зарыть поглубже, в ход вначале пошло железо — в общем, и откапывали бы его себе на здоровье, если бы ограничились только им, — а за ним и множество других ископаемых зол; среди них попадались гладкие, и люди, занятые совсем другим, увидели в них свое отражение — кто в кубке, кто в меди, обработанной для разных других целей; и вот уже изготовлен первый диск специально для этого, правда, еще не из блестящего серебра, а из материала хрупкого и дешевого.
7. Древние мужи, жизнь которых была еще груба, смыли под речной струей накопленную в трудах грязь, и вот они уже вполне нарядны, позаботились и о прическе, приведя в порядок волосы и расчесав окладистые бороды; но только каждый трудился над собой сам, а не обслуживал один другого. Даже женина рука не касалась длинных волос, какие отращивали мужи по обычаю тогдашнего времени; без всякого парикмахера они наводили себе красоту сами, встряхивая головой, точь-в-точь как благородные животные — гривой.
8. Позже, когда всем стала командовать роскошь, начали чеканить зеркала в полный человеческий рост из золота и серебра, затем принялись украшать их самоцветами; такое зеркальце обойдется женщине во много раз дороже, чем стоило в свое время целое приданое, дававшееся общиной дочерям небогатых полководцев. Не думаешь ли ты, что златочеканные зеркала водились у дочерей Сципиона[275], все приданое которых составляла суровая медь?
9. О счастливая бедность, породившая столько славных имен! Да будь у них такое зеркало, они с презрением отвергли бы это приданое. Но тогда каждый из тех, кому становился тестем сенат[276], понимал, что получает такое драгоценное приданое, вернуть которое было бы кощунством. А теперь девицам вольноотпущенников и на одно зеркальце не хватит того приданого, каким некогда с великодушной щедростью награждал римский народ.
10. Ибо праздная роскошь, привлекаемая к нам нашими богатствами, становилась с каждым днем все губительнее, пороки разрослись до размеров чудовищных, разнообразнейшие искусства до такой степени стерли всякие различия между вещами, что ни один мужчина уже не обходился без того, что всегда считалось предметом женского туалета, — ни один, не исключая воинов. Да разве для одного только туалета употребляется нынче зеркало? Ни один порок теперь не обходится без него.
Книга II (VI)[277]
О громах и молниях
Глава I
1. Исследование вселенной подразделяется на изучение небесных, надземных[278] и земных явлений[279]. Первая часть рассматривает природу светил, величину и форму объемлющих мир огней; пытается ответить на вопросы: твердое ли небо и образовано ли оно из плотного и сгущенного вещества, или же из тонкого и разреженного; движет ли оно вселенную, или само движимо чем-то; расположены ли светила ниже него или же укреплены неподвижно в его ткани; каким образом соблюдается чередование времен года; почему солнце движется в обратную небосводу сторону, и на прочие вопросы в том же роде.
2. Вторая часть занимается тем, что находится между небом и землей. Здесь облака, дожди, снега, ветры, землетрясения, молнии,
словом, все, что происходит в воздухе или производится им; мы называем эти явления надземными, поскольку область их выше земли — самой нижней области вселенной.
Третья часть исследует воды, зе́мли, растения — древесные и травянистые и всякую вообще, выражаясь юридическим языком, находящуюся на земле недвижимость.
3. Ты спросишь, чего ради я поместил землетрясения в тот же раздел, что и громы и молнии? — Дело вот в чем: землетрясение происходит от духа (spiritus)[281]; дух же есть приведенный в движение воздух, который проникает под землю, но рассматривать его следует тем не менее не под землей, а там, где ему положено быть по природе.
4. Я скажу тебе и более удивительную вещь: в разделе небесных явлений пойдет речь о земле. — Ты спросишь, почему? — А вот почему. Свойства самой земли мы разберем в своем месте, а именно: широкая ли она и неровная, с беспорядочно расположенными выступами, или же она напоминает по форме мяч, и все ее части пригнаны друг к другу, образуя шар; связывает ли она воды, или, наоборот, воды связывают ее; является ли она сама по себе живым существом, или же она — всего лишь неподвижное и бесчувственное тело, полное дыхания духа (spiritus), но только чужого. Всякий раз как перед нами будут вставать эти и другие подобные вопросы, мы будем относить их в нижний раздел — о земле.
5. Но если возникнет вопрос о расположении земли, о том, в какой части мира она находится, каково ее положение относительно светил и небосвода, он будет рассматриваться в небесном разделе и займет, если можно так выразиться, более высокое положение.
Глава II
1. Я уже сказал о частях, на которые разделяется все природное вещество; теперь следует сказать кое-что, общее для всех них. И прежде всего следует усвоить, что воздух относится к тем телам, которым свойственно единство.
2. Что это значит, и почему это такая необходимая предпосылка, ты сейчас поймешь. Начну с предметов более возвышенных: есть вещи непрерывные и вещи соединенные, причем соединение есть связь двух смежных тел, а непрерывность — связь частей, между которыми нет промежутков. Единство есть непрерывность без соединения.
3. Не подлежит сомнению — не правда ли? — что из всех тел, какие мы видим или осязаем, какие доступны ощущению или сами способны ощущать, одни — сложные: сплетены, собраны, сколочены или каким-либо иным образом составлены, как например, веревка, зерно, корабль, — другие же не сложные, как дерево или камень. А раз так, то придется тебе признать, что и среди тех тел, которые ускользают от ощущения, а схватываются только мыслью, есть такие, которые отличаются единством.
4. Заметь, между прочим, как я щажу твои уши. Я мог бы избавиться от затруднения, прибегнув к философскому языку и сказать: «объединенные» тела. Но я избавлю тебя от этого, а ты меня за это отблагодари. Как? — А вот как: когда я буду говорить «единое», вспоминай всякий раз, что я имею в виду не число, а природу тела, скрепляемого не внешней силой, а своим собственным единством[282]. К разряду таких тел относится и воздух.
Глава III
1. Мир объемлет все, о чем мы знаем или можем узнать. Это могут быть либо части мира, либо то, что, не сделавшись частью, осталось лишь его материей; ибо всякое естественное рождение (natura), как и всякое создание рук человеческих, требует материи.
2. Объясню, что это значит. Глаз, рука, кости, жилы — это наши части. Материя — соки поедаемой нами пищи, которые пойдут в эти части[283]. Наконец, кровь — это как бы часть нас, которая в то же самое время есть и материя: ведь она участвует в создании других частей, но при этом и сама входит в число тех, что составляют целое тело[284].
Глава IV
1. Так вот, воздух — часть мира, и притом необходимая. Ибо он связывает небо и землю, разделяет низшие и высшие области мира, одновременно соединяя их. Разделяет, поскольку находится между ними; соединяет, поскольку через его посредство они сообщаются друг с другом: он передает вверх то, что получает от земли, и он же вбирает лучи светил и изливает их вниз, на землю[285].
2. Как бы частью мира я называю такие вещи, как, например, животные и растения. Род животных и растений в целом есть часть вселенной, поскольку он входит в состав целого и поскольку без них нет вселенной. Но одно животное и одно дерево — это как бы часть, поскольку если оно и погибнет, то, из чего оно выпало, все же останется целым. Что же касается воздуха, то он, как я уже говорил, принадлежит и небу и земле, прирожден тому и другому. Но все, что составляет прирожденную часть чего-либо, обладает единством. Ибо ничто не рождается без единства.
Глава V
1. Земля есть и часть, и материя мира. Почему часть, я думаю, ты не станешь спрашивать: с таким же успехом ты можешь спросить, почему небо часть мира — без земли вселенная может существовать так же мало, как без неба. Но кроме того, земля и материя мира, потому что содержит все то, что составляет питание для всех животных, всех растений, всех звезд.
2. Земля поставляет пищу каждому в отдельности и самому миру, потребляющему так много[286]; земля дает вещества, поддерживающие столько светил, не знающих отдыха день и ночь и ненасытных как в труде, так и в пище. Все, что есть в природе, получает от земли ровно столько, сколько ему нужно для пропитания; а мир раз и навсегда припас столько, сколько ему могло понадобиться навеки. Поясню тебе великую вещь на примере крохотной: яйца содержат ровно столько жидкости, сколько нужно для окончательного формирования животного, которому предстоит вылупиться.
Глава VI
1. Воздух соединен с землей непрерывным образом и прилежит к ней так плотно, что тотчас оказывается везде, где бы земля ни отступила. Он есть часть целого мира; но, с другой стороны, он вбирает все, что испускает земля для пропитания небесных тел, и в этом отношении его следует считать материей, а не частью. Именно это свойство является причиной его непостоянства и волнений[287].
2. Некоторые[288] полагают, будто он составлен из отдельных частиц, как пыль, и в этом они совершенно не правы. Ибо никогда не может быть упругости в теле, если оно не едино по составу, ибо для того, чтобы оно напряглось, части его должны сообщаться между собой и объединить свои силы. Воздух, если предположить, что он разделяется на атомы, рассеян; а рассеянные тела не могут напрягаться.
3. Напряжение воздуха ты можешь наблюдать, глядя на надутые предметы, отражающие удар; глядя на тяжести, переносимые ветром на большие расстояния; слушая звуки — тихие или громкие в зависимости от того, насколько сжат воздух. А что такое звук, как не напряжение воздуха, сжимаемого ударами языка таким образом, что мы можем его слышать?[289]
4. Да что там — всякий бег, всякое движение — дело напрягшегося воздуха. Он сообщает силу жилам, быстроту бегущим; он, взметенный могучим порывом и закрутившись вихрем, увлекает за собой деревья и леса, поднимает ввысь и ломает целые здания; он возмущает море, само по себе ленивое и неподвижное.
5. А вот примеры помельче. Какое пение возможно без напряжения воздуха? А рога и трубы и те инструменты, которые под нажимом воды издают звук куда более мощный, чем способен произвести человеческий голос, — разве действие их основано не на напряжении воздуха? Вспомни о тех невидимках, что проявляют огромную силу совершенно неприметно: крохотные семена, ничтожные настолько, что помещаются меж двумя плотно соединенными камнями, оказываются достаточно сильны, чтобы опрокидывать громадные валуны и разрушать памятники; мельчайшие и тончайшие корни раскалывают утесы и скалы. А что это такое, как не напряжение воздуха, без которого ничто не имеет силы и против которого все бессильно?
6. Что в воздухе есть единство, можно усмотреть и из того, например, что наши тела не разваливаются. Что держит их, как не воздух (spiritus)? Чем, как не им, приводится в движение наша душа?[290] А что заставляет его двигаться, как не напряжение? Но откуда же взяться напряжению, если нет единства? И откуда взяться единству, если оно не было изначально присуще воздуху? Что заставляет расти плоды и прорастать нежные посевы, что выгоняет из земли зеленые побеги деревьев, что гонит их в вышину и заставляет раскидывать ветви, как не напряжение и единство воздуха (spiritus)?
Глава VII
1. Некоторые расщепляют воздух на удаленные друг от друга частицы, полагая, будто он смешан с пустотой. В доказательство того, что воздух — не тело и что в нем много пустот, они ссылаются на то, как легко движутся в воздухе птицы, на то, что самые крупные предметы проходят сквозь него так же легко, как и самые мелкие[291].
2. Но они ошибаются. В самом деле, тем же свойством обладает и вода, но в ее единстве никто не станет сомневаться, ибо принимая погружающиеся в нее тела, она всегда течет им навстречу; наши [т. е. стоики] называют это свойство «circumstantia» («окружением»), а греки — «ἀντιπερίστασιν». В воздухе оно проявляется точно так же, как в воде — он окружает всякое тело, которое сталкивается с ним. Поэтому придумывать в нем пустоты совершенно ни к чему. Но об этом в другой раз.
Глава VIII
1. Не приходится особенно задумываться, чтобы признать существование в природе вещей, наделенных стремительной мощью и большим напором; но ничто не могло бы быть мощным без напряжения, так же как ничто, ей-богу, не могло бы получить напряжения от другого, если бы не было чего-то напряженного самого по себе — точно так же мы говорим, что ничто не могло бы получить движения от другого, если бы не было чего-то самого по себе движущегося. Но что вероятнее всего на свете могло бы иметь напряжение само по себе, как не дух? Кто скажет, что в нем нет напряжения, когда увидит, как сотрясаются земля и горы, стены и дома, большие города со всеми жителями, моря вместе с их берегами?
Глава IX
1. О напряженности воздуха свидетельствует и быстрота его распространения. Глаза наши мгновенно посылают свой взор на много миль; один звук вмиг пронизывает целый город; свет продвигается не постепенно, но одновременно проливается на все вещи.
2. А вода — как могла бы она напрягаться без духа? Ведь ты же не сомневаешься в том, что брызги, вылетающие из-под самой арены цирка и орошающие самые высокие ряды в амфитеатре[292], летят благодаря напряжению воды? Ни человеческая рука, ни какой метательный снаряд не смогут забросить воду так далеко, как воздух; ему она послушна; он внедряется в нее и заставляет подниматься ввысь; она отваживается на многое, противное ее природе, и, рожденная течь вниз, устремляется вверх.
3. А что ты скажешь о тяжело груженных судах — разве не очевидно, что не вода мешает им утонуть, а воздух? Вода бы расступилась и не смогла бы удержать тяжести, если бы ее саму не сдерживало что-то другое. Если, стоя на берегу, метнуть в пруд диск, он не погрузится, а отскочит; а как бы он отскочил, если бы его не отталкивал воздух?
4. А каким образом голос проходит сквозь стены и преодолевает препятствия[293], если не благодаря тому, что воздух присутствует также и в твердых телах: он-то и принимает поступающий снаружи звук и выпускает его снова с другой стороны, ибо духом своим он напрягает не только открытые [предметы или части предметов], но и скрытые и недоступные; ясно, что делать это он в состоянии лишь потому, что не разделяется нигде, но соединяется сам с собой даже сквозь такие препятствия, которые, на первый взгляд, разделяют его. Поставьте на его пути стены или высокие горы: сквозь них мы не сможем за ним последовать, но сам-то он пройдет. Ибо для него нет препятствий — препятствия только для нас; сам же он проходит даже сквозь то, что его, по-видимости, рассекает; он не только обтекает и окружает со всех сторон то, что встречается на его пути, но пронизывает насквозь.
Глава X
1. Воздух разлит между сияющим эфиром[294] и землею; он выше, подвижнее и тоньше не только земли, но и воды, но гуще и тяжелее эфира; сам по себе он холодный и темный[295]. Свет и тепло у него заимствованные. Но не на всем своем протяжении он одинаков: он меняется в зависимости оттого, с чем соседствует. Наивысшая его часть — самая сухая и теплая, а потому и самая тонкая — из-за соседства с вечным огнем, с движением стольких светил и с постоянно вращающимся небосводом; нижняя часть его, соседствующая с землей, густая и мрачная, ибо она впитывает земные испарения; срединная часть, по сравнению с верхней и нижней, более умеренная в отношении сухости и тонкости, но холоднее и той и другой[296].
3. Ибо верхние слои воздуха согреваются жаром расположенных по соседству светил; в нижних слоях тоже тепло; во-первых, от земных испарений, которые несут с собой много тепла; во-вторых, оттого, что солнечные лучи отражаются от земли и таким образом вдвое щедрее обогревают те области, которые успевают пройти, не угаснув, на обратном пути; наконец, и от горячего дыхания всех животных, деревьев и трав, ибо ничто не живет без тепла.
4. Добавь сюда еще и огни — не только зажженные человеком и видимые глазу, но и скрытые под землей; некоторые из них вырываются порой на поверхность, бесчисленное множество постоянно горит в темной глубине. Везде, где воздух плодороден для жизни, в нем есть хоть немного тепла, ибо холод бесплоден, тепло же рождает жизнь. Ну а в более высоких слоях воздуха всегда царит стужа; ибо природа воздуха холодная.
Глава XI
1. Разделенный таким образом, воздух наиболее разнообразен, непостоянен и переменчив в нижней своей части. Поблизости от земли он испытывает больше всего воздействий и сам действует наиболее решительно, все возмущает, сам постоянно возмущаемый; причем не весь он одинаково изменяет свое состояние, но в разных местах по-разному — да и не везде — приходит в беспокойство и смятение.
2. Причиной непостоянства воздуха и происходящих в нем изменений отчасти служит земля: ее положение и обращенность в ту или иную сторону оказывают большое влияние на состояние воздуха; отчасти — движение светил, в первую очередь, конечно, солнца: ведь оно управляет годовым циклом, следом за его круговращением сменяются на земле зимы и лета. Подчиняется [воздух] также луне. Но и все прочие звезды воздействуют на землю и на прилегающий к ней дух (spiritus); их движение по своему пути или назад[297], их взаимные пересечения посылают на землю то морозы, то дожди, то прочие беспокойства и неприятности.
3. Это было предисловие, необходимое для того, чтобы повести речь о громе, молниях и зарницах. Ведь все это происходит в воздухе, и нужно было разъяснить его природу, чтобы легче было понять, как он может действовать и какие воздействия испытывать.
Глава XII
1. Итак, речь пойдет о трех вещах: о зарницах, молниях и громе[298], который возникает вместе с двумя первыми, но слышен бывает позже. Зарница — это когда мы видим огонь; молния — когда он действительно летит. Можно сказать, что первая как бы замахивается, угрожая, но не бьет; вторая же бьет и наносит удар в цель.
2. Есть вещи, насчет которых все согласны, и есть вещи спорные. Что касается нашего предмета, то тут все согласны, что все это происходит в облаках или из облаков. Опять-таки все согласны в том, что и зарницы и молнии либо огненные, либо огневидные.
3. Перейдем теперь к спорным вопросам. Одни думают, что огонь всегда содержится в облаках; другие считают, что он возникает там время от времени, и как только возникает, тотчас же испускается в виде молнии. Среди первых — сторонников огненного запаса — тоже нет согласия: на вопрос, откуда взялся этот огонь, каждый указывает свое. Одни говорят, будто солнечные лучи, пронизывая облака и возвращаясь отраженными назад, много раз сталкиваются друг с другом и таким образом зажигают огонь. Анаксагор утверждает, будто огонь сочится из эфира, и с жарко пылающего неба падает вниз множество огненных частиц, которые долго хранятся, заключенные внутри облаков[299].
4. Аристотель не разделяет мнения, будто огонь скапливается в облаках заранее, полагая, что он выскакивает из облака в тот же момент, как возникает. Мысль его сводится к следующему[300]. Две самые нижние части мира — земля и вода. Обе они выделяют нечто; земные испарения сухи и подобны дыму, они производят ветер, молнию и гром; дыхание вод влажно, оно превращается в дождь и снег.
5. Так вот, сухое испарение земли, из которого получается ветер, собравшись в большом количестве, попадает иногда в скопление облаков, которые с силой ударяют его и сжимают с боков, так что оно, вырываясь, в свою очередь ударяет в ближайшие облака. Этот удар сопровождается таким же звуком, какой раздается в наших очагах, когда пламя трещит из-за сырых дров. Здесь дух (spiritus), несущий с собой частицы влаги и сжатый наподобие пузырей, лопается в пламени; точно таким же образом и там дух (spiritus), сжатый при столкновении облаков, не может ни лопнуть, ни отскочить беззвучно.
6. Треск этот получается каждый раз разным оттого, что облака бывают разные: в одних полость больше, в других — меньше. Сжатый воздух, с силой вырывающийся из-под давления, — это тот огонь, который зовется зарницей; напор, зажегший его, сравнительно невелик, он не способен нанести удар и потому безвреден. А видим мы блеск молнии раньше, чем слышим звук потому, что восприятие наших глаз проворнее — оно намного опережает уши.
Глава XIII
1. Ложного мнения придерживается, кто полагает, будто огонь хранится в облаках — в этом можно убедиться на многих примерах. Если огонь падает с неба, то почему не каждый день — ведь небо-то всегда горит одинаково? Далее, они не указали причину, по которой огонь, влекомый природою вверх, стекал бы вниз. Ведь наш земной огонь, из которого летят искры, устроен иначе; искры падают потому, что к ним примешаны некие тяжелые частицы; так что не сам огонь спускается вниз, а нечто другое толкает и влечет его к земле.
2. Но в том чистейшем огне нет никаких подобных примесей, ничего, что тянуло бы его вниз. В противном случае, если бы хоть какая-нибудь частица его выпала, он весь был бы под угрозой, ибо то, из чего могут выпадать кусочки, может и целиком сойти на нет. Далее, они ничего не говорят о том, легкое или тяжелое то, что падает вниз из небесного огня. Легкое? — Но тогда оно не отделится от неба, ибо легкость помешает ему упасть; оно не покинет своего священного места. Тяжелое? — Тогда как оно попало туда, откуда ему якобы нужно упасть?
3. — Так что же получается? — возразят мне. Разве иные огни не летят всегда вниз, к примеру, те самые молнии, о которых мы ведем разговор? — Согласен. Но только они не сами летят — их несет. Некая сила влечет их книзу. А в эфире такой силы нет; там не действует никакое внешнее принуждение, ничто оттуда не вырывается, вообще не происходит ничего не свойственного его природе. Существует порядок вещей, и очищенный огонь, замыкающий мир и получивший в удел наивысшие его области, окружает со всех сторон прекраснейшее из созданий[301]. Сам спускаться он не может, и ничто постороннее не может заставить его спуститься, ибо в эфире нет места никаким телам, которым там быть не положено; а которым положено по порядку, те не спорят между собою.
Глава XIV
1. «Но ведь вы сами, — возразит [наш оппонент], — указывая причины летучих звезд, говорите, что некоторые части воздуха перенимают огонь из более возвышенных областей и так загораются». — Верно, но очень большая разница между утверждением, будто огонь падает из эфира, что противно природе, и словами, что жар от небесного огня передается нижележащим областям. Ибо огонь не падает оттуда, так как этого не может быть, а рождается здесь. Подобное мы можем наблюдать собственными глазами и на земле: когда пожар широко разойдется, некоторые на отшибе стоящие дома сами по себе занимаются огнем, если они долго нагревались; значит, вполне вероятно, чтобы и в верхних слоях воздуха загорались от жара лежащего над ними эфира некоторые частицы, легковоспламенимые по природе. Кроме того, и нижний слой эфира непременно должен быть отчасти подобен воздуху, а верхний слой воздуха — подобен нижнему эфиру, ибо переход между двумя разными [элементами] не совершается внезапно; соседствуя, они смешивают свои свойства постепенно, так что и не решишь, что это: еще воздух или уже эфир.
Глава XV
Некоторые из наших полагают, что воздух, раз он способен превращаться в огонь и воду, не нуждается во внешних причинах для воспламенения: он загорается от собственного движения и, пробиваясь сквозь густую и плотную завесу облаков, не может не производить громкого звука: ведь лопается очень много очень больших полых тел. В свою очередь сопротивление облаков, которые с трудом поддаются напору воздуха, еще сильнее разжигает огонь, однако не оно является его причиной; так, рука может оказать ножу некоторую помощь, но режет-то все-таки нож.
Глава XVI
В чем разница между зарницей и молнией? — Скажу. Зарница — это широко распространившийся огонь, молния — огонь сжатый, запущенный и ударяющий с большим напором. Мы иногда зачерпываем воду, соединив обе руки, и, сжимая ее с обеих сторон ладонями, выдавливаем сильной струей, как из насоса. Представь себе, что нечто подобное происходит и там: тесно прижатые друг к другу облака выдавливают оказавшийся между ними дух (spiritus), тем самым и воспламеняя его и запуская, как запускает снаряд метательная машина; и ведь баллисты и скорпионы[302] тоже выпускают снаряды с громким звуком.
Глава XVII
Некоторые[303] полагают, что огненный дух (spiritus) издает звук тогда, когда проходит сквозь холодное или влажное. В самом деле, раскаленное железо нельзя намочить беззвучно: когда горячий слиток опускается в воду, он остывает с чрезвычайно громким шипением. Именно так, по утверждению Анаксимена, воздух, нападающий на облака, производит гром, и пока он борется, прокладывая себе дорогу сквозь препятствия и тесные разрывы между ними, он воспламеняется от самого этого движения.
Глава XVIII
Анаксимандр[304] возводил все эти явления к [движению] духа (ad spiritum). Он говорит, что гром есть звук удара по облаку. Почему гром гремит по-разному? — Потому что и удары бывают разные. Почему бывает гром с ясного неба? — Потому что и тогда движущемуся духу (spiritus) приходится иногда проходить сквозь сгустившиеся скопления воздуха и разрывать их. А почему иногда гром гремит, а огонь не сверкает? — Потому что слабого движения воздуха могло не хватить для воспламенения, для звука же хватило. Что же такое само сверкание? — Это удар [по облаку] внезапно обрушившегося, но разлетающегося в разные стороны воздуха, порождающий медленный и слабый огонь, не способный уйти далеко. Что такое молния? — Движение более густого и с большей силой направленного воздуха.
Глава XIX
Анаксагор говорит, что дело происходит так: некая сила спускается из эфира вниз. Таким образом огонь попадает в холодные облака и издает звук; когда же он разрывает их и проходит насквозь, он сверкает; причем когда огня меньше, получаются зарницы, когда больше — молнии.
Глава XX
1. Диоген Аполлонийский[305] говорит, что гром иногда производится огнем, а иногда — движением духа (spiritu); огонь производит те раскаты грома, которым сам же и предшествует, возвещая об их появлении; движение воздуха производит раскаты, которые грохочут без вспышки.
2. Я согласен, что и гром, и молния бывают иногда друг без друга, но дело не в том, что они друг от друга независимы, а в том, что они могут друг в друга переходить. Всякий признает, что дух (spiritus), с большой силой устремляющийся вперед, произведет звук, а затем и огонь. А кто не согласится с тем, что огонь может иногда прорваться внутрь облаков, а выскочить из них будет уже не в силах: при большом скоплении облаков он пробьется сквозь часть их, а остальными будет задержан? Так что огонь перейдет в движение воздуха (spiritus), утратив сверкание, а дух, прокладывая себе дорогу с яростной силой, воспламенит все вокруг.
3. Прибавь к этому также и то, что молния непременно должна и перед собой толкать и гнать вперед воздух (spiritus), и сзади за собой увлекать его, создавая ветер, ведь она с огромной силой ударяет по воздуху. Именно поэтому всякий предмет, прежде чем в него попадает молния, дрожит, сотрясаемый ветром, — тем самым, который огонь гонит перед собою.
Глава XXI
1. Теперь мы оставим наших наставников и двинемся дальше сами — от признанных мнений перейдем к спорным. Что признано? — Что молния — это огонь, и зарница — тоже, ибо она есть не что иное, как пламя, которое стало бы молнией, если бы у него было побольше сил; различаются они не природой, а напором[306]. 2. Что это — огонь, свидетельствует цвет, какого ни у чего, кроме огня, не бывает. О том же свидетельствует и действие: из-за молнии не раз возникали большие пожары; дотла сгорали леса и городские кварталы; можно видеть предметы, обугленные молнией, хотя она и не попала прямо в них; другие бывают покрыты чем-то вроде сажи. А как иначе объяснить, что от всех пораженных молнией предметов пахнет серой?
3. Итак, ясно, что и молния и зарница — это огонь, и отличаются они друг от друга лишь своим движением, а именно: зарница есть молния, не достигшая земли, и наоборот — молния есть долетевшая до земли зарница.
4. Я так долго повторяю одно и то же не из любви к празднословию, а чтобы лучше показать их родство, ибо они одной природы и одного характера. Зарница — это почти молния. Обернем это высказывание: молния — это чуть больше, чем зарница.
Глава XXII
1. Раз мы установили, что обе интересующие нас вещи суть огонь, посмотрим, как возникает огонь у нас на земле: так же он будет возникать и там, наверху. Обычно он получается двумя способами: либо высекается из камня, либо добывается трением, когда, например, долго трут друг об друга два куска дерева; для этого подходит не всякая древесина — годятся для выманивания огня лавр, плющ и некоторые другие породы, известные пастухам.
2. Таким образом, вполне возможно, что и облака производят огонь тем же самым способом: в результате соударения или трения. Вспомним, с какой силой обрушиваются бури, с каким напором закручиваются вихри; все, что попадается им навстречу, они разбивают вдребезги или захватывают с собой, отшвыривая на большие расстояния.
3. Что же удивляться, если такая огромная сила высекает огонь — из себя самой или из чего-то другого? Ты ведь понимаешь, как сильно должны будут раскалиться от трения тела, соприкасающиеся с ее движением. Поверить в воспламеняющую силу бурь и вихрей нетрудно — ведь общепризнано, что такою же силой в огромной мере обладают и светила.
Глава XXIII
1. Но вполне возможно, что когда ветер и не очень сильно гонит и теснит облака, ударяя их друг об друга, из них высекается огонь, который вспыхивает, но не летит дальше; ибо для того, чтобы получилась зарница, нужно меньше силы, чем для молнии.
2. Выше мы разобрали, как нагреваются и загораются подвергшиеся трению тела. Но вполне вероятно, что может загореться и сам по себе воздух, способный обращаться в пламя, когда он трется сам о себя изо всех сил, то есть тогда, когда он превращается в ветер; в нем загорается пламя недолговечное и быстро угасающее, ибо оно рождается не из твердого вещества, в каком могло бы долго поддерживаться. Так что оно длится ровно столько времени, сколько успевает пройти расстояния: ведь оно пускается в путь без пищи.
Глава XXIV
1. «Однако вы же сами говорите, — возразит [наш оппонент], — что огонь по природе своей должен стремиться вверх; тогда как же молния устремляется к земле? Значит, то, что вы сказали об огне, неверно, и ему равно свойственно и подниматься, и опускаться». — И то и другое может быть верно одновременно. В самом деле, по природе огонь стремится вертикально вверх[307], и если ничто ему не мешает, то поднимается — точно так же, как вода падает вниз; но если появится какая-то внешняя сила, которая погонит воду в обратном направлении, то она устремится туда, откуда раньше пролилась дождем.
2. Так вот, молния устремляется вниз под действием той же необходимости, что вода — вверх. С огнем здесь происходит то же самое, что может произойти с деревом, если взять его за верхушку и согнуть так, чтобы она смотрела в землю, а если деревцо молодое, то и упиралась бы в нее; но как только ты отпустишь его, верхушка встанет на свое место. А потому не следует усматривать свойство[308] вещи в том, что она делает не по своей воле.
3. Если ты позволишь огню идти куда ему хочется, он ринется назад, к небу — месту[309] всего наилегчайшего; но когда что-то ударяет в него и заставляет свернуть в сторону от цели — тогда это не природа его, а его рабство.
Глава XXV
«Ты говоришь, — возразят мне, — будто облака вследствие трения производят огонь; но ведь они влажные, даже просто мокрые; как же они могут породить огонь? С такой же вероятностью он может родиться из воды».
Глава XXVI
1. Он рождается из облака. Во-первых, в облаках не вода, а сгущенный воздух, из которого вот-вот должна получиться вода, — еще не превратившийся в воду, но уже близкий к этому и готовый. Не следует думать, будто вода постепенно собирается в облаке и время от времени проливается: она падает сразу, как только образуется.
2. Во-вторых, даже если я соглашусь, что облако влажно и наполнено скопившейся в нем водой, все равно ничто не мешает огню возникать и из влажного, более того — из самой влаги, чему ты, наверное, еще больше удивишься. Некоторые вообще утверждали, что ничто не может превратиться в огонь, прежде чем не превратится в воду[310]. Следовательно, облако может загореться с какой-то одной стороны, и содержащейся в нем воде ничего при этом не сделается: так часто бывает, что полено с одного конца горит, а с другого сочится влагой.
3. Я вовсе не хочу этим сказать, что огонь и вода не противоположны и не уничтожают друг друга; нет, просто огонь побеждает влагу там, где он сильнее; и наоборот, где больше оказывается воды, там бессилен огонь; так, не загораются зеленые ветки деревьев. Так что важно лишь, сколько в облаке воды; небольшое ее количество не помешает огню и не сможет ему противиться.
4. А что? На памяти наших предков, как рассказывает Посидоний[311], поднялся в Эгейском море новый остров[312]. В течение дня море пенилось и из глубины вырывался дым. Только ночью стало видно пламя; оно не горело непрерывно, а вспыхивало через определенные промежутки времени, наподобие молний, всякий раз, как подводный огонь преодолевал тяжесть лежащей над ним морской воды.
5. Потом полетели камни и обломки скал, частью нетронутые — движением воздуха (spiritus) их выбросило до того, как они сгорели, — частью изъеденные огнем и легкие, как пемза. Последней выскочила вершина сожженной горы. Позже она поднялась повыше, и скала разрослась до размеров острова.
6. Такой же случай произошел еще раз уже на нашей памяти, в консульство Валерия Азиатика[313]. — Для чего я привел этот рассказ? — Чтобы показать, что пламя не угасло, несмотря на разлитое над ним море, что огромная толща воды при всей своей тяжести не задавила его и не помешала выйти наружу; а была там глубина в двести футов, как передает слушатель Посидония Асклепиодот[314], и сквозь нее прорвался огонь, раздвинув воды.
7. Но если даже эта безмерная громада вод не смогла погасить рвущийся снизу огонь, то насколько менее способна помешать огню тонкая, росная влага облаков? Более того: она не только не мешает, но напротив, способствует появлению огней; мы же видим, что они вспыхивают, только когда небо нахмурится, — при ясном небе молний не бывает. В светлый день или ночью при чистом небе их не приходится бояться — только в темную облачную погоду.
8. — А разве не бывает иногда зарниц в спокойные ночи, когда видны звезды? — Да, но знай, что там, откуда исходит блеск, есть облака, только земная выпуклость не позволяет нам их увидеть.
9. Прибавь к этому, что иногда облака опускаются очень низко, трутся друг об друга и испускают огонь, который летит вверх; мы видим его в ясной и чистой части неба, но образуется он в отнюдь не в чистой.
Глава XXVII
1. Некоторые различают несколько видов грома[315]; один из них — низкий гул, гудение, рокотание, такое, какое обычно предшествует землетрясению, когда воет запертый [в недрах земли] ветер. Вот от чего, по их мнению, оно происходит. 2. Когда движущийся воздух (spiritus) окажется заключен между облаками, он кружится внутри их полостей, издавая глухой, ровный и непрерывный звук, похожий на мычание, в особенности когда преграждающие ему выход облака влажны; поэтому гром такого рода бывает обычно предвестником дождей.
3. Другой род грома — резкий, но не звучный, а скорее, я бы сказал, жестко-неприятно-пронзительный: такой звук мы слышим, когда мяч [из бычьего пузыря] лопается, ударившись о чью-нибудь голову. Такой гром раздается, когда лопается большое, надутое, как шар, облако, выпуская распиравший его дух (spiritus). Вот это и есть собственно громовый удар, внезапный и мощный. От него люди падают замертво; некоторые, правда, остаются в живых, но пребывают в оцепенении и совершенно не в себе; мы зовем их «пораженными громом» или «тронутыми»: ум их стронут со своего места этим небесным звуком.
4. Гром может получаться еще и таким образом: воздух, заключенный в полом облаке и разредившийся от собственного своего движения, расширяется; ему теперь нужно больше места, и он ударяет [в стенки] заключающего его облака, издавая звук. А что? Руки, ударившись друг об друга, издают хлопок; разве не могут произвести такой же звук ударившиеся друг о друга облака, только более громкий, поскольку соударяющиеся [предметы] чрезвычайно велики?
Глава XXVIII
1. «Нам случается видеть, — скажет [мой оппонент], — как облака ударяются о горы, а звука нет».
—Прежде всего, звук получается не от всякого соударения — предметы должны быть расположены подобающим образом. Стукни рука об руку тыльными сторонами — никакого хлопка не получится; а если ударишь ладонью о ладонь, получится хлопок; к тому же звуки будут получаться совсем разные в зависимости от того, будешь ли ты хлопать согнутыми в горсть ладонями или распрямленными. Кроме того, чтобы раздался звук, нужно, чтобы облака не просто двигались, но стремительно и с большим напором неслись вперед.
2. Ну и наконец, гора не раскалывает облако, а постепенно разделяет его, отделяя часть за частью по мере того, как оно с ней поравняется. Да ведь и надутый пузырь не всегда издает звук, когда выпускает воздух: если разрезать его ножом, уши не воспримут ни звука; чтобы он зазвучал, надо разорвать его, а не разрезать. То же самое относится и к облакам: они звучат, только если лопнут под большим нажимом. Добавь к этому еще и то, что облака, гонимые ветром на горы, не ломаются, а обволакивают их и разделяются на множество частей отдельными выступами горы, деревьями и их ветвями, кустарниками, острыми торчащими скалами, так что весь воздух, какой в них есть, выходит в разные стороны; а зашуметь он может, только если вырвется весь сразу.
3. Чтобы понять это, вспомни, что ветер, рассекаемый стоящим на его пути деревом, свистит, а не гремит; чтобы раздался звук, какой мы слышим при громе, нужен очень мощный удар, и надо, чтобы все скопление воздуха вырвалось наружу одновременно.
Глава XXIX
Кроме того, воздух по природе подходит для произведения звуков. В самом деле, что такое голос, или звук, как не получивший удар [и устремленный вперед] воздух (spiritus)? Итак, нужно, чтобы сошлись с двух сторон облака, причем облака полые и натянутые. Ты ведь замечал, насколько пустые предметы звучнее полных, а натянутые — дряблых. Тимпаны и кимвалы одинаково звучны: первые ударяют по сопротивляющемуся воздуху по ту сторону [туго натянутой кожи]; вторые звенят не потому, что сделаны из меди, а потому, что она полая.
Глава XXX
1. Некоторые, в том числе Асклепиодот, считают, что гром и молния могут высекаться и при соударении некоторых других тел. Однажды загорелась великим огнем Этна, извергла огромное количество горящего песка, пепел затмил дневной свет, внезапная ночь устрашила народы. Говорят, тогда много было громов и молний, получавшихся из соударения сухих тел, а не облаков, ибо малоправдоподобно, чтобы там, в столь раскаленном воздухе, были какие-нибудь облака.
2. Некогда Камбис послал войско к Аммону[316]; на него, как снег, посыпался взметенный Австром[317] песок, покрыл его и замел; похоже, что и тогда были гром и молния, вызванные трением и соударением песчинок.
3. Такое мнение отнюдь не противоречит нашему положению. Ведь мы сказали, что земля испускает тела и той и другой природы, так что в воздухе носятся и сухие и влажные [частицы]; и когда случится им составить облако, оно, конечно, получается тверже и плотнее, чем если бы оно соткалось из одного только духа (spiritus). Такое облако может лопнуть с громким звуком.
4. Эти [частицы] — появились ли они в воздухе вместе с дымом пожаров, или были взметены с земли ветром — непременно должны прежде составить облако, и лишь потом могут произвести звук. Облако же может составиться как из влажных, так и из сухих [частиц], ибо облако, как я уже сказал, есть сгущение плотного воздуха.
Глава XXXI
1. Что касается прочих свойств молнии, то дела ее, если присмотришься к ним внимательно, поистине удивительны и не оставляют никаких сомнений в ее божественном происхождении и редком могуществе. Серебро, запертое в шкатулке, оказывается расплавленным, причем на шкатулке не остается ни следа, ни царапины; меч становится жидким в ножнах и с неповрежденного древка копья по капле стекает все железо; когда молния расколет винную бочку, вино стоит, не разливаясь, впрочем, однако, не долее трех дней[318].
2. Примечательно также то, что у всех пораженных молнией людей и животных голова смотрит в ту сторону, где вышла молния, а когда бывают поражены деревья, щепки летят навстречу молнии. Более того: у ядовитых змей и других смертоносных животных от удара молнии пропадает яд. Спрашивается, откуда я это знаю? — В ядовитых телах не заводятся черви; но, пораженные молнией, они уже через несколько дней кишат червями.
Глава XXXII
1. А разве не удивительно, что молнии предсказывают будущее[319], причем не указывают только на одно какое-нибудь событие, но часто возвещают длинную череду грядущих судеб, и знаки их при этом куда яснее и очевиднее писаных?
2. На этот счет существует разногласие между нами и этрусками, достигшими наивысшей премудрости в науке толкования молний[320]: мы считаем, что молния вылетает потому, что столкнулись облака; они полагают, что облака сталкиваются для того, чтобы вылетела молния; ибо они возводят все непосредственно к богу, и с их точки зрения все происходящее не потому является знамением, что происходит, а, напротив, происходит для того, чтобы служить знамением. Но так или иначе, происходят-то они все равно тем же самым образом — является ли знаменование будущего их целью или их следствием.
3. — Но как же могут они быть знамениями, если не посылаются специально для этого? — А так же как птицы предвещают нам удачу, пролетая справа, или неудачу, пролетая слева от нас, хотя никто не посылал их специально для того, чтобы они попались нам на глаза.
—Но птиц тоже послал бог. — По-твоему, он выходит каким-то бездельником, занятым пустяками, если он входит в подробности каждого сна, располагает каждый раз внутренности [для гадания].
4. Тем не менее все это действительно совершается божественной властью, хотя бог и не управляет птичьими крыльями и не складывает в определенный рисунок внутренности каждой скотины под самым топором. Последовательность судеб разворачивается иначе: она повсюду посылает вперед указания на грядущее, из которых одни внятны нам, а другие неизвестны. Все, что происходит, есть знак какой-либо будущей вещи. Нельзя предугадать случайного, беспорядочного, бессмысленного; но все, в чем есть порядок, доступно предсказанию.
5. — Но отчего же только орел да ворон, и еще очень немногие птицы удостоились чести предрекать великие события, а все остальные не имеют пророческого голоса в предсказаниях? — Оттого, что некоторые [знаки] еще не освоены искусством [гадания], а некоторые и вовсе не могут быть освоены, так как слишком далеки от нашего образа жизни. А вообще-то нет такого животного, встреча с которым не предсказывала бы чего-нибудь. Но мы, конечно, отмечаем не все знаки, а лишь некоторые.
6. Гадание — дело наблюдателя, и зависит оно от того, кто обратит [на какие-либо знаки] внимание. Так что есть и такие, которые остаются незамеченными.
7. Наблюдения халдеев установили силу пяти звезд[321]; так неужели ты решишь из-за этого, что столько тысяч других звезд светят просто так? Отчего так часто вкрадываются ошибки в расчеты астрологов, как не оттого, что они препоручают нас немногим светилам, в то время как каждая из находящихся над нами звезд заявляет свои права на какую-то часть нас? Может быть, конечно, более низкие светила оказывают на нас более непосредственное воздействие; а поскольку они часто меняют свое движение, то и на нас влияют по-разному.
8. Однако и неподвижные, или кажущиеся неподвижными из-за скорости, равной скорости [вращения] вселенной, звезды также имеют власть распоряжаться нами. Каждая из них имеет свою сферу влияния, и действуют они, распределив между собою обязанности; но узнать, в чем именно их влияние заключается, гораздо труднее, чем отрицать его вообще.
Глава XXXIII
Однако вернемся к молниям. Молниеведение делится на три части: наблюдение, истолкование, умилостивление. Первая часть занимается формой молнии, вторая — собственно гаданием, третья — умилостивлением богов, к которым при доброй молнии следует обращаться с просьбами, при недоброй — с заклинаниями, а именно с просьбами исполнить обещанное или с заклинаниями не исполнять угроз.
Глава XXXIV
1. Молнию считают наивысшим из знамений, потому что она своим вмешательством лишает силы все прочие. То, что возвестила она, непреложно, даже если другой знак укажет на что-то иное; любая угроза, возвещенная внутренностями или птицами, снимается, если молния будет благоприятная; напротив, того, что предвещает молния, не опровергнут никакие последующие гадания по птицам или по внутренностям.
2. В этом, мне кажется, люди заблуждаются. Почему? — Потому что не бывает более и менее истинной истины. Если птицы предрекли будущее, то молния не может свести на нет это предсказание, — в противном случае они не предрекли будущего. Ибо я здесь сравниваю не птицу с молнией, а два знака истины, которые равны, если оба обозначают истину. Так что если вмешательство молнии опровергнет то, на что указывали прежде птицегадание или [рисунок] внутренностей, значит, плохо рассмотрели внутренности, неправильно гадали по птицам. Ведь тут не важно, что больше, что могущественнее по природе; если и то и другое — знак истины, то в этом отношении они равны между собой.
3. Если ты скажешь, что пламя сильнее дыма, ты будешь прав; но как знаки, указывающие на огонь, они равносильны. Поэтому если мне скажут: «Всякий раз, когда внутренности будут указывать на одно, а молния на другое, доверять следует больше молнии», — я, пожалуй, соглашусь. Но если скажут: «Первое гадание предсказало истину, но удар молнии уничтожил его и утвердил свою истину», — это будет неверно. Почему? — Потому что неважно, сколько было гаданий. Судьба одна; если мы правильно поняли что-то при первом гадании, его не отменит второе.
4. Так что неважно, будет ли то, посредством чего мы вопрошаем [будущее], одна и та же вещь или разные: то, о чем мы вопрошаем, одно и то же. Молния не в силах изменить судьбу. Отчего? Оттого, что сама молния — часть судьбы.
Глава XXXV
1. — Хорошо, но если судьба неизменна, к чему же тогда молитвы и обряды умилостивления? — Позволь мне примкнуть к суровой школе тех, кто смеется надо всем этим[322] как над попытками утешить удрученную душу.
2. Не так вершится воля судеб, нельзя растрогать их мольбою. Свернуть со своего пути не заставит их ни сострадание, ни благодарность. Однажды вступив на свой необратимый путь, они текут, повинуясь предопределению. Как вода в быстрых потоках не возвращается вспять и ни на миг не останавливается, ибо набегающие сзади струи толкают те, что впереди, — так вечная череда сменяющих друг друга вещей крутит колесо судеб, и первый закон для них — не отступать от предрешенного.
Глава XXXVI
—Что же ты разумеешь под судьбой? — Разумею необходимость всех вещей и действий, которую никакой силе не разорвать. Если ты думаешь, что ее можно умолить, принеся в жертву голову белоснежной[323] овечки, ты не понимаешь, что такое божественное. Вы ведь и сами все согласны, что мудрец не может изменить своего решения; так что ж говорить о боге: ибо в то время как мудрец знает, что лучше всего для настоящего, для божества все [времена] — настоящее.
Глава XXXVII
1. Теперь я хочу привести аргументы тех, кто считает нужным заклинать молнии и не сомневается в пользе умилостивительных обрядов, способных, по их мнению, иногда отвратить опасность, иногда — уменьшить ее, иногда отсрочить.
2. Что из этого следует, я разъясню немного позже, покамест же замечу, что такая точка зрения совпадает с нашей[324], ибо мы тоже считаем, отнюдь не покушаясь на власть и могущество судеб, что обеты приносят пользу. Дело в том, что бессмертные боги оставили кое-что в подвешенном состоянии, с тем чтобы обратить это ко благу, если будут вознесены к богам молитвы, если будут приняты обеты; так что это получается не наперекор судьбе — оно само заключается в судьбе.
3. «Либо будет, либо нет: если что-то будет, так оно будет, даже если ты не дашь обета; а если не будет, то не заставишь его быть никакими обетами» — [так могут мне] возразить. — Это неправильное умозаключение, ибо в нем опущено среднее условие, а именно: это будет, если будут прежде даны обеты.
Глава XXXVIII
1. «Значит, — скажет [мой оппонент], — в судьбу необходимо должно быть включено также и то, дашь ли ты обеты или нет». — Представь себе, я протягиваю тебе руку в знак согласия и признаю, что да, в судьбу включено также и то, чтобы обеты были обязательно даны; и потому они будут даны.
2. Этому человеку судьба — стать красноречивым, но при условии, что он выучится словесности; но в той же самой судьбе предусмотрено, чтобы он учился словесности; и потому ему придется-таки учиться. Этот станет богат, но при условии, что отправится на корабле за море; но та же самая судьба, которая обещает ему солидное состояние, требует, чтобы он к тому же отправился в плавание; и потому он отправится. Точно так же обстоит, по-моему, дело и с умилостивительными обрядами: человек избежит опасности, если умилостивит божество, пославшее ему угрозу; но то, что он умилостивит его, также включено в порядок судьбы; и потому он станет приносить умилостивительные жертвы.
3. Рассуждения, подобные этому, обычно предлагают нам как доказательство того, что воле нашей ничего не остается делать и всеми действиями распоряжается судьба. В своем месте, когда речь пойдет об этом, я объясню, каким образом кое-что остается все-таки и на долю человеческого решения, не уменьшая этим прав судьбы. Теперь же я объяснил то, о чем у нас идет речь, а именно, каким образом молитвы и жертвы могут предотвращать опасности, возвещенные в знамениях, если существует определенный порядок судеб: они не борются с судьбой, но сами включены в ее закон.
4. — «Так для чего же тогда нужен мне гаруспик? — можешь ты меня спросить. — Ведь мне так и так придется умилостивлять богов, раз это судьба, без всякого его совета». — Он нужен для того, что он исполняет волю судьбы. Так здоровьем своим ты обязан судьбе, но обязан также отчасти и врачу, ибо этот дар судьбы попадает к нам через его руки.
Глава XXXIX
1. Цецина[325] различает три рода молний: советующая, утверждающая и [указывающая на] положение [дел][326]. Советующая молния случается до самого события, но после того, как оно задумано, и удар ее советует замыслившим либо исполнить задуманное, либо отказаться от этого. Утверждающая молния бывает, когда дело уже сделано, и возвещает, добром оно обернется или злом.
2. [Указывающая на] положение [дел] молния ударяет, когда все спокойны, никаких действий не предпринимают и не замышляют; она несет угрозу, обещание или предупреждение. Цецина называет ее предупреждающей[327], но я не вижу, чем она отличается от советующей: ведь тот, кто предупреждает, тоже дает тем самым совет.
3. Впрочем, некоторое ее отличие от советующей молнии можно усмотреть вот в чем: эта последняя убеждает нас в чем-либо или разубеждает; первая же просто предлагает избежать надвигающейся опасности, боимся ли мы пожара, предательства близких или заговора рабов.
4. А я вижу и еще одно различие между ними: советующей молния бывает для того, кто замышляет что-либо; предупреждающей — для того, кто ничего не замышляет; таким образом, каждая имеет свою особенность: одна склоняет в какую-либо сторону колеблющихся; другая — загодя предупреждает.
Глава XL
1. [По поводу Цециновой классификации я должен сказать] прежде всего, что не молнии делятся на три рода, а их значения. Ибо сами молнии делятся по родам иначе: пронзающая, раскалывающая, сжигающая[328]. Пронзающая молния состоит из тончайшего пламени, и благодаря чистой и беспримесной тонкости пламени ей доступны самые тесные проходы.
2. Разбивающая молния круглая, и к составу ее примешано немного сжатого и бурного воздуха (spiritus). В то время как первая молния выходит из того же отверстия, в какое вошла, вторая распространяется вширь и разрывает то, во что она ударила, а не пронзает.
3. Третий род молнии, сжигающий, содержит в себе много земного и более огненного, нежели пламенного; поэтому на пораженных такой молнией [предметах] остаются большие отметины, как от огня. Правда, без огня не обходится ни одна молния, но собственно огненной мы называем именно эту, ибо то, что поражено ею, хранит отчетливые следы жара, сгорает или покрывается копотью.
4. Жечь она может по-разному: либо обдает жаром и наносит легкие повреждения; либо сжигает дотла; либо воспламеняет. Собственно, жжет она в любом случае, но это жжение различается по роду и способу: то, что сгорает дотла, непременно также и горит, но то, что горит, не обязательно сжигается дотла.
5. Далее, то, что воспламенилось, могло гореть только слегка, от мимолетного соприкосновения с огнем; всякий знает также, что можно гореть, не воспламеняясь, но не может воспламениться то, что не горит. Ну и наконец, последнее: можно сгореть дотла, не воспламенившись, и можно воспламениться, но при этом не сгореть.
6. Теперь перейду к следующему роду молнии; пораженные ею [предметы] оказываются закопченными; она либо окрашивает их, либо обесцвечивает. Разница, на мой взгляд, заключается в следующем: обесцвечивается то, у чего цвет повреждается, а не меняется; окрашивается то, поверхность чего становится иной, чем была — голубой, например, черной или бледной.
Глава XLI
До сих пор представления этрусков совпадают с мнением философов. Расходятся же они вот в чем: этруски говорят, что молнии посылает Юпитер, и вручают ему три разновидности этого метательного оружия[329]. Первую Юпитер посылает по собственному усмотрению, ни с кем не советуясь, как предупреждение; характер у нее вполне мирный. Вторую тоже посылает Юпитер, но по решению совета, созвав прежде двенадцать богов; эта молния тоже делает иногда что-нибудь хорошее, не без того, однако, чтобы навредить: даром она никогда не приносит пользы.
2. Третий метательный снаряд посылает тоже Юпитер, но тут он привлекает для совета всех тех богов, которых этруски зовут «вышними» и «скрытыми»[330]; эта молния разрушает все, во что попадает, и, в частности, изменяет положение дел, как частных, так и общественных, существовавшее, когда она ударила; огонь ведь никогда ничего не оставляет как было.
Глава XLII
1. На первый взгляд кажется, что древность, со всеми подобными представлениями, ошибалась. В самом деле, что может быть наивнее веры, будто Юпитер из туч мечет молнии, поражая колонны, деревья, а порой и собственные свои статуи; убивает безвинную скотину, оставляя безнаказанными святотатцев, убийц, поджигателей; призывает на совет богов, как будто у самого Юпитера ума недостаточно? Будто сам по себе он пускает мирные и радостные молнии, для того же, чтобы запустить зловредную и губительную, необходимо участие целой толпы божеств?
2. Если ты спросишь моего мнения, я скажу тебе так: вряд ли тупоумие древних было так велико, чтобы они считали Юпитера несправедливым или недостаточно разумным. Он мечет молнии, которые поражают невинных, минуя злодеев; так что же, он не захотел бросать их более справедливым образом или просто не сумел?
3. Что именно хотели сказать этим древние? Мудрейшие мужи решили, что для обуздания невежественных душ необходим страх неотвратимого [наказания][331]; мы должны бояться чего-то, что выше нас. При столь дерзком разгуле преступности полезно было, чтобы существовало нечто, с чем никто и не мечтал бы помериться силами; и вот для устрашения тех, кого лишь угроза может заставить полюбить честность, они поместили над нашими головами карающего судию, причем вооруженного.
Глава XLIII
1. Но почему же Юпитер один посылает мирную молнию, а по совету и решению остальных богов — губительную? — А потому, считали они, что творить милость может и один Юпитер, то есть царь, карать же он может только по решению многих.
2. Пусть усвоят этот урок те, кому досталась большая власть над людьми: пусть не мечут молний, не посоветовавшись; пусть призовут многих, выслушают их мнения, пусть будут умеренны в карах, помня о том, что даже Юпитер не выносит решения в одиночку там, где нужно разить.
Глава XLIV
1. Едва ли древние были настолько неразумны, чтобы полагать, будто Юпитер меняет виды своего оружия. Такое представление прилично только поэтической вольности:
Но те превосходнейшие мужи не впадали в подобное заблуждение и не думали, что Юпитер пользуется то тяжкими молниями, то более легкими и игрушечными. Просто они захотели преподать урок тем, кто должен поражать карающей молнией человеческие прегрешения: не все следует наказывать одинаково; одних достаточно слегка шлепнуть, других надо пришибить на месте и искоренить, третьим хватит предостережения.
Глава XLV
1. Не верили они и в то, будто молнии мечет собственной своей рукой такой Юпитер, какому мы поклоняемся [в священных изображениях] на Капитолии и в других храмах. Они подразумевали того же Юпитера, что и мы, правителя и хранителя вселенной, душу и дух мира, владыку и создателя мироздания. Ему подходит любое имя[334].
2. Хочешь, назови его Судьбой — не ошибешься; все на свете зависит от него, он — причина причин. Если угодно, называй его Провидением, и будешь прав; именно его провидением соблюдается этот мир, дабы без помех шел он к своей цели и совершал все свои отправления. Хочешь, зови его Природой; и тут не погрешишь против истины; именно он породил все, его духом мы живы[335]. А хочешь, зови его Миром, и тут ты не обманешься; ибо он — это все, что ты видишь, все это целое; он присутствует во всех своих частях, поддерживая их существование и свое собственное. То же самое думали о нем этруски; они утверждали, что молнии посылаются Юпитером, ибо знали, что без него ничего не совершается.
Глава XLVI
Но почему же Юпитер поражает невинных и не трогает тех, кого следовало бы поразить? — Этот вопрос слишком серьезен, чтобы разбирать его мимоходом; мы займемся им в свое время и в своем месте. Покамест же я скажу только, что молнии посылаются не [непосредственно] Юпитером, но все [в мире] устроено так, что даже то, что совершается не им, совершается все же не бессмысленно, а всякий смысл — от него. Так что если чего-то Юпитер и не делает, все равно именно он сделал так, чтобы это совершилось. Он сам не участвует во всех делах каждого отдельного [человека] и во всяком событии, но причина, и сила, и орудие, благодаря которым совершается что бы то ни было на свете, исходят от него.
Глава XLVII
Но вот с тем, как этруски делят молнии, я не соглашусь. Они говорят, что молнии бывают либо длительные, либо определенные, либо допускающие отсрочку[336]. Длительные молнии возвещают не одно какое-нибудь событие, но целую их последовательность на протяжении всей жизни человека или государства, охватывая все его будущее; такие молнии являются в момент, когда человек или город переходят в какое-то новое состояние, например, когда кто-нибудь вступает во владение наследственным имуществом. Определенные молнии всегда обозначают нечто, относящееся именно к данному времени. Допускающие отсрочку — это такие молнии, чьи угрозы нельзя предотвратить или отменить, но можно отсрочить их исполнение.
Глава XLVIII
1. Объясню, почему я не могу согласиться с таким делением. Дело в том, что и та молния, которую они зовут длительной, тоже определенна, ибо она точно так же отвечает известному сроку и не становится менее определенной оттого, что предвещает многое; определенна и та молния, которая у них считается допускающей отсрочку: ведь они сами признают, что отсрочка, какую можно вымолить, строго ограничена — частные молнии можно отодвинуть не более чем на десять лет, общественные — не более чем на тридцать; таким образом, и они определенны, поскольку установлена граница, долее которой невозможно просьбами отодвинуть исполнение их угроз. Итак, всякой молнии и всякому событию назначен срок — ведь неопределенное и постичь невозможно.
2. О том, что в молнии заслуживает изучения, этруски говорят вскользь и между прочим. Они могли бы разделить их — хотя бы так, как разделил философ Аттал[337], посвятивший себя этой науке: он выяснял, где явилась молния, когда, кому, при каких обстоятельствах, какая именно и какой величины. Но если бы я захотел распределять их по отделам, у меня не осталось бы времени ни на что другое. Это увело бы меня в бесконечность.
Глава XLIX
1. Теперь я только перечислю названия, какие дает разным молниям Цецина, и скажу, что я о них думаю. Он говорит, что молнии бывают требующие, которые требуют исполнения пропущенных обрядов или повторения совершенных не по обычаю; предупреждающие, которые указывают, чего следует остерегаться; смертоносные, предвещающие смерть и изгнание; обманчивые, несущие вред под видом какого-нибудь блага: они дают консульскую власть, которая оборачивается впоследствии бедой для тех, кто облечен ею; дают наследство, за выгоды которого приходится платить большими неприятностями; пугающие, несущие видимость опасности без самой опасности;
2. отменяющие, которые уничтожают угрозы предыдущих молний; удостоверяющие, которые подтверждают предыдущие; приземленные, которые случаются в закрытом помещении; покрывающие, которые ударяют в предметы, уже прежде пораженные молнией, если не было совершено искупительных обрядов; царские — когда молния попадает на форум, комиций или в места, где собирается правительство свободного города; они знаменуют для граждан угрозу царской власти;
3. подземные — когда огонь выскакивает из-под земли; гостеприимные, которые вызывают — или, если воспользоваться их [этрусков] более мягким выражением, приглашают — Юпитера присутствовать при наших жертвоприношениях; при этом, однако, следует остерегаться, как бы приглашенный не разгневался: говорят, что приход его сопряжен с чрезвычайной опасностью для приглашающих[338]; помогающие, которые приходят по призыву и ко благу призывавших[339].
Глава L
1. Насколько проще было деление, какое применял наш Аттал — выдающийся муж, соединивший этрусскую науку с греческой тонкостью: некоторые молнии означают нечто, касающееся нас; другие не означают ничего либо нечто такое, чего смысл до нас не доходит.
2. Среди означающих нечто есть благоприятные, есть зловещие, есть смешанные, есть ни благоприятные, ни зловещие. Зловещие бывают следующих видов: они знаменуют либо неизбежное зло, либо такое, какое можно уменьшить или предотвратить с помощью обрядов. Благоприятные предвещают либо постоянные, либо скоропреходящие радости. Смешанные либо несут нечто отчасти хорошее, отчасти дурное; либо превращают дурное в хорошее, а хорошее — в дурное. Ни благоприятные, ни зловещие — это те, что предвещают нам какое-либо дело, которому не приходится ни ужасаться, ни радоваться — например путешествие, не пробуждающее в нас ни страха, ни надежды.
Глава LI
Перейду к молниям, которые означают нечто, не имеющее, однако, отношения к нам; например, что в этом году еще раз случится такая же молния, какая уже была[340]. Молнии, не означающие ничего, или значение которых от нас ускользает — это такие, что падают, например, в открытое море или в безлюдные пустыни[341]; у них либо нет никакого значения, либо оно пропадает понапрасну.
Глава LII
1. Добавлю еще несколько слов о силе молнии. Не всякое вещество она разрушает одинаково. На более крепкое — обрушивается с бо́льшим неистовством, потому что встречает сопротивление; сквозь податливое порою проходит, вовсе не причинив вреда. С камнем, железом и прочими очень твердыми веществами она вступает в бой: ей приходится прокладывать себе путь сквозь них, кидаясь в наступление, — только так она находит себе выход; напротив, мягкие и неплотные вещества она щадит, хотя они, как нетрудно заметить, легковоспламенимы, потому что здесь ей открыты вход и выход — вот она и свирепствует меньше. Так, я уже говорил, что лежавшие в шкатулке деньги находят расплавленными, в то время как шкатулка цела: тончайший огонь проходит сквозь незаметные отверстия в древесине, но, наткнувшись внутри нее на нечто плотное и неподатливое, сокрушает его.
2. Таким образом, молния, как я говорил, свирепствует не везде одинаково: из характера повреждений ты увидишь, какая именно сила нанесла их, и распознаешь молнию по ее делам. Иногда, впрочем, одна и та же молния воздействует на одно и то же вещество по-разному, как, например, на дерево: наиболее сухое в нем — сжигает, наиболее твердое и плотное — пробивает и ломает; верхний слой коры разносит в щепки, находящееся под ней лыко раздирает и треплет, листья дырявит и обрывает. Вино замораживает, железо и медь плавит.
Глава LIII
1. Удивительно, что замороженное молнией вино, когда вернется в первоначальное состояние, убивает, будучи выпито, либо сводит с ума. Я размышлял, отчего бы это могло случаться, и вот что пришло мне в голову. У молнии есть смертоносная сила; похоже, что какой-то дух (spiritus) ее остается в жидкости, которую молния уплотнила и заморозила: ведь жидкость не оказалась бы связана, если бы ей не было придано нечто вяжущее.
2. К тому же масло и любая мазь после удара молнии отвратительно пахнут; значит, в тончайшем огне, направленном вопреки своей природе, присутствует некая смертоносная сила, убивающая не только своим ударом, но и дыханием. Кроме того, везде, где упала молния, остается несомненный запах серы; по природе своей тяжкий, он сводит с ума сильно надышавшихся им.
3. Но вернемся к этому на досуге. Может быть, тогда мне захочется показать, как все эти исследования проистекли из философии — матери искусств. Она впервые и исследовала причины вещей, и наблюдала их действия, и сопоставляла начала вещей с тем, что из них выходит — именно это лучше всего было бы сделать при изучении молнии.
Глава LIV
1. Теперь перейду к мнению Посидония[342]. Земля и все земное выдыхает [испарения] — частью влажные, частью сухие и дымные; последние составляют пищу для молний, первые — для дождей. Сухие и дымные [испарения], попав в воздух, не переносят заключения в облаках и разрывают их. Отсюда звук, который мы зовем громом.
2. А то, что распыляется в самом воздухе, тоже становится сухим и горячим; попав в заключение, оно точно так же ищет выхода и выходит с грохотом, причем иногда вырывается все сразу, и от этого звук получается сильнее, иногда же — частями и понемногу.
3. Итак, гром производит этот движущийся воздух (spiritus), когда разрывает облака или пролетает сквозь них; вращение воздуха (spiritus), запертого в облаке, создает мощнейшее трение. Гром есть не что иное, как звук, издаваемый быстро движущимся воздухом, и он не может происходить иначе, как при трении или разрыве.
Глава LV
1. «Необходимый для этого удар происходит и тогда, — скажет [наш оппонент], — когда сталкиваются между собой облака». — Но ведь столкновение происходит неполное: не целое облако сталкивается с целым, а часть с частью. К тому же мягкое звучит, только если сталкивается с твердым: так, прибоя не было бы слышно, если бы волна не сталкивалась с берегом.
2. «Огонь, упавший в воду, — возразит он, — потухая, издает звук». — Против этого я не возражаю — это говорит в мою пользу: ибо в подобном случае не огонь производит звук, а движущийся воздух (spiritus), выходящий через тушащую огонь воду. Уступаю тебе — пусть и возникает, и потухает огонь в облаке — все равно он рождается от движения воздуха (spiritus) и трения.
3. «А разве не может какая-нибудь из падучих звезд залететь в облако и там погаснуть?» — Думаю, что иногда может случиться и такое; но сейчас мы ищем естественную и постоянную причину, а не редкую и случайную. Допустим, я признаю, что ты прав: иногда после грома действительно вспыхивают огни, похожие на падучие, летящие звезды: но гром возникает не из-за них — разве что по чистой случайности гром происходит в то же время, что и это явление.
4. Клидем[343] говорит, что вспышка молнии — не огонь, а пустая видимость. Так ночью остается в воде светящийся след от движения весел. Пример неподходящий. Там свечение является внутри самой воды; а то, которое возникает в воздухе, вырывается и выскакивает из него.
Глава LVI
1. Гераклит считает зарницу чем-то наподобие первого нестойкого пламени нашего огня, когда он, пытаясь разгореться, то угасает, то вспыхивает. Древние называли это fulgebra — сполохами. Гром мы называем tonitrua — во множественном числе; а древние говорили tonitrus или tonus — я нашел это у Цецины; он, между прочим, был не лишен дара слова и в свое время мог бы красноречием завоевать себе имя, если бы его не затмила Цицеронова слава.
2. Говоря о сверкании молнии, древние употребляли тот же глагол, что и мы, только мы растянули в нем один слог и говорим fulgēre (сверкать) как splendēre (сиять); они же для обозначения того, как свет внезапно вырывается из облаков, употребляли обычно краткий средний слог и говорили fulgĕre.
Глава LVII
1. Ты спрашиваешь, что я сам думаю о молнии: ведь до сих пор рука моя служила лишь изложению чужих мнений. Скажу. Зарница — это когда внезапно и широко вспыхивает свет. Случаются они, когда облака разрежены и воздух превращается в огонь, но не находит достаточно сил, чтобы устремиться далеко.
2. Я думаю, тебя не удивит, что движение разреживает воздух, а разрежение воспламеняет; так становится жидким литой снаряд, пущенный из катапульты, и от трения воздуха, словно от огня, роняет свинцовые капли. Оттого-то летом и больше всего молний, что больше всего жара: ведь от трения двух нагретых предметов легче получается огонь.
3. И зарница, которая только сияет, и молния, которая устремляется вниз, получаются одинаково. Но у первой меньше силы, и питания меньше; чтобы выразить мою мысль одним словом, молния — это усиленная зарница. Итак, когда горячая и дымная природа, выделенная землей, попадает в облака и долго внутри них вращается, она в конце концов вырывается и, не имея сил, производит сияние;
4. там же, где у этих зарниц было больше питательного вещества и они вспыхнули с большей энергией, там они не только являются глазам, но и падают на землю.
Некоторые полагают, что молния всегда возвращается назад; некоторые — что она остается внизу, в тех случаях, когда в ней перевесят ее питательные вещества и когда она ударяла вниз с недостаточно большой силой.
Глава LVIII
1. «Но отчего же молния является внезапно, отчего не горит постоянным непрерывным огнем?» — Оттого, что в своем изумительно быстром движении она одновременно и разрывает облака, и зажигает воздух, а затем, когда движение затихает, и пламя перестает. Ведь бег движущегося воздуха (spiritus) не постоянен настолько, чтобы огонь мог непрерывно распространяться. Всякий раз, как он, бросаясь туда и сюда, с силой воспламенится от этого, он устремляется в бегство; затем, когда он вырвется и битва прекратится, он, по той же самой причине, либо несется до самой земли, либо рассыпается раньше, если был вытолкнут с меньшей силой.
2. «Почему она несется не по прямой?» — Потому, что состоит из движущегося воздуха (spiritu), а он — кривой (obliquus) и извилистый (flexuosus); и потому, что природа зовет огонь вверх, а насилие толкает его вниз, и путь начинает искривляться, в то время как ни одна сила не уступает другой и огонь стремится ввысь, а толкается книзу.
3. Почему часто поражаются молнией вершины гор? — Потому что они находятся напротив облаков на пути падающих с неба молний.
Глава LIX
1. Я знаю, чего ты давным-давно ждешь, чего добиваешься от меня. «Я предпочел бы, — скажешь ты, — не бояться молний, чем знать о них все; так что ты других учи, как они получаются; что до меня, то я хочу избавиться от страха перед ними, а не природу их рассматривать».
2. Последую твоему призыву. И в самом деле: ко всякому делу, ко всякой беседе следует примешивать что-нибудь поучительное. Когда мы проникаем в тайны природы, когда рассматриваем божественное, дух должен быть освобожден от своих недугов, должен быть время от времени укрепляем, — это необходимо и ученым, и тем, кто только этим и занимается; не для того, чтобы избежать ударов, — ибо со всех сторон сыплются в нас стрелы, — но для того, чтобы переносить их с мужеством и постоянством. Мы можем не потерпеть поражения; не подвергаться нападениям мы не можем.
3. Впрочем, несмотря ни на что, можно надеяться, что и нападений мы можем избежать. Ты спросишь: «Каким образом?» — Презирай смерть, и для тебя станет презренно все, что ведет к смерти, будь то войны или кораблекрушения, укусы диких зверей или тяжесть внезапно обрушивающихся развалин.
4. Разве они способны сделать что-нибудь большее, чем отделить душу от тела? Но этого никакая осторожность не избежит, никакая удачливость не дарует, никакая власть не добьется. Все эти ужасы случай распределяет по-разному; смерть призывает всех равно; разгневаны боги или благосклонны — приходится умирать.
5. Само отчаяние может придать духу. Трусливейшие животные, рожденные природой для бегства, оказавшись в безвыходном положении, отваживаются со своими невоинственными телами на битву. Нет врага страшнее, чем враг, загнанный в тупик и оттого храбрый: необходимость исправляет труса гораздо решительнее, чем добродетель; иными словами, великий дух и дух отчаявшийся способны отважиться по меньшей мере на равное.
6. Положим, что мы, в том что касается смерти, в положении отчаянном. Да так оно и есть. Так и есть, Луцилий: мы все обречены смерти. Весь этот народ, какой ты видишь, и весь, какой ты можешь вообразить себе где бы то ни было, природа скоро отзовет назад и схоронит — под вопросом только срок, а не суть дела: раньше ли, позже ли, а приходится отправляться туда же.
7. Так что ж? Разве не покажется тебе трусливейшим и глупейшим из людей тот, кто беспрестанно молит об отсрочке смерти? Неужели не стал бы ты презирать того, кто, созданный одним из обреченных на гибель, принялся бы выпрашивать, как благодеяния, позволения подставить шею последним? — Мы делаем то же; умереть позже — для нас вещь драгоценная.
8. Всем вынесен смертный приговор; и приговор этот в высшей степени справедлив и служит обычно величайшим утешением для тех, кому предстоит претерпеть последние муки: у всех нас одна причина, один и жребий. Если бы нас вел на казнь судья или магистрат, мы следовали бы за ним и послушно предстали бы перед нашим палачом; но какая разница, по приказу или по рождению идем мы навстречу смерти?
9. О безумец, ты забыл о своей хрупкости, если боишься смерти, только когда грянет гром! Разве от него зависит твоя сотворенность? Ты что, всегда будешь жить, если избежишь молнии? Тебе грозит меч, камень, лихорадка. Молния — не самая страшная из грозящих тебе опасностей, она — самая заметная.
10. Разве плохо тебе будет, если бесконечная скорость удара не даст тебе даже ощутить, что ты умираешь; если твою смерть сопроводят священные обряды; если, хотя бы в тот момент, когда ты будешь испускать дух, ты не будешь совершенно лишним, а станешь знамением чего-то великого? Что плохого, если тебя похоронят вместе с молнией?[344]
11. Но ты дрожишь от грома небесного и трепещешь от пустого облака, ты падаешь замертво каждый раз, как что-нибудь сверкнет. Ты что же, думаешь, что достойнее погибнуть от поноса, чем от молнии? А нет, так тем мужественнее поднимись навстречу угрозам неба, и пусть воспламенится весь мир — помни о том, что с такой смертью ты ничего не теряешь.
12. А если ты веришь, что именно для тебя готовится это небесное смятение, эта схватка бурь, что ради тебя несутся и сталкиваются с оглушительным грохотом тучи, что ради твоей погибели высекается такая громада огня, — тогда утешайся тем, что смерть твоя стоит так дорого.
13. Но для подобного соображения не будет места: громовый удар милостив к нашему страху, и в числе его преимуществ то, что он предваряет ожидание. Если кто и боялся когда-нибудь молнии, то только той, которая в него не попала.
Книга III (VII)[345]
О водах
Предисловие
1. Я вполне понимаю, Луцилий, лучший из мужей, сколь велико дело, которому я, старик, пытаюсь сейчас положить основание, решившись обойти весь мир, докопаться до его причин и до его тайн и предоставить их любознательности других. Успею ли я постичь столь многое, собрать столь рассеянное, разглядеть столь сокровенное?
2. Старость должна бы мне воспрепятствовать, представив мне с укоризною в бесплодных занятиях растраченные годы. Тем крепче поднажмем, и пусть труд возместит ущерб, нанесенный дурно истраченной жизнью; прибавим ко дню ночь, отбросим дела, освободимся от забот об имении, лежащем далеко от хозяина; пусть дух[346] принадлежит целиком себе; обратимся, хотя бы под самый конец, к самосозерцанию.
3. Так дух и поступит, и будет понукать себя и ежедневно измерять быстротечность времени. Упущенное он возместит бережливым использованием жизни настоящей; переход к достойной жизни от раскаяния — самый надежный. И вот мне хочется воскликнуть стихом славного поэта:
Я бы так и воскликнул, если бы предпринимал этот труд мальчиком или юношей, ибо для столь великого предприятия никакого времени недостаточно; но сейчас мы приступаем к серьезному, важному, непомерному делу далеко за полдень.
4. Сделаем так, как случается иногда в пути: кто вышел позже, наверстывает упущенное быстротой. Поспешим же, и возьмемся за наш — не знаю, осуществимый ли, но во всяком случае, великий — труд без скидки на возраст. Всякий раз, вспомнив о величии начатого, воспрянет дух, размышляя о том, сколько осталось предпринятого труда, а не о том, сколько осталось ему жить.
5. Некоторые потратили себя на то, чтобы изложить деяния чужеземных царей, поражения и победы, нанесенные друг другу народами. Не лучше ли искоренять свои беды, чем передавать потомству чужие? Не предпочтительнее ли славить деяния богов, нежели разбои Филиппа или Александра[348] и прочих, прославившихся истреблением племен? Ведь для смертных они были не меньшей пагубой, чем потоп, заливающий равнины, чем пожар, сжигающий все живое.
6. Пишут о том, как Ганнибал перешел через Альпы; как неожиданно напал он на Италию войной, еще более ожесточенной из-за испанского поражения; как после катастрофы, даже уже после падения Карфагена он, упрямый, обходил царей, прося войско против Рима, предлагая себя в вожди; как, уже стариком, он не переставал искать войны в любом уголке света: обходясь без родины, он не мог обходиться без врага[349].
7. Насколько лучше задаваться вопросом, что следует делать, а не что сделано; научить тех, кто вверил дела свои фортуне, что она не дает ничего постоянного, что все ее дары улетучиваются легче ветерка! Фортуна не умеет стоять на месте; ей весело сменять печаль радостью или хотя бы перемешать их. Так пусть же никто не полагается на счастливое стечение обстоятельств, пусть никто не отчаивается при неблагоприятном: они постоянно чередуются.
8. Что ты прыгаешь от радости? То, на чем ты въехал на самый верх[350], может сбросить тебя в любой момент, когда — ты не знаешь: у него своя цель, не твоя. Что ты лежишь в отчаянии? Ты достиг самого дна, теперь есть куда подниматься. Неприятности переменяются к лучшему, удачи — к худшему.
9. Поэтому следует твердо помнить о непрочности не только частных домов — эти могут рухнуть от пустяка, — но и общественных: из ничтожества вырастали царства, поднимавшиеся выше своих повелителей; великие империи сами собой рушились в расцвете сил. А сколько их было разрушено другими, невозможно и сосчитать. В тот самый момент, как бог особенно возвышает одни государства, он низлагает другие, но не мягко клонит книзу, а сбрасывает с самой вершины, так что после них не остается ни следа.
10. Подобные вещи мы считаем великими оттого, что мы малы; так, многое обретает величие не от своей природы, а от нашей низости.
Какое из человеческих дел главное? Наполнить моря кораблями, водрузить знамена на берегах Красного моря, блуждать по океанам в поисках неведомых земель, когда ведомых уже не хватает для беззаконий? — Нет, но увидеть все, видимое очам духа, и подчинить себе пороки, ибо нет победы более великой. Нет числа тем, кто владел народами и городами; тех, кто владел собой, можно перечесть по пальцам.
11. Так что же главное? — Вознестись духом над угрозами и обещаниями фортуны; ничего не полагать достойным надежды. Да и что есть у нее такого, чего ты мог бы возжаждать? Ты, который, обращаясь от божественных собеседований к делам человеческим, всякий раз омрачался так, будто с яркого солнца погружался в густую тень?
12. Так что же главное? — Быть в силах весело переносить невзгоды; что бы ни случилось, принимать так, словно ты хотел, чтобы оно случилось. Ведь ты и должен был бы хотеть, зная, что все происходит по божественному определению: плакать, стонать и жаловаться — значит отпасть от бога.
13. Так что же главное? — Дух, мужественно и твердо встречающий несчастья, от излишеств не просто отвращающийся, но им враждебный; опасности не ищущий и не бегущий; умеющий не дожидаться счастья, а делать его, и без трепета и смятения шагать вперед навстречу любой судьбе, не позволяя ослепить себя ни блеску успеха, ни вихрю неудач.
14. Так что же главное? — Не допускать в душу дурных замыслов; воздевать к небу чистые руки; не добиваться такого добра, которое кто-то вынужден утратить, чтобы оно перешло к тебе; стремиться стяжать лишь то, что можно стяжать без соперников — доброе сердце[351]; на все прочее, что так высоко ценят смертные, пусть даже оно само случайно явится в твой дом, смотреть равнодушно: как пришло, так и уйдет.
15. Так что же главное? — Подняться духом высоко над случайностями; помнить, что ты человек, чтобы, если ты будешь счастлив, знать, что это ненадолго, а если несчастлив — знать, что перестанешь им быть, как только перестанешь считать себя таковым.
16. Так что же главное? — Жить, легко дыша кончиками губ, а не засасывать жизнь с ревом и свистом; благодаря этому становятся свободными — не по праву квиритов[352], а по праву природы. Свободен тот, кто избежал рабства у самого себя: это рабство — постоянное и неодолимое, день и ночь равно гнетущее, без передышки, без отпуска.
17. Быть рабом самого себя — тяжелейшее рабство. Его легко, впрочем, стряхнуть, если ты перестанешь многого себе требовать, если перестанешь искать себе выгоды, если будешь держать перед глазами свою природу и помнить, как мало осталось тебе времени, даже если ты еще юн, и будешь говорить сам себе: «Что я беснуюсь? Чего ради пыхчу, потею, верчусь, пыля, по земле и по форуму? Мне ведь надо немного и ненадолго».
18. И здесь нам очень поможет рассмотрение природы вещей. Во-первых, мы отойдем от всего грязного. Во-вторых, мы отдалим от тела нашу душу, которая нам нужна здоровая и сильная. Наконец, изощренность, приобретенная путем упражнения в исследовании запутанных проблем, пригодится и для ясных; а ведь ничего нет яснее благодетельных правил, которые учат нас, как справиться с нашей мерзостью и безумием, которые мы сами осуждаем, а бросить не можем.
Глава I
1. Итак, займемся вопросом о земных водах и исследуем, каким путем они получаются, будь то ручей, о котором говорит Овидий:
или [удивительный Тимав, о котором пишет] Вергилий:
или, как я нахожу у тебя, любезнейший Луцилий:
Откуда берется вода и каким образом столько огромных рек текут день и ночь? Почему одни вспухают во время зимних дождей, а другие поднимаются, когда все прочие потоки мелеют?
2. Нил мы выделим из общей массы: у него природа особенная и единственная в своем роде; к нему мы обратимся в свое время. А сейчас займемся рядовыми водами — холодными и горячими. Относительно горячих надо будет выяснить, рождаются ли они горячими или становятся. Из прочих мы особо рассмотрим те, которые вкус или какая-либо полезность сделали примечательными. Ибо некоторые воды лечат глаза, некоторые — нервы; некоторые исцеляют застарелые болезни, от которых отказались врачи; некоторые заживляют язвы; некоторые, будучи выпиты, согревают нутро и помогают при заболеваниях легких и кишечника; некоторые останавливают кровь. Словом, полезные свойства их не менее разнообразны, чем вкус.
Глава II
1. Все воды либо стоят, либо текут, либо собираются, либо движутся по различным жилам под землей. Одни из них сладкие, другие — по-разному едкие. Среди последних встречаются соленые, горькие и лечебные — среди них мы различаем серные, железные, квасцовые; вкус указывает на их свойства.
2. Помимо этого, воды различаются во многих других отношениях, прежде всего на ощупь: бывают холодные и горячие; далее по весу: бывают легкие и тяжелые; далее по цвету: бывают чистые, мутные, синие, желтоватые; затем по воздействию на здоровье: бывают полезные, бывают смертоносные, бывают такие, что затвердевают в камень; бывают жидкие и густые; бывают утоляющие жажду и такие, что их можно сколько угодно пить, не напиваясь; бывают и такие, которые способствуют плодородию.
Глава III
1. Стоит вода или течет — это зависит от расположения местности: по склону — течет, на ровном и низменном месте — держится и застаивается. Иногда ветер гонит ее снизу вверх: но это нельзя назвать течением; это насильственное движение. Собирается вода от дождей. Рождается из своего источника. Впрочем, ничто не мешает воде и рождаться и собираться в одном и том же месте. Это мы видим в Фуцинском озере: с окрестных гор стекает в него дождевая вода, но и в нем самом есть большие скрытые жилы; поэтому даже после того как перестанут течь зимние потоки, оно сохраняет тот же уровень воды.
Глава IV
Прежде всего зададимся вопросом: каким образом земли хватает на то, чтобы поддерживать непрерывное течение рек, откуда берется столько воды? Удивительно и то, что моря будто и не ощущают притока рек; не менее удивительно, что земля не ощущает их оттока. Что наполнило ее так, что из своих скрытых запасов она может предоставлять такое количество воды, или что пополняет ее запасы всякий раз, как они истощаются? Какой бы мы ни дали ответ на этот вопрос относительно рек, он будет верен также и для ручьев и источников.
Глава V
Некоторые считают, что земля получает назад все воды, какие она выделила, поэтому, дескать, и моря не разливаются: они не усваивают то, что в них втекло, а тотчас возвращают земле. Тайным путем море проникает под землю: в него вода течет открыто, из него возвращается незримо. И на этом обратном пути море процеживается: пробираясь, как сквозь строй, через множество изломов земли, оно теряет горечь и дурной вкус; пробираясь сквозь самые разные почвы, оно лишается всякого вкуса и превращается в чистую пресную воду.
Глава VI
1. Некоторые полагают, что земля выделяет то, что она получила от дождей, и в доказательство указывают, что там, где редко бывает дождь, чрезвычайно мало рек.
2. Именно поэтому, говорят они, так сухи пустыни Эфиопии и так мало источников встречается во внутренней Африке: климат там жаркий и почти всегда лето; вот и расстилаются там безводные пески, без деревца, без пахаря, изредка орошаемые дождем, который тут же впитывается. И наоборот: известно обилие ручьев и рек в Германии, Галлии и ближайшей к ним части Италии, а все потому, что климат там влажный и даже летом бывают дожди.
Глава VII
1. Ты сам видишь, что против этого можно многое возразить. Прежде всего я, как человек, усердно вскапывавший свой виноградник, заявляю тебе, что не бывает такого дождя, который промочил бы землю глубже, чем на десять футов: обычно вся влага впитывается у поверхности и ниже не опускается.
2. Так каким же образом дождь, смачивающий лишь верхний слой почвы, может питать водные потоки? Большая часть его уносится в море по руслам рек; ничтожная часть впитывается землей. Но и эту часть земля не сохраняет. Если она сухая, она поглощает то, что пролилось в нее; если уже насыщена влагой, выталкивает все, что упадет на нее сверх потребности; поэтому после первых дождей потоки не увеличиваются, ибо жаждущая земля втягивает в себя всю воду.
3. А как быть с реками, которые вырываются из гор и скал? Что могут дать им дожди, которые скатываются вниз по голым камням, не находя земли, в которую могли бы впитаться? Прибавь к этому, что в самых сухих местах колодцы, вырытые более чем на двести-триста футов вглубь, натыкаются на богатые артерии вод на такой глубине, куда дождь не проникает; ясно, что там не небесная и не собравшаяся влага, а, как обычно говорят, живая вода.
4. Вот еще аргумент, опровергающий такое мнение: некоторые источники вытекают на поверхность на самой вершине горы; очевидно, что они либо там и берут свое начало, либо поднимаются под давлением снизу, в то время как всякая дождевая вода стекает вниз.
Глава VIII
Некоторые думают, что подобно тому, как на внешней поверхности земли лежат обширные болота и большие судоходные озера, как раскинулись здесь по огромным пространствам моря, заливая во все низменные места, так же точно и внутренность земли обильна пресными стоячими водами, которые занимают не менее обширное пространство, чем Океан с его заливами, даже, пожалуй, и более обширное: ведь в глубину земля простирается дальше. Вот из этих-то глубинных запасов и выходят все потоки. А что земля не ощущает их утечки, неудивительно: ведь и моря не чувствуют их притока.
Глава IX
1. Некоторым кажется верным такое объяснение: внутри земли, говорят они, есть глубокие полые расселины и в них много движущегося воздуха. Под давлением тяжкого мрака он не может не замерзать, и тогда, вялый и неподвижный, он перестает быть самим собой и превращается в воду. Точно так же как над нами изменение воздуха дает дождь, так под нами оно дает реки и ручьи.
2. Но над нами тяжелый и медлительный воздух не может застаиваться долго — порой его рассеивает солнце, порой развеивает ветер, — так что между дождями получаются большие перерывы; под землей же — неважно, что именно заставляет там воздух превращаться в воду, — оно остается всегда одним и тем же, будь то постоянный мрак, вечный холод, ничем не тревожимая плотность воздуха; а значит, там всегда будут иметься причины для возникновения источника или реки.
3. Мы полагаем, что земля способна меняться. Всякое ее испарение, которое не попадает в область свободного воздуха, сразу сгущается и превращается во влагу. Вот тебе первая причина рождения подземных вод.
Глава X
1. Можешь прибавить сюда и то, что все возникает из всего: из воды воздух, из воздуха вода, огонь — из воздуха, из огня — воздух; так почему бы воде не получиться из земли? Если земля способна превращаться в другие элементы, значит, и в воду тоже. Более того: в воду по преимуществу, ибо земля и вода — вещи родственные, обе тяжелые, обе плотные, обе — оттесненные в самый низ мироздания. Из воды земля получается; почему бы не получиться и воде из земли?
2. «Но реки же очень большие». — Если ты заметил их размеры, погляди на размеры того, из чего они получаются. Ты удивляешься, откуда они берут все время новую воду, ведь они текут постоянно, а некоторые и вовсе стремительно мчатся. Тогда удивись заодно и тому, что воздух не иссякает и течение его не прекращается день и ночь, хотя ветры, казалось бы, угоняют весь воздух прочь. Да еще, в отличие от рек, он не стекает по определенному руслу, а бродит, широко разносясь по необозримым просторам неба. Удивись, пожалуй, и тому, что в море осталась хоть одна волна и вот движется к берегу{3}, хотя уже столько волн о него разбилось.
3. То, что возвращается к самому себе, не иссякает. Все элементы переходят друг в друга; когда погибает какая-то доля одного, она превращается в другой, и природа, словно водрузив свои части на весы, внимательно следит, как бы не нарушилось их равновесие и мир не перекосился бы на сторону.
4. Все во всем. Воздух не только переходит в огонь; в нем самом всегда есть огонь: отними у него теплоту — застынет, затвердеет, остановится. Воздух может переходить во влагу, но и сам он не без влаги. Земля производит и воздух, и воду; но и сама никогда не бывает без воздуха и воды. Тем легче совершается их взаимный переход, что к каждому из них уже примешано то, во что ему предстоит перейти.
5. Итак, земля содержит влагу и выделяет ее. Содержит она и воздух; холодный зимний мрак сгущает его, и получается влага. Кроме того, сама земля тоже может превращаться во влагу и пользуется этой своей способностью.
Глава XI
1. «Ну, хорошо, — скажут нам, — но если причины возникновения рек и источников постоянны, почему же они иногда пересыхают, а иногда выходят на поверхность в таких местах, где их раньше не было?» — Землетрясения часто разрушают их пути, и обвал преграждает воде дорогу; задержанная, она ищет новых выходов и вырывается куда-нибудь, или же само смещение земли переводит ее русло в другую сторону.
2. У нас на поверхности земли случается обыкновенно так, что реки, потеряв русло, сначала разливаются, а затем прокладывают себе новую дорогу, поскольку утратили старую.
Теофраст сообщает о таком случае на горе Корике, где после землетрясения выбилось из-под земли множество новых источников.
3. Кроме этой, он приводит и другие причины, заставляющие воды, по его мнению, изменить течение, свернуть в сторону или выйти наверх. Некогда Гем[355] был беден водой, но когда племя галлов, преследуемое Кассандром[356], переселилось туда, обнаружилось огромное изобилие вод, которые прежде, по-видимому, выпивали окрестные леса. Леса были срублены, и влага, не потребляемая более деревьями, разлилась по поверхности.
4. То же самое, по его словам, произошло и в окрестностях Магнезии. Но, не в обиду Теофрасту будь сказано, это малоправдоподобно, ибо наиболее тенистые места всегда бывают богаче водой. Если бы деревья осушали воду, этого не могло бы быть; но деревья пьют из ближайшего слоя почвы, реки же вытекают из глубины и зарождаются гораздо дальше, чем могут достать корни. Кроме того, порубленные деревья потребят больше влаги: ведь им будет нужно не только за счет чего жить, но и за счет чего расти.
5. Тот же Теофраст рассказывает, что возле города Аркадии на острове Крите пересохли источники и ручьи, когда город был разрушен и земля перестала возделываться; когда же впоследствии вернулись земледельцы, вернулась и вода. Объясняет это Теофраст тем, что слишком уплотнившаяся земля затвердела; никто не рыхлил ее, и она не могла больше пропускать дождевую воду. Но как же тогда в самых наипустыннейших местах мы обнаруживаем множество источников?
6. Наконец, гораздо больше можно найти местностей, которые начали возделываться из-за воды, чем таких, в которых появилась вода из-за того, что их начали возделывать. Не дождевая вода течет в обширных реках, которые от самого своего истока пригодны для больших судов; это ты можешь понять и из того, что ток воды в самом их начале одинаков зимой и летом. Дождь может создать бурный поток, но не реку, равномерно и всегда одинаково бегущую в своих берегах; ее дожди не создают, а только пополняют.
Глава XII
1. Повторим, если ты не против, в нескольких словах сказанное выше, и ты увидишь, что вопросов у тебя не останется, что ты уже добрался до истинного происхождения рек. Река, по всей видимости, есть постоянное и обильное течение воды. Итак, ты спрашиваешь у меня, откуда берется эта вода; а я, в свою очередь, спрошу тебя, откуда берутся воздух или земля.
2. Ведь если в природе вещей имеются четыре элемента, что толку спрашивать, откуда вода: она есть четвертая часть природы. Что удивительного, если такая большая часть природы всегда в состоянии излить из себя что-нибудь?
3. Как воздух — тоже четвертая часть мира — испускает бури и ветры, так вода — реки и ручьи; если ветер — это текучий воздух, то река — текучая вода. Сказав, что она — элемент, я дал ей тем самым достаточно много сил. Ведь ты же понимаешь: что вытекает из элемента, не может иссякнуть.
Глава XIII
1. Добавлю, говоря словами Фалеса: «Могущественнейший элемент». Фалес считает, что он был первым, что из него все возникло[357]. А мы[358] либо совершенно соглашаемся с ним, либо придерживаемся очень близкого мнения. Ибо мы говорим, что огонь заполняет мир и обращает все в себя; постепенно он слабеет, затухает и сходит на нет, и, когда огонь угас, в природе вещей не остается ничего, кроме влаги; в ней таится надежда будущего мира.
2. Таким образом, огонь — конец мира, вода — начало. И ты еще удивляешься, что может постоянно питать потоки то, что было раньше всего и из чего все произошло? При обособлении вещей эта влага свелась к одной четверти всего сущего и была расположена так, чтобы ее хватало для создания рек, ручьев и источников.
Глава XIV
1. То, что Фалес предлагает дальше, нелепо. А именно он говорит, что круг земель поддерживается водою и плывет по ней наподобие корабля, и когда говорят, что земля трясется, это она колеблется подвижной водою; так что не приходится удивляться обилию в нем влаги, необходимой для течения рек, — он весь лежит во влаге[359].
2. Это устарелое и невежественное мнение ты отвергни. У тебя нет оснований верить, будто вода просачивается в наш шар сквозь трещины и стоит, как вода в трюме корабля.
Египтяне выделяли четыре элемента, а затем делили каждый из них надвое. Воздух они относят к мужскому роду постольку, поскольку он — ветер, и к женскому — поскольку он туманен и неподвижен; так же и воду: море зовут мужским именем, а всю прочую — женским; огонь зовут мужчиной, когда он пылает жарким пламенем, женщиной — когда светит и не жжется; земля более твердая — скалы и утесы — зовется у них мужским, поддающаяся обработке и возделанная — женским именем.
3. Море едино и было таким, по-видимому, изначально; у него есть свои подземные жилы, которые пополняют его и вызывают его приливы и отливы. Как и у моря, так и у более мягкой воды есть обширные скрытые запасы, которые не может исчерпать течение самой большой реки. Количество этих запасов нам неизвестно; из них выпускается ровно столько воды, сколько может течь.
Глава XV
1. Кое с чем из этого мы вполне можем согласиться. Однако я вот еще что думаю. Мне кажется, что землей управляет природа и что она устроила ее[360] по образцу наших тел, в которых есть вены и артерии, одни из которых содержат кровь, другие — воздух (spiritus). Так же и в земле есть одни пути, по которым бежит вода, другие — по которым движется воздух; и природа до такой степени создала их похожими на человеческое тело, что уже и предки наши назвали их водными жилами.
2. Но подобно тому как в нас есть не только кровь, но множество видов жидкости: одни — необходимые, другие — испорченные или более вязкие, чем надо, в голове — мозг, в костях — костный мозг, всевозможная слизь, слюни, слезы и жидкость, добавленная в суставы, чтобы они скользили и быстрее сгибались, — точно так же и в земле огромное множество разных жидкостей: одни в свое время затвердевают — отсюда все залежи металлов, из которых наша алчность извлекает золото и серебро; другие превращаются из жидкости в камень; иногда земля и влага, загнивая, образуют такие вещества, как асфальт и другие ему подобные. Такова причина рождения вод по закону и по воле природы.
4. Кроме того, как и в наших телах, так и в земле жидкости часто портятся: какой-нибудь удар, или сотрясение, или истощение почвы, или холод, или зной могут повредить их природу; в жидкость может проникнуть сера и сгустить ее, порой надолго, порой на короткое время.
5. И так же, как в наших телах при повреждении вены сочится кровь, до тех пор пока вся не вытечет, или пока не затянется разрыв вены, преградив ей дорогу, или какая-нибудь иная причина не остановит кровь, так и в земле: когда рвутся и открываются ее жилы, вытекает ручей или река.
6. Важно, насколько большая жила открылась. Кроме того, некоторые иссякают, когда вода из них вытечет; иногда они запруживаются каким-либо препятствием; иногда сходятся и как бы стягиваются шрамом, преграждающим воде путь; иногда же земля, способная, как мы сказали, изменяться, не может больше превращаться в вещества, питающие влагу.
7. А бывает и так, что исчерпавшиеся жилы вновь наполняются, иногда сами, вновь собравшись с силами, иногда позаимствовав их из другого места. Часто пустые, расположенные рядом с полными, втягивают в себя влагу; часто сама земля, там, где она легко разлагается, тает и превращается в жидкость; часто под землей происходит то же, что и в облаках: воздух сгущается и, становясь слишком тяжел, чтобы сохранять свою собственную природу, рождает жидкость; часто собирается тонкая и рассеянная влага наподобие росы, которая из многих мест стекается в одно: аквилеги — водоискатели — называют это явление «потом», потому что отдельные капли выступают то ли под давлением почвы, то ли под влиянием жары[361]. [8.] Этой тоненькой струйки едва хватает для источника. А из больших полостей и больших скоплений воды выходят потоки, иногда спокойные, если вода стекает только под действием собственной тяжести, иногда бурные и громогласные, если воду выбрасывает вверх смешавшийся с ней воздух (spiritus).
Глава XVI
1. Но отчего некоторые источники бывают по шесть часов кряду полные и по шесть — сухие? Излишне называть по отдельности реки, в известные месяцы полноводные, а в другие — мелкие, и искать отдельной причины для каждой, когда я могу дать для всех одно объяснение. Как перемежающаяся лихорадка возвращается в один и тот же час, как подагра дает себя чувствовать в определенное время, как очищение, если ничто ему не мешает, происходит всегда в установленный день, как новорожденный появляется в свой месяц, так и у вод есть свои промежутки, в которые они уходят и возвращаются. Эти промежутки могут быть меньше и потому заметнее, могут быть больше, но оттого не менее определенные.
3. Стоит ли удивляться, что все в природе вещей происходит по установленному порядку? Зима никогда не пропускает своей очереди, летняя жара наступает в свое время, осень и весна сменяют их, как обычно; солнцестояние и равноденствие повторяются в один и тот же день.
4. Есть и под землей законы природы, менее известные нам, но не менее определенные. Поверь мне, внизу есть все, что ты видишь наверху. Есть и там просторные гроты и огромные впадины, обширные пространства между нависающими с обеих сторон горами; есть обрывающиеся в бездну пропасти, которые не раз поглощали провалившиеся города и схоронили в своих глубинах громадные обвалы, — [5.] все это заполнено воздухом (spiritus), ибо нигде нет ничего пустого, — есть покрытые тьмой болота и большие озера. Там тоже зарождаются животные, но неповоротливые и безобразные, ибо зачаты они в слепом и густом от сырости воздухе, в застывших стоячих водах. Большая часть из них слепы, как кроты и живущие под землей крысы — зрения у них нет, потому что оно им не нужно. Отсюда, как утверждает Теофраст, и те рыбы, которых откапывают в некоторых местах из-под земли[362].
Глава XVII
1. Тут тебе на ум приходят разные остроты и, словно выслушав неправдоподобную байку, ты скажешь: «Что же, ходить на рыбалку не с сетями и не с крючками, а с мотыгой? После этого, я думаю, пойдут в море на охоту с рогатиной». Но почему бы рыбам не выходить на сушу, если мы выходим в море? Меняемся местожительством.
2. Ты удивляешься, что такое случается; но насколько более невероятные дела творит роскошь, всякий раз либо обманывая, либо побеждая природу! Рыбы плавают по комнате, и их ловят прямо под столом, чтобы сразу отправить на стол. Краснобородка кажется недостаточно свежей, если не умрет в руке у пирующего. Рыб приносят в закупоренных стеклянных горшках и, пока они умирают, наблюдают многообразные превращения цветов, которые меняет смерть в борьбе с дыханием жизни (spiritus). Других маринуют живыми, и они погибают прямо в соусе.
3. И эти люди считают сказкой, что рыбы могут жить под землей и что их можно не ловить, а откапывать. А разве не мог бы показаться столь же неправдоподобным рассказ о том, как рыба плавает в соусе и ее убивают не в кухне, а за обеденным столом, после того как она вполне усладит глаза и насытит их прежде желудка.
Глава XVIII
1. Позволь мне отступить от нашего вопроса ради обличения роскоши[363]. — Ты говоришь, что нет ничего прекраснее умирающей краснобородки; испуская дух, в самой уже агонии она окрашивается сначала в красный цвет, а потом бледнеет, чешуйки переливаются, и оттенки цветов меняются между жизнью и смертью неуловимыми переходами. Как долго предавалась наша роскошь ленивой дремоте, как поздно хватилась, что прозевала такое благо, что ее провели и надули! Таким дивным зрелищем наслаждались до сих пор одни рыбаки!
2. «Зачем мне вареная рыба? Зачем мертвая? Пусть она испустит последний вздох прямо на моем блюде». Раньше мы удивлялись брезгливости тех, кто не желал дотронуться до рыбы, если она поймана не в тот же день — так, чтобы в ней, по их словам, чувствовался вкус моря; из-за этого доставляли ее бегом, из-за этого народ на улице расступался перед запыхавшимися, кричащими разносчиками рыбы.
3. Но до чего дошла привередливость! Тухлой считается уже и убитая рыба. «Ее поймали сегодня». — «В таком важном деле я не могу положиться на твои слова. Пусть принесут ее сюда и пусть испустит дух при мне». Брюхо наших лакомок до того заважничало, что они и отведать уже не могут того, что не плавало и не трепыхалось перед ними во время самого пиршества. Такой вот утонченности достигла надменная роскошь, столько изящных ухищрений изобретает ежедневно это безумие, презирающее все привычное!
4. Раньше приходилось слышать: «Ничего нет лучше краснобородки, которая водится среди прибрежных скал!» А сегодня слышим: «Ничего нет прекраснее умирающей краснобородки. Дай-ка мне в руки склянку, посмотреть, как она забьется в конвульсиях». И когда все вдоволь ее нахвалят, она извлекается из своего прозрачного садка.
5. Тут все знатоки наперебой начинают показывать: «Посмотри, какой вспыхивает багрянец, алее любого пурпура! Гляди, какие прожилки бегут по бокам! А живот — можно подумать, что он залит кровью! А вот сейчас, в этот самый момент, как ослепительно сверкнуло что-то блестящее и синее! А теперь, смотри-ка, вытягивается и бледнеет и становится одноцветная».
6. Никто из них не станет сидеть у постели умирающего друга. Никто не выдержит зрелища смерти собственного отца, которой сам же желал. Сколько из них проводили до погребального костра умершего родственника? Братьев, близких в последний час покидают; на смерть краснобородки сбегаются толпой. «Ведь нет ничего прекраснее». — [7.] Право, тут не удержишься от резкого слова, поневоле перейдешь границы умеренности. Для чревоугодия им мало зубов, живота, рта: они прожорливы даже глазами.
Глава XIX
1. Однако вернемся к нашему предмету. Вот доказательство того, что под землей скрыто много вод, богатых рыбой, безобразной от жизни в затхлой неподвижности: когда вода вырывается на поверхность земли, она выносит с собой массу живых существ, мерзких и отталкивающих на вид, вредоносных на вкус.
2. Достоверно известно, что в Карии, возле города Идима, где вырвалась из-под земли подобная вода, вынеся на поверхность в новом потоке неведомых дотоле дневному свету рыб, погибли все, кто этих рыб поел. И неудивительно. Тела их были раздуты и жирны, как от длительного покоя; они не знали движения, откармливались во тьме, не видав света — главного источника здоровья. 3. А что рыбы могут зарождаться во глубине земли — тому свидетельство угри, которые рождаются в скрытых гротах или ямах; они, кстати, тоже тяжелая пища из-за ленивого и малоподвижного образа жизни, особенно если были целиком скрыты в глубине под илом.
4. Итак, в земле есть не только водяные жилы, из стечения которых могут образоваться реки, но и большие, широкие потоки, одни из которых текут все время под землей, до тех пор, пока их не поглотит какая-нибудь пропасть, другие выходят на поверхность под каким-нибудь озером. Кто же не знает, что бывают озера и болота бездонные? К чему я все это говорю? — Чтобы стало ясно, что эти воды вечно поставляют вещество для больших потоков, и точно выяснить их пределы так же невозможно, как найти истоки иных рек.
Глава XX
1. А почему на вкус вода бывает разная? — На это есть четыре причины. Во-первых, вкус воды зависит от почвы, по которой она течет; во-вторых, от почвы, из которой вода рождается путем превращения; в-третьих, от воздуха, который преобразовался в воду; в-четвертых, воду может испортить вторжение чего-либо вредоносного извне.
2. Все это сообщает воде разный вкус, целебные свойства; отсюда — ее тяжелые испарения, смертоносный запах; тяжесть, теплота, или, наоборот, чрезмерный холод. Если вода протекает по местности, богатой серой, или щелочью, или асфальтом, это существенно влияет на ее свойства: она портится и пить ее нельзя без опасности для жизни.
3. Отсюда — и то, о чем говорит Овидий:
Эта вода содержит лекарственные вещества и такого рода примеси, которые прилепляются к попавшим в эту воду телам и делают их твердыми. Как путеоланская пыль, коснувшись воды, становится камнем[365], так эта вода, коснувшись твердого тела, застывает и сковывает его.
4. Поэтому вещи, брошенные в такое озеро и тотчас же вынутые, оказываются каменными. Такое случается и в Италии в некоторых местах: опустишь в воду прутик или веточку с листьями, а через несколько дней вынимаешь их окаменелыми; находящаяся в воде примесь собирается вокруг тела и постепенно к нему приклеивается. Это покажется тебе менее странным, если обратишь внимание на то, что Альбула, да и почти все насыщенные серой воды образуют твердую корку вдоль своего русла и берегов.
5. Одна из перечисленных причин действует и в тех озерах, из которых «хотя бы глоток кто ни выпьет», по словам того же поэта, «тот в неслыханно тяжкий сон иль в безумье впадает»[366]. Их вода действует как неразбавленное вино, только сильнее. Ибо подобно тому как опьянение, пока не выветрится, есть не что иное, как безумие и переходит в необычайно тяжелый сон, так и эта серная вода, позаимствовав из тлетворного воздуха некую едкую отраву, отнимает разум или погружает в забытье.
Глава XXI
1. Бывают пропасти, в которые кто ни наклонится заглянуть, умирает; зараза так стремительна, что даже пролетающих мимо птиц заставляет падать замертво. Вот из таких-то мест, из такого воздуха и сочится по капле смертоносная вода. Если же зараза, разлитая в воздухе и по местности, слабее, то и вода менее вредоносна: самое большее, она вызовет нервное потрясение или сделает мертвецки пьяным.
2. Ничего удивительного нет в том, что местность и воздух заражают воду, уподобляя ее тем областям, по которым она течет или из которых вытекает[368]: так в молоке чувствуется вкус пастбища, и в уксусе — сорт вина. Нет такой вещи, которая не сохраняла бы примет того, из чего родилась.
Глава XXII
Есть еще другой род вод, возникший, по нашему мнению, вместе с миром. Если мир вечен, то и эта вода была всегда; если он имеет какое-то начало, то она появилась вместе с остальной вселенной. Ты спросишь, что это за вода? Океан и все омывающие землю моря, которые из него вытекают. Некоторые относят к началу мира и рождение некоторых рек, ибо его не объяснишь иначе: таких как Истр, как Нил — огромные потоки, настолько выделяющиеся среди других, что невозможно приписать им то же происхождение, что и всем прочим.
Глава XXIII
Итак, деление вод напрашивается, по-видимому, следующее: из тех, что возникли позднее Океана, одни — небесные, выделяемые облаками, другие — земные; из этих последних одни текут по самой поверхности — назовем их верхоплавами[369]; другие скрыты под землей, и о них я тоже рассказал.
Глава XXIV
1. Отчего некоторые воды бывают горячие, а некоторые даже кипящие, так что ими нельзя пользоваться, не остудив на открытом воздухе или не смешав с холодной водой, — на этот счет приводят очень много объяснений. Эмпедокл считает, что вода нагревается от огней, скрытых во многих местах под землей, если они находятся под тем местом, по которому протекает вода.
2. Ведь мы сами делаем сосуды со змеевиками, милиарии для нагревания воды в банях и множество других вещей; мы встраиваем в них тоненькие медные трубочки, опускающиеся по спирали, чтобы вода текла вокруг одного и того же огня достаточно длинным путем, чтобы нагреться; входит она в трубочку холодной, вытекает горячей.
3. Эмпедокл предполагал, что то же самое происходит и под землей; что он не ошибается — в том порукой жители Баий, у которых бани отапливаются без огня. В них вливается через отдушину раскаленный воздух (spiritus); струясь по трубам, он нагревает стены и сосуды в бане не хуже, чем огонь; наконец, и вся холодная вода по пути в баню превращается в горячую, не получая никакого привкуса от испарений горячего воздуха, так как течет она по закрытым трубам.
4. Некоторые полагают, что воды, которые протекают по местам, богатым серой или щелочью, получают тепло от того вещества, по которому текут. Об этом свидетельствует запах и вкус самой воды, ибо она воспроизводит свойства вещества, которое ее согрело. А чтобы ты не удивлялся этому, налей воды в негашеную известь — закипит.
Глава XXV
1. Бывают воды смертоносные, и при этом не имеющие ни запаха особенного, ни вкуса. В Аркадии возле города Нонакрис есть речка, которую местные жители зовут Стикс, обманывающая пришельцев, ибо ни вид ее, ни запах не вызывают подозрений, точно как яды, изготовленные подлинными мастерами: единственный признак, по которому их можно узнать, — смерть. Та же вода, о которой я недавно рассказывал, убивает в считанные мгновения, и нет от нее противоядия, ибо, выпитая, она тотчас же затвердевает, застывает, как намоченный гипс, и связывает внутренности.
2. Не менее вредоносная вода есть в Фессалии; ее избегают и дикие звери, и скот. Сила в ней такая, что она проедает даже очень твердые предметы; через железо и медь она проходит насквозь; деревья не могут ее пить, и травы она убивает.
3. Некоторые реки обладают удивительными свойствами; есть такие, которые окрашивают стада овец: через определенное время после того как овцы попьют воды, бывшие черные оказываются белошерстными, а те, что пришли на водопой белыми, уходят черными. Таким действием обладают два потока в Беотии, из которых один по своему действию назван Черным; оба вытекают из одного озера, а действуют по-разному.
4. Также и в Македонии, по словам Теофраста, желающие получить белых овец, ведут их к реке Галиакмон; когда овцы попьют из нее достаточно долго, они изменяются, будто их перекрасили. А если нужна темная шерсть, то и тут готов даровой краситель: то же самое стадо гонят к Пенею. Есть у меня свидетельства заслуживающих доверия людей, что в Галатии течет река, оказывающая то же действие на всех животных, а в Каппадокии — такая, которая меняет цвет лошадям, окрашивая их шкуру в белый цвет, а больше — ни одному животному.
5. Известно, что есть озера, которые держат на поверхности не умеющих плавать. Раньше такое озеро было в Сицилии, а в Сирии до сих пор есть озеро, в котором плавают кирпичи и не может утонуть никакой брошенный в воду предмет, даже тяжелый. Причина этого явления очевидна. Взвесь любой предмет и сравни его вес с весом воды; важно только, чтобы объемы были одинаковые; если вода тяжелее, она держит более легкий предмет и выталкивает его над собой настолько, насколько он ее легче; более тяжелые предметы опускаются. Если же вес воды и предмета, который ты с ней сравниваешь, окажется одинаковый, то он ни ко дну не пойдет, ни наверх не вытолкнется, а поплывет вровень с водой — почти утонув и не выступая ни одной своей частью над поверхностью.
6. Вот почему некоторые бревна почти целиком возвышаются над водой, другие погружены до середины, третьи опускаются вровень с водой. Если вес воды и дерева одинаков, то никто из них не уступает другому; более тяжелое — тонет; более легкое — носится на поверхности. При этом тяжелое или легкое разумеется не по нашей оценке, а по сравнению с тем веществом, которое должно его нести.
7. Таким образом, там, где вода тяжелее человеческого тела или камня, она не позволит утонуть тому, что уступает ей в тяжести; бывает и такое — в некоторых водоемах даже камни не идут ко дну. Я имею в виду твердые, плотные камни, потому что бывает много пористых, легких камней типа пемзы, из которых состоят плавучие острова в Лидии; об этом свидетельствует Теофраст.
8. Я сам видел плавучий остров близ Кутилий; еще один плавает в Вадимонском озере в окрестностях Статонии. На Кутилийском острове растут деревья и травы, и все же он удерживается на воде, и не только сильный ветер, но и легкое дуновение гонит его то в одну, то в другую сторону, так что ни днем, ни ночью он не стоит на одном месте: до того легкий ветерок может сдвинуть его.
9. Происходит это по двум причинам. Первая — грузность воды, насыщенной минеральными веществами и потому тяжеловесной; вторая — подвижность вещества, составляющего остров: это не плотное тело, хотя и питает деревья. Возможно также, что густая вода объединила и связала между собой древесные стволы и ветви, попадавшие в разное время в озеро.
10. Если на этом острове и есть скалы, ты увидишь, что они изъеденные и трубчатые — такие камни получаются из отвердевшей влаги и встречаются обычно по берегам минеральных источников, где примеси, выделенные водой, срослись и пена окаменела. А все, что возникло из сращения сквозных пустот, непременно будет легким.
11. Свойства некоторых вод не поддаются объяснению: почему нильская вода способствует чадородию женщин? Она открывала для зачатия даже то чрево, которое закупорилось от долгого бесплодия. Почему некоторые источники в Ликии, наоборот, предохраняют женщин от зачатия? К ним обычно отправляются те, чья матка не держит плода. Впрочем, что до меня, то я считаю все это необоснованными слухами. Есть поверье, что некоторые воды — неважно, выпьет их кто-нибудь или ими обольется — покрывают тело коростой, а другие — вызывают проказу или отвратительные белые пятна по телу; говорят, что таким же зловредным действием обладает вода, собранная из росы.
12. Естественно предположить, что воды, из которых образуется хрусталь, — самые тяжелые. Но на деле это происходит, наоборот, с самыми легкими и тонкими: из-за их тонкости они легче всего замерзают на холоде. А о происхождении такого камня свидетельствует само имя, данное ему греками: «кристаллом» они зовут равно и этот прозрачный камень и лед, из которого, по их мнению, этот камень получается. Так вот, небесная вода, содержащая менее всего земных примесей, замерзает; и если после этого она подвергается долгому и упорному воздействию холода, сгущается все больше и больше, пока не вытеснится из нее весь воздух и она не сожмется, превратившись из жидкости в камень.
Глава XXVI
1. Некоторые реки разливаются летом, как, например, Нил, о котором будет рассказано в другом месте. По свидетельству Теофраста, в Понте тоже есть несколько потоков, которые становятся полноводными в летнее время. Объясняют эти разливы четырьмя причинами: либо они случаются летом оттого, что в это время земля легче всего превращается в жидкость; либо оттого, что в отдаленных областях идут очень большие дожди, и вода их, поступая по скрытым подземным каналам, незаметно вливается в реки.
2. В-третьих, если частые и сильные порывы ветра обрушиваются на устье потока и морские волны, устремившись ему навстречу, заставляют его остановиться: мы думаем, что он становится полноводнее, а он просто не выливается; в-четвертых, из-за светил: в известные месяцы их действие усиливается и они опустошают реки. Когда же они удаляются от земли, то потребляют и утягивают из рек меньше воды, и ее становится настолько же больше, насколько бывало меньше в предшествовавший период.
3. Некоторые реки на виду падают в какую-нибудь пещеру и таким образом исчезают из глаз. Другие постепенно иссякают и прерываются; однако через какой-то промежуток они появляются вновь, сохраняя свое прежнее имя, и текут в прежнем направлении. Причина совершенно ясна: под землей есть пустое место; а всякая жидкость по природе стремится вниз и в пустоту. Заполнив его, река некоторое время продолжает течь под землей, но как только на ее пути возникнет какое-нибудь твердое препятствие, она пробивает себе выход там, где встречает меньшее сопротивление, и возобновляет свое течение по поверхности.
4. На Востоке то же самое делает Тигр: он уходит под землю и пропадает там долго, появляясь, наконец, на поверхности очень далеко от того места, но, впрочем, и не оставляя сомнений в своем тождестве.
5. Некоторые источники в определенное время выбрасывают нечистоты: например, Аретуза в Сицилии каждое пятое лето, во время Олимпийских игр. Поэтому считают, что Ахейский Алфей достигает этих мест: он течет под морем и выходит на поверхность только на Сиракузанском побережье; оттого-то в дни Олимпийских игр помет жертвенных животных, попавший в Алфей, всплывает в Аретузе[370]. [6.] Ты и сам думаешь так, дражайший Луцилий, как я уже говорил в первой части; так думает и Вергилий, который обращается к Аретузе с такими словами:
В Херсонесе Родосском есть источник, который через большие промежутки времени взбаламучивается и извергает из самой своей глубины всякую гадость, до тех пор пока не освободится от нее и не очистится. [7.] Это же делают источники и в некоторых других местах, причем выбрасывают они не только грязь, но и листья, черепки и все, что гнило, лежа на дне. Море же делает это повсюду, ибо такова его природа: выбрасывать на берег все нечистое и вонючее. В некоторых частях моря это происходит в определенные периоды времени, так, например, в бурный период равноденствия море в окрестностях Мессены выбрасывает на берег что-то вроде навоза, и взбаламучивается, и бурлит, окрашиваясь грязью, отчего и пошла сказка, будто в том месте — стойло быков Солнца.
8. Некоторые случаи трудно бывает объяснить, особенно если нельзя установить или не наблюдалось с достаточной точностью время, когда они происходили, так что невозможно найти непосредственную и ближайшую их причину. Впрочем, есть одно общезначимое объяснение: все стоячие и замкнутые водоемы очищаются естественным путем. А в проточных водах примеси не могут отстояться и осесть, ибо течение постоянно их сносит; поэтому воды, которые не выбрасывают примешавшуюся к ним грязь, всегда более или менее взбаламучены. Море же всегда выносит из своей глубины трупы, мусор, обломки кораблекрушений и тому подобное; оно очищается не только в бурю и во время прилива, но и при полном спокойствии и безветрии[372].
Глава XXVII
1. Однако пора мне уже, я чувствую, перейти к вопросу о потопе: каким образом, когда настанет этот роковой день, когда будет земля поглощена волнами? Будет ли это делом Океана, и на нас восстанет пучина с края света? Пойдут ли беспрерывные проливные дожди, и жестокая зима вытеснит лето, обрушив на землю непомерное количество воды из разверзшихся туч? Разольет ли земля шире реки и откроет новые источники? Или же не одна будет причина у столь ужасного бедствия, а все вместе они объединятся, и одновременно хлынут дожди, выйдут из берегов реки, покинет свое привычное место разбушевавшееся море, и все они в едином строю двинутся на уничтожение рода человеческого?
2. Именно так. Нет ничего трудного для природы, особенно когда она спешит навстречу своему концу. При начале всякой вещи она бережет силы, расходует всего в обрез, так что рост бывает незаметен; зато к разрушению она устремляется внезапно, вкладывая все силы в один порыв. Как много времени нужно, чтобы зародыш окреп в новорожденного младенца; сколько мучений стоит этого слабого младенца воспитать; какого тщательного ухода требует беззащитное, едва появившееся на свет тело прежде, чем вырастет! Но как ничтожно мало надо, чтобы его разрушить! Столетиями создавались города — рушились в какой-нибудь час; мгновенно получается пепел, а лес растет долго. Любая вещь, чтобы существовать и достичь полноты своих сил, требует много заботы и бережности; разрушить ее можно быстро и без труда.
3. Природе достаточно изменить любую малость в существующем порядке вещей, чтобы погубить смертных. Так что когда придет время и это станет необходимо, рок приведет в действие сразу много причин. Ибо подобная перемена не обойдется без сотрясения всего мира, как полагают некоторые, в частности, Фабиан[373].
4. Вначале льются непомерные дожди, и печальное небо без единого проблеска солнца покрыто облаками, и беспросветный туман, и тьма, сгустившаяся из влаги, которую никогда не высушивают ветры. Этого достаточно, чтобы испортить посевы, чтобы гнилые колосья поднимались из земли без зерна. Затем на месте всего, что было посажено человеческой рукой и сгнило, по всем полям всходит болотная трава.
5. Вскоре доходит очередь до растений покрепче: деревья падают с подмытыми корнями, мягкая, растекающаяся почва не удерживает больше ни лозу, ни кустарник. Не держатся даже травы в лугах, так любившие влагу. Наступает мучительный голод, и руки протягиваются за старинным пропитанием: обтрясают желуди с дубов, отыскивают каждое дерево, случайно оставшееся стоять, застрянув в ущелье меж двух плотно сдвинутых скал.
6. Покосились и текут крыши домов, вода льет внутрь, оползают фундаменты, вода повсюду стоит выше уровня почвы. Напрасно пытаются укреплять шатающиеся строения: всякая опора втыкается в склизкую землю, похожую больше на ил; в ней ничего не держится.
7. Все больше туч скапливается и прорывается дождем, тают снега, столетиями собиравшиеся в горах, и вот наконец с самых высоких вершин скатывается бешеный поток, срывая едва держащиеся на корню леса, раскатывая в мелкую гальку скалы с ослабевшими скрепами, смывая деревни и унося пастухов, смешавшихся со стадами; разбив в щепки небольшие дома, захваченные мимоходом, он слепо обрушивается на большие города, увлекая за собой стены, падающие и давящие людей — а те не знают, что и вопить: «Обвал!» или «Наводнение!» — до того одновременно явилась опасность быть раздавленными и утонуть. Двигаясь дальше и по пути вбирая в себя другие потоки, он опустошает тут и там все равнинные области; в конце концов, запруженный трупами — ибо человеческие племена поставляют для этого обильный материал, — он разливается во все стороны.
8. А реки — и по природе-то своей неукротимые, а теперь еще подгоняемые бурями, они покинули свои русла. Как ты думаешь, на что будут похожи Родан, Рейн, Данубий, у которых и в обычное время течение бурное, когда, разлившись, они выйдут из берегов и, раздирая почву, одновременно станут прокладывать себе новое русло?
9. С какой головокружительной силой катятся вперед эти реки! Рейн течет по полям и лугам, но даже простор не может его утихомирить: широчайшие воды свои он гонит, как в тесном ущелье. Дунай подмывает не только подножия и склоны гор, он добирается до вершин горных хребтов, смывая и унося с собой горные отроги, рухнувшие скалы, даже целые области предгорий, расшатав их основание и оторвав от материка; после этого он не может найти выхода, ибо сам преградил себе все пути, и течет по кругу, замыкая в свое кольцо огромные просторы со многими странами и городами!
10. Тем временем дожди все идут, небо все тяжелее, и из одной беды мало-помалу рождается другая. То, что раньше было туманом, теперь ночь, кромешная и страшная от вспышек жуткого света. Ибо молнии сверкают одна за другой, грозы сотрясают море, начинающее расти от притока новых рек и уже самому себе тесное. Вот оно уже переходит границу и все дальше отодвигает свои берега; однако потоки мешают ему выходить из берегов и гонят прибой назад. Впрочем, большая их часть, задержанная узким устьем, разливается стоячими водами, превращая поля в одно сплошное озеро.
11. Уже все, насколько хватает глаз, покрыто водой; все холмы скрылись в пучине, и глубина повсюду бездонная. Вброд можно идти только на вершинах самых высоких горных хребтов; к этим возвышенностям бежали с детьми и женами люди, гоня перед собою стада. Прервано сообщение между несчастными, невозможен переход друг к другу, ибо все, что чуть пониже — залито волнами.
12. За самые высокие вершины цеплялись остатки человеческого рода; у доведенных до крайности людей было лишь одно утешение: испуг перешел в отупение. Потрясение не оставило места страху, и даже боль их покинула: ибо она теряет свою силу в том, кто настолько несчастен, что уже не чувствует горя.
13. И вот, наподобие островов торчат из воды
как превосходно выразился одареннейший из поэтов. Он же сказал, сообразно величию события:
Если бы еще он не испортил такой полет вдохновения и грандиозность материала неуместными ребячествами:
14. Едва ли достойно трезвого человека изощряться в остроумии по поводу поглощенного водой земного шара. Он поведал о неимоверном и точно отобразил размеры смятения в следующих словах:
Это великолепно; если бы только он оставил в покое волков и барашков! Да и можно ли плавать в потопе, в этом всепоглощающем водовороте? Разве не тонул весь скот в той же волне, которая смывала его с берега?
15. Теперь ты можешь вообразить себе надлежащие размеры происходящего: вся земля погребена под водой и само небо обрушивается на землю. Удержи перед глазами эту картину. Подумай: земной шар плывет, — и ты будешь знать то, что нужно знать о потопе.
Глава XXVIII
1. Однако вернемся к нашему предмету. Некоторые полагают, что бесконечные ливни могут причинить земле много вреда, однако не могут совершенно затопить ее: чтобы сокрушить великое, нужен великий удар. Дождь испортит посевы, град побьет плоды, реки вспухнут и поднимутся, но останутся в своих берегах.
2. Есть и такая точка зрения: на землю двинется море — это и послужит причиной столь великого бедствия. Ни потоки, ни ливни, ни реки не могут причинить достаточно зла, чтобы вызвать такое грандиозное крушение. Когда настанет день погибели и суждена будет перемена человеческому роду, тогда, я согласен, зарядят беспрерывные дожди и ливни без передышки; прегражден будет выход аквилону и австру с его сухим дыханием, и тучи и потоки будут течь обильно и беспрепятственно. Это уже великое бедствие:
3. Но это не предел: нужно, чтобы земля не попорчена была, а сгинула вовсе. Так что все это — только прелюдия; вслед за нею начнут расти моря, но не так, как обычно: прибой перейдет черту, дальше которой не достигали волны в самый сильный шторм. Затем они покатят к берегу неимоверной величины волну; в спину ее будут подгонять ветры, поднимая еще выше; и разобьется она о сушу в таком месте, откуда давным-давно не видать прежней полосы прибоя. Так дважды и трижды будет переноситься берег в глубь суши, морская пучина вторгнется в чужую область, как бы отодвинув границы ей дозволенного, и, словно наконец ничто ему не препятствует, на землю двинется вал, вышедший из самых сокровенных морских недр.
4. Ибо как воздух, как эфир, так и эта стихия обильна веществом и таит в своих недрах запасы преогромные. Приведенное в движение — не бурей, а роком, ибо буря всего лишь орудие рока — море поднимает и гонит перед собой могучую приливную волну. Постепенно она вырастает на такую дивную высоту, что возвышается надо всеми до сих пор надежными человеческими убежищами в горах. Для волны это нетрудно: ведь воды и так достигают такой же высоты, что и земля.
5. Если кто проведет линию, уравнивающую возвышенные [пункты на суше], то моря окажутся вровень с ними. Ибо земля везде равна по высоте — только пропасти и долины немного ниже, но благодаря им земной шар и закругляется; а моря ведь тоже часть земли, и поверхность их вместе со всеми прочими частями сливается в один шар. Однако подобно тому, как глядя на поля невозможно заметить уклона равнины, так мы не замечаем и искривления моря, и нам все представляется ровным. Поскольку поверхность моря вровень с землей, то, чтобы разлиться, ему не нужно подниматься намного: чтобы стать выше равного, достаточно подняться самую малость. А кроме того, оно потечет на землю не от берега, где оно ниже, а с середины, где вздымается его вершина.
6. Как из всех приливов, какие случаются во время равноденствия, самый большой — тот, что приходится на совпадение солнца и луны, так и прилив, посланный морем на покорение земель, будет гораздо мощнее самых сильных из случавшихся раньше приливов, он повлечет за собой воды и обрушится на землю не прежде, чем вырастет выше самых высоких горных вершин. В некоторых местах прилив заливает сотни миль, но он безвреден и блюдет установленный порядок: вода прибывает и убывает всегда на одну и ту же меру.
7. Но в тот день развяжутся путы законов и вода понесется, не зная удержу. Ты спрашиваешь, на каком основании? — На том же, на каком вспыхнет мировой пожар. И то и другое случается, когда богу захочется покончить со старым и начать лучшее. Вода и огонь властвуют на земле; из них начало, из них и конец. Итак, когда решено будет обновить мир, море обрушится на нас, и так же обрушится бушующий огонь, если будет избран другой род гибели.
Глава XXIX
1. Бероз, толкователь Бела[379], говорит, что эти [катастрофы] связаны с движением светил. Он настолько убежден в этом, что указывает даже срок мирового пожара и потопа. Все, что есть на земле, сгорит, по его уверению, тогда, когда все движущиеся сейчас различными путями планеты соберутся в созвездии Рака и выстроятся под ним так, чтобы через их центры можно было провести прямую линию. Потоп будет, когда те же самые светила соберутся в Козероге. В первом из этих созвездий происходит летнее солнцестояние, во втором — зимнее; оба — знаки чрезвычайно могущественные, ибо от них зависит поворот года.
Некоторые полагают, что потоп будет сопровождаться также и землетрясением, и расступившаяся почва обнажит истоки новых рек, более полноводных, чем обычные, ибо потекут они из непочатых запасов.
2. Что до меня, то я принимаю и эту причину: ведь столь огромное бедствие едва ли будет вызвано чем-то одним; думаю, что здесь следует также поместить и ту, которую считают причиной гибели мира наши стоики — всемирный пожар. Чем бы ни был мир — животное ли он, или управляемое природой тело наподобие деревьев и трав — внутри него уже заключено все, что ему надлежит совершить и претерпеть от самого его начала до конца.
3. Как в семени содержится законченный образ всякого будущего человека, как у неродившегося младенца уже есть в принципе и борода и седина — ибо в малом скрыты черты всего тела и последовательность его изменений — так и начало мира уже содержало в себе не только солнце, луну, смену светил и рождение живых существ, но и смену всего земного. Там заключен и потоп, который наступает по закону мира точно так же, как зима и лето.
4. Так что произойдет он не из-за дождя, но помимо прочего и из-за дождя тоже; не из-за наступления моря, но в том числе и из-за него; не из-за землетрясения, но и из-за землетрясения тоже. Все придет на помощь природе, дабы могли свершиться ее предначертания. Однако главная причина затопления земли будет в самой земле, которая, как мы сказали, способна распускаться, превращаясь в жидкость.
5. Итак, когда подойдет предел делам человеческим, либо какие-то части земли должны будут погибнуть, либо всем суждено быть истребленными до основания, чтобы возродиться совершенно заново, невинными и непорочными, чтобы не осталось ничего, что могло бы склонить их к дурному, — тогда влаги будет образовываться больше, чем когда бы то ни было. Ибо сейчас элементы пребывают в должном равновесии; чтобы равновесие нарушилось, нужно, чтобы одного из них стало больше. Больше станет жидкости. В самом деле, сейчас ее хватает на то, чтобы омывать земли, а не затоплять; прибавь к ней немного, и ей непременно придется занять чужое место.
6. Так что ты сам видишь: земле нужно будет умалиться, и тогда она, слабая, уступит более сильному. Итак, она начнет потихоньку рыхлеть, загнивать, а затем и распускаться, растекаться жидкой грязью. Тогда из-под гор начнут вырываться реки, сотрясая их своим напором, и потекут дальше, захватывая себе новые берега.
7. Почва вся будет сочиться водой; вершины гор превратятся в фонтаны. Подобно тому как нарыв распространяет болезнь на соседние здоровые участки тела, так и все, что находилось рядом с растекающимися участками земли, само начнет размываться, сочиться и, наконец, расползаться, пока прилив не хлынет в зияющие разломы скал и не соединит между собой моря. Не будет больше Адриатики, не будет ни Сицилийского пролива, ни Харибды, ни Сциллы; все предания смоет новое небывалое море, и океан, опоясывающий земли, покинет край света и явится в его середине.
8. Что еще? Зима по-прежнему будет распоряжаться чужими месяцами, не давая дороги лету, и созвездия, иссушающие землю зноем, замрут в бездействии, сдерживая свой пыл. Сколько имен канет в забвение: Каспий и Красное море, Амбракийский и Критский заливы, Пропонтида и Понт; сотрется всякое различие; сольется все, что природа развела по своим местам. Не уцелеют ни стены, ни башни. Умоляющим об убежище не помогут ни храмы, ни городские твердыни — волна обгонит беглецов и смоет их с крепостных высот.
9. Разом хлынет и с запада и с востока. В один день исчезнет род людской с лица земли; все, что так долго взлелеивала благосклонная судьба, все, что она вознесла над прочим, все знаменитое и прекрасное, царства великих народов, — все уничтожит вода.
Глава XXX
1. Как я уже говорил, для природы нет ничего трудного, в особенности в таком деле, которое она постановила совершить изначально, к которому приступает не внезапно, а провозгласив его заранее. С первого дня мира, когда он еще только разворачивался из бесформенного единства в свое нынешнее состояние, было предрешено, когда ему утонуть; и дабы предприятие это, будучи внезапным, не оказалось непомерно трудным, когда придет время его осуществления, моря испокон веков упражняются в этом.
2. Или ты не видишь, как волны набегают на берег, как бы стремясь выйти за его пределы? Не видишь, как прибой то и дело переходит свои границы, увлекая за собой море в наступление на землю? Не видишь, как оно вечно сражается со всем, что его сдерживает? Чего же тебе еще? Недаром море и бурные реки, порождающие столь великое смятение, вызывают в нас страх.
3. Есть ли такое место, где природа не поместила бы влагу, чтобы повести на нас наступление со всех сторон, когда ей это заблагорассудится? Пусть меня назовут лжецом, если вода не встречается на пути всех, кто копает землю — алчность ли заставляет нас в нее зарываться, или какая другая причина гонит все глубже — рано или поздно вода преграждает путь. Добавь к этому, что в бездне скрыты огромные озера и большая часть моря, множество рек, никогда не вытекающих на поверхность.
4. Так что потоп сможет хлынуть откуда угодно: ведь воды текут и под землей и вокруг земли; долго сдерживаемые, они вырвутся, сливая потоки с потоками, озера с болотами. В отверстия, из которых бьют источники, вольется море, разверзая их все шире. Подобно тому, как извержения желудка истощают наше тело, как вместе с потом уходят наши силы, так и земля будет разжижаться и даже без всяких внешних воздействий сама себе доставит, в чем потонуть. Впрочем, я склонен думать, что сойдутся вместе все причины.
5. Ждать гибели осталось недолго. Гармония трещит под ударами и раздирается на части. Стоит миру хоть на миг ослабить свое обычное неусыпное попечение о ходе вещей — тотчас со всех сторон, сверху и снизу, видимые и невидимые прежде, вырвутся воды.
6. Нет ничего более буйного, непостоянного, своевольного, чем могучая волна, которой ненавистно все, что пытается ее сдерживать; тут уж она разгуляется на свободе и, следуя велению своей природы, заполнит все, что прежде омывала и через что протекала. Как языки пламени торопятся навстречу друг другу и огонь, начавшись в разных местах, быстро вспыхивает единым пожаром, так во мгновение ока сольются моря, в разных местах вышедшие из берегов.
7. Впрочем, такую свободу волны получат не навсегда: когда покончено будет с родом человеческим и истреблены будут дикие звери, у которых люди переняли повадки, тогда земля снова впитает воду, преградит путь пучине и заставит ее бушевать в своих границах; океан, отброшенный от наших жилищ, будет загнан назад в свои невидимые бездны, и восстановится исконный порядок.
8. Всякое живое существо народится заново, и появится на земле человек, не ведающий греха и рожденный под более благосклонными созвездиями.
Но и он сохранит невинность лишь на первое время. Быстро, как змея, заползет в него подлость. Добродетель найти трудно, требуется и наставник и руководитель; а порокам живо выучиваются без всякого учителя.
Книга IV
О Ниле. Об облаках.
Часть первая. О Ниле
Вступление
1. Ты пишешь, добрейший мой Луцилий, что от души наслаждаешься Сицилией и прокураторской[380] должностью, оставляющей много свободного времени; и будешь наслаждаться, если и впредь решишь держаться в должных границах, не превращая простое управление в верховную власть. Не сомневаюсь, что так и будет; знаю, насколько ты чужд честолюбию, насколько привержен досугу и книгам. Пусть окружают себя деловой и людской суетой те, кто не в силах вынести собственного общества; а ты наедине с собой чувствуешь себя превосходно.
2. Это удается немногим, и неудивительно: по отношению к себе мы самодурные деспоты и сами себе в тягость; страдаем то от любви к себе, то от отвращения; бедный наш дух раздуваем спесью, раздираем алчностью; то изнуряем похотью, то разъедаем суетностью; а хуже всего то, что мы никогда не остаемся одни. Там, где живет в тесноте такое скопище пороков, не может не быть постоянного раздора.
3. Так не изменяй же своим привычкам, мой Луцилий: по возможности избегай толпы, чтобы не стать жертвой льстецов. Они мастера умасливать начальство — как бы ни был ты всегда начеку, с ними тебе не справиться. Но, поверь мне, если ты дашь себя поймать, считай, что сам выдал себя предателям.
4. Есть у ласковых речей одно природное свойство: они приятны, даже когда мы их отвергаем. Сто раз пропустим мимо ушей, на сто первый — примем; само то, что мы отказываемся их слушать, делает их еще приятнее; даже оскорбления не заставят их отступить. То, что я сейчас скажу, невероятно, но правда: всякий беззащитнее всего именно там, где на него направлено это оружие; впрочем, может быть, потому туда и направлено, что там он беззащитен.
5. Словом, постарайся освоиться с мыслью, что как бы ты ни исхитрялся, неуязвимым ты стать не сможешь; прими все меры предосторожности — и будешь поражен сквозь доспехи. Один станет льстить тебе незаметно, понемножку; другой открыто, не стесняясь, прикидываясь простаком и выдавая искусство за прямоту. Планк[381], бывший до Вителлия[382] величайшим мастером этого дела, говаривал, что не следует скрывать лести или выдавать ее за что-то иное: «Искательство пропадает, если его не видно».
6. Нет ничего выгоднее для льстеца, как если его поймают на лести; еще того лучше — если выбранят, если заставят краснеть.
Помни, что на тебя найдется там не один такой Планк, и что нежелание, чтобы тебя хвалили, ничем тебе не поможет. Крисп Пассиен[383] — человек самый утонченный из всех, кого я встречал на своем веку, в особенности же тонко разбиравшийся в пороках, говаривал, что перед лестью мы не запираем дверей, а только слегка прикрываем, как делаем перед приходом возлюбленной; нам приятно, если она, придя, распахнет дверь; еще приятнее, если она на своем пути вовсе разнесет ее в щепки.
7. Помню, как Деметрий[384], муж весьма замечательный, говорил одному могущественному вольноотпущеннику, что ему нетрудно будет разбогатеть, как только надоест быть порядочным человеком. «Я не стану ревниво прятать от вас секрет этого искусства, я обучу ему всех, кто стремится нажить богатство: это не сомнительная прибыль, какую дает море, не судебные дрязги, неизбежные при купле-продаже; им не придется полагаться ни на обманчивые обещания земледелия, ни на еще более обманчивые обещания рынка, — я укажу им не просто легкий, но даже веселый способ делать деньги, обирая простаков, которые станут радоваться и их же благодарить. [8.] Я стану божиться, что ты, например, ростом выше самого Фида Аннея и кулачного бойца Аполлония — неважно, что сложением ты рядом с любым фракийским гладиатором[385] напоминаешь мартышку. Поклянусь, что нет на свете человека более щедрого, и даже, пожалуй, не совру: ведь можно посмотреть на дело и так, что ты подарил людям все то, чего не успел у них отобрать».
9. Вот так-то, мой Луцилий, чем откровеннее и наглее льстец, чем меньше он краснеет, вгоняя в краску других, тем скорее добивается своего. Мы в нашем безумии дошли уже до того, что всякий, кто льстит умеренно, кажется нам зложелателем.
10. Я не раз рассказывал тебе о моем брате Галлионе, человеке, достойном такой любви, какою не могут любить его даже те, кто любит от всего сердца; так вот, для него всех прочих пороков просто не существует, а этот он ненавидит. Ты можешь пытаться найти к нему подход с любой стороны. Начни преклоняться перед его выдающимся, несравненным умом: его-де недопустимо растрачивать по мелочам, а следовало бы хранить и почитать как святыню; он легко уйдет от твоей ловушки. Примись расхваливать его хозяйственность, которая настолько не вяжется с нашими нравами, что кажется вовсе с ними незнакомой и даже не выглядит им упреком; он прервет тебя на первом слове.
11. Примись восхищаться его обходительностью и непритворной ласковостью — он раздает ее даром всем, кто попадается на его пути, подкупая даже случайных встречных; ни один из смертных даже с единственным другом не бывает так любезен, как он со всеми, и сила природной доброты так велика, что всякий, не обнаружив в ней ни капли искусственности и притворства, не может не принять за лично ему оказанное расположение эту благосклонность, распространяющуюся на всех; но и тут он устоит перед твоими комплиментами, так что ты воскликнешь, что нашел, наконец, человека, недоступного соблазнам, на которые любой другой поддался бы с удовольствием.
12. Ты признаешься, что его благоразумие и упорство, с каким он избегает неизбежного зла, вызывают у тебя тем большее уважение, что ты говорил хотя и приятную, но правду, и надеялся, что уж ее-то охотно выслушает всякий. Но он решил, что в подобном случае нужна тем большая твердость, ибо лжец всегда стремится позаимствовать у правды ее правдивую убедительность. Впрочем, не досадуй на себя, не думай, будто ты плохо сыграл свою роль и он заподозрил насмешку или подвох; он не разоблачил тебя, а просто оттолкнул.
13. Руководствуйся таким примером. Как приступит к тебе какой-нибудь льстец, ты ему скажи: «Ступай-ка ты с этими речами, которые переходят от магистрата к магистрату вместе с ликторами, к кому-нибудь, кто сам этим занимается и не прочь выслушать из чужих уст то, что сам говорил [выше себя стоящим]. Я не могу ни обманывать, ни обманываться; ваши похвалы я принял бы с удовольствием, если бы вы не хвалили злодеев так же, как и достойных людей».
Впрочем, разве непременно нужно так до них опускаться, чтобы они могли разить тебя в упор? Лучше держи их на почтительном расстоянии.
14. А если ты захочешь доброй похвалы, зачем тебе для этого кто-то посторонний? Сам себя похвали. Скажи себе: «Я посвятил себя свободным искусствам. Бедность советовала другое, и талант влек меня к тем занятиям, которые тотчас вознаграждаются, но я обратился к поэзии, хоть за нее ничего и не платят, и принялся за благодетельное изучение философии.
15. Я доказал, что всякое сердце может быть вместилищем добродетели; рождением обреченный на борьбу с трудностями[386], вопреки своему жребию и благодаря своему духу добился я того, что встал наравне с величайшими из людей. Гай не заставил меня предать моей дружбы к Гетулику[387]. Мессалина и Нарцисс[388], долго бывшие врагами всего Рима, прежде чем стали врагами себе самим, не смогли заставить меня изменить отношение к тем, кого я любил несмотря на то, что это грозило бедой. Ради верности я был готов поплатиться головой. Никогда не удавалось вырвать у меня хоть слово, идущее не от чистого сердца и спокойной совести. За друзей я боялся всего, за себя — ничего, разве что, как бы не оказаться недостаточно хорошим другом.
16. Не лил я бабьих слез; никого не хватал, умоляя, за руки; не делал ничего, недостойного мужчины и доброго человека. Я был выше грозивших мне опасностей, готов был идти на казнь, которой мне угрожали, благодарил судьбу за то, что решила испытать, во сколько я ценю свою честь; не подобало мне продавать ее дешево. Я не размышлял долго, стоит ли мне погибнуть ради чести или чести ради меня: слишком неравные были чаши весов.
17. Я не хватался за скоропалительные решения, лишь бы избежать ярости власть имущих. При Гае я видал и пытки[389] и костры; я знал, что под его властью дело дошло до того, что за образец милосердия считалось просто убить человека; и все же я не бросился на меч, не кинулся вниз головой в море, чтобы не получилось так, будто ради чести я способен только умереть».
18. Добавь к этому дух, не подкупленный дарами, и руку, никогда не тянувшуюся за наживой среди такого разгула алчности; добавь жизнь бережливую, беседу скромную, к низшим — человечность, к высшим — почтительность. После сам себя спроси: правда то, что ты припомнил, или выдумка. Если правда, то ты удостоился похвалы пред лицом великого свидетеля; если выдумка — выставил себя на посмешище без свидетелей.
19. Тебе может показаться, что сейчас я сам испытываю тебя или расставляю тебе ловушку; думай, как тебе угодно и, начиная с меня, опасайся отныне всех. Вот послушай на этот счет Вергилия:
или Овидия:
или Менандра, — да и вообще, кто из поэтов не возвышал голоса во всю силу своего дарования против этого ненавистного единства всего рода человеческого в стремлении к пороку; все живут как негодяи, — говорит Менандр, выходя на сцену в роли деревенского мужика; он не исключает ни старика, ни мальчишку, ни женщину, ни мужчину, и добавляет: не то, чтобы отдельные некоторые люди грешили, — нет, преступление вплетено в самую ткань [человечества].
20. А потому надо бежать и укрыться в себя; даже более того — укрыться от себя. В этом отношении я намерен отвечать за тебя и буду добиваться этого, хотя бы и море разделяло нас; я поведу тебя к лучшему, пусть придется время от времени тащить тебя за руку насильно; а чтобы ты не чувствовал одиночества, отсюда буду с тобой беседовать. Мы объединимся в том, что есть в нас наилучшего. Будем давать друг другу советы нелицеприятные.
21. Я уведу тебя подальше от твоей провинции, чтобы ты не увлекся, часом, историей, не заслуживающей особого доверия, и не начал любоваться собой, размышляя примерно так: «Вот у меня в моей власти провинция, выдержавшая натиск армий величайших в мире городов и разбившая их, когда ради нее шла великая война Карфагена с Римом. Она видела войска четырех римских вождей[392], то есть всей империи, собранные в одном месте, и кормила их. Она вознесла судьбу Помпея, истощила удачливость Цезаря, счастье Лепида отдала другим, — она решила участь их всех;
22. она следила, как разыгрывалось колоссальное зрелище, ясно показавшее смертным, как стремительно бывает падение с вершины на самое дно и сколь различными путями разрушает судьба великое могущество: она видела, как Помпей и Лепид одновременно были сброшены с самого верха на самый низ, хоть и по-разному — Помпей бежал к чужому войску, Лепид — к своему собственному»[393].
Глава I
1. Итак, чтобы отвлечь тебя от всего этого, хоть и много чудесного на Сицилии и вокруг нее, я не стану затрагивать вопросов, касающихся твоей провинции, и обращу твои мысли в другую сторону. Займемся-ка с тобой вопросом, который в предыдущей книге я отложил на потом: почему Нил так разливается в летние месяцы?[394] Философы утверждали, что Данубий по природе своей похож на Нил, потому что-де и истоки его неизвестны и воды в нем летом больше, чем зимой.
2. Но оказалось, что это неверно. Истоки Данубия мы обнаружили в Германии; вода в нем действительно начинает подниматься летом, но тогда, когда в Ниле она еще стоит на своем обычном уровне — после первых жарких дней, когда солнце на исходе весны растопит снега; он поглощает их раньше, чем Нил только начинает подниматься, всю же остальную часть лета уровень Данубия понижается, падая до зимнего и даже ниже. Нил же разливается в середине лета, начиная перед восходом Пса и кончая после равноденствия[395].
Глава II
1. Среди потоков, какие природа представила взору человечества, этот благороднейший. Природа распорядилась, чтобы он орошал египетские поля во время самой сильной засухи, чтобы выжженная зноем земля могла впитать воду как можно глубже и ее хватило бы на целый год. Ибо там, ближе к Эфиопии, либо вовсе не бывает дождей, либо очень редко, так что они не в силах оживить непривычную к небесным водам землю.
2. Нил, как ты знаешь, единственная надежда Египта; от его разлива зависит год: много воды — богатый, мало — неурожайный; «там земледелец на небо не смотрит». Почему бы мне не пошутить с моим поэтом? Я могу привести ему и его любимого Овидия: «И травы не возносят мольбы к Юпитеру-Дождедавцу»[396].
3. Если бы можно было узнать, в каком месте Нил начинает подниматься, стали бы ясны и причины его разлива. Теперь же известно лишь, что он протекает по обширным пустыням, разливается болотами, скрывается в непролазных зарослях трав, и только возле Фил блуждающие без определенных границ потоки сливаются воедино. Остров Филы[397], скалистый и со всех сторон обрывистый, образован слиянием двух рек, которые здесь превращаются в одну и текут дальше под именем Нила. На острове этом помещается целый город.
4. Отсюда Нил устремляется в Эфиопию и дальше, через пески, по которым идет торговый путь к Индийскому морю. Затем его встречают Пороги — место, знаменитое великолепным зрелищем:
5. там, по крутым, часто изрезанным скалам Нил устремляется вверх, напрягая все свои силы. Он с грохотом разбивается о встречные утесы, продирается сквозь узкие ущелья и всюду — победил ли он или принужден был отступить — бушует; здесь впервые возмущаются воды, лениво и безмятежно катившиеся до сих пор по гладкому руслу; непохожий на себя, бешено крутясь, выскакивает он из враждебных теснин — прежде он тек илистый и мутный, теперь же, иссеченный острыми выступами скал и подводных камней, он взбит в пену; цвет, данный ему природой, изменила жестокая местность. И, наконец, преодолев все препятствия, вырвавшись на простор, он падает с огромной высоты, оглашая окрестности непомерным грохотом. Племя, поселенное некогда в тех местах персами, не смогло перенести постоянного оглушительного шума и, жалея свои уши, переселилось в более спокойную местность.
6. Среди прочих чудес, которые рассказывают об этой реке, я слыхал о невероятной смелости тамошних жителей. Вдвоем они садятся в крохотные суденышки — один правит, другой вычерпывает воду; свирепое безумие Нила долго кружит их среди сталкивающихся друг с другом ревущих потоков, причем они умудряются держаться самой узкой линии фарватера, чтобы избежать тесно сгрудившихся подводных камней; наконец, низвергаясь вместе с рекой вниз головой, они продолжают править падающей лодкой, к величайшему ужасу зрителей, которые успевают оплакать утопленников, погребенных под такой громадой воды, прежде чем замечают их, несущихся со скоростью снаряда, уже далеко от места падения: водопад не топит их, а переносит на спокойную воду.
7. Раньше всего начало разлива Нила наблюдают у того самого острова Филы, о котором я только что рассказывал. Недалеко от него река разделяется камнем, который греки называют Абатон[398], ибо на него не ступает никто, кроме верховных жрецов; эта скала первая чувствует подъем воды. Ниже — довольно далеко отсюда — из воды выступают два утеса, из которых льется масса воды; местные жители называют их «жилами Нила»[399]; но этой воды не хватило бы для орошения Египта. В дни священных праздников жрецы бросают в эти источники ветви, а магистраты — золотые дары[400].
8. Отсюда Нил, заметно прибавив сил, течет по узкому и глубокому руслу — горы с обеих сторон не дают ему разлиться. Лишь у Мемфиса он свободно растекается по полям, разрезанный на множество рек, и рукотворные каналы, в которых можно изменять уровень воды по мере надобности, разводят его по всему Египту. Разделившись вначале, воды дальше снова собираются, образуя нечто вроде широкого, мутного стоячего моря; пространность земель, по которым распространялись они, захватив справа и слева от русла весь Египет, отняла силу у течения.
9. Каков разлив Нила, таковы надежды на урожай. Земледелец не ошибается в расчетах, ибо плодородие земли, которым она обязана Нилу, в точности соответствует уровню разлива. Сухая песчаная почва получает от Нила и воду и землю. Ибо мутный поток оставляет всю свою грязь в трещинах высохших полей, всю жирную гущу, которую он принес с собой, он намазывает на жаждущие пашни, одновременно и орошая их и утучняя. Поэтому места, до которых не дошел разлив, лежат бесплодны и пусты; но и чрезмерный разлив приносит вред.
10. Поистине удивительна природа этой реки: ведь прочие реки разрушают почву, вымывая из нее все ценное. Нил же, хоть и больше их всех во много раз, не только не размывает ничего и не уносит, но, напротив, прибавляет почве сил — уже тем одним, не говоря обо всем остальном, что укрепляет ее: занося пески илом, он не только уточняет их, но и связывает, так что Египет обязан ему не просто плодородием своих полей, а и самими полями.
11. Разлив Нила — прекраснейшее зрелище: полей не видно, долины скрыты под водой, города выступают наподобие островов, сухопутные жители не могут сообщаться друг с другом иначе, как на лодках, и радуются тем больше, чем меньше видят своих земель.
12. Но даже и тогда, когда Нил держится в своих берегах, он впадает в море через семь устьев, и любое из них тоже — целое море. Да к тому же еще множество безымянных потоков ответвляется от него по обеим сторонам побережья.
Чудовищные звери, которых вскармливает Нил, не уступают морским ни по росту, ни по кровожадности; уже по одному тому, что этим громадным животным хватает и пищи и простора, можно судить о том, что это за река.
13. Бабилл[401], муж превосходнейший и на редкость образованный, рассказывает, что в бытность свою префектом Египта, оказался свидетелем такого зрелища в самом большом из рукавов устья Нила — Гераклеотийском[402]: навстречу друг другу строем, как два неприятельских войска в битву, двигались с моря дельфины, а со стороны реки — крокодилы; мирные животные, чьи укусы не причиняют вреда, победили крокодилов.
14. У тех ведь верхняя часть тела твердая и непроницаемая для зубов даже самых крупных животных, а нижняя — мягкая и нежная. Туда-то дельфины, нырнув, и наносили раны торчащими у них из спины шипами, а затем, с силой рванувшись вперед, разрезали крокодила пополам; когда несколько были рассечены таким манером, остальные, словно войско, смешавшее строй, кинулись в бегство: самое смелое животное перед робким противником трусливо побежало перед смелым![403]
15. И жители Тентиры[404] одолевают крокодилов не благодаря каким-то выдающимся особенностям своей породы или крови, а благодаря дерзкому презрению к опасности. Они сами кидаются на них, обращают в бегство и ловят, накидывая на бегущих петлю; многие гибнут — и именно те, у кого недостает присутствия духа для преследования.
16. По свидетельству Теофраста[405], Нил тек некогда морской водой. В царствование Клеопатры он не выходил из берегов два года кряду — на десятом и одиннадцатом году ее царствования[406]. Говорят, это было знамение падения двух власть имущих: ибо Антоний и Клеопатра лишились власти. Каллимах сообщает, что в предшествующие века Нил однажды не поднимался в течение девяти лет.
17. Однако пора мне перейти к рассмотрению причин, по которым Нил поднимается летом; начну с самых древних свидетельств. Анаксагор говорит, что в Нил стекают снега, тающие на горных хребтах Эфиопии. Этого мнения держалась вся древность — то же самое передают Эсхил, Софокл, Еврипид. Но оно явно неверно, на что указывает множество доводов.
18. Во-первых, Эфиопия — страна необычайно знойная, о чем свидетельствует до черноты выжженная кожа тамошних людей и образ жизни трогодитов, строящих дома под землей[407]. Каждый камень пылает, как костер, — и не только в полдень, но и на закате дня; на раскаленный песок невозможно ступить; серебро течет; плавятся скрепы статуй; не держатся никакие накладные украшения. Австр, дующий из этих краев, — самый жаркий ветер. Животные, обычно впадающие в зимнюю спячку, там никогда не прячутся; даже зимой змеи остаются на виду, на поверхности. В Александрии, отстоящей далеко от этих непомерно жарких мест, и то никогда не выпадает снег; а выше[408] не бывает даже дождей.
19. Откуда же в столь знойном краю могут взяться лежащие все лето снега? Конечно, на некоторых горных вершинах снег, наверное, бывает и там, но неужели больше, чем в Альпах, чем на горах Фракии или на Кавказе? Однако и с тех гор стекающие реки разливаются весной и в начале лета, а затем становятся мельче, чем зимой. Ибо по весне дожди размывают снег, а остатки его растопляет первое летнее тепло.
20. Ни Рейн, ни Родан, ни Истр, ни Гебр, текущий из-под Гема, не разливается летом; а ведь там, на севере, в горах всегда лежит снег. Фасис и Борисфен[409] тоже должны были бы разливаться летом, если бы снега могли, вопреки летней жаре, поднимать воду в реках.
21. Кроме того, если бы Нил поднимался именно по этой причине, то половодье приходилось бы на самое начало лета, ибо в это время большая часть снега еще сохранилась, но он уже предельно мягкий, и таяние идет быстрее всего. Однако в Ниле вода прибывает на протяжении четырех месяцев совершенно равномерно.
22. Если верить Фалесу, ежегодные этесии[410] сдерживают течение Нила: они дуют ему навстречу и гонят морскую воду вверх по его устью. Оттесненный таким образом назад, он отступает по своему собственному руслу — вода в нем не прибывает, а останавливается, и, запертый в устье, он вскоре выходит из берегов, где только может. Вот свидетельство Эвтимена Массилийского[411]: «Я плыл, — пишет он, — по Атлантическому морю. Оттуда течет Нил, который поднимается в период этесий, ибо постоянно дующие в это время ветры гонят морскую воду к берегу. Когда они утихают и море успокаивается, уменьшается и уровень воды в текущем оттуда Ниле. К тому же морская вода в тех местах пресная, и животные там похожи на нильских».
23. Но если разлив Нила вызывают этесии, почему же он начинается раньше и продолжается дольше, чем они? Кроме того, разлив не становится тем больше, чем они сильнее дуют, и вообще его подъем и спад не зависят от напора ветра, что случилось бы непременно, если бы именно ветер поднимал уровень воды. Далее: этесии дуют к египетскому побережью навстречу течению Нила; если бы он был обязан им своим происхождением, то тек бы оттуда же, откуда они дуют. И еще одно: из моря он вытекал бы прозрачный и синий, а не мутный, как сейчас.
24. Прибавь к этому, что целая куча свидетелей опровергает сообщение Эвтимена. В те времена можно было приврать: воды за пределами Средиземного моря были неизведаны, и ничто не мешало сочинять о них сказки. А сейчас купеческие корабли ходят вдоль всего побережья внешнего моря[412], и никто не рассказывает об истоках Нила и другом вкусе морской воды; впрочем, в это не даст поверить и сама природа: ведь солнце извлекает из моря всю пресную воду — самую легкую.
25. Кроме того, почему Нил не разливается зимой? Ведь и тогда на море нередки бури, а зимние ветры бывают гораздо сильнее умеренных этесий. И если бы Нил тек из Атлантического моря, он сразу наводнял бы Египет. Однако на самом деле вода поднимается в нем постепенно.
26. Энопид Хиосский[413] говорит, что зимой тепло сохраняется под землей; оттого в пещерах бывает жарко, а в колодцах вода теплее, чем летом; вот от этого тепла и пересыхают зимой подземные водяные жилы. В других-то землях реки зимой поднимаются из-за дождей, а Нилу никакие дожди не помогают, и он мелеет, зато поднимается на протяжении лета, когда под землей становится холодно и источники снова бьют в полную силу.
27. Если бы это было верно, то все реки разливались бы летом и колодцы наполнялись бы водой. Да и неправда, что под землей зимой теплее. — Почему же тогда тепло в пещерах и колодцах? — Потому, что в них не проникает холодный воздух снаружи; собственного тепла у них нет — просто они не выпускают холод. По той же самой причине летом в них холодно: разогретый воздух не добирается до этих дальних отъединенных мест.
28. Диоген Аполлонийский[414] говорит: «Солнце тянет к себе влагу, иссушая землю; она, в свою очередь, всасывает влагу из моря, а море — из рек и прочих вод; но не может быть такого, чтобы земля в одних местах была сухая, а в других — чрезмерно влажная; ведь она вся насквозь просверлена множеством сообщающихся между собой проходов, и по ним влага поступает из мокрых мест в сухие. В противном случае — если бы сухие земли не заимствовали у других часть влаги — они давно рассыпались бы в пыль от сухости. Ибо солнце вытягивает воду отовсюду, но больше всего из тех земель, которые оно палит особенно сильно, то есть из полуденных.
29. Когда земля высохла, она сильнее всасывает в себя влагу: как в светильнике масло течет туда, где оно выгорает, так и вода устремляется туда, куда зовет ее выжженная пылающим зноем земля. Откуда берется влага? — Ну конечно, из тех краев, где вечно зима — на севере воды больше, чем достаточно; вот почему Понт постоянно течет в Нижнее море[415] — там нет, как в других морских проливах, чередующегося движения воды туда и сюда: стремительно и упорно он несется всегда в одну сторону. И если бы по тем подземным переходам влага не поступала бы всегда туда, где ее не хватает, оттуда, где ее слишком много, то вся земля уже или высохла бы, или исчезла под водой».
30. Хотелось бы спросить Диогена, почему, если все земли пористы и сообщаются друг с другом, не везде вода в реках прибывает летом? — «В Египте солнце печет сильнее; поэтому и в Ниле вода прибывает сильнее; но и во всех прочих землях реки время от времени поднимаются». — Далее: каким образом в какой-либо части земли может случиться засуха, если любая из них тянет к себе влагу из других областей и тем сильнее, чем больше она раскалится? — Далее: отчего вода в Ниле пресная, если она из моря? А ведь ни в одной реке нет воды слаще…
(Далее текст книги о Ниле — с изложением собственной теории Сенеки об истоках Нила и о его разливах — не сохранился. Несколько отрывков из утраченной ее части приводит Иоанн Лаврентий Лид в 68-й главе четвертой книги своего сочинения «О месяцах»).
Геродот говорит, что солнце, пересекая южный пояс[416] близко к земле, притягивает воды всех рек; летом, когда оно начинает склоняться к северу, оно увлекает за собой Нил; именно по этой причине он разливается летом.
Египтяне говорят, что дующие с севера этесии гонят верхние слои облаков к югу, отчего там проливаются обильные ливни, и Нил разливается.
А вот Эфор из Кимы[417] в первой книге «Историй» пишет, что почва Египта по природе пористая, но ил, наносимый Нилом из года в год, делает ее плотной и непроницаемой, и в жаркую пору река, наподобие пота, растекается в поисках рыхлой и пористой земли.
Фрасиалк же Фасосский[418] считает причиной нильских разливов этесии: Эфиопия опоясана очень высокими — сравнительно с нашими — горами; там скапливаются гонимые этесиями облака и, проливаясь, переполняют Нил.
Это подтверждает и Каллисфен Перипатетик[419] в четвертой книге своей «Греческой истории»: он дошел с войском Александра Македонского до Эфиопии и обнаружил, что Нил течет там под беспрерывными дождями, льющимися над этой страной.
Но Дикеарх[420] в «Путеводителе вокруг земли» настаивает, что Нил вытекает из Атлантического моря.
Часть вторая.[421] Об облаках[422]
Глава III
… 1. Если я стану уверять тебя, что град образуется точно так же, как у нас лед, когда все облако замерзает, я поступлю, пожалуй, слишком дерзко. Лучше я займу место в ряду тех свидетелей, которые говорят с чужих слов, честно признавая, что своими глазами не видели. Или сделаю так, как делают историки: навравшись всласть, они вдруг останавливаются на одном каком-нибудь событии и заявляют, что за это вот, мол, они не могут поручиться, и отсылают нас к своим источникам — они, дескать, пусть отвечают за достоверность.
2. Так вот, если мне ты не веришь, пусть Посидоний поручится тебе за все — и за то, чего он не сказал, и за то, чему поучает: он твердо заявит тебе, что град получается из мокрого облака, когда оно уже успело превратиться в воду, — так твердо, как будто сам при этом присутствовал[423].
3. Отчего градина круглая, ты можешь догадаться и без меня: понаблюдай и увидишь, что всякая капля превращается в шарик. Это видно на зеркале, когда на нем собирается влага от дыхания, на забрызганных вином кубках и на любой другой гладкой поверхности. То же самое на листьях — если какие капли на них удержались, они лежат шариками.
4. Что в мире мягче воды? Что тверже камня? И все же
или, как говорит другой поэт:
и выдолбленное отверстие получается круглым. Ясно, что оно подобно тому, что его выдолбило; капля высекает себе помещение по своей форме и свойствам. [5.] Кроме того, даже если бы град не был круглым с самого начала, он мог бы округлиться, падая: ведь он столько раз перевернется, летя сквозь густой воздух, что равномерно обточится со всех сторон и станет шаром. Со снегом этого не случается, потому что он не такой твердый, более разреженный и к тому же падает не с такой большой высоты, образуясь над самой землей; так что по воздуху ему приходится лететь сравнительно недалеко.
6. Почему бы мне не позволить себе того, что позволяет себе Анаксагор?[426] Уж где-где, а среди философов должно быть равноправие. Град — это не что иное, как подвешенный в воздухе лед, а снег — висячий иней. Мы уже говорили о разнице между росой и водой; та же разница — между инеем и льдом и между снегом и градом[427].
Глава IV
1. Вопрос исчерпан, и я мог бы на этом остановиться, но я желаю платить полной мерой, и раз уж начал докучать тебе, то скажу обо всех неясностях, которые тут возникают. Спрашивается, отчего зимой идет снег, а весной, когда холода уже прошли, падает град? Тебе может порой казаться, что я заблуждаюсь, мне же мои соображения представляются правильными, а если я и бываю доверчив, то только до известной степени, и принимаю лишь те маленькие выдумки, за которые бьют по губам, а не вырывают глаза.
2. Зимой воздух холоден и тверд и потому превращается не в воду, а в снег, который по природе ближе к воздуху. С наступлением весны погода становится изменчивой, и в потеплевшем воздухе образуются более крупные капли. Поэтому, «как весна дожденосная хлынет»[428], по словам нашего Вергилия, воздух, вслед за самой погодой, начинает сильнее меняться — теперь он разрежен и открыт любым влияниям; оттого-то льют проливные дожди — не столько долгие, сколько обильные.
3. Зимой моросит медленными, тонкими струйками; к мелкому, редкому дождю часто примешивается снег; когда очень холодно и небо мрачно, мы говорим: «Снежный день». И вообще всегда, когда дует аквилон или установится принесенная им погода, моросит мелкий дождь; а при австре[429] льет как из ведра, и капли падают большие.
Глава V
1. У наших [т. е. стоиков] есть одно положение, которое я не решаюсь принять, ибо оно не кажется мне достаточно обоснованным, но и не хочу обойти молчанием. Впрочем, чего мне бояться перед столь снисходительным судьей? Да и вообще, если мы всякое утверждение начнем проверять досконально, как золото на пробу, всем поневоле придется замолчать. Мало найдется таких, против которых нечего возразить; всем прочим придется выдержать долгую тяжбу, даже если они победят в конце концов. — [2.] Так вот, они говорят, будто все, скованное льдом на севере, там где Скифия и Понт, оттаивает весной; приходят в движение замерзшие реки, освобождаются из-под снега горы. Вполне вероятно, что оттуда-то и идут холодные воздушные потоки, попадая в наше весеннее небо.
3. Они добавляют к этому еще кое-что, чего я не проверял и проверять не собираюсь — думаю, что ты сам, если захочешь, сможешь устроить такую проверку и установить истину, испытав снег на свой страх и риск; они говорят, что когда идешь босиком по крепкому, замерзшему снегу, ступни болят от холода меньше, чем на талом и мягком снегу.
4. Тогда, если только они не лгут, все, что несется к нам из тех северных мест, где снег начал таять и ломается лед, сковывает морозом уже теплеющий и влажный воздух южных краев; таким образом, там, где собирался пойти дождь, по вине холода образуется град.
Глава VI
1. Не могу удержаться, чтобы не привести все нелепости, какие рассказывают наши [философы насчет града]. По их словам, существуют опытные наблюдатели облаков, которые в состоянии предсказать град. Этому они действительно могли научиться путем простого упражнения, всякий раз замечая цвет облаков, из которых потом шел град.
2. Невероятно другое: что якобы в Клеонах[430] существовала государственная должность халадзофилаков — предсказателей града. Они давали знать, где сейчас будет град, и как ты думаешь, что было дальше? Думаешь, люди бежали за плащами и укрывались под навесом? Как бы не так: каждый шел принести за себя жертву — кто ягненка, кто цыпленка. И облака, отведав чуть-чуть крови, тотчас же сворачивали в сторону.
3. Ты смеешься? Послушай кое-что еще посмешнее. Если у кого-то не находилось ягненка или цыпленка, которого не жалко, он налагал руки на самого себя; но не думай, что облака такие уж кровожадные: ему достаточно было поцарапать палец острым кончиком стиля, и выступившая кровь уже была умилостивительной жертвой: град обходил его поле так же, как поля, за которые приносились обильные жертвы.
Глава VII
1. Пытаясь найти объяснение подобным вещам, одни, как и подобает людям мудрым, утверждают, что не может того быть, чтобы кто-нибудь заключал перемирие с градом и откупался от бурь подарками, хотя дарами можно победить и богов. Другие подозревают, что в самой крови заключена некая сила, способная отвращать и отгонять облака.
2. Но как в столь ничтожном количестве крови может заключаться столь великая сила, что преодолеет расстояние до облаков и они в вышине ее почувствуют? Однако клеоняне судили и наказывали тех, кому было положено следить за погодой и предсказывать бури, за то, что по их небрежности побиты виноградники или погибли хлеба. И у нас законы XII таблиц грозят наказанием тому, кто будет «заговаривать чужой урожай»[431].
3. Невежественная древность верила, что заклинаниями можно вызывать дожди и предотвращать их. Что ничего подобного быть не может, настолько очевидно, что не нужно записываться в школу к какому-либо философу, чтобы понять это.
Глава VIII
1. Я прибавлю еще одну вещь, чтобы доставить тебе удовольствие похлопать меня по плечу и воскликнуть: «Здорово!» Говорят, что снег образуется в той части воздуха, которая ближе к земле. Ибо эта часть теплее по четырем причинам. Во-первых, все земные испарения, в которых много горячего и сухого, чем свежее, тем теплее; во-вторых, солнечные лучи отражаются от земли и поворачивают обратно: удваиваясь, они сильно разогревают все, что находится прямо над поверхностью земли, ибо здесь получается в два раза больше солнца, а следовательно, и тепла[432]; в-третьих, наверху более ветрено, а внизу тише.
Глава IX
1. К этим трем Демокрит добавляет еще одно объяснение: «Чем тверже тело, тем быстрее оно нагревается и тем дольше сохраняет тепло. Так, если поставить на солнце два сосуда — медный и стеклянный, то медный быстрее разогреется и дольше будет оставаться горячим». Далее он говорит о том, отчего это, по его мнению, происходит. «В более твердых и плотных телах поры должны быть мельче, и дух в каждой из них более тонкий, разреженный; значит, подобно тому, как маленькая баня или котел согреваются быстрее, так и эти скрытые отверстия, неразличимые простым глазом, скорее ощутят жар и дольше не выпустят его обратно из-за той же своей узости».
Эти долгие приготовления подводят нас к ответу на наш вопрос.
Глава X
[1.] Чем ближе воздух к земле, тем он плотнее. Как в воде и в любой другой жидкости муть оказывается в самом низу, так и в воздухе все более плотные частицы оседают на дно. Но уже доказано, что чем тверже и плотнее вещество, тем лучше оно сохраняет полученное тепло. Наверху, вдали от земного мусора, свободный от примеси воздух чище; солнце не задерживается в нем, проходя, как сквозь пустоту; от этого он меньше нагревается.
Глава XI
1. Некоторые возражают против этого, говоря, что на вершинах гор должно быть тем жарче, чем ближе они к солнцу. Мне кажется, они ошибаются вот в чем: они считают, что высота Апеннин, Альп и других знаменитых гор достаточно велика, чтобы создать ощутимую разницу относительно расстояния до солнца.
2. Эти горы исключительно высоки по сравнению с нами, но взгляни на них с точки зрения вселенной, и сразу увидишь, что все они низки; только друг с другом они могут соперничать в высоте. Даже величайшие из них не поднимаются настолько, чтобы выдержать сопоставление с целым. В противном случае мы не говорили бы, что вся земля есть шар. [3.] Свойство шара — округлость в сочетании с некоей равномерностью; погляди на мяч для игры, и ты поймешь, в чем эта равномерность: он сшит из кусочков, и между ними — рубцы швов, но это не мешает нам сказать, что он со всех сторон себе равен. Как мяч выглядит круглым, несмотря на эти неровности, так и весь земной шар — несмотря на выступы гор, высота которых незаметна при сопоставлении с миром в целом.
4. Кто утверждает, что высокая гора должна нагреваться сильнее, потому что находится ближе к солнцу, тот вынужден будет признать, что долговязый человек согревается скорее коротышки, а голова — скорее, чем ноги. Но тот, кто мерит мир сообразной ему мерой и понимает, что земля в нем — не более, чем точка, тот догадается, что ничто на земле не может возвыситься настолько, чтобы сильнее ощущать влияние небесных светил, словно войдя с ними в близкое соседство.
5. Эти горы, на которые мы глядим снизу вверх, эти пики, покрытые вечными снегами, — все они ниже низкого; конечно, в известном смысле гора ближе к небу, чем луг или долина, но в этом смысле и мяч везде разной толщины. В этом смысле и одно дерево ближе к небу, чем другое. Но это не так, ибо различие между крошечными карликами может быть заметно лишь тогда, когда они сравниваются друг с другом. Но по сравнению с безмерным телом становится безразлично, насколько один из них больше другого: как бы ни была велика разница, и тот и другой окажутся предельно маленькими.
Глава XII
1. Однако вернусь к нашему вопросу. В силу приведенных мною причин большинство придерживается мнения, что снег образуется в той части воздуха, которая соседствует с землей. Частицы его связаны не слишком крепко, ибо соединились под воздействием не очень сильного мороза. Ведь близкий слой воздуха одновременно и слишком холоден, чтобы перейти в воду и дождь, и недостаточно холоден, чтобы затвердеть в град; именно при таком среднем, умеренном холоде из сгущающейся воды получается снег.
Глава XIII
1. Тут ты воскликнешь: «Чего ради ты с таким старанием исследуешь эти глупости, которые могут сделать человека ученее, но не лучше? Ты рассказываешь, как получается снег, в то время как тебе куда больше пристало бы рассказывать нам, почему не следует покупать снега»[433]. — Ты хочешь, чтобы я вызвал на суд роскошь? Эта тяжба и так тянется изо дня в день, и без всякого результата. Впрочем, отчего не потягаться, даже если ей суждено выиграть: пусть если и победят нас, так хотя бы в борьбе и сопротивляющихся.
2. Так что же? Ты думаешь, подобное рассмотрение природы никак не поможет тебе приблизиться к твоей цели? Когда мы задаемся вопросом, из чего получается снег, и приходим к выводу, что природа его такая же, как у инея, в котором духа (spiritus) больше, чем в воде, разве ты не видишь, что это звучит упреком тем, кто покупает его: ведь тратить деньги на воду было бы постыдно, а это даже и не вода.
3. Право, нам лучше исследовать, как снег образуется, нежели как он сохраняется: а то ведь нам уже мало старых выдержанных вин, которые можно разливать по кувшинам[434] и сортировать по вкусу и возрасту, и мы изобретаем новые удовольствия, стремимся набить кладовые снегом, чтобы он перехитрил лето и чтобы холод погреба защитил его от пылающего летнего зноя. И чего же мы достигаем этими ухищрениями? Покупаем за деньги даровую воду. Жаль только, что нам нельзя купить ни ветра (spiritus), ни солнца, что воздух даже к столь утонченным и богатым людям поступает сам собой и совершенно бесплатно. О, как горько нам, что природа вещей оставила что-то на общее пользование!
4. Природа пожелала, чтобы вода текла для всех, равно всем доступная, чтобы всякий мог зачерпнуть живительный глоток; она щедро разлила ее на благо всем — не только человеку, но и всякому зверю, птице и самому неразвитому живому существу; и за эту-то воду хитроумная роскошь вопреки природе назначила цену: ничто не может быть ей мило, если не досталось дорого. Это было единственным, что уравнивало богатых с толпой, единственное, в чем они не могли получить преимущества перед беднейшим; и вот человек, обремененный тяжестью богатства, додумался наконец, как превратить воду в предмет роскоши.
5. Как дошли мы до того, что ни в одном источнике вода не кажется нам достаточно холодной? — Скажу. Пока здоровый желудок получает здоровую пищу и наполняется ею не перегружаясь, ему достаточно естественных освежителей; но когда он сожжен ежедневным перееданием и несварением, когда его печет не летний зной, а свой собственный, когда непрекращающееся опьянение заполнило внутренности и, превращаясь в желчь, жжет грудь, тогда приходится искать что-нибудь такое, что прекратило бы этот пожар, который от воды только сильнее вспыхивает. Лекарства усугубляют болезнь; и вот уже не только летом, но и среди зимы они пьют снег по той же самой причине.
6. Причина эта — не что иное, как внутренний недуг, ибо все нутро их испорчено роскошью. Оно никогда не знает передышки: затянувшиеся до зари обеды без перерыва сменяются завтраками: бурные возлияния еще глубже погружают в пучину недуга тех, чьи желудки уже и так лопаются, трещат от обилия разнообразных яств: невоздержанность не знает устали — поглощенная без меры пища клокочет, становится дыбом, словно взбесившийся зверь, и пылает, требуя все нового охлаждения.
7. И хотя их пиршества защищены от солнца занавесами, а в окна вставлена слюда, и жаркий огонь укрощает зиму, все же их расслабленный и утомленный собственным жаром желудок требует орошения. Подобно тому как мы приводим в чувство тех, кто потерял сознание и лежит в обмороке, брызгая на них чем-нибудь холодным, так и их скованные пороками внутренности не чувствуют ничего, пока их не обожжет чрезвычайно сильный холод.
8. Вот почему им недостаточно даже снега, а требуется лед, более крепкий и оттого вроде бы более холодный; его распускают, часто меняя воду, и пьют. Причем лед берется не сверху, а откапывается с самого дна, чтобы сила в нем была больше и заморожен был крепче. Так что вода не просто продается, а имеет своих торговцев и идет — о стыд! — по разной цене, как хлеб.
9. Лакедемоняне изгнали из города парфюмеров, приказав им не задерживаясь пересечь границу, за то, что они перевозили масло[435]. Что бы они сделали, если бы увидели специальные снегохранилища, вереницы повозок, служащих для перевозки воды, и даже не чистой, ибо цвет ее и вкус испорчены соломой, в которую она обернута?
10. Благие боги, до чего просто утолить здоровую жажду! Но что могут почувствовать эти омертвелые глотки, выдубленные обжигающей с пылу с жару едой? Все для них недостаточно холодно или недостаточно горячо; они хватают с огня раскаленные грибы и тут же глотают их вместе со шкуркой, еще дымящиеся, а потом тушат уже внутри, заливая ледяным питьем. Взгляни на этих неженок, укутанных шарфами и капюшонами, как они, бледные и больные, не просто прихлебывают воду со снегом, но грызут лед, кидая куски в свои кубки — как бы они не согрелись за то время, пока их выпивают.
11. Думаешь, это жажда? — Нет, это лихорадка, и тем более жестокая, что ни биение пульса, ни разлитый по коже жар не выдают ее — она иссушает само сердце. Страсть к роскоши — неизлечимая болезнь, вначале — мягкая и ненавязчивая, затем — жесткая и упорная. Разве ты не понимаешь, что привычка ослабляет действие любой вещи? Так и с этим самым снегом — хоть плавайте вы в нем, все равно повседневное рабство вашего желудка и привычка сделают его для вас не холоднее воды. Скорее ищите что-нибудь похолоднее снега, ибо привычный мороз уже не ощущается.
Книга V
О ветрах
Глава I
1. Ветер есть текущий воздух[436]. Некоторые определяют так: ветер есть воздух, текущий в одну сторону. Второе определение, по-видимому, более точно, ибо воздух никогда не бывает вполне неподвижен, но всегда находится в некотором волнении. Так, мы говорим, что море спокойно, когда оно слегка шевелится, не устремляясь в какую-то одну сторону; так что если ты будешь читать, как
знай, что оно вовсе не стояло, а слегка волновалось, а что оно спокойно, говорится потому, что оно не устремляется ни в ту, ни в другую сторону.
2. То же самое будет справедливо и по отношению к воздуху: он никогда не бывает неподвижным, даже когда спокоен. Ты можешь это понять из такого примера: когда солнечный свет вливается в закрытое помещение, мы видим, как мельчайшие частицы несутся в разные стороны, вверх, вниз и навстречу друг другу.
3. Поэтому тот, кто скажет: «Морское течение есть волнение моря», — не очень точно понимает, что хочет сказать, ибо спокойное море тоже волнуется; но вполне обезопасит себя от возможных возражений тот, кто примет такое определение: «Морское течение есть волнение моря в одну сторону». Точно так же и в том вопросе, который мы сейчас исследуем: не ошибется тот, кто, соблюдая осмотрительность, скажет: «Ветер есть воздух, текущий в одну сторону», или: «воздух, текущий под напором», или: «определенное количество воздуха, направляющегося в одну сторону», или: «движение воздуха, более сильное в одном направлении».
4. Я знаю, что можно возразить по поводу второго определения: зачем тебе понадобилось добавлять «в одну сторону»? Ведь все, что течет, всегда течет в одну сторону. Никто не скажет, что вода течет, если движение происходит только внутри нее самой, но только если она куда-нибудь перемещается; следовательно, нечто может двигаться и при этом не течь, и напротив, ничто не может течь кроме как в одну сторону.
5. Можно, конечно, воспользоваться и этим кратким определением, если оно достаточно надежно обезопасит нас от двусмысленности; но человеку более осмотрительному не стоит скупиться на одно слово, прибавление которого поможет исключить любой подвох. А теперь пора перейти к делу, ибо о формуле мы порассуждали достаточно.
Глава II
1. Демокрит говорит, что когда в тесной пустоте много частиц, которые он называет атомами, тогда поднимается ветер; напротив, спокойное и тихое состояние воздуха бывает тогда, когда в большой пустоте мало частиц. Ведь так же и на площади или на улице: пока малолюдно, можно гулять спокойно, а когда соберется в узком месте толпа, все сталкиваются друг с другом и получается свалка. Вот и здесь, в окружающем нас пространстве, когда множество тел заполнит небольшое место, они непременно начнут налетать друг на друга, толкаться, тесниться и друг другу мешать. От этого и рождается ветер: боровшиеся друг с другом тела, долго колебавшиеся на одном месте и откатывавшиеся из стороны в сторону, вдруг повернут и устремятся в одном направлении. А там, где на большом просторе вьется лишь несколько частиц, они не станут ни бодаться, ни толкаться.
Глава III
1. Нетрудно сообразить, что это неверно: вспомни хотя бы, что когда воздух тяжел от облаков, ветра не бывает; а ведь в это время больше всего тел собирается на небольшом пространстве — оттого-то так тяжелы и густы облака.
2. И вот еще: вокруг рек и озер часто бывают туманы — там собираются и теснятся тела, но ветра нет. Там иногда разливается такой мрак, что не видно стоящих рядом, что возможно только при скоплении множества тел на небольшом месте. А ведь если уж когда не бывает ветра, так это при тумане.
3. И вот еще пример от противного: когда восходящее солнце разрежает плотный и влажный утренний воздух, когда сбитые в толпу тела освобождаются и получают простор — тогда поднимается ветерок.
Глава IV
1. Ты скажешь: «Но если, по-твоему, ветры не возникают таким образом, то каким же?» — По-разному. С одной стороны, сама земля извергает большое количество воздуха, как бы выдыхая его из своих глубин; с другой стороны, снизу вверх постоянно поднимается обильное испарение; смешиваясь с воздухом и изменяясь, эти пары превращаются в ветер.
2. Есть еще одна вещь — я не могу ни поверить в нее, ни обойти ее молчанием: как в нашем теле от пищи образуются ветры, которые, испускаясь, чрезвычайно оскорбляют ноздри и освобождают живот иногда с громким звуком, а иногда бесшумно, так, по мнению некоторых, и сама великая природа вещей испускает ветры, переваривая свою пищу. Нам повезло, что она никогда не страдает несварением; в противном случае нам угрожало бы что-то ужасно гадкое и грязное.
3. Но не вернее ли просто сказать, что от всех концов земли постоянно несется множество частиц? Когда они собьются в кучи, а потом начнут расходиться под действием солнца, возникает ветер, ибо все, что, будучи стеснено, начинает расширяться, требует большего пространства.
Глава V
1. Так что же из этого следует? Считаю ли я испарение земли и вод единственной причиной ветра? Из-за них воздух становится тяжелым, и эта тяжесть затем разрешается порывом ветра, ибо все, что находилось в сгущенном состоянии, разрежаясь, не может не устремиться туда, где просторнее. Да, я и такую причину не отрицаю. Однако есть причина гораздо более основательная и истинная, и состоит она в том, что двигаться — естественное свойство воздуха; не заимствованная откуда-то, а внутренне присущая ему наряду с другими способность.
2. Или ты думаешь, что только нам дана способность двигаться, а воздух оставлен косным и неподвижным? Ведь и вода по-своему движется, даже при безветрии: иначе как бы она производила на свет живые существа? Мы видим, что в воде зарождается мох, а на ее поверхности — разные плавучие травы; значит, в воде есть нечто жизнетворное[438].
Глава VI
1. Но что говорить о воде, если даже всепожирающий огонь кое-что создает: как ни малоправдоподобно это звучит, тем не менее истинная правда, что в огне рождаются живые существа. И воздух обладает некой подобной силой; поэтому он то сгущается, то распространяется вширь и очищается, то сжимается, то расходится и редеет. Между воздухом и ветром та же разница, что между озером и рекой. Иногда само по себе солнце вызывает ветер, растопляя застывший воздух и разгоняя вширь сгустившийся и сжатый.
Глава VII
1. До сих пор мы говорили о ветрах вообще; теперь пора разобрать их по отдельности. Может быть, выяснив, когда и откуда они появляются[439], мы выясним, каким образом они возникают. Для начала рассмотрим предрассветные бризы[440], дующие либо от рек, либо из лощин или с какого-нибудь залива.
2. Они никогда не длятся долго, но успокаиваются, как только начнет пригревать солнце, и никогда не переходят за пределы местности, которую можно окинуть глазом. Этот род ветров начинается весной и прекращается вместе с летом; дует он, как правило, оттуда, где больше всего вод и гор. На ровной местности, даже при изобилии воды, его не бывает, если не считать еле заметного дуновения, которое нельзя назвать ветром.
Глава VIII
1. Как же образуется этот ветер, который греки зовут ἐγκολπία?
Все, что испускают из себя болота и реки, — а делают они это беспрестанно и в большом количестве, — днем служит пищей солнцу, а ночью ничем не поглощается. Если кругом горы, [испарения] скапливаются в одном месте. Когда они заполнят это место и перестанут там помещаться, они вытесняются и движутся в какую-либо одну сторону; это уже ветер. Они устремляются туда, где свободнее выход и больше простора, чтобы им, сжатым, было где рассыпаться.
2. Доказательство тому — что в первую половину ночи такой ветер не дует, ибо в это время только начинают образовываться испарения, которые скапливаются к рассвету; отяжелев, они начинают искать выход и выбирают то направление, где больше пустого пространства, вытекая на обширную открытую местность. Восход солнца подгоняет их, бичуя оцепеневший от холода воздух. Но еще прежде, чем солнце появится и пронзит воздух своими лучами, самый свет его уже действует и заранее начинает волновать и раздражать воздух.
3. Когда же выходит оно само, часть испарений увлекается вверх, часть рассеивается теплом. Вот почему им дано течь только по утрам: перед лицом солнца вся сила их улетучивается. Даже самые яростные из этих ветров стихают к середине дня и никогда не продолжаются дольше полудня; бывают и более слабые и кратковременные — в зависимости от того, насколько сильны или незначительны были причины, вызвавшие скопление испарений.
Глава IX
1. Но отчего подобные ветры сильнее весной и летом, а в остальное время года еле заметны и не могут даже наполнить паруса? — Оттого, что весна из-за обильных дождей — мокрое время, и насыщенная и перенасыщенная небесной влагой местность выделяет больше испарений.
2. Но почему они столь же сильны летом? — Потому что дневная жара не спадает после захода солнца и держится большую часть ночи. Она вызывает испарения и с силой вытягивает наверх легко отделимые частицы, но, вытянув их, не в состоянии уже их поглотить; поэтому земля и влага дольше обычного источают и выдыхают из себя испарения.
3. На восходе они превращаются в ветер не только от тепла, но и от удара: я уже говорил, что свет, предшествующий солнцу, не согревает воздух, но пронзает его; получив удар, воздух отшатывается в сторону. Я, впрочем, не стану утверждать, что сам по себе свет совсем не греет — ведь он рождается от жара.
4. В самом свете, может быть, не так много тепла, как в его источнике, однако дело свое он делает — разгоняет и разреживает всякую густоту; поэтому и обделенные природой места, со всех сторон закрытые и никогда не видящие солнца, все же согреваются сумрачным туманным светом, и днем в них не так промозгло, как ночью.
5. Повторяю: всякий жар по природе своей отталкивает и прогоняет туман; поэтому и солнце делает то же самое. Вот почему некоторые считают, что ветер всегда дует оттуда, где солнце.
Глава X
1. Что это неверно, явствует из того, что ветер дует во все стороны и корабль может идти против солнца на всех парусах; а этого никогда не случилось бы, если бы ветер всегда дул от солнца.
Этесии[441], на которые часто ссылаются сторонники этой теории, тоже не слишком убедительный довод.
2. Расскажу вначале, что думают по этому поводу они, а затем — почему я так не думаю. По их словам, этесии не дуют зимой оттого, что дни слишком короткие и солнце садится, не дав достаточно тепла. Они начинаются летом, когда дни становятся длиннее и солнечные лучи падают на нас прямо.
3. Весьма вероятно, что снега, потревоженные теплом, начинают испускать больше влажных частиц, и одновременно земля, освобожденная от снежного покрова, начинает дышать свободнее; и вот все больше тел устремляется с севера, стекаясь в более теплые и низменные края; так возникают этесии.
4. Вот почему они поднимаются во время солнцестояния и прекращаются до восхода Пса; в это время уже много частиц из северной части неба перенеслось в нашу, и солнце, переменив свой курс, светит у нас под более прямым углом, притягивая к себе одну часть воздуха и отталкивая другую. Таким образом этесии ломают лето посередине, защищая нас от тяжкого зноя самых жарких месяцев.
Глава XI
1. Теперь пора исполнить мое обещание и объяснить, почему этот довод не убедителен и нисколько не подкрепляет их теорию. Мы говорили, что бриз поднимается перед рассветом и стихает, как только его коснется солнце. Напротив, этесии получили у моряков прозвище «сонь» и «неженок», потому что, по словам Галлиона, «никогда не поднимаются рано». Они начинают дуть обычно тогда, когда самый упорный бриз уже улегся. А этого не могло бы случиться, если бы солнце действовало на них так же, как на бриз, ослабляя их силу.
2. Прибавь к этому и другое: если бы они зависели от протяженности дня, то поднимались бы до солнцестояния, когда дни самые длинные и когда снега тают сильнее всего. Ведь в июле все уже давно растаяло, и если где и лежит еще снег, то крайне мало.
Глава XII
1. Есть несколько разновидностей ветров, вырывающихся из облаков, когда те лопаются и разрываются внизу; греки так и зовут их ἐκνεφίας («из-облачными») ветрами. Получаются они, по-моему, таким образом. Когда с земными испарениями поднимается в воздух большое количество неоднородных тел, одни из которых горячие, другие — влажные, когда все эти несовместимые тела, толкаясь и стремясь вытеснить друг друга, соберутся в одну кучу, тогда образуются, по всей вероятности, некие полые облака, между которыми остаются узкие трубчатые промежутки с дырочками, как у флейты.
2. Подвижный воздух (spiritus), оказавшийся запертым в этих промежутках, движется в большой тесноте и от трения разогревается, а разогревшись, расширяется и требует большего пространства; тогда он проламывает преграды и вырывается наружу ветром почти ураганной силы, поскольку он обрушивается сверху вниз, порывистым и резким, поскольку он не свободно течет по открытому пространству, но, отовсюду теснимый препятствиями, силой прокладывает себе дорогу в борьбе. Дует он обычно недолго, ибо облачная оболочка прорывается и все, что вмещалось в облаке, вырывается наружу. По той же причине он налетает бурным порывом, который нередко сопровождается огнем и грохотом в небе.
3. Бывает, однако, что соединяются вместе несколько произошедших таким образом порывов; такой ветер дует гораздо сильнее и дольше. Так, весной с гор текут сравнительно небольшие, хотя и бурливые потоки, пока каждый из них следует своим путем; но стоит нескольким потокам соединить свои воды, и они превосходят по величине настоящие, постоянно текущие реки.
4. То же самое вполне может случиться и с бурями; когда они разражаются поодиночке, то длятся очень недолго; когда же они объединяют свои силы, и потоки воздуха (spiritus), вырвавшиеся из разных сторон неба, сшибаются в одном месте, тогда они бушуют и сильнее и дольше.
5. Итак, ветер образуется, когда разрывается облако, а оно может порваться по самым разным причинам: иногда сквозь облачный массив прорывается воздух (spiritus), иногда воздух, запертый в полом облаке, бьется в поисках выхода, пока не прорвется наружу; причиной разрыва может быть и нагревание — будь то от солнца или от столкновения и трения друг о друга — тел большой величины.
Глава XIII
1. Здесь, пожалуй, если ты не против, можно остановиться и подумать над вопросом: отчего происходят вихри?
Реки, пока не встречают на своем пути препятствий, текут прямо и спокойно; когда же они натыкаются на какую-нибудь скалу, выступающую сбоку от берега, они поворачивают свои воды вспять и, не находя выхода, начинают вращаться по кругу, как бы всасывая сами себя; так образуются водовороты.
2. Так и ветер: пока ему ничто не мешает, он свободно течет, растрачивая свои силы. Но когда он налетает на какой-нибудь утес или попадает в теснину и оказывается сжатым в узком и наклонном канале, тогда он начинает быстро вертеться и образует нечто наподобие тех водоворотов, в какие закручивается вода.
3. Такой вертящийся, кружащийся вокруг одного места и сам себя увлекающий в своем вращении ветер и есть вихрь, или смерч. Когда он вращается дольше обычного и с особенно бешеной скоростью, он воспламеняется, и возникает то, что греки зовут πρηστῆρα, то есть огненный смерч. Ветры, вырывающиеся из облаков, — самые опасные: они срывают корабельные снасти, а иногда поднимают в воздух целые корабли.
4. Кроме того, есть еще ветры, порождающие ветер другого направления; воздух, приводимый в движение таким ветром, летит не в ту сторону, куда дует сам ветер.
По этому поводу я могу высказать вот такое соображение. Когда капли [на какой-то поверхности] уже склонились вниз и потихоньку ползут, еще нельзя сказать, что они стекают. Только когда несколько капель сольются вместе и объединят свои силы, о них говорят, что они текут. Так и здесь: пока в разных местах происходят легкие движения воздуха, это еще не ветер; ветер появится тогда, когда он соберет все эти движения и объединит их в один порыв. Движущийся воздух (spiritus) и ветер различаются по степени: сильное движение воздуха (spiritus) — ветер, а легкое течение — просто движущийся воздух (spiritus).
Глава XIV
1. Теперь вернусь к тому, о чем я упоминал вначале, — что есть ветры, дующие из пещер и подземных глубин. Земля не уходит вглубь сплошным плотным монолитом: во многих местах она полая, «изрытая слепыми норами»[442], которые кое-где заполнены водой, а кое-где пусты и сухи.
2. И хотя там нет света, позволяющего разглядеть разновидности воздуха, я осмелюсь утверждать, что там во тьме бывают и облака и туманы. Ибо и над землей они бывают не оттого, что мы их видим, но мы видим их оттого, что они бывают; да и рекам под землей нисколько не мешает быть то обстоятельство, что их не видно. Мы можем быть уверены в том, что там текут реки не меньше наших, одни — тихо и плавно, другие — с бешеным ревом несясь по неровным местам. Так что же? Разве не следует допустить, что там есть и озера, непроточные стоячие воды?
3. А если есть, то они непременно должны отягощать испарениями воздух, а отягощенный воздух будет склоняться вниз и вытеснять другой воздух, создавая тем самым ветер. Мы узнаем об этих ветрах, вскормленных во тьме подземными облаками, тогда, когда они накопят достаточно сил, чтобы вырваться на поверхность, разрушив преграждающую им путь землю или найдя какое-то отверстие.
4. Известно, что под землей много серы и других не менее горючих веществ. Когда движущийся воздух в поисках выхода протискивается по таким местам, он не может не воспламенить их уже одним своим трением, а когда пламя разгорится шире, даже остававшийся до тех пор неподвижным воздух станет от тепла тоньше, придет в движение, загудит, загрохочет и буйно ринется на поиски выхода. Но на этом я остановлюсь подробнее, когда займусь вопросом о землетрясениях.
Глава XV
1. А пока позволь мне рассказать одну историю. По словам Асклепиодота, Филипп однажды отправил огромное количество людей в старую, давным-давно заброшенную шахту выяснить, в каком она состоянии и есть ли еще металл — оставили ли древние корыстолюбцы хоть что-нибудь потомкам. Они спустились, захватив светильники и запас масла к ним на много дней; шли долго, устали и увидели огромные реки и обширнейшие стоячие водохранилища, не уступающие размерами нашим, причем нависающая сверху земля нисколько их не сжимала, и воды их лились вполне свободно. Людям такое зрелище внушило немалый ужас.
2. А я прочел этот рассказ не без удовольствия. Ибо из него видно, что пороки, которыми страдает наш век, не новы, а унаследованы нами от древности; что наше поколение не первое, кого алчность заставляет рыться во тьме в каменных внутренностях земли, подбирая все, что плохо лежит; что те самые наши предки, кому мы не устаем петь хвалы и жаловаться, что мы так на них не похожи, в надежде поживиться под корень срезали горы и не жалели жизни ради возможной прибыли.
3. Задолго до царствования Филиппа Македонского были люди, спускавшиеся в поисках денег на дно самых глубоких подземелий. Добровольно, в здравом уме и трезвой памяти свободные люди переселялись в пещеры, никогда не знавшие различия дня и ночи. Какое упование заставляло их повернуться спиной к свету? Какая нужда так согнула человека, обращенного к звездам, зарыла его в землю и заживо погребла в ее сокровенных недрах, сделав добытчиком золота, обладать которым не менее опасно, чем его искать?
4. Ради него он стал прорывать, как крот, подземные коридоры, пресмыкаясь в грязи в поисках сокровища, которого там скорее всего нет, потеряв счет дням, забыв, что есть на свете вещи лучше золота, иной природы, от которых он отвернулся. Разве есть мертвец, на кого земля давила бы такой тяжестью, как на этих несчастных, погребенных под чудовищными завалами, обрушенными на них корыстолюбием? Алчность лишила их неба и закопала туда, где гнездится ядовитая нечисть. Они дерзнули спуститься туда, где все устроено иначе, все незнакомо; где сверху нависает земля; где проносятся в пустоте слепые ветры; где из жутких источников льются никого не поящие воды; где царит чужая, бесконечная ночь, — они испытали все это и после этого еще боятся ада!
Глава XVI
1. Вернусь, однако, к тому, о чем у нас была речь. Ветров четыре, и различаются они по сторонам света: восточный, западный, южный и северный. Все прочие, которым мы даем множество разных имен, более или менее соответствуют этим четырем.
2. Если ты предпочитаешь, можно сказать о них в кратких стихах, как если бы они вдруг подули все вместе, и разразилась бы буря, какой не может быть никогда:
Только Аквилону не досталось места в этой схватке ветров.
3. Впрочем, некоторые выделяют двенадцать ветров. Каждую из четырех сторон неба они делят на три части, и каждому из четырех главных ветров дают по два подчиненных. Варрон, муж весьма добросовестный, представляет их именно в таком порядке и имеет на то свои причины. Ведь солнце восходит и садится не в одних и тех же местах; восток и запад во время равноденствия — причем не забудь, что равноденствие бывает дважды, — находятся не там, где во время летнего солнцестояния или во время зимнего.
4. Ветер, дующий оттуда, где встает солнце в период равноденствия, называется у нас «подсолнечником» (subsolanus), а у греков «афелиотом» («подсолнечным»). От восхода зимнего солнцестояния дует Эвр, который у наших получил название Вультурна — этим именем называет его Тит Ливий, описывая ту несчастную для римлян битву, в которой Ганнибал заставил наше войско встать против восходящего солнца и одновременно против ветра, так что и ветер помогал ему, и солнце, слепившее глаза неприятеля; Варрон тоже употребляет это имя, однако и имени «Эвр» уже даровано гражданство, и в нашем языке оно давно не воспринимается как чужое.
Ветер, дующий от восхода летнего солнцестояния, греки зовут καικίαν; в нашем языке для него нет имени.
5. Запад равноденствия посылает к нам Фавоний; что это — Зефир, скажут тебе даже люди, ни слова не знающие по-гречески. От запада летнего солнцестояния дует Кор; по мнению некоторых, он же называется Аргестом, но я так не думаю: Кор — ветер резкий, сильный; плыть при нем можно только по ветру; Аргест же обычно мягкий, одинаково удобно позволяющий двигаться как по ветру, так и против ветра. С запада зимнего солнцестояния дует Африк — ветер буйный и разрушительный; у греков он называется λίψ.
6. С северной стороны сверху[444] дует Аквилон, из середины — Септентрион, северный ветер; снизу дует θρασκίας, для него у нас нет названия. С юга дуют εὐρόνοτος, затем νότος, по-латыни Австр; затем λευκόνοτος, у нас безымянный.
Глава XVII
1. Всего 12 ветров насчитывают не потому, что их везде 12, — наклон земли может препятствовать некоторым из них дуть в каких-то местностях, — а потому, что их нигде не может быть больше, чем 12. Так мы говорим, что падежей шесть, не потому, что всякое имя имеет шесть падежей, а потому, что ни одно не имеет более шести.
2. Те, кто считает, что ветров 12, исходит из того, что ветров должно быть столько же, сколько частей неба. А небо делится на пять кругов, проходящих через земную ось: это северный [пояс], затем [пояс] летнего солнцестояния, [пояс] равноденствия, зимнего солнцестояния и, наконец, [пояс], противоположный северному[445]. К ним прибавляется шестой круг, отделяющий верхнюю часть от нижней: ты ведь знаешь, что половина мира всегда находится сверху, а половина — внизу.
3. Эту линию, проходящую между видимой и скрытой [частями мира], греки называют ὁρίζοντα [горизонтом, т. е. «ограничивающим» кругом], а наши назвали finitor — [«ограничитель»], или finiens — «ограничивающий». К этим шести кругам следует добавить еще меридиан — полуденный круг, пересекающий горизонт под прямым углом. Таким образом, некоторые из кругов пересекаются.
Но воздух должен разделяться на столько же частей, на сколько и мир.
4. Итак, горизонт, или ограничивающий круг, пересекая пять кругов, которые я перечислил вначале, делит их на десять частей: пять — на востоке и пять — на западе. Меридиан, пересекая горизонт, добавляет к этим десяти областям еще две. Так что воздух оказывается разделен на 12 частей, и столько же получается ветров.
5. Бывают ветры местные, не выходящие за пределы некоей области и дующие лишь на небольшое расстояние; они не берут начало на самом краю вселенной, как те 12 основных. Так, Атабул свирепствует в Апулии, а в Калабрии — Япиг; в Афинах — Скирон, в Памфилии — Крагей, в Галлии — Цирций, от порывов которого шатаются дома, но жители все равно возносят ему благодарственные молитвы, полагая, будто именно ему они обязаны здоровым климатом; во всяком случае, божественный Август, когда был в Галлии, дал обет построить в честь него храм и построил. Впрочем, перечислять подобные ветры можно до бесконечности, ибо нет, наверное, такой области, у которой не было бы своего ветра, рождающегося и прекращающегося в ее пределах.
Глава XVIII
1. Итак, это создание Провидения не менее прочих заслуживает восхищения. Можно привести не одну причину, в силу которой Провидению следовало изобрести ветры и разместить их по разным сторонам света. Во-первых, ветры не дают застаиваться воздуху и, постоянно гоняя его из стороны в сторону, делают его бодрящим и живительным для всех, кто им дышит.
2. Во-вторых, ветры приводят на землю дожди и в то же время не дают им лить слишком долго, то пригоняя, то угоняя тучи так, чтобы осадки равномерно распределялись по всему земному шару. В Италию дожди приносит Австр, в Африку — Аквилон. Этесии у нас разгоняют облака, а в Индии и Эфиопии те же этесии[446] сопровождаются беспрерывными дождями.
3. Стоит ли напоминать, что без ветра, отвевающего шелуху и негодные примеси от доброго зерна, нельзя было бы собрать урожай? Да и ростки гонит вверх тот же ветер; он освобождает наливающиеся зерна, разрывая окутывающие их оболочки, которые землевладельцы зовут фолликулами.
4. Стоит ли говорить о том, что благодаря ветру стала возможной торговля между всеми народами и связь между племенами из самых разных мест?[447] Великое благодеяние природы, если бы только человеческое безумие не обратило его себе во вред! А так о ветре можно сказать то же, что все в свое время говорили о старшем Цезаре, а Тит Ливий записал: не знаю, что было бы лучше для государства — чтобы он родился или не родился. В самом деле, все то полезное и необходимое, что делает для людей ветер, не может перевесить того, что изобретает свихнувшееся человечество с помощью ветра себе на погибель.
5. Однако если некая вещь приносит вред по вине дурно употребляющих ее, из этого отнюдь не следует, что она дурна по своей природе. Ибо провидение и бог, устроитель мира, не для того позволили ветрам вечно тревожить воздух, погоняя его со всех сторон и не давая ему застаиваться и загрязняться, чтобы мы снаряжали флотилии, полные вооруженных солдат, для захвата водного пространства и преследовали врага на море или за морем.
6. Какое безумие не дает нам покоя и гонит нас друг против друга на обоюдную гибель? В поисках войны мы подставляем паруса ветру, подвергая себя одной опасности ради того, чтобы обрести другую. Мы испытываем неверную судьбу, на себе узнаем мощь бури, которую не дано победить человеческому усилию, обрекаем себя на смерть без надежды погребения.
7. Даже мира не стоило бы искать такой ценой; а мы, если удастся нам избежать подводных скал и мелей, спастись от поднятых бурей водяных гор, с вершины которых бросается на моряков бешеный ветер, пережить окутанные туманом дни, жуткие ненастные ночи с раскатами грома и крушение соседних кораблей в волнах водоворота, — чего достигнем мы ценой таких страданий и страхов? Какая гавань примет нас, измученных столькими бедствиями? Что ждет нас? — Война. Неприятель, которого уже видно на берегу. Народы, которые предстоит перебить и которые возьмут с собой немалую часть победителей. Древние города в пламени пожаров.
8. Чего ради мы заставляем целые народы браться за оружие? Зачем набираем войска, которым придется идти в атаку среди волн? Зачем не даем покоя морям? Видно, земля недостаточно быстро поглощает наших мертвых; видно, судьба нас слишком балует; видно, тела нам даны чересчур прочные, здоровье слишком завидное; видно, не косит нас ни болезнь, ни несчастье, и каждому дано безмятежно проживать все свои годы вплоть до глубокой старости! Так ринемся же скорей в морские пучины и призовем на наши головы забывший о нас рок!
9. Несчастные! Что вы гоняетесь за смертью? — Ее и так повсюду в избытке. Она заберет вас и из постели. Но пусть заберет вас невинными! Она настигнет вас и в собственном вашем доме. Но пусть настигнет вас не замышляющими зла! Ведь всякому видно, что это чистое умопомешательство, когда люди становятся опасны для всего окружающего, нападают на незнакомых; в беспричинной ярости крушат все, что попадается на пути; как дикие звери убивают тех, кого не ненавидели. Да что звери — те кусаются из мести или от голода. А мы ради чего поднимаем руку, не щадя ни своей, ни чужой крови? Ради чего мы спускаем на воду корабли, доверяясь пучине? Ради чего молим о попутном ветре как о счастье? В чем наше счастье? — Попасть на войну.
10. Куда завело нас наше помрачение? Мало уже бесчинствовать в пределах знакомого мира. И вот тупоголовый царь персов переправляет в Грецию свои войска, которых хватит, чтобы всю ее заполнить, но мало, чтобы победить. И Александр стремится пройти дальше Бактрии и Индии, посмотреть, что находится за Великим морем, негодуя от мысли, что и для него может быть последний предел. Так и Красса алчность предаст в руки парфян; он не вздрогнет от проклятий трибуна, зовущего его назад, не испугается ни бескрайнего бурного моря, ни зловещих молний у Евфрата, ни явной неблагосклонности богов; путь к золоту лежит наперекор божескому и человеческому гневу.
11. Так что, пожалуй, не ошибется тот, кто скажет, что природа обошлась бы с нами гораздо лучше, если бы вовсе запретила ветрам дуть и заставила бы каждого сидеть на своей земле, отняв у буйнопомешанных возможность носиться повсюду. От этого была бы, по крайней мере, одна польза: причинять зло человек мог бы лишь себе и своим. А что сейчас? Мало мне своих отечественных бед, непременно надо отведать и заграничных.
12. Нет на свете земли достаточно далекой, чтобы не могла угрожать нам каким-нибудь неведомым бедствием. Откуда я знаю, может быть, в это самое время владыка какого-нибудь большого племени за тридевять земель отсюда, надувшийся спесью баловень попустительницы судьбы, не хочет больше держать оружие в ножнах и оснащает флот, замышляя против меня козни, о которых я понятия не имею? Откуда я знаю, может быть, вот этот самый ветер несет ко мне опасность? Если бы моря оказались закрыты для человека, это был бы большой вклад в дело мира на земле.
13. И все же мы не вправе жаловаться, как я уже говорил, на творца нашего — бога, если его благодеяния мы употребили во зло и обратили его замысел в нечто прямо противоположное. Он создал ветры, чтобы они сохраняли на земле равновесие тепла и холода, чтобы приносили дожди и прекращали их, чтобы помогали расти посевам и наливаться плодам на деревьях, ибо поспевают они, между прочим, и оттого, что качаются на ветру: движение гонит питательные соки вверх, не позволяя им застаиваться.
14. Он даровал нам ветер, чтобы мы могли узнать дальние страны. Ведь если бы человек был всегда ограничен родным клочком суши, он остался бы невежественным животным, существом с узким кругозором и ничтожным опытом. Он даровал нам ветер, чтобы богатства каждой области стали общим достоянием, а не для того, чтобы перевозить за море легионы и конницу, переправлять оружие на погибель народам.
15. Если о благодеяниях природы мы станем судить по тому, как их использует извращенный род человеческий, то любое из них окажется нам во зло. Кому приносят пользу глаза, глядящие на чужие мерзости? Кому не вредит язык? Наконец, сама жизнь — для кого она не мучение? Нет вещи столь несомненной, чтобы под действием греха она не обернулась своей противоположностью. Так и ветер: природа изобрела его во благо людям; мы сами добились от него обратного. Все на свете соблазняет нас на какую-нибудь гадость.
16. Люди с разной целью отчаливают от берега, но среди этих целей нет праведных. Самые разнообразные побуждения толкают нас попытать счастья на море, но всюду, где плавают корабли, они движимы пороком. Платон, которого всем нам стоит послушать, замечательно сказал на склоне лет: «До чего же ничтожны вещи, за которые люди платят жизнью». Воистину, бесценный мой Луцилий, нельзя не рассмеяться, когда присмотришься хорошенько к этому их безумию, — впрочем, не их, а нашему, ибо и мы с тобой движемся в общей толпе, — когда подумаешь, как люди растрачивают всю свою жизнь, чтобы достать то, что им будто бы нужно для жизни.
Книга VI
О землетрясении
Глава I
1. Тебе, Луцилий, достойнейший из мужей, конечно, знакомы Помпеи — многолюдный, процветающий город в Кампании, что лежит на берегу чудесного залива, отделенный от открытого моря с одной стороны Суррентским и Стабийским, а с другой — Геркуланским побережьем. И вот недавно мы услыхали, что город этот разрушен землетрясением, причем пострадали и его окрестности; и случилось это зимой, вопреки уверениям наших предков, что зимой землетрясений не бывает[448].
2. Несчастье произошло в февральские ноны, в консульство Регула и Вергиния[449]; правда, Кампания никогда не была свободна от угрозы подобных бедствий, но они столько раз случались, не принося никакого вреда, что страх перед ними прошел; а тут всю ее потряс сокрушительный удар. Ибо и в Геркулануме обрушилась часть города, а уцелевшие здания внушают опасения; пострадала и Нуцерийская колония[450], хотя там и не было больших жертв. Неаполя лишь слегка коснулось чудовищное бедствие: обвалилось много частных домов, общественные здания все уцелели, разрушены некоторые виллы, но большинство, покачнувшись, устояло.
3. Рассказывают еще такие подробности: целиком погибло стадо из шестисот овец; статуи раскалывались пополам; когда все кончилось, встречали людей, тронувшихся умом и бродивших не в себе, куда глаза глядят. Здесь уместно будет разобрать причины этого явления: этого требует не только тема нашего изложения, но и злободневность происшествия.
4. Нужно найти средство утешить потрясенных людей и избавить их от непомерного страха. Если сам мир покачнулся, если уходит из-под ног все, что было в нем прочного, то где искать опоры? Если единственное на свете неподвижное, твердое и надежное, то, на чем держится все остальное[451], дрожит и опрокидывается; если сама земля утратила свое главное свойство — устойчивость, то куда деваться нам с нашими страхами? Где найти приют для наших тел, куда скрыться в смятении, если ужас поднимается снизу, надвигается из глубины всякого убежища?
5. Кто не потеряет голову, когда затрещит кровля, готовясь рухнуть? Все бросаются стремглав на улицу, покидая свои пенаты. Где искать укрытия, откуда ждать помощи, когда все вокруг рушится, когда сама земля, наша опора и хранительница, на которой стоят наши города и которую иной раз называли основой мира, шатается и оседает?
6. Что может — не скажу, помочь, но хотя бы утешить тебя, если тебе, перепуганному, некуда даже бежать? Ничего, повторяю, нет вокруг достаточно безопасного, ничего прочного, что могло бы укрыть тебя и других. От неприятеля я укроюсь за стенами, и неприступная крепость на отвесной скале защитит меня хотя бы на время от самого большого войска; от бури нас спрячет гавань; дом защитит нас в ненастье от нескончаемых проливных дождей; пожар не погонится за убегающими от него; от грозы и ударов грома нас спасет подвал или глубокая пещера, ибо небесный огонь не пробивает землю: даже самый тонкий слой отражает его вспять; во время чумы можно уехать в другое место; словом, от всякой беды есть спасение.
7. Молния не выжигает целые народы; моровое поветрие опустошает города, но не стирает их с лица земли.
А это бедствие распространяется шире всех; неизбежное, алчное, оно поражает сразу весь народ. Ибо истребляются не только отдельные дома, семьи, города — бывает, что целые племена и страны уходят под землю, скрываясь под развалинами или проваливаясь в разверзшуюся пропасть; и, словно злое несчастье желает стереть всякое напоминание о том, чего больше нет, но что когда-то все же было, — над славнейшими когда-то городами, без следа былой жизни, расстилается земля.
8. Многие боятся этого рода смерти больше, чем любой другой, ибо низвергаются в пропасть вместе со своими жилищами и еще живые выбывают из числа живых; как будто не один конец у всякой судьбы! В этом, между прочим, тоже проявляется великая справедливость природы: когда дело подходит к кончине, все мы равны.
9. Какая мне разница, один ли камень ушибет меня насмерть или раздавит целая гора? Буду ли я погребен под развалинами одного дома, в горстке обломков и пыли, или целый земной шар рухнет на мою голову? Испущу ли я свой дух на воле и при свете дня, или в колоссальной расселине оползающей земли? Один ли я унесусь в глубины земных недр или в сопровождении многочисленных народов, вместе со мной проваливающихся под землю? Не все ли мне равно, умирать среди большой суматохи или нет? Смерть-то повсюду одинакова.
10. А потому давайте наберемся мужества перед лицом этого страшного бедствия, которого нельзя ни избежать, ни предвидеть; давайте перестанем слушать тех, кто отрекся от Кампании, кто эмигрировал после катастрофы и заявляет, что ноги его не будет никогда в этих местах. В самом деле, кто поручится им за то, что в другом месте земля держится крепче?
11. Она всюду подвластна тому же року, и если где еще не колебалась, не следует думать, будто там она непоколебима. Может быть, то самое место, на котором вы сегодня чувствуете себя в такой безопасности, разверзнется нынче ночью, а то и до захода солнца. Откуда ты знаешь, может быть, те края, где судьба, свирепствуя, истощила свои силы, впредь окажутся устойчивее других, опираясь на собственные развалины?
12. Считать какое бы то ни было место на земле безопасным и свободным от этой угрозы было бы заблуждением. Все подчинены одному закону; нет такого, которое природа замыслила бы создать неподвижным; время от времени то одно, то другое рушится; подобно тому, как в больших городах ветшает то один, то другой дом, так и на этой земле приходит в негодность то один, то другой участок.
13. Некогда Тир превратился в бесславные руины; Азия потеряла одновременно двенадцать городов; годом раньше такой же удар, какой ныне обрушился на Кампанию, поразил Ахайю и Македонию[452]. Рок кружит по земле, вновь посещая те места, где давно не был. Некоторые он тревожит чаще, некоторые — реже, но ни одного не оставляет невредимым и безопасным навсегда.
14. Что́ люди — мы существа бренные и рождаемся на краткий миг; города, побережья и материки, даже само море — и то в безропотном рабстве у рока. А мы уверяем себя, что удача и счастье, самые легковесные и летучие вещи из всех, какие есть у человека, пребудут постоянно; мы убеждены, что есть люди, у которых счастье прочно и неизменно.
15. Как может прийти в голову тем, кто уверен в вечности своего благополучия, что сама земля, на которой мы стоим, неустойчива? Но ведь это порок не Кампании только или Ахайи, а всей земной поверхности: она плохо скреплена и разваливается от самых разных причин; в целом-то она сохраняется прежней, а по частям разрушается.
Глава II
1. Однако, что же это я? Обещал избавить от страха перед редко возникающей опасностью, а теперь сам же заявляю, что она грозит всегда и везде. Да, вечный покой недоступен тому, что способно разрушаться или разрушать. Но именно в этом я и вижу величайшее утешение, ведь неизбежного боятся только дураки: у людей мудрых страх изгоняется рассуждением, а невежественные обретают спокойную твердость в отчаянии.
2. Так что слова, сказанные о жителях внезапно захваченной Трои, застывших от ужаса среди пожаров и вражеских мечей, ты можешь обратить ко всему человеческому роду:
3. Если вы хотите ничего не бояться, сообразите, что бояться надо всего. Оглянитесь вокруг, какие пустяки выводят нас из строя: и пища, и вода, и бодрствование, и сон — все нарушает наше здоровье, стоит лишь преступить меру. Оглядитесь и сразу поймете, что мы — ничтожные, бессильные частицы, рассыпающиеся в прах от малейшего толчка.
Вот уж действительно, нам нечего бояться, кроме того, что земля внезапно расступится и погребет нас под собой!
4. Высоко нужно ценить себя, чтобы бояться молний и землетрясений с обвалами. Ты бы лучше осознал свое ничтожество и остерегался насморка! Нет, видно, мы уродились уж такие счастливые, выросли такие громадные и могучие, что и гибель нас никакая не возьмет, разве только потрясется мир, или гром небесный грянет, или земля расступится!
5. Да ведь стоит нам повредить ноготь, или даже только один его краешек — и уже болезнь нас приканчивает! Мне ли бояться землетрясений, если комок мокроты — и тот уже почти задушил меня! Мне ли пугаться, что море выйдет из берегов и небывалые волны надвинутся на меня, если подобные мне захлебываются глотком воды, попавшим не в то горло? До чего глупо страшиться моря, зная, что и капля может тебя убить!{4}
Глава III
1. Небесполезно также иметь в виду, что все это не дело богов, что отнюдь не вышний гнев сотрясает небо и землю. Здесь действуют естественные причины; стихия не свирепствует по приказу свыше, а утрачивает равновесие в силу внутренних нарушений, как это бывает и с нашими телами; нам кажется, что она причиняет вред всему вокруг, а на самом деле это она сама повреждена.
2. Но для нас, не ведающих истины, все кажется страшнее, чем есть в действительности; особенный ужас наводит то, что случается редко; с привычным легче примириться; необычное пугает гораздо больше. Но отчего нам что-то кажется необычайным? — Оттого, что мы постигаем природу глазами, а не разумом; мы принимаем в соображение не то, что она может сделать, но лишь то, что она уже делала. Вот мы и расплачиваемся за пренебрежение к разуму страхом, видя сверхъестественное в просто непривычном.
3. Разве я не прав? Разве религия не опутывала мозги целых народов оттого только, что явилось затмение солнца или луна скрылась целиком или отчасти, что, правда, случается чаще? А еще сильнее действуют проносящиеся по небу огненные факелы или зарево на полнеба; хвостатые кометы; появление нескольких солнц или звезд средь бела дня, или множество стремительно летящих по небу огней, за которыми тянутся длинные огненные шлейфы.
4. Разве в состоянии мы без страха восхищаться подобными зрелищами? Но если причина страха — незнание, не стоит ли узнать, чтобы не бояться? Насколько лучше исследовать причины всякого явления, сосредоточив на этом все душевные силы. Нет человека достойнее, чем тот, кто не просто уделяет время подобным занятиям, но целиком отдается им.
Глава IV
1. Итак, спрашивается, что способно поколебать землю от самых глубин, стронуть с места глыбу подобной тяжести? Что наделено достаточной мощью, чтобы приподнять столь великий груз? Почему земля иногда сотрясается, иногда оседает, иногда разверзается и порой долго зияет провалами, порой же сразу вновь закрывает их? Отчего она то поглощает большие реки, то выплескивает на поверхность новые, прежде невиданные? Иной раз заставляет бить горячие источники, а другой раз охлаждает бывшие горячими раньше? То вдруг начинает извергать пламя из отверстия в какой-нибудь горе или скале, которого прежде никто не знал, то тушит столетиями знаменитые кратеры? Она творит тысячи чудес, меняя вид местностей, сдвигая горы, приподнимая равнины, заставляя долины вспучиваться холмами, вздымая новые острова из морских глубин. Отчего же все это происходит? — Выяснить причины — задача, по-моему, весьма достойная.
2. Ты спросишь, что даст такая работа? Ценнейшую из наград — знание природы. Исследования подобных материй могут принести впоследствии немало практической пользы, однако самое прекрасное в них то, что они увлекают человека самим своим величием, заставляя заниматься собой не корысти ради, но из чистого восхищения. Итак, посмотрим, отчего все это происходит. Для меня это тем интереснее, что в юности я уже издал книжку о землетрясениях, и теперь хочу испытать себя и поглядеть, добавила ли старость мне знаний или хотя бы добросовестности.
Глава V
1. Причиной сотрясения земли одни полагали воду, другие огонь, третьи — саму землю, четвертые — движущийся воздух; пятые — несколько [стихий], шестые — все вместе. Некоторые точно знают, по их словам, что причина землетрясений — одна из этих [стихий], но не знают, какая именно.
2. Сейчас я займусь всеми объяснениями по порядку. Однако прежде всего мне придется отметить, что мнения древних неточны и грубы. В поисках истины они много блуждали вокруг нее; для первопроходцев все здесь было ново и непонятно; то, что нашли они, было впоследствии развито и отшлифовано. И все же если с тех пор была открыта истина, заслугу открытия следует отнести на их счет: только великий дух мог осмелиться раздвинуть завесы природы, не удовольствовавшись внешним ее видом, заглянуть внутрь и начать опускаться вглубь — к тайнам богов. Бо́льшую лепту в открытие внес тот, кто первым понадеялся, что может его сделать.
3. Итак, нам следует выслушать древних, не придираясь. Ни одно дело не достигает завершения в самом начале; и это верно не только по отношению к исследованию природы — величайшему и труднейшему из занятий; как бы много ни было здесь сделано в будущем, хватит дела и всякому следующему поколению; так бывает и с любой другой работой — вначале она всегда далека от совершенства.
Глава VI
1. Действием воды объясняли землетрясение многие и объясняли по-разному. Согласно Фалесу Милетскому, вся земля как бы плавает на воде, называй ее как хочешь: Океаном, или Великим морем, или простой водой, изначальной стихией [влаги], из которой потом произошла наша вода — сложная. Так вот, на этих волнах держится земной шар, подобно огромному кораблю, и, как корабль, он тоже вытесняет воду своей тяжестью.
2. Здесь я не вижу надобности излагать причины, в силу которых Фалес не признавал возможным, чтобы тяжелейшая часть мира поддерживалась движущимся воздухом, столь летучим и тонким; ведь здесь мы ведем речь не о положении земли, а о ее сотрясении. Так вот, в доказательство того, что именно вода повинна в землетрясениях, Фалес приводит то обстоятельство, что при всяком более или менее крупном землетрясении на поверхность вырываются новые источники, как это случается и при кораблекрушениях; когда судно накренится и ляжет на бок, оно зачерпывает воду, и если груза на борту слишком много, вода бьет вверх и заливает корабль, а если нет — все равно поднимается значительно выше обычного уровня и справа и слева.
3. Не надо долго думать, чтобы сообразить, что это неверно. В самом деле, если бы земля держалась на воде и время от времени на ней качалась, она всегда была бы в движении, и мы бы удивлялись не колебанию ее, а покою. Кроме того, она тряслась бы вся, а не частями — где это видано, чтобы качалась одна половина корабля? Но землетрясения охватывают не всю землю, а только ее часть. Как же может быть, чтобы плавучее тело не закачалось целиком, если закачалось то, в чем оно плавает?
4. «Но отчего же тогда вырываются на поверхность воды?» — Во-первых, часто бывает, что земля трясется, а новых вод никаких не появляется. Во-вторых, если бы воды прорывалась наверх по той причине, какую указал Фалес, то они хлынули бы со всех сторон от краев земли, как это бывает и в наших реках и морях: когда корабль погружается, прибывание воды заметно прежде всего на его бортах. Ну и, наконец, если бы было так, как ты говоришь, воды не появлялось бы так ничтожно мало, словно трюмная грязь выступает сквозь щели пола — нет, бесконечные воды, на которых покоится вся вселенная, полились бы непомерной силы наводнением.
Глава VII
1. Действию воды приписывают землетрясение и некоторые другие, однако объясняют все дело иначе. По их словам, по земле разлиты воды самых разных видов. Есть неиссякающие потоки, судоходные в любое время года независимо от дождей; среди них — Нил, катящий в летний зной непомерные массы воды; среди них Данубий и Рейн, разделяющие земли мирных и враждебных племен: первый сдерживает натиск сарматов, отграничивая Европу от Азии; другой не пускает к нам воинственных германцев.
2. Добавь обширнейшие озера, стоячие воды, по берегам которых живут народы, часто незнакомые друг с другом; огромные несудоходные болота, непроходимые даже для местных жителей. Кроме того, сколько есть ручьев, родников и источников, из которых внезапно, непонятно откуда взявшись, выливаются целые реки. А сколько мощных бурных потоков собирается время от времени, внезапно появляясь и так же быстро исчезая?
3. Все эти разновидности вод существуют и под землей. Иные и там катятся вниз быстрым и сильным течением, а достигнув обрыва, низвергаются водопадом; иные текут неторопливо и спокойно, лениво разливаясь по отмелям. И разве не очевидно, что воды стекаются в обширные впадины, образуя во многих местах стоячие водоемы? Впрочем, не стоит, пожалуй, долго доказывать, что там много воды; ведь там все во́ды; у земли никогда не достало бы влаги питать столько рек, если бы они не вытекали из некоего подземного водохранилища, и весьма обильного.
4. Если это правда, то тамошние реки непременно должны время от времени выходить из берегов и мощным течением крушить все на своем пути; место, подвергшееся натиску потока, сотрясается, не успокаиваясь до тех пор, пока не спадет вода. Кроме того, река или ручей могут где-то подмыть берег и, когда часть его сползет или обрушится в воду, то земля над ним сотрясается.
5. Слишком полагается на свое зрение и умом своим видит не дальше, чем глазами, тот, кто не в силах поверить в существование огромного моря в недрах земли. Я, например, не вижу ничего, что мешало бы быть под землей обширному побережью, неведомыми нам путями спускающемуся к морю, которое там должно быть не меньше, а возможно, и побольше нашего, ибо наверху ему приходится делить сушу со столькими живыми существами; а там темные, никем не обитаемые пустыни легче становятся добычей волн.
6. А волны — кто запретит им бушевать там, когда их подгоняют ветры, которые возникают повсюду, где есть воздух или провалы в земле? А значит, всякая, сильнее обычного разыгравшаяся там буря, ударяя снизу в землю, вызовет значительное ее колебание. И у нас на поверхности часто страдают от внезапного сильного прилива поселения, расположенные далеко от моря; деревни, в которых прибой слышался издалека и море едва было видно, оказываются накрыты пучиной. Точно так же и там подземное море может подниматься и снова отступать, причем от того и другого земная поверхность сотрясается.
Глава VIII
1. Я не думаю, что ты станешь долго колебаться, поверить ли тебе в существование подземных рек и морей или нет. В самом деле, если источники всех вод не заключены под землей, то откуда же берутся, откуда вытекают наши моря и реки?
2. Посмотри, как течение Тигра обрывается посередине: он не поворачивает назад или в сторону, а пересыхает, убывая сначала понемногу, незаметно, а затем вдруг исчезая; куда, по-твоему, могла уйти вода, если не под землю, во тьму? И ты тем более убедишься в этом, когда увидишь, как река в другом месте вновь появляется из-под земли, столь же полноводная, как и раньше. А Алфей? Посмотри, как эта река, воспетая поэтами, уходит в землю в Ахайе и, пересекая море, вновь выходит на поверхность в Сицилии дивным источником Аретузой.
3. А ты не слыхал, что среди попыток объяснить, отчего Нил разливается летом, есть и такая: Нил будто бы вытекает из-под земли и разливается не от небесных вод, а от притока глубинных? Я своими ушами слышал рассказ двух центурионов, которых Нерон Цезарь, большой поклонник всех добродетелей, но в особенности — истины, отправил исследовать истоки Нила[454]. Они рассказывали, как проделали долгий путь, как царь Эфиопии снабдил их наставлениями и поручил соседним царям содействовать им, как они оттуда добрались до самых дальних обитаемых земель.
4. «По истечении многих дней, — говорили они, — мы достигли необъятных болот; где они кончаются, не знали даже местные жители, и пытаться это выяснить безнадежно. Ибо вода там настолько покрыта переплетающимися растениями, что ни пешком, ни вплавь передвигаться по ней невозможно; единственное, на чем можно кое-как двигаться по илистому заросшему болоту — это на маленьких, легких одноместных суденышках. Вот там мы видели две скалы, из которых вырывалась, падая вниз, огромнейшая могучая река»[455].
5. Будь то в самом деле исток Нила или один из его притоков, рождается ли он на этом месте, или, уйдя где-то раньше под землю, здесь снова выходит на поверхность, — как бы то ни было, неужели ты не веришь, что этот поток поднялся из вод большого подземного озера? Чтобы с такой силой извергать такое количество воды, земля непременно должна хранить в своих глубинах ее запасы, рассеянные в разных местах.
Глава IX
1. Некоторые — и среди них весьма знаменитые мужи — полагают причиной землетрясения огонь. В числе первых стоит назвать Анаксагора[456]; по его мнению, земля сотрясается примерно по той же причине, что и воздух. Там, внизу, движущийся воздух разрывает облака, собравшиеся из сгустившегося воздуха — точно так же разрываются облака и у нас; от соударения облаков и стремительного движения вырвавшегося из них воздуха вспыхивает огонь; в поисках выхода он обрушивается на все, что стоит у него на пути, руша и взрывая препятствия до тех пор, пока не сумеет, протиснувшись в какую-нибудь щель или силой разрушив преграду, проложить себе дорогу к небу.
2. Другие тоже считают причиной огонь, но полагают, что действует он не так. Он будто бы горит во многих местах под землей, выжигая все вокруг себя; и если изъеденная таким образом порода обрушится, следует сотрясение верхних пластов: лишившись опор, они начинают скользить вниз, пока не обвалятся совсем, ибо снизу их тяжесть ничем не поддерживается. Тогда-то и разверзаются пропасти и открываются огромные провалы; иногда, впрочем, после долгих колебаний, земля вновь успокаивается, опершись на то, что уцелело и устояло внизу.
3. Нечто подобное можно наблюдать и у нас, когда случается пожар в каком-нибудь городском квартале: после того как перегорят балки или разрушится нижняя часть здания, подпирающая верхние, долго сотрясавшаяся крыша обрушивается и падает или угрожает упасть до тех пор, пока под ней не окажется прочного основания.
Глава X
1. Анаксимен считает, что причина землетрясений — сама земля, и то, что заставляет ее содрогаться, возникает внутри нее самой и из нее самой, а не приходит извне. Дело в том, что отдельные ее части время от времени отваливаются, из-за того ли, что их подмыла вода, или разъел огонь, или отколол сильный порыв движущегося воздуха. Впрочем, даже если ничего этого не будет, все равно где-то что-то будет отделяться или расщепляться, ибо все на свете ветшает с годами и нет ничего неподвластного старости; она доканывает в конце концов и самые прочные и мощные вещи.
2. Так случается со старыми зданиями; они падают без видимой причины, просто потому, что крепости у них осталось меньше, чем тяжести. То же самое происходит и в этом вселенском теле земли; одряхлевшие части ее рассыпаются и падают, заставляя содрогнуться вышележащие пласты. Заставляют содрогнуться, во-первых, уже тем, что от них отделяются, ибо ничто, в особенности, если оно было большое, не отделяется от того, с чем было соединено, не заставив его колебаться; во-вторых, потому что, падая на что-то твердое, они отскакивают назад, как мяч, который, упав на землю, снова и снова подпрыгивает, многократно отбрасываемый ею вверх. А в-третьих, если они падают не на твердую землю, а в стоячие воды, то расходящиеся от падения с большой высоты столь огромной тяжести и от могучего удара водяные круги будут потрясать все окрестности.
Глава XI
1. Некоторые приписывают сотрясение земли огню, но объясняют его иначе. Если правда, что во многих местах под землей пылает огонь, то он должен превращать в пар огромное количество воды; не имея выхода, этот пар начинает давить на движущийся воздух; когда давление резко возрастает, он взрывает все, что преграждает ему путь, когда же давление не слишком велико — только сотрясает. Мы видим, как бурлит и пенится вода на огне; знаем, что будет, если кипятить на огне воду в плотно закрытом котле; естественно, что под землей, где огонь горит огромным могучим пожаром, вскипятив целое море воды, испарения клокочущих волн заставят содрогнуться все, что угодно, под своими ударами.
Глава XII
1. Бо́льшая и лучшая часть авторов считает причиной землетрясений движущийся воздух. Архелай[457], физик для своего — древнего — времени достаточно основательный, говорит следующее. Ветры проникают вниз, в пещеры и полости земли; после того как все подземные пространства окажутся заполнены и воздух сожмется, насколько возможно, вновь поступающий воздух будет жать на него все сильнее, бить его и ударять без конца, тесня вперед.
2. Тогда-то теснимый воздух, ища себе места, сотрясает все, что давит его, и пытается взорвать стены своей тюрьмы; от этой-то борьбы воздуха, бьющегося в поисках выхода, содрогается земля.
Следовательно, накануне землетрясения воздух над землей должен быть тих и спокоен, поскольку весь движущийся воздух, обычно возбуждающий ветры, должен быть под землей. Так было и на сей раз: перед нынешним Кампанским землетрясением, хотя случилось оно зимой, в самое ветреное время, несколько дней небесный воздух стоял тих и недвижен.
3. «Выходит, что ни разу не бывало, чтобы при землетрясении дул ветер?» — Бывало, но редко. Для этого нужно, чтобы дули одновременно два ветра, — а это и может быть, и бывает. А раз мы узнали — да это и общеизвестно, — что на земле могут дуть сразу два ветра, то почему же один из них не может мести воздух сверху, а другой — внизу?
Глава XIII
1. К сторонникам того же мнения можно отнести также Аристотеля[458] и его ученика Теофраста[459], мужа, обладавшего хотя и не божественным, как казалось грекам, однако вполне приятным и без натуги гладким слогом[460]. Вот как представляли дело эти двое. Из земли беспрестанно выделяются какие-то испарения, иногда сухие, иногда с примесью влаги; поднимаясь с самого дна подземелий вверх, они в конце концов достигают места, откуда дальше двигаться невозможно; здесь, откатываясь назад, движущиеся потоки воздуха сталкиваются друг с другом и мечутся в борьбе из стороны в сторону, налетая на препятствия; останутся ли они взаперти или вырвутся через какую-нибудь щель наружу — в любом случае они производят грохот и сотрясение земли.
2. К той же школе принадлежит Стратон[461], исследователь природы вещей, занимавшийся преимущественно этой частью философии. Он пришел к такому заключению. Холодное и горячее не могут быть вместе и всегда расходятся в противоположные стороны; холод стекает туда, откуда ушло тепло, и наоборот: тепло оказывается там, откуда был изгнан холод. Что это истинная правда и что они действительно расходятся в разные стороны, ты поймешь из следующего примера.
3. Зимой, когда на земле холодно, в колодцах, пещерах и всех прочих подземельях тепло, ибо туда собралось все тепло, спасаясь от холода, царящего наверху. Вниз набирается столько теплого воздуха, сколько может вместиться, и чем гуще он становится, тем сильнее. Еще ниже тем временем давно уже собрался другой воздух, тоже сжатый в тесном помещении, и теперь он вынужден уступать место вновь прибывающему.
4. То же самое, только наоборот, происходит и летом, когда под землю спускается огромная масса холода: прятавшееся там тепло, отступая перед надвигающимся холодом, с великой силой устремляется в узкие и тесные закоулки, ибо природа обоих не терпит согласия и пребывания в одном месте. Итак, убегая прочь и стремясь вырваться во что бы то ни стало наружу, он крушит и ломает все на своем пути.
5. По этой же причине перед землетрясением бывает слышен рев: это ветер бушует в подземелье. Как говорит наш Вергилий:
а реветь там некому, кроме ветров.
6. Впоследствии повторяются те же стадии борьбы: собирается тепло, а затем вырывается наружу; отступает и загоняется в отдаленные углы холод, чтобы вскоре вновь обрести силу и власть. И вот, когда оба теснят друг друга то в одну, то в другую сторону, и воздушные потоки устремляются взад и вперед, тогда-то и происходит землетрясение.
Глава XIV
1. Есть и такие, кто полагает, что землю заставляет дрожать только движущийся воздух (spiritus) и ничего больше; однако его воздействие они объясняют иначе, нежели Аристотель. Вот послушай, что они говорят. Наше тело орошается кровью и воздухом, движущимся по своим путям. При этом сосуды, по которым движется душа, бывают более тонкие, не вмещающие больше того, что через них проходит, и более обширные, в которых она собирается и откуда направляется в разные стороны. Точно так же и все тело земного шара пронизано сосудами, по которым течет вода, соответствующая нашей крови, и ветер, который правильно будет назвать его душой. В каких-то местах они только движутся, а в каких-то и собираются.
2. И вот подобно тому, как в нашем теле, пока оно в добром здравии, кровь и воздух бегут по жилам спокойно и без помех, а когда что-то не в порядке, пульс бьется чаще и дыхание становится прерывистым и судорожным, изобличая болезнь или усталость, — точно так же и земля в своем естественном состоянии не трясется; когда же что-то не так, она дрожит, как тело больного, ибо воздух, прежде спокойно текший по жилам, теперь движется толчками, сильно сотрясая свои сосуды. Немного раньше я излагал мнение тех, кто считает землю живым существом; здесь, однако, речь не об этом. В самом деле, живое существо, если заболевает, то все целиком; лихорадка не охватывает нас по частям, но с равной силой распространяется по всему телу.
3. Посмотри, ведь в землю проникает часть разлитого вокруг нее воздуха. Пока ему свободен выход, он скользит, никому не причиняя вреда. Но если что-то ему помешает или перегородит дорогу, он сначала будет сжиматься и тяжелеть, поскольку сзади вливается все новый воздух, а затем найдет какую-нибудь щель, в которую станет протискиваться с тем большей яростью, чем она теснее; ясно, что при том не обойдется без борьбы и ударов, и земля не может не трястись.
4. Но если воздух не находит и щели, сквозь которую мог бы просочиться наружу, он, сдавленный в тесном пространстве, начинает буйствовать там и бесноваться, круша и ломая все вокруг; тончайшая вещь на свете, он в то же время и самая могучая: он может пробраться туда, где, казалось бы, нет отверстия, а проникнув, изнутри разрывает и рассыпает в прах что угодно. Вот тогда-то и случается землетрясение; земля либо расступается, чтобы выпустить воздух, либо, выпустив его и лишившись опоры, обрушивается в ту самую полость, из которой он вышел.
Глава XV
1. Некоторые[463] думают вот как. Земля во многих местах пронизана отверстиями; причем это не только те проходы, которые с самого начала были у нее, служа чем-то вроде дыхательных отверстий, но и многие другие, образовавшиеся случайно. Где-то вода размыла и унесла верхний слой земли, где-то ее пробили низвергавшиеся с гор потоки, где-то дыры в земле открылись после сильных приливов. Сквозь эти отверстия под землю проникает воздух (spiritus). Если море накроет его и погонит вглубь, а течение не позволит ему повернуть назад, так что и выход впереди и путь вспять будет ему отрезан, тогда он закрутится вихрем и, не имея возможности двигаться прямо, что для него естественно, ринется вверх, пробивая стесняющую его землю.
Глава XVI
1. Ну и вот, теперь мне осталось изложить мнение, разделяемое большинством авторов; может быть, в конце концов именно оно будет одобрено большинством голосов. Что в земле есть движущийся воздух (spiritus), совершенно очевидно; не только тот, благодаря которому она держится и который связывает между собой ее части, — такой есть и в камнях и в мертвых телах; я утверждаю, что в ней есть и тот животворный воздух, благодаря которому все питается и растет. В противном случае, как могла бы она вливать жизнь в столькие деревья и травы, у которых нет другого источника жизни, кроме земли? Как могла бы она приютить и обогреть столько корней, зарывшихся в нее, одни — у самой поверхности, другие — уйдя далеко вглубь, если бы она не обладала в избытке душой, которая порождает столь великое разнообразие, вспаивает его, вскармливает и взращивает?
2. Однако эти доводы еще не самые веские. Все это небо, ограниченное огненным эфиром — верхней частью мира, все эти звезды, которых не счесть, весь этот сонм небесных тел — впрочем, бог с ним, с сонмом — возьми хотя бы одно это Солнце, совершающее свой путь так близко от нас и по объему многократно превосходящее земной шар, — все они получают питание от земли и делят его между собой; жизнь их поддерживается только земным дыханием и испарением — это их единственное пастбище, единственная пища.
3. Однако не будь земля полна души, которая день и ночь изливается из всех ее частей, она не в силах была бы прокормить так много и во столько раз больших, чем она сама, тел. Но если от нее так много требуют и так много получают, не может быть, чтобы у нее самой оставалось мало. Правда, все, что рождается из нее, рождается на время, ибо запас воздуха у нее не бесконечен, и его не могло бы вечно хватать для стольких небесных тел; если бы они время от времени не разрушались и не возвращались бы назад в землю; но все же и в ней самой должно оставаться полно души, вырывающейся наружу из скрытого внутри изобилия.
4. Итак, не приходится сомневаться, что в недрах ее спрятано много воздуха и что воздухом заполнены обширные слепые подземелья. А если это правда, то как же может всегда хранить неподвижность то, что наполнено подвижнейшей вещью на свете? А кому придет в голову усомниться в том, что воздух беспокойнее и непоседливее всего на свете и больше всех радуется движению?
Глава XVII
1. Следовательно, воздух, который постоянно желает двигаться, поскольку его природа не терпит покоя, будет время от времени приводить в движение и другие предметы. Когда это происходит? Когда ему прегражден путь. Ибо пока ему не мешают, он движется спокойно; но когда ему встречается препятствие и не пускает его дальше, он впадает в бешенство и сносит его, как тот «Аракс, возмущенный мостом»[464].
2. Пока он тек по свободному гладкому руслу, волны его не накатывались друг на друга; но когда камни, упавшие случайно или брошенные человеческой рукой, стесняют его течение, он обрушивается на них, черпая силу для натиска в самой остановке; и чем больше препятствие, тем больше его сила. Ведь сзади постоянно притекает новая вода и копится до тех пор, пока, не выдержав собственной тяжести, не рухнет вперед всей накопленной силой, увлекая за собой все, что стояло на ее пути. То же самое происходит и с воздухом (spiritus), только силы и подвижности в нем больше, так что он быстрее вырывается и с большей яростью крушит все вокруг; отчего и происходит трясение, то есть движение той части земли, под которой шла борьба.
3. И вот подтверждение тому, что все сказанное — правда. Часто после землетрясения, если при нем образовались расщелины, из них на протяжении многих дней дует ветер; так было, говорят, при землетрясении в Халкиде; ты найдешь рассказ об этом у Асклепиодота, слушателя Посидония, в той самой его книге о причинах природных явлений. И у других авторов ты можешь прочесть, как в каком-то месте расступилась земля и оттуда очень долго дул ветер, сам, очевидно, проложивший себе этот путь.
Глава XVIII
1. Итак, причина, вызывающая землетрясения, весьма значительна: это движущийся воздух (spiritus), от природы быстрый и носящийся с места на место. Пока ничто его не толкает, он незаметен в пустотах под землей, безобидно лежит там и не причиняет вреда окружающему.
2. Когда же какая-нибудь внешняя причина потревожит его, начнет толкать и загонять в тесный тупик, он поначалу уступает, стремясь, если есть возможность, ускользнуть и рассеяться; если же на него наступают со всех сторон, отрезав путь к отступлению, тогда
он бьется, круша ее, и мечется тем яростнее, чем сильнее препятствие и чем дольше приходится ему бороться.
3. Обшарив все уголки своей темницы и не найдя выхода, отброшенный назад после очередного особенно мощного своего удара, он либо рассеивается по невидимым глазу отверстиям, образовавшимся, пока он сотрясал землю, либо раздирает в земле новую рану и сквозь нее вырывается наружу. Никакая толща горы не в силах укротить его, и нет таких стен, чтобы удержать ветер. Он расторгает любые узы, сносит любую тяжесть, просачивается сквозь мельчайшие щели туда, где посвободнее; с прирожденной ему неукротимой силой он вырывается на волю, особенно когда он возмутится, отстаивая свои права.
4. Движущийся воздух (spiritus) — вещь непобедимая; нет ничего, что смогло бы
5. Без сомнения, поэты желали представить такую скрытую под землей тюрьму, в которой заключены ветры; они не понимали одного: то, что может быть заключено, — еще не ветер; а то, что уже ветер, — не может быть заключено. Ибо то, что заключено, находится в покое, это стоячий неподвижный воздух; ветер же всегда в движении.
6. И еще один довод подтверждает, что землетрясение производится движущимся воздухом: ведь и наши тела дрожат именно тогда, когда движущийся в нас воздух приходит от чего-либо в смятение — сожмется ли он от страха, от старости ли расслабится и вяло ползет по утратившим гибкость жилам, от холода ли остановится или начнет кидаться из стороны в сторону от приступа лихорадки.
7. Пока он течет себе без помех вперед, как обычно, тело не дрожит; когда же встретится что-то, мешающее ему исполнять привычные обязанности, он теряет свою живую бодрость, не в силах поддерживать то, что прежде туго натягивал; невредимый, он служил прочной опорой; ущемленный, он сотрясает то, что на него опиралось.
Глава XIX
1. Нельзя не выслушать и того, что говорит на этот счет Метродор Хиосский[467]. Я ведь не позволяю себе обойти молчанием даже те мнения, с которыми не согласен: лучше представить их все и потом отвергнуть те, с которыми мы не согласимся, чем умалчивать о них.
2. Итак, что он говорит? В глиняной бочке голос певца дрожит и дает отзвук, обегая весь сосуд с легким сотрясением; как ни слабо это движение воздуха, его достаточно, чтобы обойти помещение, в котором он заключен, касаясь его стен и колебля их. То же самое происходит и в огромных, повисших под землей пространствах: там есть свой воздух, и, когда сверху его ударяет струя вновь поступающего воздуха, он приходит в движение, как та пустая бочка, зазвучавшая оттого, что в нее крикнули.
Глава XX
1. А теперь перейдем к тем, кто полагал причиной землетрясений все упомянутые нами причины вместе или большую их часть. Демокрит считает, что причин много[468]. По его словам, землетрясение иногда вызывается водой, иногда движущимся воздухом, иногда — той и другим вместе; вот как он рассуждает: земля внутри местами полая; в эти полости стекается огромное количество воды. Часть этой воды тоньше и жиже прочей. Когда сверху набирается много воды, эта ее более жидкая часть под ее тяжестью вдавливается в землю и впитывается, отчего земля начинает сотрясаться, волны впитавшейся воды передают свои колебания тому, внутри чего они текут.
2. Кроме того, о воде можно сказать все то же, что мы говорили выше о движущемся воздухе. Когда она соберется в одном месте и набьется туда так, что больше не влезает, она начинает изо всех сил напирать в какую-нибудь одну сторону, прокладывая себе путь сначала собственной тяжестью, а потом натиском. Дело в том, что долго заточенная вода может искать выхода только внизу, а найдя выход, не может падать прямо вниз спокойно, не сотрясая того, по чему или на что она падает.
3. Если, далее, уже устремившаяся вниз масса воды будет в каком-то месте остановлена и отброшена назад, она с удвоенной силой ударит преграждающую ей путь землю, сотрясая ее там, куда бьет самая сильная струя. Кроме того, случается, что жидкость постепенно просачивается глубоко в землю, которая, намокая, оседает, так что повреждается самое ее основание; в этом случае земля обрушивается там, куда устремится главная тяжесть потока.
4. Иногда движущийся воздух поднимает волны, и если он подует крепче, содрогается часть земли, на которую он гонит водяные валы. Иногда он скапливается в земных порах и в поисках выхода сотрясает все вокруг. Ибо земля проницаема для ветра, и движущийся воздух достаточно тонок, чтобы проходить через нее насквозь, а когда он возбужден и бушует, он достаточно могуч, чтобы снести любое препятствие.
5. Эпикур говорит, что землетрясение может вызываться всеми этими причинами и многими другими; он бранит тех, кто утверждал, что причина — какая-то одна из них: нельзя ведь ручаться за достоверность там, где мы можем только строить догадки.
6. Так вот, по его словам, причиной может быть вода, если она размоет и подточит какие-то части земли: подточенные водой, они уже не способны выдерживать ту же нагрузку, что и раньше, когда были невредимы. Землетрясение может произойти и от давления движущегося воздуха; воздух может прийти в движение либо от того, что под землю проникнет воздух снаружи, либо от удара какого-нибудь рухнувшего куска земли. Не исключено, что часть земли поддерживается чем-то вроде колонн или столбов; если они придут в негодность и зашатаются, содрогается и опирающаяся на них тяжесть.
7. А может быть, под землей проносится что-то вроде молнии, круша все на своем пути, когда горячий движущийся воздух обратится почему-либо в огонь. Может быть, невесть откуда взявшийся ветер возмущает подземные болота и стоячие воды, так что либо их волны ударяются о землю, либо сам ветер (spiritus) усиливается от движения воды и буйство его в глубине отзывается даже на поверхности. Впрочем, самой главной причиной землетрясений он считает движущийся воздух.
Глава XXI
1. Мы тоже считаем, что на подобное дело способен только движущийся воздух. Он сильнее всего и острее всего в природе; без него даже самые могучие вещи бессильны. Он воспламеняет огонь. Вода без него ленива и неподвижна; она устремляется вперед только тогда, когда ее гонит ветер. Он может обратить в прах огромные просторы земли, воздвигнуть новые горы и поднять среди моря невиданные прежде острова. Разве может кто-нибудь усомниться, что Фера и Ферасия и тот островок — наш ровесник — который родился в Эгейском море на наших глазах, обязаны своим появлением на свет движущемуся воздуху?[469]
2. По мнению Посидония[470], землетрясения бывают двух родов. У каждого есть свое название. Первое — собственно «трясение», когда земля трясется, двигаясь вверх-вниз. Второе — «качка», когда она накреняется то одним, то другим боком, наподобие судна. А я считаю, что есть еще и третий — его обозначает наше латинское слово: ведь не без причины предки наши говорили о «дрожании» земли. Этот род не похож на первые два: при нем все вокруг не трясется и не качается, а вибрирует — дело, как правило, совершенно безобидное. Что же касается первых двух, то «качка» намного разрушительнее, чем «тряска»: ибо если земля накренится в одну сторону и не получит сразу же толчка с другой стороны, который выпрямил бы ее, неизбежен обвал.
Глава XXII
1. Поскольку существуют разные виды землетрясения, то и вызываются они различными причинами. Итак, скажем прежде всего о сотрясении. Если множество связанных друг за другом повозок тащат по дороге очень большой груз и тяжело давящие на землю колеса наскочат на какой-нибудь ухаб, можно почувствовать, как сотрясается земля.
2. А Асклепиодот рассказывает, что когда с горы сорвался и рухнул вниз большой камень, то от тряски обвалились соседние здания. То же самое может произойти и под землей: какая-нибудь из нависающих над подземной пропастью скал может оторваться и с превеликим грохотом тяжело обрушиться на дно; удар будет тем сильнее, чем тяжелее камень или чем выше он висел, и, конечно, он заставит содрогнуться стены и потолок всего подземелья.
3. По всей вероятности, скалы могут падать не только увлекаемые собственной тяжестью, но и тогда, когда под ними течет река и влага постоянно проникает в камень, истончая его оболочки — скоблит потихоньку его кожу, если можно так выразиться. Такое ежедневное подпиливание длится веками и, наконец, настолько ослабляет связи между камнями, что они уже не в силах выдержать собственную тяжесть.
4. Именно тогда и падают скалы огромного веса; и, конечно, эта несущаяся вниз громада не оставит на месте ничего, что в принципе может быть сдвинуто:
Глава XXIII
1. Такова была одна причина сотрясения земли. Перейдем к следующей. Земля по природе своей пориста, и много в ней пустот; сквозь эти поры проникает движущийся воздух, и если приток его большой, а оттока нет, то он сотрясает землю.
2. Это объяснение приводят и другие, если твое решение зависит от того, насколько велика толпа свидетелей. Его поддерживает даже Каллисфен[472], муж весьма и весьма почтенный; это был благородный ум, безразличный к царскому гневу. Никакая доблесть и никакие победы не смоют пятна этого вечного преступления с имени Александра.
3. Ибо всякий раз, как кто-нибудь скажет: «Он перебил многие тысячи персов», — ему возразят: «И Каллисфена»; скажет: «Он убил Дария, владевшего в ту пору самым большим царством», — возразят ему: «И Каллисфена»; сколько раз ни скажут: «Он покорил все, вплоть до Океана; он и сам Океан рискнул испытать на новых судах; из малого уголка Фракии он распространил свою власть до крайних пределов Востока», — столько же раз услышат в ответ: «Но он убил Каллисфена». Пусть он превзошел всех образцовых вождей и царей древности — его преступление затмит все его деяния.
4. Так вот, этот Каллисфен, описывая затопление Гелики и Буриды[473] и объясняя, отчего море бросилось на эти города или они бросились в море, приводит в той же книге все, о чем мы говорили выше, а именно: движущийся воздух проникает под землю сквозь невидимые отверстия, на дне моря так же, как и везде; затем, если проход, по которому он спускается, окажется загражденным, а вернуться назад мешает ему сопротивление воды, он начинает метаться взад и вперед, сталкиваясь сам с собой и сотрясая землю. Вот почему чаще всего от этого бедствия страдают приморские местности, и вот отчего Нептуну приписывается власть колебателя земли и моря. Всякий, кто ходил в начальную школу, знает, что у Гомера он зовется Ἐνοσιχθων[474].
Глава XXIV
1. Я и сам думаю, что причина этого несчастья — движущийся воздух. Поспорить я собираюсь лишь о том, каким образом этот воздух проникает под землю: через невидимые глазу тончайшие отверстия или же через большие и широко открытые; снизу ли он идет, или с поверхности земли.
2. Последнее маловероятно. В самом деле, в наших телах кожа тоже не пропускает воздуха (spiritus); и попасть внутрь он может не иначе, как через дыхательные пути; а когда попадет, может находиться только в менее плотной части тела: ведь его нет в жилах и в мясе — он собирается во внутренностях и в обширной срединной полости тела.
3. Отчего бы нам не предположить, что и с землей может происходить то же самое, тем более, что землетрясение бывает не на поверхности или около нее, но в глубине и идет снизу вверх. И вот подтверждение: самые глубокие моря приходят в волнение без ветра, очевидно, оттого, что сотрясается их дно. Так что вполне правдоподобно, что землетрясение идет из глубины, где в огромных пещерах собирается движущийся воздух.
4. «И все же, — возразит мой оппонент, — как мы начинаем дрожать, когда нас проберет холод, не так же ли и земля сотрясается нападающим на нее извне воздухом (spiritus)»? — Этого не может быть никак. Нас заставляет дрожать внешняя причина, но чтобы с землей произошло то же самое, она должна озябнуть. Я готов согласиться, что то, что происходит с ней, напоминает наши ощущения, но причина этого — совершенно иная. На нее должно воздействовать какое-то глубокое внутреннее раздражение.
5. Пожалуй, главным доводом в пользу этого может послужить следующее. Когда при сильном землетрясении в почве образуются гигантские провалы, целые города порой поглощают и навеки погребают эти зияющие пропасти.
6. Фукидид рассказывает, что во время Пелопоннесской войны остров Аталанта провалился целиком, или, во всяком случае, большая его часть[475]. По словам Посидония, на которые ты можешь положиться, то же самое случилось с Сидоном. Впрочем, у нас нет нужды в свидетелях; мы и сами помним, как земля разверзлась от внутреннего содрогания, как оказались разделены соседствовавшие местности и исчезли бывшие луга. Так вот, теперь я расскажу, как, по-моему, это происходит.
Глава XXV
1. Когда мощный поток движущегося воздуха (spiritus) заполнит пустоты в глубине земли и начнет метаться в поисках выхода, он все чаще и чаще сотрясает своды своего убежища, над которыми иногда могут располагаться города. Они тоже сотрясаются: иногда падают дома, иногда же удары настолько сильны, что падают стены, поддерживающие кровлю подземной полости, обрушиваясь в это подземелье и увлекая за собой в немыслимую глубину целые города.
2. Рассказывают еще, хочешь — верь, не хочешь — не верь, будто некогда Осса с Олимпом составляли одну гору, а впоследствии она раскололась на две части из-за землетрясения. Тогда-то и потек там Пеней, осушив болота, от которых страдала Фессалия: он вобрал в себя все застоявшиеся без выхода воды. А посередине между Элидой и Мегаполем течет река Ладон, тоже образовавшаяся после землетрясения.
3. Что я хочу этим доказать? — Движущийся воздух собирается в обширные пещеры — как иначе назвать мне пустые места под землей? В противном случае при землетрясении приходили бы в движение большие пространства и содрогались бы одновременно многие местности. Мы же видим, что страдают обычно небольшие участки, во всяком случае, толчки никогда не распространяются дальше, чем на двести миль. Вот и нынешнее землетрясение — слухи о нем разошлись уже по всему миру, само же оно не перешло границ Кампании[476].
4. Стоит ли продолжать? Когда содрогнулась Халкида, Фивы устояли. Когда так сильно пострадал Эгий, в соседних Патрах узнали о беде из рассказов. Тот страшный толчок, уничтоживший два города — Гелику и Буриду, затих уже в окрестностях Эгия. Одним словом, землетрясение распространяется, по всей видимости, на расстояние, равное протяженности тех самых подземных пустот.
Глава XXVI
1. Ради подтверждения моего мнения я мог бы злоупотребить авторитетом многих мужей, которые сообщают, что в Египте никогда не бывало землетрясений. Объясняют же они это тем, что Египет будто бы весь образовался из ила. Так, если верить Гомеру, Фарос[477] отстоял тогда от материка настолько, сколько может проплыть за день корабль на всех парусах. Но сейчас он к материку приблизился. Действительно, мутный Нил, спускаясь к морю, несет с собой много грязи и, оставляя ее у берегов Египта, ежегодно наращивает их. Поэтому почва Египта — жирная и илистая, без каких-либо полостей, ибо образовалась она из затвердевшего, высохшего ила. Структура его плотная и устойчивая, ибо все части склеены друг с другом; а пустот там не может быть оттого, что к уже затвердевшим частям постоянно добавлялись жидкие и мягкие.
2. Однако и в Египте бывают землетрясения, и на Делосе, хоть Вергилий и повелел ему стоять неподвижно:
Философы, доверчивый народ, тоже в один голос твердили — со слов Пиндара, — что Делос никогда не трясет. Фукидид говорит, что прежде он действительно был неподвижен, но во время Пелопоннесской войны впервые поколебался[479].
3. Как сообщает Каллисфен, это случилось и в другое время: «Среди многих знамений, возвестивших гибель двух городов, Гелики и Буриды, самыми замечательными были огненный столб непомерной величины и сотрясение Делоса». По его мнению, Делос считался особо устойчивым оттого, что плавает на поверхности моря, а его полые скалы и пористые утесы дают выход сжатому под землей воздуху; по этой же причине почва на островах в целом устойчивее, и для городов тем меньше опасность, чем ближе они к морю.
4. Что это не так, достаточно почувствовали уже Помпеи и Геркуланум. Добавлю, что морское побережье вообще подвержено землетрясениям. Так, Пафос обрушивался не раз; так, знаменитый Никополь уже свыкся с этим бедствием; глубокое море, омывающее Кипр, его и сотрясает; Тир трясло столько же раз, сколько заливало наводнением.
Вот примерно и все обычно приводимые причины землетрясений.
Глава XXVII
1. Однако при нынешнем Кампанском землетрясении было, как рассказывают, и несколько особенных случаев, которые нуждаются в объяснении.
Мы уже говорили о том, что в Помпейской области погибло стадо в шестьсот овец. Не нужно думать, что эти овцы умерли от страха.
2. Говорят, что после больших землетрясений обычно бывает моровое поветрие, и это неудивительно. Ведь в недрах скрывается много смертоносных веществ. Сам воздух, застывший то ли от неподвижности и вечной тьмы, то ли оттого, что земля там содержит что-то не то[480], — тяжел для дыхания. Кроме того, он испорчен злокачественным подземным огнем и, вырвавшись на волю после долгого заключения, отравляет и оскверняет здешний, чистый и прозрачный, заражая всех, вдыхающих непривычный воздух (spiritus), новыми неизвестными доселе болезнями.
3. Да и воды, скрытые в земной глубине, наверняка тоже непригодны для питья и болезнетворны: ведь их никогда не шевелил вольный ветер, из них ни разу никто не напился. Сгустившиеся, окутанные непроницаемым мраком вечной ночи, эти злокачественные воды не могут не быть противопоказаны телам. Да и смешанный с ними воздух, лежащий среди тамошних болот, вырвавшись наверх, широко разносит заразу и убивает вдыхающих его.
4. Скот заражается легче, и болезнь валит его в первую очередь из-за его жадности, из-за того, что почти все время он проводит под открытым небом и пьет воду, что вреднее всего во время морового поветрия. Что касается овец, вообще менее крепких от природы, то их гибель меня не удивляет: ведь они ходят, ниже других склонив голову, и вдыхают токи отравленного воздуха у самой земли. Если бы его выделялось больше, он повредил бы и людям; а так масса чистого воздуха поглощает его прежде, чем он успеет подняться достаточно высоко, чтобы его вдохнул человек.
Глава XXVIII
1. О том, что многие земли заключают в себе смертоносные вещества, можно догадаться уже из того, что множество ядов рождаются на земле сами собой, без человеческого вмешательства; очевидно, в почве есть семена как доброго, так и дурного. А чем еще объяснить, что во многих местах в Италии сквозь какие-то отверстия выделяются ядовитые испарения, которыми ни зверю, ни человеку дышать небезопасно? Даже птицы, попадающие в поток таких испарений там, где их еще не разбавил хороший воздух, падают на лету, причем тела их синеют, а горло вздувается так, словно их придушили.
2. До тех пор пока земля стоит на месте, этот воздух, вытекающий сквозь узкое отверстие, в силах умертвить лишь того, кто склоняется прямо над ним. Мрак и печаль того места, где он веками томился в заключении, постепенно отравили его, и чем дольше он коснеет там в неподвижности, тем становится тяжелее и ядовитее. Когда же ему удается наконец вырваться, вместе с его вихрями несутся наружу отрава темного холода и подземная ночь, оскверняя воздух нашей области. Ибо в борьбе худшее одерживает верх над лучшим.
3. И вот чистый воздух тоже становится вредоносным; отсюда — череда внезапных смертей и какие-то чудовищные болезни: ведь открылся новый небывалый источник заразы. Долго ли будет свирепствовать чума или нет, зависит от того, насколько сильна была зараза; мор прекратится после того, как порывы ветра и широкие поднебесные просторы рассеют тяжелый воздух.
Глава XXIX
1. Что же до тех, кто бегал, словно сумасшедший, по улицам или был внезапно как бы оглушен, то это от страха. Страх, даже не слишком сильный, даже частный наш страх, всегда потрясает ум; а если это всеобщая паника, когда рушатся города, гибнут народы, содрогается земля? Странно ли, если душа, брошенная между болью и страхом, перестает соображать, где она находится?
2. Трудно сохранить здравый рассудок в больших несчастьях. Конечно, самые неуравновешенные головы с перепугу совсем теряют рассудок и власть над собой. Впрочем, и у любого человека испуг — это некое потрясение здравого смысла, и каждый боящийся подобен безумцу; но только одни быстро приходят в себя, в других же страх производит сильное смятение и переходит в настоящее помешательство.
3. По той же причине и во время войн там и сям бродят одержимые, и нигде ты не встретишь столько пророков, как там, где умы поражены ужасом, перемешавшимся с суевериями.
Глава XXX
1. Что статуя раскололась пополам, меня не удивляет — я ведь уже говорил, что, бывало, и горы расступались, и почва раскалывалась до самых недр.
2. Посмотри: целые страны срывает со своих мест, швыряет за море некогда примыкавшую к материку область. Посмотри: раскалываются города, разъединяются народы, когда возмущается одна из частей природы, и море, огонь или воздух устремляется в одну сторону. Их мощь поразительна — ведь это мощь вселенной; пусть стихия буйствует только в одном месте, в этом буйстве — силы всего мира.
3. Именно так море оторвало Испанию от Африки, с которой они составляли одно целое; именно так Сицилия отделилась от Италии во время того наводнения, которое воспевают величайшие из поэтов. Насколько же больше напор сил, идущих снизу: ведь чем теснее и напряженнее подъем, тем сильнее напор.
4. О том, сколь чудные зрелища представляют иногда землетрясения и сколь великие дела творят они, сказано довольно. Стоит ли теперь изумляться, что разломана одна медная статуя — не цельная даже, а полая и тонкостенная? Может быть, в ней оказался заключен воздух, искавший выхода? Да и кто не слыхал о вещах, куда более замечательных: на наших глазах углы зданий разъезжались в стороны, а потом вновь соединялись. Постройки, плохо укрепленные на фундаменте, возведенные строителями небрежно и непрочно, землетрясение, раскачав, укрепляло.
5. Оно раскалывает стены и дома, разрезает толстенные башни из сплошного твердого камня, рассыпает в прах гранитные опоры сооружений — так что же особо замечательного в том, что статуя оказалась рассечена с ног до головы на две равные половинки?
Глава XXXI
1. Но отчего же землетрясение длилось много дней подряд? Ведь Кампанию беспрерывно продолжало трясти, толчки были помягче, но причиняли ужасные разрушения, ибо трясло здания, уже основательно потрясенные и еле державшиеся: чтобы свалить, достаточно было не толкнуть, а просто пошевелить их. Видимо, к тому времени вышел еще не весь воздух; большая часть вырвалась, а остатки продолжали блуждать в поисках выхода. Ко всем доказательствам, что это происходит именно по вине воздуха, прибавь, не задумываясь, и следующее.
2. После главного толчка, особенно жестоко потрясшего города и земли, уже не может следовать равный ему по силе; за самым мощным ударом идут более слабые, ибо буйствующие ветры в первый раз пробили себе путь к выходу; оставшийся еще внизу воздух уже не способен на это, да ему и не нужно биться, поскольку дорога проложена и можно выйти там, где вырвались главные силы.
3. И вот еще что заслуживает, по-моему, внимания — я узнал это от человека весьма серьезного и образованного: когда все это произошло, ему случилось мыться в бане. И он утверждает, что видел, как плитки, которыми был выстлан пол, отделялись друг от друга, а затем вновь соединялись, причем вода то уходила в трещины расступающегося пола, то с бульканием и пузырями выталкивалась наверх, когда пол сжимался. Он же рассказывал мне, что на его глазах толстая глинобитная изгородь тряслась, как студень, — мягче и чаще, чем это допускает природа твердого тела.
Глава XXXII
1. Вот и все, лучший из людей Луцилий, что касается собственно причин; теперь о том, что относится к укреплению души. Нам важнее сделать душу мужественной, нежели более ученой. Но одно без другого не получается; ибо откуда душе набраться силы, как не из добрых искусств, как не из созерцания природы?
2. Да и само это несчастье — оно всякого заставило подтянуться, укрепиться душой против любых бедствий. В самом деле, что мне бояться человека или зверя, стрелы или копья? Меня подстерегают опасности посерьезнее: нам грозят молнии, земля, природа готовит на нас что-то великое.
3. Нужен великий дух, чтобы бросить вызов смерти, надвигается ли она со всех сторон, настигая каждого, или забирает нас буднично и просто. Насколько будет грозен ее вид и велико оружие, которым она решит нас поразить, едва ли очень важно; от нас ей нужна лишь самая малость. Эту малость отнимет у нас или старость, или воспаление уха, или излишек жидкости, загнившей в нашем теле, или пища, не усваиваемая больше желудком, или нога, слегка ушибленная, когда мы споткнулись.
4. Человеческая душа — сущий пустяк, но презрение к душе — поистине великое дело. Презревший свою душу может спокойно глядеть на бушующее море, даже если все ветры одновременно будут свирепствовать над ним, даже если мир вдруг пошатнется и сама океанская пучина хлынет потопом на землю. Спокойно будет взирать он на страшное грозовое небо, извергающее молнии, даже если вдруг расколется небосвод, обрушив сразу весь свой огонь на всеобщую погибель — в первую очередь на погибель ему самому. Спокойно будет он смотреть на разверзшуюся под ногами землю, когда рассыпаются сами ее скрепы и, кажется, вот-вот обнажится царство подземных богов. Бестрепетно будет он стоять над готовой пожрать его бездной и, может быть, сам спрыгнет туда, куда должен был упасть[482].
5. Что мне размеры бедствия, от которого я погибну? Сама гибель — дело маленькое. А потому, если мы хотим быть счастливы, если не хотим вечно терзаться, страшась людей, богов или вещей, если хотим презирать судьбу с ее несбыточными обещаниями и пустяковыми угрозами, если хотим прожить без тревог, самим богам не уступая в счастливой безмятежности, надо, чтобы наша душа всегда была наготове. Бери ее, кто захочет, — кознодеи или болезни, вражеские мечи или обвалы рушащихся островов, провалится ли вся земля в бездну или необъятный пожар уничтожит города и веси.
6. Мой долг один: поторопить ее, когда придет ей время уходить, подбодрить и отпустить с добрым напутствием. «Ступай, душа моя, смело, ступай счастливо! Не надо колебаться: ты возвращаешься, откуда пришла. Это лишь вопрос времени: ты делаешь сейчас то, что все равно пришлось бы сделать когда-нибудь. Не вопрошай, не бойся, не пяться назад, будто тебя толкают к чему-то дурному; тебя ожидает природа, давшая тебе жизнь, и места, куда лучше и безопаснее здешних.
7. Там не дрожит земля, не сшибаются ветры, с грохотом разламывая тучи, пожары не опустошают города и области, там не надо бояться кораблекрушений, увлекающих в пучину целые флотилии; там не наводит ужас оружие, сверкающее под враждебными знаменами и грозящее гибелью многим тысячам с той и с другой стороны; там нет чумы и не горят общие погребальные костры, куда без разбору бросают всех, сражаемых болезнью».
Умереть нетрудно; тяжело бояться. Лучше пусть смерть один раз обрушится, чем вечно тяготеть надо мной.
8. Неужели я вправе страшиться гибели даже тогда, когда сама земля гибнет раньше меня, когда она, сотрясающая нас, сама сотрясается и, прежде чем поразить нас, сама получает разящий удар? Море поглотило Гелику и Буриду целиком; неужели я стану бояться за свое тело — эту ничтожную частицу? Корабли плывут над двумя городами — над хорошо известными нам городами, память о которых донесли до нас письмена; а сколько их было еще в других местах, сколько народов погребено заживо под землей и на дне морском! — Отчего же я противлюсь смерти — я ведь знаю, что не бессмертен? Неужто, зная, что все на свете имеет конец, я до последнего вздоха буду бояться?
9. Так что держись бодрее, Луцилий, изо всех сил держись против страха смерти. Он унижает нас; он губит тревогами ту самую жизнь, которую велит беречь; он преувеличивает все опасности вроде землетрясений и молний. Подумай о том, что невелика разница между кратким сроком и долгим, и ты стойко встретишь любую опасность.
10. То, чего мы лишаемся, — всего лишь часы; ну, пусть не часы, а дни, месяцы, годы: мы лишаемся того, что в любом случае нам бы не принадлежало. Скажи пожалуйста, что даст мне, если я даже и получу их? Время течет мимо, не утоляя нашей жажды; чем дальше, тем больше нам его не хватает. Будущее — не мое, так же как и прошлое; я подвешен в одной точке бегущего времени, и самое драгоценное — возможность сознавать, что я никогда не жаждал получить его больше, чем имел.
11. Изящно возразил мудрый Лелий[483] какому-то человеку, сказавшему: «В мои шестьдесят лет…» — «Скажи лучше “не мои шестьдесят”». Привычка исчислять утраченные нами годы мешает нам понять, что суть жизни — в ее неуловимости, а удел времени — всегда оставаться не нашим.
12. Лишь одно должны мы вколотить в свою душу, одно беспрестанно повторять себе: придется умереть. Когда? — Какое твое дело? Смерть — закон природы; смерть — повинность и долг всех смертных; смерть — лекарство от всех зол и бед. Всякий, кто знаком со страхом, уже пожелал ее. Брось все, Луцилий, и думай только об одном — как бы не начать бояться имени смерти; пусть мысль о ней станет тебе привычна и близка, чтобы, если понадобится, ты мог сам шагнуть ей навстречу.
Книга VII
О кометах
Глава I
1. Нет, наверное, человека настолько ленивого, тупого, настолько уставившегося, подобно скоту, в землю, чтобы не выпрямился и не устремился всей душой ввысь, по крайней мере, тогда, когда в небе вдруг просияет какое-то новое диво. Покамест все идет как обычно, грандиозность происходящего скрадывается привычкой. Так уж мы устроены, что повседневное, будь оно даже достойно всяческого восхищения, нас мало трогает; а вот зрелище вещей необычных, пусть и ничтожных, всегда сладостно.
2. Так что прекрасный сонм звезд, которыми усыпано непомерное тело [вселенной], не собирает толпы народа на площади; но стоит появиться чему-то из ряда вон выходящему, как все головы задираются к небу. У солнца нет зрителей, пока оно не затмится. Никто не смотрит на луну, пока с ней все в порядке; но стоит с ней чему-нибудь случиться, как целые города завопят хором, и каждый зашумит что есть мочи, повинуясь пустому суеверию.
3. А ведь насколько замечательнее то, что происходит изо дня в день: солнце замыкает своим вращением год, делая столько же, так сказать, шагов, сколько в году дней; от солнцестояния оно поворачивает, сокращая день, а от равноденствия склоняется ниже, удлиняя ночь; оно затмевает светила; оно, будучи намного больше Земли[484], не сжигает ее, но равномерно обогревает, то усиливая, то ослабляя свое тепло; оно делает Луну полной не раньше и не позже, как она встанет точно напротив него, и затемняет ее, когда она встанет рядом.
4. Но мы не замечаем всего этого, ибо это в порядке вещей. Вот если что-то погаснет или вспыхнет на необычном месте, тогда мы смотрим, задаем вопросы, показываем пальцами: настолько больше свойственно нам от природы восхищаться новым, нежели великим.
5. То же самое происходит и с кометами: если появляется на небе какой-нибудь редкостный огонь необычных очертаний, всякий из нас, не обращая внимания на прочие светила, горит желанием узнать, что это такое, дивиться ли этому явлению или бояться. Ибо нет недостатка в любителях напугать, толкующих комету как зловещее предзнаменование. Так что народ кидается расспрашивать, пытается разузнать, знамение это или просто звезда.
6. А я клянусь Геркулесом, что не бывает расспросов более возвышенных, нет сведений более полезных, чем все, что относится до природы звезд и светил: сжатый ли это огонь, в чем убеждают нас собственные глаза, а также истекающий от них свет и спускающееся к нам тепло, или же это не огненные шары, а некие твердые, земляные тела, которые катятся по огненной поверхности, заимствуя от нее и блеск и тепло, а сами по себе не светят?[485]
7. Такого мнения держались и великие мужи[486], полагавшие, что светила составлены из твердого вещества, а огонь у них — заимствованный. Ведь сам по себе огонь, говорили они, рассыпался бы, если бы его ничто не держало и он не охватывал бы чего-то единого; при стремительном вращении мира [космический] вихрь несомненно рассеял бы огненный шар, если бы огонь не принадлежал некому устойчивому телу.
Глава II
1. Для нашего исследования полезно будет рассмотреть и такой вопрос: устроены ли кометы так же, как верхние [звезды], или нет?[487] На вид у них много общего: они так же восходят и заходят, и внешний облик у комет похож, хоть за ними и рассыпается длинный хвост; ибо и те и другие одинаково огненны и блестящи.
2. В таком случае, если все светила — [того же состава, что и] земля[488], это будет уделом и комет; если же [окажется, что] кометы — не что иное, как чистый огонь, остающийся на одном месте по шесть месяцев кряду и не рассыпающийся от быстрого вращения мира, то и [звезды] тоже могут состоять из тонкой материи и тем не менее не распадаться от постоянного круговращения неба.
3. И вот еще в чем нам не помешает разобраться: обращается ли мир вокруг неподвижной Земли, или мир стоит, а земля вертится? Ибо были такие, кто утверждал, что природа вещей движет нас без нашего ведома, и что восходы и закаты происходят не от движения неба, но мы сами восходим и закатываемся[489]. Это, право, заслуживает размышления; хорошо бы выяснить свое действительное положение: досталась ли нам самая ленивая или самая подвижная из обителей; движет ли бог все вокруг нас, или, напротив, движет нас самих.
Глава III
1. Необходимо, однако, чтобы были собраны сведения о всех прежних появлениях комет; ибо из-за редкости их появления до сих пор невозможно установить их орбиты; выяснить, соблюдают ли они очередность и появляются ли точно в свой день в строгом порядке. Наблюдение этих небесных [тел] — дело новое и лишь недавно пришедшее в Грецию.
2. Правда, уже Демокрит, отличавшийся среди всех древних острым умом, подозревал, что движущихся звезд больше, [чем пять][490], — а в то время еще не были известны орбиты и этих пяти; однако он не называет ни их числа, ни их имен. Евдокс первым привез в Грецию из Египта [описание] движения [пяти планет][491]. Но о кометах он не говорит ни слова, из чего явствует, что и у египтян, которые больше других народов интересовались небом, эта часть [астрономии] не была разработана.
3. Впоследствии Конон[492], сам скрупулезный исследователь, собрал сохраненные египтянами упоминания о солнечных затмениях; однако и он нигде не упоминает о кометах, а он не преминул бы сделать это, если бы обнаружил у них какие-нибудь определенные сведения на этот счет.
Глава IV
1. Два мужа, учившихся, по их словам, у халдеев, Эпиген[493] и Аполлоний из Минда, крупнейший специалист в составлении гороскопов, решительно не согласны друг с другом. Аполлоний утверждает, что кометы у халдеев считаются блуждающими звездами — [планетами] и что орбиты их вычислены. Напротив, по словам Эпигена, халдеи не смогли определить путь комет, которые, по всей видимости, представляют собой пламя, зажженное некими стремительно крутящимися воздушными вихрями.
Начнем, пожалуй, если ты не против, с соображений этого последнего: разберем их и опровергнем.
2. По его мнению, звезда Сатурна имеет наибольшее влияние на движение всех небесных тел. Когда она входит в ближайшие к Марсу созвездия, проходит вблизи Луны или попадает в лучи Солнца, она, будучи по природе ветреной и холодной [планетой], собирает в разных местах воздух и сбивает его в кучи; если затем на нее попадут солнечные лучи, гремит гром и сверкают зарницы; если же и у Марса подходящее расположение, тогда ударяет молния.
3. По словам Аполлония, у молний и зарниц разная материя. Испарения воды и всякой другой влаги производят в небе только вспышки, способные напугать, но не ударить; а вот горячие и сухие [частицы], выдыхаемые землей, высекают молнию. Огненные же столбы и факелы, которые различаются единственно величиной, получаются следующим образом:
4. когда внутри какого-либо из воздушных шаров, которые мы зовем вихрями, окажутся заключены частицы земли и влаги, то там, куда несется этот вихрь, он является на небе в виде вытянутого огня, который продолжает сиять до тех пор, пока не рассеется скопление воздуха, в котором набралось много земли и влаги.
Глава V
1. Начнем с последних и самых явных выдумок: факелы и столбы не могут порождаться вихрями. Ибо вихри возникают и движутся у поверхности земли: вот почему вихрь с корнем вырывает кустарники и оголяет почву всюду, где проносится; иногда, правда, он поднимает в воздух дома и целые леса, но обычно летит ниже облаков — во всяком случае, никогда не поднимается выше их. Столбы же, напротив, появляются в верхней части неба; не бывало такого, чтобы они стояли перед облаками.
2. Кроме того, вихрь несется скорее любого облака и вращается; к тому же он быстро исчезает, ибо, не выдерживая собственного напора, разрывается. А огненные столбы не перемещаются и не пролетают по небу, в отличие от факелов, но светят неподвижно на одном и том же месте.
3. Хармандр в книге о кометах рассказывает между прочим, что Анаксагор наблюдал на небе большое и необычное свечение, размером с крупный столб, которое сияло на протяжении многих дней. По рассказу Каллисфена, перед тем как море поглотило Буриду и Гелику, на небе появлялся огонь такой же удлиненной формы.
4. По мнению Аристотеля[494], это был не столб, а комета; просто вначале она была слишком раскалена, и оттого был виден не рассеянный, а сплошной огонь; по мере же того как она с течением времени остывала, она принимала вид обычной кометы. Вообще о том небесном огне можно было бы рассказать много любопытного, но самое замечательное в нем то, что он вспыхнул на небе в тот самый миг, как море накрыло Буриду и Гелику.
5. Не знаю, может быть, Аристотель вообще все столбы считал кометами, с той разницей, что у этих огонь непрерывный, а у прочих комет — рассеянный? Столбы горят ровным огнем, который ни в одном месте не прерывается и не слабеет, только на концах горит сильнее; а именно так описывает Каллисфен то явление, о котором я только что говорил.
Глава VI
1. По словам Эпигена, существуют две разновидности комет. Одни светятся равномерно со всех сторон и не меняют места; другие движутся меж звезд, и за ними с одной стороны тянется рассыпающийся огонь, напоминающий длинные волосы; таких комет на нашем веку наблюдалось две.
Что касается первых — неподвижных и со всех сторон равномерно волосатых, то они возникают обычно низко и по тем же причинам, что столбы и факелы: их воспламеняет бурно несущийся воздух, замутненный множеством сухих и влажных частиц, выдыхаемых землей.
2. Ибо движущийся воздух (spiritus), вырываясь из тесноты, способен зажечь воздух (aera) над собой, если он полон горючих веществ, а затем гнать его перед собой и поднимать, пока какая-нибудь причина не заставит его перестать и отхлынуть назад; и точно так же подниматься и воспламенять одно и то же место [на небе] он может вновь и вновь изо дня в день. В самом деле, мы же видим как ветры дуют изо дня в день в одном направлении, словно по уговору; как дожди или грозы возобновляются в точно указанный день.
3. Короче говоря, мысль Эпигена я мог бы выразить так: эти кометы, по его мнению, возникают точно так же, как огни, высекаемые вихрями, с той единственной разницей, что вихри обрушиваются на землю сверху вниз, а здесь [воздушный поток] пробивается от земли кверху.
Глава VII
1. Возразить на это можно многое. Во-первых, если бы тут были замешаны ветры, кометы никогда не появлялись бы в безветренную погоду; а они появляются и при самом спокойном воздухе. Далее, если бы комета происходила от ветра, то вместе с ветром бы и пропадала; и, появляясь вместе с ветром, она бы с ним и усиливалась, сияя тем ярче, чем он крепче дует. Кроме того, ветер ударяет по воздуху сразу во многих местах, а комета бывает видна только в одном месте; и еще: верхних частей неба ветер не достигает, кометы же бывают видны значительно выше тех пределов, которых может достичь ветер.
2. Затем Эпиген переходит к тем кометам, которые больше похожи на звезды, поскольку перемещаются относительно созвездий. Причины возникновения их он указывает те же, что и для комет, названных у него нижними; с тою лишь разницей, что более сухие испарения земли поднимаются выше, а аквилон гонит их еще дальше, в верхние части неба.
3. Но если бы их гнал вперед аквилон, то они всегда двигались бы к югу, куда направлен этот ветер. Однако наблюдавшиеся кометы двигались в самых различных направлениях — и на восток, и на запад, причем все — по кривой, а такого направления пути как раз не может дать ветер. Затем, если бы именно порыв аквилона поднимал кометы с земли, они не всходили бы [на небе] при других ветрах. А они восходят.
Глава VIII
1. Теперь займемся опровержением другого его рассуждения, ибо у Эпигена их два.
Когда соединятся в одном месте сухие и влажные испарения земли, то сама несовместимость этих тел заставляет воздух вращаться вихрем; сила вертящегося с большой скоростью ветра воспламеняет все, что захвачено вихрем, и поднимает ввысь; там огонь пылает до тех пор, пока ему хватает горючего, и гаснет по мере его убывания.
2. Чтобы утверждать подобное, нужно не замечать, как движутся вихри и как — кометы. Первые устремляются с бурной силой и несутся быстрее ветров; кометы же движутся настолько медленно, что невозможно отметить путь, пройденный ими за день или за ночь. Кроме того, вихри кидаются из стороны в сторону, движение их беспорядочное и, если воспользоваться словом Саллюстия, «водоворотистое»[495]; напротив, кометы движутся размеренно, шаг за шагом следуя строго определенному пути.
3. Ну кто из нас поверил бы, что Луну или пять планет гонит вперед ветер или вращает вихрь? Я думаю, никто. Отчего? — А оттого, что в их движении нет ни порывистости, ни сумятицы. То же самое можно отнести и к кометам: их перемещение слишком правильно и размеренно, чтобы кто-нибудь мог приписать его причинам столь непостоянным и мятущимся.
4. Далее, хотя смерчи и могут захватывать частицы земли и влаги, поднимая их снизу вверх, они не в состоянии унести их выше Луны; за облака их власть не простирается. Кометы же мы наблюдаем в верхних областях неба, среди звезд. Малоправдоподобно, чтобы вихрь мог бушевать так далеко и так долго: ведь чем он больше, тем скорее взрывается.
Глава IX
1. Итак, мы можем предоставить Эпигену выбор: либо маленький слабый вихрь — но он не сможет забраться так высоко; либо большой и могучий — но он очень быстро лопнет.
Кроме того, по его собственным словам, первая, более низкая разновидность комет не может подняться выше оттого, что в них слишком много земляных [частиц]; собственная тяжесть удерживает их поблизости от земли. Но так как кометы, появляющиеся выше, видны дольше, то в них должно быть больше вещества; ибо если бы в них не было больше горючего, они не могли бы дольше светиться.
2. Я уже говорил о том, что смерч не может существовать долго, равно как и вырасти выше Луны и дотянуться до звезд. В самом деле, вихрь создает борьба нескольких ветров между собой. А она не может продолжаться долго. В вихре закручиваются беспорядочные, не имеющие определенного направления потоки воздуха, так что в конце концов все подчиняются какому-нибудь одному.
3. Ведь сильная гроза не длится долго, и всякая буря чем свирепее, тем короче. Когда ветер начинает дуть с наибольшей силой, значит, он скоро ослабеет. Всякий буйный порыв самим напряжением своим приближает свой конец. Никто не наблюдал смерча не то что целый день, но хотя бы час; его недолговечность столь же поразительна, как и его стремительность. Кроме того, вращение вихря сильнее и быстрее на земле и у ее поверхности: чем выше, тем оно слабее и медленнее, так что в конце концов вовсе сходит на нет.
4. И вот еще что: даже если бы вихрь достиг самой вышины [небес], где ходят светила, он рассеялся бы от того движения, которое вращает вселенную. Ибо нет ничего быстрее этого мирового круговращения. Даже если бы все ветры, сколько их есть, соединились в один порыв, оно рассыпало бы его, рассыпало бы и прочную твердыню земли, что уж тут говорить о крошечной частице вертящегося воздуха.
Глава X
1. Огонь, несущийся вместе с вихрем, не может продолжать гореть в вышине, если прекратится сам вихрь. Но чтобы вихрь мог долго существовать, да еще там, где ему препятствует более мощное движение — это совершенно невероятно. Ведь в тех местах есть свой вихрь, увлекающий за собой небо:
Даже если допустить то, чего в действительности быть не может, как объяснить те кометы, которые бывают видны по полгода?[497]
2. Далее, в этом случае нам придется признать два движения в одном месте: первое — божественное и постоянное, бесперебойно делающее свое дело[498]; другое — новое, внезапно появившееся, занесенное вихрем; одно из них неизбежно станет мешать другому. Но поскольку и лунная орбита, и движения надлунных светил неизменны, не колеблются и не останавливаются никогда, так что мы не можем заподозрить, чтобы на их пути встречались какие-либо препятствия, постольку и не верится, чтобы смерч, самая буйная и сокрушительная разновидность бури, врывался в упорядоченные и спокойные ряды светил и бесновался там.
3. Наконец, даже если мы поверим, что вращающийся вихрь зажигает огонь и выталкивает его вверх; что этот огонь, появляясь в вышине, похож на продолговатую звезду и принимается нами за таковую, — все равно, я думаю, огонь должен быть подобен тому, что его породило. Но вихрь круглый, ибо он вертится вокруг своей оси и закручивается наподобие вращающейся колонны. Следовательно, так же должен выглядеть и огонь, заключенный в этом вихре. Однако он длинный и рассеянный, а отнюдь не круглый.
Глава XI
1. Но оставим Эпигена, и посмотрим, что думали другие. Кое-что, однако, нужно сказать прежде, чем я начну излагать их мнения. Кометы появляются не в одной какой-то части неба, и не только в круге созвездий [Зодиака], но и на востоке, и на западе, а чаще всего — на севере.
2. Форма у них, как и имя, одинаковая. Впрочем, греки различали три вида комет: те, у которых пламя свисает наподобие бороды; те, что рассыпают пламя во все стороны, словно волосы; и те, у которых огонь тянется в одну сторону, но на конце как бы заострен. Так или иначе, все они обладают одним и тем же признаком, по которому и зовутся справедливо «кометами» [то есть «волосатыми»][499].
3. Их трудно сравнивать друг с другом по облику, так как появляются они чрезвычайно редко. И даже в самое время появления кометы между наблюдателями не бывает согласия, ибо в зависимости от остроты или слабости зрения один находит ее более блестящей, а другой — красноватой, один видит волосы, вытянутые полоской, другой — рассыпающиеся по бокам. Но различаются они между собой или нет, происхождение их должно быть одинаковым. Одно можно утверждать с достоверностью: что время от времени на небе наблюдаются новые светила необычной формы, за которыми тянутся полосы рассеянного огня.
Глава XII
1. Некоторые из древних предлагают следующее решение. Когда одна из блуждающих звезд налетит на другую, свет обеих сливается, создавая впечатление продолговатого светила. Это происходит не только тогда, когда две звезды соприкоснутся, но и когда они просто сблизятся, ибо разделяющее их расстояние освещается с обеих сторон, воспламеняется, и получается длинная полоса огня[500].
2. На это мы возразим так. Число движущихся звезд точно известно, и они обычно появляются на небе в одно время с кометой, из чего следует со всей очевидностью, что комета происходит не от их сближения, но сама по себе и по собственным законам[501].
3. Кроме того, одна звезда достаточно часто проходит прямо под тем местом, где находится выше другая; так, Сатурн часто оказывается на одной прямой линии над Юпитером, а Марс — над Венерой или Меркурием, однако от такой их встречи, когда одна закрывает собою другую, не возникает комета. В противном случае кометы появлялись бы каждый год; ибо каждый год какие-нибудь звезды оказываются одновременно в одном созвездии.
4. Если бы звезды, находя одна на другую, создавали комету, она исчезала бы мгновенно. Ибо скорость их прохождения по небу чрезвычайно велика; вот отчего затмения светил длятся недолго: то самое движение, которое сблизило их, быстро разводит затем в стороны. Мы видим, что и Солнце и Луна освобождаются спустя малое время после начала затмения; насколько же быстрее должны расходиться звезды — ведь они несравненно меньше? Напротив, кометы бывают видны по полгода, что было бы невозможно, будь они порождением двух встретившихся звезд; ведь звезды не могут оставаться рядом долго — их разделит закон их собственной скорости.
5. Далее: звезды только нам кажутся стоящими рядом, на самом же деле их разделяют огромные расстояния. В таком случае, как же может огонь одной звезды достать до другой и соединить их, если меж ними лежит непомерно большое пространство?
6. Впрочем, они говорят, что это не обязательно огонь, что смешивается просто свет двух звезд, создавая видимость одной, подобно тому как солнечный свет делает облака красными, как вечером или утром все на земле окрашивается в золотистый цвет, как появляется радуга или ложное солнце.
7. Во-первых, все эти явления создает могучая сила — их зажигает солнце; у звезд же нету такой мощи. Во-вторых, все они возникают лишь под Луной, недалеко от земли; все, что лежит выше, — всегда чисто, неложно и своего собственного цвета.
8. Ну и наконец, даже если бы что-то в этом роде и имело место, оно не длилось бы долго, но быстро бы погасало, как исчезают с неуловимой быстротой венцы, окружающие Солнце и Луну; да и радуга не держится долго. Если бы что-то в этом роде возникало в пространстве между двумя звездами, оно бы тоже быстро таяло; во всяком случае, не оставалось бы видимым так долго, как обычно бывают видимы кометы.
Наконец, путь [блуждающих] звезд лежит через Зодиак; они не выходят за пределы этого круга. Кометы же наблюдаются повсюду; указать границы, которых они не переступают, не легче, чем точное время их появления.
Глава XIII
1. Совсем наоборот рассуждает Артемидор[502]. По его словам, блуждающих звезд вовсе не пять: пять оказались предметом наблюдения и изучения; бесчисленное же множество их носится, незамечаемое нами, то ли потому, что свет их темен, то ли оттого, что орбиты их расположены так, что они становятся видны лишь на какой-либо крайней их точке. Вот отчего, говорит он, среди звезд время от времени появляются новые и для нас невиданные, которые смешивают свой свет с постоянными светилами и распространяют в стороны больше огня, чем это обычно делают звезды.
2. Но эти его выдумки — пустяки, он завирается и похуже: его объяснение мира в целом — вот уж совсем бессовестная ложь. Если верить ему, верхняя область неба необычайно прочна и представляет собой нечто вроде высокой, твердой и толстой крыши; тело это состоит из скопления сильно сжатых атомов.
3. Ближайшая к этой крыше поверхность — огненная, но настолько плотно сжатая, что ничто не в силах ни разрушить ее, ни как-либо повредить; однако в ней есть какие-то то ли окна, то ли отдушины, через которые внутрь мира залетают время от времени внешние огни, не настолько, впрочем, большие, чтобы вызвать внутри беспорядок; к тому же они вскоре снова вылетают из мира наружу. Таким образом, необычные небесные явления проистекают из вещества, лежащего по ту сторону мира.
Глава XIV
1. Опровергать все это — все равно, что молотить кулаками по воздуху и сражаться с ветром. Однако я бы желал, чтобы человек, снабдивший мир таким чудесным прочным потолком, сказал мне, на каком, собственно, основании я должен поверить в подобную плотность неба? Что за сила подняла туда столь твердые тела и там их удерживает?
2. Далее: вещества столь плотные должны и весить немало: каким образом удерживается эта тяжесть на самом верху? Отчего эта громада не упадет и не разобьется? Ведь не может же подобная глыба, какую Артемидор поместил на самом верху, висеть ни на чем или опираться на невесомый [воздух]?
3. Здесь ведь ничего не говорится о каких-либо приспособлениях, которыми мировая крыша крепилась бы снаружи, или о каких-либо подпорках, тянущихся к ней от центра вселенной и не дающих безмерно тяжелому телу упасть. Ну и, конечно, сейчас уже никто не осмелится заявлять, будто мир действительно падает и несется сквозь бесконечность, только падение его незаметно, оттого что вечно, и навстречу ему не попадается ничего, на что бы он мог наткнуться.
4. Некоторые высказывали в свое время такое предположение о земле, ибо не могли найти других объяснений тому, что подобная тяжесть неподвижно стоит в воздухе. Они говорили, что земля, мол, всегда несется, но падение ее незаметно, поскольку то, во что она падает, бесконечно.
Затем: чем ты докажешь мне, что движущихся звезд не пять, а множество, и во множестве разных областей мира? А если ты считаешь возможным утверждать это без всякого убедительного обоснования, тогда кто угодно вправе утверждать что угодно: либо что все вообще звезды движутся, либо что ни одна. Кроме того, эта твоя толпа всюду бегающих звезд мало чем тебе поможет: ведь чем их будет больше, тем чаще должны будут они попадаться нам на глаза; а кометы редки, чем и удивительны.
Глава XV
1. Наконец, против тебя будет свидетельство всех прошедших поколений, которые отмечали восхождение всех подобных звезд и передавали потомкам. После смерти сирийского царя Деметрия, детьми которого были Деметрий и Антиох, незадолго до Ахейской войны на небе вспыхнула комета, размером не уступавшая Солнцу[503]. Вначале это был огненно-красный шар, светивший так ярко, что рассеивал ночную тьму; затем он начал постепенно уменьшаться, тускнеть и в конце концов пропал полностью. Но сколько же нужно соединить звезд, чтобы составить тело подобной величины? Можно согнать вместе целую тысячу, но и ей далеко еще будет до размеров Солнца.
2. В царствование Аттала[504] появилась комета, бывшая поначалу умеренной величины; но, поднимаясь все выше, она разрасталась так, что вскоре достигла пояса равноденствия и заняла своим безмерным протяжением всю ту часть неба, которую мы зовем Млечным Путем. Сколько же должно было сойтись планет, чтобы занять сплошным своим огнем такое огромное пространство в небе?
Глава XVI
1. Ну вот, аргументы противника опровергнуты; теперь надо опровергнуть свидетелей. Чтобы сокрушить авторитет Эфора[505], большого усилия не потребуется: он ведь историк. А этот народ обычно пытается снискать себе одобрение, повествуя о вещах невероятных, возбуждая читателя чудесами, словно он тут же бросил бы чтение, если бы речь пошла о предметах обыденных. Бывают историки доверчивые, бывают небрежные, один соврет по недосмотру, другой намеренно; один не может избежать лжи, другой к ней и стремится.
2. Общее свойство всего этого племени в неколебимой уверенности, что труд их не может быть одобрен или любим народом, если не будет обильно окроплен выдумками.
Среди них Эфор не относится к числу самых добросовестных и заслуживающих доверия; он столь же часто обманывается, сколько обманывает. Так у него и с этой кометой, за которой глаза всех смертных наблюдали с особой пристальностью, ибо она повлекла за собой чудовищные последствия: именно она своим появлением утопила Гелику и Буриду. Так вот, Эфор говорит, что она тотчас же раскололась на две звезды, о чем никто, кроме него, не сообщает.
3. Но кто же мог наблюдать момент, когда комета распалась и разделилась на две части? А если кто-то видел, как комета разорвалась, то почему никто не видел, как она составилась из двух звезд? И почему Эфор не прибавил, на какие именно звезды она разделилась: ведь это должна была быть одна из пяти известных планет?
Глава XVII
1. Аполлоний из Минда придерживается иного мнения. А именно он утверждает, что комета не составляется из нескольких планет, но каждая из множества комет — планета. По его словам, это не обман зрения, и не полоса огня, протянувшаяся между двумя сблизившимися звездами, но что кометы — самостоятельные светила, как Солнце и Луна. У них своя особая форма — не сжатая в круг, а вытянутая в длину.
2. Правда, нам непонятно, по какому пути они следуют, но это оттого, что они движутся в более высоких мировых сферах и нам являются лишь на самом низшем участке своего пути.
Не следует думать, будто при Клавдии[506] мы видели ту же комету, что при Августе[507]; будто та, что явилась при Цезаре Нероне[508] и положила конец позору, возвещенному предыдущей кометой, была похожа на ту, которая взошла на небе после смерти божественного Юлия, во время игр, посвященных Венере Родительнице, в одиннадцатом часу дня.
3. Кометы многочисленны и разнообразны, неодинаковы по величине и непохожи по цвету; бывают красные, которые вообще не светят; бывают белые, сияющие, словно целиком состоящие из чистого и прозрачного света; в других видно пламя, но не чистое и тонкое, а клубящееся дымной гарью. Бывают кометы кровавые, угрожающие, несущие предзнаменование грядущего кровопролития. Свет комет то слабеет, то усиливается, как и у других светил: опускаясь, они становятся ярче и крупнее, поскольку мы видим их с более близкого расстояния, а возвращаясь назад, уменьшаются и темнеют, поскольку удаляются.
Глава XVIII
1. На это следует прежде всего возразить, что кометы ведут себя не так, как все прочие светила. Величина кометы больше всего вначале, в тот день, как она появилась. А ведь она должна была бы расти по мере приближения к земле; в действительности же она сохраняет свой первоначальный размер до тех пор, пока не начнет угасать. Во-вторых, к Аполлонию можно отнести и то возражение, которое мы уже выдвинули прежде: если бы комета была блуждающим светилом, она двигалась бы в пределах Зодиака, в которых пролегают пути всех светил.
2. Наконец, сквозь звезду никогда не бывают видны другие звезды; взор наш не в состоянии пронзить насквозь светило и разглядеть то, что над ним. Но сквозь комету, как сквозь облака, можно бывает разобрать, что за ней находится; из чего ясно, что комета не светило, а легкий и колеблющийся огонь.
Глава XIX
1. Наш Зенон держится такой точки зрения: существуют, полагает он, звезды, движущиеся рядом; лучи их объединяются и возникает свечение, кажущееся продолговатой звездой.
Некоторые из наших считают, что никаких комет нет, а есть одна видимость, создаваемая либо столкновением соседних светил, либо слиянием лучей движущихся рядом звезд.
2. Некоторые же утверждают, что кометы есть, что они движутся по своим орбитам и появляются в поле зрения смертных по истечении длительного, но строго определенного периода. Другие же говорят, что кометы хотя и существуют, но светилами их называть не стоит, ибо они недолговечны и чрезвычайно быстро рассыпаются и пропадают.
Глава XX
1. Этого последнего мнения придерживается большинство наших. Им кажется, что только такое объяснение не противоречит истине. В самом деле, в вышине зарождаются самые разные виды огней; то мы видим, как все небо загорается, то летит звезда, и
то проносятся факелы, с широкими шапками огня. Да и сами молнии, которые с удивительной быстротой мгновенно и ослепляют взор и возвращают его во тьму, суть не что иное, как огонь, зажженный трением и соударением больших масс воздуха. Потому-то они и не удерживаются: будучи высечены, они сразу растекаются и гибнут.
2. Есть и более долговечные огни, которые не рассеиваются до тех пор, пока не съедят весь запас пищи. К ним относятся чудеса, описанные Посидонием: пылающие колонны, щиты и прочие невиданные и редкостные явления[510]. На них, наверное, не обращали бы внимания, если бы они не выходили из ряда вон и не нарушали известных нам законов [природы]. Поражает всех неожиданное появление огня: падает ли он сверху, или вспыхивает и несется прочь, или, если воздух сжат и раскален, стоит на месте как чудесное знамение.
3. А что? Разве не было однажды такого, что эфир расступился, и в образовавшемся отверстии открылась широкая полоса света? Он[511] мог бы воскликнуть [вместе с Турном]:
Ибо звезды однажды вспыхнули среди бела дня, не дожидаясь ночи. Впрочем, тут требуется объяснение совсем иного рода. Про звезды мы точно знаем, что они есть, даже когда их не видно; непонятно, отчего они появились в воздухе в несвойственное им время?
4. Однако и многие кометы мы не видим оттого, что их скрывают солнечные лучи. Однажды во время солнечного затмения на небе вдруг обнаружилась комета, находившаяся рядом с солнцем и потому прежде невидимая; об этом рассказывает Посидоний. Довольно часто при закате солнца, неподалеку от него, бывают видны рассеянные огни. Вполне возможно, что сама звезда сливается с солнечным светом и незаметна, а волосы ее видны даже и в лучах солнца.
Глава XXI
1. Итак, по мнению наших, кометы, подобно факелам, трубам, столбам и прочим небесным знамениям, порождаются сгущением воздуха. Оттого-то они и появляются чаще всего на севере, что там самый неподвижный воздух.
2. Но почему же тогда комета не стоит, а движется? — Скажу. Как всякий огонь, она перемещается туда, где есть ей пища; и хотя естественное стремление тянет ее кверху, она сама поворачивает назад и опускается, как только ей начинает недоставать [горючего] вещества. В воздухе она движется не направо или налево — у нее нет своего определенного пути, — но туда, куда ведет ее пастбище, где больше запасы питания; она не движется вперед [к заданной точке], как звезда, но переползает туда, где есть что пожрать, как огонь.
3. Отчего же она бывает подолгу видна и нескоро гаснет? Ведь вот комета, которую мы видели во время счастливейшего Неронова принципата, красовалась на небе в течение шести месяцев. Она двигалась в направлении, противоположном Клавдиевой комете; та появилась на севере, поднялась вверх и направилась к востоку, становясь все темнее; эта взошла там же, но направилась на запад, а затем свернула к югу, где и скрылась из глаз.
4. Видимо, первая двигалась по местам, заполненным более горючими и дымными веществами; второй же, наверное, досталась область более обильная питанием; причем обе опускались в ту сторону, куда звало их вещество, а не предназначение. Путь у тех двух комет, которые мы сами наблюдали, лежал в противоположных направлениях: одна двигалась направо, другая — налево. Между тем все пять планет движутся в одну сторону, а именно в противоположную той, куда движется мир. Ибо он вращается с востока на запад, а они с запада на восток; от этого движение у них двойное: одно — которым они сами движутся, другое — в котором они влекомы миром.
Глава XXII
1. Я, однако, этой точки зрения наших не разделяю. Ибо я не считаю комету внезапно вспыхнувшим огнем, но предпочитаю поместить ее среди вечных созданий природы. Во-первых, все творения воздуха недолговечны, так как рождаются в веществе летучем и переменчивом. Как может нечто долго пребывать неизменным в воздухе, если сам воздух не может подолгу оставаться самим собой? Он вечно течет и если успокаивается, то лишь на миг. В мгновение ока он переходит из одного состояния в другое: то он дождливый, то ясный, то колеблется между тем и другим. Так же ведут себя и его ближайшие родственники — облака. Они сгущаются из воздуха и снова превращаются в воздух; и так же как он, они то собираются в стада, то рассыпаются, но никогда не бывают неподвижны. Быть не может, чтобы в столь неустойчивом теле гнездился такой упорный и неизменный огонь, не уступая в постоянстве огням, зажженным природой для того, чтобы никогда не гаснуть.
2. Во-вторых, если бы движение кометы зависело от питания, она всегда опускалась бы вниз, ибо воздух тем плотнее, чем ближе к земле. Однако еще ни одна комета не опускалась до самого горизонта и не приближалась к земле.
Глава XXIII
1. Но это еще не все. Огонь идет либо туда, куда влечет его природа, то есть вверх, либо туда, куда влечет его пища, вещество, от которого зависит его существование. Ни на земле, ни на небе нет огня, который двигался бы по кривой. Двигаться по кругу свойственно светилам. Я не знаю, так ли вели себя все прочие кометы, но те две, что являлись на моем веку, вели себя именно так.
2. Кроме того, всякое пламя, зажженное от временной причины, быстро гаснет. Так, факелы горят, пока проносятся по небосводу; молнии хватает только на один удар; падучие звезды пролетают, рассекая воздух. Огонь может быть долговечен лишь на своем месте: это те божественные огни, части мироздания и его творения, которые горят в мире вечно. Они делают свое дело и, шествуя непрерывно и равномерно, исполняют свое предназначение. [Так же и кометы.] Кроме того, если бы они были простыми скоплениями огня, возникшими от случайной причины, разве не менялась бы со дня на день их величина? В зависимости от обильного или скудного питания они бы то разрастались, то уменьшались.
3. Я только что говорил, что огонь, вспыхнувший по вине воздуха, не может быть долговечным. Скажу больше: он вообще не может сколько-нибудь длиться, оставаясь на месте. И факел, и молния, и падучая звезда, и любой другой огонь, зажженный воздухом, всегда лишь проносится мимо и виден только в падении. Комета же располагается на определенном месте и не срывается с него стремглав, а размеренно, шаг за шагом перемещается в своем пространстве; и под конец она не гаснет, а удаляется.
Глава XXIV
1. Мне возразят: «Если бы комета была блуждающая звезда, она находилась бы в Зодиаке». — Но кто провел ту черту, которой нельзя переступать звездам? Кто загнал божественное в тесные рамки? Смотрите, даже у тех светил, за которыми одними вы признаете право передвигаться, у всех разные орбиты; в таком случае, отчего бы не существовать и таким, чей путь столь же определен, но сильно удален от этих? Почему на небе должны быть участки, где проход воспрещен?
2. Но даже если ты настаиваешь на своем: что ни одна звезда не может двигаться, минуя Зодиак, — согласись, что ведь комета может иметь такую орбиту, которая пересекает Зодиак где-то в невидимом нам месте; такое ведь возможно, хотя и не необходимо.
Наконец, посмотри сам: не больше ли подобает величию этого мира, чтобы он повсюду был равно полон жизни и подвижен, со всех сторон пересекаясь орбитами небесных тел; разве лучше, чтобы он застыл в мрачном оцепенении везде, за исключением одной торной тропинки — [Зодиака]?
3. Неужели ты поверишь, что в этом теле — величайшем и прекраснейшем, среди бесчисленных звезд, которые заботятся о разнообразном и богатом украшении ночи и не потерпят, чтобы она хоть где-то осталась пуста и безжизненна, — есть только пять светил, которым дозволено передвигаться, а остальные застыли, как толпа немых статистов в театре?
Глава XXV
1. В этом месте меня могут прервать таким вопросом: «Отчего же тогда пути комет не наблюдались и не изучены так, как орбиты пяти звезд?» — Я отвечу вот что: мы допускаем существование многих вещей, хотя понятия не имеем о том, что они собой представляют.
2. Все согласятся с тем, что у нас есть дух, веления которого побуждают нас к чему-то и от чего-то удерживают; но что такое этот дух, наш господин и правитель, — на это едва ли кто ответит тебе вразумительнее, чем на вопрос, где этот дух находится. Один скажет, что это движущийся воздух, другой назовет его неким ладом, третий — божественной силой и частью божества, четвертый — тончайшей частью души, пятый — бестелесной способностью; найдутся и такие, кто скажет, что это — кровь или тепло. Но если наш дух до сих пор о самом себе не может выяснить, кто он такой, тем более нет у него полной ясности относительно других вещей.
3. Стоит ли удивляться, что мы до сих пор не вывели точных законов появления комет — столь редкого в мире зрелища? Что мы до сих пор не отыскали их начал и конечных целей, — ведь они возвращаются в поле нашего зрения через такие огромные промежутки времени! Не прошло еще и полутора тысяч лет с тех пор, как греки впервые
И по сей день еще многие народы знают небо лишь по виду, недоумевая, отчего луну вдруг закрывает тень затмения. Да и у нас все рассуждения на этот счет лишь недавно привели к достоверным выводам.
4. Придет время, когда усердие долгих поколений вытащит в один прекрасный день на свет все то, что скрыто сейчас от нас. Для такого исследования одной жизни недостаточно, даже если вся она будет посвящена небу. Что же говорить о нас, столь неравномерно делящих и без того немногие отпущенные нам годы между науками и пороками? Все это будет разъясняться постепенно в долгой череде преемства.
5. Но придет время, и потомки наши удивятся, что мы не знали столь простых вещей. Вот пять звезд, на которые нельзя не обратить внимания; они так и дразнят наше любопытство, появляясь неожиданно то здесь, то там; и что же? — Мы только-только начинаем узнавать, когда они восходят утром и когда — вечером; где они стоят; когда движутся вперед и когда — назад. Всего несколько лет прошло, как мы научились распознавать, опускается Юпитер или заходит, или движется ретроградно — ибо таким именем назвали их попятное движение.
6. Впрочем, уже появились люди, которые могут поправить нас кое в чем: «Вы заблуждаетесь, полагая, будто какая-либо звезда может приостанавливаться или сворачивать со своего пути. Небесным телам не дозволяется ни стоять, ни уклоняться в сторону; все они идут вперед, шаг за шагом двигаясь в том направлении, в каком были однажды запущены. Движение их прекратится лишь вместе с ними. Всякое перемещение в этом вечном устройстве предустановлено раз навсегда; если они когда-нибудь остановятся, то все вещи, удерживаемые ныне в непрерывном равновесии, обрушатся друг на друга».
7. Отчего же тогда кажется, будто некоторые звезды возвращаются вспять? — Впечатление замедления их возникает оттого, что навстречу им движется Солнце; кроме того, природа расположила их пути и орбиты таким образом, что в определенное время они обманывают зрение наблюдателя; так корабли, идущие на всех парусах, кажутся нам неподвижными. Когда-нибудь явится человек, который точно опишет, где пролегают пути комет, почему они блуждают в стороне от прочих звезд; пусть потомки тоже внесут свою лепту в исследование истины.
Глава XXVI
1. «Однако сквозь звезды, — возразят нам, — не видно того, что за ними; кометы же проницаемы для взора». — Да, но не в том месте, где находится само светило — твердое огненное уплотнение, а там, где оно рассыпается волосами, где от него отходит разреженное сияние; иными словами, видеть можно сквозь промежутки между огнями, а не сквозь сами огни.
2. «Все звезды, — скажут нам, — круглые, а кометы вытянутые; ясно, следовательно, что они не звезды». — Но с чего вы взяли, что кометы длинные? По природе своей они такие же шары, как и прочие светила; другое дело, что свечение их вытягивается в длину. Солнце рассылает свои лучи во все стороны, но собственная его форма совсем иная, чем у истекающего из него света; то же и у комет: собственное их тело круглое, сияние же их кажется более вытянутым в длину, чем у других светил.
Глава XXVII
1. «Но почему?» — спросят нас. — А вы сами сначала ответьте нам, почему Луна светит совсем другим светом, чем Солнце, хотя получает его от Солнца? Почему она то краснеет, то бледнеет, а когда потеряет Солнце из виду, становится мертвенно-свинцовой и вовсе чернеет?
2. Скажите, почему все звезды выглядят в какой-то степени разными и почему они так сильно отличаются от Солнца? Но несмотря на видимую разницу, все они вправе называться светилами. Точно так же и кометам, хоть они и непохожи на других, ничто не мешает иметь одинаковый с прочими жребий и быть такими же вечными.
3. Можно взглянуть на это и шире. Посмотрите внимательно: разве сам мир не составлен из различий? Отчего Солнце в созвездии Льва раскаляется и иссушает землю зноем, а оказавшись в Водолее, заковывает ее зимним холодом и останавливает реки льдом? А ведь оба созвездия одного происхождения, несмотря на различие их природы и действия. Отчего Овен восходит молниеносно, а Весы поднимаются еле-еле? Ведь оба они — светила одной природы, несмотря на то, что одно долго карабкается вверх, а другое стремительно возносится.
4. Неужели ты не замечаешь, насколько противоположны во всем четыре стихии? Тяжелое и легкое, холодное и горячее, влажное и сухое: вся гармония этого мира составлена из разноголосиц. Вы говорите, что комета не звезда, потому что у нее форма не такая — не отвечает образцу и не похожа на другие. — Но посмотрите: планета, возвращающаяся на свое место через тридцать лет, считается в точности подобной планете, которая каждый год приходит на свое место.
5. Природа не старается подогнать свои создания под одну мерку; напротив, она любит похвастаться разнообразием. Она нарочно делает что-то быстрым, а что-то медлительным, что-то наделяет мощью, а что-то умеренностью; какие-то вещи она выделяет из толпы, чтобы красовались поодиночке у всех на виду, а другие помещает в стадо. Кто думает, будто природа может делать лишь то, что она делает часто, тот сильно недооценивает ее возможности.
6. Она не часто показывает нам кометы; она предназначила для них особенное место, особое время, дала им не такое, как у других, движение, желая, чтобы и они заставляли нас преклониться перед величием ее творений. Взгляните, как они огромны, как ослепительно сверкают, насколько они больше и ярче других звезд! Право же, их облик слишком прекрасен, чтобы считать их игрой случая. Конечно, вид у кометы странный и примечательный: вместо того чтобы плотно сжиматься в комок, она свободно распускается по небу, охватывая пространство, на котором помещается множество звезд.
Глава XXVIII
1. Аристотель говорит, что кометы предвещают бури с чрезвычайно сильными ветрами и ливнями[514]. Разве это не означает, что комета — светило, способное знаменовать будущее? Однако она предвещает бурю не так, как иные приметы. Но как по равноденствию можно узнать, будет ли год холодным или жарким; как по положению звезды халдеи предсказывают новорожденному, какие его ждут печали и радости,
2. так и комета грозит не тем, что тотчас обрушатся ветер с дождем, как говорит Аристотель, а что весь год будет неспокойный. Таким образом, она несет предзнаменование не только ближайшего будущего, которое она могла бы почерпнуть сразу из своего ближайшего окружения, но содержит предвестие, издавна заложенное в нее мировыми законами.
3. Так, комета, появившаяся при консулах Патеркуле и Вописке[515], исполнила предсказания Аристотеля с Теофрастом: действительно, повсюду беспрестанно свирепствовали сильнейшие бури, — но помимо этого в Ахайе и в Македонии целые города обрушились во время землетрясений.
Глава XXIX
1. Кто-нибудь может сказать нам: «Медлительность комет доказывает, что они очень тяжелы и содержат много земного вещества. О том же свидетельствует и направление их движения: почти все они стремятся к полюсам». — И то и другое неверно. Отвечу сначала на первое возражение. Все, что движется медленнее, тяжелее. Хорошо. Вот Сатурн, совершающий свой путь медленнее всех звезд; что он, тяжелый? Легкость его доказывается уже тем, что он расположен выше прочих.
2. Ты скажешь, что Сатурн описывает бо́льшую окружность, и движется не медленнее, а дольше прочих. А тебе не приходит в голову, что я мог бы то же самое сказать о кометах, если бы они и в самом деле были так медлительны? Но это ложь: последняя комета, которую мы видели, прошла половину неба за шесть месяцев; предыдущая исчезла из виду еще быстрее.
3. «Но они опускаются ниже других звезд, потому что тяжелые». — Во-первых, то, что движется по кругу, не опускается. Во-вторых, последняя комета начала двигаться с севера на юг через западную часть неба и скрылась из глаз, все еще продолжая подниматься; предыдущая — Клавдиева комета, которую мы тоже увидели вначале на севере, постоянно двигалась прямо вверх, пока не исчезла.
Вот и все касательно комет, что возбудило интерес во мне или в других. Истинно ли это, знают боги, которым дано знать истину. Нам дозволено только шарить впотьмах на ощупь, строя догадки о неведомом, не слишком доверяя своим открытиям, но и не теряя надежды.
Глава XXX
1. Замечательно сказал Аристотель, что больше всего почтительной сдержанности нам следует выказывать тогда, когда заходит речь о богах. Если в храм мы входим степенно, если, приближаясь к жертвеннику, склоняем голову, подбираем тогу и всячески стараемся подчеркнуть свою скромность, то насколько же важнее нам вести себя так же, принимаясь рассуждать о светилах, о звездах и о природе богов! Насколько больше надо стараться избежать опрометчивости и бесстыдства, не утверждать того, чего мы не знаем, и не соврать о том, что знаем!
2. Стоит ли удивляться, что мы так поздно докапываемся до вещей, так глубоко лежащих? Панэтию и всем тем, кто предлагает считать кометы не полноправными светилами, а ложным призраком светила, придется основательно поразмыслить над тем, все ли части неба равно подходят для возникновения комет, и во всякое ли время года они могут появляться; могут ли они зарождаться во всех тех местах, где они движутся, и так далее. Все эти вопросы отпадают сами собой, когда я утверждаю, что они не случайные огненные вспышки, а изначально вплетены в ткань мира, который редко выпускает их напоказ, заставляя двигаться вне поля нашего зрения.
3. Как много еще других светил незримо свершают свой путь, никогда не восходя для человеческих глаз! Ибо не все бог создал для человека. Велика ли доступная нам доля этого великого творения? Даже сам правитель его и создатель, основавший вселенную и окруживший себя ею, тот, кто составляет ее большую и лучшую часть, невидим для нас; созерцать его приходится мысленно.
4. И не он один: многое, родственное высшему божеству и наделенное ненамного меньшим могуществом, скрыто от нас. Скажу даже, чтобы больше тебя удивить, что, может быть, мы только [эти высшие существа] и видим, и в то же время не видим: ведь они могут оказаться такой утонченности, какую человеческое зрение не воспринимает. А может быть, столь недосягаемое величие таится в недоступном священном месте и царствует там над своим царством, то есть над самим собой, и никого не впускает к себе, за исключением духа. Смешно: мы не знаем того, без чего ничего нет, и удивляемся, если не все узнали о каких-то жалких огоньках, в то время как бог, главная часть мира, скрыт от нас!
5. Как много живых существ, впервые открытых нами лишь в этом столетии, и как много вещей, еще не открытых! Люди грядущего поколения будут знать многое, неизвестное нам, и многое останется неизвестным для тех, кто будет жить, когда изгладится всякая память о нас. Мир не стоит ломаного гроша, если в нем когда-нибудь не останется ничего непонятного.
6. Есть таинства, в которые посвящают не с первого раза; Элевсин откроет вам новые тайны, когда вы вернетесь в него вторично; не с первого раза посвящает в свои священные таинства и природа. Мы считаем себя посвященными, а на самом деле нас не пускают дальше прихожей. Ее секреты открываются не сразу и не всем; они заперты далеко, во внутреннем святилище; кое-какие из них увидит наше поколение, другие — то, которое придет после нас.
Глава XXXI
1. Когда же настанет время нам узнать их? — Большие дела делаются медленно, особенно если на них жалеют труда. Мы никак не можем довести до совершенства даже то единственное, чему прилежим всей душой, — окончательно испортиться: наши пороки все еще только развиваются. Что ни день, роскошь изобретает какое-нибудь новое безумство; бесстыдство придумывает что-нибудь неслыханное себе в поругание; распущенная душа, изъязвленная наслаждениями, находит, на свою погибель, чем изнежить и размягчить себя еще больше.
2. Нам до сих пор не удается изгнать остатки силы и твердости; до сих пор приходится выводить следы добрых нравов. Правда, гладкостью и белизной тела мы давно превзошли самых кокетливых женщин; мы, мужчины, носим цвета, в какие порядочная женщина не оденется — это одежда проституток; походка наша мягка и нежна, при каждом шаге нога задерживается в воздухе: мы не ходим, а выступаем; пальцы наши изукрашены перстнями, на каждом суставе по драгоценному камню.
3. Каждый день мы изыскиваем способы оскорбить нашу мужественность, чтобы хоть надругаться над ней всласть за то, что нельзя от нее отделаться: один отрезал себе детородные части; другой сбежал в самое непристойное отделение гладиаторской школы и там, нанявшись умирать, избрал самый постыдный род оружия[516], чтобы дать вволю развернуться своей болезни.
Глава XXXII
1. И ты удивляешься, что мудрость до сих пор еще не исполнила своего предназначения! Даже испорченность — и та еще не показала себя целиком; она только-только выходит на свет. А ведь ей мы отдаем все силы, ей рабски служат и глаза наши и руки. А кому нужна мудрость? Можно ознакомиться мимоходом, но стоит ли заниматься этим всерьез? — Кто сейчас думает иначе? Кому взбредет на ум философия или любая другая свободная наука, разве что отменят публичные игры, или зарядит дождь, и надо будет как-то убить день?
2. Сколько философских школ осталось без последователей? Ни одного заметного человека нет среди академиков, что древних, что новых. Кто передаст потомкам наставления Пиррона? Пифагорейская школа, вызывавшая столько злобы и зависти своим многолюдством, не может найти руководителя. Новая секта Секстиев, представлявшая силу и мужество Рима, так бурно начиналась — и уже исчезла.
3. Но зато сколько стараний прилагается, чтобы не дать исчезнуть имени какого-нибудь актеришки из пантомимы! Для последователей Пилада и Ватилла[517] построен целый дом; у этих искусств нет недостатка в учениках и учителях. По всему городу и в частных домах трещат подмостки, на которых скачут мужчины и женщины, состязаясь, кто сладострастнее изогнется в пляске. А потом, когда лицо достаточно поизотрется под маской, можно надевать кожаный шлем.
4. До философии никому нет дела. До такой степени, что не только никто не продолжает исследование предметов, мало изученных древними, но и их-то открытия в большинстве своем забываются. А ведь, боже мой, даже если бы мы всем миром навалились на это, если бы трезвое и серьезное юношество вкладывало сюда все свои силы, если бы только этому учили старшие и учились младшие, — и то едва ли бы мы докопались до дна, где зарыта истина; а сейчас мы ищем ее, гладя поверхность земли изнеженными руками.
Джон М. Рист Сенека и стоическая ортодоксия{5}
I. Политическая репутация и философские идеалы
«Едва ли Сенека может вызвать симпатию у сегодняшнего англичанина»[518]. Чтобы оправдать такой вывод, ученые обычно ссылаются на явное расхождение между словами Сенеки и его делами, одновременно напоминая, что руководящим принципом для Сенеки, как и всех прочих стоиков был: «Жизнь не должна расходиться со словами» и «Философия учит делать, а не говорить»[519]. Короче всех это сформулировал Мильтон: «Сенека, который был философом в своих книгах». Среди обвинений, адресуемых Сенеке сегодня (впрочем, они регулярно повторялись еще с древности), есть серьезные и не очень. Он льстит императорским вольноотпущенникам, чтобы получить разрешение вернуться из ссылки, — да, но его лесть весьма умеренна по сравнению с тем, что выдавали профессионалы этого дела, о которых мы знаем как из прозы самого Сенеки, так и из других источников. Он издевается над физическими недостатками покойного Клавдия в сатире «Апоколокинтосис», чтобы позабавить нового императора Нерона и его фаворитов, — но это вполне в римском вкусе. Нас это может возмущать, но не больше, чем многие другие вещи, обычные для древних и неприемлемые для нас, например рабство. (Кто станет осуждать Платона или Аристотеля за то, что они владели рабами, хотя они ими, несомненно, владели?) Множество нареканий вызывает финансовая деятельность Сенеки. Говорят, например, что он задумал и провел коварный план: потребовав возврата займов, привел к банкротству британцев и тем спровоцировал их на восстание. Может быть, и так, если верить Диону (62. 2. 1), но, во всяком случае, не он один проделывал такие вещи. Вероятнее же всего, что после его падения современники приписали ему гораздо больше скверных поступков, чем он совершил на самом деле; весь рассказ Диона о Сенеке — именно такая инвектива[520]. Многим не нравится эпиграмматический стиль Сенеки[521]. И, наконец, самое серьезное обвинение: «Будучи наставником Нерона, он закрывал глаза на бесчисленные преступления, вплоть до матереубийства, чтобы сохранить свое высокое положение и влияние, и за десять лет своего могущества скопил безмерные богатства».
По поводу финансовой стороны дела мало что можно сказать. Сенека получил большое наследство, приумножил его и знал, что большая часть его состояния в конце концов перейдет императору. Правда, при этом он постоянно проповедовал безразличие к деньгам. Но, во-первых, его общественное положение требовало известного достатка. А во-вторых, стоицизм в отличие от кинизма никогда не учил, что человек должен быть беден. Деньги сами по себе — вещь безразличная. Сенека никогда не выступает против богатства как такового: богатство и бедность указывают человеку разные пути к добродетели[522]. Сенека выступает против роскоши, против алчности, ненасытного желания иметь больше, чем у тебя есть, против ростовщичества и страсти к наживе. Сама биография Сенеки показывает, что стоическое «безразличие» к богатству действительно могло существенно облегчить ему жизнь. Когда в 41 г. он был осужден за адюльтер с Юлией Ливиллой (который ему безосновательно приписали) и отправлен в ссылку, он лишился, по-видимому, большей части своего состояния. По возвращении из ссылки он получил все назад. Если верить обличениям его противника Суиллия, в 58 г. его состояние составляло более 300 миллионов сестерций. В 62 г. он предложил ссудить все свои деньги императору, а после пожара 65 г. пожертвовал значительную их часть на восстановление Рима (Анналы, 14. 54. 3—4). По словам Тацита, отойдя от дел в 64 г., Сенека жил очень скромно (Анналы, 15. 45. 13; 15. 63. 3), очевидно, полагая, что положение больше не обязывает его поддерживать внешний блеск. В завещании, написанном еще до отставки, он предписывает устроить ему самые простые похороны (Анналы, 15. 64. 4). Кажущиеся противоречия в поведении Сенеки нетрудно объяснить, разделив представления о том, что подобает общественному деятелю и что нужно частному человеку. Так, возмущающие критиков Сенеки почти кинические восхваления бедности в его сочинениях имеют в виду частную жизнь, в которой сам Сенека был весьма скромен.
По-видимому, Сенеке досталась значительная часть состояния Британника, одной из жертв Нероновых злодеяний. Это уже прямо касается главного обвинения против Сенеки: он-де закрывал глаза на преступления, совершаемые его учеником Нероном, потому что извлекал из них выгоду. По поводу имущества Британника Тацит высказывается вполне определенно: после убийства Нерон «щедро одарил виднейших из своих приближенных». Историк упоминает и о том, что уже в то время не было недостатка в людях, «осуждавших тех, кто, выставляя себя поборником несгибаемой добродетели, разделили между собой, словно военную добычу, дома и поместья» убитого (Анналы, 13, 18). Однако и этот случай, и отталкивающие оправдания Нерона после убийства матери, последовавшего в 59 г., требуют более внимательного анализа. В этих двух случаях, как и во многих других, Сенеке приходилось выбирать из двух зол. Его положение заставляет вспомнить о членах германского Генштаба в 1930-е гг. Следовало ли ему и Бурру осудить убийства и потерять свое влияние на императора, или надо было примириться с преступлениями в надежде это влияние сохранить, чтобы попытаться использовать его во благо государства и достойных граждан?
Сенека сделал свой выбор уже тогда, когда согласился на предложение Агриппины вернуться из ссылки и стать наставником будущего императора. Он знал, что Агриппина была против того, чтобы он учил ее сына философии. Он знал ее характер, ее ненасытную жажду власти; знал и Нерона, но все же принял рискованное решение и ввязался в клубок дворцовых интриг, где шла борьба не на жизнь, а на смерть. Что двигало им? Соскучился ли он в ссылке, жаждал ли власти или надеялся принести пользу в соответствии со своими стоическими взглядами? Ведь стоик должен заниматься политикой, несмотря на отвращение, ради блага государства, чтобы у власти был хоть один порядочный человек. Последняя причина, безусловно, имела место, хотя, может быть, не была главной. Это показывает трактат «О милости», написанный после убийства Британника: тогда Сенека еще надеялся воспитать из Нерона справедливого властителя. Конечно, были и другие причины: мотивы Сенеки отнюдь не достигают той чистоты, какая требуется от стоического мудреца. Но он и не претендовал никогда на звание мудреца. Он всегда называл себя «несовершенным», который лишь вступил на путь к мудрости и с трудом пытается по нему идти. Он скорее генерал Бек, чем Дитрих Бонхеффер римской истории.
Такое сравнение только на первый взгляд кажется фантастическим. Современные исследования показывают, как много общего между миром, в котором жил Сенека, и гитлеровской Германией или сталинской Россией[523]. Правители из трагедий Сенеки руководствуются правилами типа: «Odia qui nimium timet, regnare nescit» (Эдип, 704): террор — лучший способ управления. Но и в жизни правители руководствуются тем же принципом. Девиз Калигулы: «Oderint dum metuant» («Пусть ненавидят, лишь бы боялись»). Нам трудно представить себе мир настолько аморальный и грязный, как тот, что описан в прозаических сочинениях Сенеки. Сенека выражает своей матери восхищение за то, что она в свое время отказалась от абортов, и он смог появиться на свет (К Гельвии, 16, 3—4). А чего стоит зеркальная комната Гостия Квадры, в которой он занимался сексом с тремя партнерами одновременно, наблюдая себя со всех сторон в зеркалах (О природе, 1, 16, 7). В этом мире казни и пытки дело самое обыденное, а злоупотребление властью приобретает жуткий размах: за разбитую чашку Ведий Поллион бросает слугу на съедение хищным рыбам в бассейне (О гневе, 3. 40. 2—5; О милости, 1. 18. 2). Самое большое удовольствие для черни и знати этого мира — уже не бой, а «прямое человекоубийство» в амфитеатре (Письма к Луцилию, 7. 3). То, что обличает в сатирах Ювенал, Сенека описывает мимоходом, как мелочи повседневной жизни. И это, несомненно, не риторика, а истинная правда.
Средоточие зла, разврата, бесстыдства, жестокости — фигура императора, неуправляемого, порой безумного, как Калигула. Сразу после гибели Калигулы Сенека пишет три книги «О гневе». Это страшный документ. От подобного свидетельства нельзя просто отмахнуться, списав его на «глубокий духовный садизм», свидетельствующий будто бы только о душевном нездоровье автора[524].
Но если политическое поприще было так чудовищно грязно, зачем было Сенеке на него вступать? Без сомнения, не последнюю роль тут сыграло честолюбие, — но не только оно. Сенека много размышляет над этой проблемой теоретически. Вообще стоическая философия требует участия в политике. Но вот, например, Афинодор, стоик Августовой эпохи, рекомендует от него воздержаться, приводя неортодоксальную, с точки зрения стоицизма, причину: природа политики слишком дурна, она портит и коррумпирует всякого, кто с ней соприкоснется. Для Сенеки такой аргумент был чрезвычайно важен; именно его он рассматривает при выработке собственной позиции[525]. Множество разных доводов за и против того, чтобы мудрец занимался политикой, приводятся практически во всех сочинениях Сенеки. Но важнее всего с этой точки зрения два: «О душевном покое» и «О досуге». Здесь он подробно разбирает каноническое учение Зенона. Стоический мудрец непременно должен участвовать в общественной жизни, «если ему не помешают исключительные обстоятельства». Традиционный стоицизм признавал три уважительные причины, оправдывающие неучастие в государственных делах. Мудрец имеет право удалиться от политики, если, во-первых, государство слишком коррумпировано, чтобы он мог ему служить. Во-вторых, если он недостаточно богат и влиятелен или если от его услуг отказались. Наконец, третья уважительная причина — тяжкая болезнь. Нас интересует первая причина. В обоих трактатах Сенека доказывает, что она неверна (О душевном покое, 3. 1; О досуге, 8. 1). Ни одно государство не бывает достаточно благоустроено, чтобы быть достойным мудреца (этим Сенека, между прочим, объясняет свой постепенный отход от государственных дел: «О душевном покое» он писал в 62 г.). Но никакая политическая коррупция не может служить оправданием полного устранения от общественной деятельности. Говорить, как Хрисипп: надо участвовать в политике, если политическая жизнь государства не слишком грязна и порочна, — все равно, что рекомендовать человеку сделаться моряком, но не выходить в море, если есть подозрение, что погода испортится.
У нас есть основания предполагать, что Сенека вступил на политическую арену с открытыми глазами, отдавая себе отчет в том, куда идет и почему. Свое честолюбие он оправдывает и обосновывает рационально: для стоиков, и в особенности для последователей Панэтия, мудрец не только созерцатель, но и деятель[526]. Однако где предел, за который нельзя переступить, оставаясь порядочным человеком? На этот вопрос мы не находим у Сенеки теоретического ответа. На практике же он, как мы знаем, пытается отойти от общественной жизни, начиная с 62 г., после смерти своего друга Бурра, префекта претория. На этой дружбе зиждилось в значительной степени его влияние. После того как во главе преторианцев встал Офоний Тигеллин, старый фаворит Нерона и пособник его преступлений, Сенека должен был решить, что его уход от дел будет вполне оправдан с точки зрения стоической философии: отныне он полностью лишился влияния и возможности проводить такую политику, какую считал правильной.
Мир, предстающий в трагедиях Сенеки, — это арена борьбы между furor (безумием, страстью) и ratio (разумом). Такой сценарий — в духе самых ортодоксальных стоических принципов. Римский форум в описании Сенеки похож на другое шоу — бой гладиаторов (О гневе, 2. 8. 1—2. 9. 1). Люди там — скопище диких зверей, если не хуже; но если мудрец станет на них сердиться, он обречен всю жизнь прожить в ярости. Гнев здесь неуместен. Если соразмерять степень гнева с мерзостью преступления, благородному человеку придется не гневаться, а впасть в безумие. Если надо, мы должны казнить, но убивать преступника следует не в гневе, а спокойно, как давят ядовитую змею (О гневе, 1. 16. 5).
В страшном мире, отданном на растерзание буре иррациональных страстей, эпицентр которых в каком-нибудь Калигуле, или — позднее — Нероне, главная неотложная задача, единственное спасение — обуздать страсти. По сравнению с этим все остальные задачи и занятия ученого, философа, даже традиционного стоика отступают на второй план. Добродетели созерцания оказываются чуть ли не наравне с тем, что стоики именуют «безразличным» относительно добра и зла. Мы слышим о бессмысленности занятий чистой логикой (Письма, 48. 2; 85; 111); о бесполезности широкого образования (какая разница, что было написано раньше — Илиада или Одиссея?) (О скоротечности жизни, 13. 1); о тщете эрудиции, которая демонстрирует лишь тщеславное желание сорвать аплодисменты у публики (Письма, 52. 11). Если уж мы читаем книги, лучше читать меньше, зато глубже вникать в смысл. Если мы пишем, писать стоит только для собственной душевной пользы, а не для просвещения грядущих поколений (О душевном покое, 1. 13). Физика должна служить этике. Сенека рекомендует Луцилию извлекать моральный урок из всего, что ему приходится читать (Письма, 89. 48). В свете всех этих замечаний мы должны интерпретировать трактаты О природе, где рассуждение о природе ветров служит поводом для патетического описания человеческой алчности, которая гонит людей под парусами по бурным морям (3. 18. 4), а оно, в свою очередь, вводит пространное обличение роскоши вообще.
Роскошь, алчность, жестокость, гнев, похоть — вот темы, к которым Сенека обращается вновь и вновь, и в трагедиях, и в прозе. Этими пороками заклеймено извращенное человечество, ибо большая часть человечества извращена. Но в таком случае, какое дело до него мудрецу? Или тому, кто стремится к добродетели, — стоику, вступившему на путь к мудрости? Дело есть, отвечает Сенека, потому что все люди — граждане единого всемирного государства (Письма, 28. 4). В известном смысле все люди равны. Мы, стоики, учим, что все люди — сограждане и братья (О благодеяниях, 1. 15. 2—3; О душевном покое, 1. 10; Письма, 5. 4). «Поймите, есть два государства. Одно — великая и поистине всеобщая гражданская община, которую составляют люди и боги…» (О душевном покое, 4. 1). Бог — наш общий отец (Письма, 110. 2; О благодеяниях, 2. 29. 4). Эта вселенская община, то есть весь мир, держится на связях космической «симпатии», как учил традиционный стоицизм, как особенно подчеркивал Посидоний и повторяет Сенека. На этой вселенской сцене разыгрывается грандиозное сражение добродетели с пороками, разума с иррациональными побуждениями. В этом Сенека полностью согласен с традицией своей школы.
Своей — ибо Сенека всегда считал себя правоверным стоиком. Стоик в его глазах отличается от философов любой другой школы как доблестный муж от женщин (О провидении, 2. 1. 1). Сенека готов критиковать других, например Антипатра, за отступление от ортодоксального стоицизма (Письма, 92. 5). Впрочем, он не чувствовал себя обязанным хранить верность традиционной системе в деталях (О душевном покое, 3. 1). Детали можно критиковать, исправлять или включать в новый контекст (Письма, 33. 7—8; 64. 7). Все существенное в учениях стоиков истинно; правильна и их система ценностей — они верно различают главное и второстепенное; но что мешает добавлять к их философии то истинное, что было высказано другими школами? Большое влияние оказал на Сенеку Квинт Секстий, чья школа в Риме соединяла стоические учения с пифагорейскими[527]. Именно от Секстия Сенека заимствовал такую важную для него, но неизвестную стоикам практику — ежевечерне экзаменовать свою совесть[528]. Секстий был вегетарианцем; впрочем, эту пифагорейскую практику Сенека перенял не от него, а от Сотиона; и через год, по совету отца, он вегетарианство бросил. Некоторое время Сенека находился под влиянием ученика Секстия Папирия Фабиана; позднее и того и другого затмили в его глазах Сотион и Аттал[529]. Их аскетическая версия стоицизма (они требовали отказаться от мягкой постели, горячей бани, душистых мазей и устриц, равно как и других гурманских излишеств) утвердила Сенеку в его склонности к «пифагорейству». Кроме того, Сенека очень много читал. Он, несомненно, штудировал Зенона, Хрисиппа, Панэтия, Посидония, Гекатона, Афинодора Младшего.
Какое же место занял он сам в стоической традиции? Действительно ли он был правоверным стоиком, как он заявлял? Или «пифагорейское» аскетическое влияние заставило его изменить ортодоксальному «хрисипповскому» учению, по крайней мере в этике (и родственной ей психологии), которую Сенека по праву считал главным в стоицизме? Только получив ответ на этот вопрос, мы сможем сказать, прав ли был Квинтилиан, утверждая, что Сенека в философии был parum diligens — не слишком последовательный стоик и малокомпетентный философ (10. 1. 129).
II. Отступления от ортодоксального стоицизма
1. Воля, импульсы и «предшественники страсти» (προπάθεια)
Хрисипп сформулировал стоическое учение о человеческих действиях так: всякое действие есть определенное состояние ведущего начала (ἡγεμονικόν πως ἔχον)[530]. Излюбленный пример — ходьба (может быть, потому, что этим примером пользовался Аристотель[531]. Между прочим, именно Аристотель мог в данном вопросе сбить Сенеку с ортодоксального стоического пути). Итак, для Хрисиппа ходьба — определенное состояние ведущего начала человека, который идет. Сенека же разделяет решение пойти и акт ходьбы: «Сначала я говорю себе, что мне нужно идти. Затем одобряю это свое мнение. И лишь затем я иду». Здесь Сенека, по-видимому, гораздо ближе к Аристотелю (кое в чем даже дословно повторяет его), чем к Хрисиппу. Чем же вызваны расхождения Сенеки с «психосоматической» теорией действия, так ясно изложенной у Хрисиппа?
В свою теорию действия Сенека включает понятие так называемых «предшественников страсти» (προπάθεια). Во второй книге «О гневе» он пытается дать «стоическое» объяснение инстинктивным реакциям: мы краснеем от стыда, у нас кружится голова при взгляде вниз с обрыва, нас печалит зрелище даже справедливой казни и пугает прочитанный в книге рассказ о том, как полчища Ганнибала подошли к самым воротам Рима. Эти явления чисто инстинктивны: мы не принимаем сознательного решения, не даем на них согласия, не совершаем выбора. Это не страсти (affectus), а «прелюдии к страсти» (principia proludentia affectibus). Поскольку здесь не участвует воля (voluntas), мы не несем за них моральной ответственности. Несколько раз Сенека подчеркивает, что разум при этом остается пассивен, хотя в нем возникает некое подобие мнения (opinio — О гневе, 2. 2. 2; 2. 3. 4). Душа испытывает некий удар, или потрясение (ictus animi — 2. 2. 2), и против воли приходит в движение, или волнение (motus animorum moveri nolentium — 2. 2. 5). Это происходит случайно. Душа при этом скорее претерпевает воздействие, а не действует (2. 3. 1). Такие инстинктивные эмоциональные реакции равно присущи всем людям, и глупцам, и мудрецам. Не испытывать их — значит не быть человеком (inhumanitas — Письма, 99. 5).
Используя терминологию Хрисиппа, известную нам по сохранившимся фрагментам, Сенека различает два типа «состояний ведущего начала». Первый — совершенно пассивные состояния, инстинктивные реакции, «предшественники страсти» (προπάθεια). Второй тип — активные состояния, при которых разум, «ведущее начало», дает свое согласие и одобряет появившееся в душе представление. Согласие разума одновременно порождает в душе побуждение (Сенека переводит хрисипповский термин ὁρμή как impetus — «импульс»). Этот импульс не совпадает с представлением и не возникает одновременно с ним, ибо требует нашего согласия (numquam autem impetus sine assensu mentis est — О гневе, 2. 3. 4). Он «следует» за одобрением (sequens impetus — 2. 3. 5).
Хотя в известных нам текстах Хрисиппа и других греческих стоиков нет подобного различения двух типов аффективных реакций, нет оснований считать Сенеку их изобретателем. О чем-то подобном пишет Цицерон в «Тускуланских беседах» (3. 83). Он различает, с одной стороны, страсти, в возникновении которых непременно участвует воля (voluntarium) и, с другой стороны, непроизвольные «мелкие уколы и легкие судороги души».
Тем не менее нельзя согласиться с Поленцем и его последователями, утверждающими, что именно Сенека (или, во всяком случае, римляне) ввели в философию принципиально новую категорию «воли»[532]. Конечно, терминология Сенеки необычна для Древней Стои. Сенека называет акт согласия души на действие актом воли. Хрисипп здесь говорил бы о разуме или суждении (διάνοια). Сенека говорит об определенных состояниях души, сопровождаемых или нет актом воли (согласием). Хрисипп мог бы говорить об определенных состояниях ведущего начала, сопровождаемых или нет суждением (согласием). Слова различаются, но суть учения остается неизменной.
Единственное новшество, которое, по-видимому, привнес Сенека в ортодоксальную стоическую теорию действия, — это интервал между решением и его осуществлением, между намерением пойти и ходьбой. Новизна могла быть невольной: Сенека хотел как можно резче подчеркнуть разницу между иррациональной реакцией и следующим за ней «согласием», добрым или злым импульсом. В теории действия Хрисиппа последовательность должна была быть такова: инстинктивная реакция → согласие и рациональный/иррациональный импульс, одновременно с которым совершается действие. Сенека толкует последовательность в буквально временно́м смысле и делит ее на три части: реакция → согласие и рациональный/иррациональный импульс → физический акт. При этом он забывает, что для Хрисиппа физический акт есть определенное состояние ведущего начала. Впрочем, не исключено, что в этом вопросе Сенека испытал прямое или опосредованное влияние Аристотеля.
2. Даймон и его судьба
Все люди — граждане единого государства, ибо все они — частицы единого божества. Под этим утверждением, в котором Сенека цитирует Посидония, Хрисипп мог бы подписаться. Но дальнейшее развитие этой мысли у Сенеки для Древней Стои было бы совершенно неприемлемо. Частица божества — это лишь дух (spiritus), заключенный во плоти, которая «пригодна только на то, чтобы поглощать пищу, как сказал Посидоний» (Письма, 92. 10). Наш дух — это «бог внутри» (deus intus — Письма, 41. 1—2; ср. 31. 11; 66. 12; 110. 2), божество, «пролившееся свыше в эту смертную грудь» (in hoc pectus mortale defluxit — Письма, 120. 14). Сенека соглашается почти со всем, что говорил на эту тему Посидоний, но это не значит, что Посидоний — его единственный источник. Сенека проводит дихотомию между душой и телом гораздо резче. Здесь он намного ближе к Платону (которого, несомненно, читал) и к таким мыслителям неопифагорейского толка, как упомянутые выше Секстий и Сотион, чем к ортодоксальному стоицизму. Однако до какой именно степени платоником и «пифагорейцем» стал Сенека и как далеко зашла его измена стоицизму, невозможно определить, анализируя то, что он говорит о духе (spiritus).
Во-первых, нам неизвестно, верил ли в бессмертие души и ее иноприродность телу сам Посидоний. Есть основания предполагать, что его взгляды на этот счет не расходились существенно с традиционным стоицизмом[533]. Что же до Сенеки, то, как показывают последние исследования, в его высказываниях о данном предмете можно вычленить, по меньшей мере, четыре точки зрения, причем их различие нельзя объяснить ни развитием или изменением общих воззрений Сенеки, ни различной «литературной» формой отдельных его сочинений. Мы встречаем у Сенеки, во-первых, ортодоксальное стоическое мнение о том, что дух частично переживает тело[534]. Во-вторых, сократовскую альтернативу: «смерть есть либо конец, либо переход в другое место», по «Апологии». В-третьих (сравнительно редко), эпикурейскую тенденцию отрицать всякую жизнь души после смерти тела. И в-четвертых, тенденцию платонико-пифагорейскую, т. е. признание бессмертия души и полной отделимости ее от тела, особенно в 102-м письме[535]. Как бы ни объяснять эти расхождения, ясно, что ни одну из этих точек зрения мы не можем однозначно приписать Сенеке. В известном смысле можно утверждать, что этот вопрос не очень его интересовал. Ему довольно было убеждения, что нравственность сама по себе способна обеспечить нам, по крайней мере, бессмертную славу, если мы научимся правильно жить (О душевном покое, 16. 4). С определенностью утверждать мы можем одно: Сенека прекрасно знал «ортодоксальное» стоическое учение о судьбе души после смерти и не всегда ему следовал. Повлияло ли на него чтение Посидония или уроки Сотиона и Секстия, или же ход собственных размышлений привел к отступлению от традиционного стоического учения о «боге внутри нас» (что вполне вероятно), — так или иначе, в этом пункте Сенека, пожалуй, дальше всего отходит от стоиков.
3. Проблема самоубийства
Самоубийство — одна из важнейших тем в сочинениях Сенеки. Его собственная смерть напомнила современникам смерть Сократа (Сенека сам помнил о ней и «заранее припас яд, которым умерщвляются осужденные уголовным судом афинян». — Тацит, Анналы, 15. 64). И Тацит, и Дион соглашаются, что самоубийство Сенеки было вынужденным: его смерти потребовал Нерон. Все стоики придерживались мнения, что мудрец вправе, а иногда и обязан покончить с собой; впрочем, с технической точки зрения, жизнь и смерть — вещи «безразличные». «Сократ научит тебя умереть, когда будет необходимо, Зенон, — раньше, чем будет необходимо», — говорит Сенека (Письма, 104. 21). Он, вероятно, имеет в виду, что человек может научиться определять, когда пришел его час, иногда по самым незначительным признакам. В каких случаях мудрец решает умереть? Либо когда обстоятельства мешают ему «жить согласно с природой», либо когда этого требуют его обязательства по отношению к родине или близким, либо когда продолжение жизни требует нарушения морального закона. В этом Сенека вполне верен ортодоксальной стоической теории, которая допускает рационально мотивированный уход из жизни.
Необычно другое: самоубийство Сенека всегда связывает со свободой. Не то, чтобы самоубийство «было для Сенеки привлекательно как акт утверждения своей свободной воли», чтобы оно помогало человеку самоутвердиться или «решить проблему свободы воли»[536]. В принципе, любое рациональное действие свободно. У Сенеки удивительно то, что он постоянно выделяет самоубийство как «путь к свободе». По всей видимости, жизнь при дворе Калигулы или Нерона была такова, что свободу (libertas) там сохранить было трудно — будь то свобода философа или римского аристократа. Одно это уже могло наводить на мысль, что свободу можно обрести лишь по ту сторону жизни. Тацит дает понять, что Сенека, умирая, размышлял о бессмертии души — в противоположность Петронию, который запретил друзьям говорить с ним перед смертью об этом предмете или приводить мнения философов (Анналы, 16. 19). Но все это для нас не важно: это причины, которые могли побудить Сенеку связывать самоубийство со свободой. Нас же интересует факт, на который следует обратить внимание и оценить его отношение к традиционному стоицизму.
Сенека соединяет самоубийство и свободу гораздо чаще и определеннее, чем кто-либо из известных нам стоиков: «Нам открыто множество ворот, ведущих на свободу» (Письма, 12. 10); «из самого жестокого рабства всегда открыт путь к свободе». «Оглянись: куда ни взглянешь, всюду конец твоим несчастьям. Видишь вон тот обрыв? С него спускаются к свободе. Видишь это море, эту речку, этот колодец? Там на дне сидит свобода. Видишь это дерево? Ничего, что оно полузасохшее, больное, невысокое: с каждого сука свисает свобода. Посмотри на свою глотку, шею, сердце: все это дороги, по которым можно убежать из рабства… Ты спрашиваешь, какой еще путь ведет к свободе? Да любая жила в твоем теле!» (О гневе, 3. 15).
Сенека, правда, допускает, что порой человек накладывает на себя руки по причинам иррациональным: тоска, скука, отвращение к жизни, жажда смерти (libido moriendi) (Письма, 24. 24). Такое недостойно мудреца и не может быть оправдано. Однако эта осторожная оговорка тонет во множестве пламенных панегириков самоубийству, которые есть почти в каждом сочинении Сенеки. Надо сказать, что он вообще чрезвычайно высоко ставил мученичество и, вероятно, рассматривал самоубийство как одну из его форм. Он превозносит тех, кто погиб от руки тирана, как Юлий Кан (О душевном покое, 14. 4—10); тех, кто смотрел в лицо мукам и угрозе смерти, как Луцилий (О природе, 4. пред. 15—17). Но самоубийство он ставит выше всех видов мученичества, ибо очень высоко ставит свободу. «Рациональное» самоубийство преодолевает страх смерти и тем самым освобождает от него. Сознательное, произвольное самоубийство в эпоху Сенеки — «стоическая форма мученичества par excellence»[537]. Трудно отрицать, что «риторические экскурсы Сенеки на тему самоубийства, весьма далекие от стоического философского дискурса, сообщают этому акту блеск славы и ореол святости»[538]. Многочисленные описания самоубийства Катона призваны вдохновить читателя на подражание. Однако я не вижу оснований видеть в этом отход от традиционного стоицизма. Гораздо более разумным кажется мне объяснение не из внутренних философских мотивов, а из жизненных обстоятельств: действительно, жизнь среди повседневных кошмаров тогдашнего императорского двора заставляла видеть в добровольной смерти сладостный луч надежды.
4. Идеальный царь и его clementia
«Вначале Римом правили цари» (Анналы, 1. 1): Тацит, как и Сенека, понимает, что с Августом в Рим вернулась царская власть, как бы она теперь ни называлась. В трактате Сенеки «О милости» (De clementia), адресованном Нерону вскоре после убийства Британника, rex и princeps — официальный и неофициальный титулы монарха — употребляются как синонимы (1. 4. 3; 1. 3. 3; 1. 7. 7; 1. 13. 1; 1. 6. 1). Такое словоупотребление важно как практически, так и теоретически. Сенека допускает, что император, или принцепс, — разновидность царя; следовательно, к нему имеют прямое отношение дискуссии о царской власти, которые велись политическими теоретиками эпохи эллинизма[539]. Активнее всего в них выступали стоики и неопифагорейцы[540]. В стоической школе проблемы царской власти обсуждались едва ли не с самого ее основания. Во всяком случае, начиная с Персея, ученика Зенона, написавшего трактат «О царской власти»[541].
Clementia — одна из постоянных характеристик идеального царя (принцепса, как чаще официально именует его Сенека). Clementia — разновидность справедливости, но с оттенком милости и человеколюбия; в этом понятии, как его трактует Сенека, слышен отзвук греческих φιλανθρωπία и ἐπιείκεια. Это добродетель абсолютного монарха, стоящего над законом. Это слово обозначает совсем не то, что аристотелевская «справедливость», действующая только в рамках закона и служащая осуществлению закона, который всегда прав. Впрочем, и у Сенеки Нерон, или описанный в «De clementia» идеальный правитель, не вполне свободен от установленной им системы законов. Одной из задач трактата «De clementia» было убедить читателей, что новое царствование обеспечит законность и стабильность, и легальная структура не будет каждый раз перекраиваться в угоду потребностям политического момента.
Clementia, восхваляемая Сенекой, выше просто справедливости; это добродетель не обычного смертного, а мудреца. Сенека предлагает юному Нерону явно завышенные стандарты; он призывает его исполнить то, что под силу только мудрецу. В этой связи можно упрекнуть Сенеку в необоснованном политическом оптимизме, но его верность основам стоической теории безупречна. Мудрец выше закона, поскольку не только исполняет справедливые законы, но и следует clementia — ἐπιείκεια, т. е. проявляет милость там, где справедливость это допускает. Однако он не ставит себя выше закона как те, кто позволяет себе не исполнять его. Стоический царь не отчитывается перед людьми, но он всецело ответствен перед разумом[542].
Сенека заявляет, что намерен отразить все нападки критиков стоицизма, по словам которых политическая философия стоиков чересчур ригористична и негибка, чтобы служить хорошим практическим руководством для правителей (De clementia, 2. 5. 2 слл.). К этому заявлению стоит отнестись серьезно. Конечно, на первом месте для Сенеки в этом трактате стоят задачи политические, но и теоретические не намного менее важны: опровергнуть критиков стоической философии, обосновать практическую применимость стоицизма. Строгий стоицизм требует от правителя ни на волос не уклоняться от справедливости, невзирая на лица и обстоятельства. Милость, или гибкость — clementia — ἐπιείκεια, — для него может быть подозрительна: это проявление слабости духа, недопустимой мягкости, побуждающей по-разному карать за одинаковые проступки. Сенека обращается к Аристотелю, чтобы доказать, что ἐπιείκεια (снисходительность) не только совместима, но и неотделима от подлинной справедливости[543]. Ибо исторически сложившееся законодательство того или иного государства не может во всем соответствовать истинным законам вселенского разума. Такие несоответствия и призвана устранять clementia мудрого правителя. В Риме именно принципат открыл возможность правления такого идеального царя-мудреца. Вероятно, многие римские стоики, как Тразея Пет, не соглашались с подобной точкой зрения, полагая политическое учение стоицизма неразрывно связанным с республиканскими идеалами. Их нельзя назвать «стоической оппозицией» режиму: в это время никто уже не выступал против принципата как такового. И Сенека, по всей видимости, обращается в своем трактате также и к ним, надеясь разъяснить смысл подлинно стоической позиции в отношении идеального правителя.
5. Рабство и сексуальная этика
Мы уже отмечали, что Сенека отступает от традиционно стоических взглядов в психологии и в основном остается верен им в политической теории. Остается рассмотреть его отношение к таким институциям, как рабство и взаимоотношения полов. Что до рабства, то здесь взгляды Сенеки скорее необычны, чем неортодоксальны (см. в особенности Письмо 47 и О благодеяниях, 3. 18—28). Стоическая точка зрения, которую, по-видимому, разделяли все члены школы, состояла в том, что нет рабов по природе. Сам Хрисипп определял раба как «пожизненного наемника» (О благодеяниях, 3. 22. 1). В основе таких воззрений лежит тезис о том, что «ведущее начало», т. е. разум каждого человека, есть часть божества. Однако Сенека делает из этого общего положения необычные и не вполне ортодоксальные выводы. Он не осуждает рабство как институт: с точки зрения добра и зла свобода и рабство сами по себе вещи безразличные. Но обращаться с рабами надо без грубости и жестокости: не потому, что это невыгодно; не потому, что нужно жалеть рабов ради них самих; а потому, что проявление жестокости вредит нравственности хозяина. В отличие от Сенеки большинство стоиков, включая главных наставников школы, не делали никаких логических выводов из общего положения о том, что все люди «по природе» свободны. Например, Гекатон, ученик Панэтия, полагал, что раб в принципе не может заслужить благодарности хозяина. Гекатон, замечает Сенека, не понимает, что такое ius humanum. Важен не статус человека, а его дух (animus) (О благодеяниях, 3. 18. 2)[544]. Статус не входит в то, что составляет подлинного «цельного человека». Его лучшая часть всегда свободна от рабства (О благодеяниях, 3. 20. 1). Сенека знает, что подобные взгляды — ортодоксальная импликация стоицизма — весьма непопулярны (Письмо 47. 13). Нормальный человек считает раба обычной собственностью, и притом самой ничтожной (quasi nequam mancipia) (О гневе, 3. 19. 2).
Сенека отлично сознает, что институт рабства потворствует таким порокам, как похоть и гнев, развращая его современников (Письмо 47. 19—20). Почему же он мирится с ним? Ведь он не пытается доказать, что рабство необходимо для экономической стабильности. Скорее, оно просто неизбежно и потому безразлично. Многие отмечали, что Сенека говорит о рабах куда более гуманно, чем его современники, включая стоиков; отчего же он не выступает против рабства как такового? Причин может быть две: интеллектуальная нечестность или верность ортодоксальному стоицизму. Либо он считал рабство неприемлемым социальным злом, но не говорил об этом прямо и ничего не предпринимал для борьбы с ним; либо, как стоик, верил, что оно, в конечном счете, неважно. Сам Сенека, по-видимому, считал свою позицию и строго ортодоксальной, и последовательной. Он осуждает гладиаторские бои, в особенности «прямое человекоубийство» (mera homicidia) в амфитеатре (Письмо 7. 3), потому что человек — «вещь священная» (res sacra) (Письмо 95. 33). Но это не обязательно предполагает осуждение общественного института: скорее здесь осуждение отдельных людей, поступающих дурно. Со «священной вещью» нужно обращаться достойно — так проповедует Сенека, и сам практикует это в собственной жизни. Но не ради «вещи», а ради себя самого: жестокость и зверство не причиняют вреда жертве, если жертва — хороший человек. Они причиняют вред только дурному человеку, будь он жертвой или ее мучителем.
От рабов к женщинам — маленький шажок для античности. В Греции и Риме взгляд на женщину может служить отличным тестом для философской школы: насколько общие философские принципы претворяются в конкретные моральные требования. Сенека и в этом вопросе исходит из чисто стоической точки зрения, следуя учению Зенона и Хрисиппа, совершенно вразрез с римской традицией[545]. Конечно, и для него «женственный» остается ругательным эпитетом; но таково было обычное словоупотребление. Однако он объясняет Марции, что в способности к добродетели женщины равны мужчинам. Природа не обделила их нравственными дарованиями. (К Марции, 16. 1). Он выражает сожаление, что его матери Гельвии удалось получить лишь поверхностное философское образование (К Гельвии, 17. 4). Поскольку женщины равны мужчинам как моральные существа, их следует наделить той же моральной ответственностью и теми же правами, что и мужчин. Если от жены требуют целомудрия, то надо требовать его и от мужа (Письмо 94. 26). Эти взгляды, по-видимому, разделял и современник Сенеки Музоний и другие стоики. Я думаю, это составляло часть учения уже Зенона и Хрисиппа, хотя отсутствие источников не позволяет нам это доказать.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в каких областях Сенека отходит от традиционного стоицизма и в каких остается ему верен? Мы должны признать его более или менее ортодоксальным (а в некоторых отношениях даже сверхортодоксальным) стоиком в большинстве политических вопросов (женщины, рабы, цари и их clementia). Его порой странные высказывания о самоубийстве следует объяснять скорее состоянием общества, в котором он жил, чем теоретическими расхождениями со стоической философией. Он, несомненно, неортодоксален в своем учении о душе как даймоне. Возможно, именно дуализм, к которому он тяготел в понимании души и тела, повлиял на его учение о действии — об инстинктивном поведении и его моральном контексте.
Неортодоксальные взгляды Сенека обнаруживает главным образом в психологии. Можно предположить, что нравственные проблемы, борьба добра и зла, добродетели и порока, занимали его гораздо больше, чем чисто теоретический вопрос о единстве человеческой личности, который так волновал Хрисиппа. Этим можно объяснить противоречия в теоретическом понимании души, которые Сенека оставляет без внимания. На него могли оказать влияние как книги Посидония, так и неопифагорейские учения и учителя. Насколько велико было их влияние, сказать трудно. Известно, что пифагорейцы во времена Сенеки занимались в основном метафизической спекуляцией, происхождением и устройством мироздания в целом, а не психологией и этикой — хотя неверно было бы утверждать, что они вовсе не интересовались подобными вопросами. Весьма вероятно, что главным источником платонизма Сенеки был платоник Евдор, хотя утверждать это невозможно за недостатком текстов. Мы знаем достоверно лишь то, что Евдор, ссылаясь на Сократа, Платона и Пифагора, учил об «уподоблении богу» как цели человеческой жизни. Соединял ли он это учение с пифагорейской теорией души как даймона, мы не знаем.
Однако против довольно распространенной точки зрения, согласно которой очевидные отступления от ортодоксального стоицизма в психологии Сенеки обусловлены прямым влиянием Секстия или Евдора, свидетельствует тот факт, что Сенека совершенно не заботился выработкой последовательного учения о судьбе души после смерти. Когда Тацит сообщает, что Сенека перед смертью просил почитать себе вслух о бессмертии души (это скорее всего был платоновский «Федон» или аристотелевский «Евдем»), это не означает, что Сенека сознательно и последовательно причислил себя к пифагорейско-платоновской традиции в данном вопросе. Я, взвесив все за и против, предлагаю вернуться к воззрениям старых исследователей: там, где Сенека отступает от ортодоксального стоицизма, следует искать влияние прежде всего стоика Посидония; но отступления от традиций школы у Сенеки часто менее значительны, чем у самого Посидония. В действительности Сенека продолжал традиции основателей школы, находя верные духу Стои решения даже там, где сами эти традиции вступали между собой в конфликт. Определение, данное Сенеке Квинтилианом: непоследовательный философ, — совершенно несправедливо.
Сенека разделяет стоическую любовь к проповеди: «Я могу воевать с пороками без конца, без предела», — сообщает он в письме (51. 13). Порой он восхищается киником Деметрием, на которого в Риме тогда была мода, но в целом не одобряет киническую философию с ее требованием бесстрастия — «апатии», противопоставляя ей истинную добродетель ортодоксального стоицизма (Письма 5. 1; 9. 3). С Сенекой традиционное стоическое мышление впервые подчинило себе чисто «римский» менталитет, несмотря на то что Сенека занимал столь высокое положение в римском обществе и, казалось бы, обязан был разделять исконно римские ценности. Поленц был неправ, заявляя, что Сенека «романизировал» традиционный стоицизм и кардинально изменил его, введя в философию категорию воли[546]. Если можно выделить у Сенеки некий главный путеводный принцип, то это стоическое переосмысление старого пифагорейского призыва «Следуй богу», ибо в повиновении богу заключается свобода (О блаженной жизни, 15. 6—7). Философы, и даже стоики, могут заблуждаться, как заблуждался Посидоний, думавший, будто философия изобрела все науки и ремесла (Письмо 90. 7). Но они, по крайней мере, пытаются выбраться на верный путь, и надежда человечества только в них. Сенека, как позднее и Марк Аврелий, признает, что жизнь — всего лишь точка в вечности[547]; тем не менее он не теряет оптимизма относительно исхода великой нравственной борьбы между добром и злом. Иногда именно этот оптимизм заставляет его изменять ортодоксальным стоическим взглядам: возможность стать истинным мудрецом представляется практичному римлянину более достижимой в реальной жизни, чем кому-либо из его греческих учителей-теоретиков[548]. Быть духовным наставником молодежи — дело полезное и небезнадежное; на него не стоит жалеть времени и сил, ибо можно достичь действительного успеха. Нет недостатка в живых образцах наивысшей добродетели и худших пороков; именно изобилие исторических примеров и живых характеров сообщает сочинениям Сенеки несравненную убедительную силу. Изнеженный Меценат, бешеный Калигула, извращенец Квадра, садист Поллион — ходячие иллюстрации порока; Катон и Сократ — олицетворение добродетели, мудрецы в стоическом понимании, достигшие совершенства; такими же Сенека рисует — в перспективе — и тех, кому адресует свои наставления. Сенека никогда не устает объяснять кипящие кругом него эпические схватки — нравственные и физические — в духе стоической теории и выводить из них стоическую мораль. Conscientia (совесть) — девиз на его знамени. Если он больше внимания уделяет пороку, а не добродетели, его трудно за это упрекнуть. Ибо в его жизни, как и в его трагедиях, сцену переполняли преступники и преступные безумцы: «Ecce iam facies scelus volens sciensque» (Геракл, 1300). Но несмотря на все, он настаивает, что победа возможна. Надо лишь победить в себе страсти, и прежде всего страх смерти. Ибо если бояться всего, что может случиться, то незачем и жить (Письмо 13. 12).
1
В кв. скобках — нумерация согласно лёбовскому изданию 1928 г. (Прим. ред. ancientrome.ru).
2
В книге — ошибочно § 4. (Прим. ред. ancientrome.ru).
3
к берегу — в тексте «к берегам», исправлено по смыслу. В оригинале слова «берег» нет: Quid, si ullam undam superesse mireris, quae superueniat tot fluctibus fractis? — Удивись, пожалуй, тому, что хоть одна волна осталась, которая набегает, когда столько волн разбилось. (Прим. ред. сайта ancientrome.ru).
4
§§ 6—9 по какой-то причине пропущены. — Прим. ред. Сайта ancientrome.ru
5
Статья известного исследователя позднеантичной философии и стоицизма в частности. Перевод выполнен по изданию: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 36. 3. Berlin; New York, 1987. P. 1993—2012.