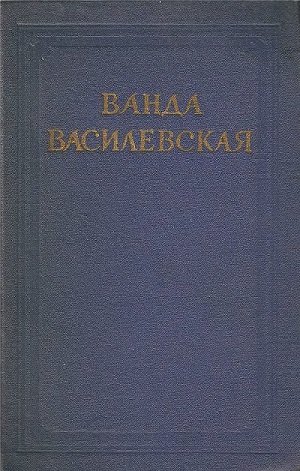
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ
1
Творчество каждого писателя обусловлено современной ему общественной жизнью и отношением автора к ее решающим вопросам. Но не во все времена и далеко не у всех писателей связь между историческими событиями, свидетелями которых они являются, мировоззрениями, которыми они руководятся, и художественными произведениями, которые они создают, бывает одинаково тесной и явной.
Ванда Василевская принадлежит к тем людям, чья жизнь с очень раннего возраста наполнена переживаниями, которые порождены общественными событиями. Развитие ее личности было по преимуществу развитием общественного сознания и активности. И Ванда Василевская принадлежит к тем писателям, чья литературная деятельность, так же как вся жизнь, полностью отдана одной общественной цели.
Поэтому, для того чтобы глубже и вернее понять подлинный характер произведений Василевской и ее писательский путь, надо их рассматривать в неразрывной связи с теми историческими событиями и с той политической борьбой, которые дали содержание ее творчеству и определили его особенности.
Ванда Львовна Василевская родилась 21 января 1905 года в Кракове, в той части польских земель, которые до 1918 года входили в состав Австро-Венгрии. Именно сюда — в Краковскую область, населенную поляками, и в западноукраинские районы Галиции где большая часть помещиков и городских жителей были поляки, — перенесли с начала XX века свои центры польские политические партии из Царства Польского, находившегося под властью Российской империи. В Австро-Венгрии поляки имели ряд льгот по сравнению с Царством Польским и особенно с Познанью и другими областями, захваченными Пруссией. Здесь было разрешено легальное существование польских политических партий; в школах и университетах допускалось обучение на родном языке. Эти льготы были даны, конечно, с определенным политическим расчетом. Поощряя польский национализм, не скупясь на посулы, императорские австрийские власти разжигали рознь между поляками и украинцами, душили польскими руками украинское революционное и национально-освободительное движение. Ввиду приближающейся войны против России Австро-Венгрия стремилась приобрести в польских политических деятелях союзников, которые помогли бы в будущем включить в империю Габсбургов земли Царства Польского.
Среди националистических польских политических партий, поддерживавших планы австрийского империализма и пользовавшихся в свою очередь его помощью, влиятельнее других было правое крыло «Польской партии социалистов» (ППС), называвшее себя «революционной фракцией». К ней принадлежал отец Ванды Львовны Василевской — Леон (Лев) Василевский, передовой, по тем временам, этнограф, более известный как политический деятель.
Что представляла собой эта «социалистическая» партия? Этот вопрос имеет некоторое значение для характеристики среды, окружавшей Ванду Василевскую в детстве.
О реакционной сущности ППС Ленин писал: «…партия польских социалистов, люди, среди которых мы больше всего наблюдаем того, что наблюдаем у эсеров, а именно — революционных фраз, хвастовства, патриотизма, шовинизма, буффонады и пустышки самой полнейшей»[1]. ППС, — писал Ленин, — это партия, «безусловно враждебная большевизму, похожая на нашу партию правых меньшевиков и эсеров»[2]. «В постановке ближайших целей программа ППС не революционна. В своих конечных целях она не социалистична»[3].
Так же, как партии меньшевиков и эсеров, ППС посредством мнимореволюционных фраз, демагогии привлекала к себе многочисленных сторонников из мелкой буржуазии, «рабочей аристократии» и влияла на политически отсталую часть пролетариата. Подобно другим партиям, принадлежащим к мелкобуржуазному «социализму», ППС была заражена буржуазным национализмом и отравляла им сознание польских трудовых масс, спекулируя на их протесте против национального гнета.
Когда начинается пора открытых классовых боев между пролетариатом и буржуазией, такие «социалисты», как предсказывал еще Энгельс, оказываются злейшими врагами социализма; нередко именно из них выдвигаются кандидаты в диктаторы контрреволюции бонапартистского образца — савинковы, керенские. Так случилось и с правым крылом ППС, выдвинувшим Пилсудского. С 1920 года эта партия, проводя политику польского империализма, стала быстро фашизироваться. Но Леон Василевский вскоре навсегда отошел от политической деятельности.
Подлинная сущность политических взглядов отца не могла быть понята восьмилетней девочкой. Из бесед в родительском доме, который иногда посещали краковские рабочие, она запомнила то, что говорилось о несправедливости существующего строя по отношению к рабочим и крестьянам, о том, что этот строй должен быть разрушен и заменен другим, лучшим. Из родной семьи девочка вынесла также непримиримую вражду к клерикализму.
Впечатления от разговоров, которые вели между собой взрослые, дополнялись непосредственными жизненными впечатлениями. Дом, где жили Василевские, находился в рабочем предместье Кракова. Это был единственный большой, многоквартирный дом среди ветхих лачуг. Ванда дружила с детишками из рабочих семей и вместе с ними ненавидела богатого «каменичника» (владельца доходного дома).
Годы первой мировой войны Ванда прожила в деревне, куда приехала с бабушкой на лето.
Война вызвала большое оживление среди националистически настроенной польской интеллигенции. Буржуазные и мелкобуржуазные политики лелеяли надежду, что ослабление царской России и ряд дипломатических комбинаций между Германией и Австро-Венгрией (в помощь которой Пилсудский в то время формировал свои «легионы») приведут к созданию независимого государства на территории польских областей Российской империи. Родители Ванды вступили в один из «легионов» Пилсудского и на несколько лет покинули своих детей.
Маленькая Ванда с бабушкой остались в голодной деревне, подверженной всем военным бедствиям, и делили с крестьянами все невзгоды. Девочка быстро свыклась с деревенским бытом и работала в поле с крестьянскими детьми.
Здесь, в деревне, впервые возникла непосредственная близость Ванды к крестьянству. Многие из детских впечатлений запомнились навсегда и, когда Василевская стала писательницей, сообщили ее произведениям реалистическую подлинность.
Конечно, в то время лишь небольшая часть даже взрослых людей деревни умела делать из жизненного опыта правильные политические выводы. Еще меньше был на это способен десятилетний ребенок. Но уже тогда несомненно подготовлялась почва для того, чтобы Ванда Василевская сделала эти выводы в дальнейшем.
В те же годы — во время первой мировой войны — у Ванды Василевской было поколеблено внушенное ей с детства представление о русских, как о врагах польского народа. В уме девочки возникли первые, смутные еще, мысли о том, что трудящиеся всех наций одинаково заслуживают любви и сочувствия.
«Через некоторое время приехали пленные, — вспоминает Василевская, — одетые в серые шинели. Они говорили на чужом и все же таком похожем на польский языке. Их присылали на работу в оставшуюся без рабочих рук деревню.
Первая группа русских появилась неподалеку от нас. Мы, дети, тотчас же толпой понеслись туда. В сарае молотили рожь. Равномерно взлетали цепы, в воздухе стояла золотая пыль, и зерна летели брызгами, как мелкий острый дождь. Мы толпились в воротах, сначала испуганные и робкие. Они заговаривали с нами, улыбались. Потом, когда они отдыхали, оказалось, что русские охотно играют с детьми. Я вспоминаю их как сквозь туман: высокие, светловолосые, с добрыми широкими лицами. И это были те „москали“, о которых мы читали в книгах, о которых вечно слышали, как о врагах! И вот оказалось, что русский — это не только царский чиновник, полицмейстер, начальник тюрьмы; кроме них, существует и крестьянин, похожий на тех крестьян, которых я знала.
С этих пор мы часто навещали пленных, работавших у соседей. Мы слушали, как они поют песни, и научились разговаривать с ними на каком-то ломаном языке, помогая себе жестами. И в деревне стало как-то грустно, когда молотьба окончилась» пленных угнали в другую деревню.
Я встретилась с ними еще раз зимой 1917 года. На кладбище хоронили какого-то австрийского военного, хоронили со всеми воинскими почестями, с залпом из винтовок, с венками и лентами. А по другую сторону кладбищенской аллеи закапывали умерших пленных. В широкий и длинный ров, метров пятнадцать в длину, клали один на другой, один вплотную к другому гробы из белого некрашеного дерева.
Пронизывающая печаль охватила меня тогда на краю этой общей могильной ямы, в которую клали безвестных людей. Они уходили в землю без имени, без опознавательного знака. Я подумала: каково должно быть оставшимся — их матерям, детям, женам, которые живут в далекой, далекой стране и никогда не узнают, где кончил жизнь и где лежит самый дорогой, самый близкий человек.
Братская могила русских солдат, пожалуй, острее всего заставила меня почувствовать ужас войны.
Мысли и настроения, зародившиеся еще в отроческие годы, впоследствии развились в убеждения и были выражены Василевской в ее произведениях.
В конце 1917 года вернулись из «легионов» родители Василевской и забрали «одичавшую», говорившую на крестьянское диалекте двенадцатилетнюю девочку в город, чтобы дать ей образование. В Кракове она поступила в гимназию.
2
В 1918 году возникло независимое польское государство. Это могло осуществиться лишь благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, происшедшей в России, благодаря провозглашенному советским правительством праву наций на самоопределение. Освобождение поляков от национального гнета, прекращение вековой распри, установление прочной дружбы между русским и польским народами отвечало интересам польских народных масс, интересам всемирной борьбы за социализм, которую возглавила советская страна. Однако кайзеровская Германия, оккупировавшая в то время почти все польские города и области, сразу же попыталась подчинить себе вновь возникшее польское государство и превратить его независимость в чисто номинальную. Немецким захватчикам всячески помогали в этом закабалении Польши польские «национальные» политики из буржуазно-помещичьей верхушки, соединявшие шовинистическую ненависть к революционному русскому народу с космополитическим угодничеством перед любой империалистической державой.
Германо-австрийская авантюра сорвалась. Под влиянием русской революции в германской и австрийской армиях и тылах поднялось революционное и антивоенное движение, покончившее с монархиями Гогенцоллернов и Габсбургов.
Для Польши, освобожденной от оккупации, вновь сложились чрезвычайно благоприятные условия: она могла стать подлинно демократическим и независимым государством. Во многих местах Польши возникли советы рабочих депутатов, они начали контролировать производство, все настойчивее выдвигая социалистические требования, и выражали желание, чтобы Польша завязала тесные дружественные отношения с Советской Россией. Все решительнее выступали против пережитков феодализма польские крестьяне, тяготевшие к союзу с рабочим классом. Коренная демократизация Польши стала в порядок дня.
Но польские националисты стремились помешать демократизации страны любой ценой. Обманув народ, они удержали власть в руках буржуазии. Чтобы упрочить ее господство, они втянули Польшу в игру международных империалистических интересов, козыряя в этой игре своей враждой к Советской республике, своей готовностью исполнить любую роль в экономической, политической и военной агрессии против советского народа.
Такая позиция по отношению к великому демократическому соседу повела польское государство к потере самостоятельности. Польша оказалась пешкой в руках империалистических держав. Принадлежность к лагерю реакции в международных делах означала полную ликвидацию первоначальных зачатков демократии внутри страны. В Польше, несмотря на сопротивление демократических элементов, нарастала реакция.
В первый период (1918–1919) имущие классы Польши, испуганные русской революцией, шли на некоторые уступки народу. Однако, используя политическую незрелость масс, опираясь на предательство правых «социалистов» и лжекрестьянской партии, руководимой кулаками, буржуазия и помещики вскоре начали контрнаступление. Из года в год они усиливали полицейские репрессии. В тридцатые годы установилась фашизированная система «санации» («оздоровления»), проводимая военно-диктаторской кликой «главы государства» Пилсудского и «полковничьим правительством» его преемника Рыдз-Смиглы.
Еще в деревне Ванда Василевская видела, что есть поляки и поляки, что между ними существуют глубокие различия и столь же глубокие противоречия. Жизнь в Кракове все больше подтверждала истинность этих первых наблюдений.
С годами Василевская убедилась, что так называемая «независимость» ничего существенного в Польше не изменила. По-прежнему рабочие изнывали от непосильного труда на фабрикантов, по-прежнему крестьяне работали не на своих, а на помещичьих полях. По-прежнему в стране царили гнет и произвол, и по-прежнему жандармы бросали в тюрьмы сотни и тысячи лучших людей из народа. После «освобождения» уже нельзя было скрыть, что это делают польские помещики, польские фабриканты; вся разница была в том, что их теперь защищали не чужеземные, а польские жандармы. Но это означало, что гнет и унижение, голод и страдания трудящихся нельзя было объяснить одним лишь «господством чужеземных захватчиков».
Ванда Василевская поняла это, и тем самым был определен ее дальнейший путь. Поиски ответа на вопрос, как избавить родной народ от угнетения, вели ее к мировоззрению пролетариата, к участию в пролетарской борьбе за социализм.
Поступив в 1923 году в Краковский университет, Ванда Василевская сразу же встала в ряды революционного студенчества. Эта лучшая часть студенчества оставалась во все время существования буржуазно-помещичьей Польши в меньшинстве, но и она была в смысле партийной принадлежности весьма неопределенной. Очень многие молодые люди, не мирившиеся с реакцией, не могли решить, к какой партии им надо примкнуть, и либо состояли формально в какой-нибудь из псевдосоциалистических партий, действуя тем не менее вразрез с политикой предательского руководства этих партий, либо оставались беспартийными, но участвовали в антиправительственных выступлениях, примыкая к движению народных масс.
Коммунистов в Краковском университете было тогда очень мало. Однако группа передовой беспартийной молодежи в решительные моменты действовала заодно с коммунистами.
В ноябре 1923 года Василевская пережила революционное восстание в Кракове. Город три дня находился в руках пролетариата. Это восстание было подавлено. Лидеры ППС сорвали всеобщую забастовку, посредством которой рабочие всей Польши хотели поддержать восставших краковских товарищей. Мало того, «социалистические» лидеры убедили повстанцев, твердя им об их мнимом одиночестве, сложить оружие. Коммунистическая партия была еще политически и организационно настолько слабой, что не сумела возглавить революционный краковский пролетариат.
Ванда Василевская запомнила вопиющую об отмщении гибель товарищей, но она запомнила также — и это была память о величайшем счастье — те дни, когда народ взял оружие в свои руки. Василевская навсегда запомнила рабочих, захватывающих броневики, солдат, братающихся с рабочими, отказывающихся стрелять в своих отцов и братьев. Она поняла, к чему приводит благодушие народа, одержавшего лишь непрочную победу. И это подготовило Ванду Василевскую к единственно правильному выводу, который делает всякий подлинный и сознательный пролетарский революционер из неудавшегося по тем или иным причинам восстания: надо стремиться к новому восстанию, лучше организованному, надо готовить к нему народ, разъясняя ему постоянно и неутомимо, кто его враг, поднимая против этого врага ярость народа, разрушая предрассудки, привитые господствующими классами. Как ни старалась польская реакция «оградить» молодежь от влияния советского примера, как ни пресекала всякую попытку изложить в печати революционные марксистские взгляды и познакомить читателя с опытом мирового пролетарского движения, — великие истины учения Ленина — Сталина проникали в среду передовых рабочих и интеллигентов и все больше определяли их отношение к событиям польской и международной жизни.
Еще студенткой Ванда Василевская начала выступать в рабочих кружках, на митингах и собраниях. Она оказалась оратором пламенным, убежденным и убеждающим. Без нее не обходились в Кракове ни одно революционное выступление рабочих или интеллигенции, ни одна кампания протеста. Одновременно с агитационной деятельностью Василевская вела большую организационную работу. Она налаживала связь с рабочими, заключенными в тюрьмы, собирала средства на поддержку забастовок, устраивала столовые, где получали питание дети забастовщиков. Постоянно бывая на квартирах рабочих, стоя в бесконечных очередях к тюрьмам, чтобы получить свидание или что-нибудь переслать товарищам, Ванда Василевская окунулась не только в повседневную жизнь, но, главное, в политическую и экономическую борьбу рабочего класса.
В гимназические годы Ванда Василевская писала лирические стихи. Она снова взялась за перо, когда это понадобилось для политической цели.
Однажды муж Ванды, Мариан Богатко, рабочий-каменщик, один из наиболее передовых деятелей рабочего Кракова[4], не смог найти в книгах ничего подходящего для художественной части первомайского вечера. В течение нескольких дней Ванда Львовна очень удачно сочинила текст для всей программы.
Этот случай заставил Василевскую вспомнить о своих литературных способностях. Как-то, возвратясь из очереди у тюремных ворот, она попробовала описать то, что видела. Ее рассказ был напечатан в варшавской газете (1933). За ним последовали другие. Материалом служили впечатления, взятые из жизни городской бедноты. Рассказ об ужасных условиях жизни в ночлежном доме («Гостиница „Под вошью“») вызвал шум в левой печати и скандал в городском самоуправлении; условия в ночлежке были улучшены. И Ванда Василевская убедилась, что литература может быть хорошим средством для того, чтобы разоблачать несправедливость буржуазного строя.
С этих пор Василевская уже не бросала пера. Она писала о нравах в конторе по найму прислуги, об ухищрениях, к которым прибегают крупные хозяева-промышленники и торговцы, а также мелкие хозяйчики, эксплуатируя рабочих. На материале этих полурепортерских рассказов и очерков возникла впоследствии первая книга Ванды Василевской «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации.
«Облик дня» долго пролежал у издателя, не решавшегося выпустить книгу. Затем, когда она была напечатана, ее конфисковала цензура, и снова прошло много месяцев, прежде чем испещренная белыми пятнами вырезанных цензором мест повесть Василевской — в 1934 году — появилась перед читателем.
«Облик дня» наделал еще больше шума, чем рассказы Василевской. Книгой зачитывались в рабочих библиотеках. На нее яростно накинулась реакционная печать.
Литературный талант Василевской всегда был для нее средством выражения глубокой ненависти к рабству, которое несет с собой капитализм, ко всему, что мешает жить трудящемуся человечеству. О каждом жизненном факте Василевская рассказывает с правдивостью неподкупного свидетеля и страстью агитатора. В ее произведениях отражены все стороны жизни трудящихся, они воспроизводят картины общественной жизни конкретно, в непосредственно изображаемых образах. Горькая правда этих картин возбуждала в читателе из трудящихся классов горячий протест, стремление доискаться до истинных причин народного бедствия.
Польских читателей первой книги Василевской поразило не только яркое революционное содержание книги, но и ее резкое отличие от общего направления тогдашней польской литературы. Искусственно оторванные, отгороженные от русской литературы, демократические традиции которой положительно сказывались в Польше до первой мировой войны, многие польские писатели подчинились влиянию декадентской литературы Запада, рабски копировали любую реакционную «заграничную новинку» и все дальше уходили от реализма и народности польских классиков. Именно поэтому произведения Василевской — реалистические, полные глубокой веры в человека и его созидательные возможности — были настоящим откровением.
Книга молодой писательницы вызвала бурю в польской прессе. Из множества газет, выходящих в Польше, не было ни одной, которая не откликнулась бы на это произведение. Более умные из числа реакционеров пытались затушевать смысл книги разговорами о «романтических преувеличениях», свойственных молодости; другие, более яростные и менее хитрые, разглядев в Василевской своего непримиримого врага, прямо взывали к властям, требуя запрета и наказания. Демократическая пресса, подтверждая свою оценку реальными фактами, доказывала, что Ванда Василевская отражает жизнь капиталистической Польши глубоко и правдиво.
Полемика по самым важным вопросам польской действительности, возникшая между реакционной и демократической прессой, является одним из лучших доказательств того, каким взрывчатым материалом была книга. Не удивительно, что она завоевала любовь польских рабочих.
По книге В. Василевской название «Облик дня» получил революционный польский журнал, выходивший в 1935–1936 годах. Официально этот журнал считался «литературно-общественным еженедельником» без определенного политического направления, фактически же это был орган международной организации помощи борцам революции (МОПР). Он занимался главным образом положением политических заключенных в польских тюрьмах. Сотрудниками журнала были выдающиеся деятели Польши и других стран, Ромен Роллан в том числе.
Не случайно такой журнал был назван «Облик дня». Эта повесть — крупнейший из актов революционной борьбы, совершенный Вандой Василевской в первый период ее общественной деятельности.
3
Пока создавалась книга «Облик дня», пока она проходила по цензурным мытарствам, Ванда Василевская продолжала углублять свое знание действительности. И все больше в ней росло стремление отдать все свои силы тому движению, которое ставит себе цель — изменить революционным путем существующий строй.
В 1927 году Василевская окончила филологический факультет, а в 1928 году, после годичной практики в школе, сдала экзамен на звание педагога. С тех пор Василевская учительствовала. Несколько лет она скиталась с места на место: отовсюду ее увольняли за свободолюбие, за то, что она не мирилась с мертвящим духом буржуазной школы, прививала своим ученикам смелость мысли и сознание человеческого достоинства.
После шестинедельной забастовки краковских каменщиков, увенчавшейся победой, весь город знал Ванду Василевскую и по фамилии и в лицо как активную участницу «беспорядков». Работа в какой бы то ни было школе сделалась окончательно невозможной. Василевской пришлось стать в бесконечную очередь безработных у окошечка табачной фабрики. Но и здесь наниматель, едва взглянув на ее лицо, холодно сказал: «Нам нужны рабочие, а не агитаторы».
Мариан Богатко, вожак многих стачек и демонстраций, тоже нигде не мог устроиться на работу. Им пришлось покинуть Краков и ехать куда-нибудь, где их революционная деятельность еще не была так хорошо известна властям и предпринимателям.
Осенью 1934 года Василевская с мужем и маленькой дочерью уехала в Варшаву. Здесь она получила работу в профессиональном союзе польских учителей.
Сперва Василевская работала корректором в «Пломыке» («Огоньке»), еженедельном детском журнале, издаваемом союзом, затем стала одним из редакторов. Этот журнал распространялся в большем тираже, чем все другие издания того времени. Он считался школьным учебным пособием, нередко заменял учебники, которых выпускали слишком мало и продавали по слишком дорогой цене. Таким образом, «Пломык» проникал даже в самые отдаленные углы Польши, а в деревне часто служил единственным чтением.
В условиях жесткой польской цензуры, в условиях все большей урезки и без того скудных конституционных прав, в условиях проводимой сверху фашизации профсоюзов «Пломык» был асе же одним из очагов сопротивления правительственной реакции и лживой пропаганде буржуазной печати.
Пользуясь тем, что журнал должен был, следуя школьному учебному плану, поместить сведения о России (ее истории, географии и т. д.), редакция «Пломыка» включила в один из очередных номеров две статьи о советской жизни.
Газета «Курьер Цодзенны» напала на этот выпуск «Пломыка» в статье, озаглавленной «Безумие или преступление?» Редакция «Пломыка» подала жалобу в суд, требуя, чтобы «Курьер» был привлечен к ответственности за клевету. Разумеется, процесс велся так, что «Пломык» превратился из истца в обвиняемого. «Курьер Цодзенны» был оправдан, а «Пломык» (официально рекомендованный как школьное пособие) назван «коммунистическим» журналом, «органом Коминтерна». На этом процессе неоднократно упоминалась фамилия Василевской, — именно на нее указывали представители газеты и их покровители из состава суда как на «главного агента Коминтерна».
Ванда Василевская и в Варшаве не ограничилась литературной работой. Снова начались выступления на рабочих собраниях и митингах, активное участие в кампаниях протеста против правительственного террора. Василевская возобновила и свою публицистическую работу, — известен ряд ее выступлений в печати с разоблачением реакционных правительственных мероприятий. Ее статьи того времени, требующие амнистии для политических заключенных, протестующие против антисемитизма, против зверств и произвола польских помещиков и фабрикантов, — это пламенные призывы к освобождению от буржуазно-помещичьего господства.
Революционная деятельность Василевской была разносторонней. Однако она не заставила писательницу отказаться от художественного творчества. Наоборот, чем больше борьба захватывала Василевскую, тем сильнее она ощущала потребность в творчестве.
Еще до переезда в Варшаву, работая в монастырской школе под Краковом, Василевская познакомилась в одной из монастырских экономий со старым молчаливым батраком. Она видела его жилье — угол в сыром и прогнившем бараке, по сравнению с которым монастырский хлев казался хоромами. Писательница знала, что немало таких батраков когда-то были участниками борьбы с царизмом, сидели в тюрьмах, подвергались избиениям.
Польские националисты уверяли, что только иноземцы мешают полякам создать у себя справедливый строй, справедливую «крестьянскую родину». Доверие к этой агитации побудило не одного батрака всю жизнь самоотверженно драться за независимую Польшу так, как его учили националистические «революционеры». Но власть во вновь возникшем государстве захватили, при поддержке Антанты, «отечественные» капиталисты и помещики. Борец за польскую независимость остался батраком. Изверившись во всем, он весь день, от зари до зари, работал, подгоняемый кнутом «своего» польского управляющего, а вечером падал без сил на охапку гнилой соломы в гнилом барачном углу.
Судьба этого человека была обычной судьбой труженика, обездоленного правящими классами «свободной» Польши. Мы уже говорили, как рано, из наблюдений жизни, В. Василевская убедилась в том, что создать собственную родину трудящиеся могут не вместе с господствующими классами, а только в борьбе против них. Это убеждение подтверждалось из года в год новыми фактами.
Господствующие классы и правительство Польши становились все более открыто реакционными. Их лакейство перед империалистами Англии, Франции, США, Германии, их политика наглых провокаций по отношению к Советскому Союзу доказывали, что буржуазия и помещики ни в малой мере не дорожат национальными, общенародными интересами, что для них «родина» это лишь право на эксплуатацию своих соотечественников. Ради того, чтобы упрочить за собой это право, они, действуя в духе империалистического космополитизма, готовы были мириться с владычеством любых иноземцев, позволять международным капиталистическим трестам грабить польское национальное достояние. Искренний патриотизм жил только в трудовых классах. Но им враждебно было «отечество», созданное паразитарными слоями для угнетения масс.
Эта мысль, зародившаяся еще в первые годы юности, обогащенная и углубленная годами общественной борьбы и сознательного изучения народной жизни, легла в основу второй книги В. Василевской, вышедшей в 1935 году, — романа «Родина». Сюжет этой книги, напоминающий печальную судьбу монастырского батрака, построен на истории жизни батрака Кржисяка.
«Родина» рассказывает о жизни, в которой все подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика. Даже городской бедноте, изображенной в «Облике дня», жилось легче, во всяком случае разнообразнее, чем батракам, обреченным на отупляющий труд, привычное унижение, жалкое прозябание. Кажется, человек, замученный подневольной работой и неизбывной нуждой, не может думать ни о чем, кроме куска хлеба, не может иметь надежды большей, чем надежда поесть досыта и накормить семью. Но в Яне Кржисяке, его жене Магде, в других батраках теплится мечта о настоящей человеческой жизни, о свободном труде, в среде этих батраков растет готовность бороться за «крестьянскую правду». Василевская показывает, как искали эти люди путей к правде. Но она показывает также, как польская буржуазия, польские помещики использовали в своих интересах не только физическую силу батраков, их мускулы и их кровь, но даже и эту мечту о справедливой «крестьянской родине».
Агитаторы якобы революционных, а на деле националистических партий внушали Кржисяку, что для того, чтобы добиться лучшей жизни, нужно восстать против русских. Эти слова запали в душу Кржисяку. Кого из русских видел этот польский батрак? Стражников, чиновников, карательные отряды. Ему и в голову не приходит, что против того же врага борются в первых рядах русские рабочие и крестьяне, русские революционеры, требующие свободы для трудящихся всех наций. Ему и в голову не приходит, что, когда Польша обособится от России, польская полиция, польские суды будут послушным орудием в руках польских господ, угнетающих польский народ. И он весь отдается борьбе, безгранично доверяя своим политическим руководителям. Его бросали в тюрьмы, избивали, но он, не колеблясь, оставался верен избранному пути.
Разразилась империалистическая война 1914 года. Кржисяку кажется, что все идет отлично. Помещики сбежали, укрылись куда-то от войны; в руках крестьян и батраков достаточно оружия, — есть чем отстаивать свои права! Теперь только и осталось установить свою, польскую власть, отдать землю крестьянам, фабрики — рабочим, зажить по справедливости, как мечталось долгие годы. Он продолжает после ухода русских войск борьбу и против австро-германских войск, которые заняли польские территории и взяли под охрану помещичью собственность.
Но вот в 1918 году пришла, наконец, долгожданная «польская родина». Новые польские власти издали манифест, составленный польскими лжесоциалистами, соглашателями. В этом манифесте, обращенном к трудовым людям, говорилось, что земля будет принадлежать тем, кто ее обрабатывает своими руками; нужно только «сохранять спокойствие», «соблюдать порядок» и «терпеливо ждать»; соберется сейм, он справедливо поделит землю.
Крестьяне поверили манифесту. Измученные, изголодавшиеся, окончательно обнищавшие за время войны, они поставили караулы вокруг брошенных помещичьих усадеб, вокруг лесов, вокруг складов обмундирования и продовольствия, чтобы никто не смел тронуть ни зернышка, ни деревца. Крестьяне ждали справедливого, законного раздела. Но дождались они того, что в усадьбы, сохраненные крестьянами в неприкосновенности, вернулись помещики. Крестьянскую милицию разоружили те самые легионеры, которым крестьяне, рискуя своей жизнью, помогали во время войны. Батраков снова погнали на помещичьи поля, восстановили для них восемнадцатичасовой рабочий день, еще больше урезали жалкий батрацкий заработок. Малейшая попытка к сопротивлению подавлялась польской нагайкой и польским штыком. Так совершили свое кровавое предательство господствующие классы.
Эту трагедию обманутого народа Ванда Василевская изобразила с силой и прямотой правдивого, мужественного художника.
Конец романа почти дословно повторяет начало. Кржисяк пашет все ту же полоску заболоченной, гнилой, не родящей земли, а дочь его идет от бараков к пруду, чтобы промыть картофельную шелуху в плетеной корзинке. Все так же стоят на старом месте помещичья усадьба и костел, все так же врастают в землю бараки с подслеповатыми окнами, заткнутыми тряпицами. Все осталось по-прежнему. Даже стало хуже. Тридцать лет тому назад вот так же шла к пруду с корзинкой картофельной шелухи жена Кржисяка Магда, но она мыла тогда эту шелуху для поросенка. Теперь дочь Кржисяка, Зоська, печет из этой шелухи лепешки для них самих. Жизнь стала хуже и, главное, безнадежнее.
Так думает Кржисяк, бредя рядом со своим сыном за плугом и медленно, тяжело вспоминая точно такой же трудовой день, прожитый тридцать лет тому назад. И вдруг он видит, что вдали показалась помещица, та самая, ради которой истратили всю свою жизнь Кржисяк, Магда и сотни других людей. И Кржисяк вдруг понял, что изменилось, когда глянул «в горящие гневом, полные ненависти глаза подрастающего сына».
Этими словами о ненависти, горящей в глазах нового поколения, которое уже не даст себя обмануть, заканчивает Ванда Василевская книгу о панской, помещичьей «родине» — книгу, разящую буржуазный национализм, направляющую гнев польского народа против его настоящих классовых врагов. Эта книга, разоблачающая вековой обман, на котором держалась феодально-буржуазная власть, книга, срывающая одежды «патриотизма», в которые рядились космополитические дельцы, навлекла на автора бурю ненависти и потоки клеветы. Эта ненависть все усиливалась, — Ванда Василевская не только писала книги, она вела энергичную, непримиримую и целеустремленную революционную работу.
Через два года после того, как вышел роман «Родина», фашизирующееся польское правительство предприняло поход против профессиональных союзов. Начать оно решило с профессионального союза учителей, как наименее классово сознательного, идейно наиболее слабого и в то же время более обеспеченного материально. Однако административный произвол неожиданно наткнулся на сильный отпор. Компартии Польши удалось преодолеть косность, боязливость и разъединенность работников учительского профсоюза. Руководясь советами и указаниями коммунистов, большую работу по революционизированию профсоюза учителей провела Ванда Василевская.
Правительственный комиссар, присланный в правление союза, был встречен забастовкой трехсот работников аппарата. Поддерживая правление своего союза, учителя всей Польши объявили однодневную забастовку протеста, затем начали кампанию, существеннейшей частью которой был бойкот распоряжений комиссара. Забастовка работников правления продолжалась три месяца и привела к победе. Правительственный комиссар был устранен.
Значение этого эпизода велико: ведь это была первая забастовка польских интеллигентов, которые никогда раньше не решались на открытые коллективные выступления. Кроме того, в Польше было широко известно, что нападение на союз учителей было первым «мероприятием» правительственного плана, конечной целью которого был разгром всего профсоюзного движения в стране. Следующим объектом для нападения намечен был союз железнодорожников — второй после учительского по количеству членов и по находящимся в его распоряжении материальным средствам. Поражение, нанесенное учителями правительству, удержало его от выполнения этого плана, и профессиональные союзы уцелели.
После учительской забастовки для Ванды Василевской закрылись пути к школьной работе уже не в одном городе, а во всей Польше. Но с тем большей страстью занялась она политической деятельностью.
Среди политической работы, казалось бы не оставляющей ни одной свободной минуты для художественного труда, написана была третья книга Василевской — «Земля в ярме» (1938).
4
Ванда Василевская словно задалась целью всесторонне показать беспросветную жизнь трудящихся в фашизирующейся, помещичье-капиталистической Польше, показать враждебность этого государства всему народу. «Облик дня» изобразил нечеловеческие условия жизни и борьбу городской бедноты и рабочего класса. «Родина» рисовала жизнь и борьбу польского батрачества. В романе «Земля в ярме» на первый план выступает уже не сельскохозяйственный пролетариат, а польское крестьянство. И чрезвычайно характерно, что конец этого романа, вышедшего в свет после первой учительской забастовки, рисует переход учителя-интеллигента на сторону крестьян в момент «усмирения» их войсками. Страницы, изображающие этот переход, — одни из самых сильных в книге.
Польша была охвачена в то время огнем крестьянских «бунтов». Правда, эти восстания были потоплены в крови. Но кровь трудящихся не падает на землю бесплодно, если она пролита в борьбе за освобождение.
Набат, прозвучавший со страниц романа «Земля в ярме», раздался по всей стране. Книга Ванды Василевской убеждала читателя в том, что борьба делает людей из народа героями, что в народе скрыты гигантские силы, что настанет, не может не настать иная жизнь, жизнь свободного труда, единственно достойная человека.
Ванда Василевская писала об этом в те годы, когда положение польского крестьянина продолжало катастрофически ухудшаться. Никогда оно не было таким ужасным, как под конец двадцатилетнего господства польских помещиков и капиталистов. В романе «Родина» батраки, не имеющие своего угла, завидуют сравнительно независимой и относительно сытой жизни крестьян, «самостоятельных хозяев», имеющих свою избу, свой клочок земли. Но и этих «хозяев» фашизирующееся государство довело до невообразимой нищеты, до неслыханного рабства. Теперь уже они завидуют батракам.
О разорении крестьян и рассказывает «Земля в ярме».
Лес — помещичий, вода — помещичья, пахотная земля, луга — все, кроме воздуха, помещичье; а надо есть, надо чем-то прикрыть свое тело и, главное, надо платить налоги, налоги и налоги. И крестьянин мечется, безумея от голода и безнадежности, всюду натыкаясь на запреты, на ограды, на вооруженных помещичьих лесников, объездчиков, приказчиков.
Крестьяне живут, как в осажденной крепости, изо всех сил сопротивляясь попыткам графа, крупнейшего земельного магната, согнать их с отцовских участков.
Крестьянам некуда идти от родной земли, и они цепляются за эту бесплодную землю. Они не видят впереди избавления от голода, от непосильного труда и невежества; но именно та упорная борьба, которую они ведут против помещика, помогает им оставаться людьми. Эта совместная борьба объединяет их, заставляет помогать друг другу. Когда грозит гибель всему крестьянскому «обществу», тогда забываются все взаимные несправедливости и обиды, порожденные невыносимо тяжелой жизнью. Эта способность в тяжелую для всех минуту беззаветно жертвовать личными интересами и самой жизнью ради общего дела — наиболее яркая черта людей грудящихся классов. Как ни стараются господствующие классы довести их до одичания, они остаются настоящими людьми. В них вся надежда человечества.
Каждое новое произведение Василевской все сильнее будило революционные чувства в народе, воспитывало в народных массах понимание их подлинных классовых интересов. Это была литература, которая помогала также лучшим людям демократической интеллигенции освобождаться от нерешительности и переходить на сторону народа.
Следующая книга — «Пламя на болотах» — была написана в 1939 году. В это время Василевская со дня на день ожидала ареста. За ней числилось несколько судебных процессов: за забастовку учителей, за журнал «Облик дня», за участие в съезде работников культуры во Львове и другие. Нечего и говорить, что новая книга Василевской вряд ли увидела бы свет.
Миллионы западных украинцев и белоруссов ждала неволя еще более тяжкая, чем в довоенной Польше. Лучшим людям из польского народа грозила смерть в застенках гестапо. Но произошли события, изменившие судьбу и книги и автора: сентябрьские события 1939 года смели реакционное государство. В памятный день 17 сентября 1939 года советское правительство объявило, что оно берет под свою защиту украинцев и белоруссов, раньше насильно оторванных польским милитаристским государством от своих братьев, а теперь с головой выданных гитлеровцам. Советская граница, по образному выражению Ванды Василевской, «сама двинулась навстречу» людям, которые из последних сил пробивались на восток, к стране социализма, к великой Родине всех трудящихся.
Среди этих людей была и Ванда Василевская. Она была встречена в нашей стране с любовью и уважением. Она убедилась, что здесь ее знали, что голос ее доходил сюда через глухую стену, которой польская реакция пыталась отгородить народы Польши от советских народов.
Василевскую встретили как борца за свободу, как народного писателя. Вскоре она была выбрана в Верховный Совет СССР от города Львова, возвращенного Советской Украине, С первого же дня она почувствовала себя в социалистической стране дома, на родной земле.
С новым воодушевлением она возобновила свою публицистическую деятельность. Статьи Василевской, печатавшиеся в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда», «Коммунист», «Советская Украина», в львовских газетах и журналах, посвященные первым впечатлениям о стране социализма, о ее людях, — это прекрасные образцы партийной коммунистической публицистики.
Через несколько недель после прибытия в Советский Союз Василевская, с помощью друзей, получила из Варшавы рукопись своего последнего романа, написанного в довоенной Польше — «Пламя на болотах». Это книга о колонизаторской политике польского государства, о жизни украинских крестьян Полесья под классовым и национальным гнетом польско-фашистской государственности.
Напомним, что роман «Пламя на болотах» написан был в то время, когда господствовавшая в Польше реакционная клика считала свою власть устойчивой, когда польским шовинизмом, насажденным сверху, были заражены и широкие круги мелкой буржуазии и немалая часть рабочих. Это было время жестокого подавления в Польше революционно-освободительных движений всех национальных меньшинств. И вот в это-то время польская писательница выступила в защиту угнетаемых украинцев. Она показала их непрестанную борьбу за мякинный хлеб и в то же время непрестанную, упорную, непримиримую борьбу с польскими властями, представленными на местах бесконтрольными полицейскими постами, осадниками, разбросанными по всем деревням, борьбу с налетавшими на деревню капиталистическими хищниками, которые, пользуясь невежеством крестьян, вырывали у них изо рта последний кусок.
Но автор рассказывает не только о страданиях народа. Со страниц книги веет духом подлинной народной жизни, глубоко серьезной и поэтической жизни, обещающей яркий расцвет культуры в будущем, когда народ станет свободным. И люди, борющиеся за будущую свободу, украинские крестьяне-коммунисты, воспринимаются как лучшие люди, как надежда всего народа.
С осени 1939 года Василевская, как мы уже говорили, поселилась во Львове, жители которого выбрали ее депутатом в Верховный Совет СССР.
Первые месяцы установления советского строя в освобожденных областях Западной Украины требовали от каждого передового человека огромной организаторской и пропагандистской работы.
Ванде Василевской приходилось ежедневно принимать десятки людей, обращавшихся к ней за советом и за помощью. Она выступала на многолюдных митингах, писала статьи, разъясняя принципы советской власти и преимущества советского строя. Она организовала во Львове польский литературно-художественный и политический журнал «Нове виднокренги» («Новые горизонты»), который собрал вокруг себя польскую интеллигенцию и сыграл большую роль в ее объединении на платформе активного сотрудничества с советской властью.
В 1940 году Ванда Василевская была принята в члены коммунистической партии.
В этот год, заполненный в первую очередь политической деятельностью, Василевская выкраивала считанные часы для работы над вторым томом трилогии «Песнь над водами», начатой романом «Пламя на болотах». Вторая часть — «Звезды в озере» — была закончена вчерне к середине мая 1941 года. Но писательница так и не успела подготовить роман к печати.
Страшная опасность нависла над советской страной. Ванда Василевская встретила эту опасность, как верная дочь отечества всех трудящихся Советского Союза, с непоколебимо твердой верой в победу правого дела, с яростной ненавистью к врагу и готовностью отдать свою жизнь в борьбе против него. Львов она покинула с последними воинскими частями, уже под пулеметным обстрелом гитлеровцев. Рукопись романа «Звезды в озере» осталась в городе, захваченном фашистами. Один из друзей писательницы закопал эту рукопись в подвале, вложив ее в коробку от противогаза. Книга увидела свет лишь четыре года спустя, когда Львов был освобожден Советской Армией, — в 1944 году.
Почти всю войну Ванда Василевская провела в рядах Советской Армии в качестве политработника и агитатора. Ей было присвоено звание полкового комиссара, впоследствии — полковника Советской Армии. Она всегда была там, где шли тяжелые бои, и она выступала с пламенными речами, поднимая дух бойцов. Ее рассказы и очерки, печатавшиеся в «Правде», «Известиях» и «Красной звезде», хорошо памятны советскому читателю. В сотнях тысяч экземпляров издавались для армии ее очерки «Ненависть»[5], «В хате»[6], «Женщина с винтовкой»[7] и другие.
Писала она также статьи для польского журнала «Нове виднокренги», возобновленного в начале 1942 года в городе Куйбышеве и реорганизованного в боевой политический двухнедельник. Этот журнал сыграл немалую роль в демократическом воспитании поляков, которые оказались во время войны на территории Советского Союза. Содействуя подъему национального самосознания своих польских читателей, журнал помог им понять, что освобождение Польши и подлинная независимость возможны лишь при поддержке могучего Советского Союза, что судьба их родины зависит от исхода героической борьбы, которую ведет против фашистской Германии советский народ.
В июле 1942 года Ванде Василевской предоставлен был месячный отпуск для работы над повестью «Радуга», посвященной борьбе украинского крестьянства с немецкими оккупантами. Эта повесть печаталась осенью 1942 года в газете «Известия»[8] и в журнале «Октябрь»[9]. Вышедшая в том же году отдельной книгой, она выдержала двенадцать изданий на русском языке, была переведена на украинский, белорусский и многие другие языки народов СССР, а также на ряд иностранных языков. Большой успех имела эта книга в Китае и в других странах, борющихся за свое национальное освобождение. В оккупированной немцами Дании «Радуга» была напечатана на шапирографе и распространялась нелегально.
В 1943 году автору «Радуги» была присуждена Сталинская премия первой степени. Повесть проникнута непреодолимой верой в стойкость народа, в его преданность советской родине, верой в силу и непобедимость советского строя. Эта вера была вынесена писательницей из тяжелого опыта первого года войны. Правда, в повести есть литературные недостатки: меньшая, чем в предыдущих произведениях Василевской, художественная конкретность человеческих образов, меньшая разработанность деталей, местами натуралистически-грубоватых. Но эти недостатки отступают перед тем несомненным фактом, что «Радуга» сыграла роль идейного оружия в Отечественной войне советского народа, нашла десятки миллионов читателей. Это книга, заряженная большой энергией. Пламенное негодование, ненависть к захватчикам, стремление зажечь читателя этой ненавистью, внушить ему любовь к свободе и презрение к смерти водили пером писательницы.
Живя до войны в панской Польше, Ванда Василевская увидела высокое человеческое достоинство и способность к бесконечному развитию даже в том народе, который был еще погружен в темноту и отупляющее унижение. В советском социалистическом обществе народ предстал перед писательницей очищенным от грязи капитализма, свободным, могучим, великим. И Василевская показала в своей повести неизмеримое превосходство свободного народа, вдохновляемого социалистическим гуманизмом, над империалистическими захватчиками с их человеконенавистнической моралью.
«Все за одного, один за всех», — гласит старая народная истина, выработанная веками борьбы с угнетателями. В социалистическом советском строе чувство народного единства освещено и усилено коммунистическим мировоззрением, которым овладели массы.
Один из наиболее ярких эпизодов повести «Радуга» — смерть десятилетнего мальчика, застреленного гитлеровцами, когда он пробирался ползком к сараю, чтобы просунуть ломоть хлеба партизанке, схваченной врагами. Малючиха, мать убитого, рискуя жизнью, унесла его и тайно похоронила. Согнав крестьян на собрание, фашисты через старосту объявляют, что расстреляют пятерых схваченных тут же заложников, если в течение трех дней не будут обнаружены «преступники», похитившие тело ребенка. Малючиха, ужаснувшаяся тому, что из-за ее поступка расстреляют ни в чем не повинных людей, идет к жене одного из заложников, колхозника Грохача, и говорит ей, что решила «сказать ихнему капитану, что и как. Пускай отпустит людей». — «Слабая в тебе совесть, не крестьянская, не бабья! — кричит на нее Грохачиха. — То-то старосте радость! Стоило пятерых запереть, сразу и нашелся, кого они искали. А знаешь ты, дура этакая, что из этого выйдет? Дорогу им хочешь показать, средство указать против нас? Сегодня ты явишься, а завтра, если что случится, они не пять, а пятьдесят человек заберут!»
Отношение Грохачихи к жизни своей и чужой выше того, которое проявляет обезумевшая от горя мать убитого ребенка, стремящаяся пожертвовать собой, чтобы спасти пятерых односельчан. Главное, — объясняет ей Грохачиха, — не она, Малючиха, не пятеро заложников (в числе которых находится и муж Грохачихи), не их семья. Главное — победа над фашизмом. Эта мораль сотен тысяч героев из «простых» людей является залогом победы советского народа над любым врагом. Народ, выработавший такую мораль, непобедим.
Мысль о невозможности нейтралитета в революционной борьбе современной демократии против империалистической реакции была выражена уже в романе «Пламя на болотах». Еще более резко она выражена в «Радуге» в образе одного из персонажей повести — пустой и легкомысленной, черство-эгоистической девчонки, бывшей жены советского офицера, Пуси.
Своей обреченности не понимает лишь сама Пуся. Она не понимает, что ей как человеку пришел конец в тот день, когда честные советские люди выбросили ее из своей среды.
Обреченными и ничтожными выступают фашисты в изображении Ванды Василевской. Жалкими, ничтожными, обреченными являются все «кузнецы своего счастья», все, кто не с народом в его борьбе. И в ореоле героизма и непобедимости встает в повести народ, великий советский народ, отстаивающий свое право строить достойную человека жизнь на земле, отстаивающий право на достойную жизнь для всех народов.
5
После краткого отпуска, во время которого была написана «Радуга», Ванда Василевская вернулась к агитационно-пропагандистской деятельности в действующей армии.
В начале 1943 года Василевская была отозвана с фронта в Москву. Здесь ее ждала новая важная задача.
По соглашению с так называемым польским «лондонским правительством» Сикорского советское правительство разрешило полякам, находящимся на территории СССР, сформировать свою национальную армию. Эта польская армия была обучена и вооружена Советским Союзом. Однако возглавлявший ее реакционер, генерал Андерс, поддержанный подобранной им «санационной» кликой, отказался выступить на фронт для войны с фашистами. Он потребовал эвакуации армии в Иран — в зону, занятую английскими войсками. То, что этот предательский акт Андерса был заранее обдуман, выдала клеветническая кампания, организованная против Советского Союза польской эмигрантской прессой в Лондоне, повторявшей грязные измышления гитлеровской пропаганды. Англия и США предоставляли для этой антисоветской пропаганды свои радиостанции и печать. Сговор международных реакционных клик стал очевидным. Советское правительство было вынуждено в начале 1943 года порвать отношения с польским эмигрантским «правительством» в Лондоне.
Однако сотни тысяч польских граждан, оставшихся к 1941 году на территории Советского Союза, были настроены совершенно иначе, чем Андерс и его «санационная» офицерская группа. Возмущенные их предательством, польские патриоты пожелали участвовать в освободительной борьбе советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
Надо было помочь практическому осуществлению порыва, охватившего поляков, направить его в единое русло.
В захваченной гитлеровцами Польше к этому времени уже шла борьба против оккупантов. На территории Польши сражались партизаны. Самая сознательная, передовая их часть — главным образом рабочие и батраки — отказалась повиноваться директивам реакционного «лондонского правительства». Эти польские партизаны организовали в подполье Польскую рабочую партию с коммунистической программой.
В старых партиях — «Социалистической» и «Крестьянской» — произошел раскол; значительная часть членов этих партий отказалась признавать своими руководителями политиканов, перешедших на сторону империалистической буржуазии, и создала новые, демократические партийные центры, полные решимости честно бороться в союзе с Советской Армией, а после победы над германским фашизмом обновить социальный строй Польши.
Польские патриоты, находившиеся в Советском Союзе, стремились помочь своим братьям в освобождении родины из-под фашистского гнета. Ванда Василевская возглавила инициативную группу польских патриотов, решивших организоваться в союз.
Закончив первые организационные мероприятия, в частности начав издавать еженедельную газету под названием «Вольна Польска» («Свободная Польша»), Союз польских патриотов обратился к советским властям с просьбой разрешить формирование демократической польской армии на территории СССР.
Советское правительство пошло навстречу желанию поляков.
К лету 1943 года состоялся Первый съезд Союза польских патриотов в СССР, и тогда же началось формирование и обучение Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Осенью 1943 года дивизия выступила на фронт, где под деревней Ленино, Смоленской области, была введена в бой. Затем дивизия была развернута в корпус и, наконец, в Первую польскую армию, которая летом 1944 года плечо к плечу с советскими войсками 1-го Украинского фронта вступила на территорию Польши, участвуя в освобождении ее от фашистских захватчиков.
Заслуги Ванды Василевской перед демократической Польшей, идущей к социализму, были высоко оценены народным польским правительством. За свою деятельность во время войны Василевская награждена многими орденами Польской народно-демократической республики.
После освобождения Украины она поселилась в Киеве, продолжая там свою общественную и литературную работу. Советская страна еще до войны стала новой родиной Ванды Василевской.
В 1944 году был напечатан новый роман, озаглавленный «Просто любовь».
В этом романе изображена молодая советская женщина, интеллигентка. Она считала своего мужа погибшим, неутешно горевала о нем. Неожиданно он вернулся, изуродованный почти до неузнаваемости. Прежней любви к нему Мария не почувствовала. Лишь через несколько месяцев она поняла, что ей дано великое счастье по сравнению с другими женщинами, потерявшими навеки своих любимых и близких.
В том же романе Василевская изображает другую, более цельную и непосредственную женскую натуру. Это молодая колхозница Оля. Она обладает умным и любящим сердцем, благодаря которому близкий ей человек был спасен от тяжкой душевной трагедии, пережитой мужем Марии, капитаном Григорием Черновым.
Мария, работающая медицинской сестрой, присутствует при первой встрече Оли с любимым ею человеком, страшно искалеченным войной, превратившимся в инвалида. Оля приехала, чтобы взять его к себе в деревню. И Мария чувствует зависть и стыд перед девушкой, сумевшей сохранить свое чувство.
Оля как будто эпизодическая фигура в романе «Просто любовь». Однако именно в этом образе воплощено то здоровое, естественное чувство любви и нежности, которое всякая по-настоящему любящая женщина испытывает по отношению к близкому человеку, когда он изувечен, да еще в боях с врагами.
Книга вызвала много споров. Со стороны некоторых читателей и критиков были даже нарекания на автора: не все поняли, что, изображая переживания Марии, Василевская показывает, что они вызваны неправильным, эгоистическим отношением к любимому мужу, некоторой ее нравственной и душевной неполноценностью, а взгляды писательницы выражает не Мария, а Ольга.
Читательская среда отозвалась на книгу многочисленными откликами. Тысячи благодарностей, сотни исповедей (реже — возражений) были направлены Василевской. Читательские отклики доказывали, насколько жизненна тема, взятая писательницей. И эта жизненность темы в значительной степени искупила недостатки книги.
Одним из основных недостатков, на наш взгляд, является неудачное психологическое обоснование нравственного перелома, который вдруг совершается в Марии. Мария почувствовала счастье от того, что ее муж остался в живых, лишь когда случайно столкнулась с другой женщиной, узнавшей, что ее близкий человек умер в госпитале, ни словом о ней не упомянув, ничего не передав ей. Мария чувствует здесь какую-то неразрешенную драму, которая оборвалась трагически, непоправимо. Выбежав из кабинета главврача, все еще слыша страшный крик незнакомой женщины: «Умер, умер, умер!» — Мария вдруг ощущает, что ее-то Гриша жив, что она вот сейчас может побежать домой, обнять мужа, устранить все обиды и недоразумения, восстановить прежние любовь и дружбу.
Но ведь прежде чем к ней привезли искалеченного Григория, Мария получила ошибочное извещение о его гибели. Она думала, что ее муж умер. Она сама пережила всю боль и муку непоправимой утраты. И все-таки, увидев мужа живым, но изуродованным, она ощутила не радость, не прилив нежности к воскресшему для нее человеку, а страх перед его увечьем. Почему же на Марию сильнее повлияло зрелище чужой трагедии, чем ее собственные мучения и мучения мужа? Эта странность не мотивирована.
Есть в книге и другие недостатки. Местами излишне детализированы психологические переживания Марии. Они постоянно переходят в сухой, рассудочный самоанализ, который убивает непосредственность, живущую во всякой здоровой натуре. В самой фактуре книги, в художественном ее стиле рассудочность Марии чувствуется иногда больше, чем цельная человечность Оли.
Однако недостатки эти в значительной степени искупаются мужественной постановкой вопроса о преодолении той трагедии, которая могла возникнуть в те времена во многих семьях.
Мы уже писали о том, что в 1944 году, после освобождения Львова советскими войсками, друзья Василевской отрыли закопанную в подвале рукопись второй части трилогии «Песнь над водами» — роман «Звезды в озере», продолжающий рассказ о судьбе героев романа «Пламя на болотах».
Повествование начинается картинами панического отступления польской армии в сентябре 1939 года и развала реакционного, гнилого государства.
Ванда Василевская с замечательной чуткостью отразила в своей трилогии поляризацию сил социалистического прогресса, с одной стороны, и сил империалистической реакции — с другой.
Мы видим в ее романах окончательное вырождение польских защитников буржуазной власти. Начав со лживых обещаний охранять национальную независимость и демократические права, они шли от одного гнусного обмана к другому, еще более гнусному, от одного жестокого насилия к другому, еще более жестокому. Прислуживаясь иностранным капиталистическим кликам, они дошли до утраты всякой связи с Польшей, с польской нацией, до полной утраты личного достоинства и скатились в конце концов к роли наемных шпионов и убийц в походе международной империалистической реакции против демократии всех стран.
Мы видим также в произведениях Василевской рост того поколения трудящейся молодежи, к которому принадлежал сын батрака из романа «Родина». Тогда он был еще подростком. Тогда впервые в его глазах зажглась неугасимая ненависть к угнетателям. В романе «Звезды в озере» такие люди, как он, уже выросли в сознательных борцов за социализм, r строителей новой, социалистической жизни на освобожденной земле.
Мы видим в этом романе также путь, пройденный «высокими светловолосыми москалями», людьми «с широкими добрыми лицами»— русскими крестьянами в серых шинелях, солдатами войны 1914–1917 годов, о которых мы читали в воспоминаниях Василевской и в «Родине». Они и их младшие братья, их сыновья стали советскими рабочими, колхозниками, воинами, сознательными строителями социализма, освободителями других угнетенных народов, их защитниками от фашизма.
К началу романа «Звезды в озере» западноукраинскую деревню, известную нам по «Пламени на болотах», бомбят с воздуха гитлеровские агрессоры, ее жгут и расстреливают из пулеметов отступающие польские «защитники». Но спасение близко: Советская Армия входит на освобожденную ею территорию. И здесь, — как везде, куда приходят советские люди, — немедленно возникает новая жизнь.
Ванда Василевская описывает раздел помещичьей земля между малоземельными и безземельными крестьянами, раздачу помещичьего скота и инвентаря. Пришедшие сюда советские люди делают это, как простое практическое мероприятие, как нечто само собой разумеющееся. Но именно с этих «простых» вещей и начинается выпрямление человека, рост нового человека.
Чрезвычайно характерно для Ванды Василевской, что и в романе «Звезды в озере», изображая счастье народа, освобожденного Советской Армией, писательница рисует трудности повседневной жизни. Именно вследствие этого так неопровержимо выступает справедливость и сила социализма, становящегося бытом народных масс. Так, правдивый, жизненный образ бедной многодетной вдовы Паручихи с большой убедительностью показывает, как происходит преодоление собственнических инстинктов у забитого труженика, никогда не имевшего раньше собственности, как появляется и крепнет у такого человека чувство общности его интересов с интересами других тружеников, зарождается социалистическое отношение к обществу и государству, к своим обязанностям перед ними.
Ванда Василевская отлично понимает роль передовых людей. Но, изображая развитие общества в целом, она берет не только лучших его представителей. Мы уже сказали о значении в романе «Звезды в озере» такого человеческого типа, как вдова Паручиха. Но и в среде более просвещенных и политически активных участников общественного развития Василевская изображает людей, в различной степени обладающих политической зрелостью и личными качествами, нужными для организатора масс, строителя коммунизма. Василевская стремится изобразить всю сложность созидательного труда партии, возглавляющей неслыханное по размаху массовое движение. Наряду с прекрасным коммунистом, тонко разбирающимся в новой обстановке, политруком Гончаром, пришедшим с Советской Армией в село и заложившим в нем основы советской власти, писательница показывает и молодого партийного работника Овсеенко, ошибки которого в значительной степени осложнили обстановку в селе и даже помогли подрывной деятельности врага.
Сознание, что всегда и во всем на первом месте должно быть общее народное дело, партийное дело, что этому главному должно быть подчинено все в твоей личной жизни, является существеннейшей стороной личности Гончара. Он чувствует себя прежде всего одним из рядовых бойцов многомиллионного отряда передовых людей, борющихся за коммунизм. Этого драгоценного качества не хватает Овсеенко.
Самоуверенность, схематизм мышления, неумение разобраться в людях, недостаточная устойчивость по отношению к соблазнам «хорошей жизни» — вот что подчеркивает Василевская в характере этого человека. В привычной и знакомой ему обстановке давнишних советских областей Овсеенко мог бы в течение ряда лет оставаться посредственным работником. Если бы он и не стал лучше, то во всяком случае рамки общественного и служебного контроля не дали бы ему упасть так низко. В сложной обстановке новых областей он запутался, стал бессознательным пособником вражеской пропаганды и всяческих кулацких комбинаций. В скором времени районный комитет партии вынужден был снять Овсеенко с работы.
Но так ли просто обстоит дело с Овсеенко? Конечно, нет. Он — человек невысоких личных качеств. И, однако, местный коммунист Петр, тяжко оскорбленный Овсеенко, отстраненный им от работы в родной деревне, испытывает к нему двойственное чувство.
Овсеенко пытается судить о жизни и определять свое поведение, руководствуясь лишь небольшим запасом лозунгов и правил, не понимая всего их глубокого смысла, не умея политически мыслить. Но в числе правил, усвоенных Овсеенко, есть ведь и такие непреложные истины: земля должна принадлежать тому, кто на ней трудится; человек имеет право на труд, на отдых, на человеческую жизнь, на учебу, на лечение, на обеспеченную старость. Овсеенко твердо знает, что в селе должны быть школа и детский сад, и, опираясь на советские законы, организует их энергично и быстро. Разумеется, грубые политические ошибки, которые делает Овсеенко, замедляют социалистическую перестройку сознания крестьян. Но тот же Овсеенко убежденно и уверенно проводит основные мероприятия, требуемые советским строем, а это само по себе пробуждает инициативу масс. В конце концов Овсеенко сам подготовляет крестьян к разоблачению его же ошибок.
Ежеминутно чувствуя и помня, от чего спас трудящегося человека построенный в нашей стране социализм, Василевская с особой силой воспринимает и отражает в своем творчестве его благодатное воздействие. Но вместе с тем Василевская с зоркостью, сообщенной ей многолетним опытом борьбы, видит и буржуазные пережитки в сознании, искривляющие пути некоторых советских людей. Писательница вскрывает перед своим читателем еще не преодоленные пережитки и этим служит верную службу победоносно развивающемуся коммунизму.
6
Великая Отечественная война советского народа против фашистской «оси» закончилась полным разгромом врага. Миллионы советских людей были демобилизованы из армии и возвратились к своим довоенным занятиям.
К началу 1946 года Ванда Василевская написала роман «Когда загорится свет».
Роман повествует о том, как тяжело раненный, демобилизованный еще до окончания войны советский инженер коммунист возвращается к семье, в родной город, только что освобожденный от фашистской оккупации, город разрушенный и неустроенный. Переход к «тыловой» жизни с бытовыми трудностями и неурядицами, мелкими повседневными заботами усиливает огорчение Алексея по поводу того, что ему, прошедшему горькие пути отступления в начале войны, не дано было вместе с товарищами двинуться в победоносный путь на Запад. Тоскуя по фронту, по боевым товарищам, он пренебрежительно относится ко всему, что происходит в мирном городе. Увлеченный фронтовым героизмом, фронтовой удалью, он не замечает героических тружеников тыла. Алексей пренебрежительно относится и к своей жене, к ее самоотверженному поведению, к ее упорному героическому труду, к ее домашним хлопотам, заботам о нем самом, о маленькой дочке. Надменная замкнутость приводит Алексея к тяжким недоразумениям в семейной жизни. И эта полуразрушенная личная жизнь лишь тогда становится человечной и полной, когда Алексей мало-помалу увлекается восстановлением взорванной гитлеровцами электростанции, когда он снова отдается общественной жизни.
Роман «Когда загорится свет» не принадлежит к числу творческих удач Василевской. Он был напечатан сперва в журнале «Звезда»[10], а затем отдельной книгой в издательстве «Московский рабочий», с указанием, что роман публикуется в сокращенном варианте. Однако сокращения, коснувшись очень важных жизненных наблюдений, сделанных писательницей в период конца войны в только что освобожденном от фашистской нечисти городе, лишили книгу значительной доли свойственного Василевской реализма. Как бы то ни было, основная мысль романа — та мысль, что только активное участие в социалистическом строительстве может излечить душевную травму, вызванную у некоторых людей войной, — оказалась неясно выраженной в художественной ткани.
В последующие годы Василевская написала несколько талантливых рассказов, посвященных проблемам социалистической морали, в том числе рассказ «Встреча» и много ярких публицистических очерков, среди которых наиболее значительные связаны с ее поездками за границу.
Ванда Василевская является членом Совета Всемирного конгресса сторонников мира и участвует в конгрессах и конференциях, выступает на многолюдных народных митингах на площадях, в рабочих клубах, на собраниях интеллигенции. Ее статьи и особенно художественные очерки об увиденном за рубежом нашей страны показывают, насколько обогатилось мировоззрение писательницы за время ее пребывания в Советском Союзе и в Коммунистической партии Советского Союза, насколько раздвинулись перед ее глазами политические горизонты. Ее прошлый общественный опыт, полученный в борьбе против капитализма, дополнился драгоценным опытом идеологической и практической борьбы за социализм, за торжество коммунизма. Острым политическим зрением отмечены ее заграничные очерки.
Книга очерков «В Париже и вне Парижа» (1949) показывает, как отразился «план Маршалла» на некогда независимой Франции, одной из богатейших стран буржуазной Европы. Нищета народа, голодающие крестьяне, голодающие шахтеры, на коленях ползущие по низким, лишенным притока воздуха угольным штрекам. Пьющие и жрущие, обирающие трудолюбивый французский народ американские аферисты, нагло разгуливающие по улицам Парижа, сидящие, развалясь, в креслах роскошных французских ресторанов, оскорбляющие национальное достоинство французов… Это понимают сейчас уже не только передовые люди Франции, но даже ограниченные французские буржуа средней руки.
Писательница противопоставляет энергию, с какой советские люди восстанавливают свои разрушенные города и села, пассивности значительной части французов, живущих под тяжким гнетом «плана Маршалла». Безнадежность, угроза новой войны, страх перед которой лишает людей охоты восстанавливать свои разрушенные дома, налаживать свою жизнь, — вот «благо», которое принесла американская «помощь» французам.
Факты, рассказанные Василевской, воочию показывают также, к чему приводит богатые, процветающие в прошлом страны буржуазной Европы зависимость от американских агрессоров, унаследовавших от бесноватого фюрера бредовые мечты о мировом господстве.
Яркая, сжатая, образная форма очерков делает эту мысль чрезвычайно доходчивой.
Однако Василевская не была бы тем революционным художником, писателем-борцом, каким мы знаем ее на всем протяжении ее творчества, если бы она увидела только это.
Да, говорит своими очерками Ванда Василевская, того Парижа, веселого блестящего Парижа, о котором вы знаете по произведениям классической литературы, этого Парижа уже нет. Но жив Париж рабочих блуз и рабочих предместий. Париж революции 1789 года. Париж, где строились баррикады Коммуны. Этот Париж, эта Франция громким голосом заявили о себе на стадионе Буффало, где накануне закрытия Всемирного конгресса сторонников мира состоялась гигантская манифестация в защиту мира, против войны. Эта Франция говорит о себе ежедневно — то устами докеров, отказывающихся разгружать американское вооружение для «грязной войны» во Вьетнаме, то устами героического моряка Анри Мартена, сына или внука одного из тех моряков, которые в годы антисоветской интервенции подняли восстание на кораблях французского флота на Черном море и перешли на сторону советской революции. Эта Франция — родина женщин и девушек, ложащихся на рельсы, чтобы задержать поезда с войсками и оружием.
«Этот Париж, — пишет Ванда Василевская, — нам близок, понятен и дорог. И этот Париж понимает нас».
Василевская с презрением и негодованием показывает предательскую политику космополитической правящей верхушки маршаллизованных стран. Изменнические клики, продавшиеся американскому империализму, пытаются овладеть судьбой народов, чтобы бросить их в самую страшную из всех бывших доселе войн. Под разными выдуманными предлогами, под различными обманными вывесками агенты американского империализма организуют фашистские полицейские отряды, увеличивают кадры агрессивных армий, подготовляя их для будущего нападения на миролюбивые государства. Но Василевская показывает, что есть на свете другая, мощная сила, которая растет изо дня в день и противостоит кровавым замыслам империалистического блока. Эта сила — стремление всех народов к миру, их любовь к своей родине, их протест против грязных действий поджигателей новой войны.
В другом цикле очерков — «Письма из Рима» — Василевская показала безвыходное положение сельскохозяйственного пролетариата в Италии. Ей удалось ярко изобразить феодальные пережитки в этой стране, которые наряду все с тем же «планом Маршалла» высасывают все соки из итальянского народа, убивают голодом детей и стариков.
Василевская предсказывала неминуемую открытую борьбу. И вскоре же после появления очерков Василевской в нашей печати запестрели сообщения о вспыхнувших в Италии выступлениях батраков и крестьян, о поддержке, которую оказывали рабочие крестьянской борьбе, о революционизирующем ее значении…
Статьи и очерки Василевской — это как бы обобщение опыта и наблюдений, накопленных в ходе борьбы за мир во всем мире. Они являются острым оружием борьбы за мир, агитацией за свободу и демократию против империалистического насилия.
7
Мы рассматривали произведения Ванды Василевской главным образом со стороны их содержания; вопросы формы, как может показаться, затрагивались мало. Такое суждение было бы, однако, неверным. Мы пытались проследить развитие человеческих характеров, общественное значение отдельных человеческих типов в произведениях Василевской, человеческие взаимоотношения и взаимодействия, изображенные Василевской, раскрыть отношение между идеей, воплощенной в отдельных образах, и развитием идеи всего произведения в целом. А это и есть те элементы содержания, которые образуют самые существенные стороны формы.
На этом вопросе следует остановиться несколько подробнее, прежде чем мы перейдем к характеристике всей трилогии «Песнь над водами», завершившейся романом «Реки горят» (1950).
Чем определяется художественная форма повести «Облик дня»?
В этой книге общая судьба рабочего класса капиталистической Польши изображена в индивидуальных судьбах отдельных людей из рабочего класса. Поэтому большая часть глав «Облика дня» представляет собой эпизоды, характерные для того жизненного пути, которым шли с самого дня рождения труженики различных слоев и профессий.
Большинство действующих лиц этой книги появляется лишь в одном или нескольких эпизодах, и лишь немногих людей, увиденных в первых главах, мы найдем на всех важнейших этапах развития повести и в ее конце. Только некоторые из персонажей этой книги знакомы и встречаются друг с другом (Анатоль, мать Анатоля, Веронка, Эдек, Юзек Сикорский).
Мы знаем литературные произведения, в которых сходные задачи решаются посредством изображения узкого круга действующих лиц, связанных между собой. Почему же Ванда Василевская не воспользовалась этим способом литературного изображения? Потому что она стремилась вызвать у читателя как можно более непосредственное представление о людях и жизни. По этой причине Василевская избегала широких описаний и рассуждений «от автора» и избрала такую композицию, которая не требует личных связей между всеми действующими лицами. Сюжетная связь существует в «Облике дня» лишь в самом широком смысле — ею служит ясно ощущаемая читателем общность социальной судьбы всех людей, принадлежащих к трудящимся классам. Другими словами, связь между отдельными героями «Облика дня» — это в первую очередь связь внутренняя, идейная и эмоциональная.
Автор хотел, чтобы изображенные им картины воспринимались так непосредственно, как сама жизнь во всей ее жестокости, и это определило чрезвычайно сжатый, иногда намеренно тяжеловесный и отрывочный стиль повествования. По той же причине так велика в «Облике дня» роль диалога. Художественный анализ человеческих переживаний и мыслей дается так, что писатель остается в стороне, а читатель как бы сам присутствует при разговорах действующих лиц и участвует в их жизни.
Несмотря на то, что в этой книге много людей и событии, не связанных между собой сюжетными нитями вплоть до последних глав, — читая ее, все время ощущаешь единство темы и воспринимаешь реалистическую рельефность каждого человеческого образа.
В последних главах все отдельные сюжетные нити связываются в один крепкий узел. Эти главы изображают день решительного восстания против капитализма, день великого праздника, слияния всех живых сил трудовых классов. И это построение книги подчеркивает, что, как бы ни складывалась жизнь отдельных рабочих, каждая такая судьба естественно и необходимо вливается в общую судьбу и общую борьбу всего класса, в общее движение истории вперед, к социализму.
Мы уже сказали, что в «Облике дня» характеристики людей ярки и выпуклы, несмотря на свою краткость и на то, что пояснений «от автора» в повести почти нет. При этом каждый из разнообразных человеческих характеров естественно развивается так, что его завершение приводит к сближению с сознательным руководителем рабочих — Анатолем и его товарищами.
С этой точки зрения чрезвычайно показателен образ матери этого молодого рабочего вожака. Ум старой, замученной непосильным трудом женщины окутан бытовыми и религиозными предрассудками; ей непонятен и странен ее сын, выступивший против земных и небесных царей. Но любящая душа матери находит путь к верному пониманию революционной деятельности сына. После мучительных волнений, после долгих часов, проведенных на коленях перед образом младенца Иисуса (младенец Иисус кажется этой женщине добрее, чем беспощадный бог, которым ксендз пугает паству), после долгих лет безрадостного, отупляющего труда приходит, наконец, и для нее светлый день — день народного восстания. Душа старой, уже глядящей в могилу женщины возрождается и крепнет, обновленная порывом к свободе.
Этот образ старой женщины из рабочего класса, которая через любовь к детям приходит к революции, перекликается с образом Ниловны у Горького. Но это не просто подражание великому образцу. В матери Анатоля мы видим национальное своеобразие польской трудящейся женщины. Это образ, взятый из польской действительности. И он убеждает, что революционная борьба за социализм в любой стране, в любом народе вызывает освобождение и огромный рост придавленной прежде личности.
Вся книга Василевской говорит об этом. Не закрывая глаза на невежество, предрассудки, огрубение «низших» классов, вызванные варварскими условиями капитализма, Василевская уже на первых ступенях развития социалистического самосознания видит зародыши новых человеческих отношений. Это братская солидарность, подлинная человечность, которых не найти у буржуа, все больше дичающих в классовом и личном эгоизме.
Скупая фраза, сказанная рабочим в повести Василевской, человечнее всех высокопарных рассуждений эпигонов буржуазного «гуманизма».
У рабочих людей нет ни малейшей ходульности в выражении чувств, — так же как во всей повести нет ни малейшей нарочитости в изображении связи между личной судьбой отдельных рабочих и необходимостью их революционизирования. Мы видим естественное стремление избавиться от всего мешающего личной жизни посредством освобождения всего рабочего класса от рабства. Василевская показывает, что именно эти люди — единственная надежда человечества на выход из тупика, в который его завели эксплуататорские классы. Это роднит произведения, написанные революционной писательницей Василевской в капиталистической Польше, с тем, что писал еще в капиталистической России зачинатель русской и мировой литературы социалистического реализма — Максим Горький. Огромная правда истории предстает перед нами в реальных образах повседневной жизни.
Надо, однако, отметить, что Ванде Василевской не везде удалось сохранить в «Облике дня» строгую реалистическую верность действительности — прежде всего в изображении победоносного восстания, приводящего рабочий класс к государственной власти. Реальная жизнь не давала еще достаточного материала для реалистического конкретного изображения будущей революции в Польше. Писательница видела лишь трехдневное торжество восстания краковских рабочих. Поэтому в яркости революционных сцен в повести есть наивная фантастичность. Это отразилось также в некоторой отвлеченности образа Анатоля, глубоко реалистического лишь до того момента, когда он, ставший рабочим вожаком, превращается как бы в символ рабочего единства и боевого духа. Однако и в сценах восстания есть одно большое достоинство: в заключительной части «Облика дня» впервые в польской литературе грядущая революция провозгласила свою неизбежную победу голосом громким и ясным, с неиссякаемым энтузиазмом, с безудержным торжеством.
Некоторые польские критики, когда вышел «Облик дня», попытались уяснить себе силу этой книги, исходя из формалистических литературных «принципов». Одни искали в факте несомненного успеха этой книги доказательство в пользу формы «романа-репортажа», пропагандируемого тогда литераторами футуристического пошиба. По их скороспелому суждению, «Облик дня» был произведением «урбанистическим» и его автора зачислили в писатели, которые специализируются на изображении быта капиталистического города. Другие критики-формалисты, принадлежавшие к поклонникам туманно-символистической, декламационной и перенапряженной манеры Стефана Жеромского — известнейшего из польских буржуазных писателей того времени (кстати сказать, интересного в действительности совсем не этими эстетски-декадентскими «новшествами», а реалистической стороной некоторых его произведений), хотели отнести вновь появившуюся талантливую писательницу к «школе» их метра. Иными словами, буржуазные литературные критики хотели, закрывая глаза на подлинную новизну повести Василевской, во что бы то ни стало втиснуть эту вещь в формулы буржуазного эстетизма. Разумеется, это приводило лишь к самым скудным домыслам. А следующее крупное произведение Василевской окончательно разрушило все догадки этого рода: роман, с горькой иронией названный «Родина», рассказывал не о городе, а о тридцати годах жизни деревенского труженика, батрака Яна Кржисяка, и художественная форма этого романа была совсем другой, чем форма повести «Облик дня».
Понятно, что Василевская, как талантливый, художественно чуткий писатель, не могла не создать другую, чем в «Облике дня», художественную форму для такого жизненного материала, для выражения такой идеи. В картине, изображающей отсталую польскую деревню с ее патриархальной неподвижностью и замкнутостью, не могло быть большого разнообразия человеческих характеров и судеб; с внешней стороны жизнь батраков была гораздо единообразнее, да и круг людей был много уже и теснее. Не могло здесь быть и таких резких, быстро сменяющихся жизненных положений; темп жизни — следовательно, и темп повествования — в «Родине» медленнее и ровнее. Даже военные бури, выбившие на время людей из старой колеи, даже участие в острой борьбе, даже надежды, открывшиеся было им, — все это постепенно тонет в том «порядке вещей», Который, возвратясь, казался еще незыблемей, чем прежде. Но если внешняя подвижность в романе «Родина» гораздо меньшая, чем в первой повести Василевской, то процесс работы сознания, пытающегося постигнуть смысл жизни, формирование мировоззрения, постоянные изменения в психологии героев развиты здесь многостороннее и полнее. В соответствии с этим в форме произведения уменьшается преобладавшее в «Облике дня» значение диалога, повышается роль внутреннего монолога-размышления действующих лиц, появляются широкие описания. При этом жизненный драматизм произведения нисколько не снижается, он лишь выливается в другую форму. Неизменной остается и характерная для произведений Ванды Василевской стихийная сила, выражающая идейную целеустремленность писателя.
Замечательны заключительные слова романа. Всего лишь один штрих, — но он так подготовлен всей предыдущей историей трагической борьбы польских батраков, что одной скупой фразы довольно, чтобы по-новому осветить весь ее смысл, ее дальнейшую перспективу. Можно сказать, что революционизирование польских трудящихся масс, назревание их решительной борьбы против эксплуататоров выражено в скупой концовке романа «Родина» реальнее и сильнее, чем в фантастической сцене восстания в «Облике дня».
«Родина» знаменовала ступень в росте реалистического искусства Ванды Василевской. Романы, составившие трилогию «Песнь над водами», продолжают ту же художественную линию, усложняя, однако, некоторые элементы формы в связи с расширением жизненного содержания произведений.
8
«Земля в ярме» продолжает, как мы уже говорили, «Родину» тематически, рассказывая о том, как революционный протест против помещичьего владычества распространялся в довоенной польской деревне и захватил не только батраков, но также малоземельных и значительную часть средних крестьян. «Земля в ярме» продолжает «Родину» также и со стороны художественной. Однако в этом последнем отношении «Земля в ярме» была для Василевской в известном смысле переходной ступенью: включив в роман больший и социально более разнообразный круг людей, автор не достиг того художественного единства, которым отличается «Родина». Это заметней всего выразилось в сравнительно меньшей содержательности живописного элемента, в частности — картин природы.
Ванда Василевская хорошо знает и чувствует природу. Но описательно-картинная сторона ее романов сильнее всего действует на читателя тогда, когда картины природы, бытовой обстановки и т. д. как бы вплетаются в человеческую судьбу, участвуют в ней, как одно из их существенных определений. Как ни тщательно бывают выписаны у Василевской мельчайшие подробности возмущенного ветром или тихого озера, птичьи голоса и запахи трав и цветов, — многое из этого можно скоро забыть. Но нельзя забыть мокрую землю, которую пашет Кржисяк, зная, что в ней замокнет и сгниет картофель; нельзя забыть плесень на мокрой барачной стене, гнилые испарения, подымающиеся от пруда. Все это наглядно, вещественно, зримо до осязаемости. И в то же время здесь, в этих картинах, обобщена жизнь многих крестьянских поколений, целого края рек, озер и болот, с его мучительной бедностью и возможным необозримым богатством.
Менее всего красива художественная ткань в довоенных произведениях Василевской именно там, где автор ставил себе задачу воспроизвести нечто «приятное» для глаза или слуха, создать нечто «поэтичное». Там же, где Василевская сурово, иногда ожесточенно писала о повседневной жизни и бросала, как проклятие, в лицо реакционному обществу факты скудной и безрадостной жизненной прозы, — там получалась настоящая поэзия, настолько же ценная и живительная, как скромный, но чистый и неиссякаемый источник, тяжелым трудом отрытый в песках и камнях пустыни.
В первых двух частях трилогии — романах «Пламя на болотах» и «Звезды в озере» — живописный элемент приобретает новое качество и возвращает себе художественную силу. И не только в живописно-изобразительном отношении, но и в других сторонах реалистического мастерства эти романы представляют собой интересное развитие художественных черт «Родины». Источник этого нового литературного качества следует также искать в жизненном материале произведений и в их идейном содержании.
В революционном движении, колебавшем государственный строй буржуазно-помещичьей Польши, все большее значение приобретало освободительное движение угнетенных национальных меньшинств, особенно украинского и белорусского (как ни странно называть «меньшинствами» те народы, которые составляли компактное большинство на обширных территориях). Польские фашиствующие националисты старались всеми административными, экономическими, пропагандистскими средствами внушить польскому населению страны, в том числе и трудовым его слоям, что «кресы» (то есть пограничные земли, лежащие на востоке) и их коренные жители — это полудикие края и полудикие люди, которым самой исторической судьбой предназначено быть объектом для колонизации со стороны «высшей расы» — поляков. Разумеется, польские коммунисты и все передовые польские люди противодействовали этой контрреволюционной пропаганде, твердо помня, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Польские коммунисты помогали развиться коммунистическому движению у западных белоруссов и украинцев, в первую очередь среди украинских и белорусских крестьян, так как именно они, а не городские рабочие были на востоке в большинстве. Излечить польский народ от шовинистической отравы, воспитать польские трудовые массы и лучшую часть польской интеллигенции в духе пролетарского интернационализма было задачей первоочередной важности до 1939 года, эта задача оставалась актуальной и в следующее десятилетие. Этой задаче служили романы Ванды Василевской «Пламя на болотах» и «Звезды в озере».
Василевская в момент высшего напряжения национальной розни, шовинистической ненависти, в годы натравливания поляков на украинцев, «пацификаций» («умиротворений»), то есть кровавых карательных экспедиций, — выступила с книгами, в которых показала гнусную эксплуатацию трудовых украинских крестьян со стороны польских помещиков, темных дельцов и осадников (колонизаторов-поселенцев, получивших преимущественные права перед коренными жителями). Василевская показала также союз эксплуататоров-поляков и защищающего их полицейского аппарата с украинской сельской буржуазией, с украинцами-кулаками, изменившими своему народу ради наживы. «Пламя на болотах» — книга, исполненная восхищения перед неистребимой волей украинских трудовых крестьян к свободе, перед героизмом украинских коммунистов, книга, исполненная горячего желания соединить поляков с украинцами в общей освободительной борьбе.
Но «Пламя на болотах» — не политическая агитационная брошюра, а политический, идейно насыщенный роман. Для такого произведения недостаточно было бы правильной программы, правильных тезисов, — нужно было глубокое знание и понимание реальной жизни во всей ее конкретности. Ванда Василевская создала политически действенную книгу, потому что она полюбила людей, в защиту которых писала, полюбила их край. Она показала человеческое превосходство этих «отсталых» людей над грошовой цивилизацией колонизаторов. Она сумела открыть и передать своеобразную прелесть озерного, речного, болотистого края — так, что и люди Полесья и природа, среди которой они живут, становились понятными и дорогими для читателей любой страны, любого языка.
Мы уже говорили, что образы природы бывают у Василевской сильней и красивей там, где они являются неотделимой частью человеческой жизни, человеческой драмы. Так в «Пламени на болотах» полесская местность, вся изрезанная ручьями, речками, протоками, влажная и зеленая, богатая своими сочными лугами и страшная своими трясинами, кормит человека, укрывает его от врагов, помогает его любви, радует его глаз, но требует от него взамен весь его труд, все его силы, всю его жизнь и удерживает его, как в плену, в привычном быту, не давая изменить судьбу, сложившуюся еще при отцах и дедах.
Первый роман трилогии окрашен созерцательной поэзией патриархальной замкнутости: почти для всех его действующих лиц деревня Ольшины, затерянная среди болот, — это весь мир, и даже ближний маленький городок лежит как будто где-то далеко за границами этого мира. Пусть жизнь, идущая здесь, скудна до нищеты, — о другой жизни люди знают лишь понаслышке. Все, что ни приходит в деревню извне, — все это чуждое и враждебное. Это польские полицейские, преследующие украинских крестьян, инженер Карвовский, обирающий их с помощью всяких кабальных сделок, осадник Хожиняк, отнимающий у крестьян лучшие земли, лучшие луга. Против всех этих хищных пришельцев деревенский мирок защищается как может. И это кладет конец вековечному быту: на стоячих болотах разгорается пламя классовой борьбы. Теперь деревня через своих лучших людей сама ищет выхода в большой мир, жадно ловя каждый слух о великой соседней стране, где, говорят, крестьяне не терпят притеснений и живут все лучше и счастливей. Люди тянутся к этой стране, ища спасения. И оно приходит осенью 1939 года вместе с приходом Красной Армии, советских людей. В озере у Ольшин отражается красная звезда, засиявшая на здании выстроенного в деревне клуба. С каждым днем стираются следы той старой жизни, которая так недавно казалась единственно возможной. И те, кто продолжает за нее цепляться, кто хочет возврата к ней, — это враги народа, выбрасываемые из жизни, объединившиеся между собой польские и украинские эксплуататоры, пытающиеся сопротивляться объединенным силам украинских, польских и русских советских людей. Из прежнего отъединенного острова Ольшины превратились в одну из частичек большого мира. Они — участники идущей в нем великой борьбы за социализм.
Последний роман трилогии «Песнь над водами» выводит главных действующих лиц двух первых романов на широкий простор. Роман «Реки горят» охватывает огромные исторические события 1941–1945 годов. Становится все ощутимей зависимость каждого человека от решения великих общих вопросов. Судьба отдельных людей с очевидностью выступает, как часть общей судьбы отдельных народов и всего человечества. Ванда Василевская изображает в этом романе сложный и трудный процесс изменения политического сознания людей различных слоев старого польского общества, процесс превращения этих людей в строителей и граждан новой, народно-демократической Польши.
Богатство человеческих типов в этом романе поистине замечательно, — иначе и не могло быть в произведении, художественная задача которого состоит в том, чтобы изобразить исторические события в переживаниях и действиях людей, которые участвуют в совершающемся и осознают его значение.
Если бы автор ограничил круг действующих лиц персонажами романов «Пламя на болотах» а «Звезды в озере», это не позволило бы дать высшее идейное обобщение событий без широкого авторского комментария, — а из всего предыдущего мы видели, что Ванда Василевская всегда его избегает. Поэтому в романе «Реки горят» участвуют политические деятели, они дают сознательное выражение стремлениям и поступкам миллионов людей. Но большое литературное достоинство романа заключается в том, что между практическими действиями и мыслями рядовых людей, с одной стороны, и мыслями и действиями политических руководителей — с другой, нет разрыва: это звенья единой цепи. Вожделения бывших полицейских чинов, реакционных офицеров, торгашей и спекулянтов, оставшихся от фашизированной Польши, выражают в своей «политической линии» представители польского контрреволюционного центра в Лондоне. Программа Союза польских патриотов в СССР совпадает с желаниями многих тысяч трудящихся поляков, как если бы эти последние сами ее выработали. Органическое, конкретное изображение того, как формируются идеологические обобщения из общественного бытия различных социальных групп — одна из сильнейших сторон этого романа. При этом Василевская не берет лишь самые простые и прямые связи. Она с мужеством писателя, знающего свою ответственность перед народом, исследует такие сложные случаи, как изменение политического сознания людей, прежде одурманенных лживой реакционной пропагандой, обманутых мелкими, часто мнимыми привилегиями в довоенной Польше. Народно-демократическая Польша, польский народ, взявший государственную власть в свои руки, не отбрасывает всех таких людей без разбора. Народ и руководящая им Польская рабочая партия верят в свою силу — в обновляющую силу социалистического строя. И, беспощадно расправляясь с врагами, они открывают всем, честно и искренне осознавшим свою ошибку, возможность делом доказать свое право на жизнь в новом польском обществе.
Роман «Реки горят» заканчивает трилогию не только в сюжетном смысле. Главное в нем — это завершение идейной борьбы, социального конфликта, завязку которого мы узнали по роману «Пламя на болотах». Польские реакционеры, пройдя до конца свой позорный путь, превращаются в озлобленную кучку преступников. Передовые люди довоенной Польши, умножившие свои ряды трудящимися города и деревни, впервые пришедшими к политической деятельности во время борьбы за независимость и свободу своей страны, становятся ее признанными руководителями, им доверяет народ. Разрешается в романе «Реки горят» и тема пролетарского интернационализма, являвшаяся одной из главных тем всего творчества Василевской. Весь роман овеян любовью к Советскому Союзу. Советские люди — проводница железнодорожного вагона, начальник станции, доярка в совхозе, группа советских солдат, осматривающих Майданек, представитель советского правительства, — хотя о них рассказано на немногих страницах, воспринимаются, как реальные люди и как выразители высокой сущности советского строя. Встречи с этими советскими людьми наглядно убеждают поляков в истине социализма.
Роман «Реки горят» чрезвычайно характерен для литературного таланта Ванды Василевской. Широта и многообразие охватываемых в этом произведении событий напоминают в известной мере композиционные и стилевые особенности «Облика дня» — в том смысле, что линии судьбы некоторых героев идут раздельно, лишь изредка пересекаясь, и в том, что в некоторых главах строго реалистическое обобщение уступает место абстрактно-символической системе образов. В пространных внутренних монологах одного из главных действующих лиц, Ядвиги Плонской, есть несомненный отзвук рефлектирующей, психологически вязкой манеры мышления Марии из повести «Просто любовь». Однако было бы слишком рискованно предположить, что в каком-либо из этих направлений пойдет дальнейшее развитие искусства Василевской; главы, написанные в условном или рефлектирующем стиле, несмотря на свою внешнюю эмоциональную напряженность, уступают в содержательности и художественной энергии реалистически-конкретным главам, последовательно и богато развивающим идеи, заложенные в характерах, поступках, взаимных связях людей. Эти подлинно реалистические главы заключают в себе основное содержание романа и составляют его ядро.
Ванда Василевская никогда не останавливалась на какой-либо определенной, отстоявшейся, повторяемой литературной манере, на определенных, излюбленных композиционных схемах, выработанных и сознательно развиваемых способах характеристик. Как художник Василевская всегда в движении. Всякий раз она идет к цели, пользуясь теми средствами, которые находит наиболее точно и сильно выражающими данное конкретное задание. И не из анализа и оценки отдельных элементов литературного мастерства можно понять, что делает Ванду Василевскую одним из самых читаемых советских писателей. Ее сила — в идейной целеустремленности, в горячей любви к народу, в знании народной жизни, в политической страсти борца за народное дело, в отважной постановке самых жгучих вопросов современности. Эти качества дают ее произведениям ту стремительность, ту сосредоточенную силу, которая все вовлекает в свой бурный поток и заставляет читателя верить писателю, идти вместе с ним, проникаться его коммунистическим отношением к людям, к жизни.
― ОБЛИК ДНЯ ―
I
Над городом ночь. Два ряда газовых фонарей. На воротах бледно светятся номера. Чем дальше от центра города, тем темнее, тем пустыннее. Вытоптанные в выбоинах тротуары. Черные щели сточных канав. Запах гнилой капусты, мусорных ям, нищеты. Слепые окна домов смотрят во тьму. Перекошенные входные двери, закрывшись, хранят тайну узких сеней. Под покосившимся забором шныряет облезлая кошка. В конце улицы ломится в запертые двери пьяный.
— Магда, ты откроешь или нет? Дрыхнут черти! Мой это дом или нет? Ма-агда! Не слышишь, что ли, холера!
Гулкие удары кулаком по трухлявым доскам.
— Ма-агда!
Тяжелый сапог лупит в дверь. Раз, другой, третий. Ржавые петли трещат под ударами. По другую сторону шлепающие шаги.
— Да иду же, иду, дверь выломаешь…
Заспанная женщина, поддерживая соскальзывающую с бедер юбку, приоткрывает дверь.
— Опять накачался, людей по ночам будишь…
— На твои, черт возьми, что ли? На свои, слышишь, на свои пью. Уж рюмки водки пожалела человеку, жена называется, люди добрые, — жалобно обращается он к отсутствующим зрителям.
— Входи же поскорей, холодно!
— Вхожу, Магдуся, вхожу, жена милая, — бедному человеку рюмку водки жалеет.
Он неуверенно покачивается, держась за косяк, не решаясь оторваться от этой надежной опоры. Сильная рука обхватывает его, втаскивает внутрь. Другой рукой женщина захлопывает дверь. Ноющий, жалобный голос затихает во тьме узких длинных сеней.
Тишина. Ослепшие глаза окон глядят во тьму.
— Магда?
— Что?
— Ничего, ничего, женушка! Ты только не покидай меня, пьяницу, прости в последний разик. Пропащий я человек, жена. Один на свете, сирота круглый, только ты у меня и есть, единственная, жена моя дорогая.
Шуршит полусгнившая солома разъехавшейся кровати. За окнами мрак.
В темных углах подвальных квартир, в каморках под лестницами, на чердаках, на рваных сенниках, на покосившихся кроватях, где спят впятером, вшестером, на подстилках из старых мешков, на вязанках соломы и на разостланной у печки тонкой шали, во всех лачугах улиц, уличек, переулков зачинается новая жизнь.
Проходит ночь. С солнцем встает новый день.
На склонах крепостных валов, в тени пригородных рощ, на жалких островках травы возле свалок, в тощих ракитовых кустах у реки зачинается новая жизнь.
А потом:
— Юзек…
— Ну, чего ревешь?
— Юзек… я опять…
— Видишь, Стась, ты говорил, что ничего не будет, а я…
— Проклятый, пьяница, тебе вздумалось напиться, а теперь страдай из-за тебя!
— Что мне делать, что мне делать, отец убьет, когда узнает!
— Владек, я было не хотела тебе говорить, но теперь уж наверное.
— Стефан, опять будет…
И — сжатые кулаки. И — покрасневшие в приступе внезапной ярости глаза. И руки, в отчаянии сжимающие голову. И удары. И крики.
— Проклятая, проклятая баба, лучше бы ты сдохла раньше, чем я на тебе женился! Чтобы тебя святая земля на себе не держала! Дьявол бы тебя, твой кум, поскорей забрал!
Или — неуклюжая ласка огрубевшей руки.
— Ну тихо, Зося, тихо, уж как-нибудь, да справимся. Не плачь, что толку в слезах, только зря изводишь себя.
— Ну что ж, ничего не поделаешь; как-нибудь проживем!
Больше всего слез. Быстрые, льющиеся ручьем слезы. Слезы, силой удерживаемые под красными веками. Проливающиеся на уголок грязной подушки. Украдкой утираемые тыльной стороной потрескавшейся руки.
И бесконечное хождение, поиски помощи. Торжественная прохладная приемная господина доктора. На мягких стульях дамы в светлых платьях. Рассматривают цветные картинки в иллюстрированных журналах. Позевывают, деликатно прикрывая рукой накрашенные губы. Юзефиха забилась в уголок у дверей. Пугливо кутается в шаль. Ей хотелось бы стать еще меньше, исчезнуть, стать невидимой, не колоть глаза этим красивым дамам своими растоптанными сапожищами, полинявшей юбкой, стертыми ногтями с черной каймой. Ей стыдно, что она осмелилась прийти сюда, где все, начиная с навощеного паркета и кончая хрустальной люстрой под потолком, приготовлено к приему этих нарядных дам. Она боязливо поглядывает на пол, — не остались ли на зеркальных узорах выложенного изящными звездами паркета пятна от ее дырявых подметок.
Очки в золотой оправе. Шелковистая, холеная бородка. Пухлые розовые пальцы. Холодные, как лед, глаза.
— В чем дело?
Губы беззвучно шевелятся.
— Ну? Скорей!
И, разумеется, отказывает.
Юзефиха тяжело спускается по лестнице.
Акушерка. Пытливым взглядом окидывает всю — от рваных мужниных сапог до платка на голове.
И опять — ничего.
Тогда — отвар мальвы. Передвиганье по всей комнате тяжелого шкафа. Ноги, обваренные кипятком в рассохшейся кадушке. Вязальный крючок. Бешеные удары мужниного кулака. И опять — ничего.
Или йод. Горячая баня. Жгучая, горькая настойка олеандра. Доброжелательная приятельница. Шепот знакомой старухи. Советы соседок. Безуспешно.
И, наконец, — ребенок.
II
— Как же его назвать?
— Может, Анатоль? — робко, нерешительно предлагает мать.
Анатоль, потому что так еще никого не называли. Пусть будет иной, чем все. Чтобы ни спины в синяках, ни отмороженных босых ног, ни струпьев на голове, ни хлебных корочек, откапываемых в мусорной яме.
— Что ж, пусть будет Анатоль. Чудное какое-то имя. Как говорится, кто хочет не как люди, тому добра не будет.
— Надо бы Зоськой, как тетку. Глядишь, иной раз и поможет девчонке.
— На святого Юзефа родился, стало быть, и имя себе принес, Юзек и все.
— Пусть будет Владек, как ты.
— Розалькой, по матери.
— Да глянь ты в календарь. А то сколько их развелось, что и не знаешь, как кликать.
— Подожди, сейчас посмотрим… Телесфор… Тит… Люциан…
— Иди ты, баба! И имена-то какие-то языческие! На что похоже! Телесфор!
— Да ведь в святцах напечатано.
— Кто их знает, что это за святцы! С бабами свяжись…
— Агатон… Гилярий…
— Еще чего!
— Павел…
— Вот видишь, можно Павлом назвать.
Так он и остается Павлом.
— Да что вам долго раздумывать, Марыська, только и всего!
— Анелька, Анелька, в день ангельской божьей матери именины будут.
— Виктор.
— Сташек.
— Антек.
Впрочем, в сущности все равно. Лишь бы различить одного от другого. Как-нибудь позвать. Знать, отлупить ли ремнем Павла или же Марыську, послать в лавчонку взять в долг Зоську или Антека, положить заплату на штанишки Сташеку или, прости господи, Гилярию.
Вскоре начинаются заботы. Анатоль, видно, пронюхал, что имя у него уж больно барское и вечно хворает. Виктор орет всю ночь, точно с него кожу сдирают. Марыська жрет с такой яростью, что покусала всю сухую, обвисшую грудь матери. С Анелькой делаются какие-то судороги. У Юзека сочится из струпьев желтая вода. С Антеком приключились какие-то корчи, и он, слава богу, на другой день помер. Одним ртом меньше. Хуже то, что на его место вот-вот появится новый. Павел лежит спокойно и смотрит кругом, как старичок какой.
— Ваш Юзек уже ходит?
— И-и-и… Куда ему, ведь и года еще нет.
— А мой Анатоль такой был слабенький, а уж пробует. От табуретки до табуретки, а все же топочет.
По правде сказать, от этого хождения больше хлопот, чем радости. Всюду нос сунет, все перетрогает. Кипяток на себя опрокинет. Новую блузку в угли у печки затащит. Схватит хлеб с полки, спичками играет. Раньше лежал, как пенек, — можно было хоть спокойно из дому выйти. Укутаешь его потеплее тряпьем, пригреется и спит себе. А сейчас, не дай бог! Бежишь домой, как помешанная. А вдруг он пожару наделал или стеклом поранился, а то еще запутался в тряпки и задыхается. Ведь непослушный, упрямый, злой. Бей не бей, все равно дурь из него не выбьешь.
Еще если есть дети постарше — полбеды. Все-таки кое-как присмотрят. Но тогда и ртов больше. И так плохо, и этак нехорошо. Известно, бедному человеку всегда ветер в глаза…
С законными еще туда-сюда. А уж незаконный, не дай бог! Всякому мешает. Бабка толкнет, дед обругает, каждой холодной картофелиной попрекнут, что он съест. Вон Хелька у Войтасов, та лучше устроилась; родилось, мол, мертвое — только и всего. Никакие следствия ни до чего не добрались — и ладно. Зато теперь никто ей глаза байстрюком не колет. Конечно, нельзя так по-дурному, как эта хромая Яська — швырнула в Вислу; в тот же день и нашли; отсидела девка в тюрьме не много не мало, а почти два года. Теперь пошла на легкий хлеб, потому дома ее не стали держать. Мать набожная, каждый день в костел бегает, и вдруг дочка в тюрьме сидела.
Но так и этак не легко. Не успеешь оглянуться, не успеешь заметить, как пострел уже на ноги становится, и только готовь ему одежу. Потому он и на улицу выскочит и с соседними ребятами подерется, башмаки разорвет, а ведь их одна пара на двоих — да и то слава богу! Вон у Пупрысей человек шесть мелюзги, а башмаки одни, да и те с самого Пупрыся, а у него нога, как у великана из сказки. Ихней младшенькой, Янце, до колен доходят. Ну, да ничего не поделаешь, так оно как-то и идет. Кому теперь легко живется… Здесь, на этих кривых, утопающих в грязи уличках, во всяком случае никому.
III
— Франек, ведь Сташека-то придется в школу посылать.
— Ну, ясно.
— Пойдешь записать его?
Мужчина чешет голову.
— Эх!.. Ты, Юзя, лучше это дело уладишь. С учительницей поговоришь.
— Ага! Она только и дожидается, как бы со мной поговорить!
— Да не злись же сразу! Мальчонку надо приготовить, пойдешь и запишешь. За запись-то там что-то заплатить надо?
— А ты думал даром? Нет, не такой сейчас народ, ох, не такой! Спрошу-ка я у Марчаков, сама-то, наверное, знает, сколько.
На другой день Сташеку моют уши, старательно штопают дыру на локте. Виктор получил отцовскую блузу, — только рукава пришлось укоротить. Анелька в мамином платке. Марыська пока еще дома, хворает что-то, болячки по всей голове пошли. Вот они помаленьку тянутся один за другим — все эти Владки, Бронки, Яськи, Кази, Маньки и как их там еще окрестили. Известно — школа. Штрафуют даже, если кто не посылает ребенка. Да хоть бы и не штрафовали! Пусть чему-нибудь научатся, — может, легче будет житься, узнают что-нибудь, все лучше, чем безграмотному, — ничего-то он на свете не знает. Ну, и хоть эти несколько часов не будут мешать дома, хоть передохнешь чуточку, а то иной раз никакого терпения с ними не хватает, как ни стискивай зубы.
Вот только с этой записью беда, — плати и никаких! Уж Борчиха ли не плакала, до самого инспектора дошла, хоть и страшно было, — ничего не помогло. Еще и накричал на нее, что, мол, ясное предписание есть, он-де ничего поделать не может. Как это не может! На то он и инспектор, чтобы все мочь, да кто там станет о такой голытьбе хлопотать. Сказал, что на запись в школу должно, мол, найтись. Ну и нашлось; по правде сказать, Борчиха свою шаль продала, да уж ладно, как-нибудь обойдется. Не у всякого бывает шаль, да и тепло еще, солнышко греет, так что и шаль не нужна. Правду этот инспектор сказал, что если по-настоящему захотеть, так деньги найдутся. Ясно — человек ученый, не то что какой-нибудь, который едва по складам знает, да и то если лампа хорошо горит, а не то так и со складами не справится.
Дни становятся похожими, словно капли дождя, лениво ползущие по грязному оконному стеклу. Башмаки, ботинки, сандалии, деревянные туфли отстукивают их ритм все по той же дороге. Ноги маленькие, еще меньшие и самые крохотные ежедневно протаптывают все ту же тропинку. Обходят большую лужу у забора. Бредут по липкой грязи переулка. Стучат по квадратным плитам тротуара. Обивают носки об упрямые кругляки булыжника. Шурша гравием, пробегают к дверям. Двери открыты. Высокий порог. Протертый до дыр соломенный половичок. И ежедневно все тот же резкий голос: «Нош вытирать!» Ежедневно все та же коричневая скамья. Чернильница с выщербленными краями. Непонятное полотнище географической карты на стене. Лоснящееся брюхо большущего глобуса. Черное распятие и два цветные портрета на голубоватой, испещренной мухами стене. Черное пятно школьной доски.
И что ни день:
— Мама, купи мне карандаш. Только обязательно второй номер!
— Мама, не разрешается так носить книжки, купи ранец!
— Мама, купи мне тетрадь такую, в клеточку!
— Господин учитель велел принести деньги на складчину!
— Папа, завтра именины учительницы.
— А черт бы ее взял, пусть она хоть каждый день именинница! Мне-то что?
— Но ведь нужны деньги!
— Мама, эта книжка нехорошая, велели купить новую.
— Как так, ведь Стаська по ней училась?
— А теперь другие, господин учитель сказал.
Мама — карандаш, перо, краску, промокательную бумагу! Папа — на складчину, на подарок, на сбор в пользу…
По липкой грязи переулка, по квадратным плитам тротуара, по упрямым кругляшам булыжника, по гравию, до самых дверей бесплатной школы катятся круглые гроши, стертые пятигрошевики, потные от судорожно стиснутых детских ручонок десятигрошевики. Ежедневно. Вытащенные из узелка платочка, выисканные в жестяной коробочке, урванные от утренней порции хлеба, сэкономленные на молоке для маленькой Викты, на башмаках для Франека, на керосине, на материнском дне отдыха — воскресенье, которое она прокорпела, заканчивая блузку для этой, которая живет напротив.
Известно, школа.
И каждой копейке сопутствует тумак либо проклятие. Сперва — Сташеку, Виктору, Владеку, Анельке и Бронке, потом — школе. Но до школы проклятие не доходит. Оно притупляется на хрупком детском плече, где остается синяк, запутывается в вырванной пряди волос, растворяется в ручейке струящихся по грязному личику слез.
Манька ничего не соображает, как ни лупит ее после каждого родительского дня отец по ее тупой головенке. Сташек вечно дерется. Вчера опять пришел с разбитым носом. Юзек пристает к товарищам. Анатоль строптив и упрям. Гелька заигрывает с мальчишками. Зоська невнимательна на молитве, а Стефка — настоящее исчадие ада. Вицек украл у Франека тетрадь. Длинный список преступлений как гора обрушивается на плечи матерей. Если дальше так пойдет — исключат. Вырастет разбойником, бандитом, кончит виселицей.
За девочку надо приняться всерьез, не то будет плохо. Согнуть, сломить, заставить смириться, — благожелательно объясняет матери ксендз-законоучитель.
— Слушаю, господин учитель.
— Понимаю, госпожа учительница.
— Да, да, постараюсь, ваше преподобие.
— Уж на этот раз простите, ваше преподобие… Он наверняка исправится, уж я поговорю с мужем, он за него возьмется.
А дома потом — чисто судный день. Конечно, всем известно, что учитель это просто дармоед, каждый месяц получающий жалованье и только высматривающий, что ему кто несет; что учительница — подлюга, которая никогда не ответит на поклон простого человека, а небось, когда идет тот худой доктор, который живет напротив, сама чуть в грязь не упадет, так перед ним раскланивается. Но…
— Но, чтобы ты, сопляк несчастный, за мои кровные денежки, за мой тяжкий труд, за мои хлопоты…
Ремень, палка, сапог, кочерга — все идет в ход, все годится. Не даром дается новая тетрадь, не даром платят за запись в школу, за эти их там чертовы именины.
— Ты мне только попробуй остаться на второй год! Уж я тебе покажу!
— Чтоб ты мне, как мышка, в школе сидел, понятно? Никаких шалостей, никаких глупостей, не затем тебя в школу отдали! Слушаться господина учителя!
И он сидит, как мышка. Прилежно читает рассказ о хорошем мальчике, который не пошел красть яблоки у соседа и за это получил их целую корзину. О примерной девочке, которая отнесла найденный кошелек с деньгами и за это была удочерена богатой дамой. О добром мальчике, который сэкономил деньги на лакомствах и купил лекарство больной матери.
С благонравной миной рассказывает учительнице об этих любопытных происшествиях, толкая под партой товарища. Потому что ведь всякий же знает, что даром никто корзины яблоков не даст. Что если бы та девочка не отдала денег, то легавый забрал бы ее о кутузку. Никто добровольно не посадит себе ребенка на шею, потому у всякого своих хватает, — станет кто чужих подбирать. И кто это носит деньги в каком-то «кошельке»? А уж лучше всех этот маменькин сынок, что сэкономил деньги «на лакомствах». Чистейшее вранье. Откуда это взять столько монет, чтобы покупать лакомства, да еще откладывать? Дурак какой-то эту книжку написал, а их заставляют ее учить…
Наконец, Анатоль встает.
— Хотел бы я быть этим добрым мальчиком.
Учительница дружелюбно улыбается.
— Ну, йот и объясни товарищам почему.
— Вот кому, наверно, перепадало всяких вкусных вещей! Уж и в рот не лезло, еще и отложил деньжонок. Мне бы столько монеты!
Учительница багровеет от злости. Она кричит на Анатоля, ее тонкий голос смешно срывается и булькает в горле. Анатоль прекрасно понимает, в чем дело, и, нагло прищурившись, смотрит на нее. Но класс не понимает; ведь Анатоль сказал правильно.
Или учат там всякой всячине: что делать, чтобы быть здоровым. Показывают картинки. Что надо, мол, спать при открытом окне. Еще чего! Чтобы вся грязь с улицы лилась в комнату! Попробуй скажи это, например, старому Климеку. У них окно и не откроешь, оно наглухо вмуровано в стену. А то еще, — чтобы по одному спать в кровати.
— А как же они будут детей делать? — шепчет Розалька на ухо Зоське.
Но об этом что говорить, можно ведь прийти на минутку, только и делов, а вот где он видел, — тот, который это писал; — чтобы в комнате было столько кроватей, сколько людей? Они бы и не поместились, хоть поставь вплотную, одну к другой. У Пупрысей девять человек в комнате. У Цапов — двенадцать да еще жилец. У Котысов девять, а если к Тересе и Зузке гость на ночь приходит — одиннадцать человек.
Или хоть с этими зубами? Так тебе отец и даст денег на щеточку! Как бы не так!
И так все в этой самой школе. Ходишь парами по двору и поешь дурацкие песенки: «Птички уж поют на ветке, поутру вставайте детки!» Будто кто может спать до полудня! Бронек встает еще затемно и отправляется к заставе, помогает бабам таскать корзины с овощами. Птицы и те в это время еще спят. Владек помогает дворничихе подметать и поливать улицу; в шесть часов они кончают, и тогда он разносит по домам булки из пекарни. И всякий так.
И разговаривают с ними, будто с маленькими. А между тем Юзек, например, давал в суде показания, как зарезали на валах косую Теську, а потом его за это ножом ткнули, насилу вылечился. У Густека, с тех пор как отца на заводе убило, вся семья на шее. Маньке один фраер чего только не обещает, чтобы она только пошла с ним, а тут — здравствуйте! — «Поутру вставайте детки!» Или: «Утром Зося послушно моет ушки, носик, личико, шейку», а учительница сладко улыбается, будто мед каплет, закатывает глазки и не скажет «книжка», «тетрадь», а все — ‘«книжечка», «тетрадочка», «стишок»…
Они сидят тихохонько, как мышки, помня об отцовском ремне. Заискивающе глядят на учительницу, с ненавистью в сердце глядят на ее, заразы проклятой, гладко прилизанные волосы, на синее шевиотовое платье с чистым белым воротничком, на черные лакированные туфли или коричневые полуботинки.
— Денег у нее, должно быть, денег! — завистливо вздыхает Бася.
— Сколько она может получать жалованья?
— Э! Разве это на жалованье! Хахаль, должно быть, есть, он и покупает.
— Хахаль?
— Ну, а как бы ты думала? Откуда ж ей на все взять?
— Верно, верно, — вздыхают девочки. — У такой чем не жизнь!
Не лучше и учитель. Орет, лупит по рукам линейкой, хотя все знают, что это запрещено. А небось как Юзефиха вышила его жене сорочку, так с тех пор ее Франека и пальцем не тронет. Да и пьет, должно быть, потихоньку, потому что изо рта у него часто так и несет водкой, а о вреде алкоголя хоть два часа на бобах разводить будет.
А уж чистая зараза — это ксендз. Целуй его в жирную лапу. Обо всем всегда пронюхает, еще и на квартиру к тебе забежит, если нужно. Не то что за ними, а и за родителями следит, ходят ли в церковь. Анатоля прямо всего переворачивает, когда ксендз слащавым голоском спрашивает:
— Сковронский, твой отец был вчера в церкви?
— У обедни был, — отвечает он громко, на весь класс. Хотя, по правде сказать, отец и не думал ходить. Наработался до позднего вечера, намерзся, так хоть в воскресенье отлежался до обеда в постели.
— Правду говоришь?
— Вот ей-богу, — и мысленно прибавляет: «…что папа до полудня спал дома».
Теперь и ксендз и Анатоль — оба довольны.
Впрочем, ненадолго. Вскоре все открывается. Анатолю достается и от ксендза, который дерет его за ухо, — зачем, мол, лжешь, бездельник, и от отца ремнем, — мне, дескать, никаких заступников не надо, ксендзу до меня дела нет. Ну, разумеется! Зато всем «есть дело» до Анатоля. А когда, наконец, отец получает работу в другом городе и принужден уехать, совещания с ксендзом, с учительницей и кумушками, трепещущими за целость своих оконных стекол, дают плоды. По милостивой протекции ксендза его принимают в «исправительное заведение». Так это называется. И Анатоль отправляется на исправление.
А в школе опять скандал. Оказывается, что этот самый Анатоль был, может, и не из самых худших. Потому что вдруг обнаружилось, что Юзек Сикора с другими вышибли у шинкаря на углу окошко в подвале. Забрали колбасу и немного водки. Те, что постарше, скрылись, а Юзека с узлом на спине поймали. Учительница чуть в обморок не упала, когда легавый явился в школу для расследования. А между тем все же знали, что отец у них уже второй год без работы, ребятишек целая куча, младшие ходили объедки собирать, а Юзек — вот какой выход нашел. Сидит теперь в кутузке, как взрослый.
Сикориха ходит как одуревшая. Только и знает, что бегает по судам да часами у тюрьмы выстаивает. Придет и стоит, вроде как на свидание пришла, хотя у нее и разрешения-то от судьи нет. Толчется между людьми, потому народу здесь всякий день хватает. Смотрит, слушает, и вроде ей легче от этого становится. Ребята после уроков тоже иной раз прибегут посмотреть. Как же! Целая куча народу и Сикориха тут же, со всеми.
В толпе поминутно кто-нибудь вздыхает. Усталые женщины тяжело опираются о стену. Бабенка в заношенной шали, немного поколебавшись, усаживается на тротуар, стыдливо прикрывая юбкой босые ноги.
Какая-то дама в шелковом пальто нервно переступает с ноги на ногу. Так неприятно, на улицах полно публики, а она на глазах у всех часами торчит у тюремных ворот.
Бледный усатый крестьянин философически сплевывает сквозь зубы.
— Тут, дамочка, стыдиться нечего. Тюрьма да больница — они для всех строятся. Никого не минуют.
И вправду. Объединенные давкой, жарой и скукой, здесь стоят представители всех сословий. Толстый господин, благоухающая духами дама, пожарный в мундире, деревенские бабы в красных и бурых платочках, гимназист, закопченный кочегар, служанка с заплаканными глазами, студенты университета и оборванцы в лохмотьях. Они взаимно поддерживают и обнадеживают друг друга, что вот-вот всемогущий привратник откроет ворота.
Старый нищий качает лысой головой.
— Да… Да… Так и истратил, целых два злотых истратил!
Его бесцветные глаза полны ужаса, гнилые зубы торчат из-за отвисших губ. Изнуренное лицо все дрожит в тупом изумлении.
— Кто истратил? А? — вполголоса спрашивают его.
— Да сын. Мы милостыню просим. Давно уж, от отца к сыну это ремесло переходит. А он возьми да и напади в нашем районе на нищего. Богатый нищий, двадцать пять злотых у него при себе было. Он их и взял. В обед пришла полиция, а он, шельма, собачья душа, уже успел два злотых истратить…
— На что же это?
— А вот купил хлеба, копченой грудинки, да и сожрал. На два злотых сожрал! — Плешивая голова качается на высохшей желтой шее.
— Так сын-то сидит?
— А сидит. Пожизненное заключение получил.
— Это за двадцать пять-то злотых?
— Не за это только, — ведь тот-то добром не отдавал. А мой как съездит его палкой по голове, он и не пикнул. Мой деньги и взял. И два злотых, два злотых, люди добрые, экие деньги потратить! На два злотых хлеба с грудинкой слопал!
Дама в шелках брезгливо морщится, отворачивается от старика. Маленькая бойкая женщина отталкивает стоящую рядом Сикориху и, разъяренная, подскакивает к даме. Черные растрепанные волосы выбиваются из-под грязного платка.
— Видали ее! Большая барыня! Тут нечего нос задирать! Ишь какая! И у тюрьмы графиня объявилась… А все равно я первая пришла, меня первую и впустят. И духи твои не помогут!
— Да оставьте вы, — уговаривает рабочий в синем костюме. — Ну, из-за чего вы из себя выходите?
— Из-за чего? А вот из-за этого самого! Из-за барства, из-за ясновельможества! А ясновельможной пани известно, к кому я на свидание иду? К такому, что родного брата за пять злотых убил. Брата! За несчастные пять злотых!
Она энергично сморкается в уголок головного платка. Кружок слушателей смыкается теснее.
— Безработные оба были, больше года. Вдруг один и нашел пять злотых. А этот говорит: «Поделись». Тот — ни в какую. Ну, слово за слово — и убил. А эта тут…
От ворот доносится монотонный голос:
— Такой уж сызмала был. Тринадцать лет ему, и уж третий раз тут сидит. Теперь вот шестой месяц жду, хлопочу, чтобы перевели его в исправительное заведение.
— И уже шестой месяц сидит в тюрьме?
— Говорю же, шестой, только что один в камере, чтобы не научился чему от старших уголовников.
— Шестой месяц?
— Да говорю же. С самого нового года.
— И только тринадцать лет?
— Тринадцать. С осени четырнадцатый пошел.
Сикориха содрогается. Женщины тяжело вздыхают. Минута молчания.
Жара все мучительнее.
— А разрешение от судьи у вас есть?
— Есть. Три раза ходила, ну все же дали.
— На личное свидание?
— Личное. Другого мне не надо.
— Да? А мой уже третий месяц сидит — и всегда только через решетку.
— Надо было просить, судья бы дал.
— Боюсь просить-то, еще рассердится, а тогда что? И вовсе не даст.
— Глупая баба! Раз закон есть, должен дать.
Тонкая, насмешливая усмешечка украдкой пробегает по всем лицам.
Закон…
Хорошенькая девушка у самых ворот, наконец, решается и нажимает пуговку звонка. Глухой звук за толстыми дверями. Приоткрывается «глазок».
— Чего надо?
— Господин старший, долго нам еще ждать? Людям дурно делается!
Глазок с шумом закрывается. Девушка смеется. Парень в грязных лохмотьях предлагает:
— Может, желаете скамеечку и зонтик?
— И мороженого?
— А то еще веер, обмахиваться?
— Говорю вам, у меня уж и слез не хватает. Хожу, прошу, объясняю — как горох об стенку. Ведь единственный сын… И за что? За что?
— Такое уж время… Такое время…
— А как же. Места тут на шестьсот человек, а сейчас тысяча двести сидит. Известно, тюрьма для людей, не для скота строится.
Скрежет ключа. Все бросаются вперед, чтобы стать поближе. В приоткрытых воротах показывается привратник.
— Свидание! К Квятковскому, Гдуле, Рингу!
В ворота входят надушенная дама, нищий с бесцветными глазами и молодая девушка. На ее лице с резкими чертами вдохновенное, фанатическое выражение.
Привратник присматривается к остальным. Глаза его останавливаются на заплаканной Сикорихе.
— Разрешение есть?
— Нет. Окажите божескую милость, господин…
— Марш отсюда! Нечего вам тут делать! Только лишняя толчея у ворот. Ну! Чтоб я вас тут больше не видел!
Она медленно уходит от накаленных солнцем стен. Мальчики идут с ней.
— Не ревели бы вы так! Не съедят же его там.
— Ой, Юзусь, Юзусь, дитятко мое дорогое, единственное.
— Тоже придумали! Ведь у вас еще пятеро. По крайней мере одним ртом меньше, — повторяет Виктор слова отца.
— Что ты там понимаешь… Сыночек мой единственный! Дитятко мое родное!
— Ну да! Мало вы палок об него обломали!
Сикориха замахивается кулаком, но Виктор ловко отскакивает в сторону.
— Видали его, заразу! Еще и этакий над тобой надругаться норовит! Чтоб тебе самому тюрьмы не миновать, собачье отродье!
Вся красная от злости, она с шумом распахивает дверь своей комнаты. Ганка орет в колыбели как зарезанная; широкая струя воды из опрокинутого ведра подбирается уже к самым дверям. Сикориха наскоро тычет ребенку в рот грязную тряпочку с жеваной булкой и торопится, пока сам не вернулся, подтереть пол. Из щетинистого полусгнившего пола под ноготь вонзается заноза. Она пытается вытащить ее зубами, и ей снова вспоминается Юзек и тот, другой мальчонка, что уже шестой месяц сидит один в камере. И она снова трет пол, тихонько всхлипывая. Мутные слезы капают на грязную тряпку, на грязный пол.
Под скамейкой валяется засохшая корочка хлеба.
— Хлеба и того не уважают, такие теперь дети пошли.
И потихоньку, про себя, словно кто-то может услышать:
— Юзек тоже, прости господи, чистая холера, не ребенок был…
IV
Трехэтажный дом. Два крыла. Внутри большой двор. Дальше огород и фруктовый сад на горке. Ниже небольшой пруд с заплесневевшей, зеленой водой.
— Здорово, — констатирует Анатоль, заметив среди ветвей еще зеленые шарики яблок.
Он мысленно измеряет расстояние от жилого дома до ближайших деревьев. Что ж, можно будет. Только подождать, пусть еще подрастут…
Жителей в заведении — сорок мальчиков. Брат Михаил с большой бородавкой на правой щеке. Панна Мелания, сестра ксендза, высохшая, с большим черным коком на голове. Ксендз-настоятель — огромный, точно глыба. Пять прислуживающих девушек. Садовник.
Большая спальная комната. В половине седьмого утра все спускаются в холодную трапезную. Брат Михаил складывает огромные лапы.
— Благослови, господи, сии дары твои…
Ломтик сухого хлеба. Чай из трав, собираемых мальчиками на склонах холмов. Потом — в деревенскую школу. Они садятся сзади, за серой толпой деревенских ребят. Проступки воспитанников учитель записывает в большую книгу, которую после уроков полагается отнести на подпись брату Михаилу. После школы обед. Синеватый картофельный отвар вместо супа, на второе картошка с капустой. И все.
— Благодарим тебе, создателю, яко насытил еси нас земных твоих благ…
После обеда — в класс. Здесь надо учить уроки до ужина. Потом ложка жидкой пшенной каши и — спать.
Рыжий Вицек спит в особом помещении для ребят, которые мочатся под себя.
В «сикающей» — каменный пол с канавками для стока. Голые дощатые нары, тоненькое одеяло, чтобы прикрыться. Раз попав сюда, мальчик обычно остается уже здесь навсегда. На голых жестких досках спать страшно холодно, едкий смрад одурманивает, притупляет все чувства. Когда удается, наконец, уснуть, сон наваливается тяжелый, как скала. И вот на следующий день — опять то же. Какой-то заколдованный круг. С Владеком, например, дома этого никогда не случалось, а здесь он раз продрог, расчищая снег на дворе, и с тех пор уже не может вырваться из этой комнаты с каменным полом. Ходит весь бледный, опухший и теперь уже и днем мочится в штаны. Брат Михаил всякий раз лупит его, но это не помогает.
Кроме ученья, есть и другие занятия. Через каждые три дня каждый класс качает воду в огромную цистерну на третьем этаже. Летом каждый воспитанник обязан доставить определенное количество черники. Осенью возить сухую листву на подстилку. Весной полоть грядки на огороде. Всякая минута чем-нибудь занята, весь день плотно забит работой, которую назначает брат Михаил.
Неделю спустя Анатоль бежит. Его ловят на следующей же станции. Распростертому на длинной скамье брат Михаил закатывает десять плетей. Впрочем, порка здесь дело повседневное. За то, что напроказил. Для предостережения на будущее. На всякий случай, потому что за всеми проступками не уследишь. Чтобы мальчик опомнился. Чтобы укрепить его на стезе добродетели.
Брату Михаилу добросовестно помогает панна Мелания, отвешивая направо и налево пощечины своей костлявой, хищной рукой.
Анатоль встает со скамьи с сухими глазами. Стиснув зубы, начинает пристально присматриваться ко всему окружающему.
На страницах книжки, куда школьный учитель заносит их проступки, расписывается брат Михаил. Круглыми неуклюжими каракулями. После получасовых упражнений Анатоль пробует подделать подпись. Получается. Теперь в лысую голову учителя летит град бумажных шариков, а у деревенских мальчишек ежедневно пропадают завтраки. Страницы книги с устрашающей быстротой заполняются строками, повествующими о все новых, все более ужасных преступлениях. Перед началом уроков учитель неукоснительно заглядывает в книгу. Подпись есть. Подняв очки на лысый лоб, он медленно читает, брат Михаил Венгож. С усмешечкой поглядывает на скамьи воспитанников исправительного заведения.
— Ну как? Порка была?
— Была, господин учитель, — со вздохом отвечает Анатоль.
— А не говорил я вам? И на что вам это все? Не лучше ли быть прилежным, примерным учеником, которого все любят и хвалят?
Фррр! Бумажная стрелка попадает в самую середину лоснящейся лысины. В книге появляется еще одна жалоба. Анатоль подписывается, старательно с заковыристым росчерком. Лишь несколько месяцев спустя эта проделка выплывает на свет божий. А пока можно делать что хочешь и безнаказанно смеяться прямо в жирное лицо учителя.
…Лес хорош. Но его почти не видишь. Спина болит от непрестанного сгибания, перед глазами мелькают черные пятна усталости. Каждый обязан всыпать в общую корзину, над которой стоит брат Михаил с плетью, четыре консервных банки черники. Полные.
Анатоль вырезает кружок из картона. На дно банки кладутся листья, на них картонное донце. И вместо четырех банок получаются две. Остальное можно съесть, можно и просто побродить по лесу, посмотреть кругом.
Весь класс Анатоля пользуется картонными донцами.
— Что это такое! — злится брат Михаил. — Полкорзинки! Нет, вы что-то надуваете меня! В следующий раз буду записывать, сколько кто принес.
И он записывает.
— Полная?
— О, смотрите, с каким верхом!
— Ну сыпь, сыпь!
Но корзина все не наполняется. Напрасно брат Михаил еще раз пересчитывает заметки в своей записной книжке, теребит бородавку на щеке, смотрит на ребят злющими, ледяными глазами.
…Весь день они роются в листве. Высоко нагружают телегу. Анатоль возит. У дороги, перед избой, попыхивая трубочкой, стоит крестьянин.
— Свалил бы это здесь…
Анатоль через плечо оглядывается на лес. Никого не видать.
— Что ж, ладно.
— Сколько возьмешь за телегу?
— Буханку хлеба дадите?
— Дам, дам, отчего не дать! Только привези еще несколько!
И одну телегу Анатоль каждый день оставляет у крестьянина. Ему следует уже восемь буханок. В последний день ему хочется закруглить цифру до десяти, и он сваливает в крестьянский сарай целых две телеги.
Вечером, когда они, грязные и потные, возвращаются в заведение, их встречает во дворе ксендз-настоятель.
— Что ж это сегодня так мало?
— Как так мало? — брат Михаил утомлен и сердит. — Восемь телег — это мало?
— Как восемь? Шесть! Я же считал.
— Э-э… считал… Анатоль, иди-ка сюда! Сколько телег ты сегодня привез?
— Да не знаю, право… Я не считал. Не то семь, не то восемь.
— А не шесть?
— Может, шесть… Не помню…
Брат Михаил еще некоторое время ссорится с ксендзом-настоятелем, наконец они устанавливают, что телег было семь. Анатоль уходит. Страшная тяжесть сваливается с его сердца.
Крестьянин расплачивается добросовестно; по пути в школу Анатоль ежедневно получает полбуханки. Набивает рот кислым черным хлебом, с наслаждением глотает огромные куски или долго, вдумчиво жует. Хоть раз, хоть ненадолго желудок полон. Не сосет под ложечкой, не тошнит, рот не наполняется голодной слюной, челюсти не сжимаются в болезненной судороге. Сытость! Хоть раз, один-единственный разок наесться так, чтобы уж больше и не хотелось.
В погребе — картошка и какая-то особенная, выписанная для посадки морковь. Анатоль отрывает скобу. Ребята предусмотрительны. Каждый день понемножку, чтобы хватило на дольше. И каждый раз скобу приколачивают камнем на место. Огромный замок тяжело висит на ней, гарантируя сохранность. А в поддувале печки печется картошка, и морковь хрустит на зубах под прикрытием ночного мрака и тонких одеял.
На третьем этаже, в угловой комнате — кладовая. Отсюда снабжается стол ксендза-настоятеля, панны Мелании, приезжающих гостей. На колышках висит колбаса. Стоят коробки консервов, банки маринадов, мешки сушеных фруктов. Двери заперты на замок, на колодку, на тяжелые засовы. Анатоль взбирается по водосточной трубе. Окно легко поддается. Вниз, в подставленные руки, летят круги колбас, град фруктов, тяжело падают коробки консервов. Маленький Адам объедается до того, что с ним делаются судороги. В течение двух дней и двух ночей он с посиневшим лицом извивается, как червяк на крючке, его крик, наверно, и в деревне слышен. Брат Михаил приходит в спальню, чтобы дать ему отвар из трав и несколько плетей, уж очень он орет. Несмотря на все, Адам не умирает. Он бродит как тень с совершенно прозрачным лицом. Но ни о чем не жалеет. Хоть раз в жизни нажрался человек.
В один прекрасный день Анатоль добирается до библиотеки. Читает о том, как императоры воевали с папами. Читает о гуситах, которые ненавидели ксендзов. Об инквизиции. И еще всякую всячину.
Постепенно весь класс начинает делиться добычей. Читают все, даже этот вечно заспанный Генек. Ну и дела! Ну и попики были! Хо-хо! Теперь, глядя на: ксендза-настоятеля, они вспоминают все, что Лютер — был такой немец — рассказывает о монастырях. Хихикают по углам при виде торопливо семенящей за ксендзом панны Мелании.
Брат Михаил может теперь спокойно дремать на послеобеденных уроках. Царит мертвая тишина. Раздается лишь шелест переворачиваемых страниц.
Но спустя некоторое время эта тишина начинает его беспокоить. Он притворяется, будто спит. Сквозь прищуренные веки пристально следит за классом.
— Всем выйти из-за парт! — как гром с ясного неба, раздается вдруг.
Разумеется. Под партами история папства, религиозные споры, редкостные издания, долгие годы хранившиеся в монастырской библиотеке.
— Кто?
Пока виновник не обнаружится, все заведение остается без ужина. На длинном столе трапезной дымятся тарелки. Благоухают никогда раньше не виданные здесь шкварки. Хлеб белый и свежий.
— Благослови, господи, сии дары твои…
И тотчас:
— Кто?
Над запахом подрумянившихся шкварок гробовое молчание.
— В спальную!
И так в течение трех дней. Потом объявляют:
— Если виновник не будет обнаружен и дальше, все воспитанники лишаются и обеда.
Большие куски мяса плавают в супе. Золотистые кружочки жира оседают на краях тарелок.
— Благослови, господи, сии дары твои… — и снова:
— Кто?
Сорок пар глаз смотрят на отливающий жиром, золотистый суп в тарелках. Сорок пар ноздрей раздвигаются от вожделения. Сорок глоток шумно, мучительно глотают слюну.
Анатоль медленно встает. Голубыми глазами смотрит в грубо вытесанное лицо брата Михаила.
— Это я.
И опять плети, опять молитва, опять пост.
Но вот однажды он снова в лесу, лежит на небольшой полянке. Он уже сдал свою порцию черники. Солнечные полосы лежат на опавшей хвое. Два жучка. Маленький и побольше. Тот, который побольше, воинственно вытягивает забавные серповидные клещи. Маленький отступает, извиваясь, словно пытается рассмешить, умолить врага.
Анатоль встает. Его красивый рот сжимается в узкую, жесткую линию. Стоптанным каблуком он давит того, который побольше.
— Чтобы не нападал на слабых.
Потом с еще большим ожесточением — того маленького:
— Чтобы не был трусом!
В этот вечер Анатоль бежит из заведения. На этот раз его уже не могут поймать — ни на станции, ни в других местах. Как камень в воду.
Но остаются другие Анатоли, Вицеки, Юзеки и Франеки, или как их там еще окрестили. Остаются среди шепота молитв, свиста плетей и смрада комнаты для «сикунов».
И так долгие, долгие годы.
V
Надо как-то помочь семье. Не тем, чтобы подметать, топить печки, качать ребенка. Не тем, чтобы мыть полы, чистить песком посуду и стирать тряпье. Надо помочь по-настоящему — приносить домой деньги. Хоть гроши какие-нибудь. Ведь ему уже восемь, десять, двенадцать лет — давно пора зарабатывать на жизнь. И Виктор, Генек, Стефан, Наталка, или как их там еще, идут торговать.
— Эээкстренный! Вы-пуск! Ужасное преступление в…!
— Труп без головы в саквояже!
— Беспорядки в…!
— Экстре-еенный вы-ы…! Смертный приговор шпиону!
Газеты. Рано утром, как только рассветет. В полдень. Вечером перед пылающими огнями кафе. В дождь. В холод. В зной. Газеты.
— Свежие! Свежие! Свежие! Пять грошей пара!
— За пять пара! За пять пара!
Баранки. На перекрестке улиц. С рассвета до поздней ночи. В дождь. В мороз. В зной. Баранки.
— Зеркальца шлифованные!
— Сливочная карамель! Сливочная карамель!
— Ваше сиятельство, купите госпоже графине фиалочки! Вон какие хорошие, свеженькие!
— Господин советник, купите сиятельной княжне ландыши! Один букетик!
— Розы! Гвоздики! Левкои! Ваше сиятельство, господин граф! Господин советник! Господин доктор!
С рассвета до поздней ночи. Громко, громко, во весь голос. Льстиво, остроумно, со злобой, со слезами. Перед магазином, перед дансингом, на стоянке автобусов, в парке, у театра, у кино, у цирка, на площадях. Особенно на одной площади.
Нужно пробраться по извилистым, немыслимо грязным уличкам, полным шума, крика, суеты. И, наконец, площадь — большая, широкая, битком набитая народом.
— Дамочка, дамочка, не купите ли шарфик? Хороший, совсем еще новый шарфик!
— Баранки! Пять грошей пара.
— Ботинки! Ботинки! Шикарные ботинки!
— Кто купит шубку? Настоящий бобер, чтоб я так здоров был, настоящий бобер!
Вдоль тротуара шеренга женщин. Эти молчат. Видимо, впервые здесь. Бледные, увядшие лица, потухшие глаза. Каждая держит что-нибудь в руках. В их глазах, окаймленных синими кругами, странное, скорбное выражение ожидания и вместе с тем полной безнадежности.
Дырявый детский свитерок. Мужская сорочка с вырванной у шеи обшивкой. Платье из расползающегося по всем швам шелка. Два цветных носовых платка со следами крови. Много раз штопанные бумажные чулки.
Руки продавщиц крепко сжимают продаваемые вещи. Глаза, изверившиеся во всем, мертво глядят на толпу.
— Покажите-ка эти штаны.
Неопределенного цвета отрепье с огромными светло-серыми заплатами сзади и на коленях.
— Старье…
— Да вы взгляните только, совсем хорошие штаны, дыр нет, аккуратно подшиты.
Покупательница берет товар, долго вертит его в руках. В глазах старой женщины загорается огонек надежды.
— Вы только попробуйте, материал еще долго проносится, совсем хорошие штаны.
С другого конца площади доносятся звуки патефона. «Вспомни обо мне…» — сентиментально хрипит старая пластинка.
На развалине детской коляски устроено нечто вроде прилавка. Дребезжащий граммофон скалит на публику облупившуюся пасть трубы. Рядом лежит груда пластинок.
— Почем?
— По восемьдесят грошей. Вальсы, танго, фокстроты. Можно сейчас попробовать, — тихо отвечает бледный мальчик.
— Дорого.
— Недорого, господин, пластинки-то какие!
— Сюда! Сюда! Самые модные боевики, только по злотому! Каждая пластинка всего злотый! — фальцетом кричит молодой еврей со впалой грудью.
Рядом останавливается старый, сгорбленный человек. Глаза Обведены красной каймой. В дрожащих руках истрепанная, облысевшая кисточка для бритья.
— Слушайте, кто же это купит?
— Купят, купят, почему не купить? Совсем еще хорошая кисточка, — старческий голос вздрагивает. — Совсем хорошая кисточка. Грошей хоть десять дадут.
— Книжка?
— Да, вот… — прилично одетый господин, видимо, чувствует себя неловко.
— Сколько?
— Пятьдесят.
— Сорок.
— Берите.
«Верная река» Жеромского за сорок грошей переходит в руки коренастого оборванца.
— Это, по-твоему, кресло? Это и не кресло, а просто четыре ножки и какие-то клочья.
— Да вы только взгляните, ведь и спинка и обивки немного есть, — терпеливо объясняет изнуренная девочка. — Попробуйте сядьте.
— Штанов жалко. Что-то мне кажется, что вы, мамзель, попрете это креслице обратно домой.
Бледные губы девочки шевелятся, но не издают ни звука.
Поодаль, в раскисшей грязи, рядами стоят башмаки. Башмаки-призраки, башмаки-привидения. Искривленные каблуки, вырванные задники, отстающие носки. Сбоку скалят мертвые зубы деревянные гвозди.
Мальчонка стоит перед башмаками. Его босые ноги фиолетово-красного цвета. Не отрывая глаз, он смотрит на остатки того, что было когда-то сапогами. Тихо насвистывает сквозь зубы: «Вспомни обо мне…» Уходит, через мгновение снова возвращается. Видимо, в зрелище этих жалких остатков есть что-то, от чего он не может оторваться, что заставляет смотреть на них не с брезгливостью, а с вожделением.
Мимо проходит другой. Старый рабочий с курткой в руках окликает его.
— Эй, купи куртку! Холодно уже в одной рубашке.
Подросток осматривает куртку. Толстый материал, вытершийся по швам, на локтях заплаты. У шеи клочки съеденного молью меха. С минуту он держит куртку в руках, взвешивает.
— Нет, для меня это слишком шикарно. Наверно, дорого просите, мех все-таки…
— …Что это, подушку продаете?
— Что ж, ничего не поделаешь. Ребятишки обойдутся и без подушки. Не такое время, чтобы на подушках спать.
— Гусиное перо?
— И, куда там! Соседка кур покупает, так иной раз даст мне немного перьев.
— Жесткая.
— Да, милая вы моя, какой же ей еще и быть, из куриных-то перьев? Ну, да нынче никому не мягко.
Старуха всеми силами пытается натянуть на маленького тщедушного мужичонку тесное пальто.
— Как раз! Смотрите, как сидит! Будто по мерке сшито!
— Да ведь мало!
— Нисколько не мало! Что ж вы хотите, чтоб оно, как мешок, висело?
— Юзек, подними руку!
— Только потихоньку!
— Не беспокойтесь. Снимай Юзек, никуда не годится. Узкое, короткое.
— Пальто хорошее, мужик маленько нескладный. Говорю вам, пальто что надо, — пытается убедить старуха, но те уже далеко.
Седая старушка держит в протянутой руке четки. Прохожие толкают ее, дрожащая рука опускается, она терпеливо снова подымает ее. Деревянные шарики с сухим звуком постукивают один о другой.
Дальше свален в кучу железный лом. Лезвие от кухонного ножа, погнутый металлический карниз, покрышка от спиртовки, ржавые гвозди, кочерга без ручки, сломанный молоток, замки, странные остатки чего-то, назначение чего невозможно определить.
Худенькая девочка крепко прижимает к груди две гипсовые статуэтки.
— Не отдашь?
— Не. Папаша приказали: злотый.
— Дурная, кто тебе даст злотый. Пятьдесят грошей. Это же деньги! Больше никто не даст. Нечего и стоять.
— Не…
— Не будь же упрямой! Будешь тут зря мерзнуть, а потом так и пойдешь с ними домой. Ну, получай пятьдесят грошей, видишь?
Углы маленького ротика опускаются вниз. Темные ресницы быстро вздрагивают.
— Нет… Папаша велел злотый, — беспомощно всхлипывает она.
— Не реви! Что ж это папаша тебя послал, не мог сам прийти?
— Не.
— На работе?
— Не.
— Болен, а?
— Болен. Ноги им придавило. Лежат.
— …Шоколадные бомбы! Всего десять грошей штука! Только у меня! Всюду пятнадцать, у меня десять!
— Шина? Это называется велосипедная шина? Это сплошная дыра, а не шина!
— Зальете резиной!
— Что залью? Это же сито, а не шина… Сколько просишь?
— …А не треснувшие?
— Новехонькие, послушайте, как звенят. Стаканчики, что твое золото. И как раз парочка!
Есть люди, выстаивающие здесь часами, и хоть бы один человек осведомился об их товаре. Со всех сторон слышны жаркие споры о цене, но покупают лишь изредка. Время от времени граммофонная пластинка, заношенный шарфик или томпаковая цепочка переходят из рук в руки. Но это почти что и все.
Руки стоящих вдоль тротуара женщин синеют все больше. Покорные глаза наливаются слезами. Человек с облысевшей кисточкой для бритья все еще блуждает в толпе. Зернышки четок постукивают, как и несколько часов тому назад.
Просторная площадь вопиет к небу об ужасающей человеческой нищете. Кричит во весь голос, бросает в хмурое небо свое чудовищное обвинение, набухшее слезами проклятие, мрачное проклятие обездоленных.
Здесь, в этом болотистом, грязном месте, как ядовитый цветок на трясине, всходит и распускается ледяная, неумолимая ненависть. Ей учатся, продавая свои шоколадные бомбы, шнурки для ботинок и пирожные — все эти Юзеки, Казеки, Антеки, или как там еще их при рождении окрестили.
Внезапное движение на тротуаре. Полицейский ведет оборванного подростка.
— Что случилось? Украл что-нибудь?
— Нет; патента не имеет, а торгует пирожными. Без оплаты патента торговать не полагается.
Нарваться на полицейского — это уж последнее дело. По пути треснет кулаком по башке или даст в зубы: таскайся, мол, с тобой, байстрюк проклятый. Да еще хорошо, ежели только допросят и составят протокол. Или и того лучше: дадут раза два по морде, чтобы ты, сопляк, запомнил, — и убирайся на все четыре стороны! Но вот если задержат, то в участке вши так и заедят.
Спят здесь на голых досках. Едят жиденький суп, вылавливая из него картошку пальцами, потому что ложек нет. Как знать? Вдруг арестованный возьмет да перепилит тупой ложкой оконные решетки, выскочит с третьего этажа, убьет ложкой надзирателя и часового у ворот и вырвется на свободу, в радостную вольную жизнь, с ночевками под мостом, куском сухого хлеба и матерной руганью. Так что лучше уж без ложки.
Потом переводят, наконец, в настоящую тюрьму. Сперва в цейхауз. Здесь отбирают подтяжки, шнурки для ботинок и галстуки, если у кого они есть. Затем к парикмахеру. Под резкое лязганье машинки падают клочья волос. На даровщинку, без издержек и хлопот, голова становится голой, как луна. Неприятно. Одежду в дезинфекцию! В баню! И, наконец, — в камеру. На третьем этаже, в бывшей монастырской мертвецкой, помещается «могила» — камера для малолетних.
Стрельчатые своды потолка. Высоко под ними зарешеченное оконце. У стены ворох сенников, которые складываются сюда на день.
Сидят за разное. Двенадцатилетний — за кражу часов. Восемнадцатилетний — за изнасилование девочки. Подросток — за поножовщину. И восьмилетний клоп — за стянутое с лотка пирожное. Детские лица — и лица преступников.
Самый старший — тот, который приговорен за изнасилование, — командует в камере. Он решает, кому утром убирать камеру, кому выносить смердящую парашу. За недостаточно ловкую и проворную работу он лупит толстым ремнем. А когда начинает скучать, устраивает себе развлечение: садится на спину кого-нибудь из младших и заставляет возить себя на четвереньках по камере и покрикивает, как на лошадь: геп! геп! Колотит каблуками в бока, подгоняя своим неразлучным ремнем. Прекратить игру нельзя, хотя бы колена были ободраны до крови, пот лил с лица, из носа пошла кровь, хотя бы свистящее дыхание разрывало легкие. Опять и опять вокруг камеры! Остальные смеются, — одни от жестокой радости, другие, чтобы подольститься к старшему, наконец третьи просто потому, что это так потешно выглядит. Иногда этакий дурень даже в обморок упадет, как барышня какая!
Утром поочередно в уборную. Затем стаскивают сенники к стене, подметают каменный пол. Завтрак. Жидкая похлебка и хлеб. Черный, клейкий, ложащийся камнем в желудке. Потом — ходить туда и обратно, восемь шагов вперед, восемь назад. Ходить, ходить непрестанно. Иначе отекают ноги, в пахах делаются болезненные желваки, вздуваются вены. От этого не спасает получасовая прогулка по тюремному двору — гуськом, один за другим, в мрачном молчании. Потом вторая очередь, а то тесно. Остальные сидят у стен, крутят цыгарки, рассказывают всякие истории. Веселее всего, когда появляется новичок, который не хочет слушать, краснеет, слезы у сопляка на глазах выступают. Вот тут-то и начинаются самые потешные рассказы. Рассказывают наперебой, хвастаясь один перед другим молодечеством, похваляясь, что, бывало, вытворяли! Мрачный истерический смех.
Обед. Снова хождение. Снова рассказы. В углу режутся в карты, засаленные, черные от грязи, неведомо как сюда протащенные. Битье вшей в рубашках. Наперегонки, кто больше поймает, у кого крупнее.
Любители охотятся на клопов, но разве их выловишь — целые орды вылезают из каждого угла, жирные, отъевшиеся, издающие омерзительный запах.
Наконец, приходит надзиратель. Выстраивает в шеренгу, пересчитывает. Будто кто-то мог пропасть. Выстукивает небольшим молотком решетки. Здесь, на третьем этаже, в ежедневно обыскиваемой камере. Выстукивает долго, тщательно. Заглядывает во все углы. Свет гаснет.
В праздничные дни — с утра в часовню. Отстоять обедню, выслушать поучения ксендза, покаяться в грехах. Узнать, как прекрасно, что им дана возможность исправиться, вернуться на надлежащую дорогу.
По правде сказать, так оно и есть. По выходе отсюда парню уже не приходится блуждать ощупью, он уже знает, где, что и как, с кем надо встретиться, что сделать, где нуждаются в таких, как он. Из неопытного воришки такой «химик» выходит, что только — ой! Постоянный клиент тюрьмы на будущее.
Хотя иной раз хороша и такая крыша над головой.
Господину директору стоит нажать кнопочку у своего письменного стола и весь его роскошный кабинет-лифт переносится с этажа на этаж, начиная с первого и кончая последней площадкой лестницы. Ради экономии времени и чтобы не слишком утруждать себя, господин директор нажимает кнопку. Комната-лифт мчится. На лету мелькают мрамор лестничной клетки, резная деревянная отделка, белизна, золото, бронза.
А на свалке, там, где уже обрываются улицы, куда вывозят все, что переварил и выплюнул город, двое старых людей выстроили себе убежище. Старые кастрюли, съеденные ржавчиной выварки, дырявые горшки — из чего только не выведены эти стены! Щели заткнуты лоскутьями, обрывками истлевшего тряпья, не пригодного даже для переработки на бумажной фабрике. Сверху ради тепла набросано все, что возможно, — слой пепла, обрывки бумаги, огрызки, погнутые консервные банки. Вместо дверей свешивается грязная тряпка с просвечивающими дырами. Страшный, удушающий смрад, поднимающийся со свалки, перехватывает дыхание.
Здесь живут: старый мужчина, старая женщина и Антек, Владек, или как его там, их внук. Спят на подстилке из лохмотьев среди одуряющего запаха гнили.
— Я-то?.. Ну да, работал, конечно работал. Тридцать лет на заводе. А теперь никаких сил не осталось. Молодые не работают, куда же старику.
Он греет дрожащие пальцы с опухшими суставами над жалким огоньком, чадящим в скелете эмалированной кастрюли.
— Уголь есть?
— Чуточку есть. Моя ходит, иной раз насобирает. С подводы на улице упадет или у подвала где ссыпают; все какие-нибудь кусочки найти можно. Мне-то уж не под силу идти в город, ноги болят, да женщине все-таки и легче. Все же полицейский ее не так от этого, прости господи, кусочка угля отгоняет…
— Чем же вы тут живете?
Седая голова задумчиво покачивается. И после долгого молчания бессильный, старческий голос переспрашивает:
— Чем мы тут живем?..
В мутных, закисших глазах тупое удивление. Жалостливая дамочка уходит. Тогда из-под грязной тряпки, заслоняющей вход, вылезает Петрик, Людвик, или как его там, и смотрит ей вслед — с издевкой, с ненавистью.
Долго, тщательно строили новый салон-вагон. Портьеры на окнах, сверкающие огромные зеркала, ковры. И полированное дерево столиков и нежный, как пух, плюш обивки.
В час тридцать минут ночи на вокзале кондуктор тщательно проверяет билеты у всех, сидящих в залах. Выгоняет безбилетных, запирает дверь на ключ и становится на страже. И тогда заполняется холодный, грязный вестибюль перед залом третьего класса. На скамьях, на каменном полу, на железных перилах сидят те, кто никуда не едет.
Молодежь — будущее нации — ежится на длинной деревянной скамье у входа. Босоногий подросток с прыщеватым лицом, незаконный сын Терески из переулка; тонкий, как глиста, Ясек — его отца повесили за грабеж; худая, кутающаяся в платок Генька, дочь дворничихи. Они дымят окурками, далеко сплевывают сквозь зубы, тихонько разговаривают о чем-то между собой, восторженно оглядываясь через плечо. Ни одному из них нет еще восемнадцати лет, — бродяга, карманный вор и проститутка.
Они жмутся друг к другу, — холодно. Холодом веет от каменного пола, ледяной ветер дует сквозь открытые входные двери. И только в четыре часа утра откроется зал ожидания, натопленный рай грязного, мрачного третьего класса.
— Ночлежный дом? — подросток цыкает слюной метра на два. — Там ночует аристократия, тридцать грошей, не пито, не едено за ночь. Зато с удобствами — вшей больше, чем соломы!
Он молодцевато сдвигает рваный козырек на ухо. Широко позевывает. В черной яме рта виднеются испорченные, гнилые зубы. И вдруг опирается о плечо товарища, прикрывает глаза. Мимо проходит представитель власти. Генька плотно кутается в платок. Рваные бумажные чулки спустились, порыжевшая юбчонка едва прикрывает колени. С испитого, окаймленного кудряшками лица пугливо смотрят глаза. Детские, беспомощные.
В уголке, на полу, в группе товарищей постарше, спит, свернувшись клубком, десятилетний Фелек. Босые ноги поджаты под себя, впалая грудь дышит трудно, с хрипом и свистом. Подальше — те, для кого не нашлось места и на каменных плитах. Первый присел, опираясь на низкий выступ стены, следующий сел ему на колени, так они и сидят у стены длинным рядом, каждый упираясь лицом в спину следующего. Спят.
В институте физического воспитания есть все. Крытые беговые дорожки, бассейн для плавания, теннисный корт. Высокие белые сверкающие гимнастические залы, фехтовальный зал. Но под мостом, в туманных испарениях реки, в вонючей от кала грязи спят четверо мальчуганов. Лихорадочная дрожь бьет тела, едва прикрытые изорванной в клочья одеждой. Как щенки, они сбились в клубок, плотно прижимаясь друг к другу.
И вдруг вдали резкая трель свистка. Как настороженные зверьки, они сразу вскакивают на ноги. Молчком, скользя в грязи, несутся во тьму. Над этой беговой дорожкой нет крыши.
В слабом свете далекого фонаря поблескивает козырек полицейской фуражки.
Таков закон. Закон, равный для всех. Если бы господину директору, владельцу фабрики или пассажиру салон-вагона вздумалось ночевать на скамье в парке, в амбразуре моста или на вокзале, их также выгнали бы оттуда.
Но только ни один из них почему-то не идет ночевать ни на вокзал, ни под мост, ни в парк.
VI
Мерно постукивает молоток.
Со свистом режет широкий нож.
Громыхает машина.
Кожа. Бумага. Сукно. Смола. Дратва. Игла. Ножницы.
Виктор, Зенек, Леон или Густек поступают в ученики в мастерскую. «По крайней мере кусок хлеба будет, когда кончишь».
Мастер — хромой, маленький, сердитый. Чуть что, на лбу у него вздуваются толстые синие вены. Он громко кричит, второпях сыпля словами, как градом. Капельки слюны брызжут сквозь черные выщербленные, как старая изгородь, зубы. Вечно потные мозолистые руки мечутся над головой, как злые, взъерошенные птицы.
Мастер — высокий и красный. Огромное пузо торчит вперед, как сундук. Покрытая бородавками шишка синего носа, с жидких волос сыплются на воротник белые чешуйки перхоти. Лапа огромная, как лопата, и тяжелая, как обух.
Мастер — тощий, худой, как скелет. Крепко стиснутые тонкие губы. За весь день не вымолвит слова. Костлявые когти рук так и мелькают.
Мастер — кругленький, пухлый, этакий розовый бочонок. Слюнявая улыбочка на мясистых губах, злые, сверлящие глазки утопают в жиру.
Жена мастера. Толстая, как печь. Крикливая. Шляется до обеда полуодетая, запихивая в незастегнутую кофту огромные, обвисшие, как коровье вымя, груди. Над стянутыми шнурованными ботинками жирными складками переливаются голые красные икры. На вечно нечесаной голове спутанные космы.
Жена мастера. Худая, как шило. Торопливо перебирая четки, она пересчитывает крупинки в горшке, ищет в голове у уродливой, похожей на крысу, дочки, лупит мужа по морде. Торопливо перебирая четки, отхватывает кусок сукна на новые шлепанцы от принесенного заказчиком материала.
Жена мастера. Заплаканные глаза. Боязливый голос, непрестанное пошмыгивание носом.
Жена мастера. Шелковые чулочки. Крепдешиновая комбинация. Губы сердечком. Волосы — что ни неделя другие: перекись водорода — желтые, как солома. Луковая шелуха — рыжие, как Шарик во дворе. Какая-то краска, заваренная в горшочке, — черные, как вороново крыло. Через два дня сквозь эту черноту пробиваются зеленые полосы и — новое превращение: волосы серы, как пепел.
К тому же — дети.
Ребенок. Мочится по углам и вечно нюнит.
Ребенок. Колет тебя булавкой в икру, бросает твою шапку в ведро с помоями, сует в карман дохлую мышь.
Ребенок. Злится, плюется, кидается с кулаками. Ябедничает и брешет, как собака. А тронь его — поднимает рев, от которого дребезжат грязные стекла в окне.
Ребенок. Всюду сует нос, схватит, порвет, запачкает, вытащит из дому, потеряет, украдет, засунет так, что и не найдешь. Испортит, помнет, закрасит чернилами, заляпает грязью, истреплет. Ребенок.
Так уж оно, видно, должно быть — мастер, его жена и дети. Ну и еще — комната.
На веревке пеленки. Кислый тошнотворный запах. В каждом углу грязные пеленки. Мокрые, зеленые, омерзительные. Они валяются за кроватью, мокнут в ведре, кипят в баке на плите, рядом со щами, шипят под утюгом. В подвале. Заросшее грязью ослепшее оконце высоко вверху. Гнилые доски пола. Скользкие от грязи ступени лестницы в первый этаж, в квартиру, куда ученику входить запрещается.
Другая. Четыре кровати вдоль стен. Нагромождение сундуков в углу. Шкафы, шкафики. Зеленые покрывала, гипсовые фигурки. Пузатая, вечно пышущая жаром печка. Коптящая лампа. Заслоненные двойными занавесками окна. Жара.
Третья. Голые нары. Заляпанный клеем и красками пол. Железная печурка, извергающая уголь и сажу. Сорванные с петель оконные рамы. Щели в деревянной стенке, выходящей в сени. Холод.
Утром вода, окрашенная цикорием, и ломоть хлеба. Или разваренная в жидкую кашицу картошка. В обед капуста и картошка. Вечером картошка и капуста.
Жена мастера высовывает голую ногу из-под перины. Серое, холодное утро.
— Эй, вставай! Поздно уже! Топи печку!
Флорек, Манек или Сташек вскакивает. Складывает крест-накрест щепочки. Кладет на них мелкие крошки угля. Вспыхивает огонек.
Жена мастера блаженно потягивается. Неохота вылезать из мягкой постели.
— К булочнику. Фунт хлеба и шесть булок. Только смотри, чтобы хорошо выпеченные. Возьми бидон для молока.
— Поставь воду. Когда нагреется, постираешь чулки, только осторожно, — шелковые.
Мастер ворчит. Ведь надо еще отнести костюм к портному.
— Не бойся, успеет! Ноги молодые, слетает в два счета.
И Флорек бежит. Приносит, уносит, тащит, поднимает тяжести.
— Прополосни пеленки!
— Причеши девочку!
— Подмети комнату!
— Вычисти ботинки!
— Начисть картошки!
— Сотри пыль!
— Вымой пол!
— Укачай Юльцу, не слышишь, что плачет?
— Займи Збыся, а то ему скучно!
— Подай гребень, — говорит жена мастера, расчесывая желтые волосы.
— Шевелись поживей, — кричит мастерша, перебирая четки.
— Нужно вымыть окна, принимайся-ка за них, — приказывает мастерша, запуская пальцы во всклокоченную голову.
— Опять плохо прибрано! — жалуется мастерша, скорбно шмыгая носом.
А дома в воскресенье жадно расспрашивают:
— Ну, как дела? Прибить подметку уже умеешь?
— Можешь уже и на машине или только на руках?
— Корешки-то уже шьешь?
«Уже», «уже» и «уже». Только это и слышишь. Он молчит. Да и что сказать? Что он умеет стирать чулки, качать ребенка, топить печку, мыть пол? Это-то он умел и дома.
А в остальном: линейка, палка, ремень, кулак.
Впрочем, это было уже и дома.
Но иногда, когда мастера нет дома, жена мастера скучает.
— Нравятся тебе мои волосы? Пощупай, какие мягкие.
Загрубевшие пальцы неуклюже касаются желтых прядей.
— Да… мягкие.
— Надень мне чулки, чувствуешь, какое у меня гладкое колено? Можешь поцеловать… Ну, не слышишь? Целуй!
Вдруг пересохшие губы неохотно касаются белого колена. От гладкой кожи пахнет потом и еще чем-то странным. Его тошнит от омерзения. Утренний картофельный суп подступает обратно к горлу.
— Ну, еще раз. Не хочешь? Ишь, какой застенчивый! Подумаешь!
Другой мастер по утрам ходит в церковь. Его жена подолгу отлеживается в постели.
— Иди сюда.
Он не понимает.
— Идиот! Сюда! Сапоги сними, а то перину запачкаешь. Ну, ложись!
Наваливается ожиревшим туловищем. Дышит. Приминает его. Отчаянным жестом самозащиты он вцепляется в ее огромные, обвисшие груди. Изо всех сил впивается ногтями. Наугад, сослепу бьет кулаками по этой огромной, мягкой горе жира. Она дышит. Стонет. Закатывает большие коровьи глаза. И так — пока в сенях не раздаются шаги.
С этих пор он с утра разносит по клиентам заказы. Ходит к костелу за мастером. Вот когда он узнает силу разъяренных кулаков, злобные пинки огромной ноги, ехидные взгляды и ядовитые словечки. Но лучше уж так.
Наконец, начинается и обучение. Помаленьку. Постепенно. Не сразу. Два года спустя он еще не умеет сшить сапоги, скроить пиджак, переплести книжку. Оно и понятно: иначе он уж не захочет быть на побегушках, мести, стирать и готовить, — зазнается. Так уж лучше помаленьку. Долгие, долгие дни — одну какую-нибудь деталь.
По правде сказать, нечего было так уж рваться к этому учению.
Теперь берись за клещи, за молоток, за обрезальную машинку. Что ни день, что ни день выстукивает свою монотонную песенку молоток! Завтра, как нынче, завтра, как нынче, — назойливо стрекочет машина. Все одно и то же, все одно и то же, — скрипит станок.
Безнадежен день, долгий, упрямый, утомительный. Спина гнется в дугу, болят глаза в покрасневших веках, болят исколотые, ушибленные, обожженные пальцы.
А в конце концов так и не удается закончить срок обучения. Он становится слишком велик, чтобы няньчить ребят, мести и стирать. Начинает хмуриться, когда его по десять раз в день гоняют в город. В глазах при виде занесенного кулака уже загорается злой огонек.
Господин мастер меняет ученика. Придет новый, маленький, слабый, и опять послужит несколько лет.
Предлог найти не трудно. Дела плохи. Или: никаких способностей у тебя, бездельник, к нашему ремеслу. Или: убирайся на все четыре стороны! Благодари бога, что я полиции не позвал, нам воров не надо. Или: переезжаю в другой город. Наконец: ребенок болен, нельзя, чтобы ты у него столько места отнимал. Или: непочтителен к моей жене, никакого уважения к старшим!
Так и не удается кончить.
Так же, как Антеку, не удается кончить гимназию.
У отца дела идут неплохо. Получил постоянную работу, мать тоже кое-что зарабатывает.
— Ну, как же будет с Антеком? Отдать в мастерскую, что ли?
Хуже всего эти ежемесячные посещения родителей. Антек вместе с другими бродит по коридору и знает: там в классе стоит длинная очередь отцов и матерей. Классный наставник заглядывает в свою записную книжку и дает справки. Мать в платке на плечах прячется где-то в самом хвосте. Она боится отнять у учителя время, не смеет подойти по очереди раньше дам в нарядных шляпах, в шелковых платьях, которым господин учитель умильно улыбается, при виде которых торопливо вычеркивает двойки в своей записной книжке. Любезно болтает с ними о всякой всячине. Когда мать, наконец, решается подойти, у него уже нет времени. Он наскоро говорит ей отметку — и все. Или нетерпеливо бросает:
— Учебников у него нет, тетрадей не приносит, вчера учитель рисования жаловался, что он не купил краски, хотя в классе уже два раза объявляли.
Объяснений он не слушает. Отмахивается, как от назойливой мухи, и торопливой шелковистой походочкой бросается подать пальто госпоже докторше и обменяться несколькими словами с господином инженером.
— Ты бы не ходила за этими справками, — говорит матери Антек.
— Да ведь надо, — господин директор строго-настрого приказывал!
Ну да. Надо. И мать ходит. Без всякой пользы, потому что все равно ей не изменить ни одной его отметки, как меняют «неудовлетворительно» на «хорошо» те другие матери, действующие любезными улыбками, ласковыми словечками, ароматом дорогих духов.
В классе появляется новый учитель. Переписывает учеников. Спрашивает каждого о профессии отца. Потом спускается с кафедры и, прохаживаясь по классу, говорит речь. Но Антек слышит лишь первую фразу:
— Я очень рад, что в этом классе мало сыновей так называемого пролетариата.
Антек смотрит в окно, ощущая терпкую горечь во рту: «Я очень рад, что в этом классе… Я очень рад, что в этом классе… Рад».
Он возвращается домой.
— Не стану я ходить в школу.
— Что такое?
— Не стану ходить в школу.
— Белены ты объелся, что ли? — кричит мать.
Но отец мрачно смотрит на него из-под нависших бровей.
— Чтоб я этого больше не слышал! Будешь ходить — и точка!
И Антек ходит. Ходит со своими заплатанными сапогами, с вечным безденежьем, когда собирают на ту, на другую, на десятую цель, с клеймом пролетария на лбу. Ходит, пока отец не теряет работы. Тогда вопрос о гимназии быстро снимается с повестки дня. Неделю, другую, третью, ему всякий день напоминают о плате за право учения. Перед всем классом бранят за легкомыслие и недобросовестность. И, наконец: «Раз у тебя нет средств, иди в сапожники».
Именно — в сапожники. Класс, среди которого мало детей так называемого пролетариата, смеется. Антек собирает свои немногочисленные учебники и уходит со слепой, яростной ненавистью в сердце.
И, наконец, они взрослые. Ведь каждому уже по шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет, — пора уже по-настоящему зарабатывать на себя.
VII
Одно, другое, третье место быстро меняется одно за другим. Трудно, ох как трудно прожить несколько месяцев подряд в одном доме. Руки Веронки уже потрескались, опухли, покраснели. От холода, от стирки, от таскания ведер с углем.
И вот опять приходится отправляться в бюро по найму. Может, найдется, наконец, дом, где можно будет пожить дольше, где каждое первое и пятнадцатое число не придется трепетать от страха, колебаться, принимать какое-то решение. И вот она снова сидит здесь. Не одна, конечно.
Лакированные туфельки, расшлепанные башмаки, сандалии. Штопаные шелковые чулочки, голые икры, бумажные, свисающие складками чулки. Пальто, шали, жакетки. Шляпы, береты, платочки. Локоны, косы, растрепанные головы.
Пожилая, коротко остриженная дама в очках. Останавливается среди комнаты, смотрит. Пристально мерит глазами сидящих в несколько рядов девушек. Снизу вверх, от башмаков до прически.
— Рекомендации есть?
Натруженная рука робко протягивается к ней. Пожелтевшие, истрепанные клочки бумаги. Год, восемь месяцев, полгода.
Глаза в очках быстро пробегают неровные строчки справок.
Время от времени незаметно, исподтишка бросают быстрый шпионящий взгляд на стоящую рядом девушку.
— Ну что ж, пойдешь посмотреть квартиру?
Следующая. Седая, изящная дама. Поглядывает сквозь пенсне елейно, не спеша, цедит сквозь зубы слова.
— Нет, не эту… Мне нужна скромная, послушная девушка. Да, убирать, готовить, стирать… ничего особенного, все, что требуется по хозяйству.
— А жалованье?
— Жалованье? Пятнадцать злотых.
Девушка беспомощно теребит угол платочка.
— Очень уж мало…
— Как мало? Не такое время, чтобы больше платить. Ведь к этому надо еще прибавить пять злотых в больничную кассу.
— В кассу все платят…
— Но половину, только половину. А я плачу целиком. Не хочешь?
Нет, на это она не может согласиться и молча возвращается на свое место. Веронка немного знает ее, — когда-то они служили на одной улице. У той ребенок в деревне, приходится платить за него двадцать злотых в месяц. Как же можно пятнадцать…
Подходит другая.
— Знакомых много?
— Нет.
— Ни семьи, ни родных, ни кавалеров? Потому что это несносно, когда то и дело кто-нибудь является. А ты сильная? Уголь из подвала можешь носить?
Все снова упирается в эти пятнадцать злотых. В круглых глазах девушки отражается упорство отчаяния.
— Двадцать.
— Квартира светлая, веселая и церковь близко, — медовым голосом соблазняет дама.
— Сколько комнат?
— Две, нас трое.
Девушка мгновение колеблется, потом неохотно следует за дамой. Веронка смотрит ей вслед.
— Пожалуй, согласится.
— А что поделаешь? Думаешь, я бы не согласилась, кабы не ребенок.
— Ты бы подала в суд на этого, своего. Пусть бы он давал хоть сколько-нибудь.
Юзя опускает голову.
— Не хочу, — отвечает она тихо. — Женился он, ребенок чуть меньше моей Зоей. Есть на кого работать. Как-нибудь справлюсь сама.
Дверь с шумом распахивается. Возвращается только что ушедшая девушка. Размазанные струи слез оставили на лице серые тени. Из-под надетого кое-как берета выбиваются растрепанные волосы.
— Ну, что там еще?
Седая дама очень уж скромно подсчитала свое семейство и количество комнат. Комнаты — четыре, «господ» — шесть человек.
— Да, выходные я, разумеется, даю, — любезно объясняет пухлая дамочка. — Каждое воскресенье после обеда она идет гулять с ребенком; среди недели, когда кончит работу, тоже может повести ребенка на бульвар или в парк, как сама захочет. Нет, чтобы такая молоденькая девушка ходила одна, я считаю невозможным, просто невозможным.
— Где раньше служила?
— В ресторане.
Тонкие губы складываются в брезгливую гримасу.
— Нет, нет, после всяких там ресторанов… Мне нужна тихая, домашняя.
— А почему нет справки о работе за март и апрель?
В это время она не работала. Обварила руку и принуждена была лечить ее.
— Где же все это время находилась?
— Жила на квартире.
— У кого?
— У одной дворничихи.
Высохшая дама тоном инквизитора, чующего преступление, продолжает допрос.
— Кто там еще жил? На какие средства жила?
Худощавая девушка, видимо, выходит победительницей из этого перекрестного огня вопросов, потому что теперь начинается осмотр больной руки. На тыльной стороне ее видны синие шрамы.
— Только все ли ты уже можешь делать? А стирать? Ну-ка, согни пальцы, вот так, а теперь выпрями. Еще раз. Но это, наверное, не будет мешать в работе, а?
Бледные губы страстно уверяют, что это ничего, что все уже совсем, ну совсем прошло!
— Ах, моя милая, у всех у вас прямо-таки безумные требования, — вздыхает, тяжело развалившись на стуле, дама, лелеющая на своем необъятном лоне крохотную собачку. — В такие трудные времена, как сейчас, человеку приходится ограничивать себя во всем, отказывать себе во всякой мелочи, между тем у прислуги всего вдоволь. Тебе дают и стол и крышу над головой, живи себе как у Христа за пазухой! Ни забот, ни огорчений.
— Ну, как, нанялись? — спрашивает Веронка грустную пожилую женщину.
— Куда там! Говорит, что я, мол, нервная, что она это сразу чувствует и не желает за свои деньги брать в дом нервного человека.
— А вы и вправду такая нервная?
— Да нешто я знаю? — Ее глаза стекленеют, веки часто моргают. — Может, и так. С тех пор как моего убило на заводе, я уж ничего не знаю…
— …Я хотела бы простую, деревенскую девушку, прямо из деревни, уж я ее всему научу… Нет, нет, совсем простую…
Губы Веронки болезненно кривятся. Она-то понимает, в чем дело. Разумеется, «простую», такую простую, чтобы не смела и заикнуться о своих правах. А есть о чем заикнуться.
— Хлеб? А… конечно, запираю! Что же, ты думаешь, мне хлеб с неба падает? Прислуге выделяю, сколько надо, но чтобы хлеб весь день так и лежал открытый? Где же ты такое видела?
И со скорбным лицом обращается к секретарю.
— У некоторых из них такой аппетит, что вы себе даже представить, представить не можете!
И снова к девушке:
— Детей у меня двое.
Девушка возвращается на свое место.
— Ну, которая согласна?
Нерешительное молчание. Дети означают чуть не ежедневную стирку, непрестанную уборку, вечный шум в кухне, выходной день в лучшем случае через воскресенье, злые шалости ребят и вечное раздражение недовольной барыни. Они колеблются, переглядываются. Наконец, встает бледная малорослая девушка.
— Детей любишь?
Бескровные губы складываются в принужденную, подтверждающую улыбку. Дама вдруг стремительно машет руками.
— Нет, нет, — эти зубы!
Зубы и вправду несколько торчат вперед. Вполне достаточная причина, чтобы не получить работы.
Глаза Веронки смотрят все пугливее. За короткое время она побывала уже на стольких «местах», что тотчас разбирается в обстановке. Целая галерея хозяек. И такая, у которой не разрешается лечь спать раньше двенадцати, а на пять часов утра она собственноручно ставит будильник. И так изо дня в день. И болезненная дама, в каждом из домашних подозревающая вора, то и дело обыскивающая сундучок служанки. И третья — страж нравственности — читающая письма прислуги, подслушивающая у дверей кухни, о чем она разговаривает с товаркой. Ворчливая особа, целый день просиживающая в кухне и срывающая на прислуге все свои жизненные неудачи. Скупая ведьма, выделяющая девушке сухой позавчерашний хлеб.
И все хотят одного: «Скромную, тихую, послушную». Тихую, то есть не умеющую ответить на оскорбительные слова. Скромную, которая удовлетворится жиденьким соломенным тюфячком и остатками вчерашнего хлеба. Послушную, которая будет с рассвета до поздней ночи метаться, выполняя приказания, не напомнит о выходном дне в праздник, будет беспрекословно выносить капризы барина, барчуков, барышень. Белую рабыню, с душой и телом купленную за пятнадцать злотых в месяц. Машину, работающую безотказно и непрерывно.
— Вот уж третий день сижу, — делится с Веронкой соседка.
— И все ничего?
— И ничего. Страшно и идти, уж столько натерпелась. Но в конце концов, видать, придется. Не хочется мне третий раз просить ночлега в этом убежище.
А ведь и вправду! Веронка вспоминает, что и ей некуда идти ночевать. А уже вторая половина дня.
— Ты что, сама ушла?
— Еще бы! Конечно, сама. Грязи, мерзости в квартире столько — прямо выдержать невозможно. Как тут все переделаешь! Барин с барыней все ругаются, я уж просто слушать не могла. Да еще потом сама прилезет в кухню, рассказывает как да что. Какое мне дело, с кем ее мужик спит! Своих хлопот хватает. Собралась и ушла. Да еще мои вещи задержала!
— Ну и как же теперь?
— Э, найду место, так пойду и заберу. Обязана отдать. Нет такого закона, чтобы вещей не отдавать. Что, я украла у нее что-нибудь?
— А рекомендацию дала?
— Дала. Барин заставил.
Заплаканная Юзя опять садится возле Веронки.
— Говорю тебе, придется, видно, в Вислу броситься, что ли. Барынь мало, а нас тут полно, да еще, прости господи, такие путаются, что могли бы сидеть в деревне, в своей избе, а не отбивать тут у нас кусок хлеба.
— Они думают, в городе уж не знаю как хорошо, — объясняет Веронка.
— Э! Тут все дело в парнях. Им с городскими ребятами погулять охота, свои-то хамы надоели.
— Да ведь и деревенские сейчас бедствуют…
— Все равно не так, как мы, — сурово говорит Юзя. — За мою Зоську баба берет двадцать злотых в месяц. Подумай только, такие деньги! Плохо ли ей? Нет, в деревне все-таки куда легче. Не то что здесь.
Может, и так. Веронка слушает одним ухом. Впрочем, и остальные все больше нервничают, все быстрее нанимаются, все меньше раздумывают. Вот-вот наступит вечер. Тем, кто сегодня не поступит на место, предстоит бездомная, неведомая ночь…
Веронка сидит, крепко стискивая сложенные на коленях руки. Приближается вечер, ночевать ей негде.
— Не пойду, не пойду, — упрямо шепчет она про себя, чувствуя, как страх перед бесприютной ночью и дальнейшими поисками работы толкает ее то к разряженной дамочке, у которой надо сажать на ночной горшок собаку, то к подозрительной мегере в обвисших чулках, бьющей прислугу по лицу, то к худой ханже, заставляющей свою девушку поститься шесть дней в неделю.
Дрожь пробегает по ее спине. Она забивается в угол, стараясь, чтобы ее не заметили, чтобы костлявый палец не поманил ее, принуждая к решению.
И вдруг входит высокий седой господин. Не оглядывает пронырливыми глазами, не допрашивает, спокойно разговаривает с секретарем.
Среди сидящих у стены девушек — оживление. У Веронки шумно колотится сердце. Она напряженно всматривается в спокойное узкое лицо. Бессознательно наклоняется вперед.
— Нас только двое, — приятным голосом говорит седой господин, — я и сын. Четыре комнаты. Мне нужна самостоятельная девушка, — у меня нет ни времени, ни охоты заниматься хозяйством.
Веронка стремительно кивает светлой головой. Да, да, чистая кухня, где никто не топчется, никто не пересчитывает крупинки в кастрюле, никто не будит на рассвете, не подслушивает под дверьми. Наконец-то можно будет жить по-человечески! От волнения у нее даже губы бледнеют. Ну, разумеется, она готовит, убирает, штопает, у нее же есть справки. Но высокий господин и не смотрит на них.
Веронка прямо-таки не верит своему счастью. Не верит она ему и на другой день, когда просыпается в алькове с чистыми белыми стенами, с окном в сад. Она лежит, трепеща, что волшебный сон рассеется, что она очутится на прежнем месте.
Но это правда. Самая подлинная правда. Утром она подает завтрак. Никого нет дома, когда она убирает четыре светлые, солнечные комнаты. Она сама обдумывает, что приготовить на обед. Через день хозяин принимает у нее отчет в израсходованных деньгах.
— Так, так, Сусанна!
Веронка уже не поднимает в изумлении тонкие дуги бровей, как тогда, когда услышала это имя впервые. Ее предшественница, прожившая здесь десять лет, была Сусанна, и хозяин не может привыкнуть к другому имени. И она становится Сусанной. Впрочем, это безразлично. Пожалуй, звучит даже лучше, чем Веронка. Больше подходит к экономке.
На лазурном небе ее новой жизни лишь одна маленькая тучка: молодой барин. Не то чтобы он обижал ее чем-нибудь, наоборот, даже слишком вежлив. Заговорщически улыбается, ласково, умильно разговаривает. Но за ним неотступно следят холодные, пытливые глаза отца, и он унимается. Равнодушно берется за газету, пьет кофе, подкладывает себе овощей с блюда. Веронка боится его, хотя бояться вроде и нечего. Молодой барин в доме ничего не значит. Главное лицо — старый барин, изящный и рассеянный.
Из дому выйти разрешается даже в будни, когда помоешь посуду. Но Веронка пока этим не пользуется. Она штопает носки в своем алькове, в первом по-настоящему своем уголке, с тех пор как она служит. Да и вообще — первом в жизни. Не станешь же в самом деле считать «своим углом» сенник, на котором она спала с сестрой в углу семейного подвала. Она сидит у окна и вышивает себе цветным шелком платочек. Смотрит в окно на покрывающиеся молодой листвой деревья. Иной раз забежит Тоська, которая служит наверху, поболтает, расскажет что-нибудь интересное: как ссорится со своей хозяйкой. Веронка молитвенно складывает руки. Ей не с кем ссориться. Или о том, как Леоськин кавалер набил ей морду за то, что она гуляла с этим рыжим Бронеком. Как в воскресенье воры обокрали квартиру у мясника и как сперва думали на Стефу, а потом оказалось, что это неправда. Ну и еще там про всякую всячину. Веронка слушает в пол-уха. Все это она наизусть знает — на любой улице, в любой квартире одно и то же. И она только глубоко вздыхает от радости, что теперь ей так хорошо.
— Ну, а этот молодой — как? — с любопытством спрашивает Тоська.
— А как, известно, барин, ничего, вежливый, — неохотно отвечает Веронка. Она не любит сплетен. На что это ей, чтобы Тоська судачила по всему дому о ее господах.
— Сам-то — шикарный мужчина.
Веронка поднимает тонкие брови.
— Барин?
— Да барин, барин. Чему так дивуешься?
И правда, что тут особенного? Всегда говорится о хозяине: сам. Но теперь Веронка даже и про себя думает не иначе, как: барин. Просто не может по-иному.
— Ты в него врезалась, — смеется Тоська, пристально наблюдая, какое впечатление производят ее слова.
Веронка спокойно смотрит на нее.
— Ты что, с ума сошла?
— Что в воскресенье будешь делать?
— Ничего, может пойду погулять.
— Давай пойдем на храмовой праздник, гулянье будет. Сидит дома, как монашенка! Ты еще никогда не была?
Нет. Как-то так получалось, что хоть она уже несколько лет в городе, а на храмовом празднике не была. Дома, в местечке, другое дело. Но там какой праздник! Мужики из деревни приходят, только и всего. К обедне с утра никто особо не торопится, но зато потом — целый день гулянка.
— Так давай пойдем!
— Ладно, посуду я пораньше перемою… — размышляет вслух Веронка.
Синее платьице. Прозрачные зеленые бусы на шее. Веронка тщательно поправляет перед зеркалом берет. Радостное возбуждение, будто вот-вот произойдет что-то необыкновенное.
— Это же просто храмовой праздник, — успокаивает она себя. Но это мало помогает.
Сияющий, зеленый и лазурный день. Скорей на площадь. Там — длинные ряды подвод, украшенных зеленью. Тоська презрительно отворачивается.
— Станем мы трястись на подводе. На автобусе поедем!
Веронка распутывает узелок на платке, где у нее завязаны деньги. По правде сказать, ей немного страшно. Мотор дрожит, таща перегруженную машину, и эта дрожь чувствуется под ногами. Автобус накреняется на повороте, неожиданно подскакивает на ухабах. Веронке так и хочется вцепиться в руку Тоськи, но стыдно. Тоська сидит, будто всю жизнь в автобусах ездила. Смотрится в зеркальце, оглядывает пассажиров. Но, как нарочно, никого, стоящего внимания, в автобусе нет. Одни дамы, дети, пожилые мужчины. Единственный молодой человек, и даже ничего, да и тот сидит рядом с шофером и хоть бы оглянулся. Ничего не поделаешь, Тоська принимается смотреть в окна на быстро мелькающие узкие полоски хлебов.
— Скоро каштаны зацветут.
Веронка на мгновение даже о страхе забывает. И вправду зеленые свечки на каштановых деревьях вот-вот превратятся в белые пирамидки цветов.
Шофер сигналит. Они чуть не наезжают на какую-то подводу с развеселой компанией. Веронка бела как стенка, но держится храбро. Стыдно перед Тоськой.
Наконец, подъезжают. Крутая тропинка ведет вверх. И сразу — начинается. Корзины кренделей, подносы конфет, столики с пирожными выстроились вдоль дороги. Возвращающиеся несут воздушные шарики, огромные трубы, бумажные зонтики, глиняные свистульки, все это переливается всеми цветами радуги.
— Иди же, иди, это еще что! — торопит Тоська.
Вверху, между огромными липами, поляна. Шум как на ярмарке. Кружится карусель, высоко в воздух взлетают качели, трещат под ударами силомеры. Тесно, как в церкви в праздничный день.
— Прокатимся?
Подвешенные на тонких цепях кресла карусели порхают в воздухе. Широко развеваются юбки сидящих в них девушек, пронзительный писк раздирает слух.
— Боюсь.
— Дурная, ведь цепи крепкие, не оборвутся! Смотри, как другие ездят.
Парни ловят мчащиеся перед ними креслица с девушками, музыка играет, пестрый круг вертится с головокружительной быстротой.
— Ну, барышня, как только остановится, садимся, а?
Веронка быстро оглядывается. Он стоит рядом. Высокий и стройный. На темных волосах шапка набекрень. Улыбка обнаруживает ослепительно белые зубы.
— Да я боюсь.
— Э, чего бояться! Я сяду за вами и буду держать, идет?
Она не в силах устоять перед этими радостными черными глазами. Кивает головой — ладно, мол. Осторожно усаживается между четырьмя цепями. И вдруг вспоминает — как же Тоська.
Но Тоське уже помогает усесться рябоватый маленький солдат.
— Ну, поехали!
Веронка закрывает глаза. Карусель мчится все быстрее. Струя воздуха бьет в лицо. Она чувствует, что взлетает все выше, но совсем не боится, хотя сердце так и колотится. За спиной веселый голос:
— Ну, что? Правда, приятно?
Сильные руки удерживают ее креслице возле своего, и они кружатся вместе над поляной.
— Приятно.
— Ну вот видите, барышня. Чего тут бояться?
И правда, зря она боялась. Веронке просто жаль, что все уже кончилось.
— Теперь надо чего-нибудь выпить. Вас как зовут, барышня?
— Веронка.
— Ладно! А меня Эдек. Что будешь пить, Веронка, лимонад или пиво?
— Лучше бы, пожалуй, лимонад.
— Э, выпей пива, говорю тебе, в такую жару лучше всего пиво! О, вот тут есть место.
Они усаживаются на деревянных скамьях. Тут же и Тоська со своим солдатом. Окинув быстрым взглядом Эдека, она тотчас начинает делать ему глазки. Веронке уже досадно, зачем они пришли сюда, но Эдек и не смотрит на Тоську.
— А потом пойдем на качели, ладно?
— Ладно.
— Пей же, Веронка, что ты такая застенчивая?
Теперь он уже не говорит больше: «Барышня». Но так лучше. Веронка осторожно погружает губы в белую пену.
— Всего за злотый! Шоколад с орехами — раз, дессертный шоколад — два, молочный — три и шоколад с начинкой — четыре! Все за один злотый. Только для рекламы нашей фирмы!
Эдек перекидывает ноги через скамью и в два прыжка возвращается с шоколадом.
— Не надо…
— Как так «не надо»? Праздник так праздник! Грызи, грызи, не стесняйся. Крендель хочешь? Эй, женщина, дайте-ка сюда крендели! Только свежие, — это для моей девушки!
Его черные глаза смеются, смеется смуглое лицо, и весь он, быстрый, подвижной, как искра.
— Веронка, нравлюсь я тебе? Только не обманывать!
Ее бросает в краску, но она все же отчетливо выговаривает:
— Да.
И сама дивится. Странно! Будто она его уже годы знает. И не боязно ей, не стыдно, хотя ведь уж как она боязлива.
— Ну, а теперь на качели! Держись хорошенько!
У Веронки слегка кружится голова от пива, ее подташнивает от этой пропасти под ногами, но она молчит. Пусть бы только все это продолжалось подольше. Впрочем, сильные руки держат ее крепко, она чувствует себя так уверенно, так спокойно, как еще никогда в жизни.
— А теперь сюда. Ну, смотри!
От стремительного удара стрелка силомера подскакивает до самого верха. Веронка даже не удивляется. Так и должно быть.
— На-ка, держи. Или, может, ты не любишь мятных?
— Люблю.
— Ну, так ешь. Пойдем купим билеты на лотерею.
Веронка выигрывает пузырек одеколона. Эдек — носовой платочек.
— Видишь, даже пригодится.
— Куда же это Тоська девалась? — тревожится она вдруг.
— Что тебе до нее? Не беспокойся, обойдется и без тебя. Такие не пропадают.
— Она тебе не нравится?
— Нет. Мне ты нравишься.
— Да ведь она красивее меня, — говорит Веронка, уже чувствуя себя в полной безопасности.
— Много ты понимаешь! Хочешь еще раз прокатиться на каруселях?
— Хочу, может теперь на этой… Вон какие лошадки.
— Э, никакого удовольствия! Там — другое дело, порхаешь как птица.
— А голова не закружится?
— Нет.
Кто-то кланяется Эдеку.
— Идем, идем, — тащит он ее за руку.
— Кто это был?
— Э, так, один товарищ. Еще стал бы за тобой ухаживать, — очень надо!
Но вот уже и вечер. Приходится возвращаться. Напоследок он покупает ей еще смешную резиновую белочку. Красненькая и, когда нажмешь, пищит.
В автобусе Веронка уже не боится. Сидит, прижавшись к Эдеку, с рукой в его руке.
— Сможешь выйти ко мне завтра вечером?
— Смогу.
— Так я приду, ладно?
— Приходи, Эдек. Так, после восьми, когда я подам ужин.
— Договорились.
И вот уже ее подъезд.
— Да свидания, Эдек, спасибо тебе за все.
— Э, что за спасибо! Ты бы лучше поцеловала меня, а?
Веронка поднимает к нему вдруг побледневшее лицо. Он осторожно обнимает ее и целует. Губы у него горячие, мягкие, приятные.
— Любишь меня немножко?
— Да. Очень.
— Вот и хорошо. Так помни, завтра буду ждать!
Он уходит насвистывая. Веронка долго смотрит ему вслед. Такой высокий, ловкий, весь переполненный каким-то радостным весельем.
Теперь они встречаются каждый день. Каждый праздник отправляются вместе гулять. Из глаз Веронки исчезает прежнее пугливое выражение. Она счастлива. Ее не огорчает даже то, что Тоська с ней не разговаривает, — злится, что не ей повстречался Эдек. Тот рябоватый солдат больше и глаз не кажет. Но что Веронке до Тоськи, когда у нее есть Эдек.
— Можно мне уйти на весь вечер?
— Куда же это? В кино? — снисходительно улыбается седой господин.
— В кино… — стыдливо признается Веронка.
Она торопливо надевает свое лучшее синее платье. Застегивает на шее подарок Эдека — голубые бусы. Эдек уже ожидает у подъезда.
Веронка смотрит на экран. Светлое мерцающее пятно во мраке зала. Кто-то кого-то целует, кто-то за кем-то гонится, кто-то собирает цветы в саду. Веронка и не пытается связать в какое-нибудь целое мелькающие на экране картины, не пробует понять, в чем там дело. Главное то, что она сидит рядом со своим Эдеком, что ее вспотевшая рука в его руке. В антракте Эдек покупает конфеты. Веронка медленно посасывает их, счастливая и гордая.
— Как хорошо, — вздыхает она выходя.
— Э, — презрительно кривит губы Эдек. — Так, салонная картина. — Но тут же спохватывается, что, быть может, ей это неприятно и берет ее под руку.
— Веронка?
— Что, Эдек?
— Поженимся с тобой, а?
Девушка молчит. Ей хотелось бы сказать многое, многое. Но слова застревают в глотке. Она с трудом глотает слюну.
И вопрос решен. Они поженятся, как только Эдек получит постоянную работу. Ему уже и обещали такую. На газовом заводе.
И потекли счастливые дни. Веронка работает словно во сне. Словно во сне натирает блестящий паркет. Пламя кухонной печи радостно улыбается ей. Потолок лазурным небом простирается над ее головой. Быстрым, шумным потоком текут радостные дни.
Как вдруг однажды:
— Сусанна, я уезжаю на два дня.
Веронка замечает мимолетный огонек в глазах молодого барина. Внезапный и тотчас исчезнувший под тенью ресниц. Она не думает об этом. И только вечером, у подъезда, говорит:
— Эдек, барин-то уехал.
— Ну, и что ж?
— Мне немного страшно.
— Запрись на ключ.
— Двери не запираются.
Эдек в смущении стоит перед ней.
— Ну, так как же теперь?
— Пойдем со мной.
— Как бы потом не вышло какой неприятности?
— Никто ведь не узнает, а все мне не так боязно будет.
Они идут наверх.
— Ложись, я посижу возле тебя.
Веронка гладит его обветренную руку. Лазурным небом простирается потолок маленького алькова.
Шаги.
— Спрячься за занавеску, Эдек!
— Веронка! — сдавленный, приглушенный голос молодого барина.
— Веронка!
Обороняющимся жестом Веронка протягивает вперед руки. Но он уже хватает ее, валит на подушку, сильные руки рвут синее праздничное платье.
И тут — Эдек. Глаза налиты кровью. Мощные кулаки обрушиваются, как цепы. Раз и еще раз. И еще. Пока его, наконец, не оттаскивают дрожащие от ужаса руки Веронки.
Молодой барин отирает рукой кровь. Сразу распухшая губа уродует его узкое лицо. Он весь трясется.
— Ты… негодяй!
Перед ним Эдек. Высокий, широкоплечий. Спокойный. Он холодно смотрит на текущую по лицу того кровь. Слушает, как тот звонит из передней.
— Беги!
— Зачем? Ничего со мной за это не могут сделать.
Оказывается, однако, что могут.
Веронка не в силах понять это. Она стоит перед письменным столом седого барина и прерывающимся голосом пытается объяснить. Но напрасно. Отстраняющий жест тонкой руки с длинными, холеными ногтями.
— Нет, Сусанна! — Так же спокойно, снисходительно и непререкаемо, как всегда.
И Веронка отправляется в кухню укладывать сундучок. Она собирает свои убогие пожитки, думая о том, что не успела даже сказать Эдеку самого главного, что у нее будет ребенок.
Год тюремного заключения — это обрушивается на нее, как удар кнута. «Год», — повторяет она себе, пытаясь измерить, пересчитать, охватить сознанием этот непостижимый, ужасный отрезок времени, непреодолимой темной пропастью отделяющий Эдека от нее.
VIII
Зоська, Анка, Гелька, или как их там, тоже работают.
Анка просыпается, едва забрезжит серый рассвет. Потягивается на постели, кости болят, до чего трудно подняться. Еще хоть минуточку…
Взгляд усталых глаз падает на грязный, облупившийся потолок.
В углу отливает серебром тончайшая сеть. Тоненькие нити переплетаются между собой, незаметно сливаются в старательно выведенные круги. В углу притаился паук. Толстое, волосатое, вздутое шаром туловище. Зубчатые пилки ног поджаты под себя. Круглые, выпуклые глаза неподвижно устремлены на сеть.
Бзз… бз!.. В серебристые нити запутывается муха. Пытается вырваться, трепещет крылышками. Ножки изо всех сил упираются в хрупкую с виду паутину.
Но волосатое чудище настороже. Одним прыжком приближается оно к жертве. Набрасывает на нее еще одну нить. И вторую. Сжимает неодолимой хваткой.
И сосет. Незаметно, быстро, жадно. Мгновение спустя из паутины выпадает то, что когда-то было мухой: высосанное до последней капли сухое тельце.
Из соков, из крови замученной жертвы, паук продолжает прясть свою пряжу, свою искусную, отливающую серебром нить.
Анка встает. С трудом, через силу двигаясь, собирается. Быстро проглатывает кружку холодного мутного кофе и идет. Скорей, скорей, только бы не опоздать.
Огромный цех шумит непрестанным грохотом. Как хищные клещи, движется вверх и вниз рама станка. Один за другим, один за другим, бесконечные ряды станков. Воздух пропитан белой хлопчатобумажной пылью.
Белые клубы хлопка переходят из машины в машину, свиваются во все более тонкую нитку, наматывающуюся на тысячи бобин. Рокочут механические веретена, с непрестанным подрагиванием вертятся валы, движутся стальные зубья гребней. Ужасающий белый паук прядет свою паутину, предательские белые волокна. В ячейках этой чудовищной сети добыча — женщины.
Они торопливо снуют между двумя рядами вертящихся бобин. Связывают исхудалыми пальцами рвущиеся нити. Скорей, скорей; всякая не связанная вовремя нить — это спутанный клубок, мешающий хрупкому механизму, это лишняя работа, потерянное время.
С увядшего лица бледной, изнуренной женщины смотрят покрасневшие от утомления, потухшие глаза. Она кашляет. Сухой, раздирающий звук теряется в грохоте огромного цеха.
— Простудились? — сочувственно опрашивает осматривающая фабрику дама.
— Э, нет. Это пыль, сударыня, это все от пыли, — беззвучно отвечает та.
И снова бросается к станку. Нервной походкой бегает на опухших ногах взад и вперед, взад и вперед вдоль машин, на которых вращаются деревянные веретена. Хватает нитку за ниткой, связывает, бежит дальше — и так непрерывно, непрестанно, без минуты отдыха. Седая прядь волос выбилась из-под платка на лоб, на щеках горят кирпично-красные пятна.
— Давно здесь работаете?
— Пятнадцать лет, — бросает она на ходу. — Пятнадцать лет, — повторяет она, словно про себя, удивленно покачивая головой над этими пятнадцатью годами…
— Сколько времени у вас бывает перерыв на обед?
Она поднимает на спрашивающую испещренные красными жилками глаза.
— Никаких перерывов тут не полагается. Восемь часов.
И бежит дальше. Нитки безжалостно рвутся то тут, то там.
— Сколько же вам лет?
— Тридцать два, — равнодушно бросают увядшие губы.
Седые пряди волос, морщинистая кожа на лице, дрожащие старческие руки.
Анка, неся охапки пушистых клубов хлопка, враждебно поглядывает на путающихся по цеху дамочек. На их блестящие волосы, на гладкие щеки, на элегантные пальто. Да, их не сжимал пятнадцать лет в своей гибельной сети белый паук. Не высосал из них всех сил, всей радости… Не присыпал пеплом седины темные волосы, не лишил лица улыбки и красок. Белая пыль хлопка не проела насквозь их жизнь, грохот машин не перемолол эту жизнь в серую удушающую пыль.
— Проводишь дам в ткацкую, — говорит надзиратель.
Анка крепко стискивает губы. С тлеющим в сердце глухим гневом она идет впереди. Ее рабочий день, выставленный перед любопытными сытными глазами, — обнаженные раны под бичом оскорбительных, жалостливых взглядов. Анка не отвечает на обращенные к ней вопросы. Глядя на эти розовые лица, прислушиваясь к удивленным возгласам, она бормочет про себя:
— Шлюхи…
В ткацкой грохот, словно тысячи молотов лупят по скале. И тут от станка к станку бегает женщина, старая, увядшая женщина. Торопится. Ведь каждая секунда опоздания — это спутанная пряжа, порванные нитки, простой станка, грубый окрик надзирателя, потерянное время.
— Мы ведь сдельно, — поднимает она выцветшие глаза.
В этих глазах — один страх, как бы не опоздать, не проглядеть лопнувшую нитку. Два злотых, которые она получит за свои восемь часов, подгоняют ее как неумолимый кнут, не давая перевести дыхание, не позволяя стереть пот, который крупными каплями выступает на ее лбу.
И эта кашляет. Среди шума и скрежета несущихся машин то тут, то там монотонно, неустанно слышится сухой, пронзительный звук. По всему залу. Трудно в сущности и отличить одну женщину от другой. Рабыни машин утеряли все, что не требуется для машин. Они движутся как автоматы. В них убиты чувства, — остался лишь страх, как бы не потерять работу, не лишиться возможности и дальше бегать здесь на опухших ногах, вдыхать царапающую горло пыль и связывать, связывать, связывать рвущиеся нити.
— Как вы сказали?
Они не слышат. И не только шум огромного цеха затрудняет разговор. Они глухи. Ужасающий, непрестанный грохот изо дня в день постепенно притупляет слух, затягивает его пеленой. Бесцветными глазами женщины внимательно смотрят на губы собеседника, веки их красны, ресницы поредели.
Свертывается в рулоны тонкая белая ткань. Расцветают яркие каемки, цветные ниточки бегут по полотну. В каждой нитке осталась часть жизни, в каждом метре полотна осталась крупица молодости. Чем бледнее становятся лица женщин, чем печальнее их увядшие губы, тем больше полотна льется с фабрики в широкий мир, чтобы расположиться за зеркальным стеклом витрины, проникать в дома красивых дам, обрамлять улыбающиеся, круглые личики детей, тех детей, которые не знают слова «нищета».
Страшный белый паук перерабатывает в белое полотно жизнь сотен побледневших женщин. Перерабатывает в цветные каемки их молодость, красоту и счастье. Перерабатывает в звенящее золото всякий их день.
И глумливо смеется зубастой пастью станков.
Анка мрачно прислушивается к шуму и грохоту ткацкой.
Потому что где-то ведь шумит зеленый лист и струится, искрясь на солнце, лазурная вода. Ведь где-то цветут красные и голубые цветы. И звучат песни, и сияют на лицах улыбки.
«Далеко», — думает Анка. Здесь-то белый хлопковый паук широко распростер щупальцы над темным, мрачным городом. И хватает хищно, хватает в свою сеть бледных женщин. С чердаков, из подвалов, из душных тесных каморок идут они нескончаемой вереницей сюда, несут свои силы, свою молодость, которая останется здесь, за высокой фабричной стеной. То, что паук выбрасывает годы спустя, это лишь лохмотья, сношенное отрепье, жалкие призраки.
Красильня. Клубы пара непроницаемым туманом наполняют комнату-нору. Ноги работающих, толсто закутанные в грязное тряпье, бродят в горячей воде, застаивающейся на каменном полу. Ошпаренные, потрескавшиеся руки длинными шестами вытаскивают из котлов бесконечные, исходящие паром охапки тканей, с которых стекает грязно-синяя вода.
Здесь одни мужчины. Прямо из наполненного горячим паром помещения, в мокрой от пара одежде, они то и дело бегают по ледяному коридору в соседний цех за новыми свертками тканей. Страшный сквозняк врывается сквозь открытые на мгновение двери, разгоняя густой туман, сбивающийся в фантастические очертания по углам.
— Не простужаетесь вы тут?
Еще бы не простужаться! Схватить здесь воспаление легких ничего не стоит. Да это что! Туда и дорога! Вот если, например, ревматизм, тот человека в три погибели согнет. На всю жизнь остаться этаким калекой.
— И нельзя это как-нибудь иначе устроить?
На синеватом лице мелькает безнадежная улыбка.
Можно-то можно, да ведь это денег стоит. А так оно дешевле выходит.
— Но как же люди?
— Людей хватает. Один издохнет, десяток на его место явится.
Рабочий опирается о вздутое брюхо огромной кадки своей неуклюже замотанной ногой и поправляет сдвинувшееся тряпье.
— Так-то…
— А помогает сколько-нибудь такое завертывание?
— Еще бы; мокро, но хоть не ошпаривает. А то тут у всех нас язвы на ногах, да еще как кожа начнет слезать от пара, так не дай тебе господи!
В длинном помещении, под крышей, девушки клеят картонные коробки. Голубые прямоугольники мелькают в посиневших пальцах. По хрупким плечам пробегает дрожь. Они прозябли до мозга костей.
— Летом здесь, должно быть, лучше, — говорит одна дамочка другой, скрывая беспокойство под этим удобным словом «лучше».
Анка молчит. Ей пришлось два лета работать здесь. Она помнит удушающий жар от железной крыши в этом лишенном потолка помещении. Помнит тяжелый, раскаленный воздух, с трудом вдыхаемый легкими, помнит внезапные обмороки в летние дни.
— Ведь правда? — обращается к ней за подтверждением посетительница.
— Да, — коротко, нелюбезно отвечает Анка и ведет экскурсию дальше.
С нее уже хватит этих любопытных, непонятливых глаз, этих оскорбительных, жалостливых вопросов. Да и глупых товарок по работе, которые показывают свою горькую нищету, открывают перед этими назойливыми пришелицами свои тайные язвы.
Но, к счастью, смена кончается. Можно идти домой. В мрачном молчании они бредут в серый, засыпанный сажей, смердящий сточными канавами город.
Чтобы на следующий день снова вернуться в омерзительные когти белого паука, чтобы все больше запутываться в его неодолимой паутине.
Но паук вечно голоден. Он все жаднее и жаднее. Все теснее сжимает ячейки сети, сосет все стремительнее. И выплевывает, выплевывает, выплевывает тех, кого уже истребил, с кем уже покончил.
А когда в разъеденных пылью, воспаленных от ядовитого пара глазах вдруг сверкнет огонек бунта, белый паук выступает на бой. Он выстраивает шеренги полицейских в синих мундирах и дает команду. Ему служат дубинка, штык и пуля. Он выползает из стен фабрики и хватает в свои стальные лапы городские улицы. Дает в толпу залп.
И на мостовой остается труп женщины. Короткая юбка открывает широко раскинутые ноги. Без чулок, в дырявых, расползающихся от ветхости мужских башмаках. Вылинявший платок сполз с головы, седые волосы свисают с тротуара в канаву. Грязно-синяя вода шевелит их, будто живые. Из-под блузки сочится тонкая струйка крови, ползет по серым камням в канаву, смешивается в мутном потоке со стекающей из красильни грязью.
С желтого, как воск, неподвижного лица смотрят в небо мертвые глаза. И кажется, что в них так и застыл все тот же страх.
Гроба. Они, как призраки, плывут высоко над толпой в туманном, дождливом воздухе. Анка не может оторвать от них глаз. Там — Романиха из ткацкой. Зося и Манька из прядильни. Стефан, стройный парень из упаковочной. Остальных Анка не знает. Высоко над толпой плывут черные тени. Нереальные, неправдоподобные, таинственные.
Колышется море обнаженных голов. Темная, мрачная толпа. Опустевшие улицы. Наглухо закрытые жалюзи. Запертые ворота. За стеклами окон изредка мелькают испуганные любопытные лица. Редкие прохожие торопливо снимают шапки.
Анка не слушает выступлений на кладбище. Она думает о том, что никогда уже ей не придется пойти в воскресенье к Зосе.
И вдруг холодеет от ужаса. Над мертвым молчанием толпы, словно шпагой рассекая туманный воздух, взвивается пронзительный детский крик:
— Папочка, папочка!
Глухой вздох раздается в ответ из тысячи грудей. Толпа, как рожь в поле, клонится к земле. То тут, то там сдавленное рыдание. Смолкает пение, но еще рвутся слова:
— «Прощайте же, братья, вы честно прошли…»
— «Настанет пора, и проснется народ…» — досказывает Анка вся в слезах. И вдруг замечает, что происходит что-то недоброе.
Высоко над толпой вздымаются сабли. Еще и еще раз. Крик. Красное полотнище знамени колеблется. Люди сбиваются в беспорядочную толпу.
— Бежать! — пронзительно кричит кто-то.
По могилам, ломая и топча все на своем пути, бегут люди. Во все стороны. Над ними непрестанное, слепящее сверкание обнаженных сабель.
Запыхавшись, теряя платок с головы и стоптанные ботинки с ног, Анка бежит вместе с другими. С ужасом в сердце, полная стыда и дикой ненависти.
И, наконец, амбулатория. Высокий, забрызганный кровью, как мясник, врач, торопливо зашивает ей рану на голове. И она выходит с другими. Медленно, осторожно, с оглядкой. Ведь у подъезда может подстерегать засада.
IX
А не то вколачиваешь жизнь в желтую глину. Раскалываешь ее на жесткие комки, размазываешь в белую грязь, выравниваешь кельмой, обжигаешь темно-красным кирпичом.
Барак. Раньше здесь стояли лошади. Теперь он стал убежищем человека. Во всю длину деревянные нары. В два этажа. Тонкий слой старой соломы. И — вповалку. Десять, двенадцать, шестнадцать человек, вплотную друг к другу.
Утоптанный глиняный пол. Железная печурка в углу. И — все. На нарах спят, едят, отдыхают. Кроме них, в помещении остается ровно столько места, чтобы можно было встать. Окон нет. Да и зачем?
Работа вручную, на песке и воде — с четырех часов утра до темноты. У печи — шестнадцать часов. На копке — тоже с рассвета и до поры, пока темнота не скроет рыжие ямы. Потом уж тебе все равно, спать ли на голых досках или на кровати. И не почувствуешь. Сон наваливается внезапно, как груда глины. Обволакивает густой грязью. Ничего, что тесно. Переворачиваться с боку на бок не приходится, потому что тотчас же и вставать пора.
В субботу получка. Лавка поблизости. Можно купить все, на что только хватит средств.
У Щепана двое детей. Ему повезло — работают и он и жена. В субботу получка у обоих.
Лавочник долго подсчитывает.
Четыре кило картошки… кило круп… буханка хлеба… в воскресенье четверть фунта сала… кишки с кашей…
Этот перечень растягивается в ушах Щепана в бесконечность. Четыре кило картошки, кило круп и — словно кровавый упрек — в воскресенье четверть фунта сала. Оба с женой кладут на прилавок всю свою получку.
Но и ее не хватает.
Еще бы, четыре кило картошки, кило круп, буханка хлеба, кровяная колбаса и четверть фунта сала! А рабочий день ведь не так уж долог, всего с трех-четырех часов утра до восьми-девяти вечера. Вот долг и растет. Отдавая каждую субботу лавочнику всю получку, Щепан с женой еще должают за эту картошку и крупы несколько десятков злотых.
Почти весь свой годовой заработок.
Так оно уж, видно, и будет.
— Могло бы быть и хуже, — объясняет толстый надзиратель, с трудом застегивая новый жилет на круглом животе.
Ему тоже не бог весть как живется. Ведь он получает всего двести злотых в месяц, квартиру, освещение, отопление, и все это за свой тяжкий труд, — за то, что покрикивает на рабочих и подслушивает у дырявых стен барака, чтобы донести хозяину, о чем говорят люди в короткий обеденный перерыв. Потому что вечером, после окончания работы, никто уже ничего не говорит. Каждый, не раздеваясь, как стоял, так и валится на нары.
Мундек копает глину. Стоит в глубокой яме и накладывает лопатой на тачки. Торопится. Нет времени расправить спину, отереть пот со лба. Столько-то и столько-то тачек не хватает еще до кубического метра, столько-то и столько-то надзиратель отсчитает на утруску; приходится торопиться.
Его брат, Флорек, тот работает вручную на песке. Усыпать деревянную форму песком. Войцех кладет в нее кусок размельченной глины. Выровнять. Перевернуть вверх дном. На посыпанной песком глиняной площадке вырастают ряды ровных бурых кирпичей. Как песочные пирожки, делаемые детьми. Медленно. Ночь опускается, прежде чем успеешь положить тысячный. А нужно обязательно тысячу.
— Так, так, — поучает Войцех. — Посыпать песок надо ровненько, не слишком много — не то кирпич выйдет неровный, и не слишком мало — не то прилипает и не вывалится из формы. Практикуйся, парень, практикуйся, будешь подыхать с голоду, по крайней мере сможешь сказать себе, что кирпич вручную делать умеешь.
Флорек не выносит этого балагурства, но Войцех, видно, иначе не может. Рот у него не закрывается с утра до ночи, и он отравляет Флореку всякую минуту, не давая подумать ни о чем, кроме этого проклятого кирпича.
— Главное, чтобы глина была хорошо разделана. Не слишком густо и не слишком жидко. Когда тебя самого будут в глину класть, то там тебе все равно — мягкая она или жесткая. Но здесь это главное.
— Замолчали бы вы лучше.
— А чего мне молчать? Лучше работается, если поговоришь по душам, — человек не скотина бессловесная. А тут, понимаешь, все дело в том, чтобы, хорошо сработать. Не дай бог, плохой кирпич выйдет, господин хозяин не заработает на нем, сколько собирался, да еще, сохрани боже, и урежет жалованье надзирателю. Да, да, тебе небось кажется, что все это трын-трава, а дело-то важное! Жалованье господина надзирателя, шутка сказать!
— А мне-то что? Пусть хоть подохнет.
— О-о! Вот это уж, парень, нехорошо! До жалования надзирателя, говоришь, тебе дела нет? Что ж ты, не знаешь, что бог велел любить ближних? А господин надзиратель — твой ближний. Или ты, может, и в господа бога не веришь, — совсем большевик, а?
Флорек стискивает зубы. Ему так и хочется хватить Войцеха по насмешливому, морщинистому лицу, по глумливым щелкам глаз. Стиснув зубы, он продолжает посыпать песком форму.
— Вот, вот работай, не работающий да не ест. А так — по крайней мере измучишься и еда на ум не пойдет! Зато потом будет легче на небо попасть, потому что обжор туда не принимают. Видишь, господин хозяин о нашем спасении хлопочет, наши грехи на себя берет, жрет и пьет за нас, а мы никакой благодарности не чувствуем. Вот и ты, были бы у тебя деньги — сейчас водка, девки, пиво, драка, — греха не оберешься. А тут наработаешься за целый день, так ночью и помышлением-то не согрешишь, ничего и не приснится, — так прямо в небо и отправишься. А все благодаря господину хозяину… Потише, потише, не вываливай так быстро, не то форму потеряет. С кирпичом, брат, надо осторожно, тихонечко, это тебе не пустяк какой! Из кирпича церковь выстроят, господин хозяин пойдет туда за спасение твоей души помолиться.
— Синагогу скорей, — ворчит сквозь зубы Флорек.
— А хоть и синаногу, — перед господом все люди равны. Господин хозяин, что с пейсами, что без пейсов, одинаково людей грабит и, в церкви ли, в синагоге ли, все равно впереди всех сидит. Простой человек, что с пейсами, что без пейсов, одинаково с голоду подыхает и, в костеле или там в синагоге, на паперти стоит. Это и есть равенство, — смекаешь? Господь бог на пейсы не смотрит, он смотрит только, полон у тебя кошель или нет.
— Вот бы вас жена-то послушала!
— А и пускай бы послушала. Что ж, жена как жена, как и всякая баба. Не лучше, да и не хуже. Конечно, к ксендзу ее так и тянет, — еще бы, оба в юбке ходят, вот ей и легче с ним договориться, чем с мужиком.
Флорек не слушает. У него ломит спину, пот заливает глаза, монотонный голос Войцеха жужжит над его ухом, как назойливая пчела.
— А? Как ты думаешь?
— Не слышал, что вы говорили.
— Ой, нехорошо! Говорю тебе, Флорек, от души советую, не раздумывай ты, не размышляй! Из думок еще никогда ничего доброго не выходило. Это господское дело — думать. А ты думай об одном: сколько песку в форму насыпать, как лучше перевернуть — и точка! Видал, как машина быстро работает? А почему? Потому что машина не думает. А станешь думать, так еще, не дай бог, бунтовать тебе вздумается, захочешь каждый день хлеб жрать, или картошку салом заправлять, или еще в какой разврат впадешь. А так, делаешь кирпичи и живешь себе, как у Христа за пазухой. А с этим Анатолем ты лучше не водись; чистый безбожник: господ хозяев не уважает.
— С Анатолем? А кто его сюда притащил, как не вы? А где вы просидели все воскресенье с послеобеда? Не у Анатоля? Книги-то вы у кого берете? А меня попрекаете…
Увядшее, как мерзлое яблоко, лицо Войцеха еще больше морщится от неудержимого тихого смеха.
— Сопляк ты еще, Флорусь, вот что. С тобой ни пошутить, ни поговорить толком… Анатоль… Шутка сказать!
— Ну вот, а сами говорили, что…
— Страх, какой ты еще птенец, Флорусь. Ну ничего, ничего, песок только сыпь ровно, еще выйдет из тебя что-нибудь. Как знать, может тебя даже в машину произведут, — ехидно прибавляет он, увидев прояснившееся лицо парня.
Флорек стискивает зубы и еще ожесточеннее принимается за работу.
— Ты не глядел, те, что в сарае, уже высохли?
— В полдень уже будут сажать в печку.
У Войцеха, видно, и у самого во рту пересохло, на некоторое время он затихает.
Но тут над ямами, где копают глину, вдруг возникает какая-то суматоха. Тачечник, возивший глину, испуганно кричит что-то. Кто-то бежит к ямам. Флорек ничего не видит, бегая от столов к рядам кирпичей на земле. Но Войцех уже несколько раз поднимал голову, беспокойно поглядывая в ту сторону.
— Флорек, сбегай-ка, погляди, что там у ям случилось.
Обрадованный неожиданным перерывом, Флорек несется, расправляя на ходу наболевшие мускулы. У ям уже целая толпа.
— Мундека засыпало, — говорит побледневший тачечник.
От печей, задыхаясь и покачивая жирным животом, бежит надзиратель.
— Лопаты, откапывать! — кричит он хриплым голосом, хотя люди и без него уже схватились за лопаты.
Но дело идет медленно, осыпался весь склон ямы.
— И пикнуть не успел, — говорит дрожащий тачечник. — Подъезжаю с тачкой, а ему уж — крышка!
— Не болтать! Копать! — орет надзиратель, хотя люди и без окриков выбиваются из сил, стараясь спасти товарища.
— Осторожно! Как бы дальше не осыпалось!
Но Флореку не до того. Как безумный отшвыривает он землю, не глядя куда.
— Потише! Сейчас должен показаться. Как бы не поранить лопатой!
Флорек падает на колени и разгребает землю руками. Растопыренная ладонь. Вся рука.
— Не тащить. Отсыпать глину!
В яме лежит Мундек. Багрово-синее лицо. В волосах глина. Егджей, что работал когда-то у фельдшера, расстегивает ему рубашку и слушает сердце. Потом щупает пульс, хотя сразу видно, что зря. Задавило — и все.
Сбегается толпа со всего завода. В глухом молчании стоят люди у края ямы. Смотрят вниз. На багрово-синее лицо, на спутанные волосы с набившейся в них глиной.
Но надзиратель уже пришел в себя.
— Это еще что? На работу! Зеваки здесь не требуются! Ну, живо беритесь! Вынимать кирпич из печи! Вонсик, Лучак, отнесите его пока в сарай!
Они берут его подмышки и под колена. Голова свешивается. Флорек хочет поддержать ее.
— А ты тут что?
— Брат, — отвечает он сдавленным голосом.
— Брат? Ну, и что с того? Они и вдвоем отнесут. Ты вручную работаешь?
— Да.
— Живо! Там Войцех зря стоит! Завтра нечего будет в печку сажать. Бегом! Хватит тут нюни разводить! Не останавливать же работу!
Сапоги — точно в тысячу кило весом. Едва-едва, напрягая все силы, Флорек тащит ноги. Работа не ждет. Насыпать форму песком, выровнять… Там, в сарае, на глиняном полу лежит Мундек… Не слишком много песка — не то кирпич выйдет неровный; не слишком мало — не то прилипнет и не отстанет… В волосах у него глина… Теперь новый ряд. Сколько там еще осталось до тысячи? Сразу задавило. Теперь перевернуть… И пикнуть не успел!..
Войцех украдкой поглядывает на покрасневшее лицо парня.
— Анатоль будет здесь сегодня вечером.
— Ну, так что?
— Как-никак, а что-нибудь…
— Думаете?
— Думаю. Все по горло сыты.
— Вы с ним уже говорили?
— Еще бы! Он и раньше хотел, когда снизили плату от тысячи.
Несколько минут они работают молча. Но Войцех не может долго молчать.
— Вот видишь, говорил я, что главное — кирпич? Съест человека — и точка.
— Из-за испорченного кирпичика больше шума, чем из-за человека, — горько говорит Флорек.
— А как же иначе? Кирпич продадут, а тебя нешто кто купит? Рабочих рук всегда хватает. Люди плодятся как кролики, — нашему создателю во славу, господину хозяину во утешение. Кирпич, он всегда кирпич. А ты что? Ничто. Впрочем, говорят, из глины человек вышел и в глину обратится. Да, да. Смотри, надзиратель-то как усердствует!
— Боится, как бы неприятностей каких не вышло.
— Ну да! Неприятностей! Небось они себя не обидят! «По собственной неосторожности» — и весь разговор! Это уж всегда так. Известно, парень молодой, легкомысленный, кроме озорства да развлечений, ни о чем и не думает. Наелся, отоспался, так что ему не до собственной безопасности, только под убыток хозяина подводит, работу задерживает.
Флорек мрачно укладывает кирпичи.
— Надо бы матери дать знать.
— Не отпустит хозяин. Открытку пошли.
— Не дойдет. У нас там почта раз в неделю ходит.
— О несчастье узнать человек всегда успеет. Не пиши лучше, а то только на дорогу потратится, — позже узнает, меньше плакать будет.
Темнеет. Они моют руки в глиняной яме. Войцех сворачивает узеньким переулком к баракам. На углу он обгоняет девушку. Рваный платок, сваливающиеся с ног туфли, но накрашенные губы горят на бледном лице, словно рана. Она покачивает бедрами, осторожно ступая с камня на камень по глинистым лужам.
— Нечего сказать, нашла местечко, — ворчит про себя старик, глядя на безнадежную глушь предместья, на черные силуэты бараков, на груды кирпичного лома под накренившимся забором.
X
Долог, горек был путь Веронки из белой кухни седого барина сюда, в этот глухой переулок за кирпичным заводом.
Сперва — еще две службы. Но на обеих спохватились и со скандалом выгнали. Известно — прислуга. Ее хозяйка, у которой есть муж, деньги, квартира в четыре комнаты, та — другое дело. Той стоило пригласить врача, все было сделано на дому, и дня через три она уже со своим уланским поручиком на бал отправилась. А над Веронкой часа два издевались. И то, и другое, и третье, и какая, мол, испорченность, и как ее обманули! А что ж Веронке и оставалось? Она хотела служить, зарабатывать, пока возможно.
Лишь на последние дни сняла она угол у одной дворничихи. Денег на это хватило, она еще не все истратила, что удалось отложить у седого барина. Тут-то, на этом сеннике, в углу у нее и начались родовые схватки. Дворничиха подняла крик, что с нее, мол, и без того хлопот хватает, пусть-де идет рожать в больницу. Веронка долго упрашивала, но ничего не вышло. Пришлось через силу тащиться к трамвайной остановке — и в больницу.
Мрачная стена, серая, холодная. Железные ворота, с глухим грохотом захлопывающиеся за спиной. Длинные коридоры.
— Здесь.
Допросили тщательно, подробно. Об отце, о матери. Сердились, как это она не знает девичьей фамилии матери. Откуда ж ей знать? И, наконец, — замужем ли?
Вся кровь бросается в лицо.
— Ну, скорей!
— Нет…
И кому какое дело? Ведь если бы Эдека не посадили в тюрьму… Впрочем, тогда она не стояла бы здесь, а была бы теперь дома, и Эдек радовался бы. Ну да, он ведь говорил как-то, что любит детей.
Ее еще долго расспрашивают. Не спеша записывают, — куда им торопиться? Холодный пот выступает на лбу Веронки. Она до крови прикусывает нижнюю губу, чтобы не закричать. Потом велят пока присесть на деревянной скамье в коридоре. На грязном полу валяются клочья окровавленной ваты. Веронку тошнит от ее вида. Сквозь приоткрытые двери видны маленькие кроватки — дети. Там сидят женщины в белых халатах, перешептываются, сворачивают бинты. Из-за других дверей несется непрестанный монотонный стон: «О-о-о… О-о-о…» Упорный, назойливый. Веронке все хуже. Неумолимые железные обручи стискивают поясницу. Она вся сжимается в комок, корчится, ничего не помогает.
Мимо проходит сиделка.
— Сестра!
— Ну, что с вами?
— Я не могу больше.
Слова переходят в стон. Одетая в белое женщина минуту соображает.
— В родилке еще нет места. Да тебе и рано. Идем, приляжешь в температурной палате.
Веронка с трудом поднимается. Согнувшись, входит в большую палату. С некоторых постелей приподнимаются растрепанные головы.
— А ну-ка встаньте!
Серая, как пепел, женщина вылезает из-под одеяла.
— Посидите немножко на стуле. Сейчас освободится место в родилке, тогда мы эту женщину заберем.
Веронка стоит в нерешительности.
— Ну, что еще? Ложись!
Она с отвращением ложится на влажные от чужого пота, дурно пахнущие простыни. Сидящая на стуле женщина окидывает ее враждебным взглядом. Глухо стонет.
У одной из кроватей в углу столпилось несколько человек. Веронка смотрит. Лысый господин в очках — наверное, врач. Столпившиеся сиделки и полицейский.
— Кто? Ты меня слышишь? Кто? — говорит полицейский.
— Дайте еще немного льду на голову. Так. Теперь проглотите кусочек… Ну, так кто же?
Родовые боли с новой силой схватывают Веронку. Как сквозь туман, она слышит упорный, все повторяющийся вопрос:
— Кто?
Вдруг допрашиваемая со стоном приподнимается. Землистое лицо, кирпично-красные пятна на щеках. Жидкие бесцветные волосы прядями свешиваются на лицо.
— Кто? Да не упирайтесь же, ведь вы через несколько часов умрете.
И снова:
— Кто?
И снова:
— Вы же умрете через несколько часов!
Девушка приподнимается на локтях. Сдавленный шепот. Полицейский торопливо записывает что-то в своем блокноте. Затем на большом листе бумаги. Господин доктор подписывает. Дальнейшего Веронка уже не видит, — ее зовут в родилку. С трудом делает она эти несколько шагов.
Странные столы. Один, другой. На втором уже лежит кто-то.
— О господи, господи, господи!
— Не орать!
— Не могу больше, не могу!
— А с кавалерами могла бегать, а? Только когда сюда попадут, орать начинают.
Акушерка в ярости. Четырнадцатые роды за ночь!
Веронка лежит тихо, хотя от боли у нее в глазах темнеет.
— Замужем?
— Нет! — она стискивает зубы.
— Ну, разумеется. Не терпелось девочке. Первый ребенок?
— Да.
С ней делается нечто непонятное, чудовищное. Изо всех сил Веронка впивается зубами в собственную руку, беззвучно повторяя:
— Эдек, Эдек, Эдек.
— Кричать! Ну, кричите же!
Но Веронка не может уже кричать, хотя пытается. Сквозь стиснутое каким-то железным обручем горло не прорывается ни один звук.
— Ну, вот и все. Девочка.
Веронка даже не открывает глаз. Ей уж ни до чего нет дела.
— Ну, теперь только доктор зашьет и поедем в палату. Даже и хорошенькая девчушка, только крохотная.
Врач медленно вонзает иглу. Всякий раз, как он наклоняется, кровь ударяет ему в голову. Он выпрямляется и ждет, пока красная волна отхлынет. И снова вонзает иглу.
— Говорила я — кричать, — недовольно ворчит акушерка.
Теперь на носилки. Вниз по узкой крутой лестнице. Веронка судорожно цепляется за носилки. Несут долго, бесконечно долго. Ощущение, будто она повисла в воздухе над страшной бездонной пропастью. Упадет. Еще секунда и упадет.
Но вот, наконец, и барак для родильниц.
— Место сейчас освободится. Придется пока на полу.
Она видит лишь бесконечные ряды железных ножек от кроватей да кое-где свешивающийся край серого одеяла.
— Живо собираться! Не видите, что мы ждем?
Худая, изможденная женщина медленно одевается. Теперь Веронку кладут на кровать. Там уже кто-то лежит. Отвратительное прикосновение чужого тела. Снова влажные от пота простыни. Та, другая, стонет. Не громко, но измученную Веронку этот ноющий голос осаждает со всех сторон, как липкая грязь, колет тонкими булавками в мозг, отвратительным желтым пятном мелькает перед глазами.
Приносят кроватку.
— Ну, вот вам ваша дочь, — говорит сиделка.
Но у Веронки не хватает сил даже голову приподнять.
И опять:
— Замужем?
— Нет.
Голос сиделки сразу теряет оттенок доброжелательности.
— Разумеется… не таковская!.. — цедит она сквозь зубы, осматривая палату.
Веронка хочет сказать, что ведь если бы Эдека не забрали… Но вдруг ее захлестывает волна безысходного горя. И она лишь безудержно всхлипывает.
— Да, да, раньше надо было думать, — продолжает резкий голос.
Но разве в этом дело? Веронка не может понять, чего от нее хотят. Ведь так или этак, все равно ребенок есть ребенок, точно такой же, как другие. В чем же она провинилась перед этой, одетой в белое, женщиной?
Но она слишком слаба, чтобы говорить. Она лежит в тупом одеревенении, качается на волнах колышущегося моря, утопая в несущемся со всех сторон шуме. Ей хочется лишь одного: ночи. Темной, беззвучной ночи. Отдохнуть, отдохнуть.
Но здесь таких ночей не бывает. Над дверями упорно, назойливо горит лампа. С одной стороны пышет красным жаром железная печурка. С другой — пробивается сквозь щели в деревянных стенах ледяной ветер. Туман лихорадки, сладковатый запах разлагающейся крови. И над всем этим непрестанный, мяукающий плач детей. Будто котята. У дверей кто-то стонет. Две женщины пронзительным шепотом ссорятся. Другие мечутся на постелях в тревожной, полной видений дремоте.
Веронку сжимает в волосатых лапах ночной кошмар. Из всех углов выглядывают страшные лица, какие-то призрачные морды. Тьма густа, как свертывающаяся кровь, и все же не окутывает мраком распаленной головы. Гигантский брюхатый паук ползет по стенам, наполняет собой всю палату, душит, затрудняет дыхание, гнетет к земле. Липкое тело соседки кажется телом посиневшей, вздувшейся утопленницы. Волосы, словно осклизлые водоросли, цепляющиеся хищными щупальцами за руки. Отчаянное мяуканье котят, которых топят в глинистом пруду, раздирает слух.
— Это дети плачут, — говорит себе Веронка.
Но нет, это неправда, неправда! Слепые котята барахтаются беспомощными лапками в густой воде глинистого пруда. Кружится карусель, снова возникают омерзительные, сладострастные рожи и при следующем обороте карусели исчезают во тьме. Дышащий зверь притаился в ногах кровати. Непонятный страх хватает Веронку за волосы.
А между тем она не спит. Слышит, как с перерывами, долгими, как сама жизнь, бьют часы на башне. Вот еще час. Как далеко до рассвета! Как далеко до следующего боя часов.
Наконец, воздух начинает сереть. Неуверенно, едва-едва. Пышущая жаром печурка, наконец, погасла. Чудовищные призраки тают, впитываются в стены.
«Сейчас усну», — думает Веронка.
Но в палату уже входят сиделки. Умыванье. Измерение температуры. Подают судна. Проветривают.
«Как только кончат, буду спать», — решает она.
Глаза слипаются. Тяжелые веки наливаются свинцом.
— Не спать, на то есть ночь!
Низенькая монахиня в белом накрахмаленном чепце. Тонкий острый нос.
Веронка с трудом открывает глаза.
— Читать молитву! Только все!
Этот голос, как кнутом, подгоняет.
— Отче наш…
Монотонное бормотание наполняет палату.
— Богородице, дево, радуйся…
«Ну, теперь скоро конец», — Веронка с трудом договаривает последние слова молитвы.
— Это еще что! Там, у окна — открыть глаза! Читать литанию.
Бесконечные возгласы.
Хор голосов пугливо, монотонно отвечает:
— Моли бога о нас…
— Моли бога о нас! — говорит вслед за другими Веронка, с мучительным трудом преодолевая усталость.
«Ну, теперь-то уж…»
Но теперь наступает время завтрака. Чай в выщербленной жестяной кружке и толсто нарезанный хлеб. Потом докторский обход. Потом еще что-то. И, наконец, обычный дневной шум, отголоски ссор, стоны, сердитый голос сиделки, крик детей.
Веронка смотрит на маленькое красное личико. И вдруг ее захлестывает бесконечное сочувствие, несказанная жалость. Волна любви к этому беспомощному, тихонько лежащему под больничным одеялом созданию захватывает все ее существо.
Так она лежит три дня. На четвертый врач говорит:
— Выписать домой.
Не то чтобы она была уже здорова. Но — нет места. Из родилки приносят все новых. Нельзя же класть на койку уже не по две, а по три родильницы. Стало быть — «домой».
«Где только этот дом?» — думает Веронка, проходя по больничному двору. По пятам за ней следует сиделка.
— Это вы меня так провожаете?
— Швырнешь ребенка где-нибудь во дворе, а потом возись с ним! Уж лучше присмотрю, чтобы ты вынесла его за ворота.
Веронка сперва даже не понимает. И лишь когда спотыкающиеся ноги уже несут ее по улице, эти слова доходят до ее сознания. И правда, случается. Потому так и сторожили ту женщину, что родила двойняшку. День и ночь смотрели, чтобы она кормила детей, а потом дворник сам вывел ее за ворота. «Швырнешь куда-нибудь!» За ту они боялись, как бы она не заморила голодом или не задушила детей. Но что она с ними сделает за воротами?
«Это уж их не касается», — со сжавшимся сердцем объясняет себе Веронка.
И вправду, какое им дело? Ведь это уже вне больницы… Их дело, чтобы ребенок родился, а что дальше — их не касается.
«Ну, разумеется», — убеждает она сама себя, и сердце ее все мучительнее сжимается в маленький, подступающий к горлу комок.
Дворничиха сердито бормочет что-то под нос, но все же сдает угол с сенником. Ведь у Веронки есть еще деньги.
— Только чтобы мне ребенок тут криков не устраивал, — решительно предупреждает она.
Но девочка ведет себя превосходно. Лежит тихохонько, как сверток тряпья.
— В приют отдай. Да сразу же займись этим, потому не так-то это просто.
— В приют?
— А как бы ты думала? Нешто с ребенком возьмут на службу? Разве что ты теперь такая барыня, что и в работе не нуждаешься? Только помни, что даром я тебя держать не стану, и не воображай!
Устроить ребенка в приют оказывается действительно не так-то просто. Всюду отказывают. Всюду переполнено.
— Оставь его где-нибудь в воротах, найдут, так обязаны будут взять, иначе не выйдет.
Веронка пересчитывает деньги. Они уже на исходе. Дворничиха подозрительно заглядывает ей в руки.
— Как же так, оставить в воротах?
— Обыкновенно, мало ли так делают? Уж и рохля же ты!
Но на это Веронка не может решиться. Деньги кончаются. Она уже задолжала дворничихе за две недели. Питается одним сухим хлебом. Ребенок кричит, когда она прикладывает его к пустой груди. Кричит по ночам. Веронка тоже больна. На нее нападает внезапная слабость, в глазах темнеет, в ушах шум.
— Ну, барышня, либо так, либо этак. Денег ты не платишь, ребятенок мне всех жильцов криком выживает. Кабы ты еще могла на службу поступить, я бы, может, и потерпела. Да кто тебя теперь возьмет? Чистый скелет…
Это-то верно. Веронка уже пыталась. Но ни одна дама в бюро по найму на нее и не взглянула.
— Что-то мне сдается, что никакого толку от тебя не будет. Сделай-ка, как я говорю, ведь и себя и ребенка заморишь. Не будь дурой. Ему же лучше будет.
Веронка долго всхлипывает. Но у нее ни гроша в кармане, а завтра ей надо отсюда убираться. Дворничиха сказала ей это окончательно и бесповоротно.
Но малютка слаба, в чем душа держится. И когда ее находят в воротах, она уже не дышит. С матерью тоже долго возиться не приходится; Веронка как безумная бродит по той же улице и прямо-таки сама лезет в руки полиции. Ну, и прямо в тюрьму.
…Потом она однажды стоит за тюремными воротами и смотрит в пространство, на городские улицы.
Куда, в какую сторону идти? Ни одна дорога никуда не ведет. Ни одна нигде не кончается. Безнадежно затерявшись в шуме города, Веронка долго стоит, устремив вдаль невидящие глаза. «Домой». Где этот дом? А между тем ведь он все же есть. То-то скроит мину мачеха при виде такой гостьи! Если Веронка вообще как-нибудь доберется.
Легкий узелок оттягивает руку. Ноги подгибаются. Но надо же, наконец, куда-нибудь. Хоть к дворничихе, что ли. Воспоминание о Янце, лежащей в уголку ворот, пронизывает ее холодной дрожью.
— А тебе чего здесь опять надо?
— Выпустили.
— Вижу, вижу, что выпустили, а сюда-то зачем? У меня не приют для уголовников.
Веронка вдруг бледнеет.
— Ведь вы же сами…
— Что сами? Скажи, скажи, что? Ишь какая! Ко мне прицепилась! Убирайся, и чтоб я тебя больше не видела!
Но ноги у Веронки подгибаются. Глупая слабость подступает к сердцу, к горлу, перед глазами мелькают темные пятна.
— Что это? Больна, что ли?
— Разрешили бы… только одну эту ночь… Завтра уйду.
Тонкие губы сжимаются в минутном размышлении.
— А, черт с тобой, ночуй, что ли! Но только раз, больше и не надейся!
— Нет, нет, — боязливо уверяет Веронка, трепеща, чтобы та вдруг не передумала.
Тот же сенник, на котором она спала прежде с Янцей. Сбившийся и жесткий. Но над ним хоть не маячит тюремная решетка. Когда дворничиха выносит из каморки лохань, двери широко распахиваются в сени. И никто не сторожит. Можно встать и выйти, можно идти куда глаза глядят.
Куда? Ей вдруг вспоминается Эдек. Но она так устала, что не может даже плакать.
— А этот твой уже вышел?
— Наверно, уже…
— Не видалась ты с ним?
— Нет…
— Вот глупая девка! Почему же?
Молчание.
— Хотя, правда, мужик — всегда мужик. Какой он там ни будь, а о этих делах думать не любит. Сделает ребенка — и был таков. А потом: «Я вас не знаю», — и кончено! Знаю я мужиков, знаю!
Молчание. В сухих глазах нестерпимое жжение. Нет, нет, дело не в том, а только, как же можно искать теперь Эдека? Как предстать перед ним в истрепанном платьишке, в этих расшлепанных башмаках, без чулок, с лицом, увядшим от слез и болезни? Может, он и не узнает. А потом… Как сказать ему о Янце? Эдеку, который любит детей? Как оправдаться перед ним? Не поверит. Она связана по рукам и ногам, заклеймена печатью уголовной тюрьмы, именем убийцы. Не поверит, как не поверили и те, в суде. С этим уже покончено на вечные времена. Этого уже нет нигде под широким небом. Не надо, нет, не надо искать Эдека. А может, он уже и забыл? Сколько девушек улыбалось его смеющимся глазам, таких же девушек, какой была когда-то и она, Веронка. Может, он уж не помнит ни карусели на храмовом празднике, ни вечера в кино, ни всех других вечеров. Они просыпались в пыль и грязь, как те бусы, что он ей когда-то подарил. Их растоптали людские ноги, с грохотом раздавили колеса тяжелых телег. Пропали! И уж не найти их, не склеить, не очистить.
— Не спишь, что ли?
— Что-то не спится.
— Спи, не раздумывай. Что с воза упало, то пропало, не вернешь. Нечего попусту голову ломать.
Теперь она старается лежать неподвижно, чтобы шорох соломы не разбудил дворничиху. Рука деревенеет, по ней бегают мелкие, назойливые мурашки. Наконец, засыпает на короткое время, оставшееся до утра. А там — в путь!
— Когда же ты дойдешь?
Веронка пожимает плечами. Откуда ей знать, дойдет ли она вообще. Да и не все ли равно.
По шпалам. По тропинке между хлебными нивами. По деревенской улице. Ослабевшие ноги спотыкаются, в глазах темнеет. Без конца, без конца тянется пыльная, противная белизна большой дороги. Шаг за шагом, вон до того камня, до того дерева, до тех вон зарослей. Эх, лучше всего было бы лечь хоть вот тут в пыли, среди дороги, и больше не вставать. Пусть делается что угодно, пусть грохочут над головой тяжелые телеги, пусть топчут люди, лишь бы не двигаться. Закрыть наболевшие от солнечного света глаза. Не видеть, не слышать, не дышать.
Вот и вечер. Душный, парный, тяжелый. Больше ни шагу.
— Можно у вас переночевать?
Крестьянка подозрительно осматривает ее.
— Разве что в сарае.
— Только… денег у меня нет.
— Ничего, ночуй.
Веронка с трудом жует кусок черного хлеба. Жадно проглатывает несколько глотков жидкой сыворотки и глубоко погружается в свежее сено, в душистые, шелестящие вороха. Не слышит, не видит, весь мир описывает круги, катится шаром, кружится расцвеченным мраком вокруг. Гудит в ушах, как гигантский жук.
А утром снова дальше. И снова. И снова.
И, наконец, она приходит. Черные от угольной пыли улицы местечка. Сторонкой, чтобы кто не увидел, не удивился, к отцовскому дому, к покосившейся, низко присевшей к земле лачуге. Хотя, кто его знает? Может, они уже и не живут здесь. Может, их давно уже прогнали из этой, нанимаемой за гроши, комнатенки с кухней.
Но нет, живут. Она наклоняет голову, проходя в низкую дверь. В углу на койке кто-то шевелится. Желтое лицо оборачивается к двери. Отец.
Веронка тихонько присаживается, все еще держа в руках свой жалкий узелок. Мачеха волчком носится по избе, вздымая пыль длинной юбкой. Гремит со злости горшками на плите, не умолкает ни на мгновение.
— А не говорила я! Только и думают о городе, о заработках… Вот тебе и заработок! Ты что же, думаешь, что у нас тут через край переливается, а? Отец без работы. Три месяца, как шахта закрыта! Стал было работать на другой горе-шахте, так надо же было ему надорваться, вот тебе и вся работа! Только тебя тут и не хватало. Ловко тебя отделали, чистое привидение! А теперь надумала к папаше, на поправку? Как бы не так, есть тут от чего поправиться! Есть! В городе все-таки легче, не то, так другое. Да куда! Оно выгоднее, порастрясти денежки, растратить, растранжирить, и домой! Дайте кушать, потому у самих у вас всего в избытке! Конечно. Шлялась, шлялась в городе, а теперь: «Папа, дай!» Уж я так и знала, что ничего хорошего из всего этого не выйдет!
Веронка молчит. Ей хочется сказать, что это не так, и теперь и раньше не так было. Но тупая усталость не дает открыть рот. В уши назойливо врывается брань мачехи. Отец только вздыхает, как всегда, запуганный, оглушенный потоком, бурей, ураганом слов.
— Вместо того чтобы помочь, чтоб отблагодарить родителей, так вот тебе! Вместо того чтобы человеку отдохнуть на старости лет, расправить кости, так ему самому жрать нечего, да еще доченька является, делись с ней! Пока все хорошо, так и не вспомнит, а вот, когда беда пришла, так как же, на то и родители, пускай дают! А есть ли, что давать, — и не спросит. Является — и все! А обтрепанная, а худая, будто все эти годы милостыню просила! Понятно, что тебя там и на службе держать не хотели! На что похожа!
Она все сидит в сонном одеревенении, уже не разбирая отдельных слов, слыша лишь голос, который звучит точно издали, чужой и незнакомый. Лениво, туманно Веронка думает, что не двинется теперь отсюда, хоть бы ее палками гнали. Если хочет, пусть ее силой выносит. Нет, нет. Опять в раскаленную белизну большой дороги, в клубы врывающейся в рот пыли, опять передвигать опухшие, непослушные ноги — ни за что на свете!
— Ты что, оглохла? Не слышишь, что я говорю? Ишь, немая! А может, ясновельможной панне низко со мной разговаривать, я ведь женщина простая, в городах не бывала, не дослужилась до такого богачества, до такого барства, что вон даже пальцы из башмаков вылезли?
Веронка растерянно улыбается и мягко, медленно соскальзывает с низкой скамеечки на пол, падает в колышущуюся, безмолвную пропасть.
Дальше все улаживается как-то само собой.
А после отцовских похорон снова город.
— Жить можно, — доброжелательно разъясняет дворничиха, пытливо всматриваясь в светлые волосы и прозрачные глаза Веронки. Она рекомендует ей квартиру, растолковывает, как лучше устроиться.
И опять сенник в углу комнаты. Собственно только на день. Но если есть гость, то можно прийти и ночью. Тогда Бронка, старшая девочка хозяйки, — ей как раз пошел тринадцатый год, — неохотно поднимается. Сонно покачиваясь, ждет, когда снова можно будет лечь. Когда приходит живущий по соседству Людвик, она только отодвигается к стенке, ведь это знакомый. Чего там, много ли она места займет, маленькая, худенькая, всего ведь только тринадцатый год пошел.
Вот так-то и живется. Заработки не бог весть какие, а все же с голоду не умираешь. Кто-нибудь угостит стаканом чая, булкой с селедкой, а то и пивом. За квартиру тоже не слишком дерут. Уж очень гонятся хозяева за квартирантами. Оно и понятно, ведь, по правде сказать, удобств никаких, теснота, а жить на что-нибудь надо. Сам работал на оружейном заводе, глаза ему там выжгло, жена ходит по домам на поденщину, детей пятеро. Ну, пораскладывали сенники на полу, да и сдают углы. Под окном живет молодая пара с грудным ребенком. Дальше такой молодой, высокий — этот торгует на улице зеркальцами и шнурками для ботинок. У печки — нищий с женой; этим даже не плохо живется, только вечно дерутся, сам-то пьянчужка, всякий грош готов в кабак снести. Ну, и Веронка. Но для нее уже отдельного сенника не хватило. Да она в нем и не нуждается. Ведь днем все расходятся, одни детишки шумят, но она и не слышит. До сумерек можно выспаться.
А в сумерки на улицу. Сперва часто бывали неприятности, но теперь она уже все знает. Главное — не лезть на людные улицы, там ходят только те, что в шляпках, такую и не узнаешь, кто она такая. И не туда, где у какой-нибудь постоянное место, а то сразу скандал. А в остальном — как все, так и она. Научиться не трудно.
Взад и вперед, взад и вперед по переулку. Приостановиться — и дальше. Знать, где какое место. Хотя хороших мест все меньше. Чем сильнее нищета, тем больше конкуренция.
Их полно. Повсюду. Сидят за столиками ресторанов и кафе. Медленно прихлебывают черный кофе или тянут сквозь соломинку содовую воду. Если официант знакомый, можно обойтись и без этого. Долгим взглядом усталых глаз осматривают столики. Иной раз официант подаст знак, что можно присесть к столику. Иной раз гость и сам подойдет. И сразу по тому, что он закажет, видно, на что можно рассчитывать. Водка и закуски или пиво. Пить надо, если и не хочется. Как же, нельзя же зря сидеть. А чтобы кто спросил, чего тебе хочется, это уж редко. Приходится улыбаться и лить это холодное пивище в голодный желудок. И хотя это только пиво, голова сразу кружится. А потом уже все безразлично. Известно, времена тяжелые, фраеров все меньше. Всякий только и глядит, как бы поменьше дать и побольше взять.
Но этим еще хорошо. У некоторых и шубка есть, вытертая, облезшая, а все же шубка. Такая всегда что-нибудь и наличными получит, а уж если за одно угощенье, так за хорошее.
Подальше, в боковых улицах, уж не то. Там уже рваные туфли, платьишко еще туда-сюда, а под ним — одни, прости господи, лохмотья. И так, чем дальше, тем хуже, до самого конца города.
Ночь шелестит тихими шагами, озирается тысячью глаз. Протаптывает тротуары, каменные плиты, гладкий асфальт и кругляшки булыжников. Окликает молящим шепотом, задорным возгласом, коротким смешком, назойливыми, плаксивыми уговорами. Кутается в волочащееся по грязи шелковое платье, в деревенскую запаску, в синюю плиссированную юбчонку, в черную шаль, в шерстяной платок. Поблескивает заштопанными шелковыми чулками, белыми носками, голыми икрами. Прячется в углубления стен от секущего дождя, от снежной вьюги, от дующего в глаза резкого, осеннего ветра. Появляется, исчезает, рассеивается, сбивается в кучки, бежит торопливыми, мелкими шажками. Пульсирует тайной жизнью на каждой улице.
Или вдруг вся напрягается от пронзительного, пронесшегося откуда-то шепота: «Облава».
И тут уж — бегом, куда глаза глядят. Свернуть в переулок, притаиться под грудой досок на площади, втиснуться в темный излом улицы. Или уцепиться за руку незнакомого прохожего, благополучно пробраться сквозь опасные, обставленные кордонами места. Стоит лишь начаться в одном пункте, как уже известно повсюду. Пронзительный сигнал тревоги, шепот: «Облава!» — раздается по всему городу. Несется от стены к стене, с угла на угол, с площади на площадь, как ураган, дочиста выметая улицы. Есть ли у кого что на совести, или нет, все равно — бежать! Пусть у тебя все в порядке, все же безопаснее избежать этих пытливых глаз, обыска ловких рук, огня перекрестных вопросов.
Самый лучший заработок по субботам, когда у людей получка. Если на своей улице понапрасну простоишь полночи, тогда на вокзал. Там всегда может кто-нибудь подвернуться, а нет, так на крайний случай можно переночевать на скамье, у дверей кабака, у входа в театр, в кино.
Всяко бывает. Иной раз попадется щедрый гость, а иной раз приходится идти на всю ночь за чай с булкой. Да еще не с одним — на этот чай с булкой устраивают складчину двое, трое, а то и четверо. Утром едва домой дотащишься. А случится скандал, так еще обругают, побьют, вышвырнут на улицу.
Нет у Веронки вкуса к этому ремеслу. Дело у нее не идет. Она не хочет, боится поискать себе покровителя, а без этого всегда трудней. Другие девушки гонят ее с облюбованного места, а защитить, заступиться некому. Конечно, этакий отнимает все заработки, зато хоть есть родная душа, есть кто-то, кто заботится о тебе. Но Веронка не хочет, хотя охотники бывали. Неизвестно почему. То ли у нее этот Эдек так крепко в голове засел, то ли она просто такая уж боязливая. И посмеяться, пошутить она не умеет, чтобы понравиться гостю. Из центра города приходится отступать все дальше к окраинам. Ее вытесняют те, что посмелей, понарядней, посварливей. И так изо дня в день, все хуже и хуже. Липкая грязь оседает на рваных ботинках, липкая грязь оседает и на душе. И все уже безразлично, надо всем преобладает тупая усталость.
Она застенчива и из-за этого не дружит ни с кем из девушек. Только иногда заходит к этой Регине, у которой ребенок. Совсем еще маленький, волосики вьются, а носишко как пуговица.
«Такая, может, и Янця бы теперь была», — думает Веронка и приносит ребенку конфет.
Но дитя еще слишком мало, чтобы есть конфеты. Регина смеется, ах уж эта Веронка! Ничего не понимает в детях. Но откуда ей и понимать? Дома у них детей не было, а на местах, где она служила, все постарше были.
Одна у нее подружка, это хозяйская дочка Бронка. С нею они дружат, рассказывают друг дружке всякую всячину. Впрочем, Бронка рано или поздно тоже пойдет на улицу. Матери на всех не заработать. А работу сейчас найти нелегко. Да и кто ее возьмет этакую хрупкую, слабенькую? А некоторые мужчины даже предпочитают таких. Один какой-то, что приходит к Веронке, два раза потом про Бронку спрашивал, — понравилась ему, видно. Вот только, что ей еще тринадцати лет нет, так опасался. Мать-то всегда рассказывает, что своими руками ее убила бы, если бы что. Но это одни разговоры. Вот и недавно, Бронка пришла домой в шелковых чулках, та только глянула — и ни слова. А Веронка даже знает от кого они; есть такой прыщавый Казимир, вор отчасти, вот он-то уж давно присмотрел себе эту девочку. Да что болтать попусту? Не может же она голая ходить, а мать ведь ей на одежду не даст, и хотела бы дать, да у самой нет. Так оно помаленьку и начинается. Сперва мать будто ничего не видит, потом раз, другой скажет: «Дай», — а потом и начнет выманивать всякий грош, да еще и подгонять на улицу.
«И дивиться нечему», — думает Веронка, глядя на сидящего в углу слепца и на грязную детвору, дерущуюся на полу из-за оставшейся от ужина холодной картофелины.
Медленно тащатся дни и ночи. Ночи на улице, дни на сеннике в наемном углу. В конце концов и счет им теряется в этом перевернутом вверх дном мире. Веронка почти забывает, как выглядит солнце. Вместо него огни фонарей и круглая лампа месяца. Лишь одна пора дня остается на своем месте: серый рассвет. Прежде он сгонял ее с постели, теперь загоняет в постель. Прежде будил утомленные глаза, теперь смыкает их. Но все-таки это все тот же рассвет.
Однообразно, монотонно. Гость, такой ли, или иной, в сущности одинаков. Та или иная улица в сущности всегда одна и та же. Булка с селедкой или булка с ветчиной. Ночь с заработком или ночь без заработка — разница невелика. Скандал, ссора, брань — всегда одни и те же. Вечно покачивающийся в углу слепой, вечно полная комната грязных детишек, вечное бормотание нищего у печки, вечно красные, разъеденные мыльной водой и содой руки хозяйки.
И лишь изредка новость: Рузька попала в тюрьму, — вытащила у гостя бумажник. Алоиз пырнул кого-то ножом. Викта в больнице выбросилась из окна. Но и это повторяется.
Среди серых четок дней, словно отдельные цветные зерна, водка, церковь и кино. Только эти радости предоставлены обездоленному человеку. Наработавшись, устав до полусмерти, он может отдохнуть. Ему покажут, как живется в ином, в далеком мире, какие диковинные случаи там бывают. И кончается всегда одинаково: злые наказаны, добрых ожидает награда.
Веронка сидит с этим высоким, который продает зеркальца. Смотрит на движущиеся по экрану картинки. Умно говорят картинки, будто знают всю Веронкину подноготную. И поучают ее, как дурно она поступила, что из-за нее умерла маленькая Янця. Потому что, если бы она не умерла, то нашелся бы богатый старый господин, у которого как раз погибла точь-в-точь такая же дочурка. Он взял бы Янцю в свой дворец, она каталась бы на белом пони и купалась в море. А ей, Веронке, богатый господин нанял бы квартиру, две комнаты с кухней, на окнах цвели бы цветы, пела бы канарейка, и Янця, вся в белом, приходила бы к ней в гости.
Ну, а теперь все вышло иначе.
Мелькающие картинки знают решительно все. Они разъясняют Веронке, что тюрьма очистила ее от грехов, все равно как святая исповедь. Она только неправильно поступила, потому что, выйдя из тюрьмы, следовало поднять руки, широко раскинуть их и смело идти навстречу новой, улыбающейся жизни, расцветающей прямо за тюремными воротами для всякого честного человека. Как оказалось из картинок, Веронка весьма неумно поступала и во всех остальных случаях своей жизни. Потому что, если бы она не водилась с Эдеком, который все же был лишь простым человеком с жесткими от работы руками, а уступила молодому барину, то все было бы иначе. Молодой барин пошел бы к отцу, упал ему в ноги и сказал: эта, и никакая другая! Через некоторое время седой барин дал бы свое благословение, и Веронка в белой фате и миртовом венке поехала бы в собственном автомобиле к венцу. Месяц спустя она уже умела бы говорить по-французски, играть на скрипке, грести, ходить на лыжах и принимать у себя графинь и княгинь.
Картинки думают не об одной Веронке, они думают обо всех. Высокому продавцу шнурков для ботинок они втолковывают, что главное — это терпение. Надо только выждать, с ясным лицом переносить удары судьбы — и все переменится. Бедно одетая старушка поскользнется как раз возле него на улице. Он поднимет ее, отвезет домой. А бедно одетая старушка окажется миллионершей, она возьмет его в одну из своих контор. Здесь он будет быстро продвигаться. За свою безукоризненную честность станет директором и в конце концов, по завещанию старушки, получит все ее миллионы вместе с рукой ее дочери, молоденькой девушки, которую мать, по-видимому, родила в шестидесятилетием возрасте.
Отец Веронки, очевидно, тоже не умел жить. Случаи разбогатеть наверняка были, — спасение владельца шахты во время катастрофы, защита его от нападения преступных элементов, бастующих из личной мести — и готово! Веронка просто надивиться не может, сколько возможностей у рабочего разбогатеть, стать самому собственником, директором, управляющим. А чего бы, кажется, лучше! Ведь в этом ином мире носят платья из тюля и кружев, шелковые чулочки чуть не до самого живота, там спят на кроватях величиной с комнату, имеют целые ряды шкафов с бельем и сотни пар туфель, для каждого платья другая пара. Там постоянно пьют вино и все красивы — и мужчины и женщины хороши собой, прямо страх! С утра до вечера играет музыка, дождя почти не бывает, обычно светит солнце или сияет луна.
Веронка выходит из кино с шумом в ушах, с отсутствующим выражением в глазах. По рассеянности она попадает на людную улицу, откуда ее гонит городовой. Из-под окна кафе, откуда льется свет и несется музыка, ее прогоняет официант. Наконец, она получает по морде от хромого Сильвестра, когда становится на обычное место его Хельки. Долго бродит она как ошалелая под волшебным обаянием увиденного. И, наконец, сидит в маленьком кабачке на углу и тянет из кружки холодное пиво. Гость уже пьян, и ей с трудом удается довести его до своей квартиры. Она поддерживает его из всех сил, помогая пройти между спящими вповалку квартирантами.
— Подвинься к стенке, — тихонько шепчет она Бронке, видя, что тут скоро не отделаешься.
Гость и вправду не собирается уходить, он широко разваливается на сеннике, начинает петь и ругаться. Нищий у печки сердито ворчит. Постепенно просыпаются и остальные. Хозяйка квартиры, шумно позевывая, зажигает лампочку. Перепуганные дети приподнимают головы из-под тряпья, которым укутаны. Гость орет все громче. Они пытаются успокоить его, но безуспешно. Начинается скандал. В стену оглушительно стучат разбуженные шумом соседи. Остается только выпроводить его силой. Все квартиранты толкают, тащат, дергают упирающегося пьяницу. Его начинает тошнить, — он блюет на лежащие рядами сенники. И, наконец, уходит сам.
За свою кружку пива Веронке приходится теперь выслушать немало горьких слов от заспанных сожителей, убирать изгаженные сенники и затем убедиться, что уже светает. Выйти еще раз — поздно. Она ложится подле Бронки и засыпает мертвым сном, с горьким вкусом плохого пива в сухом, как пепел, рту, с горьким осадком от мелькающих на экране картинок в душе.
В церковь — лишь изредка, да и зачем? Ничего этим не изменишь, не отмолишь того, что случилось. Ни Янци, ни Эдека. Так что разве изредка, просто так, посмотреть, как кто одет, какие шляпы сейчас в моде. Иногда случается встретить какую-нибудь товарку или еще кого. Постоять у костела, поболтать вроде как порядочные женщины, которые пойдут отсюда к мужу и детям. И сразу как-то иначе себя чувствуешь.
Да и внутри… Солнечные лучи преломляются в цветных витражах, семицветной радугой падают на головы молящихся. Святая Тереза несет перед собой охапку роз. Добрый пастырь пасет овечек на зеленом, как изумруд, лугу. Где-то высоко играет орган. Иной раз поет стройный, согласный хор. Можно посмотреть, послушать. Только не лезть на передние скамьи, — там сидят хорошо одетые дамы, солидные, поблескивающие лысинами господа. Веронка рассматривает их, вертя в пальцах никелевую монетку. Она всегда приготовляет ее, чтобы бросить на поднос, а то как-то стыдно ничего не дать, когда проходит причетник, так даром тут и сидеть. Иной раз приходится бросить весь свой ночной заработок, — много ли она получила? А дать надо. Не такие уж большие деньги лежат на подносе, поместится и Веронкин грошик. Не краденый ведь! — можно.
Иной раз и проповедь послушает. Но с проповедью получается вроде как с картинками в кино. О «малых сих», что их, мол, будет царствие небесное, то есть царство простых людей, значит. Но, наверно, и там первые скамьи будут для тех, кто побогаче. Даже и неприлично, чтобы она, обыкновенная уличная потаскуха, толкалась между дамами в шелковых платьях и господами в отутюженных брюках. Слушать она слушает, но чтобы так уж всему верить — это нет. Да и как же! Все-таки такому, который хорошо одевается, досыта ест, не вынужден считать каждый грош, все легче достается. Красиво говорит ксендз, а все же небось в их комнатенку не заглянет, может даже и не знает, что есть на свете такие комнаты. А вот, когда Веронка служила у одного директора, так там ксендз часто бывал на обедах. И очень любил индеек, которых жарила Веронка. Жилось ему, видно, неплохо, кругленький такой был, а лицо гладенькое, как у ребенка.
Витражи витражами, ксендз ксендзом, а шлюха шлюхой. Этого уж не изменишь, пропало дело. Другой мир.
Она медленно идет домой, совсем сонная. Но о сне нечего и думать. Нищий у печки опять напился и дерется с женой.
Вот к одному Веронка никак не может привыкнуть — к водке. Пиво еще туда-сюда, но водка прямо в глотку не лезет. А, говорят, если пить, то легче. Как одурманит водка человека, он уж ни о чем не помнит, и на сердце легко. Регина эта самая, когда напьется, такая веселая, даже удивительно. Поет, болтает вздор, всякая всячина ей мерещится. И всегда уговаривает Веронку:
— Не будь дурой, увидишь, как тебе все кругом иным покажется.
И верно, ей и вправду что-то иное видится. Вечер, а ей никуда идти неохота.
— Я человек свободный, — выкрикивает она, — никто меня ни к чему принудить не может! Хочу — иду, хочу — не иду. Выпей-ка, Веронка, сейчас все кругом посветлеет!
Веронка не хочет. Она выходит, тихо прикрыв за собой дверь. На следующий день Регина будет плакать и стонать, жалуясь на свою собачью судьбу. И все станет вдвое темнее.
«Лучше уж так, всегда одинаково. Ведь взаправду-то ничего не изменится», — размышляет Веронка, пробираясь по грязи позади кирпичного завода.
По правде сказать, искать тут нечего. Заработок случается редко когда. И все же она предпочитает ходить именно здесь. Не заплатят так не заплатят, да и откуда им взять, зато иной раз поделятся, что там у которого есть, не глумятся, не смотрят на человека, как на шелудивую собаку. Все-таки свои, не то что те с ярко освещенных улиц. Голодранцу голодранца всегда легче понять.
Но сейчас поздно. Пусто, все уж, видно, поразошлись по своим узким, как щели, уличкам.
Но вот кто-то один направляется к городу, торопится. Высокий такой, скорей за ним — кто знает, а вдруг?..
На стук шагов Веронки он оборачивается.
Вся кровь приливает к сердцу. Ноги тяжелеют как бревна. Словно защищаясь от удара, Веронка поднимает руки к лицу — и в сторону. Скрыться, убежать, исчезнуть, провалиться сквозь землю…
Эдек!
Это подстерегало ее с самого начала, наполняя чудовищным страхом. Таилось во мраке часов. Становилось перед глазами ночным кошмаром. И вот — случилось. Как раз здесь, как раз сегодня. Теперь — только бежать, бежать, бежать!
Но он крепко держит ее за руку. Перед обезумевшими глазами исхудалое лицо, потрепанные отвороты пиджака. Сквозь заливающие уши грохочущие волны, словно из беспредельной дали, доносится знакомый голос:
— Не бойся, не беги, Веронка.
И еще раз:
— Веронка…
А потом:
— Такая уж наша собачья жизнь, девочка.
И вот уже слезы свободно льются на поношенный пиджак, Веронка плачет в крепком объятии Эдековых рук.
На другой день они оба встречаются с Анатолем.
XI
«Другими словами, отмеченный факт объясняется тем, что созданные современным капиталистическим способом производства производительные силы и выработанная им система распределения благ находятся в вопиющем противоречии с этим самым способом производств, притом в такой степени, что преобразование способа производства и распределения, устраняющее все классовые различия, должно совершиться непременно под угрозой гибели всего общества».
Анатоль медленно, внимательно читает трудные термины. Тщательно подбирает буковку к буковке, соединяет их в слова. Слова сливаются в предложения, в периоды, в новую мысль. Плотными, слитными рядами выстраиваются в мозгу.
Пожалуй, они и не так трудны, как показалось на первый взгляд. Он их знает уже, правда не так умно и точно сформулированными, но знает. Этим мыслям научило его мрачное детство, темные годы отрочества, история переулков, история улицы. Это нечто необходимое, нечто, что должно было быть сказано, чтобы жизнь имела какой-нибудь смысл.
— Анатоль, ты еще не ляжешь?
Он улыбается. Давно миновали те дни, когда приходилось читать при свете уличного фонаря, при холодных лучах месяца, прятать книжку под сенник, за ящик для угля, красть минуты, когда можно погрузиться в чудесные приключения, плавать по далеким морям, путешествовать по далеким континентам, разговаривать с людьми, которых никогда не видел!
Он внимательно смотрит на мать, на ее черные, несмотря на старость, волосы, на исчерченное морщинами лицо, на натруженные руки.
— Еще немножко, ведь не так уж поздно.
Мать робко проводит рукой по его волосам. Долго шепчет молитвы, потом ложится и тотчас засыпает. Анатоль продолжает читать. Но и его глаза слипаются, а утром надо на работу. Он неохотно откладывает книгу. Теперь в голове все перепутывается. Теория прибавочной стоимости, Наталка, крепления угла, дорога за городом, багрянец и лазурь. Анатоль спит. Крепко. Без видений и снов. Сном молодого, наработавшегося человека.
Рано утром, — будто рывок за плечо. Скорей! Ледяная вода на плечах, на играющих под кожей мускулах рук. Горячий кофе обжигает губы. Готов.
В бараке надеть забрызганные известью белые штаны, старые сапоги. И на работу. Уже поставлен забор, уже выкопан котлован. Уже бетонирован фундамент. Теперь класть.
Ряд за рядом. Анатоль — на углу, повыше. От угла к углу протянут шнур. И по шнуру ряд за рядом. Ящик до краев полон белой, как сметана, известью. В него погружается черпак, и известь тонкой струей льется на ровный ряд кирпичей. Ровно, повсюду одинаково. И опять кирпич за кирпичом, по шнуру… Когда ряд готов, полить водой, залить раствором. Затем щели между прямоугольниками кирпича заполняются известью. Тщательно заравниваются мастерком.
Работа требует внимания. Случается, особенно вначале, пока еще не войдешь в работу, что кирпичи, вместо того чтобы лежать ровно, один на другом, по отвесу, незаметно, предательски выступают наружу. Миллиметр за миллиметром растет, с каждым рядом увеличивается ошибка. Напрасно каменщик присматривается и так и этак. Глаз не обманывает — провесил.
Теперь приходится скрадывать — только бы мастер не заметил. Миллиметр за миллиметром, незаметно, помаленьку отступать назад, пока не выровняешь снова по отвесу.
Или, наоборот, кирпич отступает на один миллиметр. Один, другой, третий ряд. Сперва ничего не видать. Однако постепенно вся стена начинает клониться внутрь — почти незаметно, но каменщику видно. Выругается раз и другой, но ничего не поделаешь — завалил. И снова помаленьку, ряд за рядом скрадывать, пока все не станет на свое место, ровно по отвесу.
Главное — глаз. Не ошибиться ни на волосок, ни на тончайшую линию. Не то — работаешь, работаешь по-прежнему, как вдруг начинает обнаруживаться, и с каждым рядом все отчетливее, что ты сделал плохо. Кирпич суров, он требует добросовестной работы. И ловких рук — проворных, уверенных, умелых.
Ровно класть кирпич к кирпичу на мягкой, влажной подстилке раствора. Чтобы уж не передвигать, не поправлять, не возиться — а сразу! Безошибочно и бесповоротно.
И стена растет. Опустить с угла отвес. Железная гирька на шнуре. Ровно. Но если ты где-нибудь ошибся, отвес беспощадно ткнет тебе этим в глаза, высмеет, научит уму-разуму на будущее.
А иной раз так только на всякий случай ляжешь на высоте четвертого этажа животом вниз на узкой полоске стены. Спустишь вниз отвес без всякой надобности, потому что сразу видно, что все хорошо. Посмотришь на извивающуюся далеко внизу улицу, на суетящихся мурашек-людей, на гудящие, крохотные, точно жучки, автомобили, на скользящие велосипеды. Смотришь сверху, чувствуя в волосах едва заметное дуновение ветра. А то и сплюнешь, чтобы посмотреть, куда долетит плевок. Весело вверху, на красной вышке растущего здания. Над суматохой бегущих туда и сюда мурашек.
Но долго так лежать не приходится. Ведь там, на противоположном углу, стоит другой. Сейчас надо будет подтянуть шнур, он не должен быть у тебя ниже. И скорей, скорей, наперегонки, во внезапном радостном возбуждении.
Вот стена вырастает тебе по грудь. И тогда доносится голос мастера:
— Господа, поднимаемся!
Козлы. Сперва невысокие. Доски. Теперь помощникам тяжело подавать ведро с известью — высоко, выше головы. Мускулы напряженных рук вздуваются от сорока кило. Лицо краснеет от напряжения.
И опять:
— Господа, поднимаемся!
Большие козлы. Дощатый помост. Укладываются сходни. По узеньким ступеням поперечных дощечек поднимаются вверх подносчики. Подошвы цепляются за шершавую доску, за поперечные дощечки прогибающихся под ногами сходен. Медленно поднимается подносчик со своей ношей. Осторожно ступает, чтобы не пошатнуться в сторону, не свалиться под тяжестью, не надорваться. В течение восьми часов спина согнута в три погибели. Кровь в венах ног стучит молотком и вздувает вены изо дня в день, постепенно, помаленьку. Пока, наконец, вены не выступят фиолетовой звездой желваков, вздувшейся синей веревкой. Вспухают бесформенными шишками на усталых ногах подносчика. Разливаются красными кровоподтеками.
Но теперь дальше. Окна. Перемычки и косяки. Удар молотка дробит кирпич. Потому что нужен не всюду одинаковый, где целый, а где половинка. На перемычках — четвертушка.
Или свод. Сперва делается деревянная пята. А потом уж свод сходится в стрельчатую арку. Кирпичик к кирпичику. И держится чудом, но чудом рассчитанным, точно продуманным.
Хитер человек. Подсмотрел, рассчитал, сделал. И чего он только не знает.
Анатоль часто раздумывает, глядя с угла вниз и слегка покачивая в руках ненужный отвес, как странно устроен мир. Например, фабричная труба, которая обязательно должна покачиваться, не то не могла бы противостоять ветрам. Так она и ходит там в вышине, отклоняясь на метр, а то и больше, то в ту, то в другую сторону. Кладешь ее, а как дойдешь до верхушки, так тебя и качает в высоте. Непривычному человеку кажется, что труба валится, что валится весь мир вокруг. А на самом-то деле построено крепко, на долгие годы. А что качается, так это уж так надо. Не от слабости качается, а от силы.
Хорошо в тихую погоду. Хуже, когда поднимается ветер. Внизу он, может, и чуть заметен, но здесь дует вовсю. Засыпает глаза пылью. Швыряет брызги извести. Раскачивает во все стороны отвес, — не проверишь. А если ко всему этому еще и дождь — совсем горе. Промокшая одежда плотно пристает к телу, липнет к нему, связывая каждое движение. Крупные капли слепят глаза. Холод пронизывает до мозга костей. Кирпич скользит в руках, скользит по раствору. Не успеешь оглянуться, как уже все пальцы в «синячках» — глубоких болезненных трещинах на мякоти пальцев. Зальешь их смолой, но толку мало. На другой день опять то же самое.
Лучше уж жара. Можно снять рубашку, работать голым до пояса. Загоришь, лучше и не надо, будто все лето на пляже лежал.
Наконец, можно приступить и к отделке. Вдоль здания вырастают высокие стойки. К ним прибивают опояску, от опояски к дырам в стене — перекладины, а на них помост из досок. Теперь, накладывай кельмой цемент с известью. Заляпаешься при этом, как чучело. С головы до ног.
Если леса оказываются недостаточно высокими, их наращивают. К верхушке стоек скобами прибиваются новые стойки. С тяжелой доской в одной руке, с гвоздем и молотком в другой по стремянке, опирающейся об эту надштуковку, надо пройти над бездной улицы. Раз — и приколотить доску. Не промахнуться ни на волос, не покачнуться, не сделать ни одного лишнего движения. Не то доска перевесит, стремянка сползет, крепления не выдержат — и ты уже внизу, среди толпы с криком сбегающихся прохожих.
Впрочем, леса ставят не всегда. Иной раз в воздухе повисает люлька, неустойчивые мостки, раскачивающиеся на веревках от любого дуновения ветра. Там тоже всяко бывает.
Поэтому в профсоюзной книжке из года в год, неуклонно виднеется рубрика: «На скорую помощь». Каменщики хорошо знакомы с нею. Не сегодня, так завтра, а голубая каретка может понадобиться всякому. И уж на этот-то взнос деньги всегда находятся. Не любит простой человек даровщины.
Когда приходится надстраивать этаж — тут мука с печными трубами. Если еще вдобавок жара, то просто выдержать невозможно, — жар и клубы дыма бьют прямо в лицо. Конечно, есть средство и против этого: на двух крюках, вделанных в кирпич, над печной трубой растягивают тряпку. Восходящий ток горячего воздуха пузырем вздувает ее кверху. Дым возвращается вниз, в печки, гаснущие к великому беспокойству кухарок. Вырывается клубами сажа на деревянные полы.
Трубочист. Его щетки опускаются вниз, снова появляются наверху — все безрезультатно. Из кухонных окон и дверей появляются встревоженные лица, глаза, заслоненные рукой от солнечного света.
— Что эти каменщики там вытворяют? Суп сварить невозможно!
А не то — стекло. Вставишь его в трубу и ничего не заметно. А огонь гаснет. Можно спокойно укладывать кирпич, не задыхаешься от дыма, не хрустят на зубах крохотные угольки.
Только вот со стеклом можно засыпаться. Кусок щебня, инструмент трубочиста — и кончено дело! Да еще как кончено! С шумом, с пронзительным дребезжанием стекла в трубе.
Тряпкой лучше. Тихо, незаметно. Нет тяги, да и все. Видно, уж погода такая, совсем безветренная. Можно даже посочувствовать горю причитающей над тухнущей плитой Марыси — кухарки с третьего этажа. Да, мол, досадно, но такая уж погода, что поделаешь! Может, к вечеру, наконец, ветерок будет, хоть бы к ужину.
Но вот уже бьют в рельсу. Шабашить! И когда человек уже наскоро моет рыжие от кирпича и белые от извести руки, с постройки напротив громко, протяжно, доносится:
— Анато-ооль! Рыбу ловить идешь?
И ветер со всех ног мчится с ответом:
— Иду-у!
Два сачка. Длинный шест с пучком цепочек на конце. Ящичек для улова.
Лучше всего по субботам. В воскресенье можно спать сколько хочешь, а ночью до самого рассвета бродить в мутной воде.
Белые от росы луга. Поблескивающие, прохладные. В тени городского вала темной змеей речка. В холодке взъерошенных ивовых зарослей журчащая глубь. В илистых заливчиках грязно-белые, кружащиеся клочья пены. Из-за летучих облачков в ясном небе круглое лицо месяца.
— Эх, луна, черт бы ее побрал!
Но это ничего. Один остается позади, другой выдвигается вперед. В случае чего — пронзительный свист. И те внизу сразу, каким-то таинственным образом исчезают, словно впитываются в туман или растворяются в воде. И никого нет. Полицейский в летней белой, издали приметной шапочке может ходить вокруг сколько угодно. Ничего ему не заметить, не высмотреть, кроме двоих людей, спокойно идущих вдоль вала. Что ж, гулять никому не запрещается.
Готово. Два сачка крепко уперлись в дно под натиском сильных рук. Перегородили русло во всю ширину.
— Влезай!
Один упирается в шест. С шумным плеском взметывая водяной фонтан, прыгает по пояс в темную воду. Удары шеста под берег, в свесившиеся в воду ветки, в фашины гребли, в тихо журчащую глубь.
— Стоп!
Ловкие пальцы, держащие у жердочки сачка конец сетки, ощущают малейшее вздрагивание. Сетка появляется из воды, вода полированным серебром сверкает в мелких ячейках. На дне сетки трепетное поблескивание. Рыба летит на берег, ловкие руки ищут ее в траве.
— Мелкота!
— Ничего, ничего, бери.
Узкое тельце плотвы падает в жестяной ящик.
— Стоп!
— Опять мелочь!
— Плотва?
— Нет, елец.
— Пугай, пугай, тут должно что-нибудь быть.
— Что-то эти пескари попрятались.
«Пескарем» они, чтоб не сглазить, называют угря.
— Будут еще, больно ты скорый.
И снова:
— Стоп!
— Влазь!
— Пугай!
— Хватит!
— Помаленьку!
Плоская серебристая плотва. Радужные спинки ельцов.
— Стоп!
— Ого, кажется есть!
На этот раз добычу не бросают прямо из речки. На берег выносят весь сачок.
— Вынимай! Помаленьку!
На дне сачка извивается коричневая змея. Поблескивает белое брюхо.
— Брать!
Скользкое прикосновение в пальцах. Всего мгновение. И сразу исчезает.
— В траву! В траву ушел!
Огромный угорь, словно змея, извиваясь, скользит в траве. Но его уже хватают сильные руки, сворачивают в клубок, быстро, быстро. Вот он и в ящике. Мерно стучит в жестяные стенки маленькой змеиной головой.
— Ну и дьявол!
— Чуть было не ушел!
— Э-э… Куда ему уйти?..
— А как бы ты думал? Добрался бы до воды — и будь здоров!
— Отсюда-то?
— Еще как!
Ну, а как же, ведь угорь, шутка сказать! Вылезает по ночам на ближние поля, жрет горох. Проглотив крючок удочки, обвивается хвостом вокруг камня, хоть все внутренности у него вырви, а от камня не оторвешь. Один раз так обвился вокруг мужика, что пришлось его пополам перерезать, не то бы задушил. Вот он каков, угорь. Теперь, когда он пойман, можно назвать его и угрем, а не пескарем, как раньше.
— Влазь!
— Пугай!
Над водой какая-то тень.
— Гляди, удит!
— Кто это такой?
— Черт его знает.
— А ну-ка, спроси у него разрешение на ловлю.
Сачки таинственным образом исчезают.
— Эй, разрешение у вас есть?
Человек медленно пятится от воды. Они полукругом, подавшись вперед, наступают на него. Как волки. Окружают.
— Вы сами браконьеры! Еще и разрешение спрашивают! По-лицияя-а!
Отчаянный крик над распростертыми под бледным небом пустынными полями.
— Холера проклятая! Не ори, сукин сын!
Тень поспешно удирает. Прячется среди темных зарослей верб.
— Ну, валяй дальше! Нечего тянуть.
Ночь бледнеет. С небольшой копны сена на прибрежном лугу поднимается заспанный человек.
— А ты тут и спишь?
— А как же. Я там переметы поставил, смотрите не порвите.
— А еще кто из наших здесь?
— Хо-хо! С вечера человек двадцать вверх по течению пошли.
На востоке узкая рыжая полоска. Пора домой.
Теперь на реке ежеминутно попадаются знакомые. Каждые несколько шагов — взмах удочки.
— Ну, как Томек?
— Хорошо!
— Ясек! Скоро домой?
— Эй, Рудек!
— Глядите-ка, и Владека принесло!
Братия скликает друг друга. Те, кто живет в одном районе, на одной улице или в одном доме. Можно подумать, что в эту ночь, в канун воскресенья, все каменщики превратились в рыбаков. Мокрые по шею, в шелестящей от воды одеже, они молчком, украдкой пробираются в это прохладное утро им одним известными дорогами домой. В жестяных ящиках бьются головами угри, на спинах ловцов покачиваются сачки. Пока не рассвело, нужно попрятать в недоступные тайники запрещенные сети, удочки домашней работы, шесты, которыми вспугивают рыбу. Как ничего и не бывало. В понедельник опять на работу — кирпич, известь и цемент. Но в ночь под воскресенье — серебряные от росы луга, серебряный предатель-месяц на небе, серебряная рыбья чешуя. И белое брюхо угря и шорох прибрежных деревьев.
Или кабак. Потому что сегодня получка, завтра ее, быть может, уже не будет. А потом долгие зимние месяцы. И получка переливается пеной через край пивной кружки, сверкает грязной рюмкой, появляется из-за прилавка четвертинкой за злотый и пятнадцать грошей. Плевать на все, раз сегодня есть деньги. И получка обращается в удар кулаком меж глаз или ножом под ребро, в пьяную драку, в ночевку в полицейском участке.
А то — угостить девушку на танцульке, поставить ей все, что она в силах выпить и съесть. Чтобы чувствовала, что не с нищим каким танцует, не с первым встречным, а с каменщиком! Угостить музыкантов, чтобы знали, кому играют! Угостить всякого, у кого только есть глотка, чтобы пить, — пусть знают, как каменщик гуляет. Пока еще что-то звенит в кармане, пока есть что бросить на прилавок.
И так во всем. До конца, до дна! Плевать на жизнь, на этакую собачью жизнь. Ударить ножом врага, пойти на смерть за друга. На смерть всякий охотно пойдет за любое правое дело, а в первую голову, в первую голову за то великое, за святое общее дело.
В быстром течении этой своеобразной жизни Анатоль плавает словно рыба в воде. Ничто здесь не застаивается на месте, не закостеневает, не киснет. Красочная, горячая, внезапно расцветающая жизнь. В дурном и хорошем, в великом и малом — жизнь, пульсирующая быстрыми ударами сердца, неудержимой волной горячей крови. Жизнь, пылающая огнем, взрывающаяся пламенем. Надежная. Своя. Сплотившая их в огромную семью, в рыцарский орден кирки и молота.
Кипящая радостной молодостью жизнь. Жизнь полная, бьющая через край.
Да еще однажды утром, по пути на работу, его глаза встречаются с темными, пугливыми глазами девушки.
Анатоль от всего сердца улыбается темным глазам. Ему отвечает трепет длинных ресниц.
Раз, другой. Потом уже можно приподнять шапку и вместе с кивком темной головки в самое сердце принять внезапно вспыхнувший на щеках румянец.
А теперь можно иной раз и заговорить. Наталка. Наталка и Анатоль. Забавно!
Тихонькая она такая. Худенькая, с виду хрупкая. Но руки сильные, трудовые, пальцы изъедены коричневым табачным соком на фабрике. Руки Анатоля невольно протягиваются, чтобы защитить, помочь, взять ее под свое покровительство.
И так уж остается. Анатоль и Наталка.
Такой с виду цыпленок. Маленький, слабенький. Но тяжкий труд несут на себе девичьи плечи. Вереницу долгих, трудных, суровых дней влекут за собой ноги. Умеют твердо смотреть в лицо жизни пугливые глаза. Умеют упорно, непреклонно сжиматься розовые губы.
Сперва лишь несколько слов на ходу, — ведь оба торопятся.
Потом Анатоль у ворот фабрики всякий раз, когда ему удается поспеть с работы к концу ее смены. Потом то тут, то там, в воскресенье.
Разговаривают. Обо всем. О своей жизни. Рассказывают, что было днем.
И, наконец, также и о том, о его деле.
Она прилежно слушает. Наклоняет к нему темную головку, напряженно стараясь понять каждое слово.
Впрочем, это знакомо и ей. Может, не так точно, не так хорошо, как Анатолю, но знакомо. Ведь она не с луны свалилась. Ее воспитывал сырой подвал и сиротская доля, фабричный склад, заваленный кипами табаку.
— Видишь ли, Наталка, дело обстоит так…
Она поддакивает, кивая темной головкой. Понятно. Так, именно так.
Анатоль улыбается. Как хорошо, что она такая, — иначе на что ему были бы и пугливый взгляд ее глаз, и эта внезапная краска в лице, и песня счастья в шумно бьющемся сердце?
— Вот я поведу тебя, покажу одну вещь.
— Сегодня?
— Нет, нет. Через некоторое время, подожди. Это еще только делается.
А пока можно почитать. Анатоль объясняет. Но Наталка понятлива, хватает на лету, впитывает в себя каждое слово, срывающееся с его губ. Ведь это же Анатоль! Уж раз он что скажет, так оно и есть. Еще бы — Анатоль!
И, наконец, он однажды говорит:
— Наталка, сегодня вечером пойдем.
— Куда?
— Увидишь.
И они идут.
Сперва ничего неожиданного нет. Ведь она уже заходила сюда раз за Анатолем.
Но теперь они поднимаются наверх. Зал полон. Под огнями ламп — смешанный гул голосов. В глубине — зеленые складки занавеса.
— Садись, садись и смотри.
— А ты?
— Мне пора идти, сейчас ты меня увидишь.
— Там?
Зеленые складки слегка колеблются.
— Там, там, только подожди.
Он исчезает где-то в боковых дверях. Впрочем, его уже зовут туда, нетерпеливо, настойчиво.
Наталка сидит в первом ряду. Сперва ей немного неловко, но вскоре она успокаивается. Прямо за ней сидит Флисовская, тоже с папиросной фабрики. А таких, что в шляпках, почти и не видно, — не то что в театре.
Она терпеливо ждет. Зеленые складки занавеса слегка волнуются, но пока ничего не начинается. Интересно, что это будет?
Вдруг удар гонга. Наталка вздрагивает в напряженном ожидании. Зеленые складки уходят в стороны.
На сцене стоит целая толпа. Не переодетые, не загримированные, прямо как были. Она даже слегка разочарована. И Анатоля что-то не видно; впрочем, он, может, потом придет, утешает она себя. Потому что без Анатоля ей как-то не по себе.
В зале совершенно темно. Сцена освещена ярким белым светом. Они стоят там полукругом. Наталка начинает волноваться за них. На сцену устремлено столько глаз… А вдруг что-нибудь не удастся? Но нет, не может быть. Ведь там Анатоль. Она усаживается поудобнее, потому что ведь сейчас начинается.
Во тьму зала мерно, четко льются произносимые хором слова. Словно из одной мощной груди:
Наталка слушает. Ведь это об Анатоле. Об Анатоле и о ней. За собой в напряженной тишине зала она слышит дыхание толпы. И даже выпрямляется от гордости. Ведь это об Анатоле.
Вдруг мерный ритм спокойных голосов обрывается, словно прибитый к земле. А над ними светло, вдохновенно, высоко взвивается один голос:
Теперь на полшага из темного полукруга толпы выступает Анатоль.
Из темной пропасти зала на него смотрят неясные очертания лиц. Будто призраки. Дыхание сотен губ доносится, как дыхание огромного теплого зверя.
Но Анатоль не видит, не слышит. Быстрая дрожь пробегает по всему его телу, с головы до ног. Губы пересохли. Сердце вдруг сжимается. Еще полшага вперед. И, словно пламя, его охватывает вихрь восторга. Руки кверху, — о, не так, совсем не так, как на репетиции. Теперь это по-настоящему. Не заслушавшемуся залу, а своему темному детству, своим мрачным отроческим дням, этим шумным городским улицам, этому ужасающему миру несправедливости и насилия бросает Анатоль дерзкий вызов своей воинственной, непокорной юности:
Как огненное копье пронизывает его голос темноту зала. Та же быстрая, мелкая дрожь пробегает по залу. Хотя огненное копье уже гаснет в темном бархате множества низких голосов.
Наталка дрожит всем телом. Глупые слезы туманят ей глаза.
— Анатоль, Анатоль, — бессознательно шепчут губы.
Теперь антракт. Анатоль с отсутствующим еще взглядом, с растрепанными светлыми волосами приходит в зал. Садится возле Наталки, — нет это не сон, садится как ни в чем не бывало возле нее.
— Ну? — спрашивает он с улыбкой, но в его голубых глазах еще мерцает то пламя святого безумия, что обратило его в молнию и песнь, там, в осветившемся вдруг пурпурным светом полукруге.
Наталка никогда не видела орла. И все же с ее дрожащих губ срывается как раз это:
— Орел ты мой!
Анатоль пожимает плечами. Он ведь только строит свой стоэтажный белый дом. И — осторожно поглаживая руку девушки:
— Милая…
— Будет еще что-нибудь?
— Ну, конечно! А ты думала, только одно это?
С нее бы хватило и одного этого. Именно этого. Потому что ведь Анатоль…
Впрочем, из всего остального она не видит почти ничего. Все несется пестрой вереницей, перепутывается в голове в какую-то вьюгу звуков и слов. Самое главное уже было: Анатоль с развевающимися светлыми волосами, с глазами, горящими как огонь, Анатоль, бросающий всему миру свой дерзкий вызов.
У входа к ним присоединяется мать. Все это время она просидела в последнем ряду, смущенная, сама не своя. Ей неловко оттого, что она здесь, а между тем ей так хотелось посмотреть на сына, на этого странного, такого близкого и вместе с тем такого далекого сына. Давно миновало время, когда строптивого Анатоля приходилось лупить палкой, чтобы выбить из его головы всякие дьявольские затеи. Теперь это кормилец, надежда, защитник, хотя она смутно отдает себе отчет, что он так и остался все тем же безумным Анатолем, которого когда-то послали на исправление к ксендзам. Тем же самым Анатолем, которого приходилось конфеткой приманивать на берег, когда он, восьмилетний клоп, отважный и неисправимый, прыгал по льдинам, с грохотом плывущим по весенней реке. Тем самым Анатолем, который двенадцати лет от роду избил подмастерья булочника, высоченного мрачного парня, за оскорбительные слова по ее адресу. Тем Анатолем, который исчезал из дому на три дня и возвращался с разбитой головой, в изорванной одежде, но счастливый и гордый.
Мать вздыхает. Давно уже она чувствует себя наседкой, которая вместо беспомощного птенца высидела странное, крылатое создание с нравом, ничем не напоминающим цыпленка. Понемножку она сдается. Со дня на день власть ускользает из ее рук. Мало-помалу привыкает она угадывать мысли сына, исполнять его даже невысказанные желания. Из себя самой она превращается в «мать Анатоля». Она знает, что сама по себе ничего не значит, она лишь мать Анатоля. Только потому, что она его мать, ей уступают дорогу, подставляют стул, только потому ей кланяются люди, которых она знает лишь в лицо. Мать Анатоля. И она сама не знает, что в ней сильнее — обида или гордость, свои привычные взгляды или восхищение перед этим большим светловолосым сыном.
Труднее всего было примириться с той дорожкой, на которую он стал в последнее время. Тут уж она и вправду не может поспеть за ним, столько всего впитанного с детства восстает в ней против этого. Но она таит это свое в себе. Не хочет задерживать, мешать, пытается даже помочь. Тем более что твердо знает: это-то уже настоящее. Это уже не пройдет, как проходило у него столько других увлечений. И она осторожно обходит больные вопросы, чтобы не сделать ему неприятности. Ведь она уже старая женщина… Хотя, вопреки всем доводам разума, сердце ее громко кричит, что только затем она и жила, чтобы теперь Анатоль мог выступать здесь со сцены, чтобы он мог быть таким, каков он есть. Чтобы он был именно Анатолем. Она и сама не может понять, что это такое — это смешанное чувство обиды, радости, самоотречения и гордости, эта грусть по чему-то неуловимому и вместе с тем ясное сознание, что это время — лучшее время в ее жизни.
— Ну как, мама, понравилось вам?
Она беспомощно улыбается.
— Что ж, сынок, я уже старуха, не разбираюсь в этом, а только очень хорошо было.
Они вместе идут домой.
— Будешь ложиться?
— Почитаю еще немножко.
Она зажигает керосиновую лампу. Садится напротив сына. Смотрит. Она любит вот так смотреть на его склоненную голову и сдвинутые в напряженном внимании брови.
Анатоль поднимает глаза и улыбается.
— Что вы так смотрите, мама?
— Ничего, сынок, смотрю, как ты читаешь.
— А может, и вам дать почитать что-нибудь?
— А, дай, дай, если есть что подходящее, только чтобы печать покрупнее.
Она широко раскладывает перед собой номер газеты. Читает, беззвучно шевеля губами. Водит опухшим в суставах пальцем по черным строчкам.
— Ну как?
Мать вздыхает.
— Стара уж я, сынок, меня не переделаешь; как дали мне родители при крещении святой образок, так со святым образком ты меня и в гроб положишь. — И торопливо прибавляет: — Ты — другое дело, ты — молодой, и свет теперь иной стал, а мне куда уж!
Поздней ночью, когда Анатоль уже спит, она долго плачет. Потихоньку, чтобы невзначай не разбудить его. Утром, — это как раз воскресенье, — бежит к ранней обедне. Младенец Иисус в золотых ризках в алтаре. Этому младенцу Иисусу она исповедуется во всех своих горестях. Она не знает, есть ли в мире одна правда. Если одна, тогда заблуждается либо сна, либо Анатоль. Или же в мире две правды — одна для нее, старой женщины, забитой своей тяжкой жизнью, вдовьими заботами, а другая для сына, для его дерзких голубых глаз и ясной улыбки. Теперь, когда она прожила уже столько лет, идя своим простым, сереньким путем, размеченным указками заповедей, путем тщательно и навеки выровненным, размеренным исповедями, проповедями, богослужениями, путем, где все заранее предусмотрено, все впитано с молоком матери и ничто не требовало ни размышлений, ни решений, — теперь ей указывают иной путь, путь неизвестный, обрывистый, где человек предоставлен самому себе, лишен покровительства далекого неба, лишен всех подпорок, так привычно поддерживающих шаткие человеческие шаги.
Она плачет перед своим младенцем Иисусом в золотых ризках, стоя на этом тернистом распутье, между верой всей своей жизни и любовью к сыну, между привычным с детства смирением и дерзостью того, кто ей дороже всего на свете.
Плачет перед младенцем Иисусом, ощущая в своем сердце глубокую трещину, невольно чувствуя, что счастье сына ей дороже, чем спасение собственной души, что вера ее не настолько сильна, чтобы разрешить все сомнения и убедить Анатоля, что он поступает дурно.
Когда слезы перестают, наконец, литься, она медленно встает. Покупает у причетника и зажигает перед алтарем свечку. Хочет сказать младенцу Иисусу, что это за то, чтобы он обратил на путь веры сына. Но слова, не успев сорваться с губ, превращаются в другие.
— За здоровье и счастье Анатоля, — шепчет она тихо.
Теперь скорей домой, приготовить завтрак. А Анатоль еще спит. Она смотрит на него минутку, но, как только его ресницы вздрагивают под ее взглядом, тихо отходит.
На полу у стола лежит вчерашняя газета. Она поднимает ее и тщательно разглаживает. «Может, он еще не все прочел», — думает она, чувствуя легкий укол в сердце при воспоминании о том, что прочла там вчера.
Теперь надо сходить за водой. Сверху спускается соседка. Тощая, черная и злющая жена слесаря.
— В костел не пойдете?
— Может, схожу еще, я сейчас только вернулась от ранней обедни.
На тонких губах слесарши змеится ядовитая усмешка.
— Конечно, конечно, у кого такой сынок, тому приходится молиться за себя и за него…
Мать не любит ехидничать. Разве только когда затронут ее самое больное место — Анатоля. И она спокойно завертывает кран водопровода.
— За Анатоля и за себя я уже утром помолилась. А к поздней обедне пойду молить бога, чтобы на свете было побольше таких сыновей, как мой.
Слесарша подбирает юбку и, бросив на нее разъяренный взгляд, начинает, шумно топоча ногами, спускаться по скрипучей лестнице. Всем известно, что два ее сына — бездельники и пьянчуги, что, приходя под утро домой, они иной раз и на родную мать руку поднимают.
Вообще в этом Анатоле соседки никак не могут разобраться. В бога не верит, у исповеди не бывает, а мать между тем почитает, как ни один другой. Веселиться — веселится, но пьяный домой не приходит, весь заработок отдает матери, а уж работник такой, что мастер за ним на дом является. Обо всем этом они судачат, идя по воду или в угольный подвал, выколачивая перины на деревянных галерейках или стоя у лавчонки. И только в одном все согласны: в конце-то концов обнаружится, что это за зелье. Бог правду видит, да не скоро скажет, но рано или поздно, а покарает безбожника.
По правде сказать, о божьей каре думает иной раз и мать. Недаром же бог, о котором ей говорят, это страшный, неумолимый судья, за одну жалкую, кратковременную жизнь обрекающий человека на вечные муки. Иной раз в ее голове вдруг мелькает грешная мысль, что он добр, милостив и полон всепрощения лишь для богачей. Для простого же человека он именно таков, о каком каждое воскресенье гремит с амвона высокий худой ксендз в ее костеле: властитель пылающего ада, куда он бросает души на вечный плач и скрежет зубовный. А ведь сказано, что ни один поступок не может быть совершен без его волн. Бог, который вдовам и сиротам посылает испытания в виде нищеты, болезней и страданий, заставляя их служить себе в смирении и молчании, в покорности и терпении, в то же время другим дарует спасение после удобной и сытой жизни.
Она гонит от себя эти мысли, старается не признаться в них даже самой себе, но все же, когда ей хочется помолиться за Анатоля, она идет к младенцу Иисусу в золотых ризках. У него пухлое личико ребенка, и он напоминает Анатоля, когда тот еще лежал в колыбельке или делал первые шаги по тесной комнатке. Младенец Иисус ласково улыбается и протягивает пухлые розовые ручки. А она ведь мать. С ребенком ей легче договориться, чем с этим суровым, грозным богом. Иной раз она молится и у другого алтаря, но тогда уж об Анатоле не упоминает…
— Завтрак готов, сынок.
Анатоль, забрызгав водой половину комнаты, кончил мыться. Теперь он садится за стол.
— Вы уже выходили?
— А выходила, сынок, выходила. У обедни была, — нехотя признается она.
— Помолились за мои грехи?
Добрые глаза Анатоля улыбаются.
— И за твои и за свои… Все грешны, — у кого грехов нет?
— И какие у вас, мама, могут быть грехи… — шутливо размышляет вслух Анатоль.
Мать вздыхает. Не может же она сказать ему о том, что так учено растолковал ей ксендз на исповеди: что ее величайший грех — это как раз ее любовь к сыну, преданная, обожающая, пренебрегающая своим и его вечным спасением.
Потому что от этого греха ей никогда не избавиться, тут уж ничего не поделаешь. Его не искупить никаким покаянием, никакой молитвой.
Она тяжко вздыхает, огорченная и вместе с тем счастливая, чувствуя, что бо́льшую радость, чем что бы то ни было, ей в данный момент доставляет то, что Анатоль с волчьим аппетитом поглощает один за другим огромные ломти хлеба.
— Ешь, ешь, сынок.
Величайшая ее забота — сын. Величайшее счастье — сын. Были у нее и другие дети, постарше. Но все они рассеялись по свету в поисках своей судьбы. Теперь у нее только Анатоль. Да те к тому же были и неродные: она ведь за вдовца вышла. А это уж всегда не то. Да и куда им до Анатоля!
— Если меня кто будет спрашивать, скажите, что пошел на собрание.
— На собрание идешь?
— Да. Что вы так вздыхаете?
— Как бы из этого чего плохого не вышло…
Анатоль смеется. Такая уж она всегда, в вечном страхе живет. Прежде боялась, что он под трамвай попадет, что уличные озорники побьют, что утонет. Потом боялась несчастного случая на работе. Бывало, ни с того ни с сего сорвется, бросит все — и на постройку. Добежит до поворота так, даже ноги задрожат. А взглянет — ничего. Все работают. Подойдет ближе. На углу Анатоль. Рубашку снял, голый до пояса, насвистывает сквозь зубы. Поглядит на него минутку — из-за угла, чтобы не заметил, а то еще рассердится — и домой. С легким сердцем, что ничего не случилось.
А теперь снова страх, как бы его в тюрьму не посадили. И так вечно что-нибудь да заставляет сердце трепетать и вздрагивать.
— Нечего бояться, хоть бы и пришлось посидеть немного.
Конечно. Мало ли люди в тюрьме сидят? А вот нет, никак она не может с этим примириться.
— Ужасно вы, мама, боязливая. Хуже, чем есть, все равно не будет. Уж если что переменится, то к лучшему. Стало быть, и бояться нечего.
Может, и так. Но недаром учила ее жизнь, недаром столько лет била жестким кулаком. Если что и менялось, то редко когда к лучшему. В родном доме было не сладко, ох, не сладко! Потом вышла замуж. Грех сказать, добрый был человек, злого слова от него за всю жизнь не услышала. И вдруг умер — как раз когда Анатоль был в ксендзовском воспитательном заведении. Осталась она одна с кучей ребятишек. Хотя те все постарше были, мальчики уже и начальную школу окончили. Как бы там ни было, а она продержалась, хоть и сейчас еще мороз по коже подирает, как вспомнит. Стали ребята зарабатывать, а потом как-то быстро рассыпались по свету. Анатоль с двенадцати лет помогал ей, как только мог, так и пробились сквозь самые тяжкие годы. Но остался страх, непрестанный страх, что что-нибудь случится.
— Неужели вы бы хотели, чтобы я всю жизнь в углу сидел, горе мыкал да еще благодарил? А сами вы никогда не бунтовали?
Она тщательно припоминает всю свою серую жизнь. Нет, кажется, никогда.
Ни ребенком под беспощадными кулаками пьяницы отца, под гнетом ноющих жалоб всегда больной матери.
Ни в лавке, куда ее взяли на посылки. С утра до ночи на ногах. Мыть полы, подметать в сенях, выносить деревянные ящики. Разносить покупки, мыть тарелки на кухне, нянчиться с ребенком, вскапывать огород.
Нет, она не бунтовала, она только тихонько плакала по углам, чтобы никто не услышал.
Ни потом, на службе, когда отец забирал у нее на водку каждый заработанный грош. Она отдавала, тихонько всхлипывая, чтоб опять-таки никто не услышал. Да и потом, после смерти мужа, когда она хваталась за всякую работу: дворничихи, уборщицы в больнице, бралась за шитье, за стирку.
Нет, она не бунтовала, ей и в голову не приходило бунтовать. Выплачет все слезы в костеле и опять идет на работу. Пожаловалась раз ксендзу на исповеди, выслушала тихие слова о смирении и покорности, и они глубоко запали ей в душу. Она выслуживала себе царствие небесное тяжким трудом, заполнившим бесконечно тянущиеся дни. Болью в потрескавшихся руках, в утомленных глазах, в онемевших, натруженных ногах. К подножию алтаря несла она все свои обиды: задержанные хозяевами деньги, урезанную плату, грубую брань. К подножию алтаря несла свою вдовью долю. Нет, бунту и места не было в ее жизни между тяжким трудом и долгими молитвами.
Но то был какой-то иной мир. Тихий, серый, полузадушенный. В нем как-то и незаметно было молодости. Она по крайней мере ее не помнит. В нем не было дерзких слов. По крайней мере она их не произносила.
И теперь сама дивится, как ей удалось так сжиться с этим новым, совсем иным, незнакомым сыном? Как им славно разговаривается в свободное время, по праздничным дням после обеда или в будние вечера, когда Анатоль приходит с работы такой измученный, что его уже никуда не тянет из дому. Или, как хорошо посидеть, послушать, когда он с кем-нибудь разговаривает. Хотя, казалось бы, каждое слово не то, каждое слово должно бы возбуждать в ней страх и опасение. Ведь каждое его слово посягает на то, что она всю жизнь чтила.
Больше всего она любит посидеть вечерком над газетой. Иной раз найдет что-нибудь такое, чего Анатоль не заметил, ведь он только раз-два пробежит глазами, задержится над длинной статьей, а всякие там мелочи, происшествия его не интересуют. Вот другой раз и пропустит что-нибудь важное. А скажешь ему, слушает внимательно.
— Погляди-ка, сынок, Юзеф Сикора… Ведь это, наверное, тот самый?
Анатолю смутно вспоминается грязный школьный двор, гладко прилизанные волосы учительницы, лица товарищей. Жесткие черные волосы — это, наверно, и будет Юзек?
Он берет газету. Завтра…
— Я пойду в суд.
— Иди, иди, это, наверно, Юзек. Сикориху-то ты помнишь?
Да, теперь он вспоминает. Юзек ведь сидел в тюрьме, когда он был в заведении у ксендзов. Вот почему все так стерлось в памяти. Но в суд он пойдет.
— Сейчас еще рано. Этак через час, — говорит судебный служитель.
Но войти в зал можно сразу.
На скамье подсудимых — десятилетний мальчик. На вид ему и того меньше. Худые синеватые руки вылезают из рваных рукавов. Выпуклые глаза равнодушно глядят с тупого лица. Анатоль знает этот взгляд, взгляд мальчика из холодной и смрадной «сикающей».
Господин судья читает обвинительный акт. Дело не шуточное. Квартирная кража, золотые часы, еще там что-то. Тягучим, слюнявым голосом паренек кое-как отвечает на задаваемые вопросы. Покашливая, растерянно утирает грязным рукавом сопливый нос. С глуповатой улыбкой озирается кругом.
— Потому, дело было так…
— Ну?
— Вот как оно было, дело-то…
Он заикается, кряхтит, беспомощно ломает пальцы. В сущности мальчуган не совсем понимает, чего от него хотят. Но в конце концов дело выясняется. Простое, обыденное дело. Отец пьяница, третий год без работы. Мать душевнобольная. Живут в бараке для бездомных. Утром, в обед, вечером, в любое время дня — побои.
— Отец бьет ремнем, — деловито объясняет он. — А мать — та, чем попало.
По утрам он продает газеты. Потом его посылают просить милостыню.
— Отцу на водку, — сообщает он, шмыгая носом.
И вдруг — золотые часы на столе в комнате, на тихой глухой улице. Золотые часы — спасение, путешествие в далекий мир, — «как на картинке, что в витрине того магазина».
— Куда же ты собирался ехать?
Мутные глаза на мгновение оживляются. Тихим, тоскующим голосом он отвечает судье:
— Далеко… Далеко…
Судья торопится. Он завален бумагами. Следующий.
Оборванный, неделями небритый человек. «Без постоянного местожительства». Это постоянная, повторяющаяся здесь чуть не в половине случаев формула. Обвинен в краже пальто.
— Судимость есть?
Неряшливые клочья на небритом подбородке нервно вздрагивают.
— Нет, впервые.
— Профессия?
По болезненному, одутловатому лицу вдруг пробегает что-то вроде улыбки.
— Раньше был слесарем.
Судья не понимает.
— Как так, раньше?
Оборванный человек не может объяснить, что такое «раньше». Ну, когда была работа, когда ему не приходилось красть пальто, чтобы прикрыть расползающиеся брюки. Когда он два-три раза в неделю брился, когда у него были рабочий и праздничный костюмы, когда он мог покатать свою девушку на карусели и поставить ей кружку пива. Между этим «раньше» и нынешним днем пролегла тьма, пропасть, глубокая как юдоль человеческой нищеты и горя.
Анатоль осматривается. Зал почти пуст. Да и что тут любопытного? Старое пальто, сапоги, круг колбасы — повседневные происшествия, каких десятки можно вычитать в любой газете, под рубрикой «мелкие кражи».
Но вот в зале оживление. Перерыв. Запыхавшись, снуют служители. Шумно хлопают двери. Шелестят принесенные документы. Публики набивается все больше. Разряженные дамы совсем не элегантно работают локтями, стараясь во что бы то ни стало протиснуться в переполненный зал. В воздухе носится запах духов, слышится говор, остроумные замечания, точно на театральной премьере. Да ведь и зрелище ожидается не шуточное. Пахнет кровью. Где-то в перспективе возникает высокая страшная тень виселицы. Что может быть интереснее?
Конвоируемый двумя полицейскими, появляется подсудимый. Да, это Юзек. Сходство туманное, стершееся, но узнать можно. Да ведь и не бог весть сколько времени прошло…
Желтый, мрачный, апатичный человек. Многократно карался. Длинный, длинный список преступлений. Тюрьма для малолетних дала свои плоды. Кража, опять кража. И где-то, будто в сторонке, совсем независимо от судебного разбирательства, разворачивается другая история. Сарай в пригороде, без окон, без печки, без дверей. Здесь живут мрачный мужчина, уродливая болезненная женщина и двухлетний ребенок. Здесь же будет жить и второй — тот, который вскоре еще только появится на свет.
Долог день безработного. Длинны, безнадежно длинны улицы города. Зато быстро кончается купленный на последние гроши хлеб, быстро сваливаются с ног ошметки сапог, быстро обращается в лохмотья украденный пиджак. Безнадежная, чудовищная нищета сжимает как удав, наваливается на грудь каменной тяжестью, лишает солнце блеска и небо лазури.
Наконец, остается одно: идти куда глаза глядят, куда донесут ослабевшие от голода ноги. Будто там, вдали, есть какая-то иная жизнь, будто за пределами именно этого города кончается мрак мира.
И тут подвертывается последний шанс, последняя возможность спасения.
Возчик, — какой-то добрый человек попался, — соглашается даром, без всякой платы, немного подвезти его. Ни о чем не спрашивает, даже не оглядывается на своего пассажира. Тихонько покачивается на козлах. Может, дремлет. Доброжелательный человек; по измученному очерствевшему от вечной нищеты и вечных преследований сердцу словно проходит теплая волна какого-то давно забытого чувства.
Но на возчике просторный теплый полушубок. На ногах у него новые сапоги с высокими голенищами. На голове — барашковая шапка, а телега полна туго набитых мешков с овсом. На одном из них лежит кусок железа, острый лист толстого железа. Тяжелый. Ослабевшие от голода руки с трудом поднимают его. Железо обрушивается вниз. Раз, другой, третий обрушивается на склоненную голову в барашковой шапке.
Страшная тень виселицы покидает туманную перспективу, быстро приближается, наполняет собой весь зал. Протянувшаяся черная рука виселицы перечеркивает желтое лицо мрачного человека.
Раздается вопль: кричит болезненная, некрасивая, беременная женщина.
Но ведь здесь, в этом зале, присутствует и другая женщина. Молодая темноволосая мать троих маленьких детей, жена убитого. Ее бледные губы упорно, монотонно повторяют все один и тот же вопрос:
— За что? За что?
Скрипит черная перекладина. Мрачный человек равнодушно смотрит в пространство. «Отсутствие каких бы то ни было смягчающих обстоятельств».
Анатоль стискивает зубы. Что ж? Можно подойти и так.
Просьба о помиловании? Нет. Мрачный человек не желает просить о помиловании. Ведь нет же никаких «смягчающих обстоятельств». Да и зачем? Не думают ли они, что он так соскучился по своему сараю без окон, без дверей и печки, по отчаянному плачу вечно голодного ребенка, по своим дням бедняка и преступника, что ему хочется вернуться к ним хотя бы и годы спустя? Что он так уж ценит жизнь, свою затравленную, мрачную, черную жизнь? Нет. Он устал. Он уже за гранью всего, что можно перенести. Страшная тень виселицы приносит покой. Глазам уже не нужно будет глядеть, ушам слышать, уже не надобно будет ходить истомленным ногам. Впрочем, он же слышал — о, как ясно слышал! — что «никаких смягчающих обстоятельств» для него нет.
Элегантные дамы толпой выходят из зала. Делятся впечатлениями. Жалеют жену убитого. Больше того: жалеют даже жену убийцы. У элегантных дам добрые сердца, они пожалели бы и самого убийцу, если бы не его мрачное, отталкивающее лицо, если бы от него так не несло смрадом грязи и нищеты.
Анатоль остается. Следующее дело. Высокая бледная девушка. Вся сотрясаясь от судорожных рыданий, она плотно кутается в изношенный платок. Отвечает едва слышным голосом. Да, прислуга.
— Что же мне оставалось делать? — спрашивает она беспомощно.
Долгие, безнадежные ночи в горьких слезах. Попытки скрыть беременность накинутой шалью, широкими юбками, крахмальным передником, чтобы никто не заметил, чтобы не увидели проницательные глаза барыни. На каждом шагу дрожать от страха, делая вид, что работа так и горит в руках, что она здорова, полна сил, готова к услугам. Рожать без всякой помощи, затыкая рот тряпкой, чтобы не разбудить «господ», чтобы, боже упаси, никто не услышал стона. На рассвете, с сердцем, замирающим от невыносимого страха, выносить к реке кровавый сверток. Потому что ей надо во что бы то ни стало, во что бы то ни стало работать: на парализованную мать, на безработного отца, на пятерых маленьких братьев и сестер.
Она поднимает заплаканное лицо. И когда с ужасом слышит приговор, в ее светлых глазах вдруг появляется какой-то огонек. Она перестает плакать. Острым, пытливым взглядом окидывает зал.
— Вывести! Следующий!
Она выходит с высоко поднятой головой. Когда в последний момент ее взгляд падает на Анатоля, он находит в нем то, чего напрасно искал с самого утра. Со стиснутыми зубами, с ледяным блеском в глазах он выходит в коридор суда.
«До основания, до фундаментов, без остатка…»
— Да воскреснет бог и расточатся врази его! Смотрю, кто это идет и про себя бормочет, — а это Анатоль! Спятил ты, что ли, вождь народа?
Морщинистое, словно печеное яблоко, лицо Войцеха.
— А вы как сюда попали?
— В суде был, Анатолик, в суде. Человек и оглянуться не успеет, как святой закон нарушит, и получай три дня отсидки, будто с колокольни упал.
— Что-нибудь на кирпичном заводе?
— Э, какой там завод! Уголовник я, обыкновенный уголовник, жестокий человек, можно сказать. Пташек мучаю…
— Каких пташек?
— Разных… Мало ли пташек? Я, понимаешь, там, за кирпичным заводом, силки расставляю; а тут черти принесли покровителя птичек — этакого, знаешь, со значком под отворотом. Он что-то там у барака разнюхивал, да не вышло, а тут у меня как раз чиж в силки попался; ну, он человек скромный и чижом удовлетворился.
— Птички, — злобно цедит сквозь зубы Анатоль.
— А как бы ты думал? Дело не в птичках, а в законе, понимаешь? Я в прошлую пятницу чижа за пятьдесят грошей продал. Человек незаконными путями богатеет, между тем как на кирпичном заводе ему платят целых восемь грошей в час, вот у него и заводится фанаберия, состояние хочется нажить… А отсидит денька три и сразу придет в себя. Всяк сверчок знай свой шесток, на том и государство держится, да, да! Собственной кровью я это государство завоевывал… в нестроевых частях.
— Были на войне?
— Как же, как же! В армию не взяли — стар, дескать. Ну, а меня так от этой самой любви к дорогой отчизне распирало, вроде как от касторки, я, значит, — в легионы. Большой-то пользы от меня не было, потому ноги у меня больные, ну, а все же. Хоть и в нестроевых частях, а все считается, что сражался, мол, человек за независимость!
— Хороша независимость!
— А что ж ты хочешь? Молод ты еще, жизни не знаешь. А я два года по дорогам шагал, чтобы, понимаешь, не какая-нибудь австрийская или русская сволочь, а своя, отечественная, нас по мордам била…
— Велика разница!
— А то нет? Совсем другое дело! Тогда, бывало, в человеке вся кровь кипит. А теперь — вроде как медом тебя по морде мажут. Бей, брат-соотечественник, я же за это при полковой кухне сражался, бей. «Не немцу нам плевать в лицо…», а своему, поляку, совсем другой коленкор. Хотя, по правде сказать, и тут нас кое в чем обманули. Сейчас же после войны вышла там одна история. Делают у меня обыск. Гляжу — и чуть не лопнул от злости. Стоит у дверей, да еще и улыбается мне — тоже узнал! — тот самый шпик, который и до войны у меня обыск делал. О-о! Вот это уж некрасиво, думаю. За что же человек боролся, хоть, скажем, и в нестроевых частях? Ведь за своего, родного, отечественного шпика. Так или нет? Очень мне это не понравилось! На что похоже, — тот же самый?
Или вот хоть привратник у тюремных ворот. До войны на этой же должности сидел, врагом был, национальный гнет олицетворял, все польское, сволочь, подавлял, за патриотические штучки в камеру сажал… Я сколько времени скитался по свету, вернулся, — а он все тут и опять меня в камеру сажает… Непорядок! Впрочем, где тебе в этом разобраться… Молод еще, не стонал под ярмом неволи, откуда тебе знать, какая разница — стреляет ли тебе в лоб австрийский фараон или отечественный легавый. Ты, прости господи, может, и не понимаешь, что такое отчизна. Тебе это, может, все равно, космополит ты этакий, гражданин, прости господи, всего мира! Тебе, наверно, кажется, что все равно где работать? Нет, брат, нет! Вот, хоть и у нас, на кирпичном заводе. Щепан пятьдесят грошей в день зарабатывает, а доволен. Потому, видишь ли, что знает, на кого работает — на своих. Те деньги, что ему не доплачивают, идут в польский карман, обогащают польскую землю. Что такое Щепан? Маленький человек, ума у него не бог весть сколько, а так — и он имеет возможность на отчизну поработать. Когда у него маленький зимой с голоду помер, так он по крайней мере знал ради чего, — ради укрепления нашего родного польского капитала. Да, да… Это очень важно, сынок, где человек с голоду подыхает. В независимой Польше это одно удовольствие. Ты мне на это, может, скажешь, что рабочий везде одинаков? Куда там! Француз, например, фармазон проклятый, трещит по-французски, нетто ты поймешь? Ничего не поймешь? А вот когда тебя свой инженер на постройке покроет — каждое слово поймешь. Или, скажем, немец. Тебе, наверно, кажется, что он только и думает, как на бабу с детишками заработать, как за квартиру заплатить или еще что? Нет, брат! Он день и ночь только и думает, как бы на тебя напасть да твои богатства у тебя отобрать! Да и про мое место на нарах в бараке уже, наверно, пронюхал, спит и видит, как бы меня оттуда согнать да самому улечься. А то и на Щепановы харчи польстился, так и облизывается, дьявол, как про них вспомнит. Не веришь? Почитай газету, каждый день про это пишут.
— Язык у вас хорошо подвешен, ничего не скажешь, — улыбается Анатоль.
— А тебе жалко? Когда сам на собрании два часа орешь, так тебе можно? Я же ведь слушаю, ничего не говорю, хоть меня иной раз и подмывает. Хорошо говоришь, красиво говоришь, а все же человека так и подмывает по-своему кое-что прибавить. Только не любит народ моего разговора. Злятся, что я, дескать, насмешки строю. Господи помилуй, насмешки! И темен же еще народ, если ему как на лопате не выложишь, — так, мол, и так, — ничего не поймет! Этот Флорек, который со мной работает, иной раз чуть не плачет. Дурной еще совсем, а славный паренек, присмотрел бы ты за ним немного, Анатоль, а то как бы он на этих кирпичах совсем не отупел. Жаль малого, молоденький еще, если так бросить — совсем его кирпич сожрет.
— Вас что-то не сожрал.
— Ого-го! Со мной дело не так-то просто. Я, понимаешь, жилистый, кожа да кости, так об меня и кирпич зубы обломает. Впрочем, то еще тебе скажу, что моя баба хуже кирпича, вот я как-то и закалился. Говорю тебе, Анатоль, не женись! Последние кишки баба из тебя вымотает. Как попадется такая, что поговорить любит, — пропал человек! Ничего не поможет. Насмерть заговорит. А эти молчаливые, те и того хуже. Так и смотрит, как бы из тебя кровь выпить и дырки не сделать. Молчит, молчит, а уж как скажет что, так такую булавку под ребро ткнет, что у тебя и язык отнимется. Уж я-то в этом разбираюсь, двух похоронил да еще третий раз черт дернул жениться. Верно говорят, что если уж кто глуп, так ничто его уму-разуму не научит. Вместо того чтобы на один рот работать, работай на два, да еще то и дело получай по морде. Плохое это дело — баба. А хуже всего то, что, какова она, разберешь только после свадьбы. Пока что, так она ровно мед сладкая. Придешь домой, а там чистенько, убрано, подметено, аж блестит. И на машинке шьет, и цветочки в саду сажает. Человек сидит и прямо глупеет от радости, что ему такая попалась. А только повенчайся — ого! Конец и цветочкам и всему. Тараканы среди бела дня по комнате бегают, от мух аж темно, ребенок орет, а она по кумушкам бегает. У тебя сквозь дыры в штанах грешное тело просвечивает, а чтоб зашить — и не заикайся, она тебе так ответит, что в глазах потемнеет. Да, да, вот они каковы, бабы.
— А сами три раза женились.
— Да ведь говорю ж я тебе, что человека ничто уму-разуму не научит. Все думается: а вдруг повезет. Было плохо, а теперь вот лучше будет. И так тебя одурманит, так обольстит, что оглянуться не успеешь, как и обвенчался. Два раза я клялся, что больше не женюсь, и всякий раз еще и передохнуть не успею, как, глядишь, в дому уже новое горе. Да ведь и то сказать, человек не кабан, одному все как-то не по себе. Вот такая женщина, как твоя мать, это другое дело.
— Вот видите, есть и такие.
— Есть, есть, как не быть, да вот мне-то не попадались. Осмотришься кругом, у другого увидишь, а у себя никогда. Ты только посмотри, что кругом делается. И ругаются и дерутся, доброго слова друг другу не скажут. Или ходят друг мимо друга как чужие.
— Это уж не со злости, а от нужды.
— И то правда, и то правда, — бормочет Войцех в седые усы. — Да, это уж от нужды. Терпелив народ, Анатоль, ой терпелив! Ксендза слушает, барину верит, тащит на себе все это горе, нищету да еще сам спину под кнут подставляет.
— Что-то вы сегодня не веселы.
— Эх, доехала меня эта история с птичками, хоть на стену лезь. Покровители нашлись, видал? А ты молчи! Наслушаешься, наслушаешься, а потом — поклон, да и вон! Птичку поймал, так плати или в тюрьму! А вот кабы ты на большие тысячи польстился, никто бы и не спросил, откуда они у тебя. Маленьких воров ловят, а большим в пояс кланяются. Так уж, видно, было с сотворения мира. Помни, Анатоль, коли возьмет тебя охота что-нибудь слямзить, так меньше, чем со ста тысяч, не начинай. Иначе — тюрьма. А так, и деньги у тебя будут и почет, а если куда приедешь, сейчас и в газетах напечатают: приехал, мол, в наш город известный, уважаемый такой-то, на важное совещание. Вот оно как.
Здесь их пути расходятся. Войцех сворачивает в сторону, по направлению к кирпичному заводу. Его огромные рыжие от глины сапоги тяжело месят грязь. Погасшая трубочка торчит во рту. Он все еще что-то бормочет про себя. Тщетно ищет спички в пустых карманах. Тяжело опускает плечи, словно неся на них все бремя мира.
XII
Зал переполнен. Анатоль пристально всматривается в сбившуюся серую толпу. Знакомые лица, на всех — морщины одной и той же заботы. Клубы дыма от дешевых папирос.
Анатоль говорит. Сперва медленно, спокойно. Постепенно извлекая из мозга горящие в нем огненными буквами слова. Одно за другим. Слова соединяются в крепкие звенья, опоясывают зал. И — вверх. Воздвигаются высокими лесами, перебрасываются с угла на угол пламенным сводом.
Отдельные лица исчезают. Анатоль смотрит в одно лицо, в сурово вытесанное лицо простого человека, В обострившееся от нищеты лицо трудящегося человека. И в это лицо бросает свои пламенеющие слова.
Издали, издали зовут неслышные голоса: Анатоль! Анатоль! Необъятная земля в ярме протягивает к нему руки. Дымятся фабричные трубы, грохочут машины. Черная угольная пыль сыплется под ударами обушка. Бьет молот по стали. С шипением сыплются искры со станка. Шелестят, проносясь, приводные ремни. С грохотом валятся глыбы глины в железные вагонетки. Кипит сталь в пузатых котлах. Сверла вгрызаются в нутро земли.
Шумят городские улицы. Рев трансокеанских пароходов разрывает воздух. По рельсам гремят поезда. В туманных просторах жужжат самолеты. Дрожат под напором волн подводные корабли.
Далекие, далекие голоса: Анатоль! Анатоль!
Замученный трудом человек протягивает к нему руки. Детские узловатые руки, мозолистые от обушка. Черные от ожогов руки кочегара. Набухшие жилами руки грузчика. Испещренные пятнами красных рубцов руки рабочих рубанка, молота, наковальни. Исковерканные ревматизмом руки красильщика. Целый лес темных, жестких, загрубевших рук.
Зовут далекие голоса: Анатоль! Анатоль!
Раздутые легкие стеклодува. Черные легкие шахтера. Коричневые легкие рабочего табачной фабрики. Съеденные туберкулезом легкие заводского рабочего. Серые легкие каменотеса. Зовут, зовут далекие голоса. Колеблется под жестоким ярмом земля. Крепко сжимаются оковы. Напрягаются от усилий мускулы. Лопаются от усилий жилы. Брызжет красная кровь. Красная кровь струится по всей необъятной земле. Пот выступает на лбу. Пот струится по всем дорогам мира. Падают умершие: в обвалах угля, во взрывах газов, в порвавшемся приводном ремне, в отравляющих ядах свинца, под рухнувшими лесами. Падают умершие.
Сжимает стальные когти голод. Опухшие дети трущоб. Безумные глаза пригородных бараков. Неверные шаги переулков.
Призрачным, ледяным звоном звенит, звенит, звенит золото. Переливается через края касс. Ледяным ручьем крест-накрест опутывает землю. Крест-накрест — в знак смерти. Давит, душит, жжет, поглощает.
Далекие, далекие голоса: Анатоль!
Они зовут. Звучат суровым, неотвратимым наказом. Присягой. Одним-единственным железным словом. Одним-единственным законом.
Анатоль слышит.
Красный купол слов горит над темным залом. Пылает. Вздымается вьюга пламени. Сверкает перекрещивающимися молниями. Один за другим — снаряды. Меткой рукой — черной от ожогов рукой кочегара. Набухшей жилами рукой грузчика. Испещренной пятнами красных рубцов рукой молотобойца. Голосом без колебаний и дрожи. Голосом из глубины раздутых легких стеклодува. Из съеденных чахоткой легких заводского рабочего. Из коричневых, серых, побелевших легких трудящегося человека.
Внезапным вихрем. Языками пламени. Вьюгой огня. Быстрым, как мысль, ударом. Над широкой без дна и без края пропастью горя, над бездной гнета и мук. Яркие горящие слова, бросаемые во мрак мира.
Именно так он это ощущает: мрак, мрак…
А он — разжигает огонь. Разжигает пламя во мраке мира. Факел, пылающий во тьме, пурпурную зарю перед слепнущими от слез глазами. Дождь негаснущих метеоров.
Анатоль умолкает.
И вдруг весь зал взрывается красным пламенем. В буре возгласов, слившихся в один, Анатоль спускается вниз, как в бушующее море. Он выполнил свою миссию, веление стонущей под ярмом земли. Он не обманул далекие голоса. Пол колеблется под его ногами. Как сквозь туман, вспоминаются ему полузабытые, услышанные когда-то давно в театре слова: «Ты гребешь по волнам мира!»
И вдруг рядом беспокойные, бегающие глаза Игнаца.
— Ну и говорил же ты сегодня!
Странная, непонятная дрожь пробегает по спине Анатоля. Липкие глаза Игнаца, прильнувшие к его лицу. Пламя вдохновения гаснет.
То же самое и дома.
— Мама, вы пойдете куда-нибудь после обеда?
— А что, сынок?
— Да тут у меня должны собраться.
— Ладно, я тогда схожу к Владекам, не стану вам мешать. А этот Игнац тоже будет?
— Будет.
Мать больше ничего не говорит, только вздыхает. Не любит она Игнаца. Неизвестно почему. Так же, как и Анатоль. Ничем он от других не отличается. Может, у него даже больше энтузиазма, чем у других. Приходится даже сдерживать его, чтобы не вышло чего-нибудь лишнего. Учится, ни одного собрания не пропускает, — убеждает Анатоль самого себя. Но стоит ему взглянуть в бегающие, беспокойные глаза Игнаца, как все доводы разума отступают.
Игнац ходит быстрой, нервной походкой. У него липкие, всегда холодные руки. Светлые выцветшие ресницы. Да, он душой и телом предан делу, в этом они уже сто раз могли убедиться. И все же Анатоль сквозь кожу чувствует в нем что-то клейкое и холодное, похожее на пожатие его руки. Он старается ничего не показать, но знает, что тот прекрасно все видит своими беспокойными глазами.
Нужда у этого Игнаца — страх глядеть. Худая, злющая жена. Двое косых ребятишек. Комната в подвальном этаже, по стенам льется вода. Он давно без работы, сидел в тюрьме. За что — он не любит рассказывать, но ведь это его дело, а не чье-нибудь. Работает в организации. Всегда готов выполнить любое поручение. Самостоятельный, внимательный, трудолюбивый. Иной раз даже странно, что никакое дело не обходится без Игнаца. А уж что до Анатоля, то Игнац просто как тень за ним ходит. Первый все узнает, первый обо всем слышит. Чуть что случилось, а он уже разузнал все подробности. Все разнюхает, все высмотрит этими своими бегающими глазами.
«Прекрасное приобретение», — убеждает себя Анатоль.
И все же не в состоянии преодолеть глубокое внутреннее отвращение. Но когда его выражает кто-либо другой, ему становится неприятно, и он, как может, защищает Игнаца.
Как-то вечером, когда он возвращается с загородной прогулки, уже под самым городом, его обгоняет мчащееся такси. В такси пьяная компания. Три размалеванные девицы и зажатый между ними мужчина.
«Игнац!» — как молния мелькает в его мозгу, но мгновение спустя он сам над собой смеется.
Игнац, который сейчас без работы! Да и вообще чепуха какая-то! Притом же он в сущности ничего не видел. Нечего ведь и думать вправду узнать человека в сумерках, да еще в быстро промелькнувшей машине.
И Анатоль никому не говорит об этом, тем более что Игнац приходит на другой день еще более мрачный, чем обычно.
— Жена заболела. Всю ночь не пришлось глаз сомкнуть, к вечеру какие-то боли ее схватили. Черт его знает, что с ней. А тут и на врача нет.
Анатоль, чувствуя себя виноватым, вынимает деньги.
— Бери, бери, отдашь, когда получишь работу.
Впрочем, тот и не отказывается, уходит мрачный, как всегда. И только глаза его тревожно бегают по лицу Анатоля.
За дверьми по его лицу пробегает кривая усмешка. Он побрякивает занятыми деньгами в кармане рваного пиджака.
Не везет ему, этому Игнацу.
Отец — высокий мрачный человек, скандалист и пьяница. Истязает мать. Таскает ее по комнате за распустившиеся темные волосы. Пинает детей тяжелым сапогом. И, наконец, кричит Игнацу:
— Убирайся отсюда, зараза, не стану чужих байстрюков кормить.
Что ж, может, и правда. Кто, впрочем, знает?
Игнац уходит. Спит под лестницей в старой лачуге. Крадет уголь из вагонов, выкапывает картошку в полях. В общем что придется. Вскоре ему становится хорошо знаком запах клопов в камере малолетних.
Потом проститутки. Попадает в больницу. Когда он возвращается оттуда, окружающим едва удается вырвать из его рук Настку, которая преподнесла ему такой подарок. Но жить с ней он продолжает, все же девка что-нибудь да заработает.
И, наконец, жена. Старая, злющая, но, говорят, с деньгами. На другой же день после свадьбы деньги оказываются сказкой, остается старая, злая ведьма.
Вскоре появляются дети. Тупые, покрытые прыщами и язвами дети сифилитика. Опять тюрьма. И опять. Игнац считает, что с него хватит. Теперь он только и смотрит, кого бы пырнуть ножом. Один раз, но так, чтобы заполучить крупный куш. Что не, случай подворачивается. Но не успевает Игнац и заглянуть в туго набитый бумажник, как его руки уже закованы в наручники.
Комиссар полиции пристально вглядывается в него. Игнац ожидает обычных вопросов. Но нет, комиссар только присматривается. А потом говорит, что ему требуется.
Игнацу все равно. Так или этак. Но свобода все же лучше тюрьмы. И наконец-то он будет иметь какое-то значение — он, косоглазый Игнац. И он кивает головой, что, мол, ладно. Да и какой у него выбор? Убийство, как-никак… Впрочем, комиссар много раз напоминает ему об этом. Убийца, рецидивист, алкоголик. Комиссар упоминает о множестве дел, относительно которых Игнац был уверен, что они уже давно забыты, не выясненные и не замеченные никем. Даже эту старую историю с рыжей Генькой. Даже проделки подростка.
Игнац вторично говорит: «Ладно». Откуда ему знать, что тот человек вовсе не умер, что нож только скользнул по ребрам?
Теперь комиссар инструктирует его. В первую голову Анатоль, конечно. И вообще все. Что, как, где. Игнац тщательно запоминает. Наконец-то ему дают возможность стать приличным человеком. Наконец-то он будет получать ежемесячное жалование да сверх того еще сдельно, с головы. Наконец, он будет держать в руках человеческие судьбы. Он, косоглазый Игнац, которого до сих пор судьба швыряла, как слепого щенка.
Дальше все идет легко. Как же не поверить забитому жизнью бедняку?
В душе Игнац смеется над их легковерием, над их молодым энтузиазмом, над их горячей верой. Смеется, когда ему поручают выполнить работу, о которой в тот же день узнает господин комиссар полиции. Когда его хвалят за горячую преданность, Игнац лишь смеется в душе над человеческой глупостью.
Лишь изредка по его телу пробегает внезапная дрожь: это когда на него зорко глянут голубые глаза Анатоля. Будто насквозь его видят. Будто видят иудины серебреники во внутреннем кармане его истрепанного пиджака. Будто видят мерзкий страх, охватывающий Игнаца, когда он предстает перед комиссаром и тот хмурится, что мало сведений.
Игнац старается изо всех сил. Подгоняет, подстрекает: скорей, больше, стремительней. Ему грезится день, когда комиссар, потирая руки, похлопает его, Игнаца, по плечу. Когда он скажет: «Мы повышаем тебе жалованье».
Хотя, что ему за радость от этих денег? Он трепещет, как бы не заметили. Боится купить себе новый костюм. Боится забежать в кабачок. Всюду мерещатся подозрительные, выслеживающие глаза. Взгляд жены — она знает, догадывается. Взгляд Анатоля — он уже напал на след. Взгляд прохожего на улице — и он видит.
Лишь изредка, когда все это уж очень допечет его, он напивается до беспамятства. И тогда — за город с девочками. Но и там страх, которого не заглушает и водка. Увидят, теперь уж не вывернуться! Сделают с ним что-то страшное.
И он возвращается домой, разбитый и перепуганный еще больше.
Шпик — скрипит лестница. Шпик — стонут в петлях трухлявые двери. Шпик — трещит пол. Шпик — тяжело посапывает спящий ребенок.
Он забивается в угол постели, устремив расширенные глаза во мрак. Шпик — дышит темнота.
Жена шевельнется на кровати, и Игнац замирает от страха. Услышит, вскочит с криком, побежит туда, к ним. Расскажет. Они придут. Каменные лица, ледяной взгляд Анатоля, тяжелые обезумевшие кулаки. И потом — что-то страшное, непостижимое. Он настороженно ждет: если жена шевельнется еще раз — значит, слышала. И тогда не остается ничего иного — за горло, придавить голову подушкой, нажать коленом. Все равно, что будет после. Но жена спит, хотя погасающие остатки угля в печке громко шипят: шпик! Покрытое шрамами худое тело Игнаца обливается потом. Ему хочется во весь голос вопить о спасении. Но кто придет на его зов, на зов шпика? Господин комиссар ясно сказал: должен действовать на собственный риск и страх. Нет спасения, нет надежды, нет помощи! Погиб, неотвратимо погиб косоглазый Игнац, шпик, оплачиваемый помесячно и с головы.
Но вот наступает утро. Тьма умолкает. Игнац снова держит в руках человеческие судьбы. Съев кусок хлеба, он идет к Анатолю договориться о важных делах. Одно мгновение перед дверьми колеблется: а вдруг знают? Но тотчас овладевает собой. Откуда им знать?
И вправду, они ничего не знают. Юные головы горят. Они ясно, как на ладони, видят то, что, может быть, будет через двести, триста лет, а может, и вовсе не будет, и не видят сидящего напротив них шпика, оплачиваемого помесячно и с головы, косоглазого Игнаца, «преданного делу товарища».
«С головы, — мелькает в отяжелевшем после вчерашней выпивки мозгу Игнаца. — Как смешно говорится — с головы. Хотя теперь голов не рубят, а вешают. Спокойно, без кровопролития».
«Которая же это будет голова?» — сонно грезит Игнац, глядя на всех. Светлые волосы Анатоля. Темный чуб Эдека. Гладко причесанная головка Наталки. Каштановые, вечно растрепанные кудри Антека. Лысоватая голова Гилярия. Которая из них?
— А ты что по этому поводу скажешь, Игнац?
Он вздрагивает, словно застигнутый на месте преступления. Знают ли они? Можно ли прочесть чужие мысли? Мурашки страха ползут вдоль позвоночника.
— Ты что? Сонный, что ли?
Игнац облегченно вздыхает. Нет, ничего они не знают, ничего.
— Да нет, — говорит он, — нездоровится что-то.
Они заботливо расспрашивают. Ведь это преданный делу человек, их товарищ Игнац.
Вот если бы еще не эти спокойные, зоркие, неведомо что скрывающие за своей чистой лазурью глаза Анатоля! Дикая ненависть распирает сердце Игнаца. Ах, если бы получить именно за эту дерзкую голову, довести, — не до тюрьмы, нет, — а до виселицы эту белокурую, дерзкую голову! Отомстить за все свои ночи, полные страха, за дрожь ужаса, за всю эту жалкую жизнь в вечном страхе, за невозможность напиться на собственные, тяжко заработанные деньги, за кошмарные сны и видения! Отомстить именно ему, Анатолю.
Обводя глазами присутствующих, он начинает своим резким, срывающимся голосом. Так, мол, и так. Пора начинать что-то делать по-настоящему. Все, что они делают, это ребячество. Так ни к чему не придешь.
Анатоль внимательно слушает. Игнац прав, он говорит как раз то, о чем сейчас думает каждый из них. Но тем не менее, сам не понимая почему, он не допускает до принятия резолюции.
Потом задерживает Эдека.
— Слушай.
— В чем дело?
Это трудно высказать. Эдек хмурит брови, слушает. Одобрительно кивает. Ничего не поделаешь, так уж обстоят дела. Надо беречься, хотя Анатоль, вероятно, не прав. Во всяком случае он последит несколько дней.
На Эдека можно положиться. Анатоль знает, что с этого момента он будет как тень следовать за Игнацем.
Но ничего такого не заметно. Был на кирпичном заводе, говорил с Войцехом. Все в порядке. Вертелся возле фабрики. В порядке. Ночевать ходит домой, два раза встретился с каким-то субъектом, — так, обыкновенный человек, мало ли у каждого из них знакомых. Был на собрании маляров, на собрании портных, на собрании транспортных рабочих. Ясно, всем интересуется помаленьку, так оно и следует.
И все же в сердце Анатоля всякий раз, как он глянет в бегающие глаза Игнаца, возникает глухая тревога. Видимо, надо еще подождать.
Тем более что сейчас ему и некогда заниматься этим делом. Ибо однажды на призыв Анатоля зал взрывается криком:
— Забастовка!
И Анатоль руководит забастовкой.
Голубые глаза Анатоля темнеют от напряжения. Он несет на своих плечах бремя доверия. Он несет на своих плечах бремя борьбы за насущный хлеб трудящегося человека.
Он должен быть повсюду. Ответить на всякий призыв. Здесь. Должен внушить всем свою дерзкую уверенность, свою непреклонную волю к победе. Должен знать все о всяком, о его стремлениях, о его решимости и мгновениях колебаний.
В один огромный костер собирает Анатоль маленькие огоньки отдельных усилий. Чтобы перековать их в одно летящее в цель копье.
И когда глядит на колышущееся море голов, на сплоченную гудящую массу, его охватывает безумная радость от ощущения ее сил, — он знает: это лишь репетиция. Ему грезится сон, его пурпурный сон о борьбе и победе. О схватке врукопашную. Об освобождении из вековых пут порыва масс.
— Разрушить все до основания, — говорит Эдек, вспоминая Веронку и дни в темной камере.
Анатоль знает это. Надо разрушить все до основания. Но так, как делают котлован под постройку. Чтобы ничто не мешало возникновению фундамента — ни вросшие в землю глыбы камней, ни перепутавшиеся корни деревьев, ни мелкий сыпучий песок, на котором ничто не удержится, ни лужицы гнилой, зеленой воды.
А тогда строить! На то они и каменщики, чтобы строить.
Анатоль смотрит в зал.
Сильны руки трудящегося человека. Они умеют укладывать тяжелый кирпич. Умеют, этаж за этажом, воздвигать здание. Скреплять его известью и цементом. Умеют покрыть стены радостной, ослепительной белизной. Точны глаза трудящегося человека — не отклонится проворный отвес. Упрямы, непоколебимы сердца — сумеют довести постройку до вершины.
И глядя на взволнованный зал, Анатоль знает: когда будет закончен котлован, когда почва будет приготовлена под фундамент, они начнут строить. Величавое, стройное, поднебесное здание. Руки Анатоля рвутся к этой работе. Сердце рвется к этой работе. Еще лишь небольшой отрезок пути сквозь тьму.
Пряма и ясна дорога. Анатоль прислушивается к биению сердца трудящегося человека. Сердце трудящегося человека говорит внятно…
Просты, темны и суровы лица. Хмуры сознанием серьезности момента, ведь не только Анатоль, все знают, что они — строители нового дня, каменщики будущего, работники нового труда.
XIII
На сцену в больших корзинах вносят хлеб. На расстеленной бумаге укладывают груды продолговатых, золотисто-коричневых буханок. Ровных, ароматных, гладких. Обыкновенный хлеб.
Идет уже одиннадцатый день забастовки. Из битком набитого зала смотрит тысяча лиц. На этот золотисто-коричневый, гладкий, душистый хлеб.
Худые лица, впалые щеки, в темных глазницах лихорадочным блеском сверкают глаза. Юноши, мужчины, почти старики. Впрочем, кто это может знать? Быть может, вон тот сгорбленный, высохший человек еще молодой, но тяжесть тысяч кирпичей, которые он таскал на третий, на четвертый этаж изо дня в день, целыми сезонами, когда только была работа, так пригнули его к земле? Быть может, вон тот бледный, с поседевшими висками рабочий еще молодой, но его так выбелили тысячи ведер извести, которые он с четырнадцати лет таскал на третий, четвертый этаж изо дня в день, целыми сезонами, когда только была работа?
Золотисто-коричневый, душистый хлеб. Бледные, почерневшие, высохшие лица.
Это хлеб — для всех. Его может потребовать всякий нуждающийся, всякий, у кого его уже нет дома. Несколько мгновений колебания. Тысяча пар глаз смотрит на груды лежащего на сцене хлеба. Но ни одна рука не протягивается к нему. Хлеб куплен на профсоюзные деньги, которые собирали долго, с трудом. Хлеб для тех, кому уж окончательно нечего в рот положить.
— Сперва женщинам, — раздается откуда-то из задних рядов мужской голос.
— И тем, у кого по пятеро, по шестеро ребят.
Постепенно руки начинают подниматься. То тут, то там. Все больше и больше. Ведь забастовка идет уже одиннадцатый день.
Брошенная буханка, описав дугу, падает прямо в подставленные руки. Анатоль становится на стул, ловит и передает дальше. Быстро, быстро, один за другим, точно какие-то золотистые снаряды, падают хлебы в темную изголодавшуюся толпу.
— Сюда, сюда! Вот этому, у него пятеро детей! Давайте же сюда! Четверо детей и баба болеет.
Истощенный, чернявый человек нерешительно берет в руки продолговатую буханку.
— Держите, держите еще одну.
— Как же это? Нет, не давайте, хватит одной.
— На шестерых детей? Берите, не разговаривайте!
Истощенный человек качает головой. Медленно, тяжело ступая, уходит.
— Как же так, две? — шепчет он про себя.
— Ну-ну, не будь дурочкой, чего стыдишься? Есть-то ведь у вас нечего? Ничего тут стыдного нет.
Худощавая девушка берет хлеб, подставляя платок. Глаза у нее так и смеются, глядя на гладкую золотистую корку. Она осторожно спускается по шаткой лесенке, как сокровище прижимая хлеб к груди.
— Мне не надо. На завтра дома еще что-нибудь найдется, дайте другим, вот этому.
— Я одинокий, обойдусь. Дайте тем, у кого дети.
В углу сцены молчаливо стоит сгорбленный, худой как скелет, каменщик.
— Хотите хлеба?
Бледные губы беззвучно шевелятся. Наконец, тихо, с явным усилием, он говорит:
— Мы уже третий день без хлеба.
— Дети есть?
— Шестеро.
— Сюда, сюда! Бросьте-ка сюда еще парочку!
И опять хлебы золотыми полукружиями падают далеко в зал.
— Ну и прицел у него!
— А еще бы! Мало он кирпич подавал! Только от этого у него «синички» на руках не сделаются.
— Как знать, кабы он восемь часов подряд швырял, может и сделались бы.
Но груда хлеба тает на глазах. Нечего опасаться, что от этого могут сделаться на руках «синички» — глубокие, болезненные трещины на мякоти пальцев, особенно быстро появляющиеся в ненастье, когда шершавый кирпич скользит в руках.
— А ты, такой-сякой, куда прешь? Никогда не работал, только и знал, что на тротуарах с девками толкаться, а за хлебом первый лезет!
Белокурый парень торопится нырнуть в толпу.
— Ишь его! На рабочий хлеб польстился!
Высокий, плечистый рабочий отрезает от полученной буханки тонкий ломтик. Медленно ест, тщательно пережевывая. Кончил. Озабоченно осматривает начатый хлеб. Отрезает еще раз — кусочек душистой корочки. Затем решительным жестом закрывает перочинный нож, берет буханку подмышку, прикрывает ее полой рваной, заплатанной куртки.
Зал постепенно пустеет. Рабочие выходят, держа в руках буханки. Некоторые прячут их за пазуху.
— Не так, не так! Держите на виду при выходе! — кричит кто-то из толпы. — Пусть эта сволочь видит, что у нас еще есть, что жрать, что в два счета взять нас голодом не удастся!
— Ну, вот еще, голодом! Лето ведь, морковь растет на огородах.
— Салат!
— Пескари в Висле… Э, брат?
Смеются. Зал уже почти пуст.
— Ну, а теперь говорите, кто голоден? Одна буханка осталась.
Спустя мгновение хлеб разрезан на тонкие ломтики. Их разбирают, медленно жуют.
— То-то будет дома радость, — говорит один. — Остатки черного, солдатского, ребятенки вчера съели.
Анатоль отирает пот со лба. Он смертельно устал с этим хлебом, с этим золотисто-коричневым, душистым хлебом, который золотой аркой летел в темную от нищеты и голода толпу.
А между тем работа еще не кончена. Народ придет и в послеобеденное время. Два раза в день выступает Анатоль. Два раза в день бросает он в темный зал багряное зарево слов. Два раза в день бросает в темный зал свое жаркое сердце.
А в промежутках — по постройкам. Где-то на краю города штрейкбрехер. Украдкой работает под прикрытием забора. Но его обнаруживают. Он является на собрание. Оправдывается. Да так тут и остается. Расследования, попреки — это все потом. Сейчас не время.
Пустые, онемевшие, стоят скелеты лесов. Слоем серой пыли покрывается раствор в глубоких ямах. Застывает известь в брошенных второпях ящиках. Жарятся на солнце, мокнут на дожде высокие горы кирпича.
Так и рвутся к работе утомленные долгим зимним отдыхом руки. Глаза так и тянет к высотам замерших в неподвижности этажей. Тишина в возвышающихся над широкими улицами огромных зданиях. Молчание в конурках по переулкам, где люди по двое, по трое посвистывали, штукатуря стены.
Долго и убедительно уговаривают господа предприниматели. Перебрасывают, словно мяч, один другому круглые цветистые слова. Тяжело вздыхают, поглаживая лысые головы. Подсчитывают, подсчитывают без конца на длинных узких лоскутках бумаги длинные столбцы цифр. Да, да, не так-то это просто. Потеют, отирают надушенными платками лоснящиеся лысины. Говорят, говорят до утомления, до потери дыхания, глядя в холодные голубые глаза Анатоля, в глаза его товарищей. Им хочется переубедить, заговорить зубы, заставить захлебнуться в потоке любезных, клейких, ласковых слов.
Комитетчики возвращаются к своим и сухо, коротко, без комментариев: так и так.
Но темный зал взрывается шумом. Оконные стекла дрожат от дружного крика:
— Забастовка!
И Анатоль по телефону;
— Я же говорил.
Снова — вспотевшие лысины. Шумный, быстрый поток слов. Слова, как трескучие звонкие бусинки. Слова, как блестящие острые булавочки.
Смешанный, задыхающийся, бессильный гомон в ответ на твердые спокойные слова Анатоля. Бегающие, неуверенные глаза — в ответ на его ледяной взгляд. Мягкие, жирные, холеные руки, касающиеся его грубых, загорелых рук.
И снова уговоры.
— Да, да, это понятно. Конечно, само собой разумеется. Но что поделаешь?
Вздыхают. Скорбно покачивают головами. Опускают их на шелк галстуков. Да, они понимают. Сочувствуют. Видят. Да, да. Но ведь, с другой стороны…
И опять все сначала. Гневный огонек в голубых глазах Анатоля. Внезапное нетерпеливое движение загорелой руки.
И так — изо дня в день.
Непоколебимо, — колебаться нельзя. Упорно, — уступки невозможны.
— Мы боремся не за надушенный носовой платочек, не за шелковые галстуки и не за жирное брюхо!
Молчание темного зала. Кричат:
— Мы боремся за жизнь!
Но именно потому, что борьба идет за жизнь, то и дело распахиваются двери тюрьмы. Сегодня они поглощают одного, завтра другого. Пусть всего на неделю, на два-три дня. Так, для острастки, для облегчения предпринимателям переговоров.
Но какое это имеет значение? Тюрьма никому не в диковинку. Там по крайней мере хлеб есть, тяжелый, черный хлеб, но все-таки есть. Хуже — семьям. Неотвязная дума, что с близким человеком. Хоть и знаешь, что ненадолго, а все же сердце сжимается от страха. Да и голод заглядывает в маленькие оконца. Мужчина, тот всегда что-нибудь да придумает.
На семьи у Анатоля уже не хватает времени.
— Надо бы тебе, Наталка, походить, посмотреть, что там дома у арестованных.
Разумеется, надо идти. Наталка быстро одевается, берет в сумку квитанционную книжку. Список адресов.
Длинные темные сени. Запах гнилой капусты. Двор. Темные окна смотрят слепыми глазами грязных стекол.
— Что слышно, Сташек? Мама дома?
Четырехлетний клоп поднимает к ней круглое личико.
— Дома. — Малыш засовывает в нос грязный палец. — А папа в тюрьме сидит, — хвастается он.
Ветер треплет светлые волосики.
— Иди в комнату, холодно!
— Не хочу, там Зоська орет, — отвечает он серьезно, ковыряя в носу.
Наталка с трудом находит дверную ручку. Низкая дверь распахивается. Изнутри теплый, кислый запах мокрых пеленок.
Маленькая комнатенка. Кухонная печь выпячивает брюхо до самой середины комнаты. Под окном сапожная мастерская, обрезки кожи, банка с клеем, рассыпавшиеся деревянные шпильки. Узкая, прикрытая зеленым покрывалом кровать и детская коляска. Негде пошевельнуться. На единственном свободном местечке на полу сидит женщина. Непричесанные волосы в беспорядке, лицо закрыто руками. Хрупкие плечи сотрясаются от неудержимых рыданий.
У Наталки сердце сжимается.
— Что случилось? О чем вы плачете?
— О боже, боже, боже!
Она осторожно кладет руку на плечо женщины. Сквозь плохонький ситчик ясно ощущает, до чего исхудало это плечо.
— Не плачьте. Что случилось?
Та отнимает руки от глаз. Бледное, страдальческое лицо.
— Была у адвоката… Через неделю ведь суд…
— Так чего же вы плачете? Что он сказал?
— Ничего, ничего, боже мой! Велел заплатить шестьдесят злотых. А откуда мне взять? Откуда? Было у меня девять, так он велел оставить их и занять где-нибудь остальные, а это все, что у меня было. Всех соседей обошла, никто не может дать. Как же его теперь оставить без помощи, без адвоката?
Худые пальцы судорожно сжимаются. В пергаментных губах ни кровинки.
— Не плачьте, адвокат у него будет, — тихо говорит Наталка.
Из коляски слышится писк ребенка.
— Сколько ей?
— Уже пять месяцев, а вот какая маленькая. Что ж делать, — говорит она со вздохом, завертывая в чистую пеленку желтое, увядшее тельце. — Чем мне ее кормить, когда сама едва на ногах держишься? А теперь вот еще…
Голос снова прерывается от рыдания. Губки ребенка жадно ловят высохшую грудь.
Со двора доносится кашель.
— Это Сташек?
— Сташек. Третий месяц уж так кашляет.
— У врача были?
— Была, — жестко отвечает женщина.
— Что ж, неужели ничего не посоветовал?
— Советовал, советовал, как же! Хорошее питание, светлая комната, удобства. Нас в этой каморке четверо да жилец, сапожник, — пятый. И то, наверно, скоро выселят, за квартиру уже три месяца не плачено. Вот и будет у него светлая комната под открытым небом!
Наталка отправляется дальше. Подвальные комнаты, чердаки, смрадные закоулки, прогнившие полы, протекающие потолки.
…Простое, крестьянское, грубо вытесанное лицо. Уголком черного платка она отирает слезы.
— Ведь единственный сын. Моего-то на войне убили, так он теперь мой кормилец, мой сынок, мое все, — шепчет она, улыбаясь сквозь слезы. — Такой мальчик! Такой добрый, милый мальчик! Я не о себе плачу, Натальця, я говорю: за правое дело сидит, за меня, за всех нас. Да что я тебе буду говорить, сама лучше меня знаешь. За правое дело сидит. Ну только так мне его жалко, так жалко! Такой добрый, такой любящий. — По морщинкам текут слезы. — Кабы я могла вместо него отсидеть! Но уж пусть, ведь за правое дело!
Над лужицами пригородной улицы окрашенный в голубую краску сельский домик. В сенях несколько дверей.
— Где здесь живет такой-то?
— Вон там, та дверь, только его дома нет. Посадили. Одни женщины дома.
— Ребенку всего две недели, — ведь и года нет, как поженились, а тут хоть клади зубы на полку! Собрать разве всю семью да в Вислу!
— Оставьте, мама, успокойтесь, — мягко говорит хорошенькая молодая женщина.
— Успокоиться? Уж на что спокойней, даже и огонь в печке не беспокоит, потому как нет его. Мы уж и забор сожгли. Теперь разве за табуретки приняться…
— Не причитайте, мама. Через неделю суд. Вернется.
— Как же, вернется!
— Вернется. Он же ничего дурного не делал. А потребовать свое всякому разрешается.
С тяжелым сердцем возвращаясь домой, Наталка думает о том, как странно прозвучало это слово «разрешается». Потому что всем им, обитателям подвалов и чердаков, разрешается только одно — изо дня в день умирать с голоду, изо дня в день смотреть на все бледнеющие личики детей, слышать все более тихий плач в колыбелях. Им разрешается одно — молчаливо умирать. Сотни лет учили их этому, учили школа, армия, церковь, внушали работодатель, учитель, ксендз.
— И все же не научили! — говорит себе Наталка, пробираясь по вязкой грязи. — В любой из этих лачуг живет бунт. Иной раз бунт бессильный, растворяющийся в слезах, но чаще — стискивающий кулаки, жесткие, беспощадные кулаки угнетенного, замученного человека.
Арестовали и Анатоля. Как раз в тот день, когда заканчивалась победоносная забастовка.
Сквозь густую проволочную сетку смотрит Наталка на него. Коротко остриженная голова. Как странно она выглядит без золотых волос. Слезы подступают к горлу. С этой стороны проволочной сетки — улыбка.
— Наталка!
— Нет, нет, я уже ничего.
— Была, где я говорил?
— Была.
— Не забудь, еще…
— Хорошо.
— Да постарайся…
— Ну конечно, Анатоль.
Одно, другое, третье, еще то-то, еще то-то. Тысячи дел. Ох, этот далекий Анатоль, вечно поглощенный мыслями о других. Маленькое сердце мучительно сжимается от чувства собственной слабости. Маленькое, покорное сердце.
Теплый взгляд голубых глаз.
— Ну, будь же умницей, храбрись, цыпленок. Это же пустяки!
Да, правда. Она ведь знает, что его вот-вот освободят. Но эта сетка! Дерзкое лицо Анатоля будто в клетке. Будто орел в клетке — к ее глазам снова приливают слезы. Но она всеми силами сдерживает их. Нельзя. Ведь она же его Наталка, она должна уметь так же улыбнуться и в самую тяжкую минуту, как он.
Женщина рядом с ней громко плачет. Пугливо причитает, шмыгая покрасневшим носом. Цепляется руками за сетку, прижимается к ней лицом. С другой стороны сетки — изборожденное морщинами мужское лицо. По бороздам морщин стекают слезы. Холодная дрожь пробегает по телу Наталки. «Пожизненное заключение».
«До самой смерти», — повторяет она про себя, но это как-то не укладывается в голове.
День за днем ползут, тянутся, медлят. Вечно одинаково, вечно сквозь сетку. Уже никогда не встретятся стосковавшиеся руки. Не погладят ее лица любящие пальцы. Не шепнут уста радостную тайну, — бдительное ухо рядом прилежно вслушивается в каждое слово. Неотвратимо, на веки веков перерезала проволочная сетка жизнь пополам.
И сердце затопляет любовь, мучительная, огромная, необъятная. Взгляд впивается в сплетения проволоки, глаза с покорным обожанием охватывают светлую дерзкую голову. Губы едва слышно шепчут:
— Теперь уже недолго.
— Разумеется, недолго. Впрочем, здесь не так уж плохо.
Но Наталка знает, что это неправда. Она смотрит на сотрясаемую бессильными рыданиями женщину. Ах, нет. Она, правда, всего лишь Наталка, девушка с табачной фабрики, цыпленок, но она разбила бы эти стены, ногтями разорвала бы спайки кирпичей, зубами вырвала решетки, если бы вдруг Анатоля…
— Помни, Эдек прекрасно меня заменит, пусть только не боится выступать. И вообще делайте все, что только можно, работа не должна останавливаться.
Разумеется. Все будет сделано. Внезапный стыд охватывает Наталку. Ведь вот Анатоль, он всегда обо всем и обо всех. А она все об Анатоле, об одном только Анатоле.
Но уходит она отсюда все же более сильной, чем пришла. Мысленно повторяет все поручения. Чтобы не забыть. Важно все, каждая мелочь. Важна даже она, тихая, невзрачная Наталка. Потому что все вместе они, будто капли в шумную реку, сливаются в одно великое дело. Все ему служат. Радость распирает сердце Наталки. Ведь она своими глазами смотрит в будущее, своими ногами идет к великому дню, своими руками строит великий день.
— И к тому же, как сказал Анатоль, уже скоро.
XIV
Господин комиссар полиции недоволен. Игнац вертится под равнодушным взглядом его бледных, рыбьих глаз. Обычные, холодные слова обрушиваются на него как удары кнута. У него ощущение, будто он неотвратимо тонет. Дрожащими руками цепляется за берег, пытается втащить на него свое ослабевшее тело.
Но господин комиссар презрительно оттопыривает губы.
— Все это ничего не стоит.
Глаза Игнаца так и мечутся по сторонам в поисках спасения. Нет, он не то чтобы лгал. Просто слова в его устах становятся проще, движения решительнее, глаза живее. Ряд смутных догадок, Игнац путается в них, как в липких водорослях, пытается создать нечто определенное, отчетливое, нечто, что удовлетворило бы, наконец, его хозяев.
— Все это пустяки. Где доказательства?
Никаких доказательств у Игнаца нет. Как же это? Чтобы с поличным, как дважды два? Крупные капли пота выступают у него на лбу.
Комиссар вертит в руках красный карандаш.
— Нет, я в тебе обманулся, ты не пригоден к этой работе.
Подлый, холодный страх во всем теле. Опять в эту бездну нищеты. Опять голод. Он скулит, оправдывается. Плаксивым голосом приводит все новые отговорки. И все его члены деревенеют от сознания, что сквозь эту массу ноющих, униженных слов просвечивает голый, ничем не прикрытый страх. Страх — и здесь и там — неразлучный спутник Игнаца. Глаза комиссара и глаза Анатоля. Следящий за ним взгляд Эдека — и шаги коллег по профессии за спиной. Жизнь, затравленная вечным страхом. Но лучше уж здесь, с этими. Только бы его не оттолкнули, не вышвырнули на мостовую, не отдали в мстительные руки тех, прямо им на расправу. Еще какое-то время, еще немножко, пусть только подождут, пусть позволят попробовать. Он доберется, разнюхает, выследит, отдаст в руки полиции. С доказательствами, с неопровержимыми уликами.
— Анатоль, — цедит сквозь зубы комиссар.
Ну, конечно, разумеется, Анатоль в первую голову. Но и другие, и другие! Приободрившийся, осмелевший, Игнац становится самоуверенным, щедрым, сыплет обещаниями. Все вдруг кажется ему простым и легким. Бегающие глаза блестят, обычно тихий голос повышается. Он говорит быстро, торопится сказать как можно больше, пока комиссар согласен слушать. Слюна брызжет на разложенные по столу бумаги. Вдруг он замечает это, и поток его красноречия обрывается. Но комиссар не видит. Нетерпеливым жестом он обрывает разговор. Отвешивая низкие поклоны, Игнац уходит.
И едва переступает порог, снова мертвеет от страха. Потому что ведь надо выйти из этих, всем слишком хорошо известных ворот. А вдруг они стоят там, на противоположном тротуаре и только ждут скрипа ржавых петель? Может, сидят в кабачке на углу, следя сквозь мутные, засиженные мухами окна? Может, подстерегают за выступом дома, поджидая именно его, Игнаца? Может, с самого начала подозревали и теперь хотят удостовериться?
Он долго смотрит на заделанное решеткой отверстие в воротах, чувствуя, как дрожат и подгибаются под ним ноги.
— Ну, что там еще? Вылазь! — неприязненно ворчит полицейский в воротах.
Игнац быстро выскальзывает. Но заржавевшие петли пронзительно скрипят. Будто сигнал тревоги. Чтобы тот, кто там подстерегает, наверняка обернулся, чтобы увидел его в то самое мгновение, когда он будет возле самых ворот, когда невозможно будет солгать, отвернуться, ускользнуть от опасности.
Но вот и улица. Как будто никого нет. Но кто это может знать?
А теперь как? Ноги вот так и рванулись бы бежать, бежать изо всех сил, лишь бы подальше от этого места.
Нет, так нельзя. Наоборот, надо идти медленно, потихоньку, не торопясь. Хотя и так нехорошо. Слишком уж долго остается он в таком опасном соседстве.
И Игнац ежеминутно меняет шаг. То почти бежит, пока не ловит на себе удивленный взгляд случайного прохожего, то идет медленно, словно гуляя. Дрожащими руками закуривает. Покупает у продавца на углу баранку — и в ту же минуту пугается; а что, если и этот служит в полиции? Еще увидят, подумают, что это условленная встреча. Он торопливо прячет баранку в карман. Останавливается перед витриной, расплывающейся перед его глазами в бесформенные цветные пятна. Подозрительно окидывает взглядом прохожего, остановившегося рядом. Может, это кто-нибудь из них? Может, уже дал им знать, и, когда Игнац придет туда, к ним, на него вдруг обрушатся беспощадные слова?
Почти теряя сознание, расталкивая прохожих, он, наконец, добирается до людной улицы.
— Вы больны? — любезно спрашивает его встречный.
Ему отвечает дикий взгляд бегающих глаз. Игнац поспешно кидается в боковую улицу. Теперь он уже дома, наконец-то дома!
И тут только на грудь наваливается тяжелый кошмар: как сделать то, что от него требуют, как дать в руки полиции неопровержимые улики, улики несомненные, убийственные? Он должен, должен сделать это, и притом как можно скорее. Потому что — иначе…
Всю ночь он лихорадочно ворочается на постели. В лихорадочном волнении слюняво плачет в подушку от жалости к себе, к своей горькой доле шпика.
А на другой день к вечеру появляется у Анатоля.
— Вот какое дело, Анатоль…
Бегающие глаза блуждают по комнате.
— Ну?
— Видишь ли, у меня тут такой сверточек, просили припрятать. Я взял, а за мной целый день ходят. И дома… ненадежно. Нельзя ли у тебя оставить? Утром заберу, только до завтра просили сохранить.
Анатоль пристально смотрит на него. Лишь ноздри слегка вздрогнули.
— Сверток при тебе?
— При мне. Значит, можно?
— Пускай полежит. Не знаешь, что там?
Игнац смущен на мгновение.
— Не знаю, но человек верный.
— Давай.
Он взвешивает в руке тяжелый сверток.
— Куда бы только спрятать?
Дрожь в ногах Игнаца прекращается. Он снова вполне уверен в себе.
— Может, туда?..
В амбразуре окна широкое углубление. Известь осыпалась, соседние кирпичи расшатались. Сверток легко входит в дыру, и ничего не заметно. Они тщательно засыпают это место известковой пылью.
Игнац уходит. Возвращается из города мать.
— Мама, сегодня ночью будет обыск.
Морщинистые руки нервно сжимаются.
— Из-за чего опять? Ведь тебя только что освободили!
— Ничего, ничего, мама. Это пустяки. Завтра все объясню.
Мать вздыхает. Правда, ведь уже не впервые. Но завтра опять шум на весь дом. На неделю бабам хватит о чем языки чесать.
— Так я уж не стану раздеваться.
— Как хотите, мама.
— Когда же это может быть?
— Не знаю. Вы только не волнуйтесь.
— Нет, нет, сынок, — уверяет она. Но снова вздыхает.
— Свет погасить?
— Ну, разумеется. Да вы ложитесь и спите. Придут так придут. А может, и не сегодня.
Анатоль спит, но мать не может уснуть. Молится, размышляет о будущей жизни, о своих повседневных делах. Ворочается с боку на бок. Сердце беспокойно колотится. Хоть бы уж пришли, что ли! Только бы Анатоль, только бы Анатоль…
Скрип деревянной лестницы. Она в испуге вскакивает, торопливо оправляет на себе юбку.
Громкий стук в дверь. Она бежит отворять. Так и есть! Трое в штатском, один в форме. Она жмурит глаза от резкого света электрического фонарика.
— Да, здесь, — отвечает совершенно спокойно.
Анатоль уже встает. Зажигает лампу. Холодными глазами смотрит на пришедших. Они ищут в шкафу, под сенниками, в печке, — но бегло, словно для проформы. И вдруг, все сразу, лихорадочно кидаются к окну. Один вылезает наружу. Роется долго. Отброшенный кирпич с шумом падает во двор. Светят фонариками. Выстукивают стенку. Мать изумленно наблюдает. Потом опять в комнату. С белыми пятнами извести на брюках, перепачканные, как трубочисты, потому что там и сажа из трубы оседает. Теперь они принимаются за дело уже иначе. Прямо-таки с яростью. Перетряхивают всякий лоскуток. Даже зеленое покрывало, сложенное на стуле. Мать смотрит на Анатоля, но он — ничего. Прикусил губу, хмурый — смотреть страх. Но ведь ничего же не нашли, чем он так расстроен? — соображает она про себя.
Анатоль садится на кровать. Позевывает. Они бросают на него бешеные взгляды.
— Комната одна?
— Да.
— Чердак, погреб?
— Чердак рядом. Погреба нет.
До самого утра роются они на чердаке. Мать держит лампу и настороженно смотрит им на руки. «Кто их знает, еще подбросят что», — думает она, вспоминая обыск у соседей в Калише, давно еще, до войны.
Наконец, уходят.
Утром забегает Эдек.
— Ну?
— Были.
— Фью-ю! — свистит Эдек. — Вон оно что!
— Я же давно тебе говорил. А что там было?
— Три браунинга и листовки.
— Вполне достаточно. Листовки сожги, револьверы надо припрятать, пригодятся.
— Теперь нужно подстеречь Игнаца.
Но с этого дня Игнац точно сквозь землю проваливается.
Тщетно высматривают они его в тени улиц. В толпе, на собраниях. Хотя сюда-то вряд ли он посмеет прийти. Впрочем, сейчас это и не так важно. Разве затем, чтобы на мгновение отравить сердце тысячами подозрений? А может, и такой-то? И такой-то? Все может случиться. Раз уж Игнац…
— Уж больно глупо это было сделано, — рассуждает Антек. — Если бы он на другой день пришел, никто бы и не заподозрил.
— Э, ты скажешь!
— А что? Подумали бы, что шпики видели, как он нес.
— Не такие уж мы шляпы, — горячо вступается Густек.
Анатоль улыбается. За все это время только ему одному пришло в голову, что с этим Игнацем что-то не в порядке.
Но это и лучше. Слишком мучительно подозревать в брате, в товарище по труду и по общему горю врага. Подмечать черты шпика, продажного Иуды — в лице рабочего. Долго раздумывает Анатоль над судьбой Игнаца. Старается представить себе, как и что было, видит долгий путь, приведший его из смрадной конуры детства к дверям полицейского комиссариата.
Холодно, холодно смотрят глаза Анатоля. Без гнева и ярости, без горечи и разочарования. Так устроен этот мир. Борьба, которая сейчас идет, борьба, которая озарит господствующий мрак, — ведь это борьба и за Игнаца. За его черное детство, за его прогнившую юность, за всю его затоптанную, затравленную жизнь.
Впрочем, этот Игнац — в нем всегда было что-то ненадежное. Никто не знал, откуда он вдруг взялся, такой усердный. А между тем ведь он не молод, старше их всех! А появился среди них лишь теперь. Никто о нем раньше не слышал, нигде он ни в чем не был замешан — и вот только теперь. Они его ни о чем не расспрашивали, потому что это его дело, но все же он был им как-то не близок. Не поговорит, как другие, сидит мрачный в кругу молодежи и только озирается этими своими косыми глазами.
И даже не в том дело, что пожилой. Ведь вот Войцех мог бы быть дедом любого из них, а ему всегда рады, когда он заглянет. Сидит, попыхивает трубочкой, иной раз скажет что-нибудь, вроде и в шутку, а умно. Во всем разбирается, книжки читает, обо всем с ним поговорить можно. Высмеять-то тебя высмеет, а все же в конце концов хороший совет даст.
И все словно полегчало с тех пор, как среди них не стало Игнаца. Только теперь они почувствовали, как тяготили их его беспокойные выходки, его дерганье, его тревожные взгляды и вечная мрачность. Они сжились между собой, привыкли проводить вместе каждую свободную минуту, обсуждать сообща любой вопрос, а этот Игнац всегда был какой-то чужой.
И Анатоль теперь изменился, не смотрит так пытливо, проницательно, такими холодными глазами.
Наталка рада. С тех пор как она попала сюда, к этим людям, она не чувствует больше своего сиротства. Все обо всех думают, все обо всех заботятся. Очень быстро Наталка начинает понимать, что слово «товарищ» означает гораздо больше, чем слово «брат». Взять хоть и ее брата. Бросил ее после смерти родителей, когда она была еще совсем крошкой, и отправился неведомо куда. Потом до нее дошли слухи, что он женился на богатой, что ему хорошо живется, но о ней он и узнать не пытался. Могла бы и с голоду умереть. А здесь поделятся последним куском хлеба. Вместе переживают все беды, делятся каждой радостью, каждым горем. Всегда расспросят, что у тебя и как, — всякий старается помочь другому.
Наталка смотрит на всех благодарными глазами. На своих близких, на свою большую семью. И знает, что то же чувствует каждый. Когда ребят, схваченных на демонстрации, выпустили из тюрьмы, каждый сперва забежал показаться в комитет, а уж потом домой. Дома, оно всяко бывает, а сюда всегда можно прийти, все рассказать. Хоть иной раз даже и поссорятся, тоже ничего. После ссоры не остается ни затаенной обиды, ни горечи. Кончилось — и ладно, и опять все хорошо. Всегда можно сговориться. На своем языке. А дома иной раз так получается, как если бы один говорил по-китайски, а другой по-польски. Вот хоть и у Антека. Сплошной ад в доме. А ведь Антек такой хороший, такой милый парень, на редкость. И умный. Но уж так иногда выходит, что хоть и отец с матерью, а не договоришься с ними — и все. Будто какой-то другой мир.
С той же силой, как и другие в их кружке, ощущает Наталка, — особенно в тот вечер, когда среди них уже нет Игнаца, — что крепче, чем одинаковая красная кровь в жилах, объединяет и связывает между собой людей красный цвет общего знамени.
XV
Распахиваются железные ворота, въезжает коляска. Томаш кланяется. Согнувшись чуть не вдвое, ждет, когда проедут господа. Потом запирает ворота и потешной, семенящей походкой возвращается в свою швейцарскую.
Антек смотрит в окно. На согнувшуюся в три погибели отцовскую спину в синей ливрее. И тотчас длинный пронзительный звонок. Раз, другой. Мать нервно оправляет волосы, бросает тряпочку, которую держала в руках.
— Ясновельможная пани звонит!
Она бежит изо всех сил, так что ноги путаются в длинной юбке. Антек стискивает зубы. Вечно одно и то же: ясновельможная пани звонит, ясновельможный пан приказывал, паныч распорядился… И отец и мать кидаются как на пожар. Низко кланяются.
— Целую ручки ясновельможной пани. Целую ручки ясновельможного пана, — униженно говорит мать, старая седая женщина, этому толстяку с переливающимся через брюки животом. — Целую ручки ясновельможной паненки, — говорит мать, старая седая женщина, размалеванной девчонке в легком, изящном туалете.
И так с самого детства Антека. Крохотная комнатка рядом со швейцарской, грошовая плата и целый день готовность бежать по первому зову; и «целую ручки». Антек уже с самых ранних лет копит в себе бессильную ярость.
Украдкой проскальзывает он по двору, чтобы случайно не встретиться, не быть вынужденным сказать «целую ручки». Не то — отцовский ремень.
— Не желаю на старости лет из-за тебя со службы вылететь.
Потом, когда Антек подрастает, его уже преследует только сердитое ворчанье отца, вечные слезы матери. Почему он не говорит «целую ручки», почему не желает стать помощником садовника, а предпочитает скитаться по постройкам в городе. Антек не уступает. Теперь уж он начинает читать нотации родителям, — впрочем, без всякого успеха. Мать пугливо машет на него руками и оглядывается на дверь, хотя услышать их никто не может. Затыкает уши, словно при кощунстве. Смотрит на сына, как на диковинное, заморское чудище, и отправляется прислуживать худой, высохшей ясновельможной пани, залитому жиром ясновельможному пану и этим двум — гулящей барышнешьке и глуповатому испитому недорослю.
Ясновельможная пани как тень бродит по квартире в вечном ожидании мужа, распределяющего время между работой в банке, хорошенькой актрисой и шумными пирушками. Она ежедневно ездит к обедне и, словно губка водой, пропитана цитатами из священного писания. Кругленький духовник почти не выходит из дома, жадно поджидая обильного обеда. Улыбается лоснящимися от жира губами накрашенной дочери, в то время как ясновельможная мамаша кладет себе на тарелку по чуточке каждого кушанья, ест с таким видом, словно совершает мученический подвиг, и кидает ядовитые взгляды на старого лакея Петра, если тот ненароком зазевается.
Антеку все это хорошо знакомо. В прежние годы ему не раз приходилось, по приказу ясновельможной пани, подниматься наверх, чтобы развлекать скучающих детей. Он видел тяжелую мебель красного дерева, хрустальные вазы, цветы, получал кой-какие остатки обеда. Ходил он под угрозой отцовского ремня, а ясновельможная то и дело напоминала господу богу и людям о своем благотворительном поступке. Кончилось дело скандалом, отец едва не вылетел со службы, Антек три дня не мог сесть. Но ходить наверх его больше не заставляли.
Впрочем, господские дети подрастали, и у них уже были более интересные занятия, чем водиться с мальчишкой из швейцарской. Ясновельможный паныч с трудом проталкивался из класса в класс, а в свободные минуты, забившись в чащу сада, рассматривал порнографические картинки, доставляемые ему услужливыми сверстниками. Ясновельможная паненка без труда оканчивала гимназию, навещала приятельниц, ездила за границу; летом, когда в послеобеденные часы ясновельможные родители ложились подремать, ее щипал в уютной садовой беседке репетитор брата. Сквозь длинные полусомкнутые ресницы она теперь часто рассматривала Антека. Но он проносился по двору и саду как заяц, никогда не замечая никого из ясновельможной семьи.
В то время, когда еще можно было получить работу, он несколько месяцев подряд уговаривал отца выбраться отсюда. Но старик смотрел на него как на помешанного. Он вообще не понимал, чего хочет от него сын. Старик машинально гнул спину в синей ливрее, машинально говорил свое «целую ручки» и просто не представлял себе, как может быть иначе. Мать спокойно вычесывала собачек, — крохотные английские и японские чудовища, — грела для них сливки и готовила ванну. Утомляя слепнущие глаза, штопала кружева ясновельможной, массировала жирные ноги страдающего чем-то ясновельможного и тоже не могла себе представить, что может быть иначе. Покорная улыбочка приросла к ее старому лицу. Антек сходил с ума от ярости, глядя на эту приклеившуюся к ее губам лакейскую улыбочку.
Ясновельможная с каждым годом становилась все скупее и набожнее. Уже два раза она урезывала Томашу жалование, но зато все прилежнее заботилась о спасении душ его и его семьи.
— Антек, ясновельможная пани спрашивала, был ли ты в костеле?
— Ей-то что?
— Как «ей-то что»? Ее хлеб едим, у нее служим, она и отвечает за нас перед господом богом, — елейным голосом повторяет мать уроки, преподанные ясновельможной.
— И хлеба ее я не ем и на службе у нее не состою. Нечего ей совать нос в мои дела.
В сущности мать знала, что так оно и есть. Он ведь зарабатывал и вносил в семью деньги за свое содержание.
— Но видишь ли, Аптек, как-никак все же это ясновельможная пани, наша барыня.
— Ох, оставьте вы, мама, эту ясновельможную! Я ей не лакей!
Резкий голос отца в дверях.
— А кто тут лакей? Кто? Может, я? Отец, а?
— Оставьте меня в покое! Пусть она нянчится с собачками и с этим, как его… духовником, ко мне пусть лучше и не прицепляется!
Мать только руками всплескивала, перепуганная до полусмерти.
— Антек! Что ты болтаешь?
— Ничего!
И хлоп дверью. Бежать, бежать отсюда куда глаза глядят.
Но как раз тут он остается без работы. Ясновельможная между тем ничуть не остывает в своем религиозном усердии.
— Ну, милая, был ваш сын вчера в костеле?
— Был, был, ясновельможная пани, — потупив глаза, торопливо отвечает та.
— Очень хотела бы убедиться, — цедит сквозь зубы ясновельможная. — Я кое-что слышала, весьма некрасивые вещи…
Мать холодеет. Что там еще мальчик мог натворить?
— Да, да, весьма некрасивые вещи… В католической семье… В моем доме…
Та уж и спросить не смеет, у нее темнеет в глазах. Самые чудовищные картины ураганом проносятся в голове.
Но ясновельможная все цедит сквозь зубы, медленно, ядовито, и застывшее на мгновение сердце снова начинает биться.
Однако сам Томаш смотрит на дело иначе. Он мрачно обращается к сыну:
— Ты перестанешь или нет водиться с этим Анатолем?
— Нет.
Шапку в охапку и за дверь.
Но отец не унимается.
— Чтоб в воскресенье ты был в костеле — и баста!
Антек, остолбенев от удивления, таращит на него глаза. В первый момент ему кажется, что он ослышался.
— Что?
— Я сказал — и кончен разговор!
Теперь Антек разражается смехом. Злым, насмешливым.
— Опять «ясновельможная»?
— Да, так и знай, сопляк!
— Ни по каким костелам я ходить не стану.
— Посмотрим!
В доме начинается подлинный ад. Изо дня в день. С утра до вечера. Мать ревет по углам и еще покорнее говорит «целую ручки», еще заботливее обтирает собачкам лапки, чтобы как-нибудь загладить скандальное поведение Антека. Отец ходит словно градовая туча. Антек является домой лишь переночевать, потому что все это вместе взятое вынести невозможно. Ему все хочется поговорить с родителями толком, но об этом нечего и думать. Души их согнулись в том же униженном поклоне, что и спины. Теперь уже не выпрямить.
Анатоль в этом доме вырастает прямо-таки в какой-то символ. Что бы ни сделал Антек — Анатоль. Какая бы неприятность ни случилась — Анатоль. Всякое резкое слово ясновельможной — опять Анатоль.
Отец ворчит и бранится. Мать беспомощно всхлипывает по углам.
— Кабы не этот Анатоль…
— Когда ты еще не стакнулся с этим Анатолем…
— Из-за этого Анатоля…
Всегда и вечно «этот Анатоль», склоняемый во всех падежах. А то еще: «Этот твой Анатоль». Со стороны могло бы показаться, что до эры Анатоля в комнатенке подле швейцарской цвел рай, а Антек был в нем просто херувимчиком. Зато теперь он с каждым шагом все глубже увязает в адской бездне. Родители бдительно следят за ним. Раньше никто ни о чем его не спрашивал. Теперь то и дело:
— Куда идешь?
— Когда вернешься?
— Что за книжонка опять?
И вдруг разражается целая история. Как раз из-за «книжонок». Мать не находит ничего лучшего, как после долгих колебаний, в отсутствие Антека снести одну из них ясновельможной, чтобы та разъяснила, что это такое.
Но едва бросив взгляд на заголовок, та вскакивает, будто увидела скорпиона. Машет руками, забывает даже цедить сквозь зубы и пронзительно визжит:
— В моем доме! В моем доме!
Бедная женщина совершенно теряет голову. Опухшая от слез, возвращается она к мужу. Вечером разражается гроза.
— Либо отец с матерью, либо этот твой Анатоль!
Антек, посвистывая, собирает пожитки. Они смотрят неуверенно: что он еще может выкинуть. Но Антек просто уходит, холодно бросив от дверей:
— До свидания!
— Мама, Антек будет у нас ночевать.
— Хорошо, сынок.
Мать ни о чем не спрашивает. Маленькая комнатка умеет растягиваться, как резиновая, — в ней помещается всякий, кто нуждается в убежище. Анатоль уже давно приучил ее к этому.
— Чему вы смеетесь, мама?
— Да так, вспомнилась история с этим вором, помнишь?
Старое, полузабытое приключение. Они тогда только что перебрались сюда. И вот в зимний вечер в воротах — съежившийся человек в лохмотьях. Высоченный мрачный верзила. Интервью с возвращающимся домой Анатолем, о повадке дворника, о том, есть ли возможность ночевать под лестницей. Анатоль ведет его наверх и прячет за дверью. А когда мать спускается за водой, лихорадочно втаскивает в комнату. Под кровать. Старый мешок, еще какое-то тряпье — все же лучше, чем под лестницей. Утром, когда мать уходит к обедне, живо ему свой завтрак — и улепетывай, пока кто-нибудь не увидел. Вечером опять. Анатоль осторожно опускает свой ужин под кровать, в подставленную огромную лапу. Боже, как он нестерпимо чавкает! Анатоль тревожно всматривается в сторону матери, но та спит.
Наконец, чавканье прекращается. Но теперь начинается храп. Сперва тонко и протяжно. Потом басисто, с прерывистым хрипом, наконец прямо-таки как надвигающаяся гроза. В ушах перепуганного Анатоля это звучит, как рыкание льва. Он потихоньку свешивается с кровати и дергает того за рукав.
На мгновение это помогает. И тотчас — снова. Сперва тонко, потом внезапный переход в львиное рыканье. Анатоль трепещет, не понимая даже, как мать может спать. Сам он лишь на мгновение задремывает, терзаемый ужасающими кошмарами.
И, наконец, на четвертую ночь, когда усталость превозмогла уже и страх, его будит пронзительный крик матери. Он в ужасе вскакивает на ноги.
— Тут что-то есть! Тут что-то есть!
Именно «что-то». В громовых звуках, несущихся из-под кровати Анатоля, нет решительно ничего человеческого.
— Ничего, ничего, вам показалось, — дрожащим голосом успокаивает он мать, стараясь толкнуть ногой того, под кроватью.
Но мать уже зажигает лампу. Пинок был меткий, шум на минуту прекращается. Мать, вся бледная от ужаса, прислушивается. И вдруг — с новой силой, с посвистом, шумом, хрипом! Мать испускает вопль — и кидается к стоящей в углу метле, единственному оружию в их комнатенке.
Но за дверьми уже движение. Соседки. Они теснятся одна за другой, в длинных ночных рубашках, в кофтах, в низко сползающих юбках. Робко входят. Анатоль как преступник стоит понуря голову. Мать срывающимся голосом рассказывает, в чем дело. И вдруг пронзительный визг: сбоку из-под кровати торчит огромный рваный сапог, набитый для тепла соломой. Паническое бегство. Одна за другой сломя голову — на лестницу. Но мгновение спустя они снова тут. Те, что посмелей, подходят ближе. Мать защитным жестом выставляет вперед метлу.
Новый вопль. Из-под кровати лезет огромный мрачный верзила. Но это хоть человек по крайней мере, а не неведомое страшное «что-то».
Несколько дней спустя, в сумерки — крики на чердаке у соседки. Анатоль бросается туда: тот же верзила над узлом белья.
«На наш чердак не пошел», — мелькает утешительная мысль в голове Анатоля, но тут же исчезает в приступе гнева. Он подскакивает к огромному, широкоплечему человеку, изо всех сил колотит его мальчишечьими кулаками. Тот стоит, остолбенев от этого внезапного нападения. А Анатоль бьет изо всех сил, куда попало! По ногам, по животу, скачет вокруг, словно упрямая маленькая блоха. Но кто-то уже грохочет по лестнице вниз. И — лихорадочный шепот Анатоля:
— Улепетывай, побежали за полицией!
Для верности Анатоль все же усаживается на узел белья, пока вор не исчезает.
Потом Анатоль подрастает, а в доме все то же. Вечно приходится стлать кому-нибудь на полу, варить лишнюю порцию к обеду, штопать чью-нибудь порвавшуюся куртку, идти заступаться за кого-нибудь перед отцом. Мать привыкла. Даже полюбила это: не так пусто дома. Добрыми глазами смотрит она на вечно пылающие головы своих случайных, мимолетных жильцов, внимательно прислушивается к их ожесточенным спорам.
А уж что до Антека, то словно у нее второй сын появился. Она надивиться не может, как родители могли расстаться с ним, так радостен, так неисчерпаемо весел этот паренек.
С Анатолем они теперь почти неразлучны. Работы масса. Антек помогает. Долгие часы ежедневных дежурств. Заявления, списки, квитанционные книжки. Люди прибывают один за другим. Все теснее, все крепче сплачиваются, все многочисленнее их ряды.
Анатолю грезится: одна огромная, спаянная железной спайкой общего дела масса. На жизнь и насмерть спаянная цементом общего труда. Согласно, одним темпом бьющиеся сердца. Одного и того же желающая, в ногу идущая к одному и тому же масса. И он до изнеможения трудится с утра до ночи ради того, чтобы так было. До хрипоты рвет горло, чтобы было именно так. Разбудить, вывести из проклятой бездеятельности, разжечь пламя бунта! Втянуть в бунт и равнодушных, и тех, кто думает лишь о собственном благополучии, и темных, запуганных, растоптанных, раздавленных, блуждающих в одиночку. Вывести на свет из мрака мира. Гремящей толпой пройти от края до края земли.
Так во всем.
Звучит ария, красивый, искусно обработанный голос.
Доносится в самые дальние уголки зала. Взрываются крики, расплываются в тишайший топот.
Но это не то.
И лишь когда на сцену выходит толпа. Все вместе… Дрожь пробегает по телу. В вышине гремят стократно повторенные голоса. Гудят у самой земли. Бьют в лицо вихрем силы. Разъединяются, сливаются снова, пенящимся ручьем стекают в шумную реку. Рвут плотины, с грохотом бьются о каменную стену. И вдруг взвиваются к небу фонтаном искр, ярким поднебесным пламенем.
Или:
Мелодия скрипки. Певуче, возвышенно, сладостно. Печально, прерывисто. До самого дна сердца.
Но это не то.
И лишь когда — оркестр. Гремят подземные громы. Из-под гнета вырывается к свету заглушаемый враждебными звуками голос скрипки. Где-то в стороне плачут, причитают бессильные инструменты. Поражение. Подавлены, брошены вниз, к железным ногам беспощадной мелодии. Но снова поднимаются. Благоухающей струей скользят во мраке. Набирают силы. Крепнут. Одолевают. И вдруг победные фанфары, взвившись к небу, провозглашают миру мелодию скрипки. Теперь все вместе — струны скрипок, бархатный звук виолончели, словно капли, падающие сверху голоса клавишей, пение флейты, золотой призыв труб — все сливается в одну гремящую, непобедимую мелодию.
И пение. Пусть даже простое, неумелое пение толпы на улице. Хор. Во много раз увеличенная мощь человека, дерзко штурмующая звезды. Мощь. Вихрь, несущийся темной ночью по степи. Ураган, обрушивающий горы. Самум, поднимающий в воздух дома.
Или хотя бы ритм множества шагов, идущих в ногу по мостовой.
Анатоля пьянит сила масс. Ноздри раздуваются. Невидимый ветер вздымает волосы. Грудь широко дышит общей силой. Масса велика, и любой человек в массе вырастает до размеров великана. Трусость, мелочность, слабость — все растворяется в океане общей мощи. Человек сам по себе — ничто, всякий рождается и становится чем-то лишь на миру, в сплоченной, сознающей свою мощь массе.
Вот к этому-то всеми силами, ногтями и зубами продирается теперь Анатоль. Превратить в страшный, неумолимый таран горе угнетенного человека, превратить в песнь бунта его плач и стоны, превратить в летящий прямо в цель снаряд его слепые инстинкты.
Вот почему он целыми ночами корпит над столбцами цифр. Вот почему он часами заполняет рубрики анкет. Из этого мелочного, однообразного труда вырастает новый день. Глубоко пускает корни, устремляется к свету. Множится под руками простой человек, вырастает в организованную массу. С утра до вечера, с утра до вечера работает Анатоль.
Лишь изредка, в праздник, Наталка или другие вытаскивают его погулять, отдохнуть, оторваться на мгновение от работы.
И он идет неохотно, ах, как неохотно. Жаль каждого мгновения, каждой потерянной минуты. Неугасимым огнем горит нетерпеливое сердце. Он чувствует себя хорошо только в толпе, только в растущей, изо дня в день крепнущей массе.
За городом. Пыльца цветущей ржи в нагретом воздухе. Маленькие, смешные цветочки в густой траве. Наталка раздвигает руками ее высокие, щекочущие колоски. На голубой воде мелкая трепетная зыбь. Словно дрожь.
— Посмотри, Анатоль, как красиво. Что это за птичка?
— Где?
— Вон там, на веточке, смотри, как она вертит головкой.
— Не знаю. Зяблик, наверно.
— Наверно, зяблик, — соглашается Наталка. — Может, у него где-нибудь здесь гнездышко.
— Может.
Она украдкой поглядывает на Анатоля. Странно, что он такой хмурый в этот ароматный солнечный день.
— Я хотела бы всегда жить в деревне. А ты?
— Нет.
— Почему?
Анатоль покусывает длинный стебелек травы.
— Тут же красивее. Все такое зеленое, чистенькое, нигде ни пыли, ни копоти.
Но Анатоль молчит. Что ж, пусть помолчит. Она ложится на спину, отдаваясь золотой ласке солнца.
— Как ярко светит, а совсем не жарко, дышать приятно.
— Не то что на складе, а?
Наталка содрогается. Она вдруг ощущает отвратительный, тошнотворный запах гниющего на складах табаку. И поскорей погружает лицо в пушистые шарики цветущего клевера.
— Эх, бросил бы ты это! Еще и здесь думать о фабрике! Когда я лежу вот так, мне кажется, что никакой фабрики на свете нет, что везде все цветет и ветерок дует. Слышишь, как эти мухи жужжат?
— Это пчелы.
— Правда, пчелы. И откуда ты все знаешь?
— Да еще с ксендзовского заведения. Ведь это было в деревне.
— Ах, да… Но там не было так хорошо, как здесь?
— Нет.
— А тут прямо замечательно. Если бы не работа, я бы каждый день сюда ходила. Просто так, полежать. И выкупаться можно. Смотри, вода чистенькая, голубая. И песок на дне. Наверно, и рыба есть. И прямо-таки ничего на свете не хочется, греться на солнышке — и все. Ужасно хорошо!
Но Анатоль так не умеет. Поспешно, поспешно бьется его всегда настороженное сердце. Нервы напряжены в непрестанной готовности. Мысль работает.
— А вчера мне цыганка на картах гадала. Так: чего не знаю, чего не ожидаю, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, такое болтала!..
— Постыдилась бы, Наталка!
— Чего мне стыдиться? Я же в это не верю, а так только, для забавы.
Анатоль смотрит на струящуюся воду. Чем сердце успокоится? Только одним, только одним этим. Тем, что гонит сон от его глаз, тем, что доносится до него с каждой улицы, из каждого переулка. Тем уловимым, осязаемым и снова ускользающим из рук. Врывающимся в сегодняшний день и вместе с тем тающим в дали будущего.
Глядя в лазурную воду, он видит сточную канаву на улице. Пчелы звенят звоном железа, бросаемого на пол заводского цеха. Песок пересыпается раскаленным золотом кровавой прибыли. Анатоль закрывает глаза. Но это не только вокруг него, это в нем. Жжет под опущенными веками.
«Так надо, — думает Анатоль. — Всегда, всегда. Чтобы это струилось кровью в жилах, отзывалось ударами сердца, стояло перед глазами, звучало в ушах. В любое время, в любом месте. Чтобы неразрывно слилось с человеком. Не покидало ни во сне, ни наяву. Сурово, не выливаясь в беспомощные вздохи, в туманную, бессильную грусть, в ребяческие слезы. Нет, только так — непрестанная, упорная воля к борьбе и победе. Вечная готовность. Величайшее напряжение. Зубами и ногтями продираться вперед. Изо всех сил упереться ногами в землю — и вперед!»
Высоко над лазурной водой летит птица.
— Ах, ты только взгляни!
На быстрых белых крыльях откуда-то залетевшей сюда чайки — солнце. Они загораются золотом. Стремительный полет высоко в чистом воздухе. Будто золотая стрела.
— Вот так, прямо в цель, как стрела.
В засмотревшихся на лучезарное видение глазах Наталки слезы. Слезы над дрожащей улыбкой губ.
— Что с тобой?
— Ничего… Мне только пришло в голову, как это хорошо, что я могу работать вместе с тобой, для того чтобы все было иначе.
Их руки встречаются над шелестящей травой в братском пожатии.
— Что ж, пойдем?
— Придется, — вздыхает Наталка.
Как не хочется уходить отсюда! Но солнце уже закатывается. Лесом. Лугами. Длинной дорогой. Когда они спускаются с цепи быстро темнеющих холмов, внизу возникает город. Низко, у самой земли, горит рыжим заревом огней. Дышит гомоном улиц, будто притаившийся связанный зверь. Выдыхает тяжкий, душный воздух.
Анатоль останавливается на склоне холма и холодно смотрит туда своими голубыми глазами. Ледяными глазами рассчитывающего свой час победителя.
XVI
Между тем дела Анки в прядильной идут все хуже.
— Глупая, — говорят ей девушки.
Разумеется, глупая. Но Анка уперлась — и все. Нет и нет.
В субботу она стоит за получкой.
— Вычет. Опять на пятидесяти шпульках нитка порвана.
Она низко клонит голову. Известно, ничего им не докажешь, не стоит и глотку надрывать.
А там — повреждение станка. Три часа она праздно стоит, пока возится механик. Штраф. В субботу, когда его вычтут, от получки почти ничего не останется.
Мастер поджидает у выхода.
— Ну, как? Надумала, наконец?
С высоко поднятой головой, со стиснутыми губами она проходит мимо.
— Графиня! — шипит он ей вслед.
Генька из упаковочной надивиться не может.
— Вылетишь, говорю тебе, вылетишь. А потом уж он не согласится.
— Ну и пусть вылечу.
— Дурная, где ты сейчас работу найдешь? Другая бы бога благодарила, что ей так повезло.
— А я — нет.
— Вот я и говорю, дурная. Ты только подумай, как бы тебе жилось! Работать могла бы только для вида. Ни штрафов, ни вычетов никаких, — мечтательно говорит Генька.
— Не хочу.
— Ну и что? Много ты заработала за эти несколько недель? Я же вижу, сколько ты получаешь!
Да, все это так. Но чем больше ее уговаривают, чем больше бесится мастер, тем ожесточеннее становится ее упорство.
— И из-за чего шум? Вон, гляди, Янская, замужняя, страх подумать, что было бы, если бы муж узнал, а тоже ходила к нему. Время такое, что работа на улице не валяется. Что тебе? Сходишь несколько раз, а там, глядишь, он другую присмотрит — и все в порядке. А тебе уж всегда работать будет легче.
Подходит мастер. Останавливается возле нее, смотрит.
Руки дрожат, никак не свяжут упрямых выскальзывающих из рук ниток. В ушах шумит, в них молоточками стучит бессильный гнев. Назойливые глаза бегают по ней, как холодные ящерицы.
— Как ты вяжешь? Разве это работа? Да посмотри же, опять порвались!
— Живей, живей, пошевеливайся! Ишь, едва ползает!
— Ну, что зеваешь, не видишь там, во втором ряду?
Анка уже вообще ничего не видит. Она мечется как безумная между длинными рядами веретен, работа валится из рук. Отчаяние туманит глаза. И тут он подходит ближе. Она чувствует на затылке горячее дыхание.
— Ну и нужно тебе все это? Чего ты так упираешься? Придешь?
В отчаянии она отрицательно качает головой.
— Анка!
— Нет!
— Опомнись, подумай немного, последний раз по-хорошему говорю. Что, у тебя есть кто-нибудь?
Но у Анки никого нет. Мастер даже поверить в это не может. Он шпионит, старательно подсматривает, не разговаривает ли она с кем-нибудь, с кем выходит, не провожает ли ее кто утром на работу. Мало этого. Он тащится за ней до самого дома, его красное, лоснящееся лицо бросается ей в глаза, когда она идет в лавку или к подруге, — и это его еще больше разжигает.
— Ой, вылетишь, как бог свят вылетишь, помни! Сейчас тебе мастер не по нраву, а тогда всякий по нраву будет, хоть за кусок хлеба! Плохо ты придумала против меня идти! И не таких видели!
Каждую субботу Анка с дрожью в сердце ожидает, что ей скажут. Дома она ничего не говорит — отец уж очень вспыльчив, ему немного надо, а потом что? Тюрьма — только и всего. Лучше уж промолчать. Но возможно, они что-нибудь и прослышали. Известно, люди любят язык почесать, ляпнуть лишнее. Потому отец хоть ничего не говорит, а уж раза два приходил за ней к фабрике, и иной раз так пронзительно на нее взглянет, что страх берет.
— Анка! В дежурку, мастер зовет!
Анка холодеет с головы до ног. Не пойдет она, ни за какие сокровища не пойдет. Ноги будто приросли к полу.
Но вот опять:
— Анка, живей!
Она еле ступает, деревенея от страха. Останавливается в открытых дверях. Ни за что, ни за что в мире она не переступит за порог. А так, двери открыты, из цеха все видно.
Но мастер поднимается из-за стола, втаскивает ее в дежурку и закрывает дверь. Поворот ключа.
Невырвавшийся крик замирает в горле.
— Ну, надумала?
Голос мастера зловеще кроток. Анка чувствует слабый запах алкоголя.
— Не будь же дурой!
Но Анка, видно, как раз дура. Изо всех сил вырывается она из грубых объятий. Сослепу бьет по жирной лоснящейся морде. Царапает ему лицо, руки.
Не помогает.
И тогда — ужасающий, пронзительный крик во все горло, — такой, что весь цех вздрагивает.
Мастер отскакивает как ошпаренный. На лице у него крупные капли пота, кровь тонкими струйками сочится из царапин на щеках и на лбу. Ворот рубашки разорван в борьбе. Глаза налиты кровью, как у взбесившегося быка. Дрожащими руками он торопливо открывает дверь.
— Вон! К станку!
Анка становится к своим веретенам. Ее тошнит, ноги подгибаются от слабости. Товарки украдкой поглядывают на нее от станков, не смея подойти спросить. А в субботу — предупреждение об увольнении через четырнадцать дней.
Конечно. Этого Анка и ожидала. Но эти четырнадцать дней превращаются в невыносимую муку. Ее погоняют, как заморенную клячу, ни приостановиться на миг, ни перевести дыхание. Ноги под ней подгибаются, ее душит кашель, пот заливает глаза. И все понапрасну. Ей не удается выработать и половины того, что она вырабатывала раньше. Станок портится, нитки перепутаны, веретена плохо налажены, все расползается в руках, как паутина. Теперь уж мастер с чистой совестью может сказать, проходя с инженером возле Анки:
— Эта никуда не годится. Больше портит, чем работает. Но уже получила предупреждение. На днях увольняем.
Дома догадались, едва она переступила порог. Не пришлось и говорить. Мать, как всегда мать, сейчас же заныла, но отец не сказал ни слова.
Товарки — те наговорили жалостливых слов, сколько влезет, но на фабрике и заговорить с ней не осмеливались. Жирная красная морда мастера вечно была поблизости. Все знают, что он так озлился, что теперь ничего не стоит вылететь за одно слово. И лишь улыбаются ей глазами, а сами — как воды в рот набрали.
Четырнадцать дней проходят быстро. И вот Анка в последний раз выходит за фабричные ворота. Ей тоскливо — проклятая это была работа, но она все же как-то привыкла к ней, притерпелась. Вот она оглядывается назад, на мрачное здание из красного кирпича. Больше ей не ходить сюда. Больше не мчаться по фабричному двору в страхе, что опоздала, больше не бегать между двумя рядами веретен, не глотать белую пыль, не подставлять карманы обыскивающей надзирательнице. С этим покончено.
— Но что будет теперь?
Пустынная дорога открывается перед Анкой. Безработный путь по черному, проклятому богом городу. Пропасть без дна и без края.
Все это было господину мастеру хорошо известно. Все это он точно рассчитал, часами наблюдая бегающую вдоль станков девушку.
Лишь один раз вздыхает она полной грудью. Один-единственный раз, когда разжимаются хищные щупальцы белого паука, когда она выпутывается из его всесильных сетей.
Чтобы потом еще ниже склониться перед ужасом наступающих дней, перед угрозой голода.
Анка сидит без движения, устремив мертвый взгляд на прогнившие доски пола.
Некуда и незачем идти, незачем расспрашивать. Ничего ей не найти в черном, богом проклятом городе.
Но отец вырывает ее из тупого одеревенения…
— Поедешь в Н…
И Анка едет. Едет к незнакомой тетке, там, может, легче за что-нибудь зацепиться.
И там на первом же собрании она встречает Анатоля.
Но о работе ни слуху ни духу. Приходится сидеть у тетки, пока ее там держат. Хотя им и самим нелегко.
И она сидит. Бегает по городу, часами выстаивает у ворот заводов и фабрик, ожидает в конторах, забегает в магазины.
И кашляет. Сухо, пронзительно.
— Смотри, Анка, побереги себя, а то ты все хуже кашляешь.
И Анка «бережет себя».
Но туберкулез расползается повсюду. Его порождают бессолнечные закоулки низких комнатенок. Пыль, врывающаяся с улицы в окна подвальных квартир. Сенники, на которых спят вповалку по три, по четыре человека. Душные мастерские. Мрачные заводские цеха. Туберкулезу помогает голод, постная картошка утром, вечером и в обед, рюмка водки, та самая, якобы подкрепляющая рюмка водки, за которую отдают последние одолженные гроши. Он растет беспрепятственно, распространяется все шире. Выглядывает из глаз хрупких детей, смотрит с лиц подростков, с кирпично-красных пятен на щеках женщин. Струится липким потом по впалой груди мужчин. Разливается желтой мокротой, густыми брызгами плевков на выщербленном полу. Сверкает прожилками крови на грязном носовом платке. Звучит в глухом хрипе дырявых легких. Будит по ночам упорным, раздирающим грудь кашлем. Расцветает пурпуром кровотечения.
— У вашего что-то будто грудь слабая? Вы бы присматривали за детьми-то…
— Э… ведь это не заразное. Если которому суждено заболеть, все равно заболеет. Это не переходит.
— Ребятишек ночью бужу, как меня этот кашель схватит, — вот что мне пуще всего досаждает. Зоська, та, как уснет, прижмется ко мне, ровно щенок, и ничего не слышит. А другие — те начинают так метаться, что аж всю меня затолкают.
— Не хочется тебе? Ну оставь, Ясек доест. Дай-ка ложку, пусть подкормится.
— Умойся-ка, Хелька, теплая вода в тазу совсем чистая, только отец помылся.
— Ты смотри плюй куда-нибудь в угол, а то тут я Генка посадила, пусть ползает.
— Что-то я вашего Адольфа давно не вижу.
— Лежит, лежит, милая вы моя. Ослаб весь, грудь болит.
— Чахотка?
— Да нешто я знаю? Туберкулез, говорят.
Солнце. Воздух. Молоко, масло, яйца, вообще усиленное питание.
Тут можно только головой покачать, возвращаясь от врача в темную, пропахшую плесенью сырую комнату.
Где-то существуют будто бы Ментона, Ривьера. Цветущий берег над колышущимся морем. Длинные ряды лежаков на белых верандах. Круглое солнце в стеклах венецианских окон. Золотые шары апельсинов на низких деревьях. Теплый душистый ветер. Лодки со вздувшимися парусами на лазурных волнах.
Или озеро. И белые, снежные вершины над ним.
А то и попросту — лес. Зеленые ели со свисающими к земле косматыми ветвями. Горный поток — то тут, то там белая пена, радужные брызги. Крупные звезды ромашки, кисти иван-чая на серых каменистых пригорках, по зеленым травянистым полянам. Прохладное, освежающее дуновение от крутых скал. И опять белые ряды лежаков.
Но это — иной, иной мир.
…Обостряются черты. Нос на восковом лице вытягивается. Бледнеют запекшиеся губы. И только на впалых щеках горят красно-кирпичные пятна.
— Говорю вам, — ну каждый вечер трясет, хоть что только на себя не надену… Лихорадка, что ли?
— С утра, как встану, рубашку хоть выжми, будто из воды вылез. Говорят, это здорово так пропотеть. Но я что-то очень уж от этого слабею.
— Ну, что доктор сказал?
— А там всякую всячину! Не работать тяжело. А я ведь и так уже пять месяцев не работаю.
— На прогулки, мол, ходить надо. Мне только о прогулках и думать! Как доберешься вечером домой, так ни рукой, ни ногой не пошевельнешь!
— Рецепт дал. Есть у меня деньги на лекарство, как же!
— Побольше есть, говорит. Уж принуждаю, принуждаю себя, — ну ни в какую эта картошка в глотку не лезет..
И так изо дня в день. Туберкулез расползается по всем переулкам. Серым пятном густой мокроты, розовой прожилкой, струйкой крови из запекшихся губ. Растет в закоулках темных конур, в грязи уличных канав, в пыли мостовой. Глубоко, глубоко вдыхают его запыхавшиеся легкие простого человека.
XVII
— Слышали, милая вы моя?
— Какой ужас!
— Бога не боятся, ну вот настолечко не боятся!
— Что только на свете творится и не поймешь!
На лестницах. На крылечках. По кухням, среди смрада пригоревшего сала. Во дворе. Перед лавочкой.
Всплескивают толстые красные руки. Колышутся юбки на бедрах. Вздохи распирают огромные, обросшие жиром груди. На щеках рдеют красные пятна.
— Ну, а старуха-то что же?
— А она, милая вы моя, ничего, ну просто ничего!
— И еще по-прежнему в костел то и дело бегает!
— Стыда нет!
— В уме она тронулась маленько через этого сыночка.
— Такие уж теперь дети пошли, милая вы моя!
— А эта-то… Еще и нос дерет!
— Еще бы! Ходит как ни в чем не бывало! И как их только бог не накажет?
— И-и, милая, накажет еще, накажет! Вот посмотрите, сделает ей ребенка, да и выгонит девку на все четыре стороны, — только и всего. Ну уж срам, можно сказать!
— Лазила, лазила к нему, вот и долазилась! На что похоже, чуть не каждый день слышу: топ, топ — идет! Ну и мать тоже! На ее глазах все происходило, а она хоть бы что! Оно, конечно, парень молодой, всякое бывает, я ничего не говорю, но чтобы этак, у всех на глазах, без стыда, без совести — да это для всего дома позор!
— Спрашиваю вчера у старухи, — говорит, женился, мол.
— Как бы не так, женился! Даже и гражданским браком, — знаете, что на три месяца, и то не поженились! Как же, привез он ее больную на извозчике, пролежала три недели, а потом еще и из комнаты выйти не успела, — оказывается «женился»! Кому другому пусть рассказывают, а я и не таких видела! Распутство одно — и все!
— А может, в конце концов и поженятся?
— Ох, не верю я в это, милая вы моя! Уж когда он и так всего добился, так на что ему сейчас жениться? Раз такая дура, что сама себя не пожалела, так станет он ее жалеть?
Сверху поспешно спускается слесариха.
— Милые вы мои! Эта-то! «Мама» старухе говорит, чтоб мне так святого причастия дождаться!
— Да ну?!
— Что вы говорите?
— Каково?!
— Неужели сами слышали?
— А то нет! Вешаю рубашки на своем чердаке, а они на своем прибираются. Эта и спрашивает: «Мама, говорит, а веревки снять?»
— Ну и что? И что?
— А старуха, будто так и надо: «Пусть, говорит, еще повисят, доченька».
— Господи Исусе!
— Вот, вот, а что я говорила?
— Совсем рехнулась старуха. Вместо того чтобы взять метлу да шугануть, чтобы и духом ее не пахло в доме, так она ее доченькой называет!
— Вот и окажите, как тут богу людей не наказывать? Такой соблазн!
— А конечно, чего же еще от них ждать, ксендз им — ничто, святые таинства — ничто! Так и должно было кончиться!
— Страх подумать, что моя Аида с этакой вот на лестнице встретится! — вздыхает булочница.
Слесариха ехидно щурит глаза, но в последний момент удерживает едва не сорвавшееся с языка замечание. Булочники живут с теми дверь в дверь, всегда можно узнать что-нибудь, так что лучше уж не ссориться.
— И кто бы мог подумать! Такая казалась тихонькая, скромненькая!
— И, милая, такие всегда хуже всего! Человеку, глядя на нее, и в голову не придет, а тут, пожалуйте! Да и какая тут скромность, когда всякий день к мужику бегала!
— Да и не с одним Анатолем она гуляла! Не раз я видела, то с одним, то с другим приходит, уходит…
— А Анатоль-то что же?
— Э, что ему? Нешто вы не знаете, как у них? Все должно быть общее, бабы общие! Как собаки какие хотят жить. Вырастила себе Сковронская сыночка, нечего сказать! Не запрещала ему газетки читать, по собраниям бегать, с кем попало компанию водить, вот теперь и получает! Там ведь все так живут. В бога не верят, так что им?
— Хоть гражданским, что ли, поженились бы.
— А на что? Не лучше им этак, по-собачьи?
— Грех, да и только!
Где-то сверху скрипит дверь.
— Магда, где тебя черти носят, молоко бежит!
Слесариха торопливо вытирает передником сухие руки.
— Иду, иду! Заболталась чуточку с соседками!
— Чуточку! Брешет, брешет — обеда дождаться невозможно… Божеское наказание с этими бабами!
— Ничего, ничего, сейчас будет!
Оставшиеся ближе придвигаются друг к другу.
— Слышали? Вчера опять подрались.
— Еще бы не слышать! На всю лестницу крик был.
Все смотрят вверх на дверь слесаря.
— Ни за что бы я себе такого не позволила, — говорит толстая булочница.
— Еще бы!
— А знаете, к этой, что с улицы живет, опять офицер ходит…
— Вправду?
— Сколько раз видела! Мужа нет, а у нее до полночи свет горит.
— Разводятся, говорят.
— Ой, милые, что же это на свете-то творится! Соблазн, да и только!
И они медленно расходятся по своим квартирам.
— Плюй на все это, Наталка! — говорит Анатоль. — Им надо выболтаться, а то они бы прямо заболели. Что нам до них!
Наталка и не огорчается. Ее лишь сердит, когда вдруг приоткрываются все двери, выглядывают любопытные лица, слышится шипящее перешептывание. И она невольно задирает голову, идя по скрипучей лестнице. Улыбается про себя, когда мимо нее с презрительной гримасой проходит дочка булочника Анда или другая здешняя девица. В этом крохотном мирке покосившегося от старости доходного дома все обо всех известно. Этого не избежишь.
Жена булочника живет с подмастерьем, хрупким, безусым пареньком. Своего хилого мужа она лупит по морде при каждом случае и самовластно правит домом. Но в воскресенье они вместе ходят в церковь. Она — в потершемся по швам шелковом платье, он — в порыжевшем пиджаке. И тогда она, прищурившись, поглядывает вокруг, таща под руку своего невзрачного мужа. Какой ни на есть, а законный!
В семье слесаря частые и шумные драки. Жена покорно сносит колотушки за простаивание на лестнице и грязь в доме, но как львица кидается в бой, когда дело касается двух сыночков, кутил и выпивох, которых то и дело привлекают к суду по алиментным делам. Тогда в доме начинается чистое светопреставление. И все по пустому, потому что сыновья в конце концов находят общий язык с папашей, и матери попадает еще и от них.
Зато в воскресенье слесариха надвигает на подбитый глаз шляпу и идет с мужем в кино. Презрительно проходит мимо Наталки, подбирая складки платья, чтобы, боже упаси, не коснуться ее на узкой лестнице. Как же, ведь она-то законная жена господина мастера.
Анда таскается неведомо с кем, носит шелковые чулки и так душится, что запах слышен на лестнице, когда самой ее уже давно нет.
У той, что живет в первом этаже, муж вечно на ночных дежурствах, а к ней в это время всегда кто-нибудь приходит. Поговаривают, конечно, и о ней, но осторожно. Ведь есть законный муж, а это покрывает все. Какая ни на есть, а все же законная, обвенчанная.
В мансарде вечно слезы: муж пропивает все, что удается заработать стиркой жене. Но в сущности баба зря поднимает такой крик. Хоть зарабатывает она, но деньги все равно что его, — как-никак законный муж.
Раз законный муж, надо терпеть. Он в своем праве. Конечно, о ней сожалеют, что муж девок домой приводит, выпивает с ними, тащит все из дому. Но никогда бы ей не простили, если бы она ушла от него. Ведь она присягала ему в верности, а это уж раз навсегда, на веки веков. Хорош он или нехорош — все равно. Повенчаны — и крышка.
Документ, патент, удостоверение. Знак, выжженный на лбу на всю жизнь. Знак, дающий положение в обществе, освящающий решительно все: и пьяные побои, и сифилитические язвы, и недоразвитых детей. Зато законные.
И вот, среди всего этого, по лестнице, снизу и до четвертого этажа ходит Наталка — без патента, без печати, без штемпеля, с бесстыдным сиянием своей любви на лице.
Ей простили бы, если бы украдкой, на цыпочках на лестнице — в уголку, в потемках, во мраке — с потупленной головой, с исповедью, покаянием, с невыполненным обещанием исправиться. Наконец, даже с незаконным ребенком, с нищетой, позором, отчаянием.
Но ни в коем случае не так: просто, явно, публично.
И, очевидно, очевидно — счастливо!
Это уже непростительно, этого простить нельзя.
Чтобы она ходила тут как ни в чем не бывало — она, живущая «на веру», незаконная, невенчанная, бесстыдная, и своим светлым, ясным лицом колола им глаза, глумилась над их тяжкими днями, над их избитыми спинами, над их безрадостными брачными ночами.
Мать сперва думает лишь об одном: что у Наталки воспаленье легких и нельзя оставить ее на попечении чужих людей. Анатоль не успевает и слова сказать, как она сама предлагает:
— Ты бы перевез Наталку сюда, а то ее в больницу увезут.
Потом она днями и ночами ухаживает за девушкой. Моет, приподнимает, кормит. И привыкает к ней еще больше, чем прежде.
Однажды, когда Наталке уже становится лучше, Анатоль говорит:
— Мама, она тут останется.
— Останется?
— Да, со мной.
— Сейчас думаете венчаться?
— Нет, мама.
Ей объясняют медленно, постепенно, осторожно. Она сидит ошеломленная, слушает. Как она радовалась раньше, что вот Анатоль женится на такой хорошей девушке, что ей доведется качать внучат, и вдруг все по-иному.
— Но как же, если родится ребенок, ведь он будет незаконный…
— Не родится. По крайней мере не сейчас.
Старушка не решается продолжать расспросы. Она лишь краснеет перед этим взрослым далеким сыном, перед этой тихой, серьезной девушкой, которая спокойно слушает это и даже глаз не опустит.
«Иной мир, — неведомо в который раз думается матери. — И так всегда с ними».
Так Наталка и осталась. И всем им как-то хорошо вместе.
Мать понемногу привыкла. Намолилась, наплакалась, но перед соседками головы не опускает. Она, как всегда, заодно с сыном.
Впрочем, знакомые сына относятся к этому как-то иначе. Забегает один вечером:
— Муж велел передать, что ему придется задержаться на собрании.
«Муж!» У матери становится тепло на сердце. «Все-таки, значит, муж».
Она вспоминает все события своей серенькой жизни. Всех этих мужей, всех этих жен, с которыми приходилось жить дверь в дверь. Крики избиваемых и избивающих, жалобы, слезы.
Как колодки, бывает иной раз этот брак, как колодки, тяжко сковывающие ноги. Как проклятие на всю жизнь. Как сплошные слезы. Как неразрывные цепи, ярмо, на веки веков придавившее спину.
«Почему, почему так, — думает мать, — ведь в церкви, ведь перед алтарем, ведь таинство…»
В здании веры, столь тщательно возводившемся изо дня в день, многие годы, вырисовывается маленькая трещинка. У самого фундамента.
Мать защищается от этого, не хочет думать. Пусть уж все будет так, как было всю жизнь. Теперь, на старости лет, не время менять.
Старое сердце дрожит, боится, что стоит поглубже вникнуть в это, и все рухнет. Но как же так? Таинство брака! Так учил ксендз, учила школа, учил всякий ближний, а теперь вдруг все совсем иначе. Грех. Где же этот грех в ясных глазах сына, в улыбающемся лице Наталки? — размышляет она, прислушиваясь к доносящимся сверху, из квартиры слесаря крикам.
И вспоминается: случится, как-то невзначай, в теплый лунный вечер, неведомо как и почему, а потом ребенок. Стало быть, женись, а то как же бросить девушку в таком положении. И женится. Хотя по-настоящему думал о другой. Хотя эта и некрасива и не работяща. Хотя сердце тянет в другую сторону.
Или так: нужда в доме. А тут — богатая. Женись. Пусть хоть хромая на одну ногу, пусть злющая.
А не то: «Девушка опозорена, срам, — поскорей обвенчать». Или: «Старик, но зато богатый, отцу, матери поможешь. Нечего перебирать, стыдно оставаться старой девой».
А потом — все кончено. Как же — таинство брака!
Нет, как-то не укладывается все это в голове. Мать чувствует себя словно подхваченной стремительным, шумным потоком, в то время как за всю жизнь привыкла уже к тихому пруду, мутному, илистому, но зато спокойному.
И самое странное, что этот Анатоль, кажется, и в самом деле прав. Никогда они друг другу злого слова не скажут, всегда вместе, всегда у них все хорошо, хотя и без всякого таинства.
И как легко эта Наталка выговаривает: «Муж только что ушел», или Анатоль: «Когда мы еще не были женаты…»
Иной раз мать и сама не верит, что они не венчаны.
Понемногу успокаиваются и соседки. Ведь что ни день случается что-нибудь новое. Эта, что живет с улицы, и вправду развелась с мужем. Подмастерье так избил булочника, что того увезла карета скорой помощи. Аида до чего-то там добегалась, крику было в доме, страсть! Ну, а потом ничего, как-то там она это уладила. Да мало ли еще всякой всячины! А те сидят себе тихо, никому не мешают, вот все и успокоилось. И пошел уже другой разговор.
— Знаете, милая вы моя, а я думаю, что они все-таки обвенчались.
— Что вы говорите? Когда?
— Да я ведь не знаю, а только так думаю, что обвенчались. Может, не сразу, а погодя. Не похожи они что-то на незаконных.
— Вы полагаете? А со Сковронской говорили?
— Что Сковронская, Сковронская с самого начала одно твердит: женился Анатоль, да и все. Я и заговаривать с ней об этом не хочу, все равно она ничего не скажет, а только глянет на тебя и уйдет.
— Кто ж их знает…
— Может, и так. Может, и так…
— Конечно. Потому, разве уж никакого стыда у людей нет, без венца и этак, на глазах у всех!
— А я сразу говорила, что должно быть обвенчались.
— Э, ничего вы такого не говорили, куда там!
— Ну, видали ее? Глухи вы были, что ли!
— Глуха я не была, да и сейчас не глуха. А память у меня тоже не отшибло. Помню, как вы тогда прибежали, что эта самая Сковронской «мама» говорит!
— Ну вот, видите!
— Что мне видеть? Совсем не то говорили…
— Да что нам ссориться! Мне бы вот только интересно узнать, как оно там у них на самом деле.
— Говорю вам, что так оно и есть. Сперва им, может, и неохота была, а потом, как увидели, что приличные люди об этом думают, взяли да и обвенчались.
— Может, и так.
— Наверняка, наверняка так! Ведь какой ни на есть стыд у всякого человека есть, хоть у самого последнего. Да их бы уж давно бог наказал, кабы они невенчанные смели жить вот этак, на глазах у честных женщин.
— Конечно, конечно!
— Только зачем бы им это так скрывать? Что ж, людям уж и знать нельзя?
— Что ж, вы не знаете Анатоля? Вечно мудрит, вот и тут хотел, чтобы все не как у людей.
— А как же оглашения? Ведь они бы здесь, в нашем приходе, должны были быть?
— Да ведь они не здешние. И потом, если им уж так захотелось потихоньку все сделать, так, может, им кто и выхлопотал, чтоб без оглашений.
— Да, так оно, должно быть, и было…
«Совесть» дома успокаивается. Жильцов уже не жжет стыд, что эта, незаконная, нагло ходит с поднятой головой между ними, Честными женщинами. Что слишком часто из квартиры, где должен бы царить плач и скрежет зубовный, слышится смех. И теперь то одна, то другая иной раз заговаривают с матерью:
— Ну, как невестка?
В глубине души они, может, и не верят в это. Но так удобнее. Отпадает неразрешимая проблема, спасена святость брака и вера в божественную справедливость. Все опять подведено под одну мерку, как и должно быть. Теперь одна уже не выделяется среди всех, становится такой же, как и они, — обыкновенной законной женой.
Где-то на дне всего этого таится ехидная бабья радость, что ведь не вечно же так будет. Что начнутся же в конце концов скандалы, ссоры и драки. А эта зазнайка не сможет просто взять и уйти. Как бы не так! Ведь она законная жена, так же крепко, как и все они, связанная святым таинством брака, на веки веков прикованная к своему мужу, — пусть он даже станет пьяницей, вором и негодяем.
Она уже не возвышается над ними благодаря привилегии бесстыдной любви, дару добровольности. Она уже должна. Уже не смеет иначе. Она уже его собственность, и хотя бы била его по морде, он все же ее законный муж, за него закон, церковь — все.
И двери уже не приоткрываются, когда Наталка спускается вниз. Из бесстыжей девки, из наглой распутницы она превращается в самую обыкновенную законную жену, каких полон весь дом.
Где-то в глубине их душ еще таятся остатки сомнений, но каждая поскорей подавляет их. В собственных интересах, в интересах мирового порядка, веками внедряемого в головы.
Не раздумывая, не понимая, каждая из них подсознательно знает, что опаснее всего первая трещинка, потом уже рушится все здание. И каждая, складывая руки на жирном животе, ощущает свою важность, чувствует себя защитницей всего установленного порядка.
Впрочем, не только здесь. То же и в дорогих квартирах со входом с улицы. Госпожи мастерши с черных лестниц и госпожи профессорши, госпожи советницы, все выравниваются в одну шеренгу — все травят, унижают, клеймят.
И лишь в такие квартиры, как их собственная, Анатоль и Наталка могут входить попросту и обыкновенно. Да и то не во все.
Всюду человек скован одними цепями. Звенья, искусно цепляясь одно за другое, неотвратимо связывают его по рукам и ногам. Пригибают к земле, чтобы и глаза его не глянули в широкий простор. Все обдумано до мельчайших подробностей, размерен всякий шаг человека-раба.
Над темным городом протягивают друг другу руки высокие фабричные трубы и высокие костельные башни. На помощь им спешат закон, предписание, параграф. Отбрасывают густую тень на всю жизнь. На жизнь трудящегося человека. Сам затягивает петлю на собственной шее незрячий человек. Сам укрепляет решетки своей тюрьмы. Сам кует звенья опутывающей его цепи. Ненавидит тех, кто рвет эту цепь. Ведь этому его учили из поколенья в поколенье, изо дня в день, из часа в час. Он впитал это с материнским молоком, усвоил из поучений отца, из повседневной духовной пищи. Собственными плечами поддерживает он рушащееся здание, заботливо подпирает подгнившие балки.
Но Анатоль уже слышит, как трещат крепления. И Наталка изо всех сил напрягает слух в ночном мраке, прислушивается к гулким подземным ударам. Антек видит полдень безработной улицы — вздымается волна. Приближающийся вихрь развевает волосы Веронки. В глаза Эдека заглядывает первый отблеск пожара. Что-то новое, неведомое, иное сверлит мрак. Что-то, что не подходит под установленную мерку, не вмещается в пределы подъяремного мира.
Даже мать, молясь своему младенцу Иисусу в золотых ризках, ощущает на лице дыхание нового дня и теряется в смятении мыслей, в хаосе старых и новых верований, в мучительном раздвоении.
А между тем могло бы показаться, что все по-прежнему. Те же почерневшие от нищеты лица. Те же склоненные головы. Те же грязные дети над уличными канавами. Та же нищая протягивает руку под кирпичной стеной костела. Так же широко разлеглось темное тюремное здание, так же блистает начищенный синий мундир полицейского.
Но по земле идет глухой гул. Его не слышно на вторых и третьих этажах. Нужно низко, низко прильнуть ухом к земле. Он слышится в подвальных квартирах, в переулках, в грязи уличек — всюду, где его не глушат асфальт, паркет, ковер.
И все ждут.
По-разному.
Мрачно. Ожесточенно. Или радостно, с внезапным, быстрым сердцебиением. С опаской. С надеждой. Нетерпеливо. Стойко. Гневно. С верой. С сомнениями.
Но слез все меньше. Все больше стиснутых кулаков. Они сжимаются крепко. Жесткие черные мужские руки. Распаренные от кипятка и соды руки женщин. Маленькие худые детские ручонки. Обезображенные, искалеченные зубьями машины культяпки.
Уже нет вопроса: так или этак? Уже не засыпать зияющей черной расселины. Не перебросить моста, — он рухнет в черную бездну. Не протянуть с берега на берег никакой зеленой ветки, — ее пожрет огонь.
Уже нельзя выбрать тот или иной путь. Нет перелазов, тропок, боковых дорожек. Остался лишь один широкий, ясный, неизбежный путь.
И лишь один выбор — туда или сюда. Отстающих раздавят беспощадные колеса мчащейся истории.
Теперь налицо все. Антеки, Казики, Викторы, Генеки, Зоськи, Анельки, или как их там еще окрестили. Семя, брошенное в почву подвалов и чердаков, дает урожай. Зреют плоды всех этих ночлегов под мостом, попрошайничества на улицах, умирающих от чахотки женщин, инвалидов с оторванными руками, тринадцатилетних подростков, гнущих спину на работе. Отзывается эхо оскорблений мастера, презрительных взглядов инженера, грубостей привратника.
Все сплоченней братский круг. Схваченная в когти нужды, в когти кровавого гнета толпа вырастает в таинственную силу. Все крепче сплачиваются ряды. Даже бессознательно. Даже не понимая.
Гудит земля от шагов, зловеще гудит от шагов земля. Ноги в подкованных сапогах, ноги в расшлепанных ботинках. Ноги в старых резиновых тапках. Босые ноги.
Теперь они, все эти Антеки, Казики, Зоськи, и как их там еще, и вправду взрослые. Неустрашимыми глазами смотрят они во тьму, в мрачную бездну горя. Знающими глазами борющегося человека.
XVIII
Растет, множится, все шире распространяется горькое человеческое горе. Шумит. Играет по дворам на испорченных гармошках, раздирает слух фальшивыми звуками скрипки, бьет в бубен, захлебывается прерывистой мелодией. В воротах, на улицах, на площадях, за углом — всюду поет и играет горькое горе. Залихватски и весело, жалобно и страстно вымаливает себе горе гроши милостыни.
В такую четверку вступает и Флорек с кирпичного завода, уволенный на другую же неделю после смерти брата под глиной. Все-таки без него спокойнее, — еще начнутся следствия, разбирательства. А так — ищи ветра в поле!
Две скрипки, гармошка и флейта. Вот когда пригодилась его игра на завалинках в прежние годы, в деревне. Но дело даже и не в гармошке, а в его голосе.
Остановятся где-нибудь. Тоненько плачут скрипки, подпевает флейта. А потом припев — те трое и высокий, чистый девичий голос Флорека.
Открывается одно окно, другое. Смотрят. Слушают.
— Девушка.
— Какое там девушка, видишь — одни парни.
— Может, переодетая?
— Ну, что ты! Видно, что парень.
Высокий, чистый девичий голос.
Дама в белом платье приостанавливается. Роется в белой сумочке. Маленький Владек, который к ним приблудился, подбегает. А вон та бросает из окна, в бумажке. Сверточек с глухим звоном падает на землю. А другие — совсем ничего. Слушать слушают, а вынуть деньги не торопятся.
Высокий, звонкий, чистый голос.
— Парень, ей-богу парень!
— А что я говорила!
— Который, который это?
— Да вон тот, высокий, темный.
— Милые мои, глядите, как поет-то!
— И собой ничего…
И снова — из окна на мостовую. Но изредка, неохотно.
Проникновенно, страстно наполняет собой узкую улицу высокий голос:
Тихо причитают скрипки, плачет флейта. Флорек вспоминает о Мундеке, как его засыпало, как его выкапывали из-под желтой глины. И о надзирателе. И о том, что мать еще ничего не знает. А может, и узнала откуда-нибудь.
Он поет, не сознавая даже, что поет. Выучился, теперь само льется. Тот или другой номер. Правда, эта легкость приходит не сразу. Надо знать, где и что спеть. Одно дело на людной улице. Другое — во дворе по утрам, когда прислуга выбивает ковры, а совсем иное после обеда, когда слушает публика почище. И непременно всегда что-нибудь новое, чтобы не прискучило. А бывает, что вдруг кому-нибудь полюбится что-нибудь одно, тогда приходится повторять. Перед четырехэтажным флигелем во дворе, что с садиком, там уж всегда одно:
И тотчас на галерейке показывается толстая Марцыся и бросает десять грошей, а иной раз и что-нибудь из еды. Зато подальше можно выступать только с самыми модными боевиками. Иначе ничего не дадут. Высоким, чистым девичьим голосом Флорек поет… Поет о восточных гаремах, о поцелуях над Босфором, бог знает о чем! Какие-то немыслимые глупости, но публике, видно, нравится. Горячо, страстно вибрирует чистый голос.
— Вот, должно быть, фрукт, парень-то!
Обесцвеченные перекисью водорода локоны девушки вздрагивают от хихиканья. Другая, брюнетка, заговорщически подмигивает ему, а Флорек подсчитывает в уме, сколько приблизительно собрал Владек. Надо бы матери послать, да не выйдет. Только-только прокормишься, да и то не всякий день. Ведь четыре человека, да еще Владеку надо хоть сколько-нибудь дать, тоже мальчонка набегается, наломает спину.
Кабы еще только они одни. А то, бывает, только сунешься в ворота, дворник уж орет:
— Нечего тут, убирайтесь! Уж два раза сегодня были. Уши уже от этой музыки пухнут!
И правда, ведь сколько их ходит!
Слепой Амброж, инвалид войны. Маленький найденыш ведет его за руку, ну и ползет со своей гармошкой. Она невыносимо хрипит, сопит, стонет эта гармошка, а что поделаешь? Жить всякий хочет, слепому тоже пить-есть надо.
Потом еще хромой сапожник с женой. Работы у них не стало, мастерскую они продали, чтобы оплатить квартиру, а на остаток купили старую гитару — и ходят. Она наигрывает на гитаре, сапожник охрипшим, сорванным голосом поет. Да такие назойливые, ни за что не уйдут, пока что-нибудь не получат. Тут уж всякий дает, лишь бы отвязаться, лишь бы они поскорее убирались.
Прыщеватый Кароль пытается подражать Флореку, да не выходит. Его резкая фистула то и дело срывается, голос хрипит. Этот поет только военные песенки.
Да еще трое из ночлежки. Ну, эти — о безработице, против буржуев и всякое такое. Их уж и шпики приметили. Стоит им где-нибудь остановиться, как «синий» тут как тут и — убирайся, брат, пока цел! С властью шутки плохи. О безработице всем известно, но петь об этом по дворам, — нет, это не разрешается. А публике даже нравится, слушают. Больше, конечно, в бедных домах, там сразу целая толпа соберется, всякий еще от себя прибавит, покачает головой, разжалобится над своей горькой долей.
Студенты — и те ходят. Сыграет, споет, а потом скрипку подмышку и пошел учиться.
Есть и такие, что постоянно этим занимаются, их уж все знают.
Но изо дня в день становится все больше разных приблудных, бог весть откуда. Изобретаются все новые способы. На гребенке, на листочке, на волынке. На каких-то стеклянных трубках, на пиле, на простом железном пруте. Сотнями голосов поет и играет горькое человеческое горе. Чисто и хрипло. Высоко и низко. Тихо и громко. Сладостными мелодиями звучит на улицах горькое человеческое горе. Услышал бы кто издали, удивился бы, что за певучий город такой!
Горят ноги. Болят руки от тяжести гармонии. Пересыхает в глотке. Но лучше уж так, чем просто просить милостыню. Флореку знакомо и это. Когда его вышвырнули с завода, он уперся, — не идти домой на шею к матери, да еще с такой новостью. И он пошел на улицу протягивать руку за подаянием.
Один, другой, третий, десятый пройдут мимо, даже не глянут. А кто и обругает:
— Такой молодой, а попрошайничает!
— Здоровый парень, а милостыню просит!
В такие минуты Флорек клянет свою никому не нужную молодость, свои восемнадцать лет. Клянет свое здоровье, которого даже кирпич за столько месяцев не сожрал. Молодой, здоровый. Вот потому-то и есть больше хочется, потому-то нетерпеливый голод и скручивает так кишки. Выходит, что раз молод и здоров, значит можешь пропадать с голоду, подыхать без помощи. Вот кабы был стар, сгорблен, искалечен, может, кто-нибудь и сжалился бы. А так — нет.
Впрочем, их целая армия. Молодых ребят, таких как Флорек, безработных. Женатых с пятью детьми. Профессиональных нищих, занимающихся попрошайничеством как ремеслом. Жуликов, высматривающих, где бы что свистнуть. Выселенных из квартир, уволенных с работы, спившихся, больных, преступников. Начиная с детей, которых посылает за подаянием больная, прикованная к постели вдова, и кончая дряхлыми, трясущимися стариками.
Флореку невыразимо противно стучать в эти сотни запертых дверей. Выслушивать грубые отказы или слащаво жалостливые слова. Принюхиваться на лестнице к недоступным запахам, доносящимся от кухонных печей. Хлебать на лестнице из жестяной кружки остатки прокисшего супа. Улепетывать от палки профессионала нищего, монополизировавшего этот район. А того хуже — на улице, под бичами враждебных взглядов сытых, спокойных людей. Слова просьбы не идут с языка. А стоять тихо — никто не заметит. От дверей ресторана гонит официант, от входа в кино — билетер, отовсюду — полицейский. Натруженная кирпичом рука не поднимается за милостыней. Словно оазис счастья вспоминается вонючий барак кирпичного завода.
Улицы, улички, переулки. Дома, домики, лачуги. Лестницы — деревянные, каменные. Двери — полированные, окрашенные масляной краской, из простого, некрашеного дерева. Кусок хлеба, грош, бранное слово.
И, наконец, эти трое:
— Спеть что-нибудь сумеешь?
Он пробует. Раздается высокий, чистый девичий голос.
Те только головами крутят. Флорек думает, что плохо. Оказывается, нет, как раз хорошо.
С этих пор — изо дня в день.
— Девушка?
— Который это?
— Гляди, гляди — это парень!
XIX
На память о покойном муже у матери осталась лишь одна вещь — обручальное кольцо. Настоящее золотое, хотя и стершееся уже за долгие годы на загрубевшей от работы руке. Но какие-нибудь гроши, может, все же дадут. А надо, ох, надо! Жить все труднее. Прежде Анатоль зарабатывал так, что хватало на все. Но сейчас работа рвется в руках, как паутинка. Сегодня она есть, завтра нет. Не знаешь, откуда и деньги брать. И, ничего не говоря Анатолю, мать отправляется в ломбард.
Перед большим серым зданием она в нерешительности останавливается. Ей как-то стыдно, хотя ведь ничего стыдного и нет. По лестнице спускается и поднимается публика. Разная. Плохо и хорошо одетая. Даже элегантные дамы. Какие-то деревенские женщины. Не она одна. Это придает ей смелости.
Вестибюль с большими зеркалами на серых стенах. Шаги звонко отдаются на каменном полу, хотя мать старается ступать как можно легче, чтобы не обращать на себя ничьего внимания. Но никто на нее и не смотрит. Всякий занят своим.
Большой, длинный зал. Барьер. За барьером столики, сидят какие-то люди. Перед барьером очередь. Но мать не слишком протискивается вперед. Успеет, — дети дома не плачут. Она поглядывает на публику, на все это людское горе. Ведь от хорошей жизни никто в ломбард не пойдет.
Дама в трауре подает колечко с голубым камешком. «Что это за камешек? — размышляет мать. — Голубой, будто цветок. Кто-то у нее, видно, умер: может, муж, может, ребенок». Вот она берет квитанцию, уходит и не оглянувшись на голубой камешек.
А теперь кто?
Женщина в платочке. Деревенская. В руках переливаются три длинных шнура кораллов. Точно рябиновые ягоды.
Но лысый господин за столиком отрицательно машет рукой. Нет, нет, кораллов они не принимают.
— Никаких?
— Никаких, никаких… Следующий, пожалуйста!
Женщина все еще стоит у барьера, вертит в руках эти свои кораллы. Посматривает то на них, то на лысого господина. Не решается уйти. Верно, ожидала, что получит за них что-нибудь, и вдруг — ничего. «Как бы и со мной так же не вышло?» — вдруг беспокоится мать. Но нет, не может быть. Вот и этот господин закладывает обручальное кольцо. Даже два. Наверное, свое и жены. И сразу берут. Золото как-никак. Возьмут, значит, и ее колечко, хотя и стершееся.
А вот кто-то закладывает часы. Ничего, хорошие часы, с золотыми крышками. За них, наверно, много дадут. Еще бы, столько золота.
И опять кольцо. Без камешка, а так с разными завитушками. Будто скрученные нитки.
Теперь мать начинает присматриваться к лицам. Люди по-разному подают эти вещи. Одни — как ни в чем не бывало берут квитанцию, словно булку в магазине. Другие робко. Или со вздохом. Вон та барышня, видно, даже плакала, глаза совсем красные. Ведь и вправду жалко! Привык человек, может, даже и память какая, а тут приходится закладывать. Кто знает, может, выкупишь, а может, и нет. Все-таки главное — хлеб, а без колечка можно обойтись, пусть это даже память от отца или от матери. Можно бы продать, потому что здесь ведь не платят полной цены, да кто в нынешнее время станет кольца покупать? Разве случайно кто подвернется.
Но вот лысый господин мгновение всматривается в какое-то кольцо и возвращает его даме.
— Это не золотое.
— Как, ведь обручальное кольцо? Сколько лет ношу!
Лысый пожимает плечами.
— Томпаковое. Следующий!
Худенькая дама уходит. Даже и в шляпке, но нужда, видно, горькая. Внимательно осматривает кольцо. Должно быть, и в самом деле томпаковое, тот-то ведь разбирается в этом, на то тут и посажен. Может, обманули при покупке, — мало ли мошенников на свете? Или у него не было денег на настоящее, а признаться ей в этом совестился, вот обман и обнаружился только сейчас…
Теперь очередь матери. Она уже как-то освоилась, но рука все же дрожала, — как-никак ведь впервые. Лысый господин мимолетно заглядывает внутрь кольца, потом — дзынь! — кидает на маленькие, будто игрушечные весы. Потом пишет квитанцию в кассу, кольцо бросает в коробочку, на коробочке ставит номер. Ничего не скажешь, порядок есть, уж во всяком случае не пропадет. Потом с квитанцией — к кассе.
Опять очередь. Кассирша выкрикивает, сколько там в квитанции написано. Мать внимательно смотрит. Ладно и столько, все-таки пригодятся. Она получает деньги, тщательно прячет их в старенький кошелек. На стене ведь объявление: «Остерегайтесь воров!»
И только выйдя на улицу, замечает явственный белый след кольца на пальце. Глубокий как шрам. Отпечатался за столько лет, въелся в палец. На мгновение ей становится тяжко на сердце. Но только на мгновение. Что там расстаться с обручальным кольцом! Приходится видеть вокруг много кое-чего потяжелей.
Скажем — «эксмиссия». Прошли те времена, когда никто и не знал, что это слово означает. Теперь оно висит над головой как топор. Пока у тебя еще есть кров над головой да какие ни на есть четыре стены вокруг, все как-то живешь. Конечно, кабы человек был один, еще как-нибудь справился бы и без квартиры, а что будешь делать, если в доме полно мелкоты? Идти с ребятишками под дождь, под снег, в мороз, вьюгу, шататься по чужим дворам, когда ребенок мерзнет, коченеет у тебя на руках? Даже и летом ночи иногда беспощадно холодны. Сечет в лицо ледяной дождь. Сырой туман проникает сквозь плохонькую одежонку. Забрызганный грязью, закоченевший, чистое привидение, поднимаешься утром с земли.
А тут случаи выселения все чаще. О них слышишь каждый день. Но слышать это еще ничего, — хуже увидеть своими глазами. А уж горше всего — испытать.
Вот уже два года, как Винценту переломило позвоночник на заводе. Он кое-как выжил. Но лежит. Два года лежит и под себя ходит, потому что заняться им некому. Дети еще маленькие, а Винцентиха стирает по домам. Надо же как-то прокормить калеку и эту четверку малышей. Иногда она забегает к матери, поплакать. У нее уж и ноги отекли от вечного стояния над корытом и желваки какие-то с кулак величиной на них поделались. Да и этой работы все меньше. Сейчас мало кто прачку берет, — все сокращают расходы. Вот и приходится работать за половинную против прежней цены. А дети подрастают, им все больше надо. Не хватает ни на хлеб, ни на что. О квартирной плате она и думать боится. Откуда столько денег?
Вдобавок Винцент от болезни стал такой ворчливый, просто беда. Лежит на этой своей вонючей постели и ворчит, ворчит, никакого терпения нет. Не со злости, нет, добрый был всю жизнь человек. А только уж так ему допекло, что он лежит, как колода, и все ему подай, все для него сделай, а тут — никак. Вот он и бранится, проклинает жизнь, хнычет на этой своей смрадной постели.
Несколько раз приходили письма от хозяина с напоминанием об уплате за квартиру. Но она их и не дочитывала, сложит — и в угол на полку. Потом — бумага от адвоката. Ну, тут уж она пошла просить. Но тот и слушать не хотел, только злобно сверкал на нее глазами сквозь очки, — так и отослал ни с чем.
Наконец, бумага из суда. Раз, другой. А потом пришли каких-то трое, говорят: эксмиссия. Ребятишки — в крик, больной на кровати как дитя малое плакал. А те сразу за рухлядь — и выносить. Винцентиха не раздумывала. Никто и не опомнился, а она наверх, на пятый этаж, да оттуда — бух! — вниз, к собственным дверям. Будто хотела преградить дорогу людям, которые уже тащили через порог ее старый шкаф.
Сбежался народ; бабий плач, наверно, в небе и то было слышно. Побежали за хозяином, тот пришел белый как стенка, что-то поговорил с теми, ну, они и ушли. Все думали, что этим дело и кончится. Осиротевшей семьей немного занялись окружающие. Забежит соседка, обрядит калеку, сунет что-нибудь детишкам пожевать. Иной раз и деньжонок кто-нибудь даст, у кого еще работа есть.
И вдруг спустя неделю те трое опять являются. Открывается дверь — и глазам верить не хочется! Ведь еще пятна крови не смыты как следует с каменных плит. Кто-то бежит наверх за хозяином. Но дверь заперта, на стук никто не отзывается.
Ну и вынесли всю рухлядь. Впрочем, не много чего было и выносить. Потом детей. А потом Винцента вместе с кроватью. Прямо во двор. Дождь как раз шел, стояло холодное пронизывающее ненастье.
Так даже своей смертью не удалось Винцентихе заплатить за конуру в подвале, где они ютились вшестером.
А уж про других и говорить нечего! Там просто безо всяких. С пятью, с шестью детьми. Женщину на сносях или тотчас после родов, когда она еще и с постели подняться не может. Во двор, на улицу, под забор! Но и оттуда вскоре гонят. Так что некуда и незачем брать с собой жалкие пожитки. Остается только бросить их на произвол судьбы и идти куда глаза глядят. Но зачем и куда? Никто не даст тебе даром приюта, и всюду одинаково холодно и сыро в дождливые дни, всюду одинаково дует ветер в лицо.
И эта крыша над головой становится чем-то необычайно ценным, чем-то, что страшно трудно сохранить. А раньше об этом и не думалось; есть и есть, вроде как воздух. И не чувствуешь, когда дышишь им. Но теперь с этим кончено. Впрочем, в конце концов, может, придется платить и за воздух, за этот душный смрадный воздух закоулков и подвалов, за пропитанный пылью и грязью воздух узких и тесных улиц.
Так помаленьку учится простой человек трудным, заграничным словам: эксмиссия, аукцион, редукция, и многим другим, означающим: выселение, распродажу жалкой рухляди и сокращение штатов, оставляющее его без работы. Учится до дна постигать страшный смысл этих слов. Постигать ценой своей жизни, своей смерти. И ужасающе ясными и понятными становятся эти слова.
Где-то, когда-то ты ради неотложной уплаты подписал вексель. Где-то, когда-то занял деньги на похороны, на болезнь, на выезд. На короткий срок.
Но все сроки мелькают с невероятной быстротой. Несутся как вихрь, поспешные, задыхающиеся. Глядишь — и миновали.
Или берешь в долг в лавочке, до рабочего сезона. Но наступает сезон — и ничто не меняется. Застывшее, илистое дно не шевелится, по-прежнему сковывает увязшие в нем бессильные ноги, засасывает бездеятельные руки.
А где-то кто-то следит. Приходит господин с портфелем. Осматривается. Собственно не из чего выбирать. Но что-то выбрать все же нужно. И вот на старом размалеванном сундуке, оставшемся еще от матери, которая была родом из деревни, на источенном червями шкафу, на лакированных когда-то табуретках появляются круглые бумажные печати. Красные, с белым орлом посередине. Этакие цветные кружочки. Глядя на них, даже трудно осознать их зловещий смысл.
Подходят детишки, глазеют, тянутся грязными пальчиками к картинкам.
— Не тронь!
— Почему?
— Нельзя, слышишь?
Ребенок слышит. Но минуту спустя его опять так и подмывает. Хоть разок, осторожно. Орел тисненый, выпуклый. Гладенький. И такой крохотный, а все видно. И крылышки и даже клюв.
И тотчас — хлоп! хлоп! — по грязной ручонке. Крик. Потом ребенок долго хнычет в углу, не то с вожделением, не то с ненавистью косясь на цветные бумажки. Ничего еще не понимает. А между тем кто знает, что будет, если этакая печать вдруг отвалится, если ребятишки куда-нибудь ее затащат или испортят? Приклеили — значит, должна быть. Знак власти. Теперь и разговаривают-то в комнате иначе, как-то тише, и садятся-то на эти табуретки осторожно, будто кто-то пристально следит за ними и все запечетлевает в памяти. Невидимое присутствие власти стесняет грудь, не дает свободно дышать.
Приходит и срок вывоза опечатанных вещей. Что ж, ничего не поделаешь. Раз, другой власти отсрочивают, — видно, не слишком торопятся овладеть этими драгоценностями. Да и кто даст за них что-нибудь? Зелень на сундуке давно вылиняла, красные и фиолетовые цветы поблекли. Лак на табуретках потрескался и осыпается сухими чешуйками. Из шкафа, только тронь его, сыплется серая труха дерева, изгрызенного крепкими челюстями каких-то крохотных созданий.
Наконец, забирают. В комнате становится странно пусто. Каждое слово гулко отдается в пустых стенах. Дети носятся, радуясь, что стало вдруг так просторно. Сидеть приходится на кровати, пожитки распиханы по всем углам.
А главное, все это совершенно ни к чему. Старая рухлядь не покрывает даже стоимости перевозки и аукциона. Долг, как был, так и остается. Мало того: он из месяца в месяц разрастается, жиреет за счет неуплаченных процентов.
И новая опись. Исчезает скамья, выварка. Теперь в комнате уж совсем ничего не осталось. А долг все разрастается, все жиреет за счет неуплаченных процентов.
В сущности нечего и жалеть — старая, ни к чему не годная рухлядь. Но человек привыкает, сживается с ней за долгие годы.
Знает, что, проснувшись поутру, увидит размалеванный сундук. Помнится каждое пятнышко на нем, каждый оттенок, хотя все уже стерлось с течением лет. Внутри пахнет деревом, отчетливо виден изящный рисунок древесных прослоек.
Или взять стол. На крышке круги от поставленных второпях горячих горшков и кастрюль. На ножке — вырезанный перочинным ножиком цветок с пятью листиками, за который маленький Юзек получил в свое время изрядную порку. В мягком дереве мелкие дырки, следы иглы, которую втыкала в него жена, когда закипал горшок в печке.
Неуклюжий шкаф. С одного бока отец отмечал, на сколько подрос ребенок, — тонкие черточки, лесенкой, одна над другой. Внутри колышки, один, задний, сломался, когда на него повесили полушубок, сшитый для ночных дежурств. Внизу коробки с обрезками лент, с шариками рассыпавшихся цветных бус. Заржавленные крючки, сломанные ножницы, беззубый гребешок. Всего этого не выбрасывают. Как знать, а вдруг пригодится не на то, так на другое.
И так ясно. Было, жило, старилось вместе с человеком. Каждая трещина, каждое пятнышке были знакомы лучше, чем морщина на собственном лице. Поэтому сейчас такое ощущение, будто целый кусок жизни, будто частицу тебя самого выносят из дому на аукцион.
Так все кругом восстает против простого человека. Но уж хуже всего безработица. Безработица черной тучей гнетет человека к земле. Расползается как серый назойливый, вездесущий туман.
Слабеют мускулы. Бессильно свешиваются ни на что не нужные руки. Бесцельно носят человека ноги. Бесконечен, бесконечен безработный день.
Сперва вытаскивают чуточку денег, завязанных «на черный день» в старый платок. Потом продают покрывало с постели, воскресный костюм, вторые брюки, шерстяную шаль, оставшуюся от матери.
Наконец, продавать больше нечего. Раз или два еще дадут взаймы — кум, тетка, жена брата. И — точка.
Начинается шатанье по городу. С самого утра. На постройку. Кто-то кому-то сказал, что здесь собираются взять еще одного рабочего. И вот пятьдесят человек стоят на улице и задирают головы кверху. К растущим крепким стенам, к уходящим вверх лесам. Ноздри жадно втягивают запах извести, запах нагретого на солнце кирпича, запах сосновых балок. Руки трепетно касаются штабелей кирпича, нежно ощупывают шершавую поверхность.
— Четверка.
— Половняк.
И с завистью:
— Ты только погляди, как он мешает раствор, руки как из ваты!
И гневно:
— Ишь, едва шевелится, не наелся, что ли.
И в обеденный перерыв:
— Ну да, не наелся! Гляди-ка, как уплетает!
А потом опять. С закинутой назад головой, так что шея деревенеет.
Но ничего не выходит.
И вот на другой день начинается:
— Господин мастер!
— Господин подмастерье!..
— Господин инженер!
На третий день снова. Как раз тогда, когда увольняют и тех десять человек, которые работали до сих пор. Больше, мол, не требуется.
И дальше искать! Где-то кто-то сказал, что нужен рабочий на регулировке реки.
Человек пять возятся в вязком иле. А с берега все глаза проглядела целая сотня. Перегнувшись через парапет, всем телом склонясь к этой мутной, вонючей воде.
— Гравий надо бы получше выбрать.
— Смотри, как просмолили сваи, куда годится такая работа?
— Ну и работают! Как во сне мочалку жуют!
— Видишь, потом здесь будут сваи бить.
— Эй, вы, когда будут на работу принимать?
— Примут, как же! Мы сами только до субботы работаем — и крышка.
— Как же так, крышка?
— Денег нет на работы, инженер сказал. Зря тут толчетесь, ничего не выйдет.
Люди отходят на несколько шагов. Оглядываются. Но на всякий случай приходят и на следующий день. Как раз и инженер тут.
— Убирайтесь! Чего вам тут надо? Еще берег обрушите. Никакой работы нет и не будет!
Уходят. Пошататься по городу. А вдруг что-нибудь подвернется. Иногда случается.
— Слушай, ты! Говорят, в железнодорожных мастерских… Только надо прийти с самого утра. И никому не говори.
Разумеется, он никому не говорит. Чем меньше народу, тем вернее.
В сером предрассветном тумане у складов — плотно сбившаяся толпа. Ждут. Ждут, пока не приходит вызванный служащим полицейский и не разгоняет их. Чтоб не толпились. Потому что ни о какой работе и речи быть не может. Как раз сегодня уволено еще двадцать человек.
Мир сжимается все тесней. Некуда двинуться. Куда же? Сжались заводы, шахты, постройки и мастерские. Отгородились непроходимой стеной. И кажется, что никто не входит внутрь, лишь наружу выливаются все новые волны людей, на лбу которых еще не стерлось клеймо «редукции» — сокращения штатов. Слово, которого раньше не знали и которое сейчас стало обыденней, чем насущный хлеб. Оно у всех на устах, оно звучит в крике, изливается в слезах, застывает в проклятиях. Первое слово, которое слышит дитя в колыбели, и последнее, с которым человек ложится в гроб.
Когда уже расползаются сапоги, когда сквозь одежду начинает просвечивать голое тело, пропадает и охота искать. До полудня — в грязной постели. Избить жену, пнуть ребенка. Примазаться к старому приятелю — на пустой желудок и одной рюмки хватит. Насобирать на улице окурков, развалиться где-нибудь в траве над Вислой и дымить, свернув цыгарку из старой газеты. Или за город, накопать кормовой свеклы и набить ею живот до колик.
Но и это, наконец, становится невыносимо. И вот: один, другой, третий. Заговорят вроде как невзначай. Ни с того ни с сего. Потом как-то сразу заговорят все вдруг, как оно всегда в предместьях. И пошли. Небольшая группка разрастается. Вбирает в себя народ с улицы, из подворотен, толпа разливается вдаль и вширь. Идут медленно, тяжелой походкой. Босиком, в расползшихся сапогах на опухших ногах. В рваных рубашках или в блузах с продранными локтями. Черные, обросшие грязью. Женщины, высохшие как стружки, страшные мегеры с обезумевшими от голода глазами.
— К воеводству! К управлению! К магистру!
И на первой же людной улице — синие мундиры. Кордон. Белые дубинки.
— Откуда? Куда? Кто?
И громовым голосом:
— Расходись!
Сзади, еще ничего не зная, напирают.
— Что там еще? Не останавливаться! Вперед!
Но кордон, поблескивая белыми дубинками, стоит как стена. Задние выходят из рядов, идут посмотреть, что случилось. Четверки расстраиваются. Толпа понемногу рассеивается. Может, удастся обойти группками, по двое, по трое? Но неусыпное око не дремлет:
— Эй, там, назад! Не разрешается!
Отступают.
А иной раз и удается, если толпа не слишком велика. Пропускают.
Обставят со всех четырех сторон полицией. Наверх — только делегация.
Долго дожидаются. Впрочем, время у них есть. Торопиться некуда. Переминаются с ноги на ногу, болтают о том о сем.
Наконец, делегация спускается вниз. Обещано. Будет сделано все возможное. Даже и вежливо с делегацией разговаривал. Объяснял, какое тяжелое время приходится переживать. Всем трудно, люди добрые, всем! Он тоже, бывало, каждый год жену за границу отправлял, а теперь вот не может. Такое уж время. Будет сделано все возможное. Он же понимает, что такое нужда, ему самому с первого числа на десять процентов жалованье урезали. Надо только терпеливо выждать. Да, да, самое главное — уметь ждать.
Но не все умеют. Иной поднимается на пятый этаж да оттуда головой вниз! И не пикнет. Или под поезд — только поживей, сбоку, чтобы машинист не успел остановить. В воду — лучше всего ночью, а то еще отыщется благодетель, вытащит, потом, пока второй раз прыгнешь, скандала, расследований не оберешься. Так что уж, для верности, ночью. Крюк и веревка — противно, язык вываливается наружу. Но это уж не твоя забота. Зато смерть, говорят, самая легкая. Если случайно попадет в руки несколько копеек — купить в аптекарском магазине уксусной эссенции. А то есть еще лизол и карболовая кислота. И трамвай. Или нож. Или лезвие от безопасной бритвы. Раз! — и кровь под потолок.
Ничего не поделаешь. Не всякий так терпелив, как этот господин, который принимал делегацию. Да и терпеливым ничего хорошего не дождаться. Упадешь с голоду на улице, заберут в карету, доктор приведет в сознание, напишет на листке диагноз: от истощения — и крой обратно домой. Напечатают в газете — и точка. Если на другой день с тобой то же случится, еще раз в газете напечатают.
Впрочем, газеты тоже любят смотреть вдаль, а не на то, что у них под носом. Как распишутся, что вот, дескать, в Нью-Йорке народ с голоду на улицах падает, так можешь хоть час у самых их ворот в обмороке лежать, не заметят.
Да это и безразлично. Голод — всюду голод, ребята пухнут от него одинаково что на этом, что на том полушарии. И сапоги всюду одинаково рвутся, и одежда сваливается с исхудалых плеч. Все равно на каком бы языке ты ни говорил, а одно тебя допекает, одно убивает — безработица, всюду безработица…
Вот с этими-то людьми и разговаривает теперь Анатоль. Останавливается возле них. Прислушивается.
Много и говорить не приходится. Сами слишком хорошо знают. Волчий огонь горит в их впалых глазах. Челюсти сжимаются от волчьего голода. Словно хищные когти, стискиваются исхудалые пальцы.
Мрачно, в глухом молчании смотрят они в сгущающиеся потемки мира, в высоко вздымающиеся волны гибели.
И ждут.
— За них-то не беспокойся, говорю тебе, — убеждает Анатоля Войцех. — Они еще тебя научат, что и как. Еще бы, безработные ведь.
Впрочем, граница между безработными и работающими все более стирается. С каждым днем они все меньше отличаются одни от других.
И в самом деле, один восемь, а то и десять часов стоит у машины, у станка, на постройке или еще где. А другой с утра до вечера бродит, как сонный, по городу или прячется со своим горем в подвальном логовище. Но и у того и у другого рваные сапоги, сносившийся пиджак, ни тот, ни другой давно не видели полного горшка в печке.
И все-таки это не совсем то. Пусть ты зарабатываешь гроши, на которые ни одеться, ни поесть досыта, а все же не чувствуешь себя совсем выброшенным из жизни, никому не нужным человеческим отребьем.
Но и на работе стараешься ступать осторожно, точно по колеблющейся почве трясины. Вот-вот она расступится, откроется с глухим плеском, и ты постепенно погрузишься в глубину, в жадное засасывающее болото. Так и с безработицей. Раз уж она схватит тебя в свои ужасающие когти, пропало. Потом уж ты носишь на лбу словно печать позора, не можешь подняться кверху. Раньше ты был каменщиком, металлистом, монтером, сейчас ты только безработный.
Иной раз швырнут какую-нибудь подачку. Работу в городской каменоломне. Буришь глубокие отверстия. Закладываешь взрывчатку. Бьешь молотом, отваливаешь огромные скалы. Грузишь на подводы гравий. Весь день глотаешь жесткую удушающую пыль.
А потом получка: кирпичик солдатского кофе, коричневая фасоль, кулечек муки и мыло.
Только где взять горшок, чтобы сварить эту фасоль? Где взять уголь, чтобы затопить печку? Кофе еще можно жевать сырым, но остальное?
Разве продать? Но из этой муки ничего не испечешь. Она лежала где-то на складах, сырела, сохла, сбивалась в комки, кисла. Ее можно лишь разварить в кипятке в густую, клейкую мазь. Кто даст что-нибудь за такую муку?
А от жесткой «железной» фасоли делаются рези в кишках и вздувается живот даже у самых выносливых людей. И только мыло — мойся сколько душе угодно! Мой почерневшее от голода лицо, руки, израненные об острые края камней. Но ни этой черноты, ни ран все равно не смоешь.
И бродит человек по свету, как безумный, — по огромному, пустому, враждебному свету. Тот, кто не работает, — в безнадежном отчаянии; тот, у кого есть работа, — в вечном страхе, как бы ее не потерять.
А за зеркальными витринами магазинов громоздится еда. Белые плетеные булки. Полумесяцы рогаликов. Тает на солнце желтый и розовый крем пирожных. Рдеют пласты мяса, голубоватые телячьи туши. В стеклянных бассейнах плещутся жирные карпы. В круглых жестяных коробочках свернулись, как ужи, миноги. Разложены рядами пушистые персики. Груды шоколадок в цветных обертках. Икра. Тщательно ощипанные цыплята. Глыбы масла. Грудами навалена еда за толстым зеркальным стеклом, бесстыдно лезет в голодные глаза. Пахнет сквозь стекла неведомыми ароматами, набегает в рот слюной, манит неведомым вкусом.
Струей льется радуга шелковых материй. Крепдешин и креп-монголь. «Петит реин». Шифон и велюр. Гладкий блеск, цветистые узоры. Резкие отблески тафты и мгла маркизета. Кружевная вязь, расшитые узоры, мягкие волны вуалей. Скользкое полотно, теплые складки шерсти, подстриженный мох бархата. Все это сверкает за зеркальной витриной перед глазами озябших, кутающихся в рваные лохмотья, дрожащих от холода людей.
Длинные ряды ботинок за зеркальной витриной. Змеиная и оленья кожа. Высокие и низкие каблуки, закрытые и вырезанные туфли, с острыми и с тупыми носками, коричневые, черные, белые. Шевро, лак, подошвы из буйволовой кожи. Прибитые, пришитые, приклеенные. На пуговочках, на пряжках, на шнурках. Прюнелевые, бархатные, атласные. Они презрительно поглядывают из-за зеркальных витрин на босые ноги, на вылезающие из башмаков грязные, посиневшие пальцы, на стоптанные, надетые на босу ногу калоши, на обвязанные шпагатом остатки обуви.
Высокие окна этажей смотрят вниз ящиками душистых цветов. Шевелят белыми крыльями вышитых гардин. Отражают сверкание мозаичных паркетов. Захлебываются от солнца, света и воздуха. Ослепляют блеском впалые от голода глаза.
Мир переполнен богатствами. Всего, всего хватает, всего много. Приходится вагонами сваливать в море пшеницу. Бросать в топки паровозов мешки кофе. Закапывать в землю сотни молочных коров. Жечь на кострах целые стада кудрявых овец. Потому что всего хватает, всего много, слишком много, в избытке. Мир задыхается от своего богатства — обожравшийся, сытый мир. Его донимает изжога, душит икота от излишка еды. Излишком еды рыгает он в глаза тому, кто босиком, с просвечивающим сквозь лохмотья голым телом стоит внизу.
XX
Ни с того ни с сего начинают распространяться какие-то вести.
Их передают потихоньку, шепотом, на ушко. Прикрывая рукой рот. Беззвучно, одними движениями губ.
Они лезут в глаза белыми пятнами в газетах. Прибывают в город с крестьянской подводой. С утомленным пешеходом. Их приносит торговка вместе с корзиной овощей. Разносят белые клочки бумаги. Хромой нищий. Безногий бродяга. Они шелестят тишайшим шепотом. Звучат в гомоне переулка, в закоулках дворов, в толчее рыночных площадей, во мраке киносеанса, в грохоте телеги по мостовой, в скрипе ржавого колодезного насоса. Несутся как пламя, стелются по земле, разливаются широкой волной. Их узнаешь во внезапно бледнеющих лицах, в нервном движении плечей, в склонившихся друг к другу головах, в пугливых взглядах. Они протискиваются в каждую щель, начиная с самых высоких этажей и кончая подвальными каморками. Тяжелые и душные, они наполняют собой воздух… Смолкают дети, играющие над уличными канавами, прислушиваются. Элегантные прохожие стараются незаметно проскользнуть по улице. Дрожь при звуке звонка у дверей, при шуме шагов. Пугливые взгляды через плечо. Смех, принужденный и неискренний. Не слышно громкого разговора на улицах. В подвалах, в мансардах, в смердящих нищетой комнатенках собирается народ. Приглушенные голоса. Дрожь в руках.
Никто ничего не знает. Ожидание. Мучительное и нестерпимое, дергающее нервы ожидание.
Но весть все ширится как зараза. Воздух до последнего предела заряжен электричеством. Возникают беспричинные споры, тихие, ожесточенные, из-за всякого пустяка, из-за любой мелочи. Истерические нотки в голосах женщин. Дети дома ведут себя тихо, как мышки, только бы не обратить на себя внимания. Люди забывают очистить картошку, поставить на огонь воду, затопить печку, если у кого еще есть чем затопить. Вся повседневная жизнь перевернута вверх ногами.
Из предместий, из переулков появляются какие-то оборванцы. Стыдливо таившаяся до сих пор в четырех стенах нищета выходит на главные улицы. Люди останавливаются группами, идут один за другим без цели и надобности, в какой-то непонятной тревоге. Молчаливо бродят то туда, то сюда, под мертвым взглядом человека в мундире. Дамы с детьми в колясочках поскорей сворачивают в подъезды домов, хотя ничего особенного как будто не происходит. В лавках пусто, в витринах цветочных магазинов вянут желтые и белые розы. По вечерам гаснут огни световых реклам, которые некому читать. Чернеют груды овощей на торговых площадях. Перед необновляемыми витринами магазинов — мрачные лица. Глазеют на откупоренные коробки миног, на подгнившие, покрытые пушком персики. В ресторанах длинные ряды пустых столиков. Не успевает стемнеть, как улицы пустеют, словно метлой выметенные. Глухо звучат шаги немногочисленных, запоздалых прохожих. Лишь на окраинах города, под старыми заборами, на сваленных в кучу бревнах, словно тени, группки людей. И вдруг рассыпаются, впитываются во мрак. Мгновение спустя появляются снова.
— Зоська, сбегай-ка на угол, узнай, что там.
— Антек, беги к Мачакам, расспроси, может, они что знают.
— Картошка в печке. Проголодаешься — возьми, пойду посмотрю, что слышно.
— Выгляни-ка в окно, кажется, что-то случилось.
— Какие-то люди у ворот, не орите вы, черти! Дайте послушать.
— Ну, что?
— Ну, как там?
— Что говорят?
— Ничего не слышно?
— Ну как, спрашивал?
— Был?
— Где-то поют!
— Э, приснилось тебе, ничего не слышно.
— Что это так грохочет?
— Телега едет.
— Телега ли?
У Анатоля с утра до вечера толчея. Ежеминутно скрипит дверь. Обычного шума нет. Тихо. Сидят на кровати, на столе, повсюду. Сходят в лавчонку на углу, принесут буханку хлеба, сидят, жуют. Ночуют на полу, подложив под голову шапку. А то вдруг всех точно ветром сдует, ни одного не застанешь. Вернутся красные, потные и опять вполголоса спорят, совещаются, стремительно, с горящими глазами, жестикулируют. Говори с ними, не говори — ни один не слышит. Мать вздыхает и тихонько садится в уголке у окна почитать, но буквы скачут у нее перед глазами. Она невольно напрягает слух, не донесется ли чего с улицы. Тревога не дает усидеть на месте. Прочь из дому. На лестнице соседки. Прикладывая палец к губам, оглядываясь назад, беспокойно озираясь полными ужаса глазами, вполголоса переговариваются:
— Милая вы моя!
— Господи Иисусе!
— Неужто вправду?
— Чтоб мне господа бога после кончины не увидеть!
— Ох, милые вы мои, милые вы мои, что же это творится на свете!
Невыбитые перины висят на перилах. Ведра с водой часами стоят у крана на лестнице. Ребенок в запертой квартире орет и орет, будто вот сейчас у него глотка разорвется.
Мать медленно спускается вниз. Они на мгновение умолкают при виде ее, но едва она прошла — снова. Быстрое, разноголосое бабье стрекотанье.
По пустым улицам в церковь. Странно тревожная, тихая пустота. Красный огонек лампадки мерцает чаще, чем обычно. Золотые ризки младенца Иисуса едва виднеются во мраке. Свечи дымят жирной рыжей копотью. Старый причетник семенит у алтаря.
Внезапный страх поднимает мать с колен. Домой! Но там все по-прежнему. Соседки еще шушукаются на лестнице, а те сидят в темной от папиросного дыма комнате. Анка из прядильной, та, которая приехала сюда в поисках работы, что-то ожесточенно доказывает, мрачная, как всегда. Размахивает худыми руками. И вдруг кулаком по столу. Злобно, упрямо. Матери все кажется, что они ссорятся, но нет. Все об одном и все в один голос. Даже Наталка сегодня не такая, как всегда. На щеках красные пятна, глаза горят. Генек сжимает кулаки, так что кость хрустнула. И вдруг ни с того ни с сего — все за шапки, и только лестница загудела.
— Наталка! — кричит мать, да куда им услышать! Небось уже на улице. Уже размело их неведомо куда, всякого в другую сторону. Впитались в город, как вода в мягкие доски пола. Мать прибирает. По комнате словно ураган пронесся. Окурков, обрывков бумаги, грязи — целые вороха. Но, пожалуй, и лучше, что нашлась работа. На мгновение забывается тревога, которая тошно подкатывает под сердце, не дает спокойно присесть. Сварить что-нибудь на последний заработок Анатоля, что ли, ведь вернутся же! Надо же и поесть. Молодежь! Набегаются, накричатся, вот и голодны.
Очищенная картошка с плеском падает в воду, разбрызгивая мелкие капельки. Булькает под голубой крышкой. Доходит на пару. А никого все нет. Опять дрожь беспокойства в ногах. Тревога поднимается выше, железным обручем сжимает сердце. Холодный пот на лбу. Тошнотная слабость во всем теле.
По лестнице бежит соседская девочка.
— Сходила бы ты на улицу, Розалька, послушала бы, не слыхать ли чего, сходи, милая!
Несколько минут спустя девчушка возвращается.
— Ничего не слыхать.
— Совсем ничего?
— Нет, все тихо, как всегда.
— А народ не бежит куда-нибудь?
— Чего ему бежать? Стоят, разговаривают, да и немного совсем.
— А постовой на углу?
— Стоит, куда ему деваться?
— Так… Я было думала…
— Мама тоже каждую минуту меня на угол посылает, а там же ничего такого нет. Кабы что случилось, так и тут слышно было бы, хоть и окна во двор.
Она исчезает в темных сенях. Мать со вздохом возвращается к своей стряпне. Правда, ведь и тут будет слышно… Хотя, кто их знает, куда они там двинулись.
Наконец, влетает запыхавшаяся Наталка.
— Уже!
Мать вздрагивает, горшок кипятка едва не падает из ее рук.
Наталка отирает пылающее лицо тыльной стороной руки. С трудом переводит дыхание… И вдруг бросается к матери, сжимает ее в объятиях, едва не душит.
Теперь уже все известно.
Заводы прогудели лишь один раз, тревожно, раздирающе. Дым из труб заколебался, стал опадать и вдруг исчез. Напрасно вертеть кран — водопроводные трубы не выпустят уже ни капли воды. Не мерцает в лестничных клетках голубоватый огонек газовой горелки. С грохотом, с лихорадочной поспешностью падают железные шторы в магазинных окнах. Исчезли, точно сквозь землю провалились, такси. Извозчики ведут под уздцы своих кляч в конюшни. С балкона третьего этажа перегибается дама в кое-как застегнутом розовом халатике. Пискливо, тоненьким голоском перекрикивается с соседним балконом.
— Простите, пожалуйста, скажите, у вас тоже нет воды?
Над городом тьма. Широко простерла над землей лапы, как притаившийся, прильнувший к земле зверь. Трепещет трауром птичьих крыльев. Разливается густой, клейкой волной. Оседает косматым пухом. Прячется в амбразурах ворот. Наполняет переулки. Взметывается, переливается, клубится — тьма.
Ослепшие глаза газовых фонарей матово поблескивают во мраке. Никому не нужные белые шары дуговых ламп маячат вверху, будто призраки. В потемках, глядя вниз черными ямами окон, дышат дома. Не блестят замершие, ненужные трамвайные рельсы.
Шаги запоздавших прохожих отдаются в пустых улицах, как внезапные выстрелы. Десятикратным эхом звучат в глухих стенах. В темном городе беззвучно кричит черный страх.
В узком проходе городских ворот сгусток тьмы — патруль. Дышат чьи-то легкие. Быстро, прерывисто, как после долгого бега. Скрип ремня, шорох полицейского плаща далеко разносятся в призрачной пустоте.
В чернильных потемках парка колеблющиеся тени. Штык, задевший о каску, звучит в аллеях грохотом набата. В расширенные глаза, силящиеся проникнуть во мрак, в отчаянно напряженный слух неодолимым, пушистым прикосновением втискивается ужас. Сжимает горло сдавленным криком. Сушит потрескавшиеся губы. Гнетет к земле.
Ах, если бы можно вскочить с пронзительным, вздымающим волосы на голове криком, воя мчаться прямо в плотный, осязаемый мрак! Спрятаться от кошмара в надежное убежище безумия, нарушить тишину раздирающим, звериным воем, разорвать ее захлебывающимся хохотом, одолеть слепую ведьму!
Пусть бы пробудился, загремел ответный крик всего города, пусть бы зазвучал из сгустившихся пятен тьмы под деревьями, из движущегося мрака площадей, из арок широких ворот, из тихих уличек, таящих в себе тайну мятежа! Пусть зазвенел бы умерший город гулом ложной тревоги, засверкал внезапными молниями выстрелов, наполнился звоном ударов стали о сталь, змеиными сверканиями сабель, бряцанием касок! Мчаться вслепую с громом оружия, с топотом тяжелых сапог, наугад, куда попало! Хоть голову разбить о стены, лишь бы с шумом, с шумом, с шумом, лишь бы не эта проклятая затаенная тишина!
Нервы — натянутые до предела тонкие ниточки. Нервы — свернувшаяся в клубок паутина. Нервы — вздрагивающие, вот-вот готовые лопнуть струны. Нервы — стальные канатики, дергаемые хищными когтями паники. Немыслимый, невыносимый ужас.
Молиться — но шепот раздается как крик. Молиться — беззвучно. С трудом шевелятся потрескавшиеся губы полицейского. Нет, это еще не смерть. Нечто в тысячу раз худшее. Боже, дай умереть, прежде чем надвинется это самое худшее, прежде чем вот тут, возле тебя, сбоку, из-за спины, из соседней улицы раздастся хохочущий, ужасающий голос безумия.
Но где же бог? Слова мольбы никуда не доходят. Их поглощают потемки и, пережевав, выплевывают на глухую землю. Они всачиваются в липкую гущу, тупые и беспомощные. Неотвратимо тонут в бездне. Бессильно падают, отскакивая, как дождевые капли, от сатанинского лика. Гигантский, всеобъемлющий, безжизненный лик сатаны. И хоть бы он был красным адским пламенем, взвивающимся голубоватым огнем пылающей серы! Нет. Черный, липкий, беззвучный, он поглощает все, как губка. Огромная, призрачная губка, всасывающая умерший город, полный бастующих врагов, готовых на все.
Закурить. Мокрая папиросная бумажка. Отсыревшая от росы спичка со скрежетом чиркает о коробку. И вдруг чья-то рука легким толчком выбивает ее из рук. Внезапное содрогание. Нет, это не то, еще не то. Просто запрещено курить. Ясно.
Лицом в росистую траву. Но роса темная. Должно быть, она оседает на губах черными каплями. Горькая, страшная, жгучая.
И кажется — не встать никогда рассвету! На веки веков погрузился мир во тьму. Господство тьмы над помертвевшей от страха землей. Лик тьмы искажается в ужасающую улыбку, еще более страшную оттого, что ее не видно.
Ох, довольно, наконец! Тело тяжелеет, как колода. Тысяча иголок колет налившиеся кровью глаза. Отмирает все, даже страх. Полное бессилие.
И тут как раз мрак начинает редеть. Мало-помалу переходит в сероватую бледность, в бесцветное, призрачное утро. Из глубоких ворот, из углублений в стенах, из-под деревьев появляются серые, бескровные, словно пеплом посыпанные лица патрулей. Наступает день.
XXI
Сперва издали доносится глухой гул.
Рассыпается короткими, прерывистыми отзвуками.
То тут, то там. Раз, другой.
И вдруг раскатывается, как обвал в горах. И непрестанное та-та-татата, будто торопливо сыплется на каменный пол горох.
Бегом. Туда, обратно! Один, другой, затерявшийся в пустоте улиц человек. Потом — все больше, больше. И вот из горла переулка с шумом вырывается толпа.
— Негодяи! Сволочи! Сукины дети!
Развевающиеся на ветру волосы. Широко открытые рты. Сердце колотится в запыхавшейся груди. Стиснутые кулаки, крепко стиснутые кулаки трудящегося человека.
И крик. Крик во все горло за долгие, долгие времена молчания. Гневный, полный ненависти крик. За все, за все время тишины и ядовитого, лелеющего ненависть молчания.
Из боковой улицы торопливая стрекочущая трескотня пулемета. Стон по толпе. Как глубокий, внезапный вздох великана. И опять — туда! Слепо, ожесточенно, самозабвенно. Высокие, шумные крылья порыва.
Грозная, непостижимая радость, высшее человеческое счастье. Ах, руки, которым годами не за что было ухватиться! Теперь они держат крепко, крепко. Глаза, полуослепшие от мрака! Как поразительно ясно видят они теперь во всю длину улицу и дальше! Как ясно видят они сияющий свет встающего дня. Как широко расправляются согнувшиеся плечи, как глубоко вдыхают воздух съеденные туберкулезом легкие! Вихрь счастья вздымает волосы на голове. За все, за все времена!
Опущенные шторы магазинов, занавешенные гардинами окна. Эхо далеко разносит отзвуки залпов. И вдруг ни с того ни с сего под самый пулеметный обстрел выезжает подросток на велосипеде. На руле цветущие ветви. Изумленно поднимает голову. В больших круглых глазах одно безграничное удивление.
Но всего на один миг. И сразу, с жестяным звуком упавшего велосипеда, валится на землю. Лицом в цветущие ветки.
Из наскоро организованного перевязочного пункта выскакивают люди с повязками на рукавах. Поднимают. Под ним уже широкая красная лужа. Быстро, умело перевязывают длинными бинтами, поглядывая только, не поворачивает ли в их сторону слепой, равнодушный броневик, сметающий на пути все живое. На носилки. Но не успевают они пройти и нескольких шагов, как белая марля на животе набухает кровью. Через минуту она протекает. За носилками на мостовой — кровавый след, узкая струйка крови.
Броневик поворачивается. Широким взмахом, огромным полукругом косит он, от стены до стены, оба тротуара и мостовую.
Запертые ворота не поддаются натиску десятков рук. Не расступаются каменные стены. И вдруг, в диком инстинкте отчаяния — вперед! Прямо на слепое, закованное в сталь чудовище. Десятки, сотни обезумевших рук. Собственным телом на бойницу. Броневик молкнет. И вот — красный лоскут, маленькое красное полотнище, водруженное на башне. Возглас толпы — броневик захвачен. На броневике развевается красный лоскут — знамя.
Поперек узкой улички опрокинутая телега для перевозки мебели, свалены грудой доски, в промежутках мешки с мукой, вытащенные из соседней булочной.
Беспорядочные, отрывистые, огрызающиеся выстрелы.
И Веронка. В слепом, безумном порыве — вперед. В этот священный час с нее слетает все, что было в ней от шлюхи, что кошмаром дней уличной девки легло на ее льняные волосы, на ясные глаза удивленного ребенка. Теперь это снова прежняя Веронка, счастливая возлюбленная Эдека в зеленый весенний день. Ветер радостный, чистый ветер развевает волосы надо лбом. С полураскрытых губ стерто липкое клеймо омерзительных поцелуев. Высокая, огромная гремящая песнь несет ее на шумных крыльях. Быстро, легко, по сваленным в кучу столам, по изломанным прилавкам перепрыгивает она на ту сторону баррикады.
За ней сквозь брешь в баррикаде несутся другие. Как неудержимый горный поток. Слезы восторга, слезы счастья градом катятся по щекам. В этот священный час.
И дальше. Плечом к плечу. Хмурое, желтое лицо Юзека, горящее огнем страсти. Из-за струящейся крови сверкают глаза. Нет, это уже не тот молчаливый человек из судебного зала, не сорвавшийся с виселицы убийца. В этот священный час его несет крылатая, многоголосая, громовая песнь, несет по широким улицам города, расцветающим красной кровью искупления. В красное пламя превращается мрак тюремной камеры, раздвигается тьма детства, уходит, растворяется в ярком свете его тяжкая доля, падают с ног оковы нищеты.
Широко, широко расправляются свободные плечи. Глубоко вдыхают легкие воздух свободы, колеблемую песнью лазурь. Сваливается бремя с плеч, лицо расцветает сияющей улыбкой. Глаза улыбаются далекому небу, цветущей земле. Не болят опухшие от вечного стояния у станка ноги. Пружинят ослабевшие без работы мускулы рук. Тысячей красок, сверканий, блеска озаряется священный час.
Мать в этот день, по обыкновению, у обедни. Перед младенцем Иисусом в золотых ризках. Ведь надо молиться за Анатоля.
Но молиться она не может. Старое сердце пронзает вдруг страх. Мысли в смятении путаются. Что-то слышно оттуда? Нет, так только кажется под сумрачными сводами костела. Тихонько теплится огонек в красной лампадке. Розовые отблески на золотых ризках младенца Иисуса. Подвижные тени в нишах алтаря. Из людей — никого. Она одна пред лицом бога. И все же не может молиться. «Грех», — говорит она себе, когда непослушные мысли устремляются домой, к Анатолю. Но Анатоля ведь уже нет дома. Сорвался ни свет ни заря и понесся в город. Что только будет, боже милостивый! Что только будет?
Но теперь и вправду что-то слышно. Будто кто сыпнул горохом о стенку. Раз. Еще раз. Теперь раздается быстрый, равномерный грохот.
Она выскакивает из костела. Улица почти пуста. Ворота и подъезды на запоре. Люди бегут по двум направлениям. Рабочие, женщины в платочках — по направлению к городу. А сюда, украдкой, вдоль стен, пугливо озираясь через плечо, — господские шляпы, приличные пальто, тросточки. — О господи, о господи! — лихорадочно твердит она, устремляясь вслед за другими. Слышно все отчетливее. Нет, это не горох сыплется о стены…
— О боже мой, боже мой! — бессознательно шепчут губы.
Там уже толпа. Сердце рванулось и замерло. Вот оно! Вот оно! — колотится испуганное сердце.
— Чего тебе там, бабка? Назад!
Нет, нет. Она силком протискивается сквозь сбившуюся толпу. К Анатолю. Там же Анатоль!
Высоко над толпой светлая голова. Словно знамя. И мать сразу успокаивается. Анатоль.
Ей уже нет дела до выстрелов. Она следит глазами за сыном, за этой возвышающейся над всеми белокурой головой. Даже сюда доносится его голос резкими, отрывистыми звуками команды. Она не хочет бежать. Но ее увлекают за собой. Она неохотно бежит, не в силах противиться волне. И, как только возможно, поворачивает обратно. Впрочем, и другие тоже.
За убитой лошадью лежит юноша. На плече кровь. Мать спокойно перевязывает плечо платком, поднимает, поддерживает, ведет в ворота, где суетится бледный, как стена, врач. Мимолетно ловит ясный взгляд Анатоля. Улыбается, чтобы успокоить его. Ничего, она справится. А место ее здесь, возле сына.
И так уж весь день. Она помогает перевязывать раненых, носит воду, собирает рассыпавшиеся патроны. И лишь раз ее охватывает страх, — когда из ворот выводят взятых в плен полицейских. К ним бросается гневная толпа.
Мать закрывает глаза, чтобы не увидеть. Но нет, ничего не случилось. Ведь это священный, священный час!
Мельком она замечает Наталку.
— Что ж ты, цыпленок… — начинает было она.
Но глаза Наталки пылают, как факел, вздымающим к нему огнем вдохновения. Лицо сурово. Губы крепко сжаты. Неужели это она, тихая, замкнутая Наталка?
И на всех лицах мать с изумлением видит то же. Пламя, смывающее все обыденное, серое, злое. Жаркое зарево, счастье освобождения. И она чувствует, что и сама уже не та, замученная трудом, забитая жизнью, молящаяся перед младенцем Иисусом, женщина. Что и ей расправляет морщины, наполняет ее силой, заливает теплой волной счастья священный час. И лишь сейчас она знает, на что был нужен труд ее долгих дней. Вот и заработали руки, выплакали глаза, вымолило утомленное сердце!
— Анатоль, Анатоль…
Светлая голова над толпой. Суровый, повелительный, призывающий голос. Горящие счастьем глаза.
И тихо, с благодарными слезами на глазах ей думается: «Не помешала, не сбила с пути, не отдалила священный час».
Виктор у аппарата. Стучит, стучит, нетерпеливыми пальцами выстукивает на все четыре стороны, — всем, всем, всем! — радостную весть. Еще. И еще раз. Аппарат вздрагивает под руками в такт песни. И издали, издали, со всех сторон несется ответ. С разгоревшимися лицами, дрожа от счастья, в огне энтузиазма он выбегает на улицу:
— Товарищи!
И снова высоко над толпой появляется Анатоль. Вихрем несутся над людьми его слова. Потом Юзек. Потом Веронка. Но голос замирает на ее губах, когда вдруг, у самых своих ног, она замечает Эдека, видит золотые искорки в его глазах. И знает: прошло, миновало все злое, дурное, темное. Широкой, шумной волной покатится новая жизнь. Да и как тут говорить? Горло сжимается в радостной спазме, глаза заливает струя счастливых слез. Разве, как Виктору, одно только слово:
— Товарищи!
И так уже все знают.
И только одно:
— Товарищи!
И все сказано. Счастье и торжество, радостная весть, безграничный порыв восторга.
Не печалят даже умершие. Они спокойно лежат длинными рядами. Смотрят невидящими глазами в небо. Их не унесла черная, бессловесная, мрачная смерть трудящегося человека. Они погибли смертью борцов в занимающейся заре, в пурпурном зареве. С сердцем, преисполненным счастья.
«В священный час», — думает мать, и губы ее впервые не складываются в молитву. Да и зачем? Ведь она своими глазами видела встающий день.
Анатоль идет по городу. Заглядывает повсюду. В переулке, у стены, кто-то лежит. Скорчившись, как раздавленный червяк. Лицом вниз. Анатоль осторожно поворачивает его.
С белого, как известь, лица мертво глядят косые глаза Игнаца. Впервые они не бегают беспокойно по сторонам. В них застыл ужас. На виске темное отверстие от револьверной пули. Его никто не подобрал. Не хоронить же его вместе с теми, другими.
«Должен отвечать сам за себя», — сказал ему когда-то господин комиссар. И вот на его лице еще раз останавливаются наводившие на него страх глаза Анатоля. Но его сердце уже не сжимается от испуга под их взглядом.
Анатоль долго смотрит на черные мозолистые руки. На натруженные руки маленького человека.
— Надо все же похоронить его, — говорит он тихо.
Город клокочет, как огромный бивуак. Опустевшие дома смотрят вниз черными глазницами выбитых стекол. За закрытыми окнами домов притаился подлый страх, присела к земле стыдливая трусость. Улица дышит полной грудью, переливается пеной толп.
В упоении песнью, в шуме знамен, в победных кликах встает четвертый день восстания. На улицах черно от народа. Женщины, дети, мужчины сплелись в одно великое шествие, несомые волной счастья, порывом восторга, мигом осуществления.
Огромное серое здание. Сквозь открытые окна вливается песнь, тараном бьет в стены, тараном бьет в лица перепуганных, съежившихся за столом людей. Против Анатоля, против его голубых глаз — бледный страх на серых, будто пеплом присыпанных, лицах.
— Преступники! — раздается, как последний аргумент, когда уже все доводы исчерпаны.
— Преступники! Убийцы! Разрушители!
— Мы строим, — сурово отвечает Анатоль.
— Что? — худые пальцы низенького человека искривляются в воздухе, как хищные когти.
Знакомый трепет пробегает по телу Анатоля. С головы до ног. Волосы вздымает ветер энтузиазма. И словно пламя охватывает все тело.
— Мы строим новый мир!
Вдали опять гремит песнь. Анатоль отворачивается и смотрит на улицу. Как река, катятся толпы, толпы за толпами. То тут, то там расцветает пурпур знамен. Надо всем, надо всем прекрасная, радостная, могучая, несется победная песнь. Как вино, льется по улицам хмельная радость, несказанное счастье, воплотившаяся мечта человека.
И прямо в эти испуганные лица, в этот бессильный гнев, в эту заклейменную подлым страхом группку Анатоль сурово, уверенно, радостно бросает — не им, а своему темному детству, мрачным годам отрочества, своей мятежной юности, этим бесконечно льющимся толпам, этим развевающимся знаменам — бросает:
— Мы строим мир свободного человека.
― РОДИНА ―
I
Кшисяк пахал под картошку свой участок, узкой полоской тянувшийся вдоль пруда.
Время шло к зиме. Легкий сонный туман повис над полями, скользил между деревьями в роще, оседал в котловинах. Бледное, бессильное солнце неподвижно стояло в полинявшем небе.
— Нн-о!
Лошадь рванула. Плуг глубоко врезался в землю. Лемех с легким шипением углубился в сырой суглинок, откидывая тяжелые, лоснящиеся, словно отшлифованные, пласты. Они теряли форму и блеск, расползались подозрительной грязцой, когда на них наступали босые ноги погонщика, погружались ступни налегавшего на плуг Кшисяка или подкованные копыта лошади.
— Мокро.
— С чего же тут не быть мокрому-то? — философски заметил Сташек, подбирая ослабшие вожжи.
Лошадь с трудом вытаскивала копыта, облепленные большими комьями грязи. Нет, не годится эта земля под картошку. Здесь, поближе к пруду, она, как всегда, сопреет. Туда, повыше, может, и останется немного высоких зеленых стеблей с раскидистыми ветвями и мелконькими, как орех, клубнями. Нет, не годится под картошку эта земля. Но как раз такой клочок и достался Кшисяку. И другого для него не находилось уже несколько лет. Сколько раз он говорил с приказчиком и управляющим. И как об стенку горох.
Кшисяк сердито сплюнул в сторону, на поросший конским щавелем откос, спускавшийся к сонной воде пруда.
Прояснилось. Солнцу удалось, наконец, пробиться сквозь туман. Со стороны бараков раздались голоса. А потом появилась Магда. Тяжело ступая, она перегнулась на бок и тащила корзину за надломленную ручку.
«Вот она когда выползла», — сердито подумал Кшисяк. Шагая по длинной борозде за лошадью, он следил за движениями жены. Взглянул на солнце. Время к полдню.
Но Магда, видно, не торопилась. Она медленно шла вниз, к подгнившим мосткам, которые купались в воде, поросшей зеленой ряской.
Вот она опустилась на колени. Сквозь щели в мостках видна чистая вода. Чистая вода была и у конца мостков. Темная.
Магда осторожно нагнулась. Тяжелый живот тянул ее вниз, стоило только пошатнуться. Тут не глубоко, а все же…
Она почувствовала сильный гнилостный запах. Да, такой уж это пруд. Вонючий, он постоянно выделял голубоватую мглу, ночной туман, вечернюю духоту, смешанный запах прелых листьев, водорослей и стоячей воды.
Магда крепко ухватила надломленную ручку корзины. «Опять Сташек не починил», — подумала она, бросив неприязненный взгляд на своих, — они виднелись теперь на повороте полосы. И медленно погрузила корзину в воду. По воде пошли круги, темно-золотые, мелкие, охватывающие все большее пространство. Пруд шелохнулся — по нему бесшумно расходились круги. Вот они заблестели на неярком солнце, их очертания постепенно стирались, но они все еще были заметны. Наверно, дошли и до другого берега, до теряющих листья, склоненных над водой деревьев.
Но теперь на воде появилось новое движение. Словно легкая дрожь коснулась правильных кругов. Мелкая быстрая зыбь перечеркнула их поперек, замутила, перебила им дорогу. Поверхность пруда тихонько забормотала, забурлила, нахмурилась. Дрогнула тяжелая тягучая зелень.
Магда ждала.
— Мало вам еще жрать дают, глядите-ка, ведь только утром корм сыпали…
У самых мостков на мгновение мелькнул темный хвост, быстрым ударом разрезал воду.
И вот уже видно: из середины пруда, из глубины, полукругом, торопливо плыли карпы, привлеченные плеском воды. Темные, жирные, тупоголовые. У самой поверхности зачернели спинки, плотные короткие тела, словно десятки огромных запятых. Вот они остановились в ожидании чего-то. Медленно открывают круглые глупые рыльца. Тяжело приподымаются и опускаются жабры.
Магда шевельнула корзиной. Вода заплескалась. Карпы мгновенно бросились в разные стороны. Блеснули светлые бока, золотистые кружки крупной чешуи. Вот опять они собрались стайкой, уставя свои выпуклые глаза.
Сквозь ивовые прутья вода вливалась в корзину, как сквозь сито. На поверхности всплыли мелкие картофельные очистки. Магда несколько раз встряхнула корзиной. Вода вспенилась, замутилась илом. Глинистые струйки сочились из корзины, смешивались с темной водой. Она тщательно полоскала очистки. Кабанчик растет, ему нужно все больше корму. Да и привередлив же! Вот и очистки приходится мыть для него чище, чем, к слову сказать, для батрацких детей. Те все съедят, было бы что.
Карпы немного отплыли и неподвижно стояли в воде, в нескольких шагах от нее, откормленные, дышащие сытостью и все же вечно голодные.
Женщина вздохнула. Большая, намокшая корзина оттягивала руки. Она поставила ее на мостки, чтобы стекла вода. Ей не хотелось уходить. Кровь лениво двигалась в одеревеневших ногах. Вот уже с месяц, как они так деревенели, набухали синие желваки жил, нестерпимо болели. А ведь до конца еще далеко. По ее подсчетам, этак к Мартынову дню. Хотя с этими подсчетами тоже всяко бывает! Вот у Курков Тереска говорила, что ожидает к святому Яну, а родила в мае, и ребенок здоровый, как следует доношенный.
Магда повернула обратно к баракам. Мокрая корзина еще больше оттягивала руки, заставляя перегибаться на бок. Она еле переставляла ноги.
На дороге, от пруда к лесу, со стороны усадьбы появилась барышня верхом. Весело пофыркивал конь, до блеска начищенный, золотистый и такой гладенький, что сердце радовалось. Узкая в талии и широкая книзу юбка амазонки прикрывала бок лошади и мягкими складками падала на круп. Светлые волосы барышни выбивались из-под черной шляпы.
Магда поставила корзину и согнулась в низком поклоне, хотя ей мешал тяжелый живот, который она тащила перед собой, будто ящик. Барышня взмахнула стеком, на металлической рукояти вспыхнули солнечные иглы. Лошадь зашагала быстрей, грациозно вскидывая породистую голову.
Потом и перед Кшисяком возникло это светловолосое видение. Он торопливо сдернул с головы шапку, за ним Сташек. На мгновение оба прервали работу. Погонщик завороженно смотрел на золотой круп лошади, на тоненькие ноги. Они ступали до того легко, что даже не поднимали пыли.
— Барышня поехала.
— Вижу небось.
Они смотрели ей вслед — все трое: Магда с пруда и эти оба с полосы, которую они уже допахивали. Смотрели с шапками в руках, согнув спины.
В восхищенных глазах Магды все еще стояло лучистое сияние барышниных волос. Они виднелись из-под круглых полей шляпы, искусно уложенные в ровные волны, словно зыбь на воде. Магда вздохнула и поправила платок на своих редких тусклых волосах. Ее глаза еще уловили блеск лакированных сапожек. Барышня исчезла в легком осеннем тумане, вся сверкающая — волосы, стек, лаковый сапожок.
А Магда потащилась по тропинке в гору, к баракам. Наболевшие ноги сами выбирали места поудобней, обходя комья засохшей глины и камни. Взяв корзину в другую руку, она размышляла — дать ли кабанчику все сразу, или оставить половину на завтра. Но едва она переступила порог, кабанчик так захрюкал под нарами, где он сидел, отгороженный доской, что Магда сразу растаяла.
Растопив печку, всыпала в железный котел очистки.
Она отодвинула доску. Кабанчик с радостным похрюкиванием мелкими шажками выбежал из своей тюрьмы. Магда потрепала его по щетинистой, жесткой спине. Он потерся об ее руку и, тыкаясь пятачком в землю, смешно семеня, несколько раз обежал комнату. Вскоре он нашел у стены то, что его больше всего интересовало — сырой подтек, издававший запах навоза. Здесь вдоль стены барака проходила сточная труба, которая отводила навозную жижу из коровника в большую яму. Всегда там было что-то не в порядке, из трубы подтекало под стену барака. Кабанчик погрузил рыльце в липкую грязь и стал с чавканьем подкидывать головой.
— Ну, ну, — покрикивала на него Магда. — Не рой! Не рой! Всю избу запаскудишь! Не рой! Тебе, неслух, говорю! А то опять под кровать запру!
Поросенок на мгновение поднял на нее маленькие с белесыми ресницами глаза.
— Тю! Как это оно глянуло! Не рой, тебе говорят! Сейчас очистки сварятся.
В котле уже поднималась серая пена, на ней вскакивали пузырьки, лопались, сердито шипели, брызгая на горячую плиту.
— Видишь, варится, оглянуться не успеешь — закипит. На столько-то у тебя терпения хватит, — уговаривала Магда поросенка, который не переставал рыть землю.
Магда отодвинула его рукой от стены. Поросенок подбежал к нарам и стал чесаться боком о деревянную ножку.
— Вот видишь, нечего рыть. Было бы у меня хоть столечко муки, я бы тебе и мукой заправила. Да чего уж, сожрешь и так.
Она озабоченно взглянула на животное.
— Все тощий да тощий, ты бы поглядел у Пентеков — кабанчик, что твой бык, а ведь ему столько же времени. Все жрешь да жрешь, а толку от тебя чуть.
Магда слегка подтолкнула поросенка ногой.
— Не мешай-ка, не мешай. Надо ведь и мужику чего-нибудь сварить. Полдень-то вот-вот.
Она уселась на низкой треногой табуретке, вырубленной из пня, и принялась скоблить картошку. Быстро плюхались мелкие картофелины в ведерко, наполненное мутной, затхлой водой, еще с утра принесенной из пруда.
— Не горюй, не горюй. Сам видишь, как я тебя жалею, — твое варево уже кипит, а наше еще только готовлю. Уж я тебя не забуду, — монотонным голосом уговаривала она поросенка, с беспокойством поглядывая, как бы он не вырыл слишком уж большую яму.
Работая ножом, она изредка посматривала в маленькое мутное окно. Одно стекло было выбито, и отверстие заткнуто тряпкой. Холода еще не наступили, но ветер дул с этой стороны. Того и гляди, замерзнешь ночью.
Мало что видно было из этого окна. Стекла, словно глаза, затянутые бельмом. И мыть даже не стоит.
Она скребла картошку и напевала тихонько тоненьким голосом. Хоть и не годилось петь замужней женщине, не вчера ведь ее отдали. Девичье это дело. Но Магда привыкла еще с той поры, когда пасла коров. Длинные, длинные скучные дни. И в ясную погоду и в ненастье, в жару и в холод, изо дня в день приходилось пасти коров на большом выгоне, на лугу у леса, на косогоре между кустами можжевельника. Девочки и мальчики. И они пели тогда эти песни, обычные деревенские песни, и время не так тянулось. Все поживее шло.
Издалека-издалека отвечали другие голоса. Тоненькие, их едва доносило ветром. Это пели другие дети, из деревни, из соседнего имения, пастбища которого близко к ним подходили.
И тогда ей казалось, что живется плохо. Коротки были детские радости. А больше было горестей. То корова хлеб потравила, то стадо клевер вытоптало, а приказчик строго наказывал смотреть за скотиной. То ногу наколола, то пальцы потрескались от стирки тряпья в ручье. Больно было, до смерти.
А там надо было щипать перо и лущить горох, собирать камни вслед за плугом и складывать в кучу. Работа всегда находилась. А выдастся свободная минута поиграть с детьми, тут уж обязательно что-нибудь случится. И пошел в ход ремень.
Но Магда давно уже замужем. Теперь ей казалось, что тогда не так уж и плохо было. Голова была посвободнее, и всякий пустяк радовал. К тому же тогда казалось — все впереди, кто его знает, что еще может в жизни случиться. А теперь известно — больше случиться нечему. Как в девичьей песне поется:
Не то чтобы она когда с ними болтала. А все же замужество, далекое и неведомое, казалось тогда заманчивым. Кто его знал, что оно принесет с собой.
Теперь все известно. Как на ладони видела Магда всю свою будущую жизнь. Прямая битая дорога от нынешнего дня и вплоть до конца, барачная жизнь. Изо дня в день одинаковая.
Лишь одно могло еще что-то изменить — дети. Ее несказанно печалило, когда прошло два года — и всё ничего. Ясек, тот не слишком огорчался. А ей уже и людей стыдно было. Хотя как поглядишь кругом, так сколько с детьми горя и хлопот. И все же Магде хотелось ребенка. Пусть бы себе жил, пусть бы пищал в избе. Свой собственный, родной.
И вот теперь он должен появиться. И сразу же — новая забота. Люльку хотелось Магде ему приготовить. Доски были, Антон обещал помочь Кшисяку. Сам предложил. Оно как-то неловко, что об этом говорят, хотя все равно уж всякому видно, и как еще видно. Но это свое, домашнее дело между мужем и женой, чужих в него нехорошо путать. Не то чтобы стыд какой, — у нее законный муж. Но бабы неохотно говорят о таких вещах — разве между собой, когда сойдутся кумушки. А так — нет.
Но вот куда поставить люльку? Они с Ясеком спали на нарах. Сташек стелил себе на полу. У Маликов, мужа с женой, были другие нары, но Малик так раскидывался во сне, так его душил кашель, что Маличиха уходила от него на лавку. Лавка была широкая, сколоченная из двух досок, спать было можно. А у Маличихи сон крепкий: только подложит кулак под голову, сразу же захрапит, словно бог весть на каких перинах, на мягчайшей подушке.
Малики, пожалуй, не очень рады, что в каморке еще человек прибавится. Каморка маленькая, тесная. Но ничего пока не говорят. Да и что скажешь — дети божье благословение. Да и знали они, как Магда тужила, как ждала этого ребенка. Сами они старые, их дети выросли, ушли на сторону, и ни слуху ни духу о них. А теперь вот снова начнется детский писк и щебет. Впрочем, бывает и хуже. Вот в соседних каморках народ как теснится. У всех дети, у кого двое, у кого четверо, — а у них до сих пор ни одного ребенка не было.
вспомнилась Магде песенка. Да вот где взять беленого полотна? Она снова посмотрела в окно. Небольшой квадрат, разделенный на четыре стекла. За ним простирался батрацкий мир. Тесный, отгороженный нерушимой границей. И дальше — ни шагу. Здесь, в этих тесных границах, кипел рабочий день, не давая и глянуть куда-нибудь в сторону.
По одну сторону — бараки. Перед бараками — вымощенный булыжником двор. Дальше конюшня и колодец. Коровники. Тут же, напротив, несколько ясеней, а за ними забор и решетка, господский огород, господский сад.
Господского дома отсюда не видно, его заслоняют деревья, амбары и сараи.
А по другую сторону пруд широко разлился; неподвижный, сонный. Он одинаковый и в солнечный день и в ненастье.
Пруд — это великий соблазн для детей. Впрочем, и для взрослых.
Не один из них раздумывал, ломал себе голову, как стащить рыбину. Хоть разок бы!
И расположен этот пруд, как назло, так, что сам на глаза лезет. Бараки мутными глазами маленьких окон смотрели прямо на него. Стоило выйти за порог, как в ноздри врывался сырой, гнилостный запах. Мимо пруда приходилось ездить в поле, мимо него возили дрова из лесу, поросят с ярмарки. Большой, темный, спокойный, он вечно стоял перед глазами на горе и соблазн человеку.
Днем трудно было что-нибудь сделать. Вокруг полно народу. То управляющий, то приказчик, то рабочие из усадьбы идут. Да в конце концов разве можно знать, кого следует опасаться? Всюду могут быть лишние глаза. У кого-нибудь на тебя старая обида — возьмет да скажет управляющему или пустит слух между рабочими, а там и до усадьбы дойдет. А то и так, чтобы подлизаться к управляющему или к самой помещице, возьмет да и скажет.
Ведь перед всяким, словно ежегодно возвращающийся призрак, стоит срок: Михайлов день.
Нет, не сладко жилось в усадьбе, не сладко. Да и где было сладко? Вот каждый и цеплялся за свое место, как пьяный за забор. А уж у кого детишки, тот над этой своей месячиной дрожал, будто над каким сокровищем.
Да и то сказать, лучше барачная крыша, чем вовсе без крыши над головой.
Так что — днем и думать нечего. Да и ночью не просто. Арендатор не дурак. Он хорошо заплатил хромому Маньчаку из деревни, тот и сторожил. Будку ему поставили на той стороне пруда, а мужик он упрямый, всю ночь либо шатается у пруда, либо притаится в будке, готовый выскочить каждую минуту.
Этот Маньчак немного придурковат, и братья его только радовались, что он не сидит в избе, а большую часть дня толчется у пруда. Но по-своему и он кое-что соображал. А с тех пор как батраки его однажды поймали, избили и вдобавок вытащили сетью из пруда немного рыбы, он еще более ожесточился. Он не видел, кто его побил, но прекрасно понимал, что, кроме батраков, некому.
Управляющий дал ему старое ружье. Он зарядил его не пулей, а солью и дробью. И только посмеивался про себя, шатаясь с ружьем около пруда и высматривая любителей рыбы.
Из взрослых никто больше рыбой не соблазнялся. Но детей тянуло так, что просто невмоготу. По целым часам они выстаивали на берегу, на той стороне пруда, где проходила дорога. Маньчак кипел от злости, но что он мог поделать? Стоять на дороге никому не запретишь.
Вот они и стояли, целыми днями глазея на крупных, жирных карпов, назло, будто в насмешку, плавающих у самой поверхности воды. И примеривались, соображали, — известно, дети.
Днем Маньчак не очень-то следил. Знал, что взрослый в пруд не полезет средь бела дня. Вот одни ребятишки только и пытались.
Сынишка Антона, Вицек, сделал крючок из булавки. Накалывал на этот крючок червяков и забрасывал его на веревке в воду.
Но карпы не клевали. То ли были сыты, то ли уж очень хитры. Ткнется один, другой носом — у Вицека сердце екнет — и ни в какую. Карп лениво плывет дальше, как бы нехотя пошевеливая в воде хвостом.
Пробовали ловить корзинкой. Пробовали глушить рыбу камнями. И все зря. Но они упорствовали. Магда смеялась, глядя, как изо дня в день то один, то другой пробирается к пруду. И так было всегда, сколько она себя помнила. Каждому казалось, что как раз ему-то и посчастливится. Удастся. И они совещались. Обсуждали, как быть, если они поймают такую рыбину, что и не поднять, совещались — треснуть ли ее поленом по голове, или полоснуть ножом.
Уж и было хлопот этим ребятишкам. И туда и сюда тянет: во все стороны глаза разбегаются.
Ведь был еще и господский дом. С тех пор как у помещицы помер сын, она смотреть не могла на детей и гнала их от крыльца. Они шмыгали мимо дома быстро, не останавливаясь.
— Занавеску видел?
— Это какую?
— Белая, в окне висит… Будто… будто снегу на куст нападало, знаешь?
— Э, снег! Не верь ты ему! На ней цветочки, беленькие, беленькие.
— Я и говорю, как снег.
— Цветочки, говорю тебе, а не снег!
— А в комнате, там что-то такое золотое на стене висит.
— Ну да! Был ты в комнате!
— Не был, да в окно видел.
— Брешешь, аж дым из носа идет. В окно ничего не увидишь.
Дети прямо бредили господским домом. Занавески на окнах, что-то золотое на стене. Они внимательно слушали, когда кто-нибудь из дворни рассказывал об усадьбе. Это был иной мир, как в тех сказках, которые иногда рассказывала старая Янтошка. Иной, не барачный мир, не деревенский. Иной, иной мир. Господский, помещичий.
Усадьба была для батрацких детей более недоступна, чем та избушка на курьих ножках, которая в Янтошкиной сказке качалась на ветру посреди моря.
День у батрака тоже был другой, чем у господ. И другой, чем у деревенских. В нем было восемнадцать часов. Не больше и не меньше. Зимой его несколько сокращали поздний рассвет и ранние сумерки.
Но весной, летом и осенью было именно так. Восемнадцать часов. Рабочий день разбухал. Рос. Тащился длинной, потной цепью. Переваливался мокрыми пластами земли, врывался в ноздри острым запахом конюшни, пылил в глаза проселочной дорогой, сгибал спины под тяжестью снопов. Он кипел, клокотал, шумел битых восемнадцать часов.
Утро начиналось до рассвета. В темном небе медленно тонули звезды. Они погружались в чуть-чуть бледнеющую бездну, простертую над землей. Вдали на востоке, словно отблеск далекого пожара, появлялась узкая, рыжая, мрачная полоса.
Это вставал барачный день. Скрипел журавль у колодца, с визгом распахивались двери, слышались шаги на мощеном переходе в конюшню.
Светало медленно. Рыжая полоса светлела, становилась розовой сияющей мглой. Небо белело. На небосклоне, над чернеющим вдали лесом, словно алмазный гвоздь, мерцала единственная звезда.
Раздавалось пофыркивание лошадей, скрежет вытаскиваемых во двор телег, позвякивание ведер, в которые погружались бархатные конские ноздри, похрустывание овса на конских зубах.
Мир был сед от росы. Каждый шаг оставлял на траве четкий след, словно отпечаток на снегу. Только этот след был темный, зеленый, мягкий.
Из дверей выползали заспанные дети, направлялись по своим делам к стене барака, почесывая растрепанные головы и выбирая соломинки из спутанных волос. Потом они медленно семенили обратно, тащили охапки расколотых дров, нарубленных еловых ветвей, — женщины растапливали печи.
Но синий дымок еще не успевал подняться тоненькой струйкой из труб, а телеги уже выезжали в поле, вдали покрикивали мужики, двор пустел.
Теперь женщины отправлялись в коровники убирать навоз, доить коров. Когда первый луч солнца появлялся на шпиле костела, превращая его в золотистую иглу, вонзенную в небо, порядочный кусок барачного дня уже был позади.
Так он и катился, неудержимо, час за часом, оставляя грязь под ногтями, приклеивая к спине посконные рубахи, набухая толстой жилой на лбу, тяжело дыша утомленными легкими.
И не диво. Ведь он был оплачен, этот барачный день, куплен по договору, незадаром.
За барачный день давали крышу над головой и четыре стены. Они плотно охватывали четверых, пятерых взрослых, а мелкоты — не сосчитать. Стены охватывали нары по обе стороны каморки и постель на глиняном полу, где спали те, кто не помещался на нарах.
За барачный день давали полморга[12] земли под картофель. Не пустяк ведь — полморга земли.
А земля — это всегда земля, пусть она даже размокла от гнилой воды у пруда, пусть рассыпалась летучим песком, пусть слипалась бесплодной глиной. Все же — она земля, кормилица, родная сестра обширных помещичьих полей.
Давали еще за барачный день сена для коровы, какое-нибудь ведерце помоев, немного рубленой соломы, только бы скотина не подохла, потому грех не дать скотине корму. А какой уж это корм, — ничего не поделаешь. И корова ведь батрацкая.
Давали дровец, чтобы жене батрака было чем протопить печь, — сварить картошки, супу из крапивы ранней весной, яблочного супу из отбросов господского сада — осенью. Сырые зеленые еловые ветки или гнилые пни вербы, покрытые корой обрезки досок из лесопилки.
Барачный день оплачивался восемью четвертями зерна в год. И хотя зерно зерну рознь, но — восемь четвертей, так уж положено. Иногда хлеб чернел спорыньей, иногда был съеден ржавчиной или перемешан с серыми зернышками куколя. Но в хороший год случалось, что он сверкал чистым золотом крупных, полных зерен. Да еще вдобавок за барачный день давали восемнадцать рублей в год жалованья. Жалованье, завернув в платок, прятали глубоко в сундук, за икону, кто куда.
У каждого было свое хитро придуманное местечко для этих рублей. Потные, красные от натуги были эти рубли. Их надо было хорошенько спрятать, хорошенько скрыть, чтобы ничей глаз не соблазнился батрацким рублем.
Таков был барачный день. Для мужика, для бабы, даже для ребенка.
Мужик пахал, сеял, косил, молотил, рубил лес. Женщина доила, обряжала корову, жала, полола, теребила, пряла. Ребенок пас скотину, гусей, убирал усадебный двор, носил воду. Едва научившись ходить, ребенок уже начинал понимать, что он целиком барачный.
Навсегда барачный — с рождения и до смерти. Ребенок быстро входил в распорядок восемнадцатичасового рабочего дня. Как отец, как мать, как все. Так уж положено было батраку.
В деревне жилось веселее. Огромное расстояние отделяло деревню от бараков, хоть и казалось, что они расположены рядом. Иначе одевались в деревне, иначе жили. В деревне у самого что ни на есть бедняка была хоть какая-нибудь изба. Пусть осенью сквозь дыры в крыше дождь капает на голову, все-таки своя изба. Совсем другое дело.
Были среди батраков и такие, которые раньше хозяйничали на своем клочке земли. Если не у них самих, так у отцов был клочок, вот как у отца Кшисяка. Но Магда, та из батраков. Она родилась в бараках, как теперь будут рождаться в бараках ее дети.
И ей, может, больше, чем другим, хотелось поболтать с деревенскими, заглянуть в избу, как они там живут.
Но деревенские женщины недружелюбно относились к этим ее попыткам. Оно понятно, для них Магда просто нищая. На господской работе. В услужении. Куда ей до деревенских!
И все же ее тянуло. Она часто стояла перед бараком, когда деревенские ехали в костел. Посмотреть. На девушек в красивых шелковых платочках. На богато одетых баб. На мужиков в теплых куртках. Весело едут. У иных лошадь откормлена, будто помещичья. Бичами щелкают.
А то еще, когда из города ворочаются. Накупили всего на ярмарке. Разного добра. Видала она в городе, как они ходят между лотками, перебирают, торгуются с продавцами. Баранок для детей. И крупных с маком и этих мелконьких, нанизанных на веревочку. Лент для девчат. Разноцветных, переливающихся всеми красками. Ни на что это не нужно, так только, чтобы быть понаряднее. Но деревенские могли себе и это позволить. Или кораллы бабам. Но на это уж надо страсть сколько денег. Да что ему, когда у него есть.
У Магды глаза разбегались. Деревня и усадьба. И тут и там совсем иная жизнь. Сытая, веселая. Хотя у помещицы веселости и не заметишь. Видно, уж так привыкла, что и не чувствует своего счастья.
Бараки стоят между усадьбой и деревней. Ниже, чем деревня, ниже, чем усадьба. Деревня взобралась высоко на пригорок, и усадьба возвышалась над бараками, над спускающимся к пруду оврагом.
Деревня грелась на солнце, и усадьба грелась на солнце. Но между бараками и солнцем нависали смрадные испарения пруда, вечно дымящиеся нездоровым туманом.
В бараках осенью, как и круглый год, было все одно — работа и работа.
А в деревне уже почти отработались. И теперь играли свадьбы. Не так и много, как на масленицу. На масленицу тут уж все побегут давать оглашения. Теперь женились лишь те, кому не терпелось, кто не хотел больше дожидаться.
К костелу, с пением, с музыкой, с криком ехали на телегах. Над ушами у лошадей бумажные розы, в гривы вплетены яркие бумажные жгуты. Невеста ехала в миртовом веночке, у жениха миртовый букет. Волей-неволей приходилось им ехать мимо бараков. И все из бараков на них глазели, а уж Магда больше всех.
В костеле, там еще ничего. Известно, венчанье как венчанье. А вот потом! Даже сюда, вниз, доносились музыка, пение. Веселились деревенские.
Магде вспомнилась ее собственная свадьба. Вроде все было, как полагается. И дружки и миртовый венок. Только они с Ясеком не поехали на телеге, помещица лошадь не дала. Да, впрочем, отсюда до костела близехонько.
Был и свадебный калач, и пива Ясек купил, и бутылочку горелки крестный принес. А все же не то. Каждый бы сразу понял, что это не деревенская свадьба, а батрацкая. Не такое веселье, не такие пляски, не было на другой день пира, ничего этого не было, хотя ведь человек раз в жизни женится, и такой уж обычай, чтобы в этот день ничего не жалеть. Один раз в жизни.
Но как тут жалеть или не жалеть, когда не из чего. Хоть стену головой прошиби, — не поможет.
Вроде и весело было на этой свадьбе, а все же Магда поплакала в уголке. Сама не знала о чем. То ли о Флориане Зеленке, то ли о девичьей жизни, которая теперь навек окончилась, то ли из-за этой свадьбы, что она не такая, какой могла бы быть.
Вот потому ей и интересна была теперь всякая свадьба.
А уж когда узнала, что выходит замуж брончаковская Марина, она весь день успокоиться не могла.
Флориан собирался жениться на Марине еще до знакомства с Магдой. Впрочем, потом, когда узнал, сколько старики дают за Каськой, он взял за себя Каську.
А Марина выходила теперь за Гулька, которого прозвали «рябой» — все лицо в рябинах. Но веселый парень, учтивый.
Утром они проехали в костел, потом из костела. С кучей народа, с пением. Рассказывали, что старый Брончак полную телегу выпивки привез из города. Что будут гулять три дня и три ночи.
Магду так и подмывало посмотреть на эту свадьбу.
Никто ее туда не звал, — как можно, из бараков-то. Замуж выходила крестьянская дочь из крепкого хозяйства за сына зажиточного хозяина. Куда ж тут звать батрачку!
Но можно ведь поглядеть. Там уже стояла куча ребятишек. Магда протиснулась вперед. В окно было все видно. Народу в избе — страсть, битком набито. Прямо против окна сидели музыканты.
Уже издали было слышно, как гудит изба. Тоненько плакали скрипки. Упрямо, монотонно, размеренно гудели басы.
Говор и шум доносились из избы, из раскрытых сеней, слышались возгласы, притоптывание. Народ веселился вовсю. Как же иначе? Хозяйская дочь выходила за самостоятельного хозяина. Магда прильнула лицом к стеклу. Но лампа горела тускло, было темно от табачного дыма, не все удавалось рассмотреть. Да еще стекло запотело, ночь была прохладная.
— Ну и танцуют!
— Гляди, Каська-то!
— Крутит ее, как старую метлу!
— Матусиха! Ишь, разобрало ее, старая баба в пляс пустилась! Гляди, как задом вертит!
Под окном тараторили, смеялись, взвизгивали. Но потихоньку. Чтобы кто-нибудь не выскочил из избы и не прогнал. Ведь всякому любопытно. Всякому охота хоть музыку послушать.
Гудели басы. Стучали об пол сапоги. У Магды заболели глаза. Она умаялась за целый день, хоть сейчас усни.
Но танцующие на мгновение приостановились, в окне перестали мелькать развевающиеся юбки. Жених стоял перед музыкантами.
Магда закрыла глаза. Каковы они, эти дальние края? Что это за края?
С болью припомнилось что-то, она сама не знала что. И на ее свадьбе тоже пели эту песню, хотя это была и не такая шумная, веселая, многолюдная свадьба. В бараках все иначе, чем в деревне, у хозяев.
Но пели точь-в-точь: «Люба, сядем в санки рядом…»
Хотя дело было не зимой. Но так уж было принято, играть эту песню на свадьбах. Свадебная песня. Вроде и печальная, вроде и радостная. Но сегодня она показалась Магде и вовсе печальной. Где это, где — тот дальний край? Бараки и пруд, усадьба и костел — вот и все. А где же дальний край? «Там богатый урожай» — поют. Высокая, должно быть, колосистая пшеница… Да что с того? Нет у Магды своей земли… Тут и дальние края не помогут.
В избе играла музыка, все танцевали под мотив, который спел жених.
Но Магда уже ничего не видела.
Ей стало теперь стыдно, что она вместе с детьми и подростками стоит под окном. Если бы кто из избы увидал, мог бы подумать, что ей свадебного калача захотелось.
Она пошла обратно, в холодную, темную ночь, вниз, к пруду, к баракам.
Далеко слышно было, как шумит свадьба. Магда уже не различала отдельных звуков, но гудение все слышалось. Размеренное, однообразное, непрестанное.
Кто-то, верно, вышел сейчас на порог. Черная фигура выделялась на фоне освещенных изнутри сеней. Магда ясно увидела ее, когда еще раз обернулась назад, перед тем как свернуть к баракам.
Это Флориан Зеленок пел. Женатый мужик, а ни одной свадьбы, ни одной вечеринки не пропускал. Явственно доносился его высокий голос. Флориан Зеленок и раньше хорошо пел.
Магда ускорила шаги. До самой глубины сердца пронизывала ее непонятная печаль. О чем и почему, она сама не знала. Ведь она не жалеет, что не вышла за Флориана. Так о чем же тогда?
Она свернула к пруду. Запах гнили уже чувствовался в ночном мраке.
Может, это оттого, думала она, что все всегда так одинаково: пруд, бараки, господское поле? Что она никогда, никогда не увидит, каковы эти чужие края, чужой мир. Но для нее весь мир был чужой. Разве было у нее что свое? Только одежонка на плечах. Больше ничего.
А все же было жаль чего-то, хоть нечего было жалеть. На глаза навертывались слезы, хоть не о чем было плакать. Она бежала домой, сердясь на себя, что пошла в деревню.
Хозяйская, зажиточная свадьба. Что ей до этого!
Она ворвалась в свою каморку как угорелая и принялась яростно мыть посуду, которая стояла немытая с самого полудня.
II
Шлюз открыли. Вода вздулась пузырем, словно бабий подол от ветра, с шумом влилась в ров, наполнила его до краев мутным потоком. Потом пошла медленнее, ровнее и, спадая, оставляла на дерне берегов влажный след. Потом стала тихонько журчать. Растеклась ручейками и вскоре лениво заструилась, извиваясь по самому дну рва одной-единственной прядкой.
Толпы батрацких и деревенских ребятишек облепили низкий вал у рва, полезли с другой стороны пруда, отгороженной плетнем. Высыпали и мужики, жадно поглядывавшие на спущенный пруд.
Шлюз открыли утром, едва только начало светать. Арендатор приехал еще с вечера. Всю ночь он пил с управляющим. В бараках слышно было, как управляющий пел тоненько да жалобно — по-русски. Он, когда напьется, всегда поет по-русски.
Теперь он тоже тут. Хоть и не его дело, а все равно присматривает. С арендатором у него свои дела, о которых в усадьбе не знают, вот он и подмазывается.
Сеть в отверстии шлюза, вздутая напором воды, уже опала, опустилась вниз. С нее свисали водоросли, словно волосы колдуньи.
К полудню воды в пруде осталось по щиколотку. Показалось дно, остававшееся невидимым целый год. Обнажились разбросанные там и сям камни. Любопытным глазам открылись илистые котловинки, старые, вросшие в ил щепки, слои водорослей. У берега валялся старый ржавый горшок без дна. Арендатор показывал управляющему на голубой эмалированный ободок, предательски торчавший из грязи, и сердито теребил свои длинные усы. Управляющий грозил кулаком бабам, собравшимся на берегу. Это их проделка, а ведь он строго приказывал ничего не бросать в пруд, не грязнить воду.
На всей площади огромного болотистого пруда остались, наконец, только лужицы в ямках. Эти маленькие водохранилища кишели рыбой. Рыбы, как черви, переползали друг через друга, беспомощно трепыхаясь, в тупом изумлении. Впрочем, рыба была всюду, она ползла по жидкой грязи, выискивая, где бы замочить тяжело дышавшие жабры.
— А ну, за работу! — скомандовал приказчик, который ретиво суетился вокруг управляющего. Мужики уже стояли наготове. Кто голый по пояс, кто в рубахе. Широкие посконные подштанники были засучены высоко над коленями, обнажая худые, обросшие волосами ноги.
Сперва входили осторожно. Под ногами неприятно чавкала грязь, издавала странный, хлюпающий звук — не то стон, не то вздох, — когда из нее вытаскивали ногу.
Рабочие брали скользкую, жирную, уже слабо вырывавшуюся рыбу и бросали ее в корзины, которые держали в руках. Мальчики принимали корзины и стремглав неслись к берегу, где стояли кадки с водой. Сначала пытались выбирать рыбу из более удобных мест, из воды. Но арендатор прикрикнул, чтоб сперва выбирали из грязи. Пальцы рылись в вонючем иле. Взятая отсюда рыба вся была в липкой грязи, крупная чешуя едва просвечивала.
Рыба постепенно перестала кишеть. Кадки заполнялись одна за другой, рыбы в пруду становилось все меньше.
— Угорь! Угорь!
Он быстро полз по грязи к спасительной луже. Мальчишки подняли крик. То один, то другой безуспешно пытался схватить скользкое, извивающееся туловище. Наконец, с берега бросили сачок и поймали в него беглеца.
Изредка попадались караси, то тут, то там кто-нибудь брал в руки золотисто-зеленого линя. Но больше всего было карпов — крупных, жирных, плоских.
Спина уставала ежеминутно наклоняться, болела. Но теперь начиналось самое трудное. Рыба зарылась в грязь, исчезла в густой жиже. Приходилось разгребать пальцами грязь, как граблями. Конечно, граблями было бы скорее, но управляющий запретил, чтобы не повредить рыбу. Грязь забиралась под ногти, въедалась в потрескавшиеся, всегда чем-нибудь пораненные руки.
Дети радостным криком встречали каждую найденную в грязи рыбешку, — известно, дети…
Теперь рабочие по одному выходили на берег, вымазанные вонючей грязью. Еще нужно было рассортировать мелкую, среднюю и крупную рыбу по огромным кадкам, которые тут же грузили на телеги. Линей и карасей отдельно. Угря арендатор подарил управляющему. Толстый был угорь, хоть и верткий, как змея.
С рыбы смывали грязь и бросали ее в кадки. Аж глаза разбегались от этого богатства. Сотни, сотни рыб. В глазах двоилось и троилось от долгого гляденья на эту сверкающую подвижную массу. Освободившись от грязи, рыба весело плескалась в кадках. То одна, то другая так шлепнет хвостом, что кругом брызги летят на людей, на лошадей, на телегу.
Арендатор что-то записывал мелкими буковками в своей книжечке, переплетенной в черную клеенку. Он внимательно следил за рыбой, казалось, у него тысяча глаз. При сортировке за людьми особенно наблюдали. Они работали теперь плотной кучкой, не так как на пруду, и кто-нибудь мог незаметно стащить рыбину.
Кшисяк усердно перекладывал самых крупных карпов из ведра в кадку, но думал все об одном. Как освободиться до обыска, которым заканчивалась работа, от карпа, чье холодное, скользкое прикосновение он чувствовал на голом теле, в подвернутой штанине. Когда все были заняты погоней за угрем, ему удалось незаметно засунуть карпа за пояс. Теперь он опустился ниже и трепыхался в штанине так сильно, что мужику приходилось двигаться осторожно, потихоньку, чтобы незаметно было, как шевелится рыба при каждом его шаге.
Хороший был карпик — не из самых крупных, даже и не из средних, на такого Кшисяк не посмел бы посягнуть: как его спрячешь, сейчас же заметили бы. Но все же ничего себе карп. На темном гладком боку ровная золотистая чешуя. Круглый, хорошо откормленный. Кшисяк размышлял, как Магде его приготовить, чтобы было повкуснее. «Зажарить бы, — управляющий, тот всегда ел жареных. Да жарить-то на чем? Хоть бы уху сварить», — думал он, опуская в кадку огромного карпа, пожалуй кило три весом.
Как назло Магды не видать поблизости. Может, удалось бы как-нибудь пустить рыбу в траву, в конский щавель, который рос тут повсюду. Баба подняла бы, и кончено дело. А так еще кто-нибудь заметит, да и заберет себе. Небось не пожалуешься. Ведь краденое, — всякий может побежать, донести — и все пропало.
Арендатор был доволен. Но для виду, чтобы не повысили аренду, крутил носом и рылся в рыбе, как в прошлогодней соломе. По условию, в течение года, в определенные дни, усадьба брала к обеду рыбу из пруда. У арендатора сердце болело из-за этих карпов. Он уже раз десять подходил к стоявшей поодаль кадке, где они лежали отдельно, качал головой и вздыхал.
Кшисяк помогал Валентину поднимать на телегу большую кадку. Они осторожно присели, чтобы она не качнулась. Кадка стояла прочно. Измазанными грязью руками они отирали со лба пот, когда к Кшисяку вдруг подошел управляющий. Он ничего не сказал, а неожиданно пнул мужика в ногу. Кшисяк побледнел, по лицу управляющего понял, что он уже знает.
— Вор!
Обороняющимся жестом Кшисяк протянул руки вперед. Арендатор торопливо кинулся на крик.
— Рыбу украл?
— Рыбу. Видите, как она у него трепыхается.
Кшисяк подвернул штанину. Карп скользнул вниз и выпал на траву. Не из самых крупных, нет, даже не из средних, но ничего себе карпик. Он лежал на траве и тяжело раскрывал жабры. Открывал и закрывал круглый рот. Золотая чешуя лоснилась на темном боку.
Кшисяк стоял и смотрел.
Стало тихо. Даже возчик, с кнутом в руках, отошел от лошади и остановился, ожидая, что будет.
Батраки столпились у телеги и тупо смотрели на карпа. Словно только он, один-единственный, и был в нынешнем улове. Самый важный.
Притихли ребятишки, уже раньше отогнанные приказчиком на другую сторону дороги, чтобы не путались под ногами.
— Чего мешкаешь? Скорей бросай в воду, и так еле дышит.
Кшисяк нагнулся. Медленно. Ах, как не хотелось ему разгибать спину. Он несколько мгновений смотрел на стебли травы. Ему казалось, что прошло уже очень много времени. Если бы можно было не поднимать головы, если бы не надо было глядеть на рожу арендатора, который дергал свой черный ус, на длинный нос приказчика, на круглое лицо управляющего! Кшисяк осторожно взял в руку карпа. Ступил шаг к телеге, чтобы опустить в кадку… В голове у него мешалось — где мелочь, где средняя, где крупная рыба.
— Не сюда! Ослеп? — с подавленной злобой прошипел управляющий.
Он бросил карпа куда следовало. Теперь пришлось обернуться. Он стоял один перед всеми. Слегка прислонился спиной к телеге.
Управляющий ступил шаг вперед. И еще шаг. Теперь он стоял прямо против Кшисяка.
— Рыбки захотелось, сукин сын? А картошку жрать не угодно? — заорал он, и его лицо залилось краской.
И хлестнул по морде. Коротко. Жестоко. Решительно. Потом еще раз. Его охватывало бешенство.
— Рыбки захотелось? — повторил он хрипло.
Золотые искры заплясали в глазах. Покорно согнувшись, Кшисяк отошел в сторону. Ему хотелось расплакаться, как малому ребенку. Он поглядел в сторону бараков.
— Куда? За работу! — как бичом хлестнул его голос управляющего.
Он вернулся и принялся выбирать рыбу из ведер, перекладывать в кадку. Мелкую, среднюю, крупную. По порядку. Как полагалось.
Толпа батраков притихла. Теперь уже ничего не было слышно, кроме сердитого посапывания управляющего и плеска рыбы, падающей в кадки. Ребятишки рассеялись во все стороны, кто к баракам, кто в деревню.
Опустевший пруд испускал нестерпимый смрад под лучами догорающего солнца. Водоросли быстро высыхали, съеживались, серели, сливались в одно с илом, который вымесили десятки ног.
Придя домой, Кшисяк не перекинулся ни одним словом с Магдой, хотя она неосторожно спросила, какой улов. Он мрачно сидел на табуретке и мочил ноги в лоханке с теплой водой. Легонько шевелил пальцами, чтобы смыть ил и грязь, которые въелись между пальцами, во все складки и поры кожи.
Тихо плескалась вода. В ней отражался слабый, трепетный блеск висящей на гвозде закопченной лампочки. Кшисяк засмотрелся на него, шевельнул пальцами, и золотая струйка замутилась, растаяла, чтобы тотчас появиться, принять первоначальную форму.
Теперь ему пришло в голову: «А что, если бы я там, над прудом, треснул управляющего кулаком в живот, внезапно, снизу, так, чтобы тот ногами накрылся? А потом, повалив на землю, еще и еще раз, сапогами, подкованным каблуком в зубы? Я же был босиком, — вспоминал он лениво. — Нет, все равно это нельзя себе представить, рука, пожалуй, не поднялась бы».
Бил управляющий. Для того и поставлен. Бывало, даст затрещину и приказчик. Тоже для того поставлен. Так уж веками повелось. Управляющий и приказчик затем и созданы, чтобы бить, а мужик, чтобы было кого бить.
«А ведь приказчик тоже из мужиков, — подумал Кшисяк. — Другое дело помещики. У покойного барина, говорят, была тяжелая рука». Кшисяк начал работать в усадьбе уже после его смерти. Поехал барин за границу, в чужие края, где, говорят, и снега не бывает. И больше не воротился. Барыня с детьми ездила на похороны. Вернулась в глубоком трауре, хотя рассказывали, что помещика хватила кондрашка, когда он был с какой-то девкой. Жирный был уж очень и полнокровный, да и в годах уже, а тут его разобрало с этой, там их, какой-то любовью.
Ну, тот, говорят, лупил остервенело. За всякий пустяк. Если батрак недостаточно низко поклонился. Если барину показалось, что дерзко взглянул. За пятнышко грязи под конским копытом. За одну стружку, принесенную на ногах в конюшню. Помещик без памяти любил лошадей и ради лошади готов был человека убить. Всякого лихорадка трясла, когда попадался ему на глаза. Никогда не угадаешь, что и как. Одно было известно: барин затем и создан, чтобы бить. А мужик, чтобы слушаться и чтобы кланяться барину в ноги.
Барыня, та была вспыльчива и сердита, но отходчива, людей все-таки жалела. Правда, и она иногда хватит по щеке, а рука у нее была тяжелая, хоть и женская. А все же она иной раз заходила в бараки, если кто болел, давала лекарство, перевязку, если кто порезался, делала. Покричать любила, это верно, да так резко, хлестко, как кнутом стегала.
Барышня, та уж совсем другая. И не поглядит на человека. Батрак для нее хуже собаки. Когда, бывало, говорит что-нибудь или приказывает, будто перед ней воздух. Серые глаза смотрели сквозь человека, словно сквозь стекло. Никогда не поблагодарила, не улыбнулась. Холодная, как лед. Эта не била, но все понимали: не бьет, потому что брезгает прикоснуться.
Они хозяйничали вдвоем. Барчук умер еще маленьким. И какова уж там ни была старая барыня, а люди между собой говорили, что когда барышня возьмет в руки имение, придется идти куда глаза глядят, искать другой работы. Да если еще она выйдет за помещика из Кленчан, тогда пиши пропало. Правда, она о нем думала больше, чем он о ней, он все за деревенскими девками бегал. Уж сколько раз приходилось ему давать корову на содержание ребенка. А все же он заезжал в усадьбу, и письма они друг другу писали с барышней. Так уже по всему видно — поженятся.
Магда подлила в лоханку горячей воды. Кшисяк засопел, ему стало приятно. Наболевшие, усталые ноги отдыхали.
«О чем это я думал? — сонно вспоминал он. — Да, об управляющем… Слухи передавались украдкой, со слов старых людей; говорили такое, что трудно было поверить. Что было будто бы время, когда мужики пилами резали помещиков, выпускали управляющим кишки, словно свиньям. Может, правда, а может, и нет. Как же так? Всегда мужик был мужиком, а барин — барином».
Мужика всегда били. Раньше, говорят, еще к столбу привязывали и секли так, что кровь хлестала. Некоторые даже помирали от этого. А потом уж — только так, рукой по морде, плетью или палкой, этак мимоходом.
Били и дома. Мало ли на нем, Кшисяке, дядя палок обломал?
Ему вспомнились дни его детства. Накрывшись мешком от дождя, он пасет в туманный, сумрачный, дождливый день корову. Красуля все лезет и лезет в помещичью рожь, и не уговоришь, не справишься. Нацелится рогами, а ты еще малец, едва-едва до морды ей достаешь. Влезет она передними ногами в зеленый, мокрый от дождя хлеб и уписывает, только на зубах хрустит.
А тут наскочит приказчик, погонит Красулю в усадьбу, а маленького Ясека отколотит, изругает, как последнюю тварь. А потом дядя еще отколотит. Этот два раза: первый раз, когда мальчонка воротится домой без коровы, второй раз, когда приходится, тяжело вздыхая, доставать из сундука рубль-два и тащить приказчику за потраву.
А то и в третий раз, когда вернется с Красулей из усадьбы.
Так и стоит перед глазами этот туманный, мокрый, ненастный день. А вот и другой: словно огнем жжет солнце. Жара — не дай бог. Корова не пасется. Ее жалят оводы. Она машет, машет хвостом — не отгонишь их.
Наконец, разозлится, задерет рыжий хвост, да и драла куда глаза глядят. Тут уж ее ни за что не догонишь. Маленькие ноги ушибаются о камни, путаются в бурьяне и кустах, репейник цепляется за рубашку. А Красули и след простыл.
И так прошло детство, каждый день новая напасть. Пока, наконец, Ясек Кшисяк не поступил в усадьбу и договорился, как полагалось. Обо всем по порядку, — что, когда и как.
О битье уговора не было. Это уж известно, с деда-прадеда так ведется, что мужика бьют по морде. Такой уж обычай. Может, и сам господь бог, когда создавал мир, такую мужику долю определил.
Несколько лет назад жил в усадьбе некий Ендрек. Издалека откуда-то приблудился, бывалый парень. Тому не по нраву пришлись усадебные порядки. Налетел на него как-то приказчик, а Ендрек, не долго думая, голову ему разбил. Кулак у него был крепкий, словно деревянный.
Приказчик тогда был другой. Высокий, мрачный. В восстание его отец когда-то с панами уходил в леса. С тех пор вся ихняя семья пошла на господскую службу в приказчики, в лесники, в лесничие. Совсем они от мужиков отшатнулись. Всю душу господам продали. Даже стали мужиков по лесам стрелять, если который западню на птиц или капкан на зайца поставит. Забирать мужицких коров в потраве. Стоять у человека над душой во время работы.
Вот за все это Ендрек затаил злобу на приказчика. Ну, в конце концов он отомстил.
Приехали стражники, словно судный день в экономии настал. Ендрека избили до полусмерти. Да так, окровавленного, заковали в цепи, взвалили на телегу и увезли с собой.
Только Ендрека и видели в усадьбе, больше он уже не вернулся в эти края. Кто рассказывал, будто его в тюрьме заколотили до смерти, а кто говорил, что он еще по дороге умер от побоев.
А может, он и вылечился, отсидел свое и побрел по белу свету искать где лучше. Кто знает?
За стражниками сама ясновельможная, сама барыня послала. Велела пригласить в усадьбу, водкой угощала. Барышня в то время еще девочкой была, стояла за спиной у матери и большими глазами смотрела на стражников. Они смеялись, говорили ей что-то. Барыня только улыбалась уголками губ, из учтивости, чтобы не обидеть.
Вот так и окончился Ендреков бунт… Ох, и лупили его тогда — страх смотреть. Лупили, орали, а всем батракам, даже бабам, велели собраться, стоять кругом и смотреть, как бьют Ендрека. Чтобы им расхотелось бунтовать, — сказал управляющий. Чтобы они хорошенько запомнили окровавленную голову Ендрека, как валялся он в навозе, который тогда повсюду лежал кучами. В тот день как раз возили навоз. Чтобы хорошенько запомнили, как закатились у Ендрека глаза, так что только белки было видно, страшные, как у покойника.
Они запомнили. Хорошо запомнили. В мертвой тишине стояли они кругом и глядели. Никто в этот вечер словом не перекинулся.
Утром, на следующий день, на камнях, которыми был неровно вымощен двор перед бараками, виднелось темное ржавое пятно крови. Люди обходили кругом это пятно, пока его не смыло дождем.
После этого случая управляющий ходил, высоко задрав голову, а приказчик покрикивал чаще прежнего.
Но этак недели через две в усадьбе издохла корова. Лучшая корова, крупная, рыжая Божена.
Поднялся шум. Начались расспросы, допросы, следствие, в бараках перерыли все углы.
Но так и не доискались, в чем дело. Издохла — и все. Мало ли отчего подыхают коровы!
Кшисяк задумался. Ведь вот уже шесть лет прошло с тех пор, а никто не знает, кто окормил Божену. И все же все понимали, не иначе, как кто-то из батраков. За Ендрека. Барыня, та решила, что с коровой просто так что-то случилось. Но они-то понимали, нет, неспроста это. Верно, и барыня понимала, да только себе самой не хотела признаться.
Так все это и накапливалось потихоньку в памяти. Наслаивалось одно на другое, уходило вглубь, затягивалось, как рубец на ране, забывалось. И все же продолжало жить. Помимо воли и желания.
Кшисяк сидел, сморенный усталостью, разомлевший от горячей воды, от приятного тепла, которое растекалось от ног по всему телу. Оказывается, только подумать, — он все помнит.
Как его в первый раз обругал управляющий. Как приказчик хлестнул по голове плетью. Как он просил другой участок под картошку и ему не дали. Как барышня гоняла его на побегушках. Каждое слово, каждый день был глубоко записан в памяти, притаился в ней, ждал своего времени.
— Получил сегодня от управляющего по морде, хотел было тебе карпа принести, — проговорил он неожиданно для себя.
Магда всплеснула руками. Она испуганно, молча глядела на него. Такова уж мужицкая доля, с деда-прадеда, — видно, самим господом определено. Чтобы мужик от помещика, от управляющего, от приказчика получал по морде.
Да и времени не было на разговоры. Приближалась вечерняя дойка, Магда побежала.
Коровники были каменные, длинные, как бараки. Но окна в них большие, мыть их приходилось часто. Цементный пол с обоих концов слегка снижался к середине. Нечистоты стекали туда и вытекали потом по сточной трубе, той самой, от которой всегда была сырость в бараках.
С обеих сторон рядами стояли коровы. Каждая в своей загородке. Все одинаковой масти, рыжие, только у некоторых белая звездочка на лбу или белые чулочки на ногах. Они стояли на подстилках из свежей соломы, пережевывали влажными зубами свою вечную жвачку. Лениво вытягивали шеи, искали за яслями остатки сена, тыкались в них мордами.
Над каждой загородкой на стене висела металлическая дощечка. Магда знала, что на ней написано имя коровы и от какого она быка. Хоть и плохо читала, а все-таки знала все эти имена.
Чудные были имена, господские. Не те, что полагаются коровам. Тут не было ни Красуль, ни Лысок, ни Буренок, а все Алисы, Ганки и еще какие-то. Грех это давать животному человеческое имя.
Но что поделаешь, господские коровы, таков уж, видно, господский обычай.
А хороши они, ничего не скажешь. Магда любила ходить сюда. Сухо здесь, хорошо. Слышно теплое дыхание животных, такое приятное, знакомое. Когда она проходила вдоль загородок, к ней медленно поворачивались большие головы, кротко глядели большие влажные глаза. Проходя, она поглаживала то тот, то другой бок, чистый, ежедневно вычесываемый скребницей. Коровы знали ее. Некоторых она про себя называла обыкновенными, крестьянскими именами: Лыска, Рыжуха. Так было лучше. Когда она доила, опершись лбом о теплый коровий бок, она называла их только этими именами.
Теплые соски приятно скользили между пальцами, молоко брызгало в эмалированный подойник. Магда мечтала. Она доит свою корову. Нет, не Лыску с подтянутыми боками, стоящую в стойлице возле бараков. А вот эту, такую пригожую, которую глупо назвали Мадам, — жирную, лоснящуюся. Мечталось, что все это ее собственное — эта гладкая рыжая спина, светлые загнутые рога и это тяжелое, низко свисающее вымя. Молоко пенилось до самых краев подойника, и Магда мысленно подсчитывала количество кружек. До чего они много дают, эти усадебные коровы! Кажется, никогда не перестанет литься молоко из сосков. Льется, льется, корова терпеливо стоит, а оно все льется. Приходилось вставать, сливать молоко в большие бидоны, стоящие в стороне, и снова присаживаться к коровьему брюху. Наконец, она нажимала всей ладонью — остатки брызгали тоненькой острой струйкой. Все. Теперь можно было перейти к следующей корове. Аж руки заболели, онемели пальцы.
Магда любила запах коровника, любила коров, любила доенье, хотя иногда уставала до смерти. Выдаивать нужно было как следует — проверяли. Подходил управляющий, нажимал сосок толстой лапой — и плохо твое дело, если хоть немного белой жидкости брызнет на солому.
Алина доилась туго, все руки оттянешь. Ганка, та любила хлопать себя хвостом по бокам, хотя мух тут почти не было. У потолка, словно в господских покоях, висела липкая бумага от мух. Огромная, широкобокая Баська была коварна. Она ни с того ни с сего меняла вдруг положение, напирала гладким боком на доярку. Приходилось быть начеку, чтобы не упасть со скамеечки, не расплескать молоко из подойника.
Магда знала норов каждой коровы, ее капризы и привычки. Она знала, которой корове при дойке нужно подбросить сена, а которая предпочитает пить из ведра теплое пойло. Которой надо налить помоев, а которой воды. Она помнила все эти жующие морды с коричневыми или черными глазами, с прямыми или загнутыми рогами.
Одно пугало ее здесь — бык.
Он стоял в отдельной загородке, темно-коричневый, почти черный, коренастый, могучий. Сквозь ноздри у него было продето металлическое кольцо, он был крепко привязан цепью к кормушке. Да и кормушка была не такая, как у коров, — массивная, дубовая.
Бык упирался мощными ногами в пол, мотал головой так, что кормушка тряслась. Цепь зловеще натягивалась. Великолепный, могучий загривок низко пригибался, раздувались ноздри у самой земли. Налитые кровью глаза метали по сторонам яростные взгляды. Из мощной груди вырывался глухой рокочущий рев.
Бык не любил, чтобы сюда приходили женщины. Мужика он еще терпел. Но каждая женщина стремглав пробегала мимо его загородки, которая, как назло, помещалась у самого входа. Иногда он пускался на хитрость. Когда женщины входили, — он стоял тихо. Но стоило им подойти к выходу, раздавался предостерегающий рев, начинала трещать кормушка. Более смелые быстро пробегали к выходу. Но тогда он начинал так бешено рваться с цепи, что Магда не решалась пройти мимо. Она уже давно наметила себе путь бегства — через загородку Алисы, по решетке, в окно, пробитое в глубокой нише. Но у нее сердце сжималось при одной мысли о том, с каким страшным грохотом лопнет цепь, когда разъяренный, бешеный бык вырвется из загородки во двор, ломая и растаптывая копытами все, что ему попадется на пути. Сердце замирало. Другие женщины иногда подсмеивались над ней, ни одна так не боялась быка, как Магда. Но она ничего не могла с собою поделать. Темный, как грозовая туча, Богун даже снился ей. Тяжкий кошмар. Обезумевший дьявол ударами рогов разносит в прах бараки, надворные постройки, усадьбу.
В конце концов сон оказался в руку. Однажды Кшисяк пришел домой с новостью.
— Знаешь, Магда, Богуна продали.
— Господи! Продали?
— Известно, другого купят. Стар, говорят.
— Этакий дьявол да стар! Выдумают тоже.
— Уж управляющий знает, что делает. Сколько с этим быком нянчились, зря бы его продавать не стали.
— Когда же это будет?
— Завтра. Говорят, в город поведут.
— Господи! А пойдет он?
— Как не пойти? Пойдет. Небось кнутом с ним всегда справиться можно.
Но с Богуном не так-то легко было справиться.
Он спокойно позволил вывести себя из стойла. И только теперь стало видно, какой он огромный. Его вели на цепи Вавжон и Маруньчак. Цепь, прикрепленная к кольцу в носу, была новая, толстая.
Неуверенно переставляя ноги, Богун вышел за порог. Наклонил голову, словно ослепленный светом и солнцем. Хотя и в стойле ведь было светло.
Раздувая ноздри, он нюхал землю. Мелкие соломинки и рассыпанная полова взлетали вверх от его дыхания. Он фыркнул из глубины своих могучих легких, вздымая облако пыли.
Ноги у него были коротковаты, и весь он был плотный, короткий, как крепко сжатый кулак. Бабы сразу отогнали детей к баракам. Цепь цепью, а все же лучше подальше.
— Цоб! Цобе! — погонял быка Вавжон. Но бык и не думал двигаться с места. Он все нюхал землю. На мгновение, где-то в глубине огромного туловища, раздался приглушенный рев. Не от злости, а так себе. Как далекий отзвук грома, грохочущего в скалистой расщелине.
— Цоб! иди дурной! — рассердился Маруньчак и крепче потянул за цепь, за кольцо, продетое в живом теле животного.
Богун уперся задними ногами в землю и еще ниже нагнул голову. Он не желал двигаться. Ему не нравилось, что он должен куда-то идти.
Вавжон огрел его сзади дубинкой. Бык вдруг ударил себя по боку темным хвостом.
Никто не мог сразу понять, ни что произошло, ни как произошло. Это было как внезапно сверкнувшая молния. Громовой рев пронесся по всему двору, — казалось, бараки и хозяйственные постройки дрогнули.
Незаметно было даже, чтобы Богун особенно напряг силы, но рванул он так, что Вавжон покачнулся.
Подбежал кто-то из стоявших в стороне рабочих. Теперь они уже втроем ухватились за цепь. Бык стоял. Только в груди у него рокотало да налившиеся кровью глаза, снизу, злобно и коварно глядели на людей.
И вдруг он, как лавина, ринулся вперед.
Цепь выдержала, выдержали и ухватившиеся за нее руки. И все же бык освободился из оков…
Кровь лилась из разорванных ноздрей, странно светлая на темной, почти черной шерсти. Мужики, с цепью в руках, отлетели в разные стороны. Вырванное кольцо со звоном упало на камни.
Богун вдруг остановился как вкопанный. Четыре человека подходили к нему с цепью в руках медленно, осторожно. Остальные притаились в дверях барака, в воротах коровника, в амбаре, разбежались кто куда, как стая воробьев от ястреба.
Богун стоял.
И вдруг сделал прыжок. Будто наметил и прицелился.
Вавжон взлетел на воздух. Высоко. Потом тяжело упал на землю.
Богун еще раз подхватил его на рога, подбросил и снова вонзил в него короткие, черные рога.
Пронзительный крик женщин раздался из бараков.
Бык трепал Вавжона, нанося раз за разом бешеные удары.
За рогами чудовищным ужом извивались по земле красные, гладкие кишки. Вокруг уже никого не было. Вавжон и бык! Но Вавжон уже не шевелился.
Богуну, видно, надоело лежащее перед ним растоптанное месиво. Он огляделся вокруг, нагнул голову и помчался дальше. Грохнулся головой о забор. Но тотчас опомнился. Ему нужны были люди. И вот он бросился к амбарам. Но там уже с криком торопливо запирали ворота. Задвинули их изнутри тяжелым деревянным засовом.
Бык повернул к баракам. Налетел на поросенка Антоники, швырнул его так, что тот шлепнулся о стену, словно кусок сырого теста.
Теперь он снова осматривался. Грозно ревел, глядя налитыми кровью глазами на бараки. Из амбара, задами, выскочив из других дверей, кто-то побежал за управляющим.
Почти тотчас появились управляющий и приказчик. Они шли медленно, осторожно, с ружьями в руках.
— Эй, выходить! Брать веревки!
Люди заколебались. Но приказ был ясен.
— Смелей! Вперед! — покрикивал управляющий, стоя за углом бараков.
Люди стали медленно подвигаться к быку, держа наготове веревочные петли.
Бык остановился. Он глухо стонал, кровь ручьем лилась из разорванной морды.
И вдруг снова прыгнул. Словно буря, прямо на людей. Но промахнулся, ослепленный злобой. Они расступились, бык пронесся мимо них и с разгону ударил башкой в стену барака. Только известь посыпалась с ветхих стен. Он совсем ошалел, стал кружиться, бить рогами по булыжнику, как ураган разметал доски, сложенные под ясенями.
Бледные лица смотрели на него из безопасных уголков. Сам управляющий уже не решался выгонять людей.
Он притаился за углом, прицелился. Грянул выстрел.
Богун вдруг остановился как вкопанный. Еще носилась в воздухе поднятая его бешеной возней сухая солома. Не опала пыль, поднятая ударами черных копыт.
Он постоял и мгновение спустя зашатался. Огромное туловище покачивалось из стороны в сторону.
Управляющий прицелился еще раз.
Бык тяжело осел на бок и рухнул, несколько раз дернув ногами. Из морды сильнее пошла кровь.
Сразу распахнулись все двери. Народ бежал к Вавжону. Мужики, бабы, все.
Но это был уже не Вавжон. Все перемешалось — внутренности, тряпье, волосы, мозг. Будто его пропустили сквозь мельничные жернова.
Толпа стояла ошеломленная.
Как обмыть, как одеть для похорон этого покойника?
Плотный круг людей. А посередине куча кровавого месива.
Со стороны сада с воем бежала Вавжониха. Она ничего не знала. Только когда услышала крики, ее словно в сердце кольнуло. Но к баракам она побежала, лишь услышав выстрел.
Как безумная бросилась она в толпу. Перед ней расступились. Молча. Торопливо. Она остановилась. Крик замер у нее в груди. Она стояла с открытым ртом, не понимая, что произошло.
Еще когда она кинулась из сада, ей сказали, что Богун поднял на рога ее мужика. Но разве это было то, что ей сказали?
Словно во сне, она ступила шаг вперед и поскользнулась о длинную, вывалившуюся из распоротого живота кишку. И засмеялась. Толпа замерла.
А она все смеялась, смеялась, хватаясь за живот. У нее началась икота от этого смеха, певучего, с тоненькими вскриками, как иногда весной заливается курица, снеся яйцо.
Многие в толпе почувствовали, что у них сжимается горло от такого же смеха, что он готов вырваться из груди, сводит мускулы лица, сжимает челюсти. Но приказчик с Кшисяком живо подхватили женщину под руки и повели ее в барак. Двое старших ребят стояли на пороге, третий, самый младший, только начавший ходить, выглядывал из-за двери.
А она все смеялась. И люди стояли молча, не смея шелохнуться. В это время появилась барыня. Она шла быстрыми шагами, толпа молчаливо расступилась, давая ей дорогу к трупу. Никто не поклонился. Холодный ужас сковал всех. Но шапки были сняты раньше, перед телом Вавжона.
Управляющий кинулся навстречу помещице. Толпа замерла в ожидании. Но помещица направлялась не к Вавжону, а дальше, к ясеням, где чернела туша застреленного быка. Тут она остановилась. Гневно сказала что-то управляющему, тихо, быстро, так что ничего нельзя было разобрать.
Кончиком ботинка она коснулась туши животного. Темная бархатная шерсть была покрыта пеной и кровью. Протянутые ноги окоченели. Кровавые глаза выкатились, словно вот-вот выскочат из орбит.
Управляющий что-то объяснял ей, разводя руками.
Ему поддакивал приказчик, успевший уже возвратиться.
И только теперь барыня подошла к телу Вавжона. Остановилась. Губы ее задрожали. Лицо побелело.
Дрожащими руками она пыталась открыть черную сумочку. Наконец, ей это удалось.
Вот она вытащила десятирублевую бумажку. Люди рты поразевали. Еще бы! Такие деньги, больше, чем полугодовое жалование!
— Отдать Вавжоновой жене, — сказала помещица, протягивая бумажку, но никто не шевельнулся.
Наконец, подскочил приказчик.
— Скажите ей, что она может некоторое время присылать детей обедать в людскую на кухню, — прибавила помещица.
Приказчик побежал к Вавжонихе с десятирублевкой и с вестью о барских обедах. Но она сидела на постели и стеклянными глазами смотрела в стену, улыбаясь самой себе жуткой, глуповатой улыбкой. Она ничего не слышала. Приказчик сунул ей деньги в руку, поскорей убрался за дверь и заторопился за помещицей и управляющим, которые уже приближались к усадьбе.
Люди никак не могли приняться за работу.
Ведь на дворе лежал Вавжон. Темнела огромная туша быка. И народ не знал даже, как приступиться к Вавжону.
Но тут пришел управляющий. Сердитый. Он ругался, орал. Больше всего на Маруньчака.
Все уже знали, за что рассердилась барыня — зачем он застрелил быка. А он, видно, оправдывался, что бык уже все равно никуда не годился, с разорванными ноздрями.
Вавжона, словно кучу грязи, сгребли на доски и отнесли в сарай.
На третий день его схоронили. На похороны пошли все, хотя день был рабочий. Управляющий ничего не сказал. Не сказала ни слова и барыня, хоть знала небось. Но, видно, не хотела раздражать народ.
Вот все и пошли на похороны. Вавжониха вопила так, что в небесах, наверно, слышно было.
Шли за гробом и дети, двое старших и третья крошка, которая еще ничего не понимала. Старшие плакали, а она шла себе и щебетала:
— Зося, это тату туда заперли?
— В гробу твой тато, в гробу, — причитала баба, которая шла возле них.
— А это гроб?
— Ох, гроб, дитятко, гроб.
— А как же тато выйдет?
— Ох, не выйти уж ему, не выйти, не выйти! — закричала Вавжониха, видимо услышав.
Дитя испугалось и ухватилось за юбку старой Янтошки.
— Не бойся, не надо бояться.
— Мама плачет.
— Плачет, а как же, тато ведь помер, понимаешь, помер.
— Помер?
— А ты и не знаешь? Бык убил тату.
— Во дворе?
— Во дворе, во дворе. Рогами.
— Боже ты мой милостивый, — причитали кумушки. — И не понимает, бедненькая, что стряслось.
— Да и как ей понять, совсем еще махонькая.
— Да, вот и помер мужик.
— И что она теперь с этой мелкотой делать будет?
— Бог милостив, кого создаст, тому и с голоду умереть не даст. Проживет как-нибудь.
— Так-то оно говорится. А бывает, что умирают, милая ты моя, бывает, что и умирают.
— Всякое бывает…
На похоронах снова поднялся вой. Бабы плакали одна громче другой. Но все покрывали вопли Вавжоновой жены.
— Ох ты, милый мой, о господи, господи Исусе Христе, госпо-о-о-ди!
Страшно стало от этого крика всем. Даже мужики побледнели.
Магда стояла в сторонке. Ее всю трясло. Недаром она боялась Богуна, недаром. Это могло случиться и с Ясеком, тоже ведь недалеко стоял. Она даже глаза закрыла от одной мысли.
Возвращались группами. Разговаривали. В сотый раз пересказывали друг другу, как все случилось. И хотя всякий своими глазами все видел, все равно выслушивал еще раз и дивился.
— Ведь этакое кольцо, боже милостивый!
— В живое тело, в самую морду было продето.
— Сила-то какая!
— Уж как он из коровника выходил, сразу было видно, что добром не кончится, не кончится добром.
— Получше связать надо было, ведь сколько времени скотина стояла в стойле, к свету не приучена…
— А как еще иначе? Догадаешься разве, что он этакое кольцо вырвет.
— Говорят, тот бык, что до Богуна был, тоже вот так вырвался.
— Какого-то теперь купят?
— Барыня теперь небось кровавыми слезами по Богуну плачет!
— Да ведь и бык был, не скоро такого найдешь…
— Как дракон какой!
Магда молчаливо обгоняла разговаривающих. Над Вавжоном еще и земля не осела, а они уж больше о быке, чем о нем, языками мелют. Такие уж теперь люди. А ведь и трех дней не прошло, как он ходил среди них живой, и никому и в голову не приходило, что вот оно как будет…
Идти было тяжело. Ноги болели у нее все больше, и она уже как спасения ожидала родов. Другим бабам это доставалось как-то легче. Но она сызмала была слабого здоровья. До срока еще далеко. А беременность давала себя чувствовать непрестанно. При всякой работе.
Вот и теперь она с трудом пришла с кладбища. А день только что начался. С полдня они пошли мочить лен. Приказчик подгонял изо всех сил, и так сколько времени потеряли с этими похоронами. Он назначил кому идти, в том числе и Магде. Известно, лен — это уж всегда бабья работа.
Мужики привозили с поля тяжелые снопы, связанные соломенными перевяслами, Сваливали их на землю. Потом и мужики и бабы укладывали снопы в яму с водой.
Из года в год сохранялись выкопанные в глине круглые ямы. По деревянному желобу в них проводили воду из ручья. Вода текла медленно. Ямы наполнялись постепенно. Сюда и клали лен.
Было холодно. Магда стояла по колени в глинистой бурой воде, высоко подоткнув юбку.
С края ямы ей подавали снопы. Со стоном сгибаясь, она брала сноп и клала в воду аккуратно, ровно, как полагается, чтобы поместилось побольше.
Трудно было Магде.
— Не поднимай, не поднимай тяжелого, — предостерегала ее Антонова баба, но Магду это лишь раздражало. Что зря болтать, когда приказчик поставил ее на эту работу, и все тут. Ведь роды еще не скоро.
Привозили все новые снопы. На большую телегу нельзя было грузить, — кругом размякшая, глубоко перепаханная земля.
У Магды выступил пот на лбу. Она напрягла все силы. Руки немели.
— Ишь, каких больших навязали.
Может, они были и не так уж велики. Обыкновенные. Сколько руками обхватишь.
Но ей каждый сноп казался тяжелым, словно чугунным.
С каждым снопом она все болезненнее охала. С каждым снопом все труднее было сгибать спину и еще труднее выпрямлять.
Спина стала словно деревянная, нестерпимо болела, нужно было страшное усилие, чтобы выпрямить ее, чтобы протянуть руки за новым снопом.
На мгновение у нее потемнело в глазах. Она сжала губы и вытерла пот со лба.
— Поживей, поживей, бабы! — шутил Валек.
— Еще бы! Хорошо тебе говорить, на сухом-то стоя!
— Влезай в воду, тогда увидишь!
— Полезет он! Еще портки замочит.
— И правда, а порточки ничего себе, праздничные.
Все засмеялись. Сквозь эти портки просвечивали голые колени. Но ему было наплевать. Портки как портки, обыкновенные, рабочие. Да и работа какая — в мокрой глине. Чего же еще?
Ныли руки, натертые стеблями. От их зеленых нитей рябило в глазах.
— Ну, ну! Укладывай, укладывай!
— Глядите! В приказчики, что ли, норовит?
— А ты подошел бы, Валек! Орать умеешь, просто чудо!
— А работать не очень-то! Точь-в-точь приказчик!
Женщины шутили, пересмеивались. Валек был парень красивый, веселый, все любили с ним поболтать.
Но Магде было не до смеха. Она слабела и с отчаянием поглядывала на все растущую гору новых снопов.
Глянула вверх. Небо заволокли тучи, но все же видно было, что солнце еще высоко, вечер не скоро.
«Как-нибудь выдержу», — убеждала она себя. Но вдруг сноп, неловко взятый, выскользнул у нее из рук, съехал набок и хлюпнулся в воду, поодаль от других.
— Эй, кума, гляди, что делаешь!
— Руки дырявые у кшисяковой жены!
Но тут они заметили, что с ней что-то неладное делается. Она стояла с побелевшим лицом, губы ее дрожали, руками она шарила вокруг, как слепая.
Бабы перепугались.
— Ох, милые, да ведь всякому видно, что баба в тягости. Куда ж такую на работу гонять? — возмущалась Антониха.
Магда присела на мокрую глину. Невидящими глазами уставилась в яму, быстро заполнявшуюся растрепанными снопами.
— Сможешь одна дойти?
— Смогу.
Она потащилась к баракам, робко оглядываясь, не нарваться бы на приказчика.
Дотащившись, легла на нары. Никого не было. Тихо. В голове у нее стучало, перед глазами плавали мутные пятна.
Заглянул Кшисяк.
— Что это с тобой? Мне на работе сказали…
— Разобрало меня что-то… Пройдет.
Однако не проходило. Она тихонько лежала, пока ужинали. Маликова жена приготовила.
— Ясек…
— Ты что?
— Сходил бы ты за Янтошкой.
Он перепугался.
— Магда, да ведь еще не время?
— Нет, нет, так только… Может, что присоветует.
Она говорила с трудом. Кшисяк кинулся к дверям. Янтошка собралась быстро, только накинула платок и захватила каких-то трав в тряпицу.
Янтошка понимала в этих делах, как никто в деревне. И хотя она была уже стара, хотя силы были уже не те, что раньше, охотнее всего звали Янтошку. А уж если что неладно, тогда ни о ком другом и разговора не было.
Уже с первого взгляда она поняла, что дело плохо. Она принялась растирать Магду, велела маликовой жене растопить печку, варила какие-то травы, давала Магде пить. А Магде было плохо. Так плохо, что ей казалось — ни рукой, ни ногой шевельнуть не сможет. Сильно ее разбирало. Но стонать она не хотела. Ведь не одна она в доме, люди наработались за день, спать им надо. Кшисяк лег на полу со Сташеком. Она могла лежать одна, точно королева какая. Но ее это не радовало. Невозможно было повернуться, невозможно выпрямиться, боль сжимала тело железным обручем. Она поджимала колени, так казалось легче.
Янтошка не гасила света. Только прикрутила фитиль, так что он лишь тлел. Темные тени плясали по стенам. При всяком движении Янтошки ее тень росла, переламывалась на потолке, захватывала стены. Магде казалось, что эта тень заполняет собой всю каморку. Ей казалось, будто это рыжая копоть от лампы, хотя лампа не коптила, а едва-едва мерцала.
Янтошка шептала какие-то свои заговоры. Дала ей еще раз чего-то выпить. Что-то горькое, пахучее. От этого стало будто легче.
«Пахнет, как сено, когда подсыхает, — подумала Магда. — Но теперь ведь осень. Все уже давно убрано. Даже от второго урожая клевера следа не осталось».
— Ну как, получше?
— Чуточку… только еще бо-о-льно, — Магда закусила бескровные губы.
— Ничего, пройдет. И надо тебе было, баба, лен поднимать, ведь знала же.
Нет. Она ничего не знала. Как же? Приказчик велел идти. Велел торопиться. Кто это, приказчик или Валек подсмеивался там над ней?
— Воды дайте.
Она жадно пила, хотя с каждым глотком становилось больнее. Точь-в-точь, как когда-то еще в девушках, когда крестный купил ей колбасы на ярмарке. Нехорошая, видно, была колбаса — Магда тогда прямо извивалась от боли. Так и теперь…
Она стала припоминать, не съела ли чего. Но нет. Это была не та боль, хотя тошнило, тянуло, как и тогда. Но это не то. Она надорвалась на льне.
Ночь тянулась медленно. Глаза болели от этого полумрака. Она хотела попросить Янтошку потушить лампу, но слова как-то не проходили сквозь зубы. Говорить было трудно, и она лежала, глядя на танцующие тени, на светлый круг на стене.
У печки сонно жужжали мухи. Уж и время их отошло, но здесь, вблизи коровников, они всегда до самой зимы облепляли печку, потолок, клубились черным, сонным роем. Только теперь они стали ленивые, слабые, — стоило хлопнуть тряпкой, как они сотнями падали на пол.
Ночь тянулась медленно, среди упорного, надоедливого жужжанья мух.
Первым проснулся Ясек.
— Ну, как ты там?
Взглянув на нее, испугался. Глаза ее ввалились, вместо глазниц — черные ямы. Губы без единой кровинки.
Но горевать было некогда, надо было идти на работу. Малик уже готовил завтрак, когда баба его сползла с постели. Так уж у них было заведено, навыворот: муж варил пищу, а жена отлеживалась, хоть и на лавке.
Наконец, все ушли. Магда едва дождалась, когда закроется дверь за последним жильцом.
Теперь она могла постонать разок, другой. Но, раз начав, уже не могла остановиться. Не то чтобы громко. Нет. Она тихонько, тоненьким голосом скулила, словно ребенок, всхлипывала от боли.
Засуетилась испуганная Янтошка. Теперь-то в самом деле что-то неладно.
И вот родился ребенок. Девочка.
Сразу видно, что не в свое время родилась. Маленькая. Красная. Без ногтей на ручках и ножках. И на ребенка не похожа. Но живая.
Янтошка кинулась звать на помощь. Прибежала Антонова баба. Греть воду, купать ребенка. Уж какой есть, такой есть, а все же божье творение.
— Дайте сюда, — просила Магда, хотя у нее уже никаких сил не было.
— Подожди! Еще не выкупали.
— Ничего, дайте.
Как ей хотелось получше рассмотреть этого ребенка! Потрогать его. Ведь первое дитя!
Но Янтошка не дала. Пока не искупают.
Да так и не искупали. Не успели они опустить ребенка в воду, как он пискнул, будто щеночек, когда ему на хвост наступят.
Янтошка поспешно набрала в горсть воды.
— Крещу тебя во имя отца, и сына, и духа святого…
Магда испугалась. Зачем это они крестят ребенка?
Но едва кончилось крещение, дитя задергало маленькими ручками без ногтей и вытянулось, стало вдруг странно длинным и большим.
Только и всего. Померло. Прежде времени ведь родилось. Недоношенное.
— И лучше, что господь прибрал, толку от него все равно бы не было, — сказала Антонова баба. Да, правду сказать, так оно и было. А все же Магде было жаль ребенка, она заплакала. Всхлипывала, всхлипывала и сама уже не знала, о чем, из-за чего. Из-за ребенка ли, или из-за этой страшной слабости, что разливалась по всем косточкам, безудержно истекала красной, горячей кровью. Из-за Флориана или из-за этого льна, с которым она так страшно намучилась. Кто его знает, о чем она плакала. Разнюнилась вовсю. Бабы и не утешали ее, занялись ребенком.
Так, в слезах, она и уснула. Будто погрузилась во тьму, в бездну, мягкую, пушистую, как сажа в трубе. Ничего не чувствовала, ничего не знала.
А когда проснулась, оказалось, что она больна, тяжко больна.
Все ходили на цыпочках. Сташека отправили ночевать к соседям. Молодой еще парнишка, не к чему ему глядеть на такие дела. Да и просторнее стало.
Янтошка не выходила отсюда по целым дням. Только и сбегает домой, что за травами. Травы были разные, каждая от другой болезни. Магда пила, потому что кружку с питьем ей подносили к запекшимся губам. Но не очень соображала, что происходит. Все виделось ей сквозь какой-то туман — Ясек, Малики, Янтошка. И она лежала. Лежала, как никогда еще. В редкие минуты, когда голова была яснее, ей становилось даже стыдно. Ведь люди работают, как всегда. Только она одна не работает. Лежит себе, как помещица. Это противно. Но никаких сил все равно нет. И до коровника не дотащиться.
А работы было много.
Срезали капусту. Шинковали в пяти корытцах. С утра до вечера был слышен хруст на весь двор. Мыли, скребли огромные бочки. Заново перекрывали конюшню к зиме. Бабы с утра до ночи копали свеклу. Управляющий торопил, сахарный завод дожидался свеклы.
Молотили. С рассвета до глубокой темной ночи гудела молотилка. А то и дольше. При лампах молотили, при фонарях, потому что хлеба было много, а помещице нужны были деньги.
Приводили в порядок сад. Собирали последние зимние яблоки, красные и желтые, что еще висели на почти голых ветвях. Пахали, сеяли озимые. Быстро приближалась зима. День ото дня все больше чувствовалась ее близость.
А Магда все лежала. Было еще тепло, так что ей открыли настежь двери, и она смотрела во двор. Кто-нибудь, проходя мимо, останавливался на минуту у порога поговорить. Она отвечала, благодарила, но ей все время было стыдно. Лежит и лежит, как колода.
Как только у нее хватило сил встать на ноги, она сползла с нар и бродила словно осенняя муха, прихваченная холодом. Пошатывалась, хваталась руками за стол, за скамьи. Гнула ее слабость, боль еще возвращалась, подстегивала, словно бичом.
Случалось и всплакнуть, когда никого не было. От слабости, от болезни. Убивалась, что даже на похоронах ребенка не была. Ясек сам сделал гробик, понести его на кладбище. Пошли Янтошка, Антониха, несколько баб. Все заняты, так разве на минутку кто-нибудь от работы оторвался. Ксендз покропил святой водой, и ладно. Счастье еще, что Янтошка сразу сообразила окрестить девочку.
Осень угасала. Рассветы уже вставали в седом инее. За ночь лужи подергивались тонким стеклянным ледком. Раньше закатывалось солнце, позже вставало холодное, заспанное утро.
Деревья стояли голые. Листьев не было и на земле. Все сгребли на подстилку скоту. Лишь изредка ветер приносил откуда-то сухой, съеженный листок, перебегающий по земле, словно серая мышь.
Только на маленьком дубке листья упорно держались. Уже совсем сухие, темные, коричневые. В них шелестел ветер, вымещал обиду за те другие, которых лишился. За широкие, разлапистые листья ясеня; за вечно трепещущие осиновые; за яркие яворовые листья; за узкие, длинные листья вербы; за вырезанные сердечком листья липы. Теперь ветру остался лишь один дубок, и он брал с него все, что мог. Раскачивал, срывал листья.
Это уже было не то, что раньше, когда, пылая золотом, багрянцем, желтизной, осенние листья неслись к баракам, танцуя и кружась на осеннем ветру.
Бедна, убога стала теперь осень. Без красок, без запахов, без звенящих над последними цветами пчел. Одни подсолнухи еще торчали на высоких стеблях, но и они уже были не те. Почернели от холода. Облезли.
Потом наступили дожди. Капало, моросило, лило как из ведра. Все размокло, превратилось в грязь, сочилось каплями, набухло от вечной сырости. Заморозки куда-то запропали. Ненастье и ненастье.
В эту слякоть Магда впервые вышла за двери барака. Поглядела на серый мир, затянутый дымкой дождя. Но не долго простояла. Страшная слабость заставила ее снова вернуться на нары.
По-настоящему она вышла из дому лишь тогда, когда землю сковало морозом. А мороз был седой до блеска.
Ярко горело солнце, но холод был такой, что деревья потрескивали. У самых бараков слышно было, как стреляло в ветвях старых ясеней. Мороз останавливал ленивую зеленую кровь дерева. Она ширилась, вздувалась. И вот ей уже не хватало места в узких трубках, в древесных жилах, укрытых под гладкой серой корой.
Потрескивало в ветвях деревьев. Когда кто выходил из бараков в сараи, в амбары, трудно было перевести дыхание, а под ногами скрипело, как будто кто жесть резал. Но идти-то ведь надо было, работа не останавливалась, тепло ли тебе, или холодно, никто не спрашивал.
Седой мороз проникал сквозь плохо пригнанные оконные рамы, колючей бородой вырастал на стенах. Замерзала сырость на стенах, и они блестели, как каток.
Каждый кутался в какое мог тряпье. В сапоги напихивали солому, обертывали ноги лохмотьями. Дети лежали на нарах, зарывались в солому по самый нос.
Кому не надо до смерти, того и палкой не выгонишь из дому. Тереска выскочила ненадолго, так чуть не со слезами вернулась. Щеки у нее совсем побелели, она изо всех сил оттирала их снегом, а то бы отморозила. А отморозишь — заживает долго, болит при каждой перемене погоды.
Дети мочились тут же, в бараках, невозможно было выпустить их во двор. Ведь ни у одного не было такой одежонки, чтобы сразу не прохватило морозом. Люди пообмораживали пальцы, хромали, щеки у всех были сизые, фиолетовые.
Подходил Михайлов день, а мороз не сдавал, хоть бы на денек потеплело. Народ с горечью, с обидой на господа бога жаловался, что вот всегда к Михайлову дню такое. Пусть даже другой год в декабре зима чуть-чуть держится, в феврале оттепель, как наводнение, а уж к Михайлову дню обязательно седой мороз или, еще того хуже, вьюга и буран.
Магда еще с вечера слышала, как за стеной причитает Габрыська, как воют дети, как разъяренный Габрысь колотит свою бабу, сам не зная за что.
Магда вздыхала. Кто знает, может, на будущий год и с ними точь-в-точь так будет. Михайлов день нависал над ними вечной угрозой, вечным страхом. Снился по ночам, ниже пригибал головы людей под градом брани управляющего и приказчика. А что будешь делать — велят убираться, и все тут.
И хоть ты уже десять, хоть пятнадцать лет надрываешься на усадебной работе — ничего не поможет. Принесет тебе управляющий листок с отказом — и крышка. Без разговоров. Убирайся вон. А есть ли тебе куда убраться, нет ли, это уж не их дело.
Управляющий поймал Габрыся, когда он выносил из конюшни полмешочка овса. Польстился мужик. Ничего не поделаешь. Со всяким может случиться, всякого нужда прижать может. А у Габрыся пятеро детей. Самый младший еще на руках, самого старшего только-только послали коров пасти, да и то он еще один не справлялся.
Подъехала подвода. Магда молча схватила с нар платок и выскользнула наружу. Платок был старый, потертый, а все может пригодиться.
Распахивались и тотчас закрывались двери. Люди выходили посмотреть. Если раньше у кого и было что против Габрыськи, теперь все словно ветром развеяло.
А она причитала во весь голос, кричала, лицо у нее посинело и от крика и от мороза. Выносила по одному детей, закутанных так, что их и не видно было. В тряпье, в солому, во что попало.
Пришли бабы. Магда завернула самого маленького в свой платок. Тереска, всхлипывая, сунула Габрыське полбуханки хлеба.
Всякий давал, что мог. Барачные дары — тряпье, жалкие куски, отнятые от собственного рта.
— Ой, люди, люди! Люди мои милые, — кричала Габрыська, не глядя, что ей кто дает. Барак казался ей теперь царскими палатами.
Габрысь вышел мрачный, ожесточенный. Вынес на подводу небольшой сундучок — все батрацкое добро, нажитое за десять лет. Они стали взбираться на подводу. Дети плакали, мороз их сразу прохватил.
— Куда ж вы теперь? — робко спросила Магда. Она знала, что другой работы они не нашли.
— К Ментусу, — сухо ответил Габрысь и хлестнул лошадь. Одолжили ее в деревне, хоть деревня не очень-то любила иметь дело с батраками.
— А куда ему деваться? — тихо спросил Кшисяк и медленно пошел в барак. Так уж было всегда. Не одну усадьбу обошел Габрысь, даже не один десяток усадеб. Но всюду, едва взглянув на его листок, отказывали. Дивился Габрысь, хотя не раз слышал о таком деле. Сходил к Антону, показал свой листок.
Ничего они не могли понять. Листок как листок. А ведь было же в нем что-то, что закрывало Габрысю доступ к работе. Что ложилось преградой между ним, его бабой, пятерыми детьми и барачными каморками всех усадеб, какие только могли обойти торопливые ноги за два-три дня. На всю околицу, на несколько десятков верст для Габрыся не находилось места. После него приходили другие, и их принимали, — в той самой усадьбе, где для него не было самого малого местечка, где для его рук не находилось никакой работы.
Сперва Габрысь уперся. Он ходил и ходил. Низко кланялся управляющим, приказчикам, помещикам. Верил, что работы и вправду нет. Хоть и слышал о таких листках, что вроде и такой же, как у других, а работы с ним не получишь, но одно дело, когда с людьми такое случается, а другое, когда с тобой самим.
Наконец, он понял, какая сила в господском сговоре. Они выбросили его, обрекли на смерть каким-то маленьким значком, которого батрацкие глаза и разглядеть не могут.
Долго, должно быть, господа думали, долго сговаривались, пока такое выдумали. Габрысь шел туда, где о нем никто никогда не слышал, где никто не знал его помещицы, а всякий сразу знал, что следовало знать. Что Габрысь пол мешка овса из конюшни вынес. Что он дерзит управляющему. Что нагрубил и самой помещице, — кончится, мол, в конце концов ваше царство.
Он вертел свой листок во все стороны. Сравнивал его с листком Малинского. Ну, точь-в-точь. А вот Малинский сразу нашел работу в другой усадьбе.
Он пошел к управляющему. На морозе стащил шапку с головы, униженно кланялся, просил. Но управляющий и разговаривать не стал.
И Габрысь понял, что судьба его решена и припечатана. Что ему не справиться с господскими выдумками, с господским сговором. Господа держались все вместе, кучей, все были связаны каким-то своим знаком. Против народа. Против бараков. Против батраков.
Высокой, высокой стеной казался Габрысю господский сговор. Он разговаривал с людьми, но об этом и разговаривать было страшно. Боялись люди, как бы и с ними такое не стряслось.
Только в самый последний день, когда Габрысь с семьей уже собрались, людская жалость вырвалась бабьими слезами, детским плачем да произносимыми вполголоса проклятиями мужиков.
А Габрысь уехал. И то сказать, ему повезло — Ментус принял его в свою избу. Изба никудышная. У Ментуса у самого нужда скачет, нужда пляшет, — а все же, в такое страшное время, в такой адский мороз, хоть крыша над головой будет.
О том, что они будут есть, во что оденутся, Габрысь сейчас не думал. Он только подхлестывал коня, торопясь доехать. До деревни недалеко, а все же. Еще детей поморозишь.
Сквозь замерзшие, поседевшие стекла в окнах барачных каморок вслед им смотрело много глаз. Они видели, как под искрящимися лучами морозного солнца по наезженной дороге покатилась нагруженная подвода. Как жались друг к другу от холода дети. Как щелкал бичом Габрысь, как клубы пара вырывались из конской морды.
— Вот тебе и святой Михаил, — вздохнула Магда, отходя от окна, когда подвода уже исчезла на повороте.
Сегодня с Габрысем, а через год может и с ними то же самое случиться. Никто не был уверен в будущем. Из-за любого пустяка. Чего стоили поиски работы в такое время! А откуда знать, нет ли и у тебя на листке знака господского сговора, непреодолимой силы, тайной власти, управляющей батрацкой жизнью.
— И как они будут жить, эти Габрыси? — спросила она у мужа, мрачно лежавшего на нарах.
— Чего спрашивать? Не больше твоего знаю. Всякий живет, пока не помрет.
— Ребятишек жалко.
— Меньше будут мучиться на свете. Сладка тебе эта жизнь?
Он поглядел на жену. Магда стояла, растирая озябшие руки. Кончик носа посинел от холода. И все же она была хороша. Большие серые глаза совсем как у ребенка.
Ему вспомнилось, что раньше, до того как он на ней женился, ей нравился Флориан Зеленок.
— Кабы ты за Флориана вышла, тоже не сладкая была бы жизнь, — сказал он вдруг, неожиданно для самого себя.
Магда вздрогнула.
— Э… да ты что? Какой там Флориан? Ведь он небось хозяйский сын.
Это была правда. Флориан — хозяйский сын, а она по отцу и по матери батрачка, в бараках родилась.
— Бабу свою бьет…
— Да уж знаю, смертным боем бьет.
— Вот видишь…
Она не могла понять, что с ним. С чего он вдруг? Начал говорить о Габрысях, съехал на Флориана. И никогда об этом не говорил, а вот как раз сегодня…
Он сел на нарах и принялся обертывать ноги в старые онучи.
— Идешь куда?
— Да ведь как же? Солому резать надо.
Она огорчилась.
— В такой мороз!
Кшисяк не ответил. Мороз не мороз, а работа есть работа. Он открыл дверь и вышел в седой, солнечный, ледяной мир.
Соломорезка стояла в сарае. Огромной, ровной челюстью скалила зубья ножей. По субботам резали сечку впрок. На долгие дни. Не диво, — лошадей сколько… Снопы лежали высоким ворохом. Их выдал приказчик, свалили в кучу рабочие, сбрасывая с чердака, где они громоздились до самой крыши.
Антон развязывал снопы, клал в соломорезку изрядный пучок соломы, такой, что едва обеими руками обхватишь. Кшисяк и Малик взялись за ручки. Соломорезка хрустнула, колеса медленно задвигались. Жадные зубья хватали солому, втягивали ее, ожесточенно кромсали. Сперва медленно, потом все быстрее — чах-чах-чах, только воздух свистел. Колеса разогнались; казалось, они вертятся сами. Но Малик сразу запыхался. И Антон едва поспевал подкладывать солому. Соломорезка поглощала охапку за охапкой — небольшие, обмолоченные с осени снопы. В воздухе заклубилась серая пыль, запершило в горле. Из широко разинутой пасти соломорезки сыпалась сечка. Мелко нарезанные кусочки водопадом низвергались в подставленные корзины. Маленький Яцек только того и ждал, его радовала эта огромная куча, она росла на глазах, золотисто-серая, местами будто прошитая зеленью сорняков, притаившихся в соломе.
Яцек отгребал сечку к краям корзины. Она просыпалась между пальцами, сухая и хрустящая. И вот корзина уже полна с верхом. Тогда он торопливо оттаскивал ее и подставлял другую. Полную он высыпал в большие лари, стоявшие в стороне. И со всех ног бросался туда, где уже вырастал новый холмик сечки. Отгребал. Готовил другую корзину.
Антон подкладывал солому. Осторожно — не захватило бы руку. Но туго, чтобы резало ровно и споро.
«Чах-чах-чах-чах», — грохотала соломорезка, ровно вертелись колеса, шелестела солома, скрежетали железные зубья.
В это время даже холод не чувствовался. На лбу выступал горячий пот. Ручки соломорезки не давали людям дохнуть. Сперва человек ни о чем не думал. Потом, когда начинала неметь согнутая спина, когда в носу свербело от пыли, когда руки начинали нестерпимо болеть, невольно думалось о том, как бы сделать, чтобы стало хоть чуточку легче.
Толкнешь ручку вниз, ожидая, что вверх она сама пойдет. Она идет, только уж не с таким размахом. Постепенно теряется разгон, и приходится снова напрягать все силы, уже без всяких хитростей. Не обманешь. Приказчик, проходя мимо ворот сарая и не глядя, знал, как режут: спустя рукава или как полагается. Он знал это по скрежету ножей, по грохоту колес, по этому упрямому равномерному «чах-чах-чах». И если ему казалось, что там что-то не так, он приоткрывал скрипучие ворота. Ему не приходилось говорить. Достаточно было заглянуть. Машина начинала бешено работать. Опять сопел старый Малик да Антон метался, едва успевая подкладывать снопы, а с Кшисяка лил струйками пот.
Но вот пыли нависло столько, что пришлось настежь открыть ворота. В них ворвался резкий, ледяной воздух. Казалось, он плотными кусками попадал в утомленные легкие, студил зубы, как ледяная сосулька. От этого чистого, прозрачного воздуха захватывало дыхание, болело в груди.
В сарае было темно, мрачно, да еще из соломорезки вырывалась клубами пыль. А в ворота смотрел светлый, ясный день, весь голубой и серебряный. В изломах стен, в застывших следах ног мороз лежал густой голубизной, искрился по краям, как толченое стекло.
— Живей, живей, Антон, не отставайте!
— Небось против тебя еще выстою!
— Как не выстоять. А солому все-таки скорей подавайте.
— Куда торопитесь? Кто вас гонит? Небось все будет в свое время. В самое, что ни есть. Свезут тебя на кладбище — и все. Ни на один день не опоздают. Пришел конец — и никаких разговоров.
На минуту пришлось прервать работу, потому что Малика схватил приступ кашля. Он присел на перевернутую корзину и кашлял. Сперва тихо. Потом все громче, все сильнее. Этот кашель вырывался из его груди, словно гул из старой бочки. Он обеими руками сжимал грудь и кашлял, кашлял. В груди что-то хрипело, рвалось. Кашель, наконец, прекратился. Малик отошел к порогу и сплюнул на снег. Красный след загорелся на серебре и лазури. Кровь тотчас застыла черным комком.
— Ну, что ж, давай дальше.
«Чах-чах-чах», — вертелись колеса. До самой темноты. Но тогда пришел приказчик и принес фонарь. Он осторожно повесил его на гвоздике, у маленькой двери, ведущей в кладовую. Фонарь бросал мутный рыжеватый свет на вороха соломы, на сечку, на измученные лица людей.
Теперь они даже не разговаривали. Невозможно было. Человек с трудом переводил дыхание, с трудом продолжал работу. Каждое движение стоило больших усилий, распадалось на отдельные частицы, казалось бесконечным, непреодолимо трудным. Мучительно думалось, что вот надо наклониться, надо повернуться, надо толкнуть, надо резать солому, как велел приказчик.
Соломорезка скалилась в полумраке, как зубастое чудовище. Безжалостный, ненасытный зверь, который жрет, жрет и вечно голоден.
Вечером и ужин не шел на ум. Валился человек на нары и засыпал, едва успев перекреститься.
Было еще почти темно. Магда вышла потихоньку, чтобы не разбудить мужа. Пусть хоть в праздник отоспится. Она все плотнее куталась в шаль, мороз пробирал до костей. Черными пятнами темнели в засыпанной снегом котловине усадьба, хозяйственные постройки и низкие, приземистые бараки. Проложенная по плотному скрипучему снегу тропинка вела к костелу.
«Как это у нас все, одно около другого, все в куче», — подумала она, минуя решетку огорода. В стороне показалась башня костела. На бледнеющем небе четко выделялся ее острый шпиль. Пониже, будто над самой землей, горела последняя, одинокая звезда.
— Слава Исусу Христу.
— Во веки веков.
Шли почти одни бабы. Из бараков бежали худые, из деревни медленно, степенно шли широкие, плотные. И не диво. На Магде и на других батрачках только и было, что одна юбчонка. Пусть широкая, сборчатая, праздничная, а все одна. А деревенские, те так и шуршали юбками, надетыми одна на другую, надутыми, как шары. Юбки топорщились на животах, будто все деревенские были в тягости. Словно в одеяла, они кутались в толстые шали. Этакую бабу можно было прокатить по камням, она бы и не почувствовала.
Магда открыла маленькую боковую дверцу. Из костела повеяло ладаном, еще какими-то запахами, которых нигде в другом месте не услышишь. У бокового алтаря уже горели свечи, но большой алтарь, поблескивающий во мраке таинственным блеском позолоты, утопал во тьме. Было еще рано. Появился псаломщик, посмотрел на людей. Прихрамывая, он вышел на середину, где свешивался вышитый шнурок от колокольчика. Дернул раз, другой. Откуда-то с высоты раздался тоненький, быстрый трезвон. Женщины поудобнее уселись на скамьях, послышалось покашливание теснившихся сзади батраков. Мужчин еще почти не было. Только слепой Амврозий покачивался на лавке, как всегда, да еще Ендрасова жена притащила с собой своего единственного сына.
«Боится, как бы он не побежал к какой-нибудь девчонке постель греть», — подумала Магда, вспомнив давнюю обиду. Все это пустяки, но они ранили сердце, словно заноза, назойливо напоминали о себе горькой обидой. Ей и в голову никогда не приходило льнуть к этому сопляку — старухе просто привиделось. А она взяла да и попрекнула Магду при людях, разинула пасть, да с такой злостью, с такими издевками, господи боже… Магда так углубилась в воспоминания, что чуть не прозевала, когда ксендз вышел из ризницы.
Обедня уже шла, когда громко, словно назло, скрипнули двери. Все головы обернулись к выходу.
— Маленько проспала, — ехидно усмехнулась Магда.
От дверей шла Матусиха. Она старалась ступать тихо, на цыпочках, но башмаки скрипели, как немазаная телега. Мгновение поколебалась. У нее было свое место на скамьях, да еще неподалеку от господских, где сидела помещица с дочкой.
Но было как-то неловко протискиваться туда теперь, когда ксендз уже переложил евангелие. Она отошла в сторону и остановилась позади скамей; прямо перед Магдой. Чуть впереди, чтобы не смешаться с батраками.
Вот она опустилась на колени. Завздыхала, раскрыла молитвенник, хотя было слишком темно, чтобы можно было разобрать хоть одну буковку. Ксендз всегда следил, чтобы берегли свечи. Потом, во время поздней обедни, горело большое паникадило. Оно колыхалось у свода, будто стеклянный паук. Горели и боковые лампадки и все свечи в большом алтаре. Но это позже, когда приходили помещица и крестьяне-хозяева. А сейчас здесь толпились работники из экономии да немного деревенских женщин.
Припадая к земле, когда возносилась дарохранительница, Магда заметила густую щеточку, которой была обшита юбка Матусихи. Господи боже мой! — Юбка была кашемировая, в полумраке она казалась черной. Но, наверно, она синяя. А из-под нее выглядывал краешек другой, темно-зеленой. Когда же Матусиха шевельнулась, зашуршали оборки надетых под низом накрахмаленных юбок.
Магда забыла о богослужении. Эти кашемировые юбки заслонили от нее весь мир. Да еще шаль! Она окутывала плечи и низко опускалась, мягкая, как мох, пышная, как новая перина. На фоне горящих в алтаре свечей видны были тонкие ворсинки рыжеватой каймы на пушистой материи.
«Какая шаль! — думалось Магде. — Сколько же это рублей надо дать за такую шаль?» Она стала с усилием припоминать шаль, которую видела на последней ярмарке. Но куда там, та шаль была куда тоньше.
Она украдкой протянула руку. Угол шали лежал возле нее на каменном полу. Богато вилась толстая бахрома. Магда придвинула руку, потом сама придвинулась немного на коленях, чтобы незаметно для других дотронуться до шали.
Да, так оно и есть, как ей показалось. Мягонькая, как пух! И поддается под рукой, будто тесто. Магда с наслаждением провела рукой по узорам на платке.
Матусиха вдруг обернулась и взглянула ей прямо в лицо. Сердитым движением подобрала шаль и отодвинулась на коленях в сторону.
Жаркий румянец загорелся на худых щеках Магды. Она склонялась ниже и ниже, пока не почувствовала горячим лбом холод каменного пола.
III
Зима держалась крепко.
Надоела людям. Доняла их вконец.
Не хватало дров. В печи уже попихали все, что только было возможно. По правде сказать, и дрова-то были никудышные. Батракам всегда такие выдавали — щепки, зеленые хвойные ветки, гнилые пеньки. Все это сгорало вмиг, как солома.
Ходили люди в усадьбу. Просили. Зима, мол, хуже, чем летошняя. Чтобы барыня прибавила дров.
Куда там! Берите, коли хотите, но только за деньги. Иначе не даст. Вы уже свое получили — и крышка. И разговаривать не стала.
Где только была какая щепка, веточка, хворостина, — все пособирали.
Какой был мороз, а они гнали ребятишек искать топливо.
Ребята ломали ивняк на берегу. Собирали под деревьями шишки, брошенные белками. Прокрадывались в деревню, к расшатанным заборам, откуда легко было вытащить дощечку-другую.
Управляющий ругался — плетень у пруда куда-то исчез в несколько дней. А куда ему деваться? Знать, сгорел в барачных печах.
Ребятишки на все пускались. Они знали, что такое тепло в лачуге. Кто-то из них оторвал несколько досок в конюшне. Управляющий бегал, ругался, допытывался, но виноватого не нашел.
Повсюду подстерегала опасность — возле усадьбы присматривали и прогоняли приказчик и управляющий. В деревне свирепо лаяли собаки, и мужик тотчас выскакивал из избы посмотреть, что делается. До леса было далеко, и там шатался лесник с ружьем на плече. А ему было не в диковинку выпустить в карапуза заряд дроби.
Но надо же было что-то делать, чтобы не замерзнуть. Магда сожгла в печке доски, которыми отгорожен был кабанчик под нарами. Теперь он вволю лазил по всей каморке, путался под ногами.
Гневно искрился мороз. Ночи вставали черные, непроглядные, но искрящиеся от снега и звезд, бесчисленным роем высыпавших на небе. Каждый шаг был далеко слышен, отдавался хрустом и скрипом, несся до самой усадьбы, туда, на другую сторону, в луга.
Дважды в день приходилось прорубать лед на пруду, чтобы рыба не задохлась. Тем более, что после осеннего лова в пруду остался только молодняк, еще не подросшая мелкота. Крупные глыбы льда оттаскивали в сторону, отгораживая прорубь ровной стенкой, чтобы кто не упал в воду, — хотя кому охота в такую пору шататься по пруду. Но вечером прорубят лед, а к утру от проруби остается только след — гладкий, прозрачный лед. Сквозь него было все видно до самого дна, где неподвижно под водой стояли водоросли. Видно было и рыбу. Карпы со всех сторон собирались к прорубям, ведомые своим рыбьим разумом. Они кругами стояли в освобожденных от льда местах, глубоко дышали, шевеля жабрами.
В эту морозную пору случалось больше происшествий, чем когда бы то ни было. Промерзшие до мозга костей люди ходили, как в тумане. Антчак попал рукой в соломорезку. Паливода поскользнулся на льду и упал в прорубь. Правда, он только промочил ноги по колени, но привязался такой кашель, жар, удушье, что он долго не мог подняться с постели. Дети отмораживали себе носы и руки. Не надо было для этого из дому выходить, мороз пробирал и в бараках.
А уж хуже всего было мужикам, когда приходилось ехать в лес. Они бранились, сыпали проклятиями, но что поделаешь: нужно было заготовлять дрова, а это — зимняя работа.
В молчаливую, морозную глубь леса ехали, словно на казнь. Возвращались с потрескавшимися губами, с фиолетовыми обмороженными лицами. Сташек поехал с Кшисяком. Когда они к вечеру вернулись, парень, едва войдя в избу, поднял крик. Магда принесла снегу и изо всех сил растирала ему ноги. Сташек выл не своим голосом, старый Малик аж прикрикнул на него:
— Чего орешь? Небось не отвалятся ноги-то.
Но Сташек кричал еще долго. Да и потом, ночью, плакал во сне, всхлипывая, точно дитя малое. Молод был еще, невынослив.
Ждал, не мог дождаться народ, когда это кончится. Еще с осени было видно, что зима будет лютая. Шишки на соснах были красные, как кровь, а ветки рябины сгибались до земли под тяжестью гроздьев. Карпы не приближались к берегу, а отплывали к середине пруда, в глубокие места.
Вот оно все и оправдалось. Трескучий мороз держался без конца.
Как вдруг однажды поднялся ветер. Началось с вечера. Зашумели, залопотали голые деревья, всю ночь был слышен стон ветра в трубе, мрачный, завывающий. Потом стихло.
К утру повалил снег огромными густыми хлопьями, в полушаге ничего не стало видно.
Но люди радовались. Кончился мороз, а он хуже всего. Будто бешеная собака.
Снег все шел. Тихо, мягко, непрерывно. Навалило по самые окна бараков. Приказчик выгнал всех отметать снег от барского дома, от коровников. Лопатами прокладывали тропинки к конюшням, к коровникам, к колодцу, к сараям. По сторонам белыми стенами поднимался плотный белый снег.
Мело и мело, словно и конца этому не будет. Но потеплело здорово. Бабы уже бегали из бараков в коровники в одних юбках и кофтах, не кутаясь в тряпье и платки. Легче стало народу.
Хотя не намного. Потому что, когда чуть потеплело, холод стал выделяться из барачных стен, зелеными и синими пятнами сырости расплывался по стенкам. В барачных каморках стало еще хуже.
Да и на работу приказчик и управляющий еще злее выгоняли людей. Зима, дескать, кончается, к весне дело идет.
А до весны было еще далеко.
Мягкий снег лежал толстым слоем на полях. Зима ледяными сосульками свисала со всех крыш. Лишь в самый полдень, когда солнце пригревало, с них капало на рыхлеющий снег.
Иной раз шумели воробьи на крыше, греясь на солнце. Но на другой день небо снова затягивало низко нависшими серыми тучами, и теплое дуновение ветра исчезало. Зима снова брала свое.
Из кузницы, стоявшей как раз посередине деревни, целый день до позднего вечера доносился стук молотов. Звенела наковальня, тяжело дышали мехи, красными искрами пылал огонь. Шли предвесенние работы: точили и чинили лемеха, в бороны вставляли выломанные осенью зубья. В усадьбу приехал механик и осматривал машины. Управляющий ругался, находил всюду непорядки. А механик получал большие деньги — не здешний был, приезжал издалека, вот и заставлял хорошо оплачивать свой труд. За все отвечать приходилось управляющему, а управляющий взыскивал с батраков.
Магда в это время уже обдумывала, как бы весной побелить каморку. На стены взглянуть было страшно. Они пропитались сыростью, стали серые, черные, будто на них сроду извести не было. От этой мокрети Малик кашлял все больше, по ночам иной раз невозможно было глаз сомкнуть. А Магда спала чутко. Она лежала и слушала, как у старика булькает в груди, как он приподнимается на нарах и с шумом сплевывает на глиняный пол.
Из-за этих плевков в каморке были вечные ссоры. Но и то сказать, не мог же старик всякий раз выходить за дверь, чтобы сплюнуть, да еще в такую холодную, зимнюю пору?
«А может, и не стоит белить?» — думала Магда. Вроде и не к чему. Ведь скоро опять будет по-прежнему. Подтечет сыростью, осыплется, облезет, как паршивая собачонка, только что свои несчастные копейки на известь потратишь, а все попусту.
Кабы не Малики, можно бы еще как-нибудь навести порядок в каморке, а так — больно много народу. Никто не чувствовал себя дома, всякий жил как попало, будто назавтра предстояло переходить куда-нибудь в другое место. И так продолжалось годами. Барачная каморка немногим отличалась от хлева. Летом еще полбеды — ветер обсушит, иной раз солнце заглянет сквозь приоткрытую дверь. Но зимой от духоты давило грудь, размокал глиняный пол, сырели стены.
Кшисяк и слышать не хотел о побелке. К чему это? Бабьи выдумки, только и всего.
Видно, так уж суждено, чтоб батрак жил в таком вот хлеву. Такое жилье ему положено — и крышка. Если иной раз которая из девчат принесет, бывало, цветок из деревни, посадит его в горшочек, — все равно не растет. Не то что в деревне, где фуксии и мирты в одной избе все окно закрыли зелеными листьями, чашечками чудных цветов. Здесь было темно, сыро, холодно. Вот и не водились цветы, не хотели расти.
К тому же у Кшисяка были свои заботы, некогда ему было думать о побелке. Зимой, пока держались морозы, его оставляли в покое. Но как только потеплело, видно, и барышня в усадьбе почуяла, что идет весна, и Кшисяку снова пришлось бегать к соседу помещику письма носить.
Дивился он этому. Ведь почти каждое воскресенье или хоть через воскресенье кленчанский барин приезжал в усадьбу. Кажется, могли бы наговориться, сколько душе угодно. Так нет. Им надо еще письма писать.
С этими письмами ходил то один, то другой батрак. А только перед самой зимой с Валеком Палюхом случилось несчастье — потерял письмо. Он боялся вернуться в усадьбу, боялся показаться на глаза барышне. Раз пять прошел он туда и обратно всю дорогу от одной усадьбы к другой, чуть не носом уткнувшись в землю. И все зря. Будто ветром сдунуло письмо.
И что там могло быть в нем? Сказать нельзя, что ли? Потому что барышня страшно обозлилась. Валек ушел от крыльца с суровым приказом — искать, пока не найдет.
А уж он ли не искал! Наверно, нашел кто-нибудь, взял, а потом и бросил, кто его знает куда. Так что Валек и искать больше не стал. Сел за сараями, да так и сидел.
С того времени с письмами стал ходить Кшисяк. Иногда помещик приказывал вынести ему на крыльцо рюмку водки, вот и вся польза от этой беготни.
Пока стояли крепкие морозы, барин как-то не показывался в усадьбе. А только потеплело, барышня вспомнила о письмах. Кшисяк напихал соломы в сапоги и отправился. Туда шел еще кое-как. А вот обратно — плохо ему пришлось.
Он пощупал за пазухой. Письмо тут. Не дай бог — потерять!
Дорога была совсем еще не наезжена. Раза два, верно, проехали помещичьи сани, пропахали сыпучие сугробы, — только труднее идти стало.
Снег был мягкий, легкий, как пух. Высоко вздымались сугробы, словно перины на постели у зажиточного хозяина. Низко нависло серое, набухшее тучами небо.
«Опять мести будет», — подумал он, глядя, как светлеет полоса на горизонте. Кшисяк с трудом пробивался вперед, то и дело по пояс проваливаясь в снег. Дул порывистый, тотчас замирающий ветер. Он горстями подхватывал снег и бросал его в лицо. Все живое притаилось, попряталось. Даже ворон не было видно.
У придорожных верб были засыпаны почти все стволы до уродливых толстых сучьев, откуда росли молодые ветви. На них лежали огромные пышные шапки, смешно сдвинутые набок. Этих верб и держался Кшисяк, чтобы не сбиться с дороги. Других примет не было, — куда ни глянь, везде расстилалась дымящаяся летучим снегом равнина. По ней, кружа мириады снежных искр, плясал ветер.
Кшисяк приостановился на мгновение, протереть заболевшие глаза. Только теперь он почувствовал, что у него вся спина взмокла. Его вдруг пронял озноб. Вытерев красным платком лицо, он пошел дальше.
Вербы кончились, когда он свернул к своей деревне. Теперь он не был уверен, идет ли по занесенной снегом дороге, или свернул в чистое поле. Кшисяк с трудом пробивался вперед, как вдруг нога его не нашла опоры. Он замахал руками и провалился по самые плечи.
— Черт побери! Ямы!
Видно, он свернул со Сковронова поля на пустырь, откуда когда-то брали глину. Старые, полузасыпанные глинища обмерзли, снег сравнял их с землей.
Он долго выкарабкивался. На одно мгновение его взяла охота прислониться головой к снежной подушке, отдохнуть минутку, одну коротенькую минуточку…
Но барышня приказывала, нахмурив брови, словно злые гусеницы, «сбегать быстро и сейчас же вернуться, она будет ждать».
Нащупывая ногой крутой откос предательской ямы, он, наконец, выбрался наверх. Внимательно огляделся, свернул направо, где должна была быть дорога, и ускорил шаги.
Не потерял ли письмо? Он коснулся рукой куртки на груди.
Тут. Шелестит. Вдали мелькнули черные пятна, и он легко вздохнул. Из серого тумана вынырнула башня костела. Теперь он уже не держался дороги, а брел прямиком, не разгибая согнутых коленей. Из последних сил напирал на упрямый, сыпучий снег.
Ветер переменил направление. Дунул резким ледяным дыханием. Пронизал до костей, как сквозь сито прошел сквозь намокшую одежду.
Он добрался до усадьбы как раз в тот момент, когда к крыльцу подали сани. Кшисяк, задыхаясь, остановился на мгновение, чтобы набрать воздуха в сжатую от ветра грудь.
Барышня вышла в серой меховой шубке, увидела его, но, не останавливаясь, прошла к саням. Юзеф поспешно отстегивал крытую синим сукном баранью полость.
— Есть письмо?
Он подбежал. Окоченевшими пальцами расстегивал ускользающие пуговицы. Развернул полотняную тряпочку, достал продолговатый конверт. Барышня взяла, но читать не торопилась.
— Поезжай, — приказала она Юзефу и тотчас обратилась к Кшисяку: — Барин был дома?
Лошади тронули, сперва медленно. Кшисяк торопливо шел рядом. Барышня сощуренными глазами смотрела прямо перед собой, вдаль.
— Дома. В самые руки ему отдал, как было приказано.
— Сказал что-нибудь?
Отдохнувшие сытые лошади двинулись быстрей. Здесь дорога была уже немного наезжена санями, на которых возили навоз из конюшни на господские поля. Кшисяк почти бежал за санями.
— Прочитал письмо и велел обождать в сенях.
— А потом?
Кони пошли рысью. Кшисяк бежал сбоку, держа шапку в руках.
— Потом дал мне письмо.
— И еще что?
Он с трудом переводил дыхание. Ему приходилось бежать по обочине, где снег был еще не тронут, как на полях. На мгновение ему захотелось ухватиться за поручни саней. Но он удержался. Куда это годится, цепляться за господские сани? Да еще при барышне. Сурова она была и людей ни во что ставила.
— Больше ничего.
— До чего глуп! — сказала бырышня, откинулась на спинку саней и уткнулась носом в воротник шубки.
Кшисяк понял, что разговор окончен, и остановился. Его охватила странная слабость, перед глазами замелькали черные пятна. Он торопливо надел шапку. Сани уже исчезали вдали в клубах снега, поднимавшегося из-под конских копыт, отбрасываемого в стороны полозьями.
Он повернул к баракам. Шел медленно, хотя его трясло от холода.
Сташек встретил его у дверей.
— Так вы уж вернулись?
— А ты не видишь? — сказал со злостью Кшисяк.
Весна упорно боролась с зимой.
Брала верх то одна, то другая.
Оттепель. И снова мороз. Из-под снега появились клочки черной, мокрой земли и вновь укрылись снегом.
Но уже видно было, что весна скоро осилит. Она неслась в запахе ветра, свободным, ласкающим лицо теплым дыханием. Слышалась в журчании воды, освобожденной от ледяного покрова. Уже струилась тысячами ринувшихся отовсюду ручейков. Уже поднималась на поверхность земли зеленой травой, острыми стебельками, мокрыми, помятыми озимями. По вечерам перекликалась голосами пролетавших вверху невидимых птиц.
Люди радовались, хотя, по правде сказать, баракам радоваться было нечему.
Ведь не для них расцветала весна голубыми цветочками у воды, майораном в садочке. Не им улыбалась она белизной грушевого цвета, розовой улыбкой яблонь в собственном саду. Не для них зеленела она и той густой порослью, что восходила на собственных полях.
Для бараков весна — это подготовка плугов, подкормка коней, починка борон, у которых за зиму выкрошился один, другой зуб. Для бараков весна — это посадка картофеля: целый день сгибать спину над вскопанными бороздами. Для бараков весна — это копка гряд под огород; полоть, мучительно всматриваясь в едва подымающуюся кудрявым леском зелень. Для бараков весна — это сев, тяжкий труд, это день, настающий прежде чем погаснут звезды, прежде чем они утонут в бездне неба. И ночь, настающая позже, чем темень. Для бараков весна — это крики управляющего, приказчика, беспрестанное ворчание помещицы, что не успеют, не сделают, не сумеют как следует. Барачная весна исходила потом. Въедалась черной грязью под ногти. Бессонницей, болью в пояснице, опухшими ногами расцветала барачная весна.
И все же было радостно выходить в поле, когда вставал седой рассвет, когда в прозрачной дали разгорался розовый свет дня. Когда деревья покрывались легкой зеленью и булькала, журчала, веселилась вода.
Быстро шла весна. Человек и оглянуться не успел. Она возвещала о себе торжествующей песней жаворонка, звеневшей высоко в небе; птичьими гнездышками в ольшанике, на ветках ясеня, на старой яблоне.
Приходилось торопиться. Чтобы урвать денек или хотя бы полдня, когда можно и на своем поработать. Свое не свое, а так уж назывался тот клочок земли, который помещица отводила батраку под картошку, под капусту или под полоску ржи.
Обработать этот клочок надо было во что бы то ни стало. Когда — это уж их батрацкое дело. Нужно было найти такой день, когда хоть ненадолго приутихнет помещичья работа. Найти узкую щель между усадебными работами и втиснуться в эту щель. Скорей, скорей обработать, засеять, что возможно. Чтобы на следующий день снова работать на помещика, как полагается батраку.
Всходило все в этом году без удержу. Земля обсохла сразу, потом пошли теплые проливные дожди. Жизнь пробивалась отовсюду мелкими листочками, стебельками, белыми росточками, которые крепли и зеленели, как только их пригревало солнце.
И надо всем этим несся птичий щебет, птичий говор и гомон — над лугами, над прудом, над дорогой, по рощам и опушкам. Веселое, крикливое птичье племя. Пока оно не свивало себе гнезд, пока не садилось на яйца. Лишь тогда немного утихало.
На всем чувствовалось дыхание весны — на полях, на лугах, на людях, в коровниках, в курятниках.
Мир менялся изо дня в день. Расцвели сады. И тотчас их белизна исчезла, словно ее ветром сдуло. Запахло сиренью в барском саду; целые орды ребятишек облепили решетки и поднимали кверху курносые носишки, чтобы хоть издали понюхать, как пахнут господские цветы. Но вскоре отцвела и сирень. Расцвело что-то новое и снова притягивало детские глаза.
В усадьбу от кленчанского барина приносили огромные букеты. Народ дивился, к чему бы это. Мало ли у барышни в саду своих цветов? Да хоть бы и в лугах столько всего расцвело, что на телеге не увезешь. А помещик в рабочую пору гоняет к барышне людей с букетами.
Но таков уж, видно, господский нрав. Нет того, чтобы, как полагается, сказать прямо, по-божески, прислать сватов, да и обвенчаться. Видно, барину надо было и тут как-то иначе поступать, чем простому мужику.
Магда видела барышниного помещика всего раз или два. Да и то издали, когда он на бричке или верхом приезжал в усадьбу. И она часто расспрашивала мужа, которого барышня особенно любила посылать с письмами:
— Какой он из себя?
— С двумя ногами, а промеж глаз нос, — буркнул он сердито, потому что ему было совестно и противно, что он должен бегать бог весть куда с этой барышниной любовью.
Магда вздохнула. Мужик — и мужик. Много он в этом понимает…
Любопытно ей было, как они милуются. Тут-то, в бараках, немного любви увидишь.
Суровая была жизнь. На спину обрушивался тяжелый день. Ночь была коротка, не давала отдыха.
В прежние времена, когда она еще не была за Кшисяком, Магде нравился Флориан Зеленок. Хотя девушки говорили, что он тонкий, словно жердь, а ей вот нравился. Глаза у него были большие, черные, а волосы светлые, как лен. Он пел тоненько, будто девушка, а смеялся, бывало, широко, во весь рот, все зубы видать.
Но Флориан Зеленок и не смотрел на Магду. Батрацкой дочери одна была дорога — идти за батрака. А у Флориана была в деревне Кася. Два морга земли и корову давали старики за ней в приданое, а перин, а подушек! Господи боже! Да и не диво — единственная дочка.
Потом оказалось, оно и лучше для Магды, что она вышла за своего Ясека. С Флорианом и так ничего бы не получилось, разве что ребенком бы наградил. А уж свою Касю он и колотил! И напивался чуть не каждую неделю. Когда была в тягости, пнул ее ногой в живот, так что она выкинула, и с той поры никак не могла в себя прийти. Высохла вся, как щепка. Флориан ее ни во что не ставил. Женатый человек, а на девок заглядывался.
Ясек — другое дело. Этот не обидит.
Большой радости от его любви не было, но не было и горя. Они не ссорились — справедливый был человек.
Но ей часто думалось о том, как это бывает у господ. Должно быть, совсем, совсем иначе.
И Магда надивиться не могла тому, что барин будто бы не очень-то пропадает из-за барышни. А уж до чего Магде нравились золотые волосы барышни. Да и вся она была тоненькая, беленькая, как стрекоза над прудом, когда солнце блеснет на ее крыльях.
Барин будто бы бегал за деревенскими девчатами. Это просто в голове не умещалось. Куда деревенским, пускай самым красивым, до барышни?
Как-то поздней весной, в воскресенье, Магде случилось вырваться в рощу за лугами. Там росла бузина, она хотела наломать и насушить ее, это хорошо и от кашля и от боли в груди.
Весенний день благоухал черемуховым цветом, шелестел зелеными листьями, расцветал мелкими цветочками над рвом, который вел отсюда на луг, журчал узенькой струйкой лазурной воды.
В кустах щебетали птицы. Тиу-тиу-тиууу, — и вдруг: ах! ах! ах! — словно они разговаривали или передразнивали друг друга.
День был теплый. Молодые листья берез шелестели на ветру. Время уже близилось к лету. Оно чувствовалось в теплых солнечных лучах, в темнеющих дубовых листьях, в кувшинчиках орликов, медленно раскрывавших свои бутоны.
И все же была еще весна. Тут и там попадались дикие фиалки, почти без запаха, выглядывавшие голубыми, словно лен, глазками. Птицы еще гомонились по-весеннему, а не пели степенно, по-летнему.
По другую сторону, где роща спускалась к зеленому оврагу, Магда знала, растет бузина.
Вот они, густые кусты, осыпанные кистями цветов. Самое время рвать. Они еще не совсем распустились, маленькие белые звездочки, еще не осыпанные желтой пыльцой.
От них шел неприятный, крепкий до головокружения запах.
Магда не торопилась. Она забралась в самую чащу бузины и медленно рвала, выбирая лучшие кисти в заткнутый за пояс передник.
Зеленые, полные сока ветки ломались легко, с треском.
«Сколько их», — радовалась Магда. Кусты цвели, как еще никогда на ее памяти, хотя она бывала здесь каждый год.
Она пригибала к себе ветки, те, что повыше, и вдруг замерла. Послышались голоса.
Барин с барышней приближались к ней по тропинке, вдоль которой росли мелкие зацветшие кусты дрока.
У Магды замерло сердце, она глядела, не отрывая глаз.
Они шли медленно. Барышня опустила глаза в землю. В руках у нее был стек, она машинально сбивала им сухие головки прошлогоднего репейника, торчавшие, будто скелеты, над свежей зеленью.
Наклоняясь к барышне, барин что-то оживленно говорил ей.
Лицо у него было гладкое, бритое, лишь над губой виднелись небольшие светлые усы. Высокий, ловкий. Темные, но не черные волосы были сбоку разделены ровным пробором. Глаза смеялись. А уж глаза-то, голубые, голубехонькие, как васильки во ржи.
У Магды даже дыхание перехватило. Осторожно, чтобы не зашелестеть веткой, она опустила руку. Спрятанная в чаще бузины, она могла без опаски глядеть на них, как они идут по тропинке, прямо на нее, не зная, что на них кто-то глядит.
Барышня подняла глаза.
И Магда увидела эти глаза, серые, затененные сеткой длинных ресниц. Не радостное было у барышни лицо. Лоб перерезала тонкая вертикальная морщинка.
А барин — тот смеялся. Размахивал руками, видимо рассказывая что-то веселое. Понять она не могла — какие-то странные слова. Хотя говорили по-польски, это она разобрала.
Впрочем, ей и не интересно было, о чем они говорят. Хотелось только насмотреться на барина. Господи, до чего красивый! — дивилась Магда. Издали, когда она видела его подле усадьбы, он ей не таким показался.
И веселый. Он легко ступал в своих высоких сапогах, что-то толковал барышне.
Но та только покачала головой — нет, мол.
И он снова рассмеялся. Еще и еще. У Магды даже в горле защекотало от этого его смеха. Захотелось и самой засмеяться во весь голос, — так заразительно, от всего сердца смеялся барин.
Она во-время опомнилась. Испуганно прикрыла рот рукой. А те остановились. Прямо против Магды, так что она могла видеть их лица. Ясное, улыбающееся лицо барина и недовольное, хмурое — барышни.
Магде казалось, что если бы ей кто-нибудь хоть раз так улыбнулся — она бы носила в себе эту радость всю жизнь. Куда Флориану! Тот, против баринового смеха, просто ржал, как лошадь.
Теперь барин взял барышню за руку. И Магде вдруг стало стыдно, что она на них смотрит. Но теперь уж никак не уйти. Они бы заметили, поняли, что она уж долго здесь сидит. Она была спрятана в густом кусте бузины, и думать нечего, чтобы выскользнуть тихонько с другой стороны и лугами пробраться к баракам.
Пришлось смотреть. Она увидела, что барин снова что-то говорит барышне, но тихо. Вот она посмотрела ему прямо в глаза своими серыми глазами. Губы ее дрожали.
И барин, обняв ее рукой, поцеловал в эти дрожащие губы.
Барышня пошатнулась. Что-то тихо, быстро сказала.
Они повернули обратно. Снова остановились, но теперь уж Магде ничего не было слышно.
Так они поговорили довольно долго. Но барин уже не смеялся. Видно, рассердился на что-то. А потом вдруг сорвал с головы шапку, поклонился, повернулся на каблуках и ушел.
Магда помертвела. Барышня стояла на месте. Будто шевельнуться не могла.
Но вот она сделала шаг. Не за барином. Она пошла сторонкой вдоль рощи, — видно, в усадьбу.
Только теперь Магда подумала, как много времени она здесь провела, и бросилась бежать к дому. Обеими руками она поддерживала полный передник цветов и продиралась сквозь кустарник, который хватал ее за платье гибкими ветками. А ноги путались в папоротнике.
Ей удалось выскочить в луга на тропинку раньше барышни. Она совсем запыхалась и шла, чувствуя на спине взгляд серых глаз.
В лугах все золотилось от жабника. А в стороне, голубые, как бариновы глаза, низко, у самой земли, цвели незабудки. Густо, словно кто их посеял.
«Еще день-другой, и косить можно», — подумала Магда, прислушиваясь, как ее юбка шуршит, задевая высокую, сочную траву.
Она пошла медленнее. Как раз перед самой усадьбой ее обогнала барышня. Магда согнулась пополам в низком поклоне.
Но барышня и головой не кивнула. Может, она даже не видела Магды? Может, она видела только голубые, гневные бариновы глаза?
Магда вошла в каморку, достала из-за печки доску с вколоченными гвоздями и стала раскладывать на ней уже примятые, издающие резкий, неприятный запах зонтики цветов.
«Как же это? Из-за чего они поссорились?» — не могла она понять.
В избу вошел Кшисяк.
— Вот уж не придется тебе барышнины письма носить, — быстро сказала она. И не хотела, а сказала, точно ее толкнуло что-то.
— Откуда ты знаешь?
— Поссорились.
— Э, глупая! Кто тебе сказал? Они вечно ссорятся, а потом опять письма туда-сюда и опять мир. А потом опять бранятся.
Он презрительно сплюнул в угол.
Этого Магда никак не понимала. Она вынесла доску с бузиной за дверь и поставила ее у стены наклонно, к солнышку.
Потом взглянула на усадьбу. Но отсюда видны были только крыша и кусочек боковой стены.
Магда глубоко задумалась.
Как это у них вышло? Ей вспомнились голубые глаза барина и серые глаза барышни. И как они поцеловались! Как раз в это мгновение птица защелкала, будто радовалась.
Подивилась Магда. Видно, не радостна была эта господская любовь.
А ведь казалось — все так хорошо было сначала, когда они шли по тропинке. Барин смеялся, а его голубые глаза так и сияли.
IV
Антон был в городе на ярмарке. Привез оттуда новости.
Вечером все сидели в бараках и судачили. Война, говорят, будет…
— Не иначе как с французом…
— Да ведь дрались уже русские с французом. Только плохо это для француза кончилось. Может, теперь не станет?
— Это, должно быть, давно было. Может, француз теперь отомстить хочет.
— Русские сильней французов.
— Не то сильней, не то нет. Кто может знать?
— Милые вы мои, и охота людям воевать!
— Каким людям? Как погонят тебя в солдаты, так там уж не спросят, охота или нет. Приказ — и все.
— Так-то так…
Много судачил народ об этой войне. В сумерки велись длинные разговоры, обсуждали, кто сильнее. Припоминали турецкую войну и прежние войны, о которых в деревнях помнили смутно лишь самые древние старики.
Но вскоре все стало известно.
Желтый японец за русского царя принимался. Не здесь. В дальних краях, за Сибирью, на другом конце света.
— Дойдет он и сюда! Дойдет! — пророчествовала Тереска, всегда видевшая все в мрачном свете.
Люди покачивали головами. Никто наверное не знал, где это, далеко ли. Никто не знал, за морем или нет.
— Если за морем, так, может, и не дойдет. А если нет, так наверняка и нас захватит.
— Дурная. А корабли зачем? Захочет, так придет. Ему по морю, что нам по земле ходить.
— А войско как?
— На корабли посадит.
— Столько народу?
— А как же? Большущие корабли, трубы на них получше, чем в усадьбе. Под котлами топится, пар его и толкает. Сколько захочешь, перевезет.
— Боже великий! Чего только люди не выдумают! — вздыхали бабы.
— Не болтали бы лишнего, — рассердился Антон. — Накаркать не трудно. Пускай там русские с японцем дерутся, не наше это дело. Поколотят русских, пускай. А если японца побьют, так что он нам, брат или сват?
Так оно, конечно, и было. Говорилось ведь только так, к примеру. По правде сказать, никто не верил Терескиной болтовне, будто война придет аж сюда, в их деревню. Говорилось: война, но это никак в голове не укладывалось.
И все же война пришла в деревню.
Только не так, как думала Тереска.
По всей стране началось движение. Слышно было про такие вещи, о которых раньше никто и пикнуть не смел.
Появились в деревне разные люди. Заходили иной раз и в бараки. Чужие. Городские.
В усадьбе стало вроде как полегче. Не так приставал управляющий. Сама помещица показывалась редко.
Но уж самое удивительное произошло со стражниками.
Теперь они неохотно заглядывали в деревню. Не угрожали крестьянам, не так часто засиживались в лавчонке Йоськи. Притихли. Не лезли на глаза людям.
— Должно, колотят русских, если стражники так успокоились, — догадывались люди.
— Э, не только это. Колотить-то их колотят, да и другое кое-что делается.
Все навострили уши, но Антон больше ничего не сказал.
А что-то происходило. Доходили глухие тайные вести, передаваемые из уст в уста.
Из рук в руки переходили листки, напечатанные на тоненькой бумаге, часто пахнувшие еще свежей краской.
Заколочен досками был батрацкий мир. Отгорожен просторами полей, жестким законом батрацкого труда, ежедневной непосильной работой.
Но отголоски доносились и сюда.
Далеко-далеко, — пожалуй, полдня, а то и больше по чугунке ехать, — на шумной городской улице раздался выстрел.
Эхо этого выстрела донеслось сюда.
По улицам городов двигались шествия, но и здесь слышен был топот шагов.
Как-то иначе, просторнее, светлее стало в бараках. Как-то вдруг люди стали подумывать о том, что все может измениться. Ведь до сих пор казалось, что все дни от рождения до гробовой доски будут одинаковы, похожи друг на друга, как зерна четок, перебираемых в руках. Что накланяется человек, наработается, надорвется, натрудит руки, ноги на этом пути, который ведет из барака только на кладбище.
А теперь виделось иначе. Что не обязательно сегодня должно быть точь-в-точь, как вчера. Что завтра не обязательно будет то же, что и сегодня.
Удивлялся народ, неужели что-то переменится.
Не верил сперва.
Мрачно слушал Кшисяк, когда товарищ Мартин из города толковал ему об этом.
Не верилось, нет, не верилось в перемену. Известно. Мужицкая доля. Барачная судьба. Батрацкое счастье.
Кшисяк испытующе поглядывал на чужака, хотя Антон и поручился за него, — с давних пор, мол, его знает. И все же думалось. Что ему надо, этому человеку, чего он, взаправду, добивается?
Не по видимости. Не то, что он говорит. А вот что у него на душе? Какой ему интерес лезть сюда, сидеть у печки в Кшисяковой каморке, таскать бумажки, за которые еще в тюрьму попадешь, а то и на виселицу?
Хорошо говорил чужой. Но разговорами Кшисяка не обманешь.
Красиво говорил и ксендз с амвона, красиво говорила помещица, красиво сказать мог и управляющий, когда, бывало, выпьет немного.
Да не в этом дело.
Вот не верилось Кшисяку, что человек просто так, без всякой корысти сюда ходит. И он долго соображал, какую выгоду может этот чужой получить от того, что вот сидит в каморке, что говорит с ним, с Кшисяком, что натирает себе ноги на длинном пути из города, тащится к ним под дождем, в стужу, хотя, должно быть, имеет свой теплый угол, мог бы там сидеть.
Никто никогда к ним в бараки не приходил. Разве стражник с обыском, когда что-нибудь пропадет. Или управляющий, если кто на работу не выйдет, посмотреть — вправду ли болен, или только притворяется.
Всякий приходил по своему делу. По полицейскому делу, по помещичьему.
Но Мартину ничего не нужно было от Кшисяка. Он приносил доброе слово, заговаривал с Магдой, — и все тут. А когда говорил с Кшисяком, так даже красные пятна у него на лице загорались.
Кшисяк все ждал, когда же из всех этих разговоров станет ясно — так, мол, и так. Когда станет понятно, в чем же тут Мартинова выгода. Когда будет видно, как на ладони, к чему были все эти хорошие слова, крепкие рукопожатия при встрече.
Пришлось как-то к слову, и Мартин показал Кшисяку свою спину. Рубец на рубце. Иссечена нагайками на совесть.
Задумался Кшисяк над этими следами казацких нагаек.
И мало-помалу усомнился в том, что Мартин только затаился, что он одно говорит, а другого добивается.
Он был из города, этот Мартин. Но не из господ. На кирпичах работал. Руки у него были грубые, мужицкие, кожа на них, как ремень.
Кшисяк смотрел на эти руки. Соображал. Все его нутро отказывалось верить чужому человеку, человеку, который где-то далеко отсюда родился, вырос, не знал батрацкой работы.
Но то, что тот говорил, ему нравилось. О мужицкой доле. О земле, об этой земле, которой ни клочка не было у Кшисяка.
Теперь он уже иной раз и сам что-нибудь скажет, откликнется на то или другое слово. Но осторожно, пугливо, нащупывая издалека.
Иной раз ему приходило в голову, что тот так только, обойдет, обманет, сунет в руки какую-нибудь бумажку, а потом сам же и наведет на бараки стражника, а то и жандармов. Народ стал голову поднимать, и помещики с жандармами решили вот этак их угомонить.
И он остерегался. Ходил вокруг да около Мартина, как волк показывая зубы.
Но Мартин не удивлялся. Упорный мужик был, твердил свое. Помаленьку, степенно, человек бывалый, повидал свет, многое узнал.
А уж больше всего рассказывал о тем, как и что будет. Говорил и аж стискивал пальцы своих больших, жестких рук. Кшисяк слушал.
Слова Мартина западали ему в голову медленно, по капельке, словно скалу долбили. Проникали вглубь. И там оставались.
Не просто оставались. Слова Мартина всходили, словно весенние ростки, что еще не могут пробиться сквозь твердую глину, но уже стремятся вверх, ищут пути.
Встретился он и с товарищами Мартина. Все они говорили одно, хотя и не похожи были друг на друга.
А уж больше всего удивило его то, что есть среди них и крестьяне. Франек Колец из другой экономии. Ментус из села, у которого избенка на песчаном холме. При избе только огород, земли не было. Ментус тоже батрачил.
Сердцем Кшисяк уже начинал тянуться к ним. Но разум говорил другое: никому не верить, ни с кем не говорить с глазу на глаз. Не брать меду, чтобы он не разлился во рту полынью.
Мартин с товарищами ходили по баракам. Прокрадывались молчком, тайком, стараясь не попадаться на глаза стражникам.
Много появилось отовсюду чужих людей, да и своих, — таких, что здесь сидели издавна, только раньше с мужиками никакого дела не имели. Теперь они ходили по деревне, даже со старостой вели разговоры, а о чем, никто толком не знал. Секрет, видно. Потому что, хоть стражники и притихли, хотя дела с японцем шли у русских все хуже, все же никогда нельзя знать, что может случиться. Лучше поосторожней.
Но эти, Мартин и другие, ходили и говорили. Собирали в избе по два, по три человека, подробно растолковывали.
Тереска принесла чудные новости. Когда они с Магдой пошли убирать коровник, она долго и торопливо болтала.
— Вот истинный крест, правда! Говорил, что все теперь будет иначе. Только народу надо скопом действовать, чтобы все вместе.
— Как это, все вместе?
— Ну, как! Чтобы и деревенские мужики, и батраки, и все. Интерес, говорит, у всех мужиков один, все, говорит, равны, так вот потому! Собрания, говорит, будет делать, и чтобы все приходили.
— В деревне?
— В деревне. И там все вместе обсудят. Только сказал, чтобы от стражников таиться, потому, если узнают в полиции, будет плохо. Так ты, гляди, не трезвонь!
— Чего мне трезвонить? Что я, со стражниками разговариваю, что ли?
— Я не про стражников. А вот если бы ты, к примеру, кому-нибудь сказала, а сама знаешь, какие теперь люди — другой сболтнет, и, глядишь, — беда.
Магда не ответила. У Терески у самой длинный язык, а других останавливает. Магда-то знала о делах своего мужика, не слепая. Да он и сам от нее не скрывал, а ведь никому не выболтала. Уж она-то знает, как оно бывает и какие теперь люди.
Но то, что говорила Тереска, ей как-то не нравилось. По деревням ходили разные люди, издалека, из города, простые люди и господа, и все говорили. И все по-разному. И ей было как-то чудно, потому что Кшисяк и старый Антон тянули совсем в другую сторону, чем Терескин мужик. То, что они говорили, как-то лучше укладывалось в голове. Землю, мол, всем поровну. Это так, это она могла понять. Хотя, боже праведный, когда еще это будет!
Но все же это не так, как болтала Тереска. Чтобы все были равны, уже теперь, сейчас. Куда ей, к примеру, до Матусихи! У той собственная изба, к каждому празднику она ее белит подсиненной известью. В избе две комнаты, сколько сундуков в чулане, сколько мешков! А с потолка всегда свисает хоть половинка доброго кабанчика. Сколько всякого добра! А льна-то, а полотен, а подушек и перин! А уж одежи!
А у Магды что? Нары в бараках — и все. Да эти полморга под картошку, да и те не свои. Ничего у нее нет, — как у самого что ни на есть нищего. Так куда уж ей до Матусихи!
Или хоть и другие деревенские бабы… Много о себе понимают, — бывало, едва на поклон ответят, когда встретишь их на дороге или у костела. С батрачками и разговаривать не станут. Не им чета — богачихи, на своей земле сидят.
Даже и те, что победней, считали, что они не то, что батрачки. Потому что хоть иной раз и жили в чужих избах и ходили на заработки, а все же не то, что батрацкая жизнь. Так как же это получится, чтобы вместе, сообща?
Мир представлялся Магде огромной лестницей. На самом верху — кто его знает, кто там? Наверно, цари, короли или папа римский — вместе так и сидят. А пониже — господа помещики. Еще ступенькой ниже — ксендз. Потому хоть и духовное лицо, а все же всегда о господской милости хлопочет, если ему охота жить получше.
Еще ниже — крестьянин. Такой, как Матус, как Матусиха, которые на многих десятинах хозяйничают. А еще ниже тот, у кого только клочок земли, а все-таки хозяйствует еще.
А ниже всех, в самом низу, батрацкий люд. А может, даже на лестнице не хватило для них ступеньки, может, он стоит на самой земле и только эту лестницу поддерживает?
Потому что ведь поля, лес, коровники, пруд были помещичьи. Но батраки пахали, сеяли, собирали урожай. Батрацкие жены трепали лен, пряли, щипали перо, пасли гусей и кур. Да взять хоть и огород, сплошь весь зарос бы сорняком, кабы не бабьи, кабы не батрацкие руки.
Магда задумалась над этой лестницей.
Так оно и есть, конечно. Не стоит батрак на лестнице, а только ее поддерживает. Чтобы помещику, помещице наверху хорошо жилось. Чтобы у них были тонкое полотно на скатерти, мука на хлеб, овощи к столу, рыба в пост.
Ведь из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день росло барское богатство. А помещица сама ничего не делала или мало что делала. Пройдется по саду, посмотрит, как оно там растет. Разве что с цветами под окном немного повозится, подвяжет к жердочке, пообрезает сухие веточки. Все делали за нее батрацкие руки.
Магда даже приостановилась от удивления, так странно ей показалось, как это она вся целиком на вечные времена запродалась помещице.
На мгновение она и о работе забыла.
Но тотчас же очнулась.
Да и что бы это было, если бы все сразу так призадумались — мужики в поле с косами, девушки с граблями, бабы на прополке, ребятишки на лугу со скотиной, — ведь все бы остановилось. Остановился бы весь этот поток богатства, который непрестанно льется в усадьбу из батрацких рук.
Магда даже испугалась: что бы это было? Она поспешно согнула спину и взялась за уборку, надо наверстать время, потерянное из-за глупой Терескиной болтовни, из-за этих дум, что ни с того ни с сего вдруг пришли ей в голову и ленью связали ловкие руки.
Одно было ясно — мужик, вросший в свою работу, закостеневший в своем труде мужик, зашевелился.
Стали поговаривать, что вот-вот наступят большие перемены.
В третьей от них деревне, говорят, мужики собираются по ночам в лесу, о чем-то судят и рядят. У Гайчака нашли какие-то бумаги, приехали жандармы и забрали его в город.
В волостях сговаривались. Когда на волостной сходке как всегда вышел урядник, еще рта не открыл, а все разом закричали, чтобы он говорил по-польски.
Урядник позеленел, стал грозить старшине. Писарь аж затрясся от урядниковых угроз.
Сходку разогнали, велели собираться на следующий день.
Но тут уж к волостному правлению привалила целая куча мужиков. Пришли все и темной стеной стали перед волостным правлением.
Опять вышел урядник и, как всегда, заговорил по-русски.
В толпе поднялся гул, словно полая вода рвала плотину.
— По-польски! По-польски! По-польски!
— Мы не ученые. Говори, чтобы все понимали!
— По-мужицки, как следует!
— С мужиками ведь говоришь!
Кое-где поднялись кулаки.
Делать было нечего. Мужики напирали со всех сторон.
Пришлось уряднику говорить по-польски.
Нескладно это у него получалось. Будто стекло грыз, заикался, — а уж покраснел, того и гляди кровь из лица брызнет.
Он грозил мужикам, пространно говорил о царских указах. Толпа слушала. Чудно им показалось, как это урядник разговаривает.
— Эй, смотри, язык не вывихни!
— Поет, как чиж!
— Подмазал бы глотку салом, дело бы лучше пошло!
— Подучится, подучится, не беспокойтесь!
— Палкой бы его отдубасить, он бы и не так заговорил!
Кругом шутили, пересмеивались, а уж больше всего — молодежь. Легко, весело вдруг стало. Вот он хоть и урядник, а пришлось и ему подчиниться миру.
А уряднику слышался за спиной грохот взрывающихся бомб на улицах далеких городов. Слышался гулкий шаг демонстрантов по мостовым за сто миль отсюда. Его душила злоба, но сильнее злобы был страх.
Потом, конечно, не обошлось без жандармов. Они явились, принялись расспрашивать, допытываться, кто первый стал требовать.
Никто ни словечка не пикнул. Тогда они стали хватать наугад, ощупью, словно рыбу в тине. Одного, другого. Случалось, забирали и того, который все время и рта не раскрывал.
А постановления шли своим чередом, от деревни в деревню. Что, мол, на волостных сходках должны говорить по-польски. Не по-русски. По-крестьянски, чтобы каждый понимал.
Еще постановили, чтобы в школах учили детей по-польски. Не так, как до сих пор.
На шоссе опрокинули указатель с русской надписью. Ночью кто-то сорвал надпись со стражницкого поста. А с Йоськиной лавчонки сорвали вывеску, изрубили в щепки топором из-за того, что, мол, не по-нашему была написана.
Так оно и шло.
Кто действовал потому, что так, мол, должно быть, так справедливо. А кто и так, из озорства, от радости, чтобы только насолить стражникам. Потому что не нашлось бы, пожалуй, человека, у которого не было бы какой-нибудь обиды на стражников.
Люди ходили по избам, грозились, всякий болтал, что ему в голову приходило. Читали газетки. Вечером в избе сходилось человека четыре-пять, кто умел, читал. Остальные слушали.
Переменилась жизнь. Словно праздник настал.
Даже бабы и те судили и рядили. Дети учились читать по польской книжке, — учителей вдруг расплодилось, что грибов после дождя.
Учил учитель в школе, тайком, украдкой, чтобы никто не узнал.
Учила Йоськина дочка, которая кончила гимназию, и теперь ребятишки каждый вечер бегали в ее комнатку за лавкой.
Учила Матусова дочка, та разбиралась в книжке не хуже самого учителя.
Иной только успеет сам буквы выучить, а уж другим показывает.
Бараки ждали. Ждала и деревня, что вот-вот произойдет еще что-то. Каждый день обещал неожиданное.
Только господский дом стоял немой, тихий, как всегда. Вокруг него стремительно клокотала жизнь, а он застыл среди этого бурного течения, как темная, неподвижная глыба.
А тут то и дело случалось что-нибудь новое. И наперекор долгим, одинаковым, серым годам теперь человек никогда не знал, что принесет следующий день.
До бараков доходили какие-то слухи, смутные и малопонятные. То были деревенские, волостные дела, а они ведь батраки. Это совсем другое дело.
Но однажды в воскресенье утром, когда лишь некоторые бабы были в костеле, а остальные все находились в бараках, в каморку влетел Сташек с криком:
— Мужики сюда идут.
Все выскочили из бараков. Да, шли мужики. Целой толпой. Богатые хозяева и беднота, все вместе. Тащили в руках тяжелые палки. Чернявый Козел выступал впереди.
Во всех барачных дверях стояли люди. Ребятишки высыпали, словно стая воробьев.
— Слава Исусу Христу, — сказал Козел, быстро переводя черные, словно угольки, глаза с одного батрака на другого.
— Во веки веков… — медленно и неуверенно ответили те. Никто еще не понимал, к чему идет дело.
Но Козел оперся на тяжелую вишневую палку.
— Так вот, мужики, надо собираться к волостному правлению. Раз уж такое время пришло, миром будем судить воров. Раз порядок должен быть на свете, так с себя надо начинать его устанавливать. Пора собираться, а то скоро начнется.
Антон почесал голову. Ему что-то не нравилось все это.
— Ведь мы не общинники, мы из усадьбы.
— Что ж с того? Все должны кучи держаться. Что ж, в бараках не может вор случиться? А разве вор не может и у батрака украсть?
— А как же! Вон у нас пять рублей из-за иконы вытащили, — во все горло закричала Вероника.
Кое-кто усмехнулся, — все знали, что баба скупая, мужику на табак никогда гроша не даст, все жалованье у него отбирала сразу при получке. Вот человек и устраивался, как мог, таскал у нее при случае.
Но Козел утвердительно кивнул головой.
— Ну да. Всюду может случиться. Всюду есть разные люди. Стало быть, и разговаривать нечего, пошли.
Батраки медленно, нехотя присоединялись к деревенским.
— Бабы тоже, — распорядился Козел.
— Бабы? Это как?
— Раз все, так все! Так мир решил.
Бабы принялись причитать. Кшисяк со злостью рванул Магду за рукав.
— Чего орешь? Что у тебя, чьи деньги под юбкой спрятаны? Дурная, кто тебе что сделает?
И пошли. К волости. Деревенские впереди, батраки за ними. Бабы тащились сзади. Некоторые все еще жалобно всхлипывали.
— Стыд-то какой, милые вы мои, стыд-то какой!
— Поди ты, дурная, какой стыд? Тебя-то ведь никто воровкой не считает.
— Управляющего бы захватить, — пошутил кто-то.
Но это уж было не их дело. За управляющим пусть помещица смотрит, свое добро стережет.
На перекрестке дорог они встретились с другой толпой.
— Гляди-ка, и вы тут?
— А как же. Со всех деревень, вся волость. Иначе и ни к чему все.
Где-то на повороте мелькнул мундир стражника, но тотчас исчез.
— Изловчился ведь, ушел в кусты.
— А конечно. Испугался небось.
— Да, кончилось его время, не станет больше с Паленками да с Казимирком ворованным добром делиться.
— Теперь у него брюхо-то поопадет!
— Э, этот еще не самый плохой, — усмехнулся рыжий Клысь. — А вот другой, Муров, так тот, бывало, сам ходил высматривать, в которой конюшне плохие запоры.
Все рассмеялись, хотя им было не до смеха. Чудно как-то все это было. В первый раз. И всякому было страшновато, что из этого получится.
По дороге они захватили из изб всех, кто только в состоянии был двигаться. Разве уж кто совсем шевельнуться не мог или едва таскал ноги от старости. Но такой на воровство не пойдет. Не справится. Такого можно в избе оставить. Пусть пока за детьми присмотрит.
Изо всех деревень, из лесу, из котловины внизу, из поселка на песчаном пригорке, из-за реки — отовсюду шел народ. Кучками, по двое, по трое, с палками, а который и вилы прихватил из конюшни, да так и шел.
У волости уже черно было от народу. Писарь со старшиной стояли в сторонке и совещались о чем-то, тихо и торопливо. Низенький старшина время от времени поднимался на цыпочки, чтобы через головы взглянуть, подходят ли еще люди, или поток мужиков уже кончился.
Когда дорога опустела, писарь остановился перед толпой и в нос, по бумажке, прочитал перечень всех деревень. Из толпы отвечали. Все были налицо. Народ согнали со всей волости, из каждой деревни.
— Усадебные рабочие здесь?
— Здесь, — хрипло ответил за всех Кшисяк.
— Ну, можно начинать! — сказал старшина.
Они стояли огромной толпой. Самые богатые хозяева и деревенская беднота. Но все вместе. Немного поодаль толпились батраки.
Люди искоса, неуверенно поглядывали друг на друга. Странно было сойтись так всем вместе на суд. Ведь неизвестно, что произойдет, кто-нибудь со злости может показать пальцем как раз на тебя, кто-нибудь захочет отомстить за какую-нибудь обиду, о которой ты и не помнишь.
Может, хозяева побогаче и были спокойны. Но остальные, вся толпа стояла так, будто у всякого было что-то на совести. Параска Куль тихонько плакала, шмыгая носом. Но таков уж был приказ по волости — и баб сгонять к волостному правлению. Неведомо, кто вор, а кто нет. По справедливости все должны быть здесь. По справедливости глядеть друг другу в глаза. Прямо говорить, что у кого на душе.
А день выдался как раз словно праздник. Пылало золотое солнце, все вокруг переливалось зеленью и голубизной. Высоко в небе парил ястреб. Все головы поднялись к нему, хоть, по правде сказать, не до ястреба им было. Птица кружила несколько мгновений, описывая в лазури ровные, будто отмеренные круги. Наконец, замерла. Ястреб висел в воздухе, его широко распростертые крылья были неподвижны. Кшисяку он показался большим крестом, нависшим над столпившимся у волости народом.
— Ну вот, мы все в сборе, — как-то необычно тихо и быстро сказал писарь Валентин.
Толпа всколыхнулась. По ней пронесся тяжелый вздох. На середину выступил толстый Матус. Морда у него лоснилась на солнце, будто жиром смазанная. Узорчатый пояс едва сходился на огромном животе.
— Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь.
— Аминь, — повторили все, но как-то тихо и неуверенно.
— Сошлись мы сюда, люди добрые, как постановил мир. Никто не остался в хате, разве уж совсем ноги волочить не может. Все наравне — хозяева, беднота и батраки.
Он засопел и умолк. Кое-кто еще раз вздохнул.
— На суд мы сошлись, судить по божеской и человеческой справедливости. Чтобы всякий мог сказать, что и как, чтобы людям все было известно. Если у кого какой грех на совести, если кого обидели, всякий пусть говорит. На то и мир, чтобы судить. Как постановим, так и будет.
Стоящие в сторонке бабы вдруг затрещали, как сороки, и громче всех Матусиха.
— Тише там! Не для крика сошлись! Выходи, у кого есть жалобы!
Толпа заколыхалась и умолкла. Кшисяк поднял глаза к небу. Ястреб все еще висел в лазури, прямо над толпой.
— Кто первый приносит жалобу?
Все молчали. Кое-кто в толпе побледнел.
— Что ж, ничего не поделаешь, тогда уж я начну.
Матус постоял минутку, раскачиваясь на толстых ногах, словно что-то взвешивал.
— Есть у меня, хозяева, жалоба. Хочу ее отдать на ваш суд. А жалоба такая.
Глаза его теперь искали кого-то в толпе. Быстро, испытующе перебегали с одного лица на другое. Наконец, нашли. Сощурились, на мгновение исчезли за толстыми веками.
— Увели у меня воры лошадь из конюшни. Это вы все помните, потому как и стражники искали и я сам аж в третий уезд за ней ездил. Ну, ничего не вышло.
Он снова умолк. Будто смаковал слова, будто радовался, что его слушают в мертвой тишине. Эти слова повисли над толпой, как висел ястреб, который только сейчас куда-то скрылся.
— Но теперь-то я узнал, объяснили мне люди. Теперь я уже знаю, кто у меня коня увел. Верно знаю.
Кшисяк почувствовал, как по спине у него пробежала холодная дрожь. Одно мгновение ему показалось, что сейчас толстый палец Матуса подымется и покажет прямо на него — Кшисяка. Хотя, видит бог, ни Матусовых, ни чьих других лошадей он не крал.
— А вор здесь, среди нас, — медленно продолжал Матус.
Все стали осматриваться, коситься на своих соседей. Боялись последнего слова и с нетерпением ожидали его.
— Ендрасов парень, Юзек, увел у меня коня из конюшни, в городе продал, — жестко и медленно сказал Матус.
— Ааа…
Толпа замерла в оцепенении. Но тотчас началось какое-то движение. Вокруг Юзека. Люди стали медленно отступать от него. Незаметно. Мелкими передвижками. И все же мгновение спустя оказалось, что он стоит один, посреди сомкнувшегося круга. Бледный, как труп. Стуча зубами.
— Люди… — начал Юзек, но слова замерли у него на губах.
Теперь выступил вперед Матус. Огромный, мощный, остановился он против тощего Юзека, уперся ногами в землю. Поднял руку. Спокойно, не спеша отвел эту руку, как лопату. И с размаху, плашмя, хлестнул парня по лицу. Юзек покачнулся. Из носа тонкой струйкой полилась кровь.
— Ну?
Юзек молчал. Обеими руками он держался за голову.
Матус подошел вплотную, их лица почти прикасались.
— Ты будешь говорить или нет? С кем воровал?
Парень отупевшими глазами уставился на Матуса. Потом обвел глазами лица в толпе, мрачной, темной, гневной. Равнодушные, каменные лица.
Словно его никто и не знает. А ведь тут стояли люди, с которыми он пил, у которых плясал на свадьбах, свои, знакомые люди, из второй от него, из третьей избы.
— С кем воровал?
Толстая палка Матуса поднялась в воздухе. С размаху обрушилась на обнаженную голову Юзека, — шапку у него сбило уже первым ударом.
Вокруг забурлило. Поднялись палки и кулаки. Юзек Ендрас закричал, пронзительно, визгливо, но тотчас захлебнулся от чьего-то удара.
Били как попало.
Плашмя, ребром ладони. Стиснутым в каменный узел кулаком. Кривой рукояткой палки. Бабы наскакивали сбоку, разъяренные, с вытянутыми, как когти, пальцами. Ендрас повалился на землю. Его пинали сапогами, крепко, изо всех сил.
И все это время Матус громко, размеренно, ясно повторял свое:
— С кем воровал?
Но парень уже ничего не слышал. Голова у него была вся в крови, он лежал на подвернутой, будто сломанной руке.
— Хватит, — скомандовал старшина.
И в ту же минуту кто-то показался на дороге. Это бежала мать Юзека. Она задержалась в костеле и теперь со всех ног неслась к волости. И у нее были свои счеты с ворами. Не хотелось ей пропустить случай.
Она добежала до толпы как раз, когда Юзека за ноги оттаскивали в сторону. Вскрикнула пронзительно, словно курица, которую режут, захрипела и с вытянутыми руками кинулась в толпу, прямо к Матусу и старшине.
— Что вы сделали с дитем? С дитем? С дитем?
— Тише, баба. Вор это, а не дите.
— Разбойники!
— Так мир решил. Не умела воспитать, теперь лечи его. Порядок должен быть.
Она притихла и выбралась из толпы. Ее ужаснули мрачные взгляды окружающих. Она озиралась кругом, искала помощи, но лица были у всех словно каменные. Поближе к лежащему в луже крови Юзеку стояли батраки. У них нечего искать помощи. Почти у каждой батрачки была на нее обида.
Сын ее лежал без памяти. Она присела возле него и всхлипывала, подавляя крик. Качаясь из стороны в сторону, она отирала ему тряпицей лоб и окровавленные волосы. И вдруг увидела глубокую рану, от виска к темени. Задохнулась. Умолкла. Полными ужаса глазами она глядела на кость, белеющую между кровавых краев раны.
И уже не слышала, как по очереди на середину площади выходили другие. Как по очереди вытаскивали из толпы то того, то другого.
Иные признавались. Где, когда, как и с кем. Обещали в такой-то и такой-то срок возместить убытки. Признавались, где спрятаны деньги. А другие упирались, ничего невозможно было из них выжать.
Этих били. Свирепо, беспощадно. Без милосердия.
«Справедливо, — размышлял Кшисяк. — За людскую обиду, за людскую горькую долю, ведь у некоторых последнее забрали. Не разбирались небось, у богача берут или у нищего, который на половине морга хозяйничает».
Вот и били. Мир судил крепче, чем всякий суд. Все всплыло, узнали даже, кто еще четыре года назад уводил лошадей из конюшен. Обнаруживались кумовья воров, потому что, кому же понравится, чтобы его наказывали, а его сообщника нет. Волость чистили, как метлой, с первой до последней деревни. За все те годы, когда воры выпивали со стражниками и чувствовали себя в полной безопасности, как у Христа за пазухой. За все бабьи слезы, за мужичью злобу. За людскую обиду. Кости трещали от этих расчетов, кое-кому и голову проломили. Старик Глова пришел в такое неистовство, что вогнал вилы в живот Сушеку, который зимой вытащил у него кожух из чулана.
На мгновение мужики утихли. Вокруг Сушека образовался широкий круг. А тот только вздохнул раз-другой, изо рта у него хлынула кровь, стал царапать землю пальцами — и кончился. Страх охватил толпу.
Но Матус вышел на середину.
— Раз мы уж взялись, так надо это сатанинское семя до конца истребить. Мир постановил, такова воля мира, мир имеет право. Вора не жалко. А ну, хозяева, говорите, что еще у кого есть.
И говорили.
До самого вечера шел суд у волости. Побитых взвалили на телегу и отвезли, кого куда полагалось. Сушека — того в мертвецкую. Ксендз бранился, но время было такое, что всякий был в страхе, так что и он не решился сообщить властям. Впрочем, стражников нигде не было видно, как сквозь землю провалились.
Изо дня в день шли теперь суды.
Ужас охватил воров по всем волостям, по всем селам. Уйти от расправы было невозможно. Когда толпа подступала к дверям, приходилось волей-неволей идти с ней, хоть душа в пятки уходила от страха. И всякий шел — а вдруг пронесет? А вдруг ничья рука не укажет, вдруг промолчит избитый сообщник и удастся затаиться, исчезнуть, пересидеть?
Не один обещался в душе никогда уж больше не трогать чужого, только бы избежать суда у волости.
Но никто не увернулся.
Выплывали давнишние, забытые уже дела. Начиная с одного неосторожного слова, с курицы, украденной у бабы, со стянутого с плетня полушубка, как по нитке разворачивался клубок. И вдруг вор оказывался словно голый в кругу ожесточенных, злых мужиков и орущих баб.
Дурные дела выплывали из ночной тьмы, из сокровеннейших тайников. Раскрывались долго подготовляемые, десятки раз обдуманные планы, — все раскрывалось. Все равно как если бы тебя поймали за руку на месте преступления.
Напрасным оказалось долгое, кропотливое раздумье. Не помог и подбор испытанных сообщников, надежных, стойких, таких, с которыми можно смело и в огонь и в воду пойти.
Не осталось в тайне и то, что творили в одиночку. Страх был так велик, что теперь у волости достаточно было лишь взглянуть в лицо человеку. У кого было что на совести, сейчас побледнеет, ноги задрожат мелкой дрожью. Такого тотчас вытаскивали на середину. Если не хотел сразу признаться, из него выколачивали правду жесткие мужицкие кулаки, готовые вырвать ее, пусть вместе с потрохами.
Одно было средство — не идти к волости. Но как это сделать?
Войтек Мровчак, когда к нему пришли во двор и позвали к волости, заперся в избе. Он знал, что ничего хорошего его там не ждет. Годами занимался он воровством, немало добра нажил. Со стражниками у него был сговор — поделится с ними добычей, а на остальное плевать.
Но теперь все переменилось. Это тебе не суд, который, бывало, допросит, признает свидетельство стражника самым достоверным и отпустит домой. Это мирской суд, справедливый суд, его ничем не подкупишь и ничем не обманешь.
Так что Войтек приготовился. В избе их было четверо. Они заперли двери на засовы, приперли скамьями, столами, а теперь с топорами и ружьями стояли у дверей и окон.
— Выходи к волости! — кричали им.
Запертая изба ответила молчанием.
Толпа придвинулась ближе. Но тут за стеклом блеснул ружейный ствол.
Люди отступили. Рисковать не хотелось. Раз уж Войтек пошел на такое отчаянное дело — ясно, что даром он в руки не дастся.
А жизнь всякому дорога. Даже батракам, хотя какая уж у них жизнь! Крестьяне, отойдя за угол, совещались. Подумывали, не отступить ли, не подождать ли более подходящего момента и взять их с наскока.
— Ну нет! Суд есть или его нет? — вспылил Кароляк. — Вчера Маликовского за несчастную курицу чуть со свету не сжили, а Войтек на нашем горе разбогател, и он будет в избе отсиживаться да глумиться над всей волостью?
— Верно, верно, нельзя так оставить! — загремели голоса.
— Ну и лезь первый в окно! Он тебя и подстрелит, как галку!
— Я и не говорю, чтоб в окно лезть. А раз так не выходит, то надо через крышу.
Слово было брошено, и все кинулись на крышу. По углам, по принесенной из конюшни жерди, кто как мог. В крыше быстро появилась дыра, только пыль поднялась от полусгнившей соломы.
Но тяжелая, лежачая дверь с чердака в сени была подперта снизу. И не дрогнула от ударов.
Обезумев от злости, они стали прорубать топорами дыры в потолке, совали в дыры вилы, жерди, что у кого было под рукой.
— Ну, а теперь что?
— Подпалим избу. В сторонке стоит, огонь никуда не перекинется. Так мы уж его наверняка достанем.
Они подожгли охапку стружек. Заткнули под высохшую на солнце кровлю. Мелькнул огонек. Свернулся серым клубком дым, пополз по уложенным плоско снопам. Люди торопливо соскакивали вниз, потому что мгновение спустя дым потемнел и взвился к небу огромным пламенем. Он прямо поднимался к небу, словно костер в Иванов день, — сушь…
В один миг запылали стены. По черным, закоптелым клочьям соломы тут и там пробегали голубые язычки пламени. Через мгновение изба пылала, как огромный огненный столб.
Толпа повернула к волости. Здесь, куда через минуту сбежится народ, делать им было нечего. Они свое сделали. Войтек Мровчак с товарищами больше не заберется в чужой чулан, не уведет лошадей из чужой конюшни. Теперь он сгорит в золотом пламени, превратится в горсть черных углей. Он получил возмездие, другого ему не понадобится во веки веков.
Качоры, те устроились иначе. В первый же день, когда начались суды, они все трое исчезли из деревни. Ушли в лес, откуда их не могла достать рука деревни.
Лес был другом всех беглецов. Он широко распахивал свой пушистый простор, укрывал во мраке чащоб, уводил тайными тропинками в недоступные овраги, покрытые непроходимыми зарослями. Мягким мхом ложился под усталую голову вора. Шумел, журчал тонкой ниточкой, струился для него ручеек в густой траве.
Лес благоухал. Высоко вверху, в недосягаемых вершинах шумел ветер. Большими прыжками пронесется рыжая белка. Вот она присела на ветке, глядя вниз черными глазами. Ей-то все равно было, кто проходит лесом — вор ли, сам ли староста.
Прохладно, тенисто, безопасно было в лесу. Уютным, доброжелательным был лес; встречал тишиной и покоем. Но прокормить он не мог. Братья Качоры забрались в самую глушь. Днем они спали. А к вечеру их будил голод. Он был сильнее испуга, сильнее страха перед мужицкой толпой.
Вечерами, ночами, когда потухал последний огонек, когда все двери были заперты на засовы, Качоры выходили из лесу. Они не шли в деревню, а врывались в избы, стоящие на отлете, угрожая ружьями, забирали, что попадало под руку, и бежали обратно в лес.
Одежда на них превратилась в лохмотья. Они обросли щетиной, как кабаны. Их брал страх перед зимой, понимали ведь, что с каждым нападением, с каждой угрозой, с каждым похищенным гусем или буханкой хлеба они подписывают себе мирской приговор. Воздвигают стену между собой и деревней. Не вернуться им на свою полоску, в родную избу, сруб которой они еще недавно поставили собственными руками. Собственными руками — на чужие, наворованные деньги.
Пришлось деревне махнуть рукой на Качоров. Очень не нравилось мужикам, что они уходят от кары. Несправедливо это было.
Потащили к волости старую Качориху.
Старушка стояла в кругу, поглядывала на людей. Не очень понимала, что будет.
— Где сыновья?
Она насмешливо взглянула своими старыми глазами. Ищи ветра в поле, как раз их найдете! Она-то ведь не скажет — неужто они думали, что она скажет? Да, по правде сказать, она и не знала. Ушли и пропали, вот и все.
А хоть бы и могла точно указать дорогу — все равно бы не сказала. Мир миром, а сыновья сыновьями. Ей вспомнилось, как Сташек, ее старший, иной раз руку на нее поднимал. А все-таки сыновья, а у матери сын — первый человек в мире.
Спрашивали бабку про сыновей. Потом про сыновних сообщников.
Этого она и вовсе не знала. Они скрывали от нее свои воровские дела, хотя она и догадывалась, откуда то одно, то другое в избе берется.
Маленькая она была, эта Качориха, вся к земле согнулась. Глубокими морщинами отметился каждый год на ее загрубевшем от ветра и мороза лице. Самая маленькая была из всех собравшихся вокруг нее крестьян. Так она и стояла среди них, маленькими, в сети морщин глазками поглядывая на людей.
Три раза били ее, эту Качориху.
Сперва, чтобы сказала, где сыновья. Она молчала.
Тогда ее били, чтоб выдала сыновних сообщников.
Ни слова не сказала.
Тут уж они поняли, что она ничего не скажет. Некоторые смущенно переглянулись.
Но справедливость остается справедливостью.
И они избили ее в последний раз, жестоко, сурово, безжалостно, — за то, что троих сыновей вырастила ворами.
Ни о чем уж больше не спрашивали. Не спрашивали, как ей жилось, когда ее мужик уехал в Америку и его завалило там в шахте. Не спрашивали, как она справлялась с тремя детьми. Это уж было не их дело.
Ее били за сыновей, за трех воров, за стыд и горе всей деревни. По справедливости. За Сташка, самого старшего. За Владека. И за Павла, которому только восемнадцатый год пошел, а он уже заодно с братьями на плохой дорожке оказался.
По справедливости били, так, что у нее кровь горлом пошла, разорвали на ней платье, сквозь дыры показалась высохшая старческая грудь.
Нельзя было иначе. Таков был мирской приговор — не жалеть воров.
Только к вечеру дотащилась избитая Качориха домой. Едва добралась до постели. Но не роптала. Старая была, понимала: что справедливо, то справедливо.
V
И верно. Все было по справедливости. Мужики ходили, высоко подняв головы, — как же, порядки наводят.
Но батраки, те думали иначе.
Этого-де мало.
У волости били вора, который стащил курицу из курятника или увел поросенка у кого-нибудь из хлева.
Но были ведь и другие воры. Те воры, что на батрацкой обиде богатели.
Управляющий, приказчики, десятники, да хоть бы и кладовщики.
Недомерил ржи. Дал дров похуже. Недосыпал картофеля, хоть ему в руки глядели. А скажешь, так еще крик подымет. Спасибо, мол, что и это дали, благодари бога.
Ведь все знали, что управляющий жирел на их обидах. Не одного кого-нибудь, а всех обкрадывал.
А чем жила усадьба, как не батрацкой обидой? Батрацкий голод обращался для усадьбы в золотую пшеницу, батрацкая нищета алела для усадьбы крупными яблоками в саду, становилась шелковым платьем помещицы, золотыми рамами картин в ее покоях.
— Вот этих бы притащить к волости, — ворчали батраки.
— Это уж ваше дело, — ответил Матус. — Деревни это не касается.
И правда, ведь это было их, батрацкое дело. Его надо было решать самим.
Люди кипели. Все бурлило, словно пена на молодом пиве. Были и раздумья, и разговоры, и совещания.
Словно человек вдруг с какой-то другой стороны взглянул на свою жизнь. Раньше казалось, что так и должно быть с сотворения мира и до страшного суда.
А теперь услышали другое. Поняли, как обстоит дело с усадьбой.
Больше всего волновалась молодежь.
Ясно, ведь кругом все тронулось, к чему-то дело идет, все клокочет, кипит, как в котле. Самые смирные и те зашевелились.
— В городах начальство бьют.
— Не мужики же!
— Все равно, простые люди, кто своим трудом живет.
— А как же! Должен же быть порядок — каждому, что ему полагается. И за работу чтоб справедливо платили.
— Землю мужикам.
— Дадут тебе, жди!
— Не бойся, если народ как следует возьмется, дадут!
— Может, кому побогаче, у кого и так ее много, тому дадут. Уж так всегда бывает, — где жирно, там и салом мажут. А чтоб батракам…
— Э, с вашими разговорами… Раз народ твердо потребует…
— Стражников выгнать.
— И чтоб в школе по-польски учили.
У каждого свое на уме.
Но одно знали все. У царя дела плохи, бьют его. Теперь его маленько прижать — уступит, во многом уступит. Тогда и мужику полегчает.
Терескин муж, тот тянулся к барчукам, которые теперь стали заходить в деревню. Он твердил одно:
— Испугаются власти. Обязательно должны дать польскую школу, и в волости чтоб говорили по-польски.
— А с помещиками как?
— Небось лишь бы с русскими немного управиться, тогда и с усадьбой дело уладится. Все-таки поляки, как и мы. Договоримся как-нибудь. Как ксендз велит, в мире и согласии.
Люди качали головами. Мартиновы слова были крепче.
Не подачка из чужих рук. А совсем по-другому. Свободная родина, настоящая, как следует. Где будут править крестьянин и рабочий. Где они будут сами себе хозяева, — а уж один трудящийся человек другого не обидит. Земля для всех. Работа для всех. Короче рабочий день. Справедливая оплата. Не так, что один в шелках ходит, а другому нечем грешное тело прикрыть.
Да, да, вот как оно полагается.
— Так-то оно так. А вот в прежние времена, еще до русских, была же Польша, а мужик был крепостной, хуже, чем сейчас.
— Хуже не хуже, почитай что одно и то же. Но то была господская Польша, помещичья. А теперь будет наша, крестьянская, трудовая…
Конечно. Такое уж время настало, всякому понятно — меняется жизнь. На другое поворачивает. Смятение было повсюду.
Мужики по деревне ходили гуртом, с пением. Радовались, хотя пока еще ничего радостного не было.
Потихоньку зашевелились и бараки. Невозможно было в это горячее время стоять и ждать, что тебе что-нибудь само с неба упадет. Справедливость так справедливость.
От этого смятения, от людских разговоров, от газеток случилось так, что батрацкий люд другими глазами взглянул на свою жизнь.
Начались разговоры, совещания, обсуждения, иной раз до поздней ночи, хотя рассвет снова выгонял людей на работу.
Теперь они подсчитали все точно.
Восемнадцать рублей жалованья в год.
Месячину[13].
Дрова на отопление.
Участок под картошку.
И свою работу. Бесконечный рабочий день, прибивавший усталостью к земле. Свою короткую ночь. Вонючую барачную каморку.
Нет, это было несправедливо. И не один батрак теперь дивился, сколько лет работал и работал, а ему все казалось, — оно так и должно быть.
Но пора наступить справедливости. В деревне мужики наводили порядок с ворами, в далеких городах налаживали новую жизнь.
Выходило, что и здесь, в бараках, пора установить порядок и справедливость. А сделать можно было только одно — потребовать своего у помещика.
— Тридцать рублей в год.
— Тридцать?
— Что ж вы так дивитесь? Не разорится помещица из-за этих тридцати рублей. Ведь за целый год…
— А много ли получишь, хоть бы и за тридцать рублей в год?
И то правда. Когда сказали: тридцать рублей, некоторые даже испугались. Как же, такие деньги!
А как посчитали, что на них сделаешь, на эти тридцать рублей, оказалось, и не хватит. Если разделить эти рубли на год, на триста шестьдесят пять дней, да подумать о бабе, о детях, о том, о другом — куда там! Казалось много, а нет ничего.
Опять же месячина. Того, что давали до сих пор, не хватало. Помещики могли дать и побольше, у них есть из чего, а всё детишки не мерли бы так, как теперь.
И чтобы выдача была справедливая — все отмерено, развешено, как полагается. Без жульничества.
И еще одно, — чтобы не на Михайлов день отказывали от работы. Не зимой, не в снег и мороз, в такое время, когда ледяным ветром резало человеку лицо. Помещикам почти что все равно, а батраку совсем другое дело, намного легче будет.
Шли разговоры, что и как. Брать господское никто не хотел. А только, что полагается. По справедливости, по человечеству.
Вспомнились теперь людям все обиды. Нет, нечего больше нянчиться с помещиками.
Кое-кто советовал попросить. Может, дадут.
Да ведь уж просили, не раз и не два просили. Только не так-то легко помещик склонялся на людские просьбы.
Когда по деревням и по экономиям начало становиться жарко, нашлись и такие помещики, что вроде по доброй воле уступили батракам.
Испугались, видно, не хотели связываться со своими людьми.
Но это только некоторые. Могли бы и все так сделать. Да, видно, не захотели.
А батраку сейчас неохота было шапку перед помещиком ломать, в ноги кланяться. Другое время настало.
Наконец, решили. После бесконечных разговоров, жалоб, попреков пришло твердое и ясное решение: жалованья тридцать рублей. Месячину увеличить. Давать под картофель землю получше, не песок или глину, где ничего не родит. И увольнения — только весной.
Помещик уже знал, чего хочет батрак. Мог подсчитать, подумать, сказать: да или нет.
Но помещик привык уже, что барачный народ — тихий народ. Послушный. Делает свое и молчит. Испокон веков так было, из года в год с тех пор, как человек себя помнит.
Прямо в голове у господ не вмещалось, что все вдруг так переменится. Выслушали помещики батрацкие требования — и молчок.
Все по-прежнему.
Да не такое было время, чтобы слова на ветер кидать. Раз что решено, постановлено, руки сами рвались, чтобы так и сделать…
И помещики напрасно ждали, что батраки образумятся. Чаша переполнилась, людское горе и обида хлынули через край. Люди всем сердцем жаждали справедливости, о которой гремела весть по деревням.
И дождались помещики. Впервые с той поры, как они сидели по своим поместьям, впервые с той поры, как мужик работал на барина, а барин жил мужицким трудом.
Двинулись бараки. Вовсю. Во весь размах.
Дело было к весне. Мартовское тепло согнало снег, превратило землю в жижу. Вода быстро стекала по сыпучим пескам, по гладкой глине. Набегал ветер, сушил землю. Пласты снега почернели, подтаяли, но еще держались в оврагах и в лощинах. В лесу еще лежали сугробы, защищенные от солнца и ветра низко свисавшими еловыми ветвями, присыпанные хвоей, закиданные хворостом.
На дорогах стояли лужи, на полях выглянули растрепанные, еще прибитые к земле озимые. Кое-где среди них виднелись черноземные проплешины, где всходы погибли от морозов, больше на пригорках. Снег их там не прикрыл как следует.
Но помещичьим землям ни мороз, ни вода не повредят. А на батрацких — там и вымерзать нечему.
Земля ждала. Сохла. Грелась на солнце. Ждала, когда покажутся плуги, когда выйдут женщины с мотыгами, когда высыпет народ, как всегда бывало. Ждали вспаханные осенью борозды, картофельные поля, раскопанные, закиданные с зимы навозом полосы.
Но в бараках было тихо. Не ехали телеги, не поблескивали на солнце плуги, не скалились зубья бороны. Хотя пора уже наступила. Весна шла быстро, словно ее подгоняли.
Бараки бастовали.
Впервые с той поры, как появились батраки на земле. Никто не шелохнулся. Лошади стояли у кормушек, жевали корм, поглядывая на приоткрытые двери. Но кругом было тихо. Не покрикивали рабочие у колодца, не звякало железо в сарае. Тихо было.
Зато в бараках все кипело. Все собрались в кучу. Судачили так и этак. Неизвестно было, как пойдет дело. Ведь никто не помнил, никто не видел, как это бывает — забастовка.
Никто сейчас не мог вспомнить, кто первый бросил это слово. Оно налетело, как вихрь, пронеслось от деревни к деревне. От барака к бараку. От усадьбы к усадьбе.
Управляющие и приказчики притаились. В усадьбах были наглухо заперты дубовые двери.
Всюду, всюду, по всей земле было одно и то же.
Толпами высыпали батраки. Шли все. Мужчины, женщины — дома оставались только старики и дети. Валом валили по дороге, их ноги крепко отбивали шаг. Волком смотрели они по сторонам, но преград на их пути не было.
Заходили в другие бараки, в соседнюю усадьбу, экономию:
— Выходи!
Люди выходили. Присоединялись к толпе. Шли дальше.
Изредка случалось, кто-нибудь тащил плуг в поле. Или бабы шли с мотыгами, копать землю под картофель.
Их останавливали. Захватывали с собой, точно волна, перед которой ничто не может устоять. И так день, другой, третий. Ноги сами несли человека. Сон не смежал глаз. Мир казался светлым, ясным, даже и в ночной тьме.
Батрак ждал терпеливо. Годами. Гнул спину. Слепил глаза. Опухали его истомленные ноги. Уходили в могилу старые и нестарые. Подрастали дети, — и все одно, одно, горькая батрацкая доля.
Гни спину перед помещиком, перед управляющим, перед приказчиком.
За каморку в бараке, за восемь четвертей плохого зерна, за восемнадцать рублей жалованья. За полоску под картофель и щепки на топливо.
За вздутые от гнилой картошки животы детей. За чахоточный кашель. За морщины на лице в тридцать — тридцать пять лет. За изуродованные ревматизмом суставы.
Тихими, покорными были батраки. Так оно и шло.
А вот теперь кончилось.
Теперь батраки шли по селам. Прямиком через луга. Шумели в лесу, протаптывали тропинки в мокром весеннем мху.
Чтобы увольняли с работы не к Михайлову дню, а в июле, летом, когда дети не померзнут на подводе, когда в глаза не смотрят леденящие глазища зимы.
Чтобы была минутка отдыха, хоть одна в день. Когда можно распрямить спину, отереть пот с лица. Взглянуть на небо, вдохнуть воздух в сдавленные легкие.
Чтобы управляющий с приказчиком, выдавая месячину, не сыпал на весы гнилой картофель и съеденное ржавчиной зерно.
Чтобы управляющий не покрикивал на человека, как на собаку. Чтобы знал, что с человеком надо говорить по-человечески.
Страх охватил помещичьи усадьбы.
Ждала плуга земля. Стояли нечищенными кони, коровы. Кормить их, правда, кормили, грех морить голодом божье творение.
Но куда ни кинь взглядом, всюду на полях глухо, не видно ни души.
Озимые не прополоты, и непаханая земля зарастала сорняками.
По всей стороне бастовали батраки, барачный люд. Твердо стояли на своем.
Не один человек, может, и побаивался. Не один, может, и неохотно пошел на эту забастовку. Не одному, быть может, казалось, что как раз теперь, как раз в такое время легче всего можно снискать господскую милость. Показать помещику, помещице, что вот, мол, он единственный человек, который им верно служит, единственный, которого стоит наградить, стоит поставить выше других.
У другого человека сердце робкое, не знал, чем все это кончится. Предпочел бы, может, синицу в руки, чем журавля в небе.
Или уж так привык, что у него голова выше не поднималась. Привык. При отцах и дедах так было, с чего же теперь будет иначе!
Разные ведь были люди. Были и такие, что особняком держались, общее дело ни во что не ставили. Только бы набить живот, и все тут. Больше им ни до чего дела нет.
Были и господские прихвостни, такие, что, живя среди батраков, работая с батраками, доносили в усадьбу обо всем, что там кому в голову приходило, что язык выбалтывал. Из господских рук за это им нет-нет, а что-нибудь и перепадет.
Но бастовать должны были все.
Никто не спрашивал — хочешь, мол, или нет. Не было так, что кто хочет — бастует, а не хочет — оставайся на работе.
А так: или все, или никто.
И шли все.
Одни ожесточенно, с запекшимся гневом. Другие весело, с уверенностью в победе.
Еще иные — со страхом в сердце: чем это кончится, как обернется для народа.
Но если поглядеть со стороны на толпу — и не узнать батраков. Плечом к плечу, смело, упрямо шли они от усадьбы к усадьбе сплоченной, единой толпой. Тут уж никому не давали раздумывать или прятаться за чужую спину.
Раз ты батрак — борись за свое.
Раз тебя гнетет нужда — требуй своего.
Доконали тебя обиды — кричи о них.
В толпе каждый забывал о своем страхе, раздумье, тревоге. И шел с толпой, словно одно сердце билось у всех.
Но батрак был осторожен. Не доверял.
Он знал, что стоит ослабить вожжи — и в человеке проснется, застучит зубами бледный страх.
И они следили. Следили день и ночь.
Заходили неожиданно на рассвете, когда еще серо на дворе, когда из сонной мглы постепенно выглядывали усадебные постройки и ощипанные придорожные вербы.
Толпой врывались в барачные дворы. Бежали к конюшням. К сараям.
Не скрипят ли где двери. Не взялся ли кто-нибудь за работу, чтобы хоть этот ранний час просыпающегося дня урвать у забастовки.
Бежали в сад, где еще только набухали круглые и продолговатые почки на обнаженных ветвях.
Заглядывали на огород, который обычно в это время уже был полон движения, а теперь лежал мертвый, покрытый неразметенными осенними листьями, сухими прошлогодними стеблями, перезимовавшими под снегом.
Внимательно осматривались, не нарушает ли кто забастовку.
Не польстился ли кто на господские, на экономовы обещания. Хотя ведь всякому известно, чего стоят господские посулы: пока ты нужен, с тобой обходятся по-людски, а когда ты свое сделал — пошел к чертям.
Ожесточился батрацкий люд против тех, кто срывал забастовку.
Больше чем против помещиков, больше чем против экономов.
Те, известно, за свое дело стояли. Защищали свою выгоду.
А уж чтобы трудящийся человек по слепоте, по глупости против собственной выгоды действовал, это никуда не годится. Ведь тут дело не в одном человеке, не в двух — тут интересы всего батрацкого люда во всем Царстве Польском.
Правду сказать, не так-то много было этих штрейкбрехеров. И оттого, что за этим следили, и оттого, что всякому было известно, из-за чего сыр-бор загорелся. Всякий чувствовал, что теперь уж или совсем пропадать, или поправить свою судьбу. Свою, жены, детей. Хоть немного.
Но все-таки случалось. То тут, то там.
Таких гнали, как бешеных собак. Да и что это, как не бешеные собаки, эти люди, которые решились в такое жестокое время пойти против батрацкого дела, за объедки с барского стола продавать батрацкий люд!
За сараями в огороде поймали двоих. Упросила их помещица, сунула в руку одному и другому. У нее пропадала капустная рассада.
Вот они и взялись за эту работу, хоть и бабью. Клевали мотыгами мокрую землю. Там их и накрыли.
Били жестоко. Молча, стиснув зубы.
Ожесточились батраки. Били, вымещая гнев за все. За гнилую картошку в месячине, за обсчитывание, за мучительный восемнадцатичасовой рабочий день.
За глупость, за предательство, за то, что польстились на этот полтинник, за якшанье с помещицей против всего народа.
Нет, им не простили. Так и остались те двое лежать на капустной рассаде с почерневшими лицами, залитыми алой кровью. Рассада уже проросла длинными стеблями, зеленела мелкими листочками. На листочках краснели капли крови, словно капуста расцвела странным, веселым, не капустным цветом.
Поймали в коровнике девушку. Она чистила скребницей рыжий бок большой, откормленной коровы.
Вытащили ее во двор. Задрали на ней юбку, так что обнажились выше колен белые ноги.
Били жестоко. Она только пискнула несколько раз, да так и осталась на пороге коровника, уткнувшись головой в растащенный батрацкими ногами навоз, с задранной кверху юбкой.
Батраки поднялись впервые. И подниматься надо было всем, — если нет, и начинать не стоило.
Всем, хотел ли кто, или нет. Добровольно или под угрозой. Господские подхалимы, помещичьи лизоблюды — все принуждены были идти. Раз все, так все. Все равны, за всех идет борьба.
Толпа росла. Из бараков приливали все новые волны. Первые забастовщики могли теперь и разойтись по домам.
Но Кшисяк остался. Уперся. Ему все казалось, что, если его не будет, если он недосмотрит, они заколеблются, их обманут, они прозевают самое важное.
И он шел все дальше. У него болели глаза от бессонницы, их жгло, будто засыпало мелким горячим песком. Пальцы вылезли из сапог, разлезлась соломенная стелька, заплаты и гвозди натирали ноги. Пересыхало в горле от жажды, от голода втянуло живот. А он все шел.
Они оставляли по экономиям пикеты для наблюдения, чтобы никто не брался за работу.
Случалось, что они находили уже пустые бараки. Видно, их обитатели, никого не дожидаясь, сами двинулись защищать батрацкое дело.
Приходили люди из дальних сторон, посылали нарочных за десятки деревень. Но всюду было одно и то же.
Двинулся батрацкий люд. Был он долгие годы, словно темная, тинистая вода. Плыл, втиснутый в узкое, грязное русло!
А теперь прорвался весенним половодьем, шумной, буйной волной. Вышел из берегов. Седой пеной, водоворотами, напором волн, прорывающих плотины.
По усадьбам совещались.
Помещики съезжались молчком, тайком, чтобы не раздражать людей. Такое уж пришло время, что у господ мурашки забегали по спине.
Совещались, занавесив окна. Украдкой, потихоньку, шепотом, чтобы не разнеслось, не стало известно, не упало, как камень, в волны народного гнева.
Совещались, беспомощно разводили руками.
Куда только удавалось проехать, откуда только приходили письма, вести — везде одно и то же. Не уцелел ни один островок. На тех, кто сопротивлялся, народ поднимался с дубинами и вилами.
А земля дымилась весенним паром, ожидала пахоты и посева.
Помещики долго совещались. Ведь были еще стражники. Были войска.
Кшисякова помещица не вызывала войска. Но бывали и другие случаи.
Помещики отыскали себе крепкую защиту. Нашлось средство против польского батрака — его нашел польский помещик. Выносил его в своем патриотическом сердце, не поколебался.
Со всех сторон приходили тревожные вести. Надвигались серой мрачной тучей.
Помещик Н. в Ленчицком уезде вызвал казаков.
Дроздовский помещик вызвал казаков.
Помещик К., тоже в Ленчицком уезде, вызвал полицию. Но и этого ему показалось мало, он вызвал войско.
Оно пришло. Почему бы и нет? Раз сам ясновельможный взывает к царскому штыку, к царской винтовке о помощи. Против батраков.
Граф в Новозамосьце вызвал казаков.
Помещик X. в Седлецком вызвал солдат. Господин Т. в Цехановском — стражников.
А в Рыпинском уезде сговорилась вся шляхта. Господа поехали к губернатору. Поклонились ему низко. Гибкие спины у ясновельможных, когда им надо.
Они пространно объясняли губернатору. Что его священный долг спасти их, верноподданных его величества, от опасности, от натиска бунтующего мужичья, которое осмелилось выступить против исконного порядка вещей и против них, своих кормильцев.
Губернатор не заставил себя долго просить. Оглядел сощуренными глазами делегацию. Согласился. Обещал.
И сдержал обещание. На другой же день сдержал.
По шоссе и проселочным дорогам двинулись к усадьбам драгуны. Поскакали казаки. Закурился туманами, дикой, протяжной песней застонал этот день. Шли казаки, шли драгуны спасать господ помещиков Рыпинского уезда от батрацкого насилия.
В Плонском уезде сиятельный граф во все свои экономии — а их было немало — вызвал войска.
Вызвал из Модлина войска помещик Г.
Людно стало в усадьбах. Еды — сколько хочешь. Как же иначе, ведь казак, драгун и стражник грудью защищали господина помещика. Полагалось достойно принимать их.
Войска расположились по экономиям.
Загремели выстрелы. В Рыпинском, Плонском, Ломжинском, Ленчицком уездах войска стреляли в народ. Ибо народ стоял твердо, не отступал.
По усадьбам разместились офицеры. Солдаты располагались лагерем в усадебных дворах.
По вечерам к темному небу неслась казачья песня.
Казачьи песни пели усадьбы в Рыпинском, Плонском, Ломжинском, Ленчицком уездах.
Гремели винтовочными залпами.
Горели огнями биваков.
Люди слушали. Люди смотрели.
В сердцах разгорался гнев. Еще крепче стискивались зубы. Еще крепче сжимались кулаки.
Помещик не хотел уступать. Быть может, ему и не так жалко было этих тридцати рублей, этих нескольких лишних четвертей картофеля.
Нет, все дело в том, что батрак посмел требовать. Что открылись уста, молчавшие на протяжении десятков лет. Что батрак с ума спятил, посмел диктовать условия. Темный крестьянин — ясновельможному барину!
Но не помогли войска. Да и не всюду помещики решались вызывать их. Потому что, когда они думали о войсках, когда им красным отблеском, белым дымом мерещились марширующие к баракам колонны, им виделось и другое.
А этого они боялись еще больше, чем батрацкого бунта, барачной забастовки.
Ведь в городах ходили по улицам демонстранты. У помещиков двоилось и троилось в глазах от каждой заметки в газете, от каждой неожиданной вести. Красное знамя, пусть даже величиной не больше носового платка, представлялось им кровавым полотнищем, заслоняло весь мир кровавым пожаром. До того, что сердце сжималось от страха и мороз пробирал по коже, хотя на дворе стояла теплая, благоуханная весна.
За батрацкой массой, за сбившейся серой толпой им мерещился грозный призрак гибели.
Они боялись развязать бурю, боялись навлечь на себя месть. Трепетали. Пресмыкались, низко склоняли головы.
За долгие годы унижения и страха довелось теперь батраку увидеть и господский страх.
За все свои покорные слова — услышали они теперь господские тихие слова, слова беспомощности, бессилия, которые произносились с испугом, с оглядкой на двери.
Помещики задыхались от ненависти.
Ведь от дедов и прадедов повелось, что мужик покорно гнул спину. Не требовал оплаты, покорно целовал руки. Верно служил за подачку, за гроши, за объедки с господского стола. Отдавал за барина жизнь. Что там за барина! За пса господского жизнью рисковал.
Не понять было барину, что случилось. В голове у него не вмещалось: батрак вдруг отрывает руки от работы, валит толпами по дорогам и проселкам, а поля ждут пахоты и посева.
Сердце переполнялось злобой. За хлеб, за месячину, за жалование, за крышу над головой — вот благодарность хама!
Такова его благодарность за все помещичье добро.
Видно, все эти годы он лишь таился, не чувствуя в себе пока силы, но предательски держал камень за пазухой. Выжидал, подбирал подходящий случай. И ударил.
И ничего невозможно было поделать.
Пробовали нанимать по деревням крестьян. Не удалось. Деревенские боялись крепких батрацких кулаков.
Пробовали привозить рабочих издалека. Не удалось. Батраки были начеку. Да, впрочем, всюду было одно и то же.
Из труб над бараками поднимались тоненькие султаны дыма. Женщины варили, что бог послал.
Управляющий воспользовался тем, что мужиков не было дома. Захватил батрацких коров. Запер в господский коровник. Предупредил, что не будет кормить скотину.
Бабы не уступили. Плакали, причитали, кляли обидчика. Но ни одна на работу не вышла.
Скулили дети, просили хоть капельку молока. Бабы не уступали.
Голод был в бараках. Помещица заупрямилась. Кому еще полагалось дополучить месячину — не выдали.
— Нет работы — нет месячины.
Бабы варили картофельные очистки, пекли лепешки из отрубей. Пухли дети от голода.
Теперь все дело было в выдержке. Но батрацкий люд был вынослив. Чем хуже им приходилось, тем крепче стискивали зубы. Теперь уж все равно, хоть подохнуть всем — лишь бы не уступить!
И с каждым днем они ожесточались все больше. Ведь прибавился еще один день борьбы, голода, упорства. Жаль, чтобы такие дни прошли напрасно.
Люди мрачно поглядывали на молчаливые, запертые усадьбы.
Из некоторых усадеб помещицы перебрались в город. Не среди батраков, а среди помещиков велись разговоры, что, пожалуй, надвигается кое-что похуже.
Господам мерещился красный петух, крыши усадеб, амбары и кладовые в огне. Руки батраков в крови, наточенные топоры. Господские потроха, растасканные по двору собаками.
Сперва им казалось, что батрак как бросил работу, так и вернется к ней… Ведь во главе их никто не стоял, никто их не учил, не указывал, как действовать!
Темные, неграмотные были батраки. Когда приходилось вести переговоры, мало кто умел высказать, что у него на душе.
Казалось, — они пошумят, пошумят и утихнут.
Но пришлось убедиться, что это не так.
И вот помещики заколебались.
То один, то другой стал поговаривать, что пора уступить.
Сперва на таких набросились.
Невиданное дело, чтобы помещики уступали батракам. Привыкли, что батрак всегда просит милости у ясновельможного. Всегда молит о прощении.
И странно было вести переговоры с батраком.
Господа увидели какой-то иной облик мужика. Изумились. Так это было неожиданно, ни на что не похоже.
Давно стерлось даже воспоминание о Шеле[14]. И собственно всегда казалось, что это была сказка, которую рассказывают, чтобы пугать непослушных детей. Да ведь и не в этих краях это было, а далеко, в Галиции, за австрийской границей.
— Наши люди не таковы, — говорилось всегда.
И это — «наши люди» — говорилось с глубоким убеждением, с въевшимся в кровь чувством собственности. И вдруг выяснилось иное. У «наших людей» оказались гневные, враждебные, озлобленные лица.
В эти странные дни выяснилось, что, видно, они и всегда были врагами.
И не одно сердце затрепетало от сознания, что враг так долго тишком таился под боком.
Но делать было нечего. И помещики уступили. Прибавили месячину, отказались от Михайлова дня.
Не без того, конечно, чтобы, заключая договор, помещик не тешился мыслью, что времена еще переменятся. Войска и полиция потушат пылающее в городах пламя.
А тогда и в деревнях будет, как прежде бывало.
И вот народ вернулся на работу.
Многим это не понравилось. Человек уже глотнул свободы. Уже вдохнул свежий, чистый воздух. Привык ходить по дорогам всем миром, вместе, плечом к плечу. Уже привык чувствовать себя вместе с другими свободным и сильным. Перестраивать жизнь.
Будто толкнули большой чан с водой. Вода встала уже на место, но все еще колышется, дрожит, все еще по ней расходятся круги.
Больше всего скучали молодые.
По правде сказать, тяжко было в забастовку. А уж больше всего бабам и детям. Так что некоторые и довольны были, что кончилась забастовка. И что немного полегчало и с работой и с бранью управляющего.
Но другим крепко запали в память дни забастовки. Вот и Кшисяку. Пока все шло, как шло, человек работал, призадуматься было некогда. Но в забастовку нашлось время для всяких дум.
Они поднимались с каменистых проселочных дорог. Слышались в шелесте придорожных верб, распускающих зеленые листочки. Чудились в испарениях влажных полей. Их заносило ветром из дальних сторон. Они были и в сером дымке бараков. Слышались в криках детей.
Сперва туманные и неуловимые. Как молитва, которую шепчут в вечерний час, после работы, когда голову клонит ко сну от усталости, или как весенняя, капель за стеной.
Пока не приняли четкую форму. Облеклись в ясные, твердые слова.
Для Магды это, быть может, собственная полоска земли. И собственные коровы в коровнике.
Для Габрыськи — работа, надежная, постоянная, и своя крыша над головой.
Для Терески — танцы, красные кораллы и смех парней.
Для Антоновой жены — отдых, покой, теплое солнце, пригревающее в летний день.
Но для многих — это было другое.
Крестьянская родина.
А крестьянская родина — это было все. Собственная полоска, собственные коровы в коровнике. Постоянная, надежная работа и своя крыша над головой. И пляска, и красные кораллы, и девичий смех, и смех парней. Отдых, покой, теплое солнце, пригревающее в летний день. Справедливость. Человеческая жизнь.
Именно так это представлялось Кшисяку.
И не окончилось вместе с забастовкой. Нет.
На время пришлось кое-что уступить. Передохнуть. Сразу не удалось. Хотя так было бы милее сердцу, вот именно так, сразу, стремительно. С пением, с вилами, с дубиной, с крепко сжатыми кулаками. Сурово. Жестоко. Пусть бы даже пришлось пламенем и кровью проложить дорогу красной крестьянской родине. Свободной, широкой, справедливой.
Спина Кшисяка гнулась в работе, но теперь уже иначе, чем прежде. Рука тянулась к шапке, когда проходила помещица, но уже иначе. Это уже было не то. Сердце изменилось в груди Кшисяка. Как изменилось оно у всего батрацкого люда.
Теперь они знали, что батрацкий кулак и батрацкая стойкость кое-что значат. Что побелевшими от страха глазами может взглянуть усадьба, когда наступит ее час.
Работали, как и прежде. Но уже едва сдерживали проклятья, уже слышались угрозы по избам, уже дерзко поглядывали в глаза приказчику и управляющему.
И движение продолжалось. Дети учились по польской книжке. Шуршали в руках печатные листовки, по вечерам на столах разворачивали страницы газеток. В них впивались прилежные глаза, медленно, неловко, по складам читали непривычные губы. И все же всякий понимал. По-простому было написано, для простых людей. И о крестьянской трудовой родине.
Во время забастовки они познакомились не только с товарищем Мартином. Приходили рабочие с кирпичного завода, шли разговоры. Батрак увидел узкие и все же прочные мостки между одним трудящимся человеком и другим. Распознал мозоли на руках, тяжелый наклон плечей и тот суровый блеск глаз, который отмечал людей одной печатью. В знак того, что одинакова их судьба.
Эта истина извлекалась отовсюду. Когда ксендз во время проповеди говорил: блаженны нищие, ибо они наследуют землю, — это воспринималось теперь по-новому. Раньше слушали и не слышали. Не понимали содержания. Старые были слова, с детства ими уши прожужжали.
Но теперь было иначе.
Ибо это они, батраки, наследуют землю. Мерещилось: волнуются пшеницей широкие зеленые крестьянские поля. Поровну, по справедливости разделенные между людьми. Кто сколько сможет обработать, кому сколько ртов надо накормить, столько каждому и придется. Не знал, не понимал ксендз, когда с амвона гремел о батрацкой строптивости, что и он подбрасывал красные угольки в серую крестьянскую толпу. Ибо для них были слова, которые он говорил, для них были написаны. Это было не что иное, как пророчество о крестьянской родине.
Все это постепенно, понемногу вырастало у Кшисяка. Но когда выросло — пустило корни в самое сердце. Этого уже нельзя было вырвать, невозможно искоренить.
Разговоры с Мартином, а потом забастовка показали все, как на ладони.
Теперь уже Кшисяк знал. Теперь у него прояснилось в голове.
С одной стороны, были — усадьба, барин, все равно — городской или деревенский.
А с другой — трудящийся человек, все равно какой — городской или деревенский.
И должен был разыграться бой.
Но не такой, как теперь. Теперь ни крестьянин, ни городской рабочий не могли ничего сделать. Над ними стоял царский солдат. Царский солдат стерег, подавлял. Между блаженной свободой и простым человеком стоял царский солдат.
Но когда с этим будет покончено, все пойдет по-другому. Тогда порядок установит простой человек.
Так ведь было.
Против Ендрека помещица вызвала стражников.
Во время забастовки помещики пытались разрешить спор с батраками при помощи войск, казаков, полиции.
В прежние времена, в восстание и позже, говорят, и иначе бывало. Но теперь царский солдат, стражник, чиновник явно стояли на господской стороне.
Товарищу Мартину, быть может, казалось иначе. Кшисяку — именно так. Все было просто и ясно. Не будет этих властей, некому будет заступаться за господ. Некому будет поддерживать их господство штыками и нагайками. И тогда трудовой человек получит все по справедливости, что ему полагается.
Иначе не могло быть, должна прийти крестьянская, рабочая, справедливая родина.
После забастовки некоторые притихли. Измучились. Теперь они рады были нескольким лишним рублям в год, месячине. Ни о чем другом и думать им не хотелось.
Но Кшисяк знал — нельзя складывать рук. Крестьянская родина, скованная царем, ждет своего часа. Сам этот час не придет — жизнь научила Кшисяка, — ничто само не приходит. Все надо заработать. И он не мог бы спокойно спать в избе, спокойно есть свою неизменную картошку, спокойно разговаривать с людьми, если бы не знал, что делает еще нечто сверх этого.
Родина мерещилась ему неподалеку, за тонкой стеной, которую надо разрушить. А там уже все будет по-иному, все будет, как надо. Ведь они сами будут все делать, сами установят новые порядки, — так не себе же в ущерб и обиду!
И он льнул к Мартину, к тем, другим, — из города. Так ему казалось всего правильнее. Ведь это уж не просто бумажка, которую может напечатать всякий. Это не просто разговоры, от которых человек в любой день может отпереться, забыть о них.
Это как раз и была крестьянская работа. Суровая, трудная, пренебрегающая жизнью. И важная. Она распространялась по всем уездам, — даже и за границу, говорил товарищ Мартин, ее перебрасывали.
Кшисяк не чувствовал страха. Ничто не казалось ему странным. Он смело шел на все.
Одно ему не нравилось. Одно было не так, как следует. Работа велась то тут, то там. Но всюду по два, по три человека работало.
А ему казалось, что надо не так. Скликать крестьян со всех деревень. Где какой стражник, где какой урядник, где какое учреждение — все истреблять. Чтобы навести страх, чтобы никто чужой и показаться в деревне не смел.
Ему долго объясняли, почему так нельзя.
Ведь у тех были и пушки, и винтовки, и все. С одного разу могли бы они потопить деревню в крови.
Нужно действовать потихоньку, осторожно, тайно. То тут, то там. Это наводило страх на начальство. Всюду доходило. И делало свое. Нужно было постепенно готовиться. И только потом работа пойдет вовсю.
И Кшисяк делал все, что мог.
Разговаривать об этом много не приходилось. Эта работа пахла виселицей.
Кшисяк мрачно торжествовал, когда из города сообщали, что есть новости. Он бы на все пошел, иногда даже обижался на товарищей, что они лишь изредка ему кое-что поручают. Он бы пошел за всех, за всех бы все сделал. И все же он понимал, что так нельзя. Что каждое действие должно быть хорошо продумано, рассмотрено, подготовлено. Но этого он не умел, не так у него голова устроена.
И потому во всем полагался на товарища Мартина. Не мудрил. Раз убедившись, что те правы, он уже шел с ними на все, пусть даже на смерть. Магда боялась, но с бабами всегда так. Не понимает она, что так должно быть. Что именно он, Кшисяк, должен сделать свое, когда его позовут. Вот как сегодня, например.
Он ожидал с подводой в лесу. Таков был приказ.
Было скучно. Кшисяку хотелось отправиться с ними на шоссе. Но ему сказали, что здесь должен быть человек, который знает все проходы и тропинки в город. И вот он остался с лошадью, поглаживая ее, чтобы тихо стояла.
Потому что все должно было быть сделано тихо. Чтобы ни одна живая душа не знала. Только те пятеро, которых послали на это дело.
До этого они облазили все места кругом, разузнавали, как и что. Подробно обдумали. Дорога в город, по которой возили почту, в этом месте проходила по лесу. Надо было узнать, когда повезут деньги.
Деньги были очень нужны. Их не было у Кшисяка, не было у батрацкого люда, не было у рабочих с кирпичного завода.
А деньги были нужны на газеты и на револьверы. На бомбы и на помощь попавшим в тюрьму. На борьбу за крестьянскую, рабочую родину нужны были царские рубли.
Кшисяку нравилась эта работа. Она была проста, ясна и не требовала никаких разговоров. Пуля в лоб и точка.
Ему не было страшно. Знал, на что идет. Конечно, по головке не погладят — петля. Но Кшисяку смерть была не в диковинку. Просто, обыденно умирали люди в бараках. Без криков и отчаяния. И никто особо не сетовал. Пришел конец, ничего не поделаешь, надо умирать.
А ведь тут вдобавок это не смерть на вонючих барачных нарах. Другая. За крестьянскую родину.
И он шел охотно. Только зло брало, когда, как сегодня, его заставляли делать лишь подсобную работу. Ведь не каждый день случается драться, а Кшисяку это нравилось.
Он ждал. Трудно это было — терпеливо ждать. Те притаились у шоссе. Ждали, приложив ухо к земле, прислушивались, вглядывались. Почта должна скоро проехать. Но время тянулось бесконечно. Особенно для Кшисяка.
Он поглядывал вверх, на деревья. Шершавая кора их была подернута зеленым и серым мхом. Длинными бородами он оседал на ветвях, словно ледяные сосульки свешивался вниз. Белка уронила откуда-то сверху обгрызенную шишку. Размеренно, громко застучал по дереву дятел. И снова стало тихо, только по вершинам деревьев проносился шум, однообразный грустный напев, словно вверху шумело море, сонное, ленивое.
Зелен был лес. Зеленели деревья вверху, зеленели внизу кустики брусники, перистые листья папоротника.
Грянул выстрел. Лошадь испуганно рванулась в сторону. Кшисяк кинулся к ней, крепко ухватил поводья у самой морды.
Теперь послышался стук колес. И снова выстрел. Выстрелы щелкали в лесу, отдавались в глубине, будили эхо.
Кшисяк ждал. Минута тишины. Он порывался бежать, со всех ног бежать туда, к ним. Но этого нельзя. Его место здесь. Как уговорились, здесь, между тремя соснами, за осиной, на перекрестке двух тропинок, по которым никто, кроме браконьеров, никогда не ходил.
Здесь надо их ожидать. Они должны наверняка знать, что он здесь. Больше ничего от него сегодня не требовалось. Что бы ни произошло на дороге, он должен быть здесь.
В кустах раздался шорох, шаги.
Вот они. Мартин с остальными.
Не удалось. Догадались ли стражники, или другое что, но денег в почтовом фургоне не было. Солдаты отстреливались. Теперь нужно во весь дух нестись в город. Чтобы быть дома прежде, чем они начнут здесь искать и доискиваться, переодеться, спокойно отвечать, что никто и шагу не ступил из дому за весь день.
Они ехали по узкой лесной дороге. Прямиком по пескам.
Как вдруг, на повороте к шоссе, что-то мелькнуло. Стражники.
Стражники шли прямо на них. Сослепу, как одуревшие. И сразу: «Стой!»
Товарищ Мартин наклонился с сиденья. Хлопнул из пистолета прямо в лоб стражника между глаз.
Другой, как сумасшедший, кинулся в лес.
Теперь он все знает. И знает их в лицо. Теперь ему нужно только добраться до своего поста. И закачается петля на виселице в городе.
Кшисяк его догнал. Грохнул кулаком в висок. Раз, другой.
Что-то хрустнуло, треснуло под батрацкой рукой.
Кшисяка затрясло. Не надо было и смотреть. Он знал — готов. Теперь он вскочил на телегу, и они поскакали, так что лошадь, вздымая бока, выбрасывала из-под копыт комья земли, изредка спотыкаясь о корни.
И все-таки он довез. Товарища Мартина и всех. Оставил, где следовало, лошадь. И теперь окольным путем пробирался домой.
В лугах за усадьбой его поймали стражники. Куда и откуда?
Весть уже разнеслась. Подстреленный солдат с фургоном уже добрался до города. Уже рассказал там, как по дороге на них выскочили из лесу четверо.
И вот Кшисяка спрашивали — куда он и откуда?
Он ответил, как было условлено.
Не поверили. Спросили еще раз. Смотрели свирепыми глазами.
У Кшисяка руки чесались. Эх, если бы ему Мартинов браунинг, хлопнуть бы из него прямо в эти горящие злобой глаза.
Кшисяк ничего им не забыл. Он помнил окровавленную голову Ендрека, валявшегося в навозе. Помнил доносы стражников. Угощения на крыльце у помещицы. Шушуканье с управляющим, приказчиком. Сговоры с ворами. Помнил все, о чем писали в газетах. Людей, которые попали в петлю за справедливую родину. Людей, которые умирали за нее по тюрьмам.
Ненавидящими глазами смотрел он в злые и все же испуганные глаза стражников. Это разъярило их, его били по голове.
Он не заслонился руками. Не крикнул.
Его повели в деревню. На пост, к усадьбе.
Снова началось следствие. Расспрашивали, допытывались.
А тут как раз кто-то дал знать. Нашли тех двоих, убитых в лесу.
Стражники обезумели. Теперь они били изо всех сил, били лежачего, когда он упал. Кто-то ударил его сапогом в грудь. Он захрипел, захлебнулся. Сплюнул кровью на сосновые доски пола.
В бараках уже знали. Кто-то видел, как его вели. Магда, бледная как смерть, бежала к посту. За ней медленно двигались другие.
Навстречу выскочили стражники. Толпа рассыпалась, как стая воробьев.
Приехали жандармы. Снова допрашивали.
Кшисяк ничего не сказал. Лишь повторил сказанное вначале. Шел по своим делам в другую деревню, но воротился с дороги, потому что показалось поздно.
И его опять били. Пинали сапогами в живот.
У него потемнело в глазах. Снизу, с пола, все казалось странным. Огромные сапоги жандармов. Лида далекие и словно в тумане. Снизу он увидел стол, неструганый, шершавый. На мгновение заинтересовался, почему так. Почему снизу не строгают? Сверху доска красиво лакирована — он видел, когда вошел. А снизу никуда не годится.
— Ну? Скажешь?
Они долго кричали на него, угрожающе потрясали кулаками.
Он уже почти ничего не чувствовал.
И вдруг услышал за дверью крик Магды. Приподнялся на локте. Почувствовал, что голова у него тяжела, как чугун. Во рту что-то хлюпало. Кшисяк хотел сказать им, чтобы не смели бить бабу. Хотел прикрикнуть на Магду, чтобы убиралась домой, нечего ей здесь делать.
Но не мог. Что-то теплое, сладковато-соленое заливало рот. Он только теперь заметил, что изо рта у него льется кровь на руку, капает на доску, собирается в маленькую, круглую лужицу.
А к этой лужице приближается муха. Осторожно, чтобы не утонуть. Вот она подошла на черных лапках совсем близко. Вертит черной головкой. Махнула прозрачным крылышком.
— Говори!
На него обрушился новый удар. Он снова упал. Голова стукнула о доски — он услышал это. Ему казалось, что это не он лежит. Еще раз почувствовал адскую боль в ноге, его еще раз ударили в самое больное место.
В голове путались какие-то слова, он выплюнул выбитый зуб. Те что-то кричали, ссорились между собой, высокий жандарм наскакивал на стражника.
«Что-то у них там, в городе», — думал Кшисяк. Ведь он доставил их, как следует. Сам черт не дознается, что они были в лесу, что это их работа.
А это и было самое главное. Дело не в нем, Кшисяке. Что он? Глупая, темная голова. А вот Мартин, тот нужен, тот знает, что и как.
Стражники лили ему воду на голову. На мгновение они перепугались, что забили его до смерти, прежде чем он успел что-нибудь сказать. А ведь они были уверены, что он знает. Давно он был у них на примете. В тот день он исчез с самого утра, не вернулся к вечеру домой. Где же он был? Ведь он ничего пока не раскрыл, никого не назвал.
На минуту он снова очнулся. Ясно увидел, что муха подошла уже совсем близко, коснулась хоботком края красной лужицы. Что лужица чуть-чуть шелохнулась. Муха пила.
Кшисяку стало противно. Он хотел отогнать ее. Шевельнул рукой, но только глухо простонал. Вокруг него разверзлась тьма. Красным полотнищем, шумящим знаменем, зеленым полем простерлась крестьянская родина. Широко, далеко, не охватить взглядом.
Вода, вылитая ему на голову, не помогла. Пришлось так и бросить его в телегу и везти в город.
Он ехал, не видя света, не помня себя. Вокруг шумела зеленым полем, звенела красной песней далекая и все же близкая крестьянская родина. О ней гремели колеса, о ней шумел ветер. Он ничего не чувствовал, одно только это.
Магда была спокойна. Так уж случилось, так должно было случиться. Не так уж она глупа. Знала, к чему дело идет. На то Ясек шел. А лес рубят — щепки летят.
Бабы в бараках сидели тихо. Другая иной раз и разжалобится, поплачет над детьми в каморке. Или перед какой кумушкой. Но чтобы при людях, это нет.
Совестно как-то. Это уж свои дела, домашние, не для людских глаз.
Только Тереска, как всегда, не выдержала, ходила, опухшая от слез, хотя ее-то мужик как раз был дома.
— По ком это она так сохнет? По всем или по одному? — ехидно спрашивала Антонова жена, когда они с Магдой встречались во дворе или в коровнике.
Магда не отвечала. Не любила она вмешиваться в чужие дела, совать нос в чужой горшок. Может, потому она и знала всегда больше, чем другие.
И когда сегодня вечером к ней зашла Тереска, она тотчас догадалась, что от нее что-нибудь узнает.
— Ну, как справляешься?
— Как? Как все.
— Не писал твой?
— Что ты?
— Говорят, можно написать.
— Господи боже! А мой ни слова, ни одной строчечки!
— Вот видишь. А я получила.
— Письмо?
— Йоська привез. Кто-то ему в городе дал.
— Из тюрьмы?
— Оттуда. Надзиратель будто бы не очень злой. Дать ему на табак, он вынесет письмо, Йоська говорит, что, если я захочу ответить, он отнесет. Да ведь я неграмотная, не сумею. Может, Магда, ты прочтешь мне?
Магду взяло любопытство — от кого? И нет ли там чего о Ясеке, хоть одной весточки, хоть одного слова.
— Что ж… а тебе разве не читали?
— Читал Йоська. Но если бы ты еще разок прочла, милая ты моя?
Магда сняла с крючка лампу и поставила ее на стол. Письмо было помятое, истрепанное, словно через сто рук прошло. А стекло на лампочке закопченное. Просто беда.
Магда водила пальцем по кривым строчкам. Старательно читала по складам, чтобы как-нибудь не ошибиться.
«Слава Исусу Христу».
— Во веки веков, аминь, — хриплым шепотом ответила Тереска, хотя ведь это только в письме так было написано.
«Сижу за столиком, в покое невеселеньком, столик колышется, письмо тебе пишется. Пишу не чернилами, не пером пишу я, а алмазом крепким буквы вывожу я. Перышко писало, сердечко рыдало, что тебя, Тереза, давно не видало. Когда солнце всходит и когда заходит — сижу я и думаю, как жизнь твоя проходит, ходит к тебе хлопец другой или не ходит».
— Так и написано? Где это?
Магда показала кривые, расплывшиеся буквы. Тереска шмыгнула носом.
— Боже ты мой, милостивый!
«В первых строках моего письма, дорогая Тереза, спешу узнать о твоем здоровье и как тебе живется. Мне живется не так чтобы хорошо, как всегда в тюрьме. Еда хорошая, но очень скучно. Ясек Кшисяк хворает, с ногой у него плохо, собираются его в больницу класть. Оттого, что его стражники побили. А остальные все здоровы. Кабы ты могла прислать мне какой рублишко для стражника, это было бы хорошо, он тогда добрее и не так цепляется к человеку.
Больше писать нечего, только шлю тебе мой поклон. Поклон от всего сердца, через зернышко перца. Чтоб жилось не тяжко, порхай, как в небе пташка. И кланяюсь нижайше, сквозь розы цветик алый, чтоб ты жива, здорова и дальше пребывала. Еще через плетень я кланяюся низко, издалека и близко, пусть ручку твою белую пожмет моя записка. Твой любящий Юзек».
— И больше ничего?
— Больше ничего.
Магда невидящими глазами смотрела прямо перед собой. Она не видела ни Терески, ни коптящей лампы, из которой вырывался рыжий дым. Она знала лишь одно, что Ясек болен, болен, болен, что его заберут в больницу.
Она не успела даже подивиться этому Юзеку. Ведь это не кто иной, как Юзек Банась. Молодой, красивый парень. Что он нашел в Тереске?
Тереска взяла письмо и побежала к соседям, чтобы и там похвастаться. Никакого стыда у нее не было.
Магда сидела сгорбившись, покачивая головой в мучительном раздумье. Боже милостивый, не выйти уж Ясеку из этой тюрьмы. Наверняка не выйти. Из-за побоев. Она опустилась на колени в углу и молилась, молилась, пока ее не разобрал сон, да так и уснула, опершись головой о скамью.
Скучно было без Кшисяка. Пусто казалось в каморке, хотя здесь были и Малики и Сташек, как всегда.
И вдруг, в один день вернулись и Юзек Банась и Кшинковский. Пришли усталые, запыленные и слегка пьяные, потому что по дороге выпили по рюмочке в корчме на радостях, что их отпустили.
Магда вошла к Банасям с бьющимся сердцем. Страшно было спросить. Так можно и дурную весть услышать. Опять же, как не спросить о родном муже, когда есть случай?
Но Юзека не было в избе. Старая Банасиха проклинала и его и Тереску.
— Убежал! Только зашел в хату и сейчас же за Терескиной юбкой погнался! Наказание божье с этим парнем. Ох, доиграется он, доиграется! Да и эта баба! Намного ли она меня моложе, а туда же, вешается, будто ей семнадцать лет! Лахудра! Сколько я ему говорила, да разве уговоришь, когда мужик себе что в голову заберет.
— А я было о своем хотела узнать…
— Куда там! И не сказал, перекусил, что было, и — ходу! Наверно, уж где-нибудь за амбарами или за сараем обнимаются! Никакого стыда у нее нет! И чего ее мужик смотрит, тоже не знаю. Взял бы ремень да отхлестал бабу, небось не захотела бы больше! Писал ваш-то?
— Нет… Болен, говорят, в больнице…
— Да, не по лесу, а по людям горе ходит. И всегда оно так, что одному в чужом пиру похмелье, а другому… Из деревни-то мало кого позабирали…
— Тоже брали.
— А уж этого Юзека, прости господи, могли бы и дольше подержать. Никакой пользы от парня, только за Тереской вяжется, как, прости господи, кот мартовский! Никакого удержу нет! Ну, уж теперь он меня довел, пусть только она мне попадется под руку, прямо голову оторву суке, будет меня помнить!
Она швыряла горшками в печке и бегала по каморке, так что только юбка развевалась.
Банась спокойно курил трубку и слова не проронил. Он привык к бабьей брани и не любил вмешиваться.
— Так я уж пойду. Может, забегу к Кшинковским, Леон, наверно, что-нибудь знает…
— Забеги, забеги, милая, а то этот подлец небось только к утру притащится. Уж Тереска для него где-нибудь перину найдет, такой все равно, хоть на голой земле, как сука…
Магда распрощалась и вышла. Но долго еще слышала, как бранилась Банасиха.
Кшинковский был дома. Собирался уже спать, когда она пришла.
Тут она узнала все подробно. Что Ясек сначала с ним сидел, а потом у него все хуже было с ногой, и его забрали в больницу. Солдат его там стережет в больнице, а больше они и сами ничего не знают, потому — где тюрьма, а где больница.
— А повидать его не позволят?
— Куда там! Да что вам печалиться, когда теперь понемногу всех пускать будут. Что другим, то и Ясеку. Оглянуться не успеете, как домой придет.
Магда со сжавшимся сердцем пошла домой. Ей все казалось, что Леон так только говорил, чтобы утешить. Что с Ясеком очень плохо. Кто знает, выйдет ли живой?
У ясеней мелькнули две тени. Юзек и Тереска, больше некому здесь быть.
«Какие разные бабы бывают», — подумала она. Одна все принимает к сердцу, а другая нет. Сейчас же то с одним, то с другим утешится. Но ведь и то сказать, у Терески забот больше, чем у Магды. Магде приходилось горевать только об одном, о Ясеке. А той — бог знает о скольких. Не с одним она переспала, и всех ей жалко было.
Входя в барак, она увидела, что в маленьком оконце слева горит лампочка. Терескин муж, видать, не спит. Может, ее ждет.
Сташек заворочался на постели.
— К Банасям ходили?
— К ним. Расспросить хотела.
— Юзек пошел с Тереской в монопольку, говорит, надо это дело вспрыснуть.
— Ну да! Откуда у него деньги?
— Тереска достанет, не беспокойтесь!
И вправду Тереска всегда откуда-то выцарапает деньги. Она припрятывала месячину, жалела мужу поесть, а на угощение кавалеров у нее всегда находилось.
Срам это, конечно. Все смеялись над Тереской, говорили, что у нее не все дома. А все-таки у нее было больше радости в жизни, чем у других.
Магда поймала себя на этой мысли, как на смертном грехе. Она погасила коптилку, опустилась на колени у нар и долго молилась. За здоровье Ясека, за его благополучное возвращение. За умершего ребенка. За Янтошку и за всех других.
И словно ее бог услышал. На другой день выпустили остальных мужиков. А к вечеру Йоська, который как раз был по каким-то делам в городе, привез и Кшисяка. Сам-то он не очень мог ходить. Слез с телеги и сразу на нары, на долгую хворость.
Нога пухла. Казалось, она лежит где-то далеко, будто не своя, чужая. Кшисяк тяжело поднимал голову и глядел на нее. Закутанная в тряпье, как грудной младенец, она нестерпимо болела. Железы в паху набухли, стали, как голубиные яйца. Вены натянулись веревками, синие и вздутые. Маленькие молоточки стучали в висках, маленькие молоточки стучали в каждом суставе, пульсировали в каждой жилке. Отупевшими глазами он оглядывал избу, смотрел на суетившуюся Магду.
— Я принесла подорожник.
— На что он?
— Не говори зря. Подорожник жар вытягивает.
Она подошла к нему и стала осторожно разматывать тряпье. Он лежал непокрытый, — все, чем она пыталась покрыть его, казалось ему стопудовой гирей.
— Ох, — зашипел он сквозь зубы.
— Подожди, потерпи маленько — надо же размотать… Какая черная…
Он осторожно приподнялся и посмотрел. Это была его нога. Она лежала на соломе, как колода. Темно-красная, почти синяя. Натянутая на опухоли кожа блестела, будто ее салом смазали.
Магда осторожно клала на нее плоские зеленые листья подорожника.
— По росе собирала. Наверняка должно помочь.
Он терпеливо позволил обложить больную ногу. Стало даже немного легче — влажное, прохладное прикосновение смягчало, на мгновение приглушало безумное постукивание молоточков в жилах. Магда обвязала ногу чистой тряпицей.
— Уснул бы ты.
Но сон не приходил. Под усталыми веками что-то мерцало. Он слышал, как хрюкает и скребется под нарами кабанчик.
«Дала она ему жрать или нет?» — пытался он припомнить и не мог. Утро терялось в густом тумане. Далекое. Чужое. Когда же это было утро? И когда была ночь? Кшисяк старался сосчитать, сколько уже дней он лежит. Может, не надо было ложиться, скорей бы прошла болезнь. Ему вспомнилось, как в детстве он наколол ногу. И все ходил. Нога болела долго, огромный нарыв никак не вскрывался. Тогда он взял гвоздь и проколол. Вылилось много гноя, а потом быстро зажило. Ох, и ковылял же он тогда по стерне!
Опять потемнело в глазах. Сквозь туман, который стоял у него перед глазами, он увидел Магду.
— Пить.
Она приподняла ему голову и поднесла к губам край жестяной кружки. Но вода воняла прудом.
Он оттолкнул кружку.
— Пей, я принесла из деревни, из колодца, — уговаривала его жена.
Он попытался выпить. Но запах гнили снова заставил его оттолкнуть кружку.
«Все у нас провоняло рыбой и прудом, — думал он смутно. — Бараки, мы сами, даже вода в деревенском колодце… Но почему вода в колодце? Ведь это далеко…»
Магда тревожно всматривалась в него.
— За Янтошкой разве сбегать?
Он не ответил. Пусть баба делает, что хочет. По правде сказать, он не очень и слышал, что она говорит. В ушах шумело. Стучал маленький молоточек: так-так-так, а другой торопился за ним быстро, стремительно. Откуда-то с шумом низвергалась вода. «Шлюзы подняли, что ли», — подумал он, хотя не время было выбирать рыбу. Все вертелось перед глазами, качался барак. «Ну и ветер, должно быть, каменную стенку трясет!» — изумился он.
Он мучительно соображал, как это возможно, чтобы стены так клонились набок и снова возвращались в прежнее положение. Увидел потек сырости, обросший зеленым и рыжим грибком, — прямо над нарами. Не грибок ли это так воняет прудом, стоячей водой? Ведь они родные братья. Грибок пришел сюда с пруда. Чтобы расползтись по ветхим стенам. Грибок и пруд перемешались в голове у Кшисяка в размеренном, однообразном шуме. Нары качались между шатающихся стен.
— Слава Исусу Христу.
Он не ответил, рассматривая теперь другое пятно сырости, расплывшееся на потолке.
— Во веки веков аминь, — ответила за него Магда. Она вошла вместе со старухой.
— Вот гляньте, лежит и лежит, никак в себя не придет.
— С прошлого месяца?
— Сами знаете. Уж мне все на свете опостылело. Мало было горя, теперь еще такое несчастье стряслось.
Янтошка засуетилась. Она живо вытащила из-под платка какие-то травы, пузырек со святой водой и угольки обожженных в лесу буковых ветвей, сорванных с южной стороны.
— Дай какую-нибудь миску.
Магда торопливо сняла с полки единственную в ее хозяйстве красивую глиняную миску. Под глазурью каемкой вились белые полоски. На мгновение ей стало жалко миски.
«Вода-то святая и травы тоже», — сурово упрекнула она себя мысленно. И стала смотреть, как Янтошка, разжигая угольки, дует на них сморщенными губами, как кладет в жар травы.
Пахучий синеватый дымок заколебался в миске. Старуха подошла к кровати. Развернула ногу.
— За семью горами, за семью реками стоит яблоня золотая с золотыми плодами. Одно яблоко катится по дороге, второе яблоко падает в воду, третье яблоко взял ангел, отнес пресвятой деве.
С суеверным страхом слушала Магда бормотание старухи. Узенькая струйка дыма поднималась прямо вверх.
Старуха взяла один уголек и бросила за спину.
— Яблоком болезнь катится, падает на серые камни. На серые камни, на дальние дороги, пресвятой деве прямо под ноги.
Второй уголек взлетел в воздух и слегка зашипел на мокром полу.
— Пресвятая дева яблоко забрала, за семь рек, за семь гор хворость прогнала. Не по моей, не по твоей воле, по воле пресвятой девы уходите, боли.
Она набрала в горсть немного святой воды и брызнула на ногу. Больной вздрогнул, поглядел, словно узнавая ее.
Старуха потушила святой водой третий уголек, завернула его в стебель сухой травы и сунула под набитую куриным пером, жесткую и плоскую подушку больного.
— Дай вам бог, — благодарила Магда.
Ей было неприятно, что у нее нет для Янтошки хоть пары яиц, хоть кружка масла. Когда старуха ходила заговаривать болезни к хозяйственным крестьянам, ей давали иной раз изрядный узелок. Но в барачной каморке ничего не было, и Янтошка ничего и не ожидала.
— Пол не подметай три дня, а то выметешь заговор. Угольки пусть лежат, пока он не встанет. Если это не поможет, то уж ничего не поможет, — бормотала она, заворачивая оставшиеся травы в полотняную тряпицу.
— Дай вам бог, еще раз спасибо, и угостить-то мне вас нечем.
— Я за твоим угощением не гонюсь, никогда еще не отказывалась, когда к больному зовут. А ты бы на всякий случай о ксендзе подумала. Если и выживет, не повредит ему.
Они вышли из барака.
— Оставайся с богом.
— С богом идите.
Магда долго смотрела, как Янтошка, сгорбившись в три погибели, ковыляет по дороге; вот диво, как это спина может так дугой согнуться. Сколько же это ей лет? Магда задумалась. А ведь волосы у нее черные, как вороново крыло. И если приходилось, она шла к больному за три, за четыре деревни. На подводе она никогда не ездила, хотя иногда из далекой деревни за ней и присылали подводу.
— Это уж не заговор, коли на колесах привезен, — заговор, коли на ногах принесен, — говорила она, когда ее уговаривали сесть на подводу. И семенила своими мелкими, быстрыми шажками, сухая как трава, которой она выхаживала больного.
— Земля к себе человека тянет, — говорила она спокойно, когда кто удивлялся, что ее так согнуло от старости.
Дети боялись ее. Она часто бродила по пастбищам в поисках трав и, если кто-нибудь из ребят озоровал, сурово грозила своей кривой клюкой из можжевельника. Дети верили, что она и сглазить может, а не только заговорить от сглазу. Они со всех ног улепетывали в ближайшие кусты и оттуда смотрели, как она ковыряет землю в поисках какого-нибудь корешка, как старательно очищает желтые головки зверобоя, как рвет жесткие стебли десятилистника. Управляющий и тот не бранил ее, когда она забредет в помещичий хлеб нарвать полевого хвоща, прямой сосенкой стоящего на борозде.
Старуха знала все травы, знала, какую надо рвать по росе, какую при солнце, а какую при месяце. У какой полезен корень, у какой лист, а у какой цвет. В день божьей матери, когда святили травы, она с трудом обхватывала обеими руками сноп разных трав, которые несла святить.
Вышедший из конюшни Антон посмотрел вслед уходящей.
— Заговаривала?
— Заговаривала. Ну, прямо конца не видать. Сказала, если это не поможет, то уж ничто не поможет.
Антон покачал головой.
— Кто его знает… Ишь, как быстро идет, будто молоденькая!
— Сколько ей лет?
— Откуда мне знать? Когда я молодым парнем был, она уже была старухой. Отец мой рассказывал, что в молодости она красавицей была. Будто у барыниного деда что-то с ней было.
— Ой, да что вы рассказываете! Янтошка!
— Не я рассказываю, люди говорят.
Магда покачала головой. Казалось странным, даже непонятным, что Янтошка была когда-то молодой. Что она была стройной девушкой, смеялась и танцевала. Самому барину понравилась…
Магда подумала о своей молодости, и сама удивилась: она вроде не была никогда молодой.
Кшисяк еще едва ковылял, когда за ним прислала барышня, — надо письмо нести.
Ругаясь и охая, он приплелся в усадьбу. Барышня стояла на крыльце. Она словно не заметила, что ему не дойти в такую даль.
Делать было нечего. Письмо пришлось нести Магде.
Она быстро накинула на плечи платок, чтобы не видно было рваную кофтенку. Если бы не муж, она бы надела новую, праздничную.
У нее немного дрожали ноги, когда она подошла к дому и попросила доложить помещику.
Он вышел. Точь-в-точь такой, как тогда, когда благоухала черемуха и когда он поссорился с барышней.
— А что случилось с Кшисяком?
Магда задохнулась от волнения. Она не думала, что барин станет с ней разговаривать.
— Мой хворает…
Барин внимательно смотрел на нее. Она опустила глаза. Застыдилась, словно ей было пятнадцать — шестнадцать лет. Словно она еще девушка.
Барин медленно читал письмо. Тщательно сложил его, спрятал в конверт. Теперь он стоял, глядя на Магду и слегка ударяя себя конвертом по руке.
— Скажешь, хорошо, мол. Письма не будет.
Она поклонилась и хотела уйти. Но тут барин быстро оглянулся вокруг. Поблизости никого не было. Он подошел еще ближе. Магда замерла. Она почувствовала, как тонкая, теплая рука берет ее за подбородок и приподнимает склоненное лицо.
На мгновение ей пришлось взглянуть в веселые голубые глаза барина.
— Знаешь, где Сковронов сарай?
— Знаю, — прошептала она, не понимая, к чему он ведет.
— Придешь туда завтра вечерком, когда стемнеет.
У Магды зубы застучали от волнения. Она сразу почувствовала, что придет. Наверняка придет.
А барин тут же повернулся и ушел в дом, только стукнула захлопнувшаяся за ним дверь.
— Исусе милостивый… Исусе милостивый, — шептала Магда, медленно возвращаясь домой.
Но так уж, видно, было суждено. Может, еще с самого того времени, когда она пряталась в бузине, чтобы рассмотреть барина вблизи.
Даже и не спросил, хочет ли она. Придет ли? А так безмятежно, по-барски сказал: придешь.
Как же не прийти, если он будет там, у Сковронова сарая, на краю влажных лугов, если он будет ждать ее, потому что сам ведь сказал: приходи.
Боже мой, боже, как чудно жить на этом свете. Чудно, что барин сказал это ей, Магде. Видно, все правда, чистая правда, что рассказывали, будто барин за девчатами бегает. Она-то ведь и не девушка! Замужняя, — сколько же это лет прошло? И ребенок у нее был. И не из деревни она, батрачка. Истомлена нуждой. Кожа да кости. Что только в ней барину понравилось?
Когда она вернулась, Кшисяк чинил грабли.
— Есть письмо?
— Нет. Велел только сказать, что хорошо, мол.
Она боялась взглянуть на мужа. Узнает, сразу узнает, что не только это сказал барин. И в то же время ее так и подмывало сказать. Что вот ей, Кшисяковой бабе, барин велел прийти к Сковронову сараю. И хотелось самой пойти к барышне и передать поручение. Сказать: хорошо, мол. И посмотреть на барышню, которой и в голову не приходит, что завтра вечером она, Магда, будет с барином в Сковроновом сарае. Этой барышне, что никогда и не глянула на человека, слова никому не сказала. Посмеяться над ней в душе.
Но пошел Кшисяк. Барышне могло и не понравиться, что он не сам отнес письмо, а послал жену.
Все валилось из рук. Теперь на Магду вдруг напал страх. Раздумье, что будет, если узнает муж. Но еще больший страх: что, если все это ей только привиделось. Если барин ничего не говорил о сарае.
Она размешивала в лоханке корм для кабанчика, торопилась, пора было идти в коровник. Но даже и там все было как-то иначе, чем всегда.
Сотни мыслей проносились в ее голове. Она и не заметила, что продолжает доить, хотя белая пена уже переливалась через край подойника. Ее словно одурманили баринов взгляд, бариновы слова.
И так было до следующего дня. Ни есть, ни спать, ни делать что. А работа была тяжелая. Тысячу раз нагибалась она с серпом над овсами. Откладывала в сторону сжатые горсти, чувствуя невыносимую боль в спине. Солнце жарило, нигде не было ни крошки тени.
Магда едва дотащилась до дому. А ведь надо было еще идти. С самого утра она придумывала, что сказать мужу.
И придумала.
— Куда еще собралась?
— Велели прийти в усадьбу, помочь гладить, — сказала она спокойно, хотя у нее потемнело в глазах.
— Что они другого времени не нашли, только теперь, в самую страду, гладить?
Она не отозвалась. Кшисяк ругался. Ведь он же видел, что баба еле жива от усталости.
Магда ушла. Было душно. Откуда-то притащились тяжелые тучи и затянули небо. Выскочив из дверей, она окунулась в непроглядную тьму, бархатными лапами легшую на ее лицо.
Дворовая собака бродила где-то во мраке, она подбежала к Магде и стала ластиться. Погруженная в свои думы Магда перепугалась. И страх больше не покидал ее.
Глаза немного привыкли к темноте. Стала чуть видна тропинка, которая вела в луга. Черные стены строений сливались с неясной далью.
«Не придет», — подумала вдруг Магда, с трудом узнавая дорогу.
Нет, придет! Она знала наверняка. И она уже сама не понимала, что было бы лучше. Ей представлялось, что вдруг Кшисяк зайдет в господский дом разузнать, много ли еще работы и скоро ли она вернется. Никогда он этого не делал, а теперь как раз возьмет и пойдет. А ему окажут, что ни о какой глажке и разговора не было.
Холодная дрожь пробежала по спине. На мгновение в памяти возникло искаженное гневом, потемневшее лицо мужа — такое, каким оно было, когда он дрался со стражниками.
В кустах что-то зашуршало. Она застыла на месте. Явственно донеслось трепыханье крыльев — и все утихло.
«Птица проснулась», — облегченно вздохнула она и пошла дальше, все еще оглядываясь по сторонам.
Вот тут на повороте был обрыв в глинистом берегу ручья. Здесь оступился пьяный Келбонь. Так вместе с осыпающейся глиной и рухнул вниз. Лицом в ручей. И больше не поднялся. Так и умер, не придя в сознание, с ртом, набитым глиной, с головой, увязшей в жидкой грязи на дне.
Поговаривали, что его видят по ночам. Он карабкается по обрыву, тяжело дыша, лезет вверх. Но руки соскальзывают, синий огонь вырывается из-под царапающих глину ногтей. Хрипит заткнутая глиной глотка.
Магда вся похолодела. Ей показалось, что стоит только повернуться лицом к обрыву, и она увидит, как пальцы мертвеца тщетно хватаются за края обрыва и из-под них вырывается синий огонь, признак претерпеваемых им адских мук.
Она принялась потихоньку читать молитву. Сперва мысленно. Ей хотелось бежать, чтобы поскорей миновать недоброе место. Но, пожалуй, это будет еще хуже. Так она идет спокойно, никому ничего не делает. А как увидят, что она от страха бегом бежит, еще погонятся за ней.
Но не только обрыв был страшным местом. Вон у того холмика, куда во время пахоты сбрасывают с полей камни, тоже всякое может случиться. А ведь к Сковронову сараю и не пройти иначе, только мимо этого холмика. Оттуда доносился подозрительный шепот и шорох.
— Ветер, — дрожащими губами успокаивала себя Магда. Но со страху позабыла слова молитвы. Ведь раньше, пока она шла, не заметно было ветра.
Вот она подойдет к деревьям, а там что-то захохочет. Раздастся скрежет — как это раз Антониха слышала. Будто кто-то жнет серпом камни, упорно тупит о них острие. А потом как заблестит. Медленно появится высокая белая баба. Начнет расти, расти, вырастет выше рябины, станет махать огненным серпом по черным рябиновым ветвям.
— Боже милосердный! — вздыхает Магда. И она все быстрее и быстрее повторяет слова молитвы, особенно те, которые помогают от наваждения: «Приявший раны за грехи наши…»
Но молитва молитвой, а ведь не обязательно нечистая сила должна напасть на нее. Хотя кто знает! Ведь она не с добром идет, а убежала ночью из дому к барину.
Да хоть бы и ничего не случилось с ней, — достаточно увидеть нечисть, чтобы помереть со страху.
Поля, луга, рощи — все кишело нечистью, всюду случались странные, непонятные вещи. Вот здесь в вербное воскресенье на белых льняных платочках, говорят, сушатся деньги. Среди бела дня, в самый полдень. Вот здесь водит людей синеватый огонек, блуждающая искра. А здесь нечистая сила появляется впереди путника в виде черного пса с зелеными глазами. Раздаются над водой стоны трех барышень. В давние времена все три любили одного и от любви кинулись в омут. Синими утопленницами являются теперь людям. Река уже давно ушла из этого русла, журчит лишь малюсенький ручеек. А барышни остались.
К деревне, к самым баракам подлетали душеньки некрещеных детей, умерших без времени, и жалобно кричали: «Крещения! крещения!» По дьявольскому наваждению путалась тропинка, кружилась на месте, пока измученный человек не валился с ног от усталости. Нечистая сила поджидала его за углом, выглядывала из-за соломенной крыши, катилась по тропинке, поднималась столбом пыли на перекрестке. Ее косые глаза высматривали, где и кого изловить, кого одолеть.
Спастись можно было молитвой, заговорами, Янтошкиным лечением, если нечистая сила кого особенно одолевала. И все же нечистая сила оставалась нечистой силой.
Магда хотела было молиться вслух, но боялась, что кто-нибудь услышит. Может, другая, как и она, бежит теперь в темноте, если не к Сковронову сараю, то еще куда. Может, и другую темнота поджидает чьим-нибудь теплым дыханием. Ее узнают по голосу, а наутро все будут знать, что Магда, жена Кшисяка, бегала куда-то ночью, не иначе как к хахалю, и молилась вслух, — видно, нечистый напугал.
Она подавляла в себе страх. С облегчением почувствовала под ногами мягкую, влажную луговую траву. Пригнулась к земле и так пробежала еще несколько шагов.
Сердце колотилось, словно выскочить хотело. И опять мелькнула мысль, — он не придет. Небось смеется сейчас над ней, а она поверила, побежала по первому зову, как сука какая. Сидит теперь у себя в покоях или спит уже. А она измочила в росе юбку, чуть не померла со страху и стоит, как дура, перед Сковроновым сараем. Она тяжело дышала, с трудом ловила воздух открытым ртом. Грозным, каким-то чужим показалось ей давно знакомое строение. Она коснулась рукой угла. Почувствовала приятную шероховатость дерева. Трухлявые занозы торчали в толстых бревнах. Это было словно дружеское пожатие.
И вдруг она с криком отскочила. Возле нее что-то хрустнуло, заскрипело, затрещало. В ночной тишине ей казалось, что все кругом со страшным грохотом проваливается под землю, что этот грохот доносится до бараков, что его услышит спящий на нарах муж.
— Глупенькая, чего испугалась!
В самом верху сарая открылось оконце.
Он был здесь. Пришел. Магда с облегчением почувствовала обхватывающие ее руки. Словно теленок за коровой, она пошла за ним в открытую ригу, на сваленные в углу остатки сена.
Одно уже хорошо, что все страхи кончились. Что ей не явился Келбонь, что она не слышала, как на пригорке жнет камни серпом нечистая сила, что ее не увел за собой по болотам и трясинам блуждающий огонек. А главное, она никого не встретила, и она здесь, и теперь — хоть пропади все пропадом.
Ей казалось, что все будет иначе, иначе, иначе. Господская, блаженная, совсем иная, чем у Кшисяка, любовь.
Хотелось услышать, как он говорит. Ведь говорил же он о чем-то с барышней столько времени, когда ездил с ней верхом по полям, когда сидел у нее в покоях, в усадьбе? Казалось, вот сейчас для нее откроется какой-то другой мир — милее, яснее, счастливее, чем все, что она знала до сих пор.
Она и не защищалась, — ведь известно, зачем она пришла сюда. Не дитя. Она лишь ожидала милых бариновых слов.
Но милых слов не было. Барин, видно, торопился домой. Да и к чему ухаживание, уловки с этой женщиной из бараков, когда она, хоть и молодая, хорошенькая, прибежала к нему сразу, по первому его слову!
Она понравилась ему вчера днем, когда стояла на крыльце, с опущенными длинными ресницами, с внезапно вспыхнувшей на щеках краской. С этим робким взглядом серых глаз.
Но теперь он почувствовал запах пота и грязного тряпья. Почувствовал шероховатость огрубевших, мозолистых рук. И он торопился.
Магда покорно поправляла на себе одежду. Барин посвистывал сквозь зубы. Они вышли из сарая. Было темно, но Магда не смела поднять глаз.
Вдруг она почувствовала, что он что-то кладет ей за пазуху. Зашелестела бумага, она поняла — деньги. На одно мгновение ей захотелось обернуться и изо всех сил треснуть по этому светлому барскому лицу.
Барин помахал ей рукой:
— Будь здорова, да смотри не потеряйся по дороге.
Он засмеялся своим веселым барским смехом.
Магда все стояла. Пощупала за пазухой. Не иначе как три рубля. Она мяла в руке бумажку. В первую минуту ей пришло в голову кинуться за ним, бросить ему эти рубли в лицо.
Но потом подумала, ведь скоро ярмарка. Вспоминался виденный в прошлом году платок. Или в дом чего купить, а то для Ясека масла какого или спрятать немного денег про черный день. Ведь уж не раз, не два случались эти черные дни.
Она сложила трехрублевку, завязала ее в уголок платка.
Осмотрелась. Тьма немного поредела, а может, просто глаза привыкли к черному мраку там, на шуршащем сене в риге?
Теперь она шла медленно, уже не думая ни о Келбоне, ни о каких других страхах.
На сердце было пусто и глухо. Вспоминался тот благоухающий черемухой день. И как это все вышло? Совсем как всегда, по-мужичьи, нет, еще хуже, потому что ведь он ей дал три рубля, хотя она пришла по доброй воле и ничего у него не просила.
А с барышней у него, должно быть, было как-то иначе. Они смеялись, разговаривали, ссорились, писали друг другу письма — о чем?
Видно, уж оно так — барышня для одного, а девки, за которыми он бегает, для другого. Да и она, Магда, тоже — только и годится, чтобы ей велеть ночью прийти, бросить на сено, а потом, посвистывая, уйти лугами домой.
«Что у меня есть? — размышляла она. — Усадьба или земля, лес? Или такие белые ручки, такие волосы? Небось она каждый месяц их моет, а то и чаще. Есть у меня такие шелковые сорочки, как те, что иногда сушатся за садом на веревке? Барышнины сорочки».
Она тихонько вернулась домой. Стащила с себя платок, спрятала трехрублевку в известное ей одной местечко — в трухлявую ножку стола — и, скользнув в постель, улеглась рядом с мужем. Он крепко спал и даже не шевельнулся.
Сердце Магды вдруг переполнилось благодарностью — он существует. Можно лечь возле него и спокойно уснуть. Слышать его тяжелое дыхание.
Она лежала спокойно, стараясь не задеть его больную ногу.
VI
— Сегодня надо быть в лавке за лесом, — неожиданно сказал Антон, когда они вдвоем с Кшисяком мыли телегу у колодца.
Кшисяк хотел было расспросить — что да почему, но тут притащился приказчик и увел Антона в конюшню. Заболела лошадь, а Антон знал толк в этих делах.
Да, пожалуй, и лучше было поменьше разговаривать. Никогда нельзя знать, чьи уши тебя подслушивают. Лавка за лесом была одна, не ошибешься. На месте видно будет, в чем там дело.
В этот день, как нередко случалось и раньше, барышня приказала ему идти с письмом в усадьбу к кленчанскому барину. Это было удачно, придется лишь немного свернуть с дороги.
Он быстро миновал лесок. Собственно и не лесок, а так, десятка полтора тощих деревьев. Деревья покрупнее уже давно были вырублены. Лесок принадлежал волости. Староста поставил себе избу, мужики раскупили остальное. И всего-то деревьев осталось, как после пожара.
Лавка, бывшая корчма, стояла на краю деревни, за ней начинались луга. А дальше, по другую сторону, проходило шоссе в город, белая от пыли дорога.
Выйдя из лесочка, Кшисяк сразу понял, — происходит что-то недоброе. Из лавки слышался крик, потом грянул выстрел.
Он вздрогнул. Будто чья-то каменная лапа легла ему на сердце.
«Боже милостивый! Боже милостивый!»
Умнее было бы остановиться, выждать. Но какая-то непреодолимая сила погнала его вперед.
Теперь раздался второй выстрел, и в ту же минуту кто-то выскочил из лавки. За ним второй, третий. Молниеносная борьба на дороге.
Кшисяк разобрал — два стражника и третий, одетый по-городскому, в кепке. С револьвером в руке. Опять грянул выстрел, и кепка свалилась с головы. Кшисяк еще издали заметил светлые волосы, развевавшиеся на ветру.
Один из стражников упал. Из изб стали выбегать люди. Слышно было, как причитают в сенях бабы.
Юноша выстрелил еще раз, но промахнулся. Он отскочил в сторону и огромными прыжками, словно олень, понесся к лугам. Прямиком, по зеленой траве, пестреющей желтыми лютиками, узорчатыми звездами кукушкиного цвета, золотыми глазками ромашки.
Он бежал, высоко вскидывая ноги, чтобы не запутаться в траве, не споткнуться о предательские, скрытые в зелени бугры старых кротовьих нор.
За лугами, за шоссе был лес. Он темнел на горизонте, шумел гордым покоем, сулил спасение.
Кшисяк смотрел вслед юноше. С побелевшим лицом, с помертвевшим сердцем.
Он-то уже видел то, чего тот в низинке, на лугу, еще не мог заметить.
Что по шоссе едут казаки.
Что есаул бдительно озирается вокруг, будто журавль. Верно, они уже услышали выстрелы.
А вот теперь заметили бегущего.
И вдруг все лошади ринулись вперед. Свернули с шоссе в зелень лугов. Догнали его как раз под старой грушей.
Загорелись на солнце пики. А когда юноша зашатался и револьвер выпал из его рук, серебряными молниями блеснули, разрезали воздух шашки. Вмиг изрубили его, молоденького. Наверно, ни капли крови в нем не осталось. Она впиталась в мягкую луговую траву, в растрепанные звезды кукушкиного цвета, в широко раскрытые навстречу солнцу глаза ромашки, в желтые чашечки лютиков.
С трудом, будто на каждой ноге у него было по нескольку пудов, Кшисяк поплелся назад. Отдал молодому барину письмо. Долго ждал ответа, неподвижно глядя, как в усадебной кузнице стучат молоты по наковальне, как жарко горит огонь, как раздуваются уродливые мехи.
Потом он отнес письмо барышне. Тупо смотрел, как она торопливо разрывает белыми пальцами конверт.
Его привел в себя лишь злой, удивленный взгляд ее глаз. Вторично поклонившись чуть не до земли, он пошел в барак.
— Был? — спросил его Антон, когда они вечером снова встретились у колодца.
— Был.
— Ну, что?
— А ничего.
— Как это, ничего? Никто не пришел?
— Пришел… — беззвучно прошептал Кшисяк. — А только казаки зарубили его саблями под Франковой грушей.
Антон взглянул на него широко раскрытыми глазами, словно на сумасшедшего.
А парня похоронили. Никто не знал, кто и что, а на третий день в усадьбу на четырех бричках явились стражники. Помещица что-то долго объясняла им, разводя руками, но они только покачали головами и окружили со всех сторон бараки.
Бабы, как водится, подняли крик, но их быстро угомонили. Сперва начался обыск. Перерыли всю солому на нарах, выстукивали стены, посрывали иконы со стен. Батраки насмешливо наблюдали эту суету. Месяца бы не хватило, чтобы перерыть все хозяйственные постройки. А какой же дурак станет такие вещи дома прятать!
Стражники допытывались, расспрашивали баб, ребятишек. Дети разревелись, так раскричались, что, наверно, в соседней деревне слышно было.
Но ничего не дознались. Поговорили в сторонке с управляющим и приказчиком. Поговорили с помещицей. Забрали на телегу Кшисяка, Антона, Блажея, забрали и кое-кого из молодых, неженатых еще парней и отвезли в город.
Магда вместе с другими бабами шла за телегой, воя, словно с нее кожу сдирали. Она ломала сухие руки, хваталась за края телеги, пока стражник не отогнал ее.
Ехали спокойно. Ведь ничего не нашли. Спрятано было хорошо, лет десять пролежать может. Разве что донес кто-нибудь.
А скорей всего взяли просто так, наугад, по указанию управляющего.
«За того, которого убили там, в лугах», — думал Кшисяк, и у него сжималось сердце. Кто бы это мог быть? Этот молодой, светловолосый парнишка? Раньше он никогда не бывал здесь. Что он хотел сказать ему, Кшисяку? Какое важное дело доверить?
Теперь было уже не так, как в те годы. На какое-то время стало полегче, а потом начальство снова прибрало всех к рукам. И в усадьбе почувствовали свою силу. Плохо оборачивалось дело. Притих народ. А этот все же пришел. Видно, затевалось какое-нибудь дело, видно, в городе не все еще было задавлено, придушено.
Теперь Кшисяку казалось, что вместе с тем зарубленным под грушей юношей окончилось все. Если бы хоть знать, с чем он шел! С каким поручением, с какой новостью! Если рассудить, так ведь он за них, за батраков, погиб. За батрацкий люд. За батрацкую долю. А то зачем бы ему лезть как раз сюда, когда сам он из города, когда его товарищи в городе?
Но он думал о батрацком люде. Чувствовал бремя, которое лежало на мужицких плечах, давило, душило, пригибало к земле. За крестьянскую, за трудовую родину погиб он там, под грушей, среди лугов. За ту родину, о какой писали в тех газетах. Стражники сегодня напрасно их искали по всем каморкам, под соломой крыш, даже глиняный пол раскапывали, а у Антона разобрали печку.
С высокой телеги Кшисяк смотрел на поля и луга, по которым они проезжали. Да, это — родина. Она низко стлалась зеленым лугом, шелестела рожью и пшеницей. Голубела потоком, расцветала полевыми цветами, синела лесом на горизонте.
Помещичьи были поля. И помещичий ручей, и лес помещичий.
Но будет иначе, должно стать иначе — поровну, по справедливости. Крестьянские поля, крестьянский ручей и крестьянский лес.
Ведь эти слова газеты и тот, молодой, припечатал под грушей своей кровью. Да и они все, которых везут сейчас в город, в тюрьму. И то, что было за эти два года. Все для того делалось, чтобы поля, ручьи, леса стали крестьянскими.
Ведь не помещик шел против русских жандармов за эти годы революции. Не помещица сидела в тюрьме. Не барышня учила деревенских детей читать польскую книжку.
Это делал мужик. Его баба и дочь. Научится чему, и сейчас же идет показывать остальным. Никто не раздумывал, никто не боялся. В эти годы люди верили, что пошатнулось начальство, что еще немного — и оно рухнет навсегда. И тогда наступит справедливость. Поровну разделят землю между крестьянами. Хорошую, черноземную, для всех созданную землю. И в городах, на заводах — тоже так.
В это верилось, и потому человек весело шел на любую опасность.
А вот за последнее время утихло. Неужели же неправдой окажется все, что говорили об этой крестьянской, рабочей, справедливой родине?
Нет, не может этого быть. Ведь всего три дня назад шел тот юноша к нему, к Кшисяку, с каким-то важным делом. Разумеется, важным, раз не дался живым в руки. Предпочел погибнуть.
И Кшисяк без страха ехал в город. Бежать было невозможно. На них надели наручники. На подводе ехало несколько стражников. Но ведь у них же нет никаких доказательств, никаких.
И вот хотя тот, молоденький, и погиб под грушей, сердце не предавалось мрачному отчаянию, — это значило только, что борьба еще идет, еще продолжается борьба за справедливую и свободную, но главное — справедливую крестьянскую родину.
Телега тарахтела. Она затарахтела еще громче, когда они въехали в город. Люди останавливались. Смотрели, но искоса, пугливо, ведь городовой тотчас разгонял.
На углу улицы Кшисяк на один миг увидел товарища Мартина. Повелительно, спокойно глянули на Кшисяка его глаза.
И Кшисяк знал, что хоть до смерти его забей, он никого не выдаст. Взглянул на остальных. Суровы, упорны были лица батраков. Нет, они не выдадут справедливую крестьянскую родину. Ему хотелось кивнуть Мартину — дать ему понять, что он может быть спокоен. Но боязно было, не заметили бы стражники.
И вот перед Кшисяком во второй раз распахнулись двери тюрьмы. Он вошел в них спокойно. За справедливую, свободную крестьянскую родину.
Ничего не удалось разнюхать жандармам. Все утаили, словно в землю зарыли. Всех пришлось отпустить, хотя жандармы едва не лопнули от злости.
Тяжелое время наступило для Магды.
Вот когда отозвался и тот черемуховый день. Вот когда вспомнились страхи, когда она темной ночью с бьющимся сердцем бежала к Сковроновой риге, на приманку господской любви.
Она считала, считала — и никак не могла счесть.
Не иначе, это бариново дитя, то, что должно было народиться.
Она то и дело незаметно, искоса поглядывала на мужа. И помирала со страху.
Нет, ничего, мужик как мужик. Ему и в голову не приходило. Да и с чего бы? Никогда она не бегала от него, ни с кем не гуляла. Как ему догадаться, что ей достаточно было один раз снести письмо? Что она так сразу попадется на приманку трехрублевой господской любви?
А эти рубли так и остались на своем месте, в трухлявой ножке стола. Она так и не решилась купить на них что-нибудь. Ей казалось, что муж сразу догадается, начнет выпытывать, доискиваться. А солгать она бы не могла — сказала бы все в глаза, всю правду о том, что было в Сковроновой риге.
Он не простил бы. С самой забастовки суровый стал, мрачный такой. Со злостью делал свое дело в экономии, иногда огрызался на управляющего. О помещице один раз такое сказал, что даже старый Антон стал унимать его, потому что, если бы кто услышал, добром бы это не кончилось. А уж о барышне и молодом барине и говорить не стоило.
Конечно, он убил бы ее, тут и гадать нечего. За то, что ей захотелось господской любви. Нечего сказать, уж и любовь была!
Трехрублевая бумажка лежала себе, и никто о ней ничего не знал, одна только Магда.
Но вот теперь будет ребенок, а об этом, рано или поздно, неминуемо всякий узнает.
Она считала дни. Нет, никак не получалось иначе. Ведь Ясек в то время лежал больной, ни о чем таком и не думал.
Она снова и снова подсчитывала дни. Да, это так. Но мужу не догадаться. Он и не подумает. Родится ребенок так родится. А люди ничего не знают. Ей одной ведом ее срам, ее одну он будет мучить вечным страхом.
А что, если оно родится с голубыми бариновыми глазами? И кто только взглянет, сразу догадается? Бабьи все замечающие глаза сразу доищутся, и новость, повторяемая из уст в уста, облетит все бараки.
Магда иногда мечтала, чтобы дитя умерло, как то, первое. Но тотчас приходила в себя. Грех это — и так уж о ней люди сплетничают. Что, мол, за чудеса: столько лет замужем, а всего один ребенок, да и тот помер.
Да и самой иной раз скучно без детей. Хоть бы один был.
И надо же такому случиться, что один ребенок — и тот будет помещиков.
Барышня, та небось берегла себя. Ходила на прогулки, разговаривала. Письма писала, на фортепьянах играла барину. Большое черное фортепьяно стояло у окна в господском доме.
А на такое она бы не пошла. На это есть деревенские девки. Да, видно, и не только девки.
Только теперь вспоминались Магде людские толки. Об одной, о другой. Раньше голова не тем была занята, не думалось об этом, некогда было.
Но теперь она верила. Верила во все, что только ни рассказывали о барине. Не одной ей он говорил небось: «Придешь завтра вечером к Сковроновой риге». Вот они и шли. Может, им тоже казалось, что это другая, светлая господская любовь? А может, кого трехрублевая бумажка соблазняла?
Впрочем, как там было с другими — неизвестно. Не одной, видно, сошло с рук. А Магда с одного раза забеременела.
После мужа она больше всего боялась старой Янтошки. Магда верила, что старуха, если захочет, насквозь человека увидит. Когда Янтошка иной раз приходила своими мелкими быстрыми шажками, Магде казалось, что она за тем и пришла, чтобы что-то разведать. Разведать, узнать, разнести по деревне и по баракам.
«Какая мне честь, — издевалась над собой Магда, когда ее тошнило по утрам, — помещичье дитя в себе ношу!» Только не будет оно в шелковой люльке качаться, не будет молочко из бутылочки тянуть. На нарах оно будет спать, барское дитя.
Кшисяк даже радовался. Скучно без детей.
— Тут иной раз нечего в рот положить, а теперь еще третий рот прибавится, — обозлилась как-то Магда.
— Этого не говори, так нельзя говорить. Даст бог детей, даст и на детей, — бормотала старая Янтошка, греясь на солнышке у дверей барака.
Как бы не так! Так оно всегда говорится, а на деле не всегда так бывает. Или еще: кого бог создаст, тому с голоду умереть не даст.
К тому же тут совсем другое дело. Не Кшисяка ведь ребенок, а барский, помещичий.
Чем больше Магда об этом думала, тем больше у нее путалось в голове. В конце концов она и сама ничего не знала. Чем дальше в прошлое уходил тот вечер, в риге, тем меньше она была уверена, что это не ошибка, что это и вправду ребенок помещика, что ей это все не примерещилось.
Может, ей так только привиделось со страху, с этого горя, что все везде одинаково, от шелеста трехрублевой бумажки, от баринового посвистывания сквозь зубы, когда он уходил от нее по темному лугу…
Люльку Кшисяк приготовил хорошую.
И вот Зоська лежит в люльке. Тихий был ребенок, не орал больше, чем полагается.
Когда никого не было в каморке, Магда подходила к дочке и смотрела.
Даже странно, как ее это мучило, как не давало спать спокойно. Чей же это ребенок?
Глаза у девочки голубые. Не такие лазурные и смеющиеся, как у барина. Но такие глаза могли бы быть и у баринова ребенка.
Хотя ведь и у Кшисяка серые глаза. Может, это и его глаза.
Она следила, как смеется девочка, как смотрит глупыми глазенками, как хватает беспомощными ручонками воздух или что-то в воздухе, чего никто из взрослых не видит.
Очертания подбородка. Дуги почти незаметных бровей. Помещичье это дитя или обыкновенный, батрацкий ребенок, ребенок Кшисяка и Магды?
Никто не догадался. Родился ребенок и живет. Ведь замужняя, мужика имеет, кто же может подумать что плохое?
Не догадался и мужик.
Иногда Магде казалось, что ей просто приснились Сковронова рига и все остальное. Ее страхи у обрыва, скрип окошка на чердаке сарая.
И все же каждая минута этого вечера казалась выжженной глубоко в мозгу, оставила след, который невозможно было стереть, от которого невозможно было освободиться.
Она еще чувствовала на щеках жесткое прикосновение бариновых усов — хотя ведь он ни разу не поцеловал ее. Нет, не за тем он звал ее в Сковронову ригу на почерневшее прошлогоднее сено.
И было еще одно доказательство, что ей не приснилось, что все это явь и правда, — трехрублевая бумажка, спрятанная в ножке стола.
Как-то она вынула ее, когда никого не было в каморке, и хорошенько рассмотрела. Не новая бумажка, грязная, истрепанная. Она взглянула на свет. На бумажке извивались какие-то узоры, виднелись цифры.
Магда спрятала ее обратно. Пусть лежит. Никому в голову не придет искать в ножке стола. Надо поднимать стол, глядеть снизу.
А если кто и нашел бы, все равно ему не догадаться. Мало ли их в каморке? Ноющая Маличиха со своим молчаливым мужиком, Сташек, ну и их двое. На пятерых пришлось бы разделить подозрение. Магда бы отперлась, только и всего. Откуда ей взять три рубля?
Она торопливо бежала в людскую, закрывая ребенку лицо от мороза. Щипала перья, лущила горох, пряла тонкую льняную нитку. И почти не слышала, о чем болтают бабы. А уж чего-чего, а болтовни, когда бабы, бывало, сойдутся все вместе, — не оберешься.
Но Магде и без того было о чем подумать. О чудных делах мужа. Он не отбивался от этого товарища Мартина из города, все у них какие-то секреты, шушукания. Вечно она в тревоге, как бы это опять не кончилось бедой.
Да и работы свалилось на нее много, не переделать. А тут еще ребенок. Эта Зоська, неведомо чья, баринова или своя собственная.
В людской было тепло. Они щипали в большие сундуки перо, отбрасывая ости в сита. Перо щипать было трудно, нехорошее было в этом году, отсырело оно, что ли.
Девушки тихо напевали. Все больше о любви. Магда усмехнулась. Вот выйдут замуж, народят ребят, начнется работа — тогда пройдут, развеются, как дым, эти думки о парнях, о любви. Не такое уж это счастье, как им кажется. Но слушала она охотно. Особенно когда песни печальные. Эти ей больше всего нравились. Девушки пели:
Магда считала в уме: семь да семь — что-то нескладно выходило. Как же так, четырнадцать лет! Молода ведь еще, дивилась она. Но тотчас вспомнила, как ей рассказывали, что в прежние времена, бывало, и в десять лет замуж выдавали. Да ведь и в песне мало ли что поется, на то и песня. Только бы складно было. Не обязательно должна быть правда.
Магда вздохнула. Ей вспомнился Ян Рожек, такой молоденький, в японскую войну его убили. Она щипала и щипала перо одеревенелыми пальцами. Белый пух сыпался в железный ящик, падали в сторону ощипанные ости. Словно этот пух, улетающий от легкого дыхания, — жизнь. Мелькнула — и нет ее. Была — и исчезла.
Она не могла понять, как это так. Когда начинался день, казалось, что он никогда не кончится. Человек с нетерпением ждал полдня, вечера, ночи. Чтобы хоть на мгновенье разогнуть наболевшую спину, отереть потный лоб, хоть минуту передохнуть.
Безнадежно тянулись часы и минуты. Долгие, тягучие. Они липли к пальцам, в них увязали ноги. Казалось, не прожить, не преодолеть минуты и часы каждого дня.
Неделя от воскресенья до воскресенья казалась целой долгой жизнью.
А как незаметно мелькали весны, лета, осени и зимы. Человек оглянуться не успеет, а уж выросла трава, поднялись хлеба, пора жать и косить. А тут, глядишь, уже разложен по стерне моченый лен. А там уже и сыплется белым пухом снег.
А оглянешься назад — и того быстрей. Годы неслись, словно их кто кнутом подгонял. Давно ли Магда гусей пасла? Давно ли мать померла?
А когда ей нравился Флориан Зеленок? Когда она выходила замуж за Кшисяка? И потом, когда у нее умер первый ребенок, и была забастовка, и все это? Разве давно это было?
Будто вчера. И вот уже куда-то девалась девочка Магда, которая пасла гусей. И девушка Магда, которой нравился Флориан Зеленок. И молодая, вышедшая замуж за Ясека. Да и та Магда, которой вдруг захотелось господской любви. «Так пройдет год за годом, и состаришься», — думалось Магде. Вот они в зимний вечер щиплют перо, как и десять лет назад. Весной будут сажать картофель, как десять, двадцать лет назад. Что изменилось? Что изменится? Больше потрескаются руки, больше заболит спина, только и всего. Всегда Магда останется Магдой, девчонкой из бараков, девушкой из бараков, бабой из бараков. Из бараков ее и в могилу свезут.
А ведь Ясек говорил, что все изменится. Как бы не так! Это и в забастовку говорили. И изменилось, да лишь настолько, что человек и тогда не почувствовал. А теперь и вовсе все стало по-прежнему.
А все же, может, и переменится. Так, как Ясек говорил. «Хоть бы уж для Зоськи», — подумала Магда, потому что ребенок как раз закричал. Она взяла его с длинных широких нар, где девочка лежала вместе с другими детьми, и стала кормить. А девушки все пели:
— Боже милостивый! — загрустила Магда. — Ведь четырнадцать годков ей всего было.
И сама удивилась, как человеку всегда жаль умирать. Хотя, как подумаешь, никакой сладости в этой жизни нет. Видно, она, Магда, хоть, может, и не верит, а все же надеется, что все изменится, что будет так, как говорил Ясек. По справедливости. Своя земля. И своя крыша над головой. И не столько работы, чтоб спина трещала и чтобы ни управляющий, ни приказчик над душой не стояли. Может ли такое быть?
— Ишь, — зашипела Тереска, — о чем еще думает!..
И Магде тотчас вспомнились бариновы три рубля.
— Уж такие они всегда, мужики-то, такие всегда, милая ты моя, — ворчала Железнячка. Она похоронила уже двух мужей, ей и карты в руки.
тихонько выводили девушки.
— Да, да, пока человек молод, уж такая его охота берет, — продолжала Железнячка.
— А вас-то охота не брала два раза? — насмехалась Тереска.
— Уж ты-то мне не считай, не считай! Кабы начали считаться, так перед тобой-то я бы еще девушкой вышла, — отрезала Железнячка, и Тереска умолкла, словно воды в рот набрала.
«Бегает с кем попало, с кем попало ее видят, вот и чешут про нее языки», — подумала Магда с чувством превосходства добродетельной женщины.
Но ей тотчас же вспомнился барин и Сковронова рига. Разве это не то же самое? Еще хуже! За три рубля с барином переспала. А Тереска все-таки по доброй воле, за доброе слово.
Только о барине никто не знал. Она тревожно оглянулась на Зоську. Но ребенок как ребенок. На лбу у него не написано, чей он.
Не лучше ли было держаться Ясека и не морочить себе голову бог знает чем! Но тогда бы ей и до сих пор казалось, что есть на свете другая любовь, блаженная, господская. А теперь она знает, что это неправда. Что Ясек лучше барина, который бросил ей три рубля, как собаке кость.
Тереска наклонилась к ней, зашептала:
— Послушать эту Железнячку, так подумаешь — и в самом деле степенная баба. А знаешь, что о ней рассказывали?
Магда придвинулась ближе и слушала.
— Батюшки! — дивилась она, хотя давно об этом знала, как всегда обо всем знают в бараках, где живут все в куче.
VII
И снова война.
Причитали бабы по деревням. Причитали и батрацкие жены.
Ведь на этот раз война шла не за горами и морями, где-то в туманной дали, как в тот раз, когда воевали с японцами.
Теперь это было близехонько, межа в межу.
Кто и не верил, пришлось поверить.
Потому что пошел Сташек Полянок, тот, который хотел жениться на Лысаковой Марине. Девка вопила, словно с нее живой кожу сдирали.
Взяли Валека Станька. Ендрека от Мургалов. Забрали и Юзька Полторака, хотя у него был кривой палец на правой руке и он был так за себя спокоен, что в воинское присутствие в город ехал со смешками и шутками.
Парней забрали подчистую, где только был какой. Забрали мужиков, которые помоложе. Теперь только впервые Магда была рада мужниной хромоте. Его-то уж не возьмут, что бы там ни было. Так что оно вышло к лучшему, а сколько она горевала, сколько наплакалась из-за этой ноги! Ведь из-за нее и вышло тогда с помещиком, сколько страха натерпелась, — а вот теперь, оказывается, все к лучшему. Уж теперь он наверняка останется дома, хоть всех будут брать, он останется. Какой из него солдат, из хромого!
А так, куда ни глянь, всех дочиста забрали. Пили ребята — просто страсть.
Запрещено было в мобилизацию водкой торговать, да куда там! У кого в лавке был знакомый, тот заходил с черного хода — получал контрабандную. А кто похитрее, тот уж давно припрятал бутылки.
Из воинского присутствия возвращались толпой, пошатываясь, описывали круги от одного края дороги к другому. Пели, весело перекликались с теми, кто ехал на подводах. На каждую такую подводу людей набиралась куча, едва помещались. Коням в гривы вплетали разноцветные бумажки, телеги украшали зеленью.
Издали эта война казалась веселой. Пьяные песни раздавались по всем дорогам и тропкам, по всем деревням.
Тоненько, жалобно выводили свои песни девчата. Им это все не казалось таким веселым, хотя толком никто и не знал, что за война такая.
Старая Янтошка даже покрикивала на них, что не надо, мол, слова на ветер бросать, а то еще сбудется. И они испуганно умолкли.
Тереска голосила по целым дням, аж глаза у нее опухли. Никакого стыда у бабы. Ведь ее-то мужик сидит дома, стар уж, чтобы на войну идти. А она голосит, словно по родному сыну.
Даже и не разобрать, о ком она вопит. Ходили-то к ней многие, она на это проста была. Мужику уж и надоело колотить бабу, он давно махнул рукой на ее проделки. Работал и даже не спрашивал, куда это она бегает. А ее носило, как полоумную. Особенно в эти дни. Магда встретила ее за сараем со Сташеком. И даже удивилась. Ведь Сташек должен был вот-вот жениться. Но вскоре она увидела, как Тереска в сумерки обнимается с Валеком. Магда усмехнулась. Уж и старовата стала эта Тереска, а все еще ее разбирает. Видно, под конец, на последях, на прощанье погулять хочет.
Парни тоже были не против. Теперь им было все равно — никто не знал, вернется ли домой. А раз баба сама лезет, чего ж отказываться. Не то что с девкой — там всегда можно нажить хлопот. А с бабой — что? Вот они и обнимались с Тереской, аж кости трещали.
Так она прощалась по целым дням. Когда возвращались из воинского присутствия, когда собирались туда ехать. Так и бегала как угорелая.
Люди смеялись, а ей что? Тереска и Тереска. Всегда она такая была.
— Говорят, будто и кленчанский барин на войну идет, — сказала она Магде, проходя по двору.
Магда побледнела. Пристально взглянула на Тереску. Нет, Тереске и в голову ничего не приходит. Да и с чего бы ей вздумалось?
— Призвали?
— И зачем же? Добровольцем будто бы идет.
Магда удивилась. Подумала о барышне. Но с барышней, видно, что-то не ладилось. Шли годы, а они все не женились. Барин редко когда и заезжал в усадьбу.
Но как только Тереска ушла, на нее снова напал страх. Как она это сказала, Тереска? Так, спроста, или с какой-то задней мыслью?
Она взглянула на Зоську, которая как раз загоняла гусей в хлев.
Но, как всегда, ничего не могла разобрать. Девчонка как девчонка, как все батрацкие дети. Немного похожа на нее, на Магду. Видно, ей уж никогда не узнать правду.
Если кому и не верилось в войну — тот вскоре увидел ее своими глазами.
Все деревни, все усадьбы были битком набиты войсками, солдатами, офицерами. Кто побаивался, а кто даже и рад был этому. Все-таки перемена. Девчата заглядывались на офицеров. За это их бранили. Как можно, ведь они русские!
Теперь уже вслух заговорили о Польше — будет, мол, Польша. И здесь говорили, на месте, и издалека приходили вести о том же.
Мужики читали воззвание великого князя. Покачивали головой. Обманет! То в тюрьмы сажал, переворачивал вверх дном все избы при обысках, запрещал говорить по-польски, а теперь обещает.
Нет, они не верили. Сурова, недоверчива была мужицкая башка, не верила чему попало.
С австрийской стороны, тайными путями, украдкой доходили другие вести. Там, по ту сторону фронта, австриец тоже спасал Польшу.
Как же так? И те и другие болеют за Польшу, а сами передрались между собой.
И не на шутку передрались. В ком только душа держалась — всех в солдаты забрали. Бараки обезлюдели. Всех, кто помоложе, погнали на войну, Остались только старики, больные да калеки, как Кшисяк.
Война быстро катилась к ним от границы. Оглянуться не успели, как загремели выстрелы, запылало в небе рыжее зарево горящих местечек, обращаемых в пепел деревень.
Но к этому скоро привыкли.
Серые русские шинели и голубоватые австрийские поочередно появлялись в деревне.
Совсем неподалеку, за холмиком, за рощей, за лугами, шла война, грохот боев доносился со всех сторон.
Проходящие войска обобрали все дочиста. Удалось спасти только то, что предусмотрительно было зарыто в землю или спрятано в укромных местах. Остальное все забрали.
Такой голод надвинулся на народ, что войска, жалея, иногда подкармливали детишек из военных кухонь. Правду сказать, австриец — тот нет. Русские — те уж скорее. Они были более человечны в это военное время.
Так и Магде казалось. Когда, бывало, русские зайдут в барак отдохнуть, так иной солдат и присядет, и Зоську на руки возьмет, покачает, сунет ей ломоть хлеба в руки. У самого, мол, такая же дома осталась.
Магда качала головой. И куда только людей понесло от семей, от домов! Она надивиться не могла. Потому что ведь это уже не стражники. Из самой Сибири, с Кавказа, со всех сторон набрали. Обыкновенные люди. Простые. Крестьяне от сохи.
С ними можно было потолковать. Какая там у них земля, а какая здесь. Когда у них сев, когда уборка.
Но раздавались выстрелы, и они выскакивали, неслись куда-то сломя голову; становилось страшно, человек вдруг чувствовал себя в самой середке военной суматохи.
А вот, когда так сидели в каморке, казалось, что ничего страшного не происходит. Пришли отдохнуть, только и всего. И Магда не находила в себе никакой злобы против этих русских.
Она смотрела, как бредут колонны австрийских пленных. Работа в поле стояла. Разве что бабы обработают какой клочок. Немного, да и незачем было.
Все равно, хоть вспаши, посей, заборони как следует, войска не посмотрят, идут как попало. И не разберешь потом, где поле, где просто дорога.
А то еще хуже: бой случится. Тогда уж вовсе вытопчут. Нет, война не уживалась с зеленеющими хлебами, с пахотой, севом. Не за тем она была затеяна.
А они все дрались, дрались и дрались. Уши уже так привыкли к этому грохоту, что вроде и не слышали его. Когда иной раз, бывало, утихнет — тишина казалась такой странной, звенящей, непонятной, люди даже переглядывались — что случилось?
Среди этого грохота, скрежета, суматохи — такой суматохи, что, казалось, приходит конец свету, — мужики потихоньку продолжали делать свое.
Русские обещали свободную Польшу. Мужик не верил.
Обещал свободную Польшу австриец — мужику и это не очень нравилось.
Но ведь ясно было, как на ладони, что в такую заваруху, когда пылает весь мир, может прийти и нежданный час.
Вот к нему-то и готовился мужик.
Поля заволокло седым дымом. На них страшно было взглянуть — трупы лежали кучами, в серых и голубоватых шинелях. И те и другие. Они уже не дрались больше.
И как только хоть ненадолго утихало, к ним пробирались люди из деревни, из бараков. Украдкой, потихоньку, — небезопасное это было дело.
Раньше, бывало, собирали хворост в лесу. Теперь батраки собирали винтовки, шашки, брошенные патронташи.
Иной раз снимали и с трупов. Со страхом, что труп вдруг заговорит, шевельнется, взглянет мертвыми глазами.
Но так надо было. Раз уж должна быть родина, так не с голыми же руками встречать ее.
Но пока ни с русским, ни с австрийцем мужики идти не хотели.
И оружие пока закапывали в землю. В известные только им одним места. В поле, в лесу, во дворе. Иначе спрятать было нельзя — ведь в сараях, амбарах, конюшнях переворачивали все вверх дном, не оставляли ни крошки соломы, ни стебелька сена. Стало быть — только в землю. Тихонько, тайно. Лишь два-три человека и знало о каждом таком месте.
Глубоко в земле росла она, мужицкая родина. Винтовочным затвором, сверканием штыка, блеском сабли.
Теперь уже Кшисяк не рассуждал, не раздумывал. Он твердо знал, как должно быть. И его только сердило, когда другие судили и рядили. И не батраки, нет, — эти думали так же, как Кшисяк. А вот деревенские.
— Великий князь написал…
Да пусть себе пишет, что хочет! На то он и великий князь. Что ему до простого мужика, да еще до батрака из бараков?
Вон бывший барышнин жених, тот живо отозвался на этот великокняжеский призыв. Великий князь и помещик — два сапога пара.
А им что до этого? Великий князь и помещик — раз уж они берутся за это, стало быть это не мужицкое дело, нечего мужику в него путаться — добра не будет.
Не нужна мужику помещичья родина. В ней нет места для батраков и для деревенских тоже.
Крестьянская родина — другая родина, и в ней нет места ни для усадьбы, ни для помещиков, ни для всего, что существует сейчас. Эту родину надо строить крестьянскими руками. Крестьянским разумом. Крестьянской кровью и крестьянским потом.
Надо было переждать. В земле накоплялись сокровища для будущей родины.
Это была безграничная радость Кшисяка: когда пробьет час, мужик выступит не с голыми руками. Оружия было вволю. И австрийского и русского. После каждого боя прибавлялось оружия в тайниках.
Этого добра столько валялось всюду на земле, что никто о нем не заботился. Оно ржавело под дождем, портилось.
Никому не принадлежало это достояние — никому с той минуты, как коченеющие руки роняли его на землю. И мужик брал. Ведь оно лежало на земле, а земля, что ни говори, как ни дели ее, как ни присуждай помещику, — все равно принадлежит мужику. Мужик пахал ее и засевал, с мужиком она зналась с самого сотворения мира.
Так с оружием наготове они ждали, что возникнет из этой военной грозы, которая прокатывалась по всей земле, не минуя ни усадеб, ни бараков.
Приходили вести и с другой стороны, через гремящий фронт. Туда сбежали взятые в солдаты в начале войны Валек Сушняк и Мартин Паленок. Сражаться за крестьянскую родину с другой стороны. Там будто было польское войско, настоящее, не такое, как то, в которое пошел по великокняжескому призыву барышнин жених.
Кшисяка и самого иной раз подмывало, да трудно ему было. Калека, ничего не поделаешь. Тут, на месте, возле дома, человек еще кое-как ковыляет. Но в настоящее войско его, конечно, не приняли бы, посмеялись бы, пожалуй. Ногу он волочил, крепко на нее прихрамывал. Для походов не годился. Не поспевал бы за крепким ровным шагом, не справился бы. Пришлось сидеть на месте.
Но и здесь была работа.
Товарищ Мартин опять познакомил его с разными людьми. Чужие, а все же свои. И Кшисяку полюбилась эта работа.
Черной завесой спускалась на землю ночь. Только далеко на горизонте стояло зарево. Где-то горело, но никто уже не интересовался этими пожарами, никто не бегал, не допытывался — где горит. Вот уже месяц, как кругом горят деревни. Чудом уцелели пока бараки, да и то потому, что находятся в котловине. И усадьба сохранилась, хотя совершенно опустела.
Как только началась заварушка, помещица с барышней куда-то уехали, и о них ни слуху ни духу. Остался только управляющий, злой, напуганный. Но чем тут было управлять? Лошадей, скот, хлеб, людей — все забрало войско. Жили со дня на день, что-то там делали, одна слава, что имение. Совсем ни на что не похоже стало. Да и знал он, управляющий, чем начинает попахивать. Мороз подирал по коже у него от этого.
Всех приходилось опасаться в Кшисяковых делах, и больше всего — управляющего. Этот бы донес, как пить дать.
А время было военное. Тут уж никаких разговоров, петля — и ничего больше. Или пуля в лоб тут же, на месте. Не в суды же играть — война!
Так что ходить приходилось ночью. Всякий по отдельности. И всем давал приют лес. Не добраться сюда тому, кто не знал всех тропок, всех лазеек. Да еще ночью.
Учились стрелять, заряжать винтовки.
Ствол был прохладный. Гладкий. Но нагревался от выстрелов, как живое тело. Кшисяк крепко держал винтовку. Это было оружие. Впервые случилось, что у мужика в руках было оружие. Вволю. Оружия было больше, чем рук.
Огонь выстрелов сливался с заревом пожарищ, грохот выстрелов — с далеким грохотом боев. Можно было спокойно заряжать винтовку, выучивать наизусть все ее части, осваивать ее так, что она, казалось, прирастала к рукам, становилась родной и близкой.
И это еще было не все. Не это больше всего радовало Кшисяка.
А вот подкрасться ночью к железнодорожному полотну. С верными товарищами, со своими людьми, преданными одному делу. Подкладывать под рельсы, под устои моста, под железные фермы динамит. Поджигать шнур и сломя голову мчаться от этого места, слыша, как с гулом и скрежетом летят в воздух взорванные рельсы, как падает фонтан черной земли, как с треском ломаются железные фермы, как летят вниз искрошенные в щепки доски, как с ревом вздымается к небу яркое пламя.
Горячая была жизнь. Человек не знал ни дня своего, ни часа, смерть грозила ежеминутно.
Раньше страшно было бы это и в руки взять. А теперь тащишь на спине, словно вязанку хвороста. Динамит, экразит, нитроглицерин. И все шло гладко, хоть раньше человек и названий таких не слышал.
Как могли, вредили войскам. Мешали подвозу солдат к фронту. Отрезали продовольственные транспорты. Портили паровозы в депо.
Так было нужно. Потому что теперь уже всякому известно, что это не ложь, не жульничество, что по другую сторону фронта сражается польское войско, крестьянское, рабочее войско[15]. Сражается за свободную родину простого человека. Это польское войско, они уже видели его своими глазами. Когда армии перекатывались то в ту, то в другую сторону, они своими глазами видели и польских солдат.
И теперь мужик пробивался к ним. Нужно было прорвать фронт, объединить всех в одно целое. И тех, с той стороны, и этих — с этой, борющихся за мужицкую родину. Тут уж и разговоров не было, — ясно, что только те идут за правое дело. И мужик старался изо всех сил вредить русским, помогать тем.
Кшисяк весело возвращался с ночной вылазки. Двое их там было — он и Бронек. Не бог весть какое было дело, а все же. Хоть и маленький мостик, а поезду уже по нему не пройти, не подвезти войск.
Они точно договорились, как будут возвращаться. Благополучно дошел, благополучно проделал все, что надо, так хочется уж целым добраться и до дому, до жены и ребенка.
Тут же, на опушке леса, он хорошенько вымыл в ручье руки. Почистил одежу, вымазанную в глине. Теперь пусть встречается, кто хочет. Кшисяк идет себе по своим делам. Ничего по нему не заметно.
А Бронек уже, должно быть, дома. Он пошел более короткой дорогой.
Кшисяк двинулся в сторону луга. Сейчас за рощей будут бараки и усадьба. Уже не указывает дороги башня костела. В первые же дни, когда война подошла вплотную, ее срезало орудийным выстрелом. Рухнула вся верхушка со шпилем и золотым крестом. Рассыпалась в руины, в бесформенную груду кирпича.
Кшисяк вышел на дорогу, и вдруг его точно обухом по голове ударило. По дороге удалялись казаки, они уже едва чернели вдали. Очень быстро ехали.
А у дороги росла липа. Невысокая, зеленеющая в эту пору веселой листвой. Она как-то уцелела под градом пуль, которые сыпались здесь каждый день. Стояла веселая, как невеста на свадьбе.
Но у Кшисяка захватило дыхание. Он бросился вперед и тотчас замедлил шаг. Ноги отяжелели. Потихоньку, шаг за шагом, дотащился до липы.
Бронек висел на нижней ветке. Почти касался ногами дороги. Огромный язык вывалился изо рта. Глаза выкатились из орбит, налились кровью, потеряли человеческое выражение.
Он слегка покачивался на веревке. Пальцы рук были искривлены, словно когти. А на коленях и локтях Кшисяк увидел бурую глину, ту, с железнодорожной насыпи.
Он беспомощно оглянулся вокруг. Но, насколько глаз хватал, никого не было видно.
Только зеленая липа, покрытая молодой листвой. Да пустынная дорога. А на зеленой липе, над белой от пыли дорогой, висел Бронек.
Как же так? Еще ночью там, на насыпи, Бронек весело посмеивался. Веселый парень был этот Бронек. Он дезертировал из армии и, когда ему говорили, что лучше бы он не слонялся в этих краях, где его каждая собака знает, он только посмеивался. Именно здесь он хотел дождаться крестьянской родины, здесь помогать ей своим трудом, своим мужеством. Среди своих людей.
Вот и дождался… Легонько дул ветер. Даже ветви не шелестели. Только повешенный раскачивался туда и обратно, словно чертил в воздухе какие-то знаки.
Смрад от лошадиных трупов, которых было полно на лугу, вдруг ударил в ноздри Кшисяку. Он пошатнулся. На мгновение ему показалось, что это от повешенного несет разложившимся на солнце трупом.
Но он, пожалуй, и остыть еще не успел. Всего минута, как казаки исчезли на дороге. Ведь звезды уже бледнели в небе, когда они вдвоем собирались уходить оттуда, от взорванного мостика. Каждый по другой дороге.
Несчастлива, видно, была дорога, выбранная Бронеком. На секунду у Кшисяка шевельнулась в душе радость, что так вышло, что не он пошел по этой дороге, что не он наткнулся на казаков.
Но это промелькнуло и исчезло. Сейчас его глубоко занимало другое. Как теперь быть, ведь Бронек должен был вечером идти в город за динамитом. Обещали новый, откуда-то издалека привезенный груз. Кому и как сообщить, что за динамитом явится другой? Все делалось втайне, и другому не выдадут. Да, по правде сказать, Кшисяк и не знал, к кому обратиться. Работа была распределена точно, шла как по часам.
Но вот черная тень повешенного пересекла день. Одним человеком стало меньше. Один уже не дождался крестьянской родины. А он-то уж заслужил! С малых лет его душила нищета. Он рос сиротой. Суровая жизнь у него была, суровее, чем у многих батраков. Как бы там ни было, а у всякого хоть есть свои близкие. У Бронека никого не было.
Да, видно, не суждено ему было дождаться…
Огрубело, ожесточилось сердце в человеке, глядя на эту войну.
Видно, свет кверху ногами перевернулся. Раньше бы кто рассказал, так и не поверили бы. А теперь глаза и уши привыкли ко всему.
Грудами лежали брошенные кое-как трупы. Окоченевшие руки и ноги торчали из этой кучи, которая недавно была человеческими телами. Конские трупы вздувались, целыми днями поливаемые дождем, палимые солнцем. Не было времени их закапывать. Человеческий труп и конская падаль считались за одно.
Сперва хоронили убитых. Хоронили солдаты после боя. Выходили хоронить и мужики. Неохотно. По приказу военных.
Копали глубокую длинную яму. Для всех этих людей, пришедших сюда издалека. Кто знает откуда. Но как раз здесь им выпало окончить свое земное странствие.
Их клали вповалку, одних на других. Прямо так, безо всего. На гробы не хватило бы, пожалуй, леса со всей земли.
Кое-кто при этом вздохнет, перекрестится. Но так было лишь в первые дни, пока здесь начал перекатываться фронт.
А потом уж никто об этом не думал. Деревенских приходилось гнать штыками на эту работу. Никто не хотел за нее браться.
С кощунственными проклятиями, с руганью шли мужики хоронить солдат. Трупы — за ногу, за посиневшую руку — тащили к яме. Сталкивали вниз пинком ноги. Не было ни уважения к человеческим останкам, ни страха. На умерших людей смотрели, словно на навоз.
А ведь и они когда-то жили. Кто знает, где стоит их родная изба. Потому что по убитым было видно, что они не из господ. Разве только офицеры. А так — все простые люди. Это было видно по жестким рабочим рукам, теперь беспомощно откинутым или впившимся в землю в предсмертной судороге. Видно по темным, грубо вытесанным лицам. Все простые люди.
Ради борьбы за какое-то неведомое дело, за какие-то господские выдумки их гнали сюда день и ночь. По дорожкам, по тропинкам, по большой дороге. По болотам, по лугам, по лесу. И по какой бы дороге они ни шли, все дороги здесь вели в одно место, каждая была дорогой смерти.
Сначала у всякого, кто смотрел на это, сердце содрогалось. Бабы не могли спать по ночам, причитали, им мерещились ужасные синие лица. Раны огромные, как ямы. Дети плакали во сне, вскакивали по ночам со страшным криком.
Но это прошло. Теперь человек смотрел и словно не видел. Даже противно не было. Он хорошо знал теперь, какова она, эта война.
Сбывалось все, что пророчествовала святая Бригита, что было написано в маленьких книжках, которые продавали по ярмаркам.
Двинулись четыре апокалипсических всадника.
Под одним был конь красный. И запылали пожаром деревни, в красном жару сгорало достояние людей, в красном пламени утопал весь мир.
Из всех четырех самый страшный был этот всадник на красном коне.
Испокон веков боялся деревенский человек огня. Отгонял молнию лоретанским священным колокольчиком, освященной травой, святой иконой, молитвой в костеле. Святым крестом в недобрый час.
Тщательно гасил огонь в печке. Свирепо кричал на детишек, чтобы они, не дай бог, не заронили где искорку. Заливал водой огонь в поле. Он чтил огонь — не бросал в него сора или чего нечистого. Не разрешалось плевать в огонь, чтобы не разгневать его. Не было ли это проявлением боязни, что вдруг разнуздается красная стихия, которой нет удержу?
Огонь оставлял без крыши над головой. Огонь отнимал все имущество. Он был страшен. Его нелегко было потушить, а иногда и грехом считалось тушить, если он, например, загорался от молнии.
А теперь красное пламя разгулялось, гнало быстрыми крыльями ночную тьму.
И люди как-то перестали бояться.
Кругом пылали зарева пожаров. Выбрасывая высоко в небо искры, горели амбары и сараи, полные добра. В полночь бывало светло, как средь бела дня.
И человек привык. Перестал страшиться всякого огонька. Не бежал со всех ног тушить какую-нибудь искорку — слишком много их было кругом.
Война переделала людей.
Она лилась по земле кровью. Гремела ревом орудий. Ослепляла мрачным, рыжим заревом пожаров.
Человек уже не жалел ничего и никого. На полях лежали вывалившиеся человеческие внутренности. Выли раненые с оторванными взрывом гранаты руками. Пронзительно ржали лошади с перебитыми ногами.
Видно, так уж должно было быть. И во всем этом как-то затерялась, исчезла обычная батрацкая жизнь. Стала совсем иной, чем раньше. Изо дня в день, изо дня в день никто не знал, что принесет утро, что принесет вечер. Утром не знали, доживут ли до вечера.
Так оно и шло, словно в горячечном бреду.
Под веками горело рыжее зарево, на руках стыла чужая кровь. В ушах гудело от выстрелов. Окаменевало, затвердевало, обрастало жесткой скорлупой людское сердце.
Однажды днем деревенским приказали покинуть деревню.
Она была расположена высоко на пригорке. С той стороны, с полей, ждали обстрела. Окопы были вырыты как раз у деревни. Люди собирались. Медленно, не споро. Годами, годами жил здесь человек, и вдруг — уходить. И не знаешь, не ведаешь куда. Так, куда глаза глядят. Ничего не поделаешь. Шли. С мешками за спиной, с детишками поменьше на руках. Ребята побольше бежали рядом, цепляясь за юбки матерей. С громким плачем, с причитаниями. Уж кажется, ко всему человек привык, но все же легче, когда сгорит хата, поселиться на пепелище, как собаке какой, но все же дома, чем так идти, бросать все на произвол судьбы.
Они прошли по дороге мимо бараков. Оттуда вышли бабы, смотрели. Вот оно, как приходится деревенским. А бараки каким-то чудом все еще держались. В долинке стояли, притаились, никому не мешали. Артиллерийские снаряды проносились над ними.
— Куда ж это они пойдут? — дивились в толпе.
Ведь всюду было одно и то же. Все превратилось в одну битву, все окрестности, вдоль и поперек.
А те шли. Помаленьку, едва ноги тащили. Вот свернули на проселок к большой дороге.
С ними потащилась и Габрыська. Магда звала ее в бараки, уговаривала остаться. Для двоих место всегда найдется. Потому что Габрыська была только со своим младшим ребенком, он один у нее и остался в живых.
Но она не хотела. Габрыська хорошо знала, как они в бараках теснятся, словно сельди в бочке. К тому же она шла с Ментусихой, которая приютила ее в своей избе. А баба была так напугана, что едва тащилась. Да еще в тягости. Поговаривали, что от какого-то русского, — да кто это может знать. Хотя верно. Мужика ее забрали в самом начале войны, и в отпуску он до сих пор не был, даже и вестей от него жена не получала.
Габрыське жаль было ее так бросить. Она помогала ей тащить мешок, Ментусиха едва ноги волочила.
Днем было еще полбеды. Вечером стало хуже.
Казалось, они знали здесь все дороги. Каждый камешек был знаком.
Но теперь все было другое.
Мрачно горело небо. На лугах мерещились трупы.
А может, они и вправду лежали там?
Был искрящийся звездами июнь. Но звезды тонули в дыму, который, низко стелясь по земле, заволок все кругом. Тихий июньский вечер, пахнущий чебрецом. Но теперь он весь провонял гарью. Да, это был июнь. В другие годы он зеленел и цвел краше всех других месяцев. В лугах трава по пояс. Колосился хлеб. В такую теплую звездную ночь выйдешь, бывало, за дверь, станешь перед бараками, и весь свет тебе иным покажется. Каждый вечер по полям неслись песни. Девушки выходили и смотрели в полумрак светлой летней ночи. Парням сон не шел на ум. По двое, по трое бродили они по ночам. Пела, рыдала, захлебывалась гармонь. С лугов пахло первым сеном. В стогу, если тихонько подкрасться, можно и застать кого, иной раз парочку, а другой просто уходил из душной избы, из вонючих бараков переночевать на сене. Коротка была июньская ночь, но такая сладостная, ароматная, как ни в какой другой месяц.
Но теперь все пропало. Теперь это была призрачная, жуткая июньская ночь, когда люди шли куда-то в неведомое, искать приюта у чужих, разыскивать еще не сожженную деревню.
За лугами к ним присоединился Йоська из лавчонки. Ему тоже велели убираться. Дом сожгли, подложив огонь со всех четырех углов.
Он не понимал, зачем это делается. Просил. Пытался поцеловать руку офицера. Но ничто не помогло. Кто-то двинул его прикладом в грудь, так что он едва на ногах удержался.
Сопротивляться было бесполезно. Хорошо хоть, что он один. Жену и детей — а их была целая куча — Йоська уже давно отправил в город.
Один из подростков засмеялся было, потому что Йосек бежал к ним по лугам со всех ног с красными от слез глазами и причитал, как старая баба.
Но женщины заступились за него:
— Да ты что! Какой тут смех! У него вон избу сожгли.
Поздней ночью, когда они прошли уже три сожженные деревни, их окружил казачий отряд.
— Шпионы?
— Ой, голубчики! Да мы же здешние, отсюда! Приказали нам уходить из деревни, что, мол, аккурат с той стороны по ней из пушек будут бить. Вот и бредем искать себе крыши над головой.
Казачий есаул пристально всматривался в людей.
— А этот? Жид?
Казаки соскочили с лошадей.
— Мы вот только что двоих таких повесили. А ну-ка, иди с нами, жид, нечего!
— А почему я? — спросил Йоська.
Голос его дрожал, словно тонкая ниточка, вот-вот оборвется.
— Жиды — шпионы, — сурово ответил есаул, хмуря густые черные брови.
Габрыську будто что толкнуло вперед.
— Какой это жид? Да это мой мужик, моего мальчонки отец! — сказала она громко и явственно. Женщины отступили на шаг. Среди казаков стояли теперь только двое — Габрыська в надвинутом на лоб платочке и ее мальчонка, которого она держала за руку. Свет факела в руках казака освещал его светлые, почти совсем белые волосы. Большими удивленными глазами он смотрел на Йоську.
— Муж?
— А то кто же! Ведь все же знают, какой же он жид? — выходя из себя, затараторила Габрыська.
Казак махнул рукой. Они прыгнули в седла и галопом ускакали, исчезли в сумраке июньской ночи.
Мгновение люди постояли в нерешительности, Йоська дрожал. Странным, не своим голосом он простонал:
— Мадам Габрысь…
— Нечего стоять, люди добрые, а надо идти, чтобы хоть к утру куда-нибудь дотащиться. Лучше ночью идти, а то днем разъезды будут к нам каждые три шага цепляться.
— Мадам Габрысь…
— А ты бы, Йоська, не скулил, как, к примеру, собака, когда ей на хвост наступят.
Он умолк и шел, глядя с разинутым ртом на суетившуюся около Ментусихи женщину. Габрыське приходилось поддерживать ее — вконец выбилась из сил баба.
Йосек опомнился. Он забрал у Габрыськи ее мешок и семенил подле, запыхавшись, все еще дрожа от пережитого страха.
Уже перед самым рассветом им вдруг преградили дорогу солдаты.
— Куда?
— Нам велели уходить, потому, аккурат, в нашу деревню пушки…
— Назад!
Они остолбенели.
— Назад?
— Ты что, баба, оглохла? Там бой! Понятно?
Они повернули назад, потащились по той самой дороге, которую прошли ночью.
Светало. В серебряной росе, в облачках с золотой каймой, плывущих в розовую даль, вставал ясный летний день. В предутренней тишине, в свежем дуновении ветра. В трепетании птичьих крыльев, в зеленой чаще ветвей. В седой от росы траве.
Погасла утренняя звезда. Молодое солнце только что искупалось в росе, — прохладное, оно еще не грело. Ясное было солнышко, лучистое.
Теперь, при дневном свете, они хорошо рассмотрели дорогу, которую ощупью прошли ночью.
Во рву валялись разбитые подводы. Возле сломанного дышла опрокинутой вверх колесами тележки лежала убитая лошадь. Живот вздулся, как шар. Под кожей явственно видны были толстые веревки жил. Подернутые пленкой большие глаза лошади смотрели прямо на них. Из уголка глаза по темному бархату шерсти проложили след крупные слезы. Из-за желтых зубов вывалился язык.
Они быстро прошли мимо. Но вся дорога была такая.
На лугах, возле глиняных ям лежали непохороненные солдаты. В грязи, в иле. Брошенные кое-как. Руки и ноги перемешались. Один упал лицом прямо в растоптанный куст крупных незабудок. Изо рта у него, видно, сочилась кровь, теперь она черным комком застыла на голубых цветочках. Габрыська перекрестилась. Конечно, люди уже ко всему привыкли, но теперь все, будто по команде, шептали молитву.
И только сейчас одна из женщин вспомнила, что полагается делать. Дрожащим голосом она завела:
Ей тотчас ответили другие утомленные, дрожащие голоса. Да и устали же они… Сжималось сердце от страха, — что-то они застанут дома? Никому и глядеть не хотелось, что там могло остаться. Они смотрели на луга, смотрели на пыльную дорогу, только бы не смотреть в даль, не смотреть туда, где, быть может, к июньскому небу поднимается черный столб дыма, рыжее пламя.
Теперь они шли медленнее. Дети плакали. Приходилось тащить их на руках. Бабы выбились из сил. Ведь в эти времена с ними не было ни одного стоящего мужика. Так какие-то дохлые, которых на войну не взяли. А уж кого на войну не брали, в том, видно, мало было толку.
Из бараков высыпали бабы.
— Боже милостивый! Ворочаются!
— А мы-то уж горевали, битва ведь куда-то в другое место перешла, а вы, бедняжки, пошли куда глаза глядят.
— Воротили нас.
— Слава богу, слава богу, — радовалась Магда, направляясь с Габрыськой к баракам. Теперь та решилась оставить Ментусиху на попечение Йоськи.
— Милая ты моя, не сегодня, так завтра. Так уж, видно, суждено. Как раз на горке построились. Только чудо, что деревня еще дела. Там дальше — все дочиста сожжено.
— Все дочиста?
— Дочиста! Углей — и то мало осталось.
Кшисяк медленно шел по городской улице. То, что ему дали, он завернул в клетчатый платок. Известно, мужик, купил что-то в городе и теперь несет домой.
И как раз, когда он уже сворачивал к заставе, навстречу вышли двое стражников. Рыжий Филиппчук и другой, чернявый, который появился недавно в этих местах.
Кшисяк похолодел. Почувствовал, что на этот раз его дело плохо.
Они шли прямо на него.
— Откуда идешь?
— Из города, сами видите, господин стражник.
— А в город зачем ходил?
— По своим делам. Мало ли зачем человеку приходится бывать в городе.
— А в платке что?
— Да вот, хлеб домой несу. Бабе и ребенку. У нас теперь страсть какой голод.
Он пытливо всматривался в лица стражников. Они о чем-то переговаривались по-своему. Что-то им, видимо, не понравилось.
Кшисяк лихорадочно соображал.
С одной стороны дома. С другой высокий забор. За забором какие-то садочки, дворы, сараи. Лучше всего — туда.
Схватка произошла молниеносно. Стражник протянул руку к узелку. Кшисяк хватил его кулаком по голове. Аж хрустнуло. Прежде чем другой выхватил револьвер, под Кшисяком уже затрещал забор. В одну секунду он перемахнул на другую сторону и понесся дальше, будто и не хромал никогда. У него еще хватило сообразительности перед прыжком оставить сверток на улице. С этим надо быть поосторожнее — взорвется, тогда крышка, — костей не соберешь.
Он упал в заросшую лопухами яму, моментально выкарабкался, побежал между сараями и штабелями досок. Теперь он вспомнил, — здесь можно было пробраться к речке, потом предместьем в лес.
Его словно кнутом подгоняли шум и крики, поднявшиеся там, на улице. Грянул выстрел. Кшисяк понесся, как преследуемый заяц.
И вдруг услышал голоса с противоположной стороны — прямо перед собой. Его окружали. А сверточек он, как назло, оставил на улице. Остался с голыми руками, оружия он на всякий случай с собой не носил. Хуже, когда поймают с оружием. А в батрацкой одежде, с клетчатым платком в руках, он был уверен, что его не остановят. Только вот за последнее время он слишком часто попадался на глаза Филиппчуку. Вот и попался. На этот раз, кажется, окончательно.
Но вдруг он вспомнил. Где-то здесь был старый подвал. Он лихорадочно пытался найти его.
И нашел. В самое время. Только успел протиснуться в узкую, заросшую лопухами щель, как шум усилился. Вблизи раздались торопливые шаги, свистки, крики. Стражники колотили шашками по штабелям досок, шарили по всем сараям, скрипя давно не открывавшимися дверями. Громко разговаривали. Слышалась грубая брань.
Мало-помалу все утихло. Но Кшисяк просидел в своем тайнике до вечера. О том, чтобы идти домой, и разговору быть не могло. Ведь Филиппчук прекрасно знал его. Теперь уж придется скрываться днем и ночью. Носу на улицу не показывать. Теперь уж ему пощады не будет.
Ночью он вылез из своего убежища, весь окоченевший. Его трясло от холода. Ведь над ним уже закачалась петля, — еще немного, и он болтался бы на веревке с балки над этими лопухами в разрушенном временем и орудийными выстрелами ветхом сарае.
В ней нет ничего необычного, в смерти. Но когда человек остается с ней лицом к лицу, ему становится страшно. Сосет под ложечкой. Есть что-то такое в человеке, что заставляет его крепко держаться за жизнь, цепляться за нее всеми силами.
Да и одно дело смерть в избе, около жены и детей. Это смерть — неизбежная, потому что время настало. Это знакомая смерть, суровая, но спокойная. Видно, как она приближается, как помаленьку охватывает человека, начиная с ног, железным обручем. Дойдет до сердца — и конец. Такую смерть видишь каждый день вокруг себя.
А другое дело вот такая — внезапная, неожиданная смерть, о защите от нее человек молится в костеле. Вот хоть бы смерть Вавжона. Или Келбоня. А то еще, как смерть Бронека, смерть, холодное и все испепеляющее дыхание которой раскачивало липу.
А ведь если бы его поймали, не миновать бы Кшисяку такой смерти сегодня. И он был рад.
Хотя теперь для него уже началась другая, не барачная жизнь. Покуда русские здесь, придется скрываться, как бездомному бродяге. Ну, да не он первый.
Скрывались все, кто сбежал из армии. Все, у кого нелады с властями. Все те, кто приехал, прорвался через фронт, чтобы вести здесь свою работу. Живут же они как-то. Удастся, может, и ему, Кшисяку. Хоть там баба и поплачет. Да в такое время всякий себя вроде как холостым чувствует. Не думает ни о жене, ни о детях. Твердо пробивает дорогу к свободной крестьянской родине. Ни для чего другого места нет. Раз уж ты решился, должен идти вперед, не отступать.
Только дня два спустя, ночью, Кшисяк пробрался домой, к баракам.
Он зашел со стороны пруда. Пруд испускал смрад, как всегда, но сейчас этот запах показался Кшисяку приятным. Он был какой-то родной, давно знакомый. От сырости стены бараков покрывались грибком, от нее бледнели лица детей, от нее были и кашель и боль в груди у взрослых, — но все же это был свой пруд, свое место, привычный запах, который запомнился навсегда, с тех пор как Кшисяк мальчиком пришел сюда.
В окне было темно. Он, как тень, подкрался поближе. Остановился, соображал.
Малики спят крепко. Да и не в Маликах дело. Люди свои. В это время уже все в народе на удивление стояли друг за друга. И не было случая, чтобы кто донес, чтобы распустил язык, где не надо. Только и разницы было, что один сидел в избе и ныл. Другой, тот уже решался распространять газетки, книжечки разные. Который и оружие собирал, прятал, а это уж было посерьезней. А такие, как Кшисяк, те с головой ушли в эту работу.
Но все держались друг за друга. Никто бы и словечка не пикнул.
Потому, теперь не то, что раньше. Теперь уже не тюрьма, не нагайка, а, не говоря дурного слова, — петля. Всякий это знал и крепко держал язык за зубами.
Так что дело не в Маликах. Он боялся, как бы Магда не подняла крик, — очень все были напуганы в это время, а уж бабы больше всех. Люди рассказывали друг дружке, что выделывают казаки, а потом о мадьярах — такое, что волосы на голове дыбом вставали. А там — опять казаки. Никогда не знаешь, кто и где. И что может приключиться. Оно и не диво, что бараки трепетали от звука чужого голоса, от любой неожиданности.
И он боялся, что Магда, услышав стук в окно, поднимет крик, перебудит людей. А надо было все устроить потихоньку, тайком. Люди, конечно, свои, а все же лучше, чтоб никто не знал. Его и то предупреждали в городе, что лучше бы ему не ходить, что, может, его подстерегают.
Но послать некого, а надо же было дать знать жене, — ведь изведется баба. Мало ли народу пропало в это время, да так, что никто и не знал, как и где. Видели они, как вели казаки каких-то нездешних. Случалось, здесь расстреливали людей, которых никто не знал, а ведь откуда-нибудь они да были, где-то были у них и избы, и бабы, и дети.
В лесу тоже иной раз попадались повешенные. Казаки не смотрели, городской ты, мужик или еврей, — все качались вместе на одном ветру.
С минуту Кшисяк прислушивался. До него донесся храп Малика; его тяжелое, сопящее дыхание с трудом вырывалось из старой груди. Больше ничего не было слышно.
Он постучал. Осторожно. Легонько.
В каморке тотчас зашевелились. За стеклом забелело лицо. Магда вынула тряпку, которой было заткнуто выбитое стекло.
— Ясек?
— Я, я. Не спишь?
— Спала. Только сейчас же услышала, как ты под окном остановился. А все думаю, — может, и не он, мало ли тут всякого народу таскается, вот и лежу тихонько. В избу-то зайдешь?
— Нет, мне, понимаешь, надо скрываться…
Он растолковал ей, что и как. Магда внимательно слушала. Она не плакала, хотя знала, что это за жизнь такая, вечно скрываться и прятаться. Кивала головой, что, мол, понимает.
— За ребенком смотри хорошенько в случае чего. Да помни, что я тебе говорил, где те винтовки спрятаны. Ведь только Антон да я про это знаем. Так в случае чего, чтобы не пропали зря в земле, тут каждая понадобится…
Она не плакала, нет. В случае чего… Боже милостивый, время военное. А мужики ведь вон что затеяли. Она понимала, как обстоит дело.
— Никому не говори. Антон знает, ему в городе сказали, знаешь уж кто. У него и узнавай про меня, только не часто, незачем. А больше — никому ни словечка. Нет, мол, и нет его.
— Я так и сказала стражникам…
— А были?
— Ну, как же! Я сейчас поняла, что делается, потому налетели они сюда целой стаей. И жандарм с ними. Искали, как всегда. Очень грозились. Да я сказала, что ничего, мол, не знаю, может, тебя с подводами угнали. Они и ушли. Еще Филиппчук тут вчера шнырял, да ко мне и не заходил. К Антону зашел.
— Ну, ничего. Только виду не подавай, сиди тихо. Если газетки от Мартина принесут, раздай, как всегда.
— Уже спрашивали…
— Еще денек, и принесут. Так ты уж смотри.
Она кивала головой. А как же, мол? Так уж надо. Общее дело. Хоть она и баба, а он, мужик, лучше соображает, — но и она понимает. Страшновато было иной раз, но, когда приходилось, она и отнесет, и отдаст, и сообщит, — все, — как муж приказывал. Да ведь и она не из другого теста, тоже батрачка, дочь и жена батрака.
Кшисяк исчез в ночном мраке, а она еще долго стояла у окна. Тьма, окутавшая мир, медленно бледнела от раннего летнего рассвета.
Магда скучала. В непрестанном страхе поджидала вестей. И когда день проходил, ничего не принеся, легко вздыхала.
Стоило кому-нибудь прийти, о чем бы он ни начал разговор, в голове у нее гвоздем сидела одна мысль: в конце концов окажется, что он пришел с дурными вестями о Ясеке.
Словно сквозь туман слышала она трескотню Терески, которая теперь крутила любовь с каким-то русским и без конца причитала, что ему придется уйти. Словно во сне мыла, причесывала, одевала Зоську.
Ей казалось, что вот теперь-то наверняка бог накажет ее за это дело с барином. Убьют Ясека, как собаку, повесят, подстрелят. Или так затеряется в военном омуте. И не узнаешь никогда, что с ним приключилось.
Разок-другой Антон дал ей знать, что все в порядке. Стало легче на душе, но лишь на мгновение. Ведь с минуты, когда Антон узнал это, и до минуты, когда он смог поговорить с ней, кто знает, что могло приключиться.
Но вскоре, как-то вечерком, в каморку ворвалась Тереска.
Магду словно ножом в сердце кольнуло.
— Что стряслось? — спросила она не своим голосом.
— Уходит Иван, боже милостивый, все уходят, отступают!
— Как так?
— Бегут русские — и всё! Совсем отсюда уходят. Немцы сюда придут, австрияки!
— Кто тебе сказал?
— Иван говорил, от своего офицера слышал. Сегодня у них там большое совещание, а только Иван говорил, что не иначе, мол, как придется удирать.
— А ты бы лучше с солдатом не водилась, — сказала сурово Магда.
Тереска даже руками всплеснула.
— Боже мой милостивый! Милая ты моя, да что он, не человек? Мешает тебе, что ли, что он Иван, а не Ясек? А мне так ничуть. Человек как человек. А уж добрый какой! Всегда мне принесет что-нибудь с кухни…
— Все-таки русский.
— Ну и что с того? Уж по мне лучше такой русский, чем, к примеру, наш управляющий. Тот поляк, так что же, больно он тебе по душе пришелся?
— Это другое дело.
— Ну, вот видишь. А Иван такой же мужик, как и мы. Еще получше, у него свое хозяйство…
Так они и не договорились. Магда, впрочем, думала, что Тереска просто болтает, как всегда.
Но наутро оказалось, что та говорила правду.
По всем дорогам загудело. По шоссе, по проселкам, по тропинкам и бездорожью тянулись воинские части. Усталые, запыленные, они поспешно уходили, не останавливаясь на постои. Тащились орудия, ехали полевые кухни. На подводах, на крестьянских телегах везли раненых.
Но пуще всего валило войска. Словно разлилась река без конца, без краю. Кругом было черно от людей, устремившихся по всем дорогам.
Они уходили. И жгли, жгли. Подкладывали горящие жгуты соломы под крыши, под углы изб. Везде дымилось, пылало. Каменные постройки, усадьба, бараки — те уцелели. Но сараи, конюшни, кладовые, амбары — все превратилось в пепел.
Горело день и ночь. Тяжелые тучи дыма заволокли лазурное летнее небо. В воздухе носились черные хлопья. Ветер разносил запах гари. Красное зарево день и ночь стояло в небе, его не могло затмить даже солнце.
Объявили приказ населению грузиться на телеги и уходить с войсками. Что будто бы немцы всех здесь перережут. Грузиться и уезжать в дальние края, в самую Россию, спасать жизнь.
В некоторых деревнях народ послушался. С криком, с плачем, с причитаниями грузили на подводы все, что у кого еще осталось, и тянулись к большой дороге, словно притоки этой ощетинившейся штыками реки, катившей там свои бесконечные волны.
Но большей частью люди пропускали эти россказни мимо ушей. А уж батраки и подавно. Человек зубами, когтями цеплялся за насиженное место. Нечего им было искать в далекой России. Уж какие бы там ни были австрияки, да и с русскими было не сладко. Народ ко всему привык, не больно-то его испугаешь. К тому же было известно, что, когда уйдут русские, придут австрийцы, а с ними придет и польское войско.
И бараки решили держаться. В красном зареве пожаров, в черной саже пепелищ, в стремительном пламени, проносящемся над полосками хлебов, которые все же удалось посеять в эту военную сумятицу и которых не вытоптали проходящие войска, вставала перед ними недалекая уже крестьянская родина. Наступало, видно, время, ради которого прятали в землю винтовки. Приближалось нетерпеливым, быстрым шагом. С той стороны должна была прийти родина — незачем было бежать вглубь России.
Тут ведь была своя земля. Хоть будто и помещичья, а все же своя. Ведь это они пахали и боронили ее, они ее засевали, им она была родная. Да хоть и эти плохонькие полоски под картошку и те жаль было оставить. И люди держались среди грохота выстрелов, среди гула дорог, в зареве пожаров, разлитых широким морем обезумевшего пламени.
А уж Магду ни за что бы не вытащить отсюда.
Ведь Ясек где-то тут. Уж его-то наверняка не понесет невесть куда за армией. Да и на что это похоже — они с Зоськой уедут, а он останется здесь? Она не верила, что те, кто сейчас с плачем и причитаниями уходит, когда-нибудь вернутся.
Одна Тереска не знала, что с собой делать. Когда Иван уходил со своей частью, она, потеряв всякий стыд, бежала рядом и плакала во весь голос, словно у нее родное дитя отнимали. Хватала его за рукав, цеплялась за длинную серую шинель, так что даже товарищи над ним смеялись. Да и свои подшучивали над Тереской, хотя не до веселья им было. Но она ничего не замечала. Они шли быстрым шагом, только пыль вздымалась по дороге, и Тереска с трудом поспевала за ними. Кто-то нечаянно наступил ей сапогом на босую ногу, она и не почувствовала.
Но вот на дороге сделалась пробка, что-то испортилось в колесе орудия, вокруг столпились солдаты, покрикивали офицеры, все перемешалось. Кто-то толкнул плачущую Тереску локтем в грудь, так что она отлетела в сторону. Теперь она потеряла из виду своего Ивана и никак не могла его найти. Волей-неволей, жалобно всхлипывая, она пошла назад в бараки и, как всегда, — прямо к Магде.
— Вот и ушел, ушел…
— Не брат он тебе, не сват. Сколько уж раз ты вот этак бегала за войском и причитала?
— Никакой в тебе, Магда, жалости нет к людям, вроде и сердца нет. А я, как посмотрю, что кругом делается, так такая меня жалость берет, что не знаю, куда и деваться.
— Да ведь грех.
— Какой там грех? Люди друг дружку убивают, вешают, как паршивых собак, бьют, жгут, над бабами насильничают, так это не грех? Милая ты моя, да нынче сам господь бог, наверно, не знает, что грех, а что не грех. Все в кучу свалили! Подумать только, сколько народу! И все на смерть идут. Как же не пожалеть!
— Да уж ты жалеешь, жалеешь, нечего сказать, жалеешь, — съехидничала Янтошка.
Она уже едва ползала, но все-таки иногда заходила к Магде. Теперь, сидя на пороге, она шептала молитвы и внимательно прислушивалась ко всему, что творилось кругом. Тереска хотела было наскочить на нее, но сдержалась. Она боялась дурного глаза, а старуха ведь может, коли захочет, сглазить. Да и людям наговорит, а люди как люди, хоть сейчас у каждого своих забот хватает, все равно рады из ничего бог весть что сделать. Лучше уж уйти подобру-поздорову. И Тереска отправилась к себе, на скорую руку что-нибудь приготовить. Она с утра не была дома, а ее старик хоть и смотрел на все сквозь пальцы, но ворчал, когда она не поспевала приготовить еду.
— Ну, а твой теперь наверняка вернется, — сказала Янтошка.
В первое мгновение Магда испугалась.
— Как вы сказали?
— Да вот, как только русские, мол, отойдут, так и Ясек из какого-нибудь угла вынырнет.
— Я и сама думаю…
— А как же! С теми, что придут, совсем другое дело. Хотя кто его знает, как оно там будет.
— Как будет, так и будет… Все равно человек ничего не переменит, раз ему что суждено…
— Оно-то так. Подумать, что и мне пришлось до этого дожить! Забыл, видно, бог обо мне, вовсе забыл.
— Не говорили бы вы, чего не надо!
— Милая ты моя, что ж ты думаешь, оно легко столько лет жить? Уж и надоело человеку. Я вот все думаю. Прибрал бы меня господь вместо Бронека, или Сташека, или еще кого из молодых! Сухая трава по земле путается, а молодые в земле лежат.
— Куда там, в земле! Прямо так в поле и гниют, вон как у нас, за лугами.
— Как-никак земля. Хоть голову к ней приклонишь. А пройдут войска, и похоронят их. Немцы, говорят, за порядком смотрят, так скорехонько могилки выроют…
Магда глядела на старуху. Ее всю согнуло. Казалось, она вот-вот пополам переломится. Ястребиный нос едва не доставал до подбородка, из-под платка выбивались седые пряди. Лицо, изрытое сотнями морщинок, трещин, борозд, было похоже на древесную кору. Словно глина, когда после весеннего половодья припечет ее сразу солнцем и вся она потрескается, раскрошится.
— Сколько вам годов-то?
— Годов? Сколько же это, милая ты моя, мне годов-то?
Она считала, вспоминала что-то. Ее маленькая голова вздрагивала, усталые покрасневшие глаза щурились.
— Девяносто, наверно, будет… И три… Либо девять… Нет, постой-ка, как же это? И не упомнишь. Отца твоего помню, когда он еще маленьким мальчиком был, деда твоего помню, всех здешних помню… Барщину помню хорошо.
— Барщину?
— Чего ж ты дивишься? Уж я тебе говорю, барщина не барщина, а мужику всегда одна судьба.
— Теперь, слышно, переменится.
— Мне-то уж не дождаться, нет… Скоро уж господь бог вспомнит обо мне… — бормотала старуха, глядя, как в сгущающихся сумерках небо разгорается заревом пылающих деревень.
В это тревожное время родился Павел.
Вроде и не ко времени, да и ведь есть уже Зоська. Но Магда была довольна, ей хотелось мальчика.
По правде сказать, к Зоське у нее никогда сердце не лежало.
Тот вечер, теперь уже далекий, навсегда врезался ей в память. Забыть это невозможно.
Ни своего страха, когда она шла лугами, ни того, как скрипнуло оконце наверху. Ни того, как вдруг появился из темноты барин.
А больше всего жгла и палила эта трехрублевка. Прошло столько лет, столько пролежала она в ножке стола.
Магда как-то заглянула туда. Когда никого не было. Осторожно, со страхом. К бумажке, видно, подобралась мышь. Эта дрянь всюду влезет. И изгрызла — ну, совсем изгрызла. Бумажка рассыпалась в руках у Магды пестрыми лоскутками. Она присела на корточки и долго смотрела на них.
И вдруг швырнула лоскутки в огонь. Они вспыхнули, поскручивались и исчезли между углями.
Иногда Магде было жалко, что эти деньги пропали так зря. Уж раз они были, так надо бы хоть Зоське купить на них что-нибудь.
Но как-то не вышло, случая не было. В каморке вечно кто-нибудь торчал. И она предпочитала не заглядывать в трухлявую ножку хромоногого стола, который был уже совсем никуда, а все служил еще и стоял на своем месте.
Но всякий раз, когда Магда смотрела на стол, всякий раз, когда ставила на него миску, всякий раз, когда резала на нем хлеб, ставя на корке ножом знак креста, — она вспоминала.
Лежали, никто их не видел. Барская плата за ночь страха, за украдкой, искоса, осторожно бросаемые взгляды, не заметил ли кто-нибудь. За то, что все глаза проглядела, всматриваясь в маленькую Зоську — не похожа ли.
Барина уже не было на свете. Понесло его в широкий свет. Там он и погиб. А Зоська осталась. И по-прежнему неведомо, чья она.
Барышня, та вернулась. Одна, без барыни.
Она ходила по усадьбе, мрачная, как ночь. И всегда-то она была сурова и неприступна, а теперь и не подходи. Что-то не было счастья этому дому. Видно, не шел ему впрок батрацкий труд, видно, на слезах людских, на обиде возведены были его стены.
С тех пор как умер старый барин, все тут что-нибудь да случалось, — вот и до барышни дошло, погиб жених. А ведь сколько лет это у них тянулось! И как они ни ссорились, надо думать, все же поженились бы.
А теперь вот молодого барина нет в живых. И барышня еще больше озлобилась. Замуж она не выходила. Да уж и не так молода она. Понемногу выцветало живое золото ее волос. Заострялись тонкие линии, прежде округлые, как цветок розы.
Выходило так, что и все эти поля, и леса, и богатство — все не шло впрок, не давало барышне даже того, что есть хоть бы и у Магды. Ведь у нее есть и Ясек, и Зоська, а теперь еще и Павел.
Магда не жалела молодого барина. Не жалела, что его голубые глаза засыпаны землей. Нет. Если уж суждено было кому-нибудь умереть, так уж пусть лучше ему. Много ли он стоил, этот барин, со своими голубыми глазами?
Она все смотрела на Зоську — не отзовется ли в ее глазах эта голубизна. Но ничего не было заметно.
И думалось, что не иначе как Зоська все-таки Ясекова дочь. Но уверенности не было, не могло быть, и уже никогда, никогда не будет.
Павел — другое дело. Тут уж известно, что и как. Этот был Магдин и Ясека. Кшисяк был, законное дитя.
Он лежал, такой маленький, светлые волосенки вились на круглой головке. И с той самой минуты, как Магда услышала его тонкий крик, похожий на писк котенка, она сразу поняла, — Павла она будет любить. Любить и за него самого, и за Зоську, и за все.
Одно ее мучило, — когда она родила Зоську, это ей и в голову не приходило, — что вот Павел будет расти в бараке. Будет жить над этим гнилым прудом, в прогнившей барачной каморке.
За себя она не бунтовала. Не бунтовала и за мужа. Не бунтовала за Зоську.
И вот впервые взбунтовалась теперь за Павла.
Лежит себе, словно младенец Иисус. Подложить бы ему под головку вышитую кружевную подушечку с голубыми лентами, как она видела на крестинах в городе!
Разве не хорошо было бы сшить ему рубашечку из легонькой материи, из которой шьют фату?
Но нет. Павел был барачным ребенком.
И впервые теперь Магда почувствовала свою обездоленность. Знать-то она знала и раньше, — мало ли ей Ясек рассказывал. И в забастовку, и позже, и всегда. Но теперь было другое. Теперь она до глубины сердца почувствовала, что у ее ребенка не будет даже того, что было у деревенских детей.
Ожесточилась, нахмурилась у ней душа, омраченная обездоленностью этого маленького человечка, что лежал в старой, еще Зоськиной люльке.
— Да я бы тебя озолотила, да я бы тебя, миленького, в шелка пеленала, — тихонько приговаривала она, когда никто не слышал.
Но Павел был барачный, батрацкий ребенок, дворовое дитя.
VIII
Все вдруг переменилось.
Утихло.
Фронт передвинулся куда-то дальше. Люди на мгновение вздохнули свободно.
Ведь сколько времени ждали! Разговаривали об этой минуте. Дожидались ее. И вот она пришла. Русских уже не было. Были австрияки и немцы.
Принимали их весело. Ведь с ними должно было быть это польское войско. И тотчас же началась вербовка.
Все мужчины, какие только остались еще в деревне, кинулись в легионы. Пошли и из бараков.
Дезертиры из русской армии. Молодые парни, которые еще не призывались. Все пошли. Весело, как на свадьбу.
Кшисяк вздыхал. Вот когда он стал по-настоящему тяготиться своей хромотой. Ему от всего сердца хотелось двинуться за ними. А нельзя было.
Война продолжалась. Но люди понемногу забывали о непрестанном грохоте орудий. Постепенно отстраивали избы. Нужда была страшная, но все были полны надежд. Все-таки легче станет.
Однажды, вскоре после того как Магда вернулась с поля, где у нее еще оставалось немного льна, к баракам подошли четверо солдат.
Австрияки были, а по-польски говорили хорошо. Магда даже удивилась.
Она сказала им:
— Слава Исусу Христу.
Они ответили вежливо, как следует. И стали внимательно осматривать двор.
Магду что-то кольнуло в сердце, хотя она ничего дурного не ожидала.
— Коровы у вас есть?
— Какие там коровы… батрацкие. Одна только Красуля, каплю молока для ребенка выдою, вот и все.
— А где эта корова?
— А вам что до моей коровы? — уже закричала Магда. Как же, столько времени Красуля цела была, а теперь…
Но они недолго спрашивали. Вытащили скотинку из стойла, как ни упиралась она. Магда подняла такой крик, что все, кто только жив, выскочили из бараков.
Все равно корову забрали. Жадными лапами они загребали все, что только можно было взять.
В помещичьих корозниках уже давно ничего не было. Еще русские забрали. Когда теперь помещица вместе с немцами приехала откуда-то в усадьбу, управляющий долго объяснял, как это вышло. Помещица, может, и верила, а люди свое знали. Русские платили хорошо. Управляющий и на зерне, и на коровах, и на всем здорово заработал. В это тяжкое время он разжирел, как боров. Сердце у него вроде больное было, это его и спасло от армии, теперь он мог набивать себе карман, сколько угодно.
В усадьбе нечего было брать. Вот австрияки да немцы и польстились на деревенскую, на батрацкую скотину.
Народ голодал, как никогда еще. Во всю войну так не голодали. Теперь уж некоторым казалось, что было лучше, когда война была рядом, разливалась пламенем и кровью. Потому что такого голода не было.
Все сразу другими глазами взглянули на это новое войско.
И вдруг мужики поняли, что одно дело Польша, а другое — австрияки.
Тем более, что помещики уж очень якшались с австрияками.
И ксендз.
Ксендз теперь был новый. Старого в самом начале войны вывезли куда-то в Россию. А этот был совсем другой. Он высокомерно покрикивал на людей с амвона, никогда, бывало, не поговорит, встретив человека на дороге. Он строго приказывал нести деньги на постройку разрушенной башни костела.
И у помещицы в гостях бывал и по другим усадьбам ездил. И с австрийскими офицерами постоянно компанию водил.
И вскоре оказалось, что не следовало идти в эти легионы.
Все, что сейчас делается, это опять австрийцам, помещикам, господам на пользу. А не мужикам.
Магда вконец растерялась. Этого уж она в толк взять не могла. Сколько времени муж ей объяснял, как все сразу изменится, пусть только русские уйдут, а тут опять все пошло к худшему. И все не так, как она себе представляла: только, мол, русские уйдут, и настанет мужицкое царство, о котором столько толковали.
Вышло совсем по-другому. Вернулась помещица, твердой рукой подтянула вожжи. А человек уж избаловался за эту войну. Привык к свободе, к смене событий, к стремительной жизни.
Начался прежний батрацкий день. Надо было убирать поля. Разбитые подводы, лошадиные трупы, все это надо убрать. Очистить землю от железного лома, которого много на нее навалилось.
На этой уборке разорвало Терескиного питомца, которого она взяла в начале войны. Разорвало на мелкие кусочки маленькую Юзьку из бараков, — она пошла помогать матери собирать и класть в корзину лом.
Перепугался народ. Но управляющий свирепо подгонял, а за ним приказчик, старый, злой. Прежнего взяли в армию.
И началась старая песня. Еще в потемках вытаскивать из сарая плуг. Кормить лошадей. Чистить. Запрягать. Потому что благодаря махинациям помещицы с офицерами откуда-то появились и лошади в конюшне.
В поле. А оно целый год стояло необработанное, заросло сорняками, корнями и разным военным ломом. Вот и паши его.
Плуг шел тяжело. Человек седьмым потом обливался. Да и ослабли все от недоедания, ведь ничего не было, даже картофельных очистков и тех не было. Питались, как воробьи.
Невыносимой тяжестью давил человека плуг. Лемех погружался глубоко в землю. Пашня была хуже железной, хуже каменной.
Десять часов. Двенадцать часов, восемнадцать часов.
Совсем забылись послезабастовочные времена. Никто ни о чем и подумать не мог. Управляющий кричал, что они целый год лодырничали и теперь должны отрабатывать. Теперь, мол, военное время, никаких забастовок и батрацких бунтов не допустят.
И верно. Немецкий солдат, который теперь выступил бы в защиту помещицы, был какой-то другой, не такой, как русский.
Суровый. Чужой. Холодный. И не приступись. Все у них было строго. Бесчеловечно. Да и народ был измучен, и людей было мало — кто бы стал бунтовать? Бабы да калеки, которых еще немного осталось?
Вот и шел своим чередом батрацкий день.
Разрушенные сараи, конюшни — все надо было чинить. Никто не спрашивал, плотник ты или нет. Работай — и все. Все, что унесла, разрушила, разорила война, батрак должен был теперь возместить своим трудом.
Бабы хлопотали на огородах. Копали, просеивали землю для парников, до обморока гнули спину над грядками.
Дети ходили бледные, желтые, слабые. Их беспощадно загоняли на работу. Вместо одного мужика работал десяток едва ставших на ноги ребятишек. И в конце концов все-таки доводили работу до конца.
Люди переглядывались ничего не понимающими глазами. Нет, не так оно должно бы быть. Крестьянская родина опять отодвинулась от них. Еще на одну границу. А сдавалось, что она вот тут, рядом.
— Не так. Надо, чтобы не русский, не немец, не австриец, — сурово толковал Кшисяк.
Люди только вздыхали. Да, видно, так. Но многие уже изверились, устали от ожидания.
Но не Кшисяк. И не батраки. Им-то было тяжелее, чем деревенским, хотя бы и в военное время. Они и освобождения ждали с большим нетерпением.
И началось то же самое, что при русских. Тайком, молчком, украдкой.
По ночам. В лесу.
Лишь одно делалось явно и днем: о Польше теперь разрешалось разговаривать, разрешалось идти в город с манифестацией, праздновать национальные праздники. Австрийцы даже сами участвовали. Это было одно.
А тайно делалось другое.
И всякий батрак знал, что только то, что делается тайно, делается по справедливости. Все, что делалось явно, было помещичьим делом.
Мужик хотел другого.
И это другое приходилось делать по-прежнему — собственными руками. Чего сам не возьмешь — никто тебе не даст.
— Все равно, всегда будут помещики, — шмыгая носом, говорила Габрыська.
— Не всегда.
— Ну да? При русских были — всем заправляли. При австрияке — есть и опять заправляют. Как же так?
— А в Польше не будут заправлять, — твердо сказал Кшисяк.
— В Польше тоже помещики заправляли, — упорствовала Габрыська.
— То было другое.
— Что другое-то?
— Та Польша была господская, помещичья. А та, что теперь будет, будет трудовая. Крестьянская. Для простых людей.
Габрыська умолкала и только шмыгала носом. Когда их выбросили из бараков, у нее померли муж и дети, один всего ребенок остался. С тех пор она мало во что верила. Сколько раз уж обещали! И ей казалось, что австрияк вечно будет заправлять здесь всем.
— Сильные они, сильные… Русских прогнали. Да вы только поглядите, какой у них порядок.
Но Кшисяк не слушал Габрыськи. Бабий глупый разговор, только и всего.
Он знал свое и этого своего добивался изо всех сил.
Зубами готов был вырвать. Не роптал ни на что: ни на тяжкую работу, ни на ворчанье управляющего, ни на капризы помещицы. Ему было ясно, что все это должно кончиться.
И он делал свое. Упрямо. Молчаливо. Тайными путями, в трудах и муках прорывался к своей Польше.
И, наконец, дождался.
Толпами повалило крестьянство в город. Собственными глазами посмотреть на кричащие огромными буквами со всех стен плакаты. Услышать, как громко говорят о том, о чем до сих пор шептались тайком, по укромным уголкам, в тихом сговоре, под присягой верности и молчания.
Из рук в руки переходили напечатанные на листках слова, воззвания, листовки. Не что-нибудь. Манифест к польскому народу распространялся по деревням! Страницы манифеста шелестели в мозолистых руках. Непривычные глаза напряженно следили за каждой буквой, чтобы не ошибиться, не пропустить чего-нибудь.
Народная польская Речь посполита обращалась к простому народу. Не к господам, не к помещикам, а именно к простым людям. К батракам, к рабочим экономий, к крестьянам.
«Рассыпается в прах власть капиталистов, фабрикантов и помещиков — власть военного насилия и социальной эксплуатации трудящихся масс. Всюду приходит к власти трудовой народ. И над польским народом не блеснет лучшая доля, если сердцевина нации и большинство ее — трудовой народ — не возьмет в свои руки возведение фундамента нашей общественной и государственной жизни».
Из этих слов явствовало одно. И это одно было понятно и надежно. Что родина должна быть крестьянская и рабочая.
Что, завоеванная мужицкими руками, она и строиться должна руками мужика.
Тихо расеветала по деревням крестьянская родина.
Завоеванная в тяжкой борьбе, годами ожидаемая, облитая горькими слезами.
По городу ходили с флагами, со знаменами, с пением. В деревне было не так.
Сурова, молчалива, безмолвна была мужицкая радость.
В манифесте все было написано по справедливости.
Что в сейм будет внесен проект: принудительное отчуждение и уничтожение крупной и средней земельной собственности, передача земли в руки трудящегося народа под государственным контролем.
Так было написано. Справедливо. Как надо.
Исполнилась мера крови и пота, исполнилась мера голодных годов, согнутых спин, плетей, управляющих, приказчиков.
Не напрасно они поливали землю потом и кровью.
Земля простиралась под осенними дождями. Широко, далеко, необозримо.
А когда она зацветет новой весной, она будет уже не усадебной, господской, помещичьей. Крестьянской будет земля.
Мужики сидели в городе. А бабы трещали по баракам, словно воробьи на гумне в молотьбу.
— Как ее теперь делить?
— Милые вы мои, уж как ни кинь, а нам бы полагался тот участок, где моему руку придавило.
— Вот увидите, начнутся теперь свары, — предсказывала, по обыкновению, Тереска. — Всякому захочется получить поближе, а ведь это не выйдет. Которая земля поближе к баракам, тут всякий будет хватать, а подальше — никто не согласится.
Но не успела еще Тереска договорить, как вдруг всех ослепила новая, почти невероятная мысль. Что теперь ведь не будет бараков.
Магда всплеснула руками, ошеломленно глядя на женщин.
— Да ведь теперь всякий поставит себе свою избу! Где ему захочется.
— Исусе! А лесу-то сколько на всех людей понадобится!
— Да ведь есть лес!
Они взглянули на далекую, синеющую полосу бора. И правда, лес был. Сумрачно шумят ели, лоснятся гладкие стволы буков. Древний-предревний помещичий лес. Сколько его рубили, а он даже не поредел, не поддался топору. Сколько люди себя помнят, он всегда синел вдали.
— А лесу дадут?
— Ну, а как же, — сурово сказала Магда. — Лес тоже полагается народу.
Это правда. Мало ли наработались руки, поднимая на телегу огромные бревна, подрубая топором, распиливая старые пни, сажая молодые елочки, разрыхляя под новые саженцы жесткую, проросшую корнями землю на опушках?
— Видишь, Петрусь, изба у нас теперь будет, — рассказывала Зоська мальчонке Блажека, наслушавшись бабьих разговоров.
— Изба?
— Конечно.
— Изба, как… как…
— Как у Матусов, — вздернула нос Зоська.
А как же иначе? Уж строиться так строиться, чтоб было хорошо, красиво. Сызнова. Без заплат, без гнилых бревен. Из светлого, пахнущего смолой дерева. Из толстых бревен, уложенных ровно, чтобы хорошо, красиво получались углы, чтобы прямо поднимались вверх стены, чтобы ровно опускалась покатая крыша.
Это нелегко было понять, в голове не укладывалось. Чтобы так вдруг, сразу все изменилось. Чтобы из батраков они стали крестьянами, хозяевами. Чтобы исчезли гнилые барачные стены, гнилая барачная доля.
Но ведь так было написано в манифесте. Явственно, крупными буквами. То есть не то, чтобы этими самыми словами прямо про избы, но все равно выходило это самое.
Сразу, с первой минуты, взялся за работу мужик. По-хозяйски, по-крестьянски, как полагается.
Ведь это не забава, не смешки да шутки, не на один день задумано. Они строили новую родину. Мужик почувствовал теперь — в его руках судьба родины. И знал, что лучше начинать во-время, чем прозевать и потом наверстывать.
И он не дожидался. Брался, как за пахоту: сперва вонзить в землю лемех, крепко налечь руками на чапыги. Откидывать в сторону гладкие пласты земли, следить, чтобы борозды тянулись ровно, как полагается. Не слишком узкие и не слишком широкие.
Вот так и с этим.
Еще не слетела последняя бляшка с австрийской шапки, еще не всем было ясно, как все это будет, еще не опомнились офицеры, жандармы, императорские чиновники, а мужик уже взялся за работу.
Были созваны собрания по волостям. Шли все. Деревенские и барачные. Огромной толпой. Все вместе. Сообща держать совет о сегодняшнем дне и о завтрашнем, о мужицком деле, об этой новой родине, что явственно вставала перед ними из осенних туманов, из ноябрьских дождей.
Милиция. Чтобы был порядок. Красная повязка на рукаве. Потому что эта новая родина была красная, поднималась под красным знаменем.
А порядок должен быть, чтобы этот великий час не пропал даром, не растворился в пьяных голосах, в неразумной радости, которой нет никакого удержу. Чтобы не вылился в месть, ведь легко могло и это случиться.
Волости сразу взяли под контроль все, что оставляли отступающие австрийцы. Лес — чтобы он не стал бесхозяйным имуществом, чтобы не был истреблен, вырублен жадными руками.
Он не был ничейный. Крестьянский стал лес, лес новой родины. Пригодится еще.
Ставили охрану. У брошенных в смятении усадеб, у кладовых, амбаров и складов.
Общее было богатство, не твое и не мое, и никто не имел права истреблять его.
Кое-кто роптал, им бы хотелось не того.
Многие рассуждали так: кончилось господское время, теперь бы и попользоваться. В лес, с топором и телегой, губить, не глядя, молодое ли дерево, старое ли, может еще постоять или время рубить его. Или в амбар — мерить меркой зерно, сыпать золотой струей в мешок, тащить в избу.
Некоторые засматривались на военных лошадей. Ни у одного из них за всю жизнь своей лошади не было, всю жизнь только чужих обряжал.
Или хотя бы и оружие. Огромными грудами оно лежало в казармах, в закоулках складов. Лежали штуки сукна, толстые, теплые, каких давно никто не видел. Брать! Не одни глаза разгорались, не одни руки протягивались, не один голодный рот разевался на все это добро, которое осталось теперь без хозяина, без стражника, — бери, кто хочет.
Но крестьянский мир сказал — нет. Кто завладеет этим? Все. Самые богатые хозяева в деревне, у которых всего хватало, и последний батрак, которому нищета провела глубокие морщины на лице, пригнула спину, вдавила грудь. Это общее достояние. Оно понадобится.
На страже стояла мужицкая охрана. Сурово, бдительно, как положено. Родная жена и та бы не вынесла ни полгарнца ржи из охраняемой кладовой, родному отцу не удалось бы срубить елочку в охраняемом лесу.
Так было дело поставлено.
И еще одно постановил мир — все входят в крестьянское общество, все должны с ним считаться. В это горячее время не спрашивали, кто из деревни, кто из бараков. Все состояли в обществе. Оно охватило всех. И вот общество постановляло, кто должен остаться дома, а кто идти в армию. В ряды рабочей, крестьянской армии, как было сказано в манифесте.
Не всем это нравилось. Кое-кто и морщился. Иной парень рвался из дому. Его манила война. Грезилась военная форма. А другому, наоборот, хотелось остаться дома. Жаль было бабы, ребенка.
Но воля была не его, а мира. Мир решал. Кто нужен дома, кто в волости, кто в милиции. А кто принесет бо́льшую пользу новой крестьянской родине, участвуя в войне.
И слушались. Думалось, что никто не станет противиться. На всем свете, как было сказано в манифесте, приходит к власти трудовой народ. Стало быть, надо брать в руки власть и здесь. Своя это власть, установленная по своей воле, а не по чьему-то приказу.
Вот всякий и подчинялся воле крестьянского общества, нравилось ему это или нет. Чтобы никто не мог сказать, что в это горячее время, когда некому было указать им дорогу и втолковать, как оно должно быть, мужик не сумел распорядиться своей судьбой, своей участью.
Притихли, притаились усадьбы и городские господа.
Ни слуху ни духу о них не было во все эти первые, полные подъема дни.
Казалось, что уж теперь-то их дело пропало. Они трепетали. С холодным потом на лбу, с побледневшими лицами читали манифест.
Но ничего не происходило. У мужика не было ни времени, ни охоты пачкаться в господской крови. Да и надобности не было. Все шло по справедливости, по порядку. Всякому — что ему полагается. И никто не жаждал мести, всякому хотелось одного — справедливости.
Господа очнулись от первого испуга. Потихоньку, помаленьку приступили к своей кротовьей работе.
По деревням, по баракам поползли глухие вести. Какие-то темные слухи, ловко, неведомым путем распространяемые кем-то между простыми людьми.
Но мужик не верил. Он знал свое. Хорошо знал, кто стоит за него, а кто его враг.
Стало ясно лишь одно, что и сейчас не так-то легко рабочими руками строить родину.
Люди стали собираться. Обсуждать сообща. Как подгрызает червь корешки только что посаженной молодой яблоньки, так подгрызал господский, помещичий сговор молодую родину. Надо было защищаться.
Уж на что, кажется, молчалив был всегда Кшисяк, а теперь и он стал драть глотку.
Мало когда видели его за работой. Но время было такое, что никто не смел подгонять его.
Мало видела его и Магда. Иной раз он и ночевать домой не приходил.
Говорил с батраками. С крестьянами из деревни. Говорил по всем баракам, по всем деревням. Ездил в город.
То же самое и Антон. Хоть уже стар был.
И вот в торговый день, как раз в ярмарку, когда и деревенских и батраков тьма была в городе, — к возам, которые стояли в боковой уличке у площади, примчалась с криком Тереска…
— Люди, чего вы смотрите, ведь Антона жандармы в тюрьму забрали!
Сделался переполох. Кинулись все, и о лошадях никто не вспомнил.
Все, даже бабы бежали к комендатуре.
Неслыханное было дело. Людям вдруг показалось, будто вернулись старые времена, будто в городе снова заправляют русские или австрийцы.
— Кто видел? — угрюмо расспрашивали они на бегу с трудом поспевавшую за всеми Тереску.
— Да ведь… — едва переводя дыхание, рассказывала она, — да ведь Ясь Пайонк с ним был, он говорит…
Когда они пришли, у комендатуры собралась уже большая толпа. Как обычно, в город, на ярмарку, со всех сторон сошлось и съехалось много народу. А уж особенно в нынешнее время, когда все кипело, клокотало, когда все налаживалось сызнова. Теперь и в рабочие дни крестьян и батраков собиралось в городе несметное множество.
Антон роздал солдатам стоявшего в городе гарнизона листовки. Те самые, что ходили по всем деревням. Ничего в них, в этих листовках, не было, кроме того, что было написано и в манифесте. Каждое слово — правда.
А жандармы арестовали Антона.
Толпа у комендатуры все росла.
Люди кричали, грозились. Раздавалась ругань.
И вдруг щелкнул выстрел.
Антон в это время уже выходил из комендатуры. Жандармы не решились задержать его. Слишком много народу собралось.
Никто не знал, кто выстрелил. Но жандармы тотчас направили на толпу винтовки. Грянул залп.
Магда вскрикнула, словно с нее кожу сдирали. Сын старого Томаша, Ясь, который стоял рядом с ней, только взмахнул руками, закружился на месте и рухнул в толпу. Из простреленной головы кровь брызнула Магде в лицо.
И тут началось вовсю.
А со всех улиц, из пригородных домиков, из казарм уже бежали солдаты. Свои. Товарищи по военной организации.
Не один из них перед изгнанием немцев в последнее горячее время ночевал у батраков. Не один залечивал раны в барачных каморках. Не один прятался от австрийцев в усадебных сараях, с ведома и при помощи батраков.
Началась свалка. Гремели выстрелы. Батраки взвалили Яся на телегу. В глухом молчании везли его к себе в бараки.
Было тихо. Даже бабы не плакали.
Кшисяк шел тут же за телегой. Глядел, как на каждом ухабе вздрагивает мертвая голова Яся, как она колотится о телегу.
Ему вспомнилось, как Ясь первый кинулся разоружать австрийцев. Как весело, с какой радостью шел он на это! За родину.
— Как же так? — сказал он вслух.
Но никто не откликнулся. Люди были мрачнее, чем на обычных похоронах. Шли, не поднимая глаз от земли.
И говорить не хотелось. На похороны Яся сошлась такая толпа, какой никто и не запомнил с испокон веков. Со всех деревень, из города. Кладбище вытоптали так, что пономарь только за голову хватался.
— Что же теперь будет? — спрашивала Магда, глядя в мрачнеющее с каждым днем лицо мужа.
— Нет, не так нужно было делать, не так.
— А как же?
— Кишки выпускать, вилами колоть сукиных детей, красного петуха пускать!
— Господи Исусе!
— Не ори! Увидишь — либо они, либо мы. Нет нам места под одним небом.
Магда взглянула на серое, такое обыденное осеннее небо.
Оно простиралось с запада на восток, с севера на юг, как всегда, как обычно. Огромным колоколом покрывало землю. Как же это так, чтобы не нашлось места? Как говорит Ясек — под одним небом.
Она удивилась, глубоко опечалилась.
Магда ни к кому не питала злобы. Даже к помещику. Даже к управляющему. Пусть бы себе жили под одним небом. Лишь бы только Павлу и Зоське было что есть. Лишь бы только хоть клочочек земли, чтобы поставить избу, как тогда говорили перед бараками.
И как Ясек рассказывал.
Не хотелось верить, но было ясно как на ладони: усадьба не хотела уступать. Не хотела ничего выпустить из рук. Усадьбе жилось хорошо. И она хотела оставить так на вечные времена.
Из уст в уста передавались нелепые слухи. Их повторяли, преувеличивали, создавая чудовищный, наводящий ужас призрак.
Но все было ясно как на ладони.
Помещики, всякие господа сговаривались, как когда-то в забастовку. Договаривались между собой сначала тайком. Потом — все смелее, когда убедились, что цепы не обрушиваются им на голову, вилы не вонзаются в живот.
В газетах писали бог весть что. Эти газетки приходили в деревню.
Здесь, в деревне — никто не верил.
Но газетки брызгали ядовитой своей слюной во все стороны.
В деревню пришел отряд солдат из города. Это уже не свои. Какие-то незнакомые, видно, из дальней стороны.
Подошли к баракам. Тихо, осторожно, как кот, когда подстерегает воробья.
С винтовками в руках, с примкнутыми штыками.
И чем ближе подходили они к баракам, тем растеряннее становились их лица.
Потому что в бараках все было, как обычно в бараках. Мужики суетились в конюшнях, бабы в коровниках. Из дверей выглядывали удивленные дети.
Никаких беспорядков не было.
А в город пришла весть, что мужики собираются огромными толпами. Точат косы. Хотят идти на города, на усадьбы, резать господ.
А все дело было в милиции. Противна была господам красная повязка на рукаве.
Вот они и подкапывались. Вели свою кротовью работу.
Что будто бы мужик вот-вот кинется на господ. Вопили, что едва народившаяся родина будет залита кровью, что эта кровь подмоет ее неокрепшие фундаменты, разрушит их, разобьет о каменистые берега.
А дело было именно в милиции.
И помаленьку, помаленьку милицию стали разоружать.
По двое, по трое.
В одной волости, в другой.
Без шуму. Добром.
Что, мол, теперь уже установился порядок, что уже не нужна милиция. Что уже есть жандармы, полиция, чиновники, суды. Свои, отечественные. Зачем же, мол, мужику в это путаться? В горячее время это было нужно, а теперь уже нет. Кончилось.
Неохотно отдавали люди оружие.
Неохотно снимали красные повязки.
Все чувствовали: из рук мужика ускользает то, что так хорошо было написано в манифесте: трудящийся народ приходит к власти.
Знаком этой власти была красная повязка — и вот пришлось отдать ее.
Знаком этой власти была винтовка — и пришлось отдать ее.
Притихли, помрачнели бараки.
— Сдается мне, Ян, что вы для кого-то другого каштаны из огня таскали голыми руками, — подшутила Тереска, наткнувшись на Кшисяка, когда она, по обыкновению, бежала на какое-то свидание.
Он взглянул на нее тяжелыми глазами и ничего не ответил.
Но похоже было на то. Обманули мужика. А теперь уже поздно было за что-нибудь приниматься. Время упущено.
В ненастье, в осеннюю серую грязь, в слякоть расплывались те грозовые, возвышенные, полные веры дни.
IX
Павел был еще мал. На своих коротких ножонках он едва-едва семенил по земле, стараясь поспеть за мамой. Мама — это была безопасность, уверенность, опора.
Значит — всегда за мамой. Он увязывался за ней, когда она шла на работу, когда бежала по делу к соседке, когда стряпала в каморке или шла к ручью стирать.
Тут он и научился понимать власть приказчика и управляющего. Не сразу. Понемножку.
Самое раннее, почти забытое воспоминание: мама стоит и плачет, а перед ней управляющий, огромный, красный от злости, орет, трясет кулаками.
Кто-то обкормил кур в господском курятнике, и они все передохли. А обязанностью Магды было убирать в курятниках, менять воду в длинных корытцах, — одним оловом, как следует смотреть за курами.
И вот они подохли. И чубатенькие, и белые, и пеструшки. Больше десятка кур лежало к утру на соломе, кверху ножками.
Маленький Павел стоял и дрожал от страха. Потому что мама плакала, причитала, то и дело пряча лицо в грязный передник, принималась громко рыдать.
И вдруг управляющий поднял руку, словно хотел ударить маму.
Маленький Павел выскочил из-за маминой юбки. Прямо на управляющего. Он не доставал выше блестящего голенища высокого сапога. По этому голенищу он и принялся колотить кулачками и при этом так орал, что из бараков повыскакивал народ.
Управляющий пришел в себя. Высоким блестящим сапогом он отстранил Павла. Не то чтобы пнул, нет. Просто отодвинул в сторону, как надоедливого щенка.
И ушел. Ему не хотелось задирать людей. Да по правде сказать, он и сам знал, что Магда не травила кур.
Нечего и доискиваться — кто. Раз уж случилось — так будто камень в воду. Виновник не найдется. Разве что позже, когда все утихнет и забудется, какой-нибудь подхалим шепнет ему на ухо. Но и это не поможет. Если начать допрашивать людей, все равно никто не подтвердит. А подхалим первый спрячется в толпе и будет молчать, словно воды в рот набрал.
Управляющий ушел злой, как черт. Магда, всхлипывая, опять направилась в курятник.
За ней семенил маленький Павел, преисполненный ужаса.
Управляющий поднял руку на маму. Хотел бить ее. Большой, красный, жирный управляющий.
Павлов мир был потрясен в основах. Потому что мама — ничего. Мама только плакала, прятала лицо в грязный передник. Голубой, в белую полоску.
Что же это такое? Мама — безопасность, защита, опора. Мама варила еду. Мама зашивала разорванные штанишки. Мама стояла между маленьким Павлом и остальным миром, как надежный оплот.
Но управляющий поднял на маму руку. Значит, не мама самая главная? До сих пор казалось, что она. Что даже тата, хотя он и больше и сильнее, все же не такой главный, как мама.
Оказывается, самый главный — это управляющий.
Маленький Павел почувствовал в сердце вражду. То была иная сила, чем мамина. То была злая сила, угрожающая маме, а тем самым и Павлу.
Маленькие кулаки еще чувствовали боль от ударов по гладкому, жесткому голенищу. А управляющему — ничего. Отодвинул его сапогом и даже не глянул.
Мальчика душила бессильная злоба, выжимала из его глаз жгучие слезы. Кулачонки сжимались.
— Пойдем, сынок, пойдем. Посмотрим, что там с курами.
— С курами?
— Ну, а как же?
Павел изумился. Он совсем забыл о курах, обо всем на свете. А началось ведь с кур. Они лежали лапками кверху. Потом пришел приказчик и унес их.
— Надо зарыть, вы еще сожрете, а черт их знает, чем их отравили, — сказал он со злостью.
Как же это, зарывать кур? Кур едят. Не в бараках, а в господском доме. Мама рассказывала. И вдруг зарыть?
Он ничего не понимал. Но в тоне приказчика почувствовал что-то, что захватывало и его в круг ненависти Павла.
Мама подметала курятник, тщательно выскребала березовой метлой грязь из щелей в полу. И плакала, плакала.
Маленький Павлик плелся за ней и тоже хныкал. Ему вовсе не нравилось, что мама плачет. Но, видно, ничего не поделаешь.
Это было первое воспоминание Павла, в которое входили другие люди, не похожие на маму, тату, Маликов и соседей по барачным каморкам.
И это воспоминание было воспоминанием ненависти. Зерном возмущения, скрытым в глубине сердца, но готовым взойти и разрастись, хотя Павел был еще совсем мал и едва начинал раскрывать глаза на окружающий его странный, непонятный мир.
— Смотри хорошенько, чтоб морковку не вырвать!
Павел присел на корточки в борозде возле грядки, высунул язык и сопел, весь проникнутый важностью своей работы. Но он просто не мог понять, как это мать так безошибочно узнает, где морковка, а где не морковка.
Грядка вся была зеленая. Маленькие, как смешной лесок, величиной не больше Павлова пальца, росли овощи. Густо, кружевной мглой листочков всходили над рыхлой землей.
— Мама, это морковь?
— Морковь, морковь, сынок. Посмотри хорошенько, видишь, у нее листки, будто маленькие перышки, мелконькие, пышные.
Он всматривался. Но были и другие листочки, тоже точь-в-точь как перышки. И все здесь было мелконькое.
Вот это, это уж наверняка не морковь. Круглое, приземистое. Он осторожно ухватился вспотевшими пальчиками и потянул.
Растение легко выдернулось из земли. Но в ручке оказались два стебелька. Тот, круглый, и другой — перистый, пышный. Как же это вышло? Ведь он хотел выдернуть только тот, приземистый, как это делала мать.
Он всмотрелся пристальнее. Да, это была морковка. Крохотный, словно мышиный хвостик, корешок суживался книзу, его белизна уж начинала желтеть. Морковка.
Он покосился на мать. Нет, не видит. Он бросил вырванный сорняк в кучу, а морковку швырнул подальше на грядку, в чащу зеленеющих всходов.
И полол дальше. Коленки болели оттого, что он все время сидел на корточках. Невыносимо припекало солнце. Как раз тут не было ни деревца. Он тоскливо поглядел вглубь огорода, где старая Антониха полола под развесистой яблонькой. Даже отсюда было видно, как тень ложится на всю грядку, прозрачная, подвижная, манящая.
Но мать все полола и полола как раз здесь. Павел почувствовал, как мелкие капельки пота стекают со лба прямо на нос. Подождал минутку. Кап — и капелька сорвалась с носа на грядку.
— Не сиди, Павел, не сиди, надо полоть! Смотри, как Макосевы ребята полют! Только руки мелькают!
Павел вздохнул. Макосевы мальчики хорошо пололи, это верно, но ведь они были больше его. Он вздохнул из глубины трехлетнего сердца. Вдобавок там, где пололи Макосевы мальчики, морковь была покрупнее и ее легче было отличить от сорняков.
— Мама, а это?
— Лебеда! Не приставай! Этакий большой парень, а морковки от лебеды не отличит!
— А лебеду дергать?
— Дергать! Это же сорняк!
Павел удивился. Мать не раз варила лебеду. Вкусная. А тут вдруг велит выдергивать и бросать.
Но тотчас сообразил, что, видно, в усадьбе все иначе. Лебеду, наверно, сажают на отдельной грядке, на одной они с морковкой ужиться не могут.
Трудно было бросать сорняки в кучу. Приходилось перекладывать их в другую руку, крепко сжимая. Рука вспотела, пальцы больно жгло.
— Мама, а мы долго еще будем полоть?
— Пока не выполем, — сурово сказала мать. Она быстро, ловко очищала грядку от сорняков. Взглянула, много ли сделано. Сразу заметно, что на грядке немного поредело, морковные листки могли раскинуться пошире. Сердце радовалось, как хорошо она выполола.
Но тут она увидела на грядке раскиданную тут и там, выдернутую морковь. Маленькие морковочки весело торчали корешками вверх из зеленой поросли.
— Павел, горе ты мое, морковь дергаешь? Да еще сюда побросал ее? Подожди, подожди, вот придет приказчик, он тебе задаст!
Личико Павла искривилось, на глаза навернулись слезы. Он, как и все дети, боялся приказчика. И от этой жары у него троилось в глазах. Теперь он уже вовсе не разбирал, где лебеда, где морковь, где еще какая трава.
— Не надо реветь, — спокойно наставляла его Магда. — Ко всякой работе нужно привыкнуть. А ревом ничего не сделаешь. Смотри хорошенько и помаленьку дергай. Пальцами берись за самый верх, а другой рукой отводи, чтобы по два сразу, вместе с морковкой не выдернуть.
Но Павел лишь сонно покачивался. Он насильно открывал глаза, сопел и дергал, что попало.
— Ты не спи, не спи. Ведь уже большой парень, через год пойдешь коров пасти.
— Буренку?
— И, куда там! Усадебных коров.
— С мальчиками?
— С мальчиками. Ну, а теперь надо полоть.
Но Павел уселся поудобнее, потому что у него совсем онемели ноги. Он вырвал еще два-три корешка, склонил голову на плечо и, соскользнув в борозду, уснул, подогнув под себя голые, покрытые засохшей грязью ножонки. Магда хотела было разбудить его, но раздумала. Она поправила платок на голове и, удвоив усилия, принялась полоть дальше.
Голуби гуляли по конюшне. Разные.
Серые, только под горлом у них словно радуга переливалась.
Белые растопыривали хвосты, как павлины. Они ворковали, забавно раздували шеи, топтались на месте, будто танцевали.
Один был каштановый, как лошадь в конюшне. Он все злился и клевал другого каштанового, поменьше.
Это страшно нравилось Павлу. Уж, кажется, не могло быть ничего красивее, чем павлин, который красовался в саду, подметая землю зеленым хвостом. А эти были не хуже павлина.
Голуби семенили лапками, ворковали, дрались, надували шеи. Они танцевали на краю крыши. Потом один вдруг взлетел в воздух. Остальные за ним. Сперва они кружились низко над землей, потом начинали описывать ровные круги все выше, выше. Трепыхали крыльями, кувыркались. Купали крылья в лазурном небе, кружились высоко над головой, почти теряясь в прозрачной голубизне. Крылья сверкали на солнце чистым золотом.
Павел задирал голову и глазел, глазел на них. Зоська напрасно звала его, чтобы он помог ей загнать гусей. Он ничего не слышал. Даже шея заболела и начали слезиться глаза.
Он видел раз, как жена приказчика сыпала голубям зерно. Они слетелись трепещущим роем, садились ей на руки, она стояла среди них, как в живой волне.
С тех пор единственной мечтой Павла было — сыпать голубям зерно. Чтобы они приучились и прилетали, как только он их позовет. Почувствовать на щеках прохладное дуновение трепещущих крыльев, послушать, как ударяют об землю прожорливые клювы, как вся стая бьет крыльями, движется, переливается красками.
Он пробовал бросать им песок. Два-три голубя слетели с крыши. У Павла сердце задрожало от радости. Но птицы описали круг и вернулись на крышу. Своими быстрыми глазами они обнаружили обман. Не пошли на приманку. Теперь они снова сидели на крыше и перебирали клювами белоснежные перышки на грудках. А остальные даже и не взглянули. Тщетно протягивал к ним Павел грязную ручонку с песком. Тщетно сыпал его на землю, подманивая голубей.
А в этот день ему как раз выпал случай. Приказчик выдавал пшеницу.
В амбаре сыпалось зерно, крупное, тяжелое, золотое зерно. Его мерили меркой и насыпали в большие кули. Павел удивился. Оно совсем не было похоже на зерно, которое выдавали им. Совсем другое. Блестящее, золотистое.
Ему так понравилась эта пшеница, что он уже не отходил от дверей амбара.
Батраки с кулями на спине ушли к возу. Зерно отправляли на мельницу.
Приказчик болтал с управляющим. Павел превозмог страх. Сторонкой, тихонько проскользнул в амбар. Пшеница большой кучей лежала у весов. Мальчика никто не видел, его заслоняли высокие края молотилки.
Он погрузил руки в зерно. Сухое, прохладное, оно скользило между пальцами. Но все же удалось набрать пригоршню, потом другую. В карман.
Когда батраки вернулись от воза, Павел был уже далеко. У конюшен. Голуби сидели и ворковали там по-прежнему.
Павел позвал их, бросил несколько зерен.
Они недоверчиво смотрели на него. Тогда он бросил горсть зерен, и сразу забелело, затрепыхалось, засверкало золотом. Он стоял в туче птичьих крыльев, среди радостного воркованья, блеска глаз и шелеста крыльев. Весь трепетал от радости и желания запрыгать, но боялся спугнуть.
Они быстро, торопливо клевали. Большой, серый отгонял других от своих зерен. Сперва они поспешно клевали там, где зерен было побольше. Потом стали выклевывать зерна из щелей, из песку, из глины, выбирать из-под соломы. И в один миг ничего не осталось. Но голуби не улетали. Они топтались на месте, поглядывали на Павла, забавно нацеливаясь глазами в ободках.
Сначала он хотел приберечь остальное зерно для другого раза. Но голуби ждали.
Теперь один подошел к Павлу совсем близко, так, что его можно было коснуться рукой. Белый, пушистый, круглый, как шар. С розовым клювом и розовыми лапками. Павел протянул руку — голубь отступил на шаг. Но не улетал, словно забавлялся. Презрительно надулся, будто глумился над мальчиком. Павел присел и подал ему зерно на ладони.
Но голубь, смешно перегибая головку из стороны в сторону, клевал землю около самой руки Павла. А зерно с руки не брал.
Тогда Павел передумал. Он выгреб из кармана все, что там оставалось, и бросил. Вокруг снова зароились, затрепетали крылья.
Но, едва начав клевать, голуби вдруг тучей сорвались с земли и улетели на крышу. Он с удивлением оглянулся. Ведь крупные, золотые пшеничные зерна еще лежали на плотно утоптанной земле.
— Ты что тут делаешь?
Павел помертвел, увидев над собой широкое, красное лицо управляющего.
Большая, сильная рука схватила его за шиворот. Управляющий держал его, приказчик обыскивал карманы.
Мальчик трепыхался, как рыба на крючке. Но сильные лапы не выпускали его. Зажали, как в железных клещах.
— Пшеницу воруешь?
Павел вцепился зубами в палец управляющего. Тот вскрикнул, но не выпустил его из рук.
— Собачье семя! Кусаешься! Говори, откуда у тебя пшеница?
Множество мыслей, словно молнии, промелькнули в голове Павла. Но спасительный ответ не приходил. И, наконец, как последнее средство, мелькнуло:
— Из дому!
В то же мгновение хватка ослабла. Павел едва не упал, так стремительно вырвался из рук управляющего.
Они переглянулись с приказчиком.
— Из дому?
И, как по сигналу, оба в ногу зашагали к баракам.
Дома была только Магда. Она разинула рот от изумления, увидев, что управляющий и приказчик ведут к ней заплаканного сына.
— Боже милостивый! Что случилось?
— Где у вас пшеница? — тихо и как-то странно спросил приказчик.
— Какая пшеница?
— Пшеница, усадебная пшеница.
Магда не поняла.
— От месячины уже ничего не осталось. Только чуточка ржи.
— О месячине тебя не спрашивают. Я тебя спрашиваю о господской пшенице, оглохла? — рявкнул управляющий. — Мужик твой где?
— Пашет за садом.
— Позвать его.
Магда собралась было бежать.
— Нет! Ты стой здесь. Сташек, беги за Кшисяком.
Пришел Кшисяк, злой, утомленный.
Начался разговор о пшенице. Между четырьмя взрослыми людьми стоял Павел, маленький, с измазанным песком и глиной личиком. У него текло из носу, он всхлипывал от сдавленных рыданий.
Долго ругался управляющий, кричал приказчик. Они ничему не верили. Вошли в каморку. Заглянули в сундук, обшарили все углы. Даже в Буренкино стойло лазили. Но нигде не было ни зернышка.
Взбешенный Кшисяк взялся за сына:
— Говори, гаденыш, чтоб тебя громом убило, говори сейчас же, откуда взял пшеницу?
— Для го…лу…бев… — выдавил из себя Павел и залился слезами.
— Я не спрашиваю, для кого! Я тебя спрашиваю, откуда взял? — заорал отец с потемневшим от злости лицом.
Перепуганный ребенок трясся, как в лихорадке.
Вмешалась Магда:
— Да не ори ты так, а то от него ничего не добьешься.
Она присела на корточки возле сына.
— Скажи, сынок, скажи маме, откуда ты брал пшеницу? Из дому, отсюда, от нас?
Павел перемогся настолько, что отрицательно покачал головой.
— Тогда откуда же? Ну скажи, а то, видишь, ведь плохо будет. А скажешь — и конец.
— К… к… когда на воз кла…ли.
— Где?
— В… в ам-баре… — всхлипывал мальчик.
Кшисяк долго разговаривал с управляющим и приказчиком. Потом вернулся к плугу.
Но, придя вечером домой, он снял с себя ремень, стащил с нар сонного Павла и отлупил его, сколько влезло. Так крепко, что Магда кинулась защищать сына. Чуть и ей не попало.
Павел взобрался на нары, зарылся с головой в солому и заревел. Магда подошла к нему, чтобы его укрыть. Но он так взглянул на нее, так рванул руку, что она удивилась.
Но Павел ведь помнил, что мама сказала. Пусть он все расскажет, и будет конец. А вместо этого тата побил его ремнем, да еще как побил! А ведь он сказал. Все, как было. Хотя боялся приказчика и управляющего. Управляющего больше всего.
Он не мог понять, за что отец так рассердился. Голуби так славно порхали, клевали пшеницу! И чего орал управляющий! Или приказчик. Его баба и не столько зерна каждый день голубям сыпала!
Когда Магда задула лампу и из всех углов послышалось тяжелое дыхание, Павел все еще не спал. Ему мешала нога Юзека, с которым он спал на одной постели, болели побитые места, он никак не мог улечься и глядел в еле светлеющее в темноте маленькое оконце. Хоть бы один голубь прилетел! Ведь из-за них все и вышло!
— Но голуби спят, — кое-как успокоил он себя и уснул.
Вскоре после того как все кругом успокоилось, умерла старая барыня.
На похороны пошли все, так уж полагалось. Да и барышня, которая тотчас прибрала все к рукам, так приказала.
Богато, пышно, с церемониями хоронили барыню. Гостей понаехало со всего уезда, — куда там! — со всего воеводства. Какие-то родственники, которых никто раньше в глаза не видал. Огромной толпой, в глубоком трауре, в вуалях, они шли за гробом. Управляющий приказал всю дорогу от костела до кладбища усыпать еловыми ветками. Два дня рубили в лесу ели. Хвоей пахла вся последняя дорога барыни, дорога, с которой уже не вернуться.
Ксендзов была тьма. Они шли в ряд, в белых стихарях и пели по-латыни. А за толпой, позади всех, шли батраки. Барышня приказала, чтобы явились все — мужики, бабы, дети. Вот они и пошли. Магда шла с Павлом. Мальчик широко раскрытыми глазами смотрел на все эти невиданные чудеса.
Венков навезли приезжие господа — девать некуда! Парадно хоронили барыню. И теперь, когда она отправлялась в могилу, люди уже не помнили никаких ее обид. Словно и над этими обидами закрылась крышка гроба.
А может, и потому, что тут же, прямо за гробом, шла барышня. Высокая, вся в черном, даже ее золотых волос не было видно, потому что она опустила на лицо густую черную вуаль. На нее боязливо поглядывали. Это была новая помещица. А уж ее-то они хорошо знали, какова она. У всякого была уже на нее своя обида в сердце, хотя старая барыня не очень-то и подпускала ее к хозяйству.
На все кладбище была только одна каменная гробница — господская. Огромная груда серого камня. Из нее вытесаны огромные каменные ангелы, стены были украшены венками из каменных цветов. На черных дощечках золотыми буквами было написано, кто там лежит. Родители барина и барыни, барчук, а вот теперь уходила в могилу и старая барыня. Будто нарочно переждала войну и всю эту сумятицу, чтобы теперь спокойно уйти в родовой склеп в узком гробу, обитом серебряными галунами.
— Так они и лежат там все в куче? — спрашивал Павел, которому удалось взобраться на холмик старой заросшей могилы, откуда все было видно.
— Ну, вот еще! Для каждого гроба отдельное место, комнатка такая, — шепотом объяснила Магда.
Ксендз-настоятель подошел к могиле и начал речь. О барыне. Какая она была. Некоторые бабы принялись всхлипывать. Не с горя по барыне, — чего там! А так уж полагалось, все-таки похороны. Хоть и помещицы. А ксендз-настоятель говорил так красиво и при этом сморкался в платок, словно в трубу трубил.
Все рассказал. Как она управляла имением. Какие заслуги имела перед богом и людьми. Как ее все любили, особенно ее люди.
Ни столечко правды не было во всем этом, но раз ксендз говорил, приходилось слушать. А говорил он долго. Аж ноги одеревенели. Павел вертелся, будто стоял в муравейнике. А Магда задумалась, где-то могилка ее ребенка, того, что помер еще тогда, перед первой забастовкой?
Теперь уж и не найдешь. Маленькие могилы осыпались, зарастали высокой травой и красным репейником. На том же месте уже раза по два хоронили, больше всего в военное время, потому что на кладбище было тесно. Для солдат было, правда, отдельное кладбище. Но некоторых, что померли в деревне от ран, похоронили здесь. Рядком у стены. Потом приезжали какие-то, посчитали, измерили и над всеми солдатами поставили каменные крестики. У всех одинаковые, невысокие, ровные. Но от этого на кладбище стало еще теснее. Могила на могиле. Тут ведь хоронили с давних, давних лет. Деревенские, те еще иногда ставили дубовый крест, — ну, он и держался. Но батрацкие могилы быстро сравнивались с землей, так что и следа от них не оставалось. А уж детские могилки и вовсе. Потому что одного бог прибрал, а другого, третьего, четвертого дал. Так уж тут не до слез и воспоминаний, не до жаленья. Так уж всегда было, что детей было больше, чем взрослых. И их меньше жалели. Потому отца, матери тебе второй раз не дадут. А ребят — сколько угодно. Да и вообще смерть дело обычное, родится человек и снова уходит в песок или глину, как вот на этом кладбище. В поминальный день вспомнят о нем иной раз, снесут ксендзу пяток яиц за упокой души, вот и все.
Так и Магда — мало когда вспоминала того ребеночка. Ведь у нее был Павел. Да и Зоська уже подросла. Кабы она не батрацкая была дочь, может, скоро и замуж вышла бы. Ведь старше Павла, больше чем на десять лет. А вот теперь, как наслушалась Магда заупокойного пения, ей и вспомнилось. Как тогда Янтошка сидела возле нее, лечила. Но и Янтошки уже не было. Никто и не заметил, как померла. Уснула себе тихонько ночью и больше не проснулась. Легкая смерть, вот только что без святого причастия.
Глухо загудел вдвигаемый в отверстие склепа гроб. Заскрежетал по каменным плитам. Его тотчас стали замуровывать, завалили венками, и все было кончено. Барышня с гостями пошла в усадьбу, десятка два деревенских, которые пришли сюда из любопытства, вернулись в деревню, а батраки — в бараки.
На другой день гости разъехались, а барышня твердой рукой взяла бразды правления. Первым делом она приказала явиться в дом управляющему, приказчикам, кладовщику. Полдня они совещались в усадьбе. Управляющий вышел красный, как бурак, и только пот со лба отирал, вроде как ксендз-настоятель на похоронах у барыни.
И началось. Барышня подтянула вожжи. Она была повсюду. Все замечала своими злыми серыми глазами. Ее резкий голос подхлестывал людей, как бич.
Но батраки были уже не те, что прежде.
Над ними прокатилась война. Не один из них побродил с армией по белу свету. Не один и медаль получил за то, что сражался за Польшу. В прошлом у них были забастовки, и пролитая кровь, и многолетняя грызня с русскими, а потом с австрийцами и немцами. И многие хорошо запомнили, что писалось в манифесте о мужицкой родине. Не один чувствовал себя обманутым, как и Кшисяк. Они уже не позволяли так садиться себе на шею, как хотелось барышне.
И началась война.
Помаленьку, исподтишка, и все же изо дня в день. Между усадьбой и бараками горел огонь неугасимой ненависти.
Говорили, что барышня мстит теперь за своего жениха. За то, что не вышла за него и что теперь ни о каком замужестве и разговору быть не может. Куда там, стара уже стала. Под глазами появились морщинки, волосы выцвели, совсем стала на мать похожа. Но говорили, что она все еще не может забыть кленчанского барина. И мстит всем за то, что его убили на войне. И за то, что он бегал за деревенскими и барачными девчатами. Она из-за этого будто за него замуж не вышла, когда еще было время.
Во всем, в каждом деле человек чувствовал барышнину злобу. Нечего было соваться в усадьбу — попросишь чего, уж так и знай, что она все наоборот сделает. И они дерзко отвечали барышне. Лениво брались за шапки, когда она появлялась. Отплачивали, чем могли.
А барышня — свое. Будто только о том и думала, как отравить людям жизнь.
Запретила ходить мимо господского дома. Пришлось обходить далеко кругом, за сараями. Запретила брать воду из усадебного колодца. Пришлось пить воду из другого, куда проникала вонючая вода из пруда. Сделала из батрацких хлевов усадебный хлев, и батраки принуждены были снова взять к себе в каморки кабанчиков, у кого они еще были. Как до войны. Потому что во время войны понемножку перевели кабанчиков в хлев, и хлев стал уже считаться батрацким. Старая барыня на это смотрела сквозь пальцы, управляющий не запрещал. А теперь опять.
Барышня не соглашалась вставить ни одного стекла. В ненастье не позволяла управляющему прерывать работы в поле. Хотя какая была работа в такой дождь! Только что люди вымокнут.
Во всех сердцах запеклась злоба. Если бы барышня попалась кому-нибудь в укромном местечке, плохо бы ей пришлось. Но пока она все-таки была помещица. И считалось, что они ели ее хлеб, хоть скуден и горек был этот хлеб.
Дело было в самый сенокос. Петрек Банась, тот, что когда-то водился с Тереской, накладывал вилами сено на воз.
И как-то потом прислонил вилы к возу зубьями вверх, а сам полез на воз увязывать, сена было много. И вдруг соскользнул на землю. Прямо на вилы.
Всадил себе в живот оба зубца. Хорошо еще, что успел вытащить железо из раны.
Сбежался народ, а народу было на сенокосе — тьма. Парня обступили. Бабы с криком. Банась сидел на земле и держался руками за живот.
Управляющий еще издали заметил, что случилось что-то недоброе. В одну минуту очутился у воза.
— В город!
— В больницу!
— За доктором послать!
Все кричали. Хотелось как-то помочь этому Петреку. Управляющий поглядел, рванул усы со злости, потому что работа как раз была спешная, надвигался дождь. Но делать было нечего.
— Кшисяк поедет с ним в город, — сказал он, наконец.
Но тут как раз подъехала на своем коне барышня. Конь был большой, злющий, но она любила на нем ездить. Еще с молодых лет к верховой езде привыкла. Вечно по полям верхом носилась. И теперь, за работой, никто никогда не знал, откуда она вдруг выскочит и набросится на человека.
Вот и теперь ее принесло. Люди расступились, она глянула с седла.
— Кшисяк отвезет его в город, — сказал управляющий.
— Свободных лошадей нет, — ответила барышня. Коротко, холодно, будто бичом щелкнула.
Люди онемели. Сам управляющий разинул рот, но не нашелся, что сказать.
— Гроза собирается. Сено намокнет. И так уж много времени зря потеряли, — сказала барышня и, поворотив коня, шагом поехала прямиком к усадьбе, вдоль отливающего чистым золотом пшеничного поля.
С минуту все стояли, словно у них ноги приросли к земле. Но Банась вдруг застонал, и этот стон будто освободил их от злых чар, которые были в резком повелительном голосе барышни.
— Бегите за ней! Стоят, ровно столбы! — со злостью закричала Валькова баба.
— Конечно, надо же втолковать ей!
— Должна дать лошадь!
— Еще бы! У человека все внутренности наружи!
— Ведь не в драке, а на работе приключилось!
Кшисяк сломя голову кинулся вдогонку. Остальные за ним. Барышня ехала медленно, он добежал первый и, забежав вперед, преградил ей путь.
— Ну, что еще?
— Лошадь бы… Пропадет человек…
Барышня высоко подняла темные брови. С минуту она смотрела на лоб Кшисяка. Равнодушными, слегка удивленными глазами.
— Я уже сказала.
И тронулась дальше. Глаза Кшисяка заволокло красным туманом. У него перехватило дыхание от ненависти. Не помня себя, он схватился за повод.
Но барышня, наклонясь с седла, изо всех сил хлестнула его стеком по лицу. Второй удар обрушился на лошадь, которая рванула вперед, чуть не свалив Кшисяка. Только клубы пыли поднялись с высушенной солнцем земли.
Несколько мгновений Кшисяк стоял, не понимая, что произошло. Лицо жгло. Безумными глазами он взглянул на остальных, на тех, кто вместе с ним кинулся догонять барышню.
Они медленно повернули обратно. Но там, у воза, уже все видели. Управляющий неуверенно потоптался на месте и ушел.
Банась даже не спросил, чем кончилось. Он стоял, прислонясь к возу, губы у него были синие, словно вымазанные черникой.
Толпа в глухом молчании стояла вокруг.
Банась крепче прижал руками живот. Колеблющимся шагом двинулся прямо вперед, к большой дороге.
Видно, надумал добраться до города пешком. А сделать ничего нельзя было. В деревне мужики тоже спешили убрать сено, чтобы не подмочило дождем. Да и все равно, у них надо бы нанимать лошадь, а на какие деньги?
Они долго стояли и смотрели ему вслед. Будто пьяный шатался. Голова моталась из стороны в сторону. И все же он шел. Сперва по клевернику, потом узкой межой между хлебами.
Потом они увидели, как он вышел на тракт…
И не оглянулся ни разу.
Снова закипела работа. Мужчины подавали, бабы торопливо гребли, дочиста вычесывали покос — ведь приказчик всюду лазил, проверял. Как найдет где клочок сена, сейчас ругаться и с жалобой к барышне, что, мол, небрежно работают.
Подводы приезжали и уезжали. Высоко нагруженные сеном, крепко перевязанные. Луг пустел.
Окровавленные вилы были брошены на борозде. Никому как-то не хотелось взять их в руки.
Все думы были о Банасе. Высчитывали, где-то он теперь, далеко ли ушел.
— Может, и дойдет.
— Куда там!
— Ничего! Раз не остался тут же на месте, смог двинуться, так кто его знает — может, и дойдет.
— В больнице-то помогут.
— Помогут. Доктор там ничего.
— Это который с бородкой?
— Он. Тот, другой, в очках, не такой. Сердитый.
— Что ж, что сердитый, а помочь и он не хуже поможет.
— Чего ж не помочь! На то и доктор.
Разговор зашел о докторах, о больницах. Будто нечаянно. Но никому не хотелось ни думать, ни говорить о Банасе. Жара была страшная. Дорога была раскалена добела. Глазам больно смотреть. Ветра не было, но каждый шаг поднимал клубы белой летучей пыли.
И по этой жаре, по этой пыльной дороге шел теперь Банась. Один. Придерживая руками вываливающиеся из живота внутренности. А дорога дальняя. Куда! Корчма, потом лес, поля, потом еще лес и избы, и только потом уж город. Да еще городом до больницы дойти тоже не близко.
Они торопились с сеном, потому что и вправду надвигалась гроза. Тучка постояла над лесом, потом стала темнеть и набухать. Люди и оглянуться не успели, как внезапно подул ветер, стремительный, горячий, будто из раскаленной печи, закружил сухие соломинки, завертел столбы пыли на дороге. Зашелестел в хлебах, словно зашептались тысячи голосов.
Бабьи юбки взлетали вверх. Из-под грабель вырывались последние клочья подгребаемого сена. Мужики нахлестывали лошадей. Бабы уже в руках тащили все, что успели сгрести подле возов. Последний воз свернул к сараям, когда упали крупные, сперва редкие теплые капли. И сразу, будто дождь только этого и дожидался, несколько раз блеснула молния и хлынул такой ливень, что, казалось, затопит всю деревню. Сквозь серую пелену дождя света не было видно.
Но гроза пронеслась, и дождь быстро прекратился. И тут в бараки прибежал сын Йоськи с известием, что Банась дошел до больницы, но, когда врачи стали вкладывать ему обратно в живот вывалившиеся внутренности, он умер, не успев сказать ни слова, даже не простонав.
Батраки большой толпой двинулись к усадьбе.
Ян, господский лакей, перепуганный, выскочил на крыльцо.
— В чем дело?
— С барышней хотим поговорить.
— Идите к управляющему!
— Не о чем нам с управляющим говорить! Мы пришли к помещице.
Они столпились у крыльца. Говорил за всех один. Остальные, не снимая шапок, стояли с мрачными глазами, в полном молчании.
— Ясновельможная пани не выйдет к вам.
— Ты за нее не говори. Иди и доложи, что пришли, мол, из бараков. Вот и все твое дело.
Но как раз в этот момент двери с шумом распахнулись. Барышня появилась на пороге. Высокая, в черном платье. Глаза ее вспыхнули, когда она увидела их, лицо немного побледнело.
А пришли сюда все. Впереди стояли мужчины, за ними теснились бабы, даже ребятишки прибежали. Ведь не каждый день случалось, чтобы батраки лезли в господский дом. Ребятишкам любопытно, а вдруг удастся увидеть что-нибудь.
— Мы пришли по поводу Банася.
— Какого Банася?
В толпе раздался ропот. Хотя и вправду, откуда барышне знать, что его фамилия Банась и который это из них?
— Того, что вчера…
Нет, она знала. Знала с первых слов. Она побледнела еще больше. Сделала шаг вперед. Но они не отступили.
— Банась-то вчера умер в больнице.
— Ну и что?
Теперь барышня была уже совершенно спокойна. Она смотрела на людей, брови ее гневно хмурились, сошлись в одну линию.
— Человек умер безо всякой помощи…
— Не ваше дело, — сказала барышня. Громко и отчетливо. — У меня с вами никаких дел нет. Что, разве сегодня в экономии нет работы?
Это она сказала уже не им, — управляющему, который прибежал откуда-то и стоял в сторонке. Ноги под ним дрожали, как стебли на ветру.
И ушла. Хлопнула дверь, повернулся ключ в замке.
В толпе ошеломленно переглянулись.
Но тотчас нахлынула стремительная жгучая злоба.
— Говорить не хочет!
— Человек через нее помер! Баба с двумя детишками осталась.
— Ясновельможная!
Сначала крикнул один, другой. Потом, перекрикивая друг друга, закричала вся толпа. Припоминали все обиды, какие только удержались в памяти.
И тут, верно, кто-то из детишек поднял камень и швырнул в закрытое, занавешенное белой тюлевой занавеской окно.
Звякнуло разбитое стекло, камень упал куда-то в комнату.
Люди, опомнившись, стали медленно расходиться от крыльца.
К вечеру уже началось следствие.
Камень, брошенный детской рукой, разросся в вилы, дубины, чуть ли не в винтовки.
Брань батраков была представлена, как угроза убить помещицу, потроха из нее выпустить.
И среди всех этих выдумок затерялся, исчез куда-то, позабыт был окровавленный труп Банася.
Батрак снова увидел дорогу в город, снова проделал ее на подводе, под конвоем, как бывало и прежде.
Теперь-то подводы нашлись. И не одна.
Люди роптали, проклинали. Каждый свидетельствовал в пользу другого. Ведь они были все вместе, знали всё друг о друге.
Но в городе все повернулось иначе. Барышня говорила свое.
А те, что сидели за судейским столом, одобрительно кивали ей головами.
И оказалось, еще раз оказалось, что ничего не поделаешь. Так уж должно быть.
Черным по белому написали приговор. На четыре, на пять, шесть месяцев. За нападение, за угрозы, за обиду и испуг барышни.
Те, кого осудили, уже в бараки не воротились. В тот же день барышня приказала их бабам убираться с детишками и рухлядью, куда глаза глядят.
«Не желаю, мол, видеть этих неблагодарных».
Но это слово «неблагодарные» ее тонкие губы произносили так, словно она глумилась сама над собой.
И вот с того дня, когда между бараками и господским домом встала тюрьма, ничего, кроме пламени непрестанной, упорной войны, между ними уже и быть не могло.
Зато теперь понемногу начала равняться с бараками и деревня.
Деревенские бабы уже не задирали теперь так высоко носы, проходя мимо бараков в костел.
Уже не так шуршали их юбки.
Уже не горели по вечерам окна деревенских изб, словно издеваясь над мутными окнами бараков.
Уже не столько было крику и радости на свадьбах.
Все посерело, притаилось, притихло, всюду была почти одинаковая нужда.
Жаловалась и барышня. И правда, у нее с аукциона продали десяток коров.
Забрали клочок леса.
Но у крестьянина в деревне забирали последнюю корову, а у нее еще сколько оставалось.
Нет, с барышней нужда не могла сладить.
Барышня лишь вымещала потери на батраках.
Нет, мол, денег на выплату.
Но на все другое находилось.
На постройку мельницы.
На поездки куда-то за границу. Уже два раза за это время она туда ездила.
На меха, на картины для господского дома, за которые заплачено было много сотен, — управляющий рассказывал.
На это у нее хватало, да и еще на многое.
Только на жалование батракам не хватало.
Потому, мол, нужда.
Нужда-то нужда, да не та у помещицы, что у батрака.
У барышни на столе должны быть и индейка, и рыба, и всякая всячина, которую ей корзинами, ящиками присылали из города.
У нее должны быть шелковые платья, потому что она все еще наряжалась так, что глаз не отведешь. Хотя неведомо зачем, ведь ни один кавалер к ней не ездил, ни об одном никто не слышал.
И все же нужда, потому что не каждый год можно было ездить в теплые края. А барышне все хотелось в теплые края.
И еще каких-то новых коров ей захотелось выписать издалека. Видно, мало было тех, которые рядами стояли в коровнике.
Вот у нее какая нужда. Вот все ее нужды и беды.
Батрацкая нужда была иная. Она питалась холодной картошкой. Одевалась в полуистлевшие лохмотья. Шлепала по осенней грязи босыми ногами или шаркала лыковыми лаптями. Их уже давно не носил никто. А вот теперь они снова появились на мужицких ногах, как при дедах и прадедах, когда мало кто надевал сапоги.
Батрацкая нужда протекала сквозь дырявую крышу, свистела в разбитые окна, роилась насекомыми на нарах.
Раньше ожидали выплаты, как спасения. И выплата наступала. Уж какая была, такая была, а все же у человека водились иногда какие-то копейки, а главное, он всегда знал, когда их получит.
Теперь — нет.
Жалованья не выплачивали. Не давали месячины. Потому что теперь было так, что, когда батрак договаривался с помещицей, его бабы это не касалось. Если помещица хотела, то договаривалась с бабой отдельно или платила ей поденно.
Бабы шли, чтобы приработать. Да какой это был приработок!
Люди подсчитывали, сколько заработали. Подсчитывали точно, чтобы управляющий как-нибудь не обманул при выплате.
Да так и оставались при своих подсчетах. Гроша невозможно было выжать. Нету, мол, денег — и весь разговор.
Управляющий обещал, оттягивал, заговаривал зубы. И, наконец, выходил из себя:
— Благодарите бога, что у вас есть работа и крыша над головой.
В этом было и немного правды. Времена-то ведь переменились. Все больше народу старалось наняться на работу. Все больше становилось людей, которым на своей земле не к чему было руки приложить.
А по усадьбам, по экономиям все меньше нанимали. Перебирали, привередничали.
И целые толпы людей ходили без работы. В сенокос, в жнитво, на месяц, на несколько дней кое-кто и получал работу. Поденно, а то на сезон. Но мало кто. С каждым годом все больше становилось таких, что жили чудом, неведомо как. Детишек мерло столько, что едва успевали возить, а то и просто таскать на кладбище. Волком глядел человек. Кто до сих пор не знал нужды, тот свел теперь с ней близкое знакомство.
Вот барышня и пользовалась. На чем только возможно, урывала.
Был уговор, что зерно в месячину должно идти хорошее, такое же, как усадебное. Было оговорено, сколько будут давать и когда. По весу.
Но барышня придумала иначе. Если зерно было хорошее, то давали по весу, — но зато недосушенное, чтоб больше весило.
А если попадалось плохое, засоренное куколем, почерневшее от спорыньи, тогда сыпали меркой. С верхом сыпали, не жалели.
Только пользы от этого зерна ни на грош. Не то что хлеба, лепешки не испечешь. Тесто расползалось липким клеем, затвердеет закал — зубы обломаешь.
И ничего не поделаешь.
Начались скитания по судам.
Со страхом, как бы не вышло хуже, как бы помещица не вышвырнула с работы, тогда подыхай с голоду.
Барышня ездила в город, нанимала брехунов-адвокатов, чтобы стояли за нее.
Но в конце концов ей все равно приходилось платить.
Только тянулось это без конца. Городские господа не торопились, над ними не капало. Ведь они-то не сидели в бараках. Не ели батрацкой картошки. Не ждали из месяца в месяц уплаты жалованья и месячины.
А жалованье было не шуточное. Проработаешь месяц, и как раз хватит на соль, на спички, на керосин. На трехмесячное жалованье можно и сапоги купить.
Наконец, людям надоели и суды. Начались забастовки.
Не такие, как первая, которая разразилась после японской войны.
А так, раз за разом. То тут, то там.
Случались и черные стачки. Когда не обряжали скотину, когда ревели некормленные, недоенные коровы, а помещики метались как безумные, ругаясь и проклиная.
И батраки выигрывали. Получали это свое огромное жалованье. На соль, на керосин.
Иной раз помещики не платили по году. Денег, мол, нет. А как хорошенько прижмешь их стачкой — и деньги найдутся.
Больше всех радовался забастовкам Павел. Уж так они ему полюбились!
Он помогал пастуху пасти коров. А в забастовку коров не выгоняли на пастбище. Никто не работал. Люди ходили толпами, разговаривали, галдели.
В эту пору он немного отвык от матери. Велик уж был, чтобы за материну юбку держаться. Теперь его больше тянуло к отцу. Тот все растолкует, люди его слушаются. А уж как забастовка — отец первый человек.
Барышня уже не раз и не два хотела уволить Кшисяка, всегда он был бельмом на глазу. Но остальные не давали. Твердо стояли за него, делегатом был от них. Так и не дали его тронуть.
И это нравилось Павлу. Ведь он все помнил, все решительно. И голубей, и как управляющий замахнулся на мать. И как Банась накололся на вилы и потом умер в больнице. Все помнил, даже самому удивительно было, как помнит. С малых лет бунтарем был. И теперь он по пятам ходил за отцом, ловил и запоминал каждое его слово.
А мать все чаще болела. Ее, как и многих других в бараках, душил кашель.
— Это все от пруда, сынок. Как же! Ведь я тут с малых лет живу, здесь и родилась. И всегда пруд и пруд. Эта вонь от него оседает в груди и потом душит. Ты только подумай, сколько у меня в груди ее скопилось!
Но у Павла не было времени думать о материном кашле. Он был занят другими делами, другими думами.
Он разыскал дыру в плетне у пруда. Один разок ему удалось поймать карпа. С тех пор он не раз бегал туда, но больше ему уже не везло.
Он наперечет знал птичьи гнезда. Не разорял их, нет, — его радовало, что птенцы вытягивают маленькие клювы, разевают широкие глотки. Вокруг клювиков были желтая каемка и желтый пушок, который постепенно покрывали перышки. На ольхах из года в год вили гнезда сороки. А в лесу он высмотрел дятлов. На костельной башне, отстроенной после войны, гнездились совы. Он все знал. Это было его хозяйство.
В каморке он растил кроликов. Первого кролика подарил ему Юзек Губек из деревни. Это была самка. Она скоро окотилась. Теперь у него было их уже четверо. Пушистые, беленькие, они вырыли себе норку под нарами. Мать сердилась, но не запрещала. Павлу она ничего на свете не могла запретить.
Но, кроме всего этого, у него была тьма работы. Кончили пасти скотину — он стал ходить на поденщину в усадьбу, то в деревне помогал. Рослый был, сильный. Мог.
А Магда становилась все слабее, едва ползала по каморке. Кшисяк уж и запрещал ей ходить на работу; хватит с нее, если приберет, сварит что-нибудь, обрядит корову и поросенка. За нее ходила на работу Зоська, к отцовскому жалованью какой грош приработать.
С Зоськой у Магды была тьма забот. Хоть у нее никогда не лежало сердце к дочке, все же она терзалась тем, что девка подросла, а о замужестве и думать нечего. Кто женится на такой, у которой одна рубашка на теле — и все тут. И в деревне девушки, за которыми родители ничего не могли дать, засиживались в девках. А в бараках и подавно.
Вот хоть бы и Зоське. В ее годы Магда уж давно была замужем, уж и ребенка похоронила. А тут — ни с места. Парни и не заходили к ним, всякий боялся. Чуть что, суд приговаривает к уплате алиментов, а из чего платить?
Так что было уже точно известно, что Зоська останется старой девой. Они никогда не говорили об этом, но матери-то видно, что девка места себе не находит. А что поделаешь? Такие уж времена настали, кругом беда.
Как решил Ясек, так и было. На работу Магда уже не ходила. Да и работа-то была ведь такая, чтоб вот только человек зря не сидел. А пользы от нее никакой. Гроши, из-за которых еще надо было судиться или бастовать.
И она возилась с коровой, поросенком, готовила своим поесть, как придут с работы, и размышляла. Теперь у нее было время подумать обо всем. И она вспоминала все сначала, помаленьку, будто сызнова переживала всю свою жизнь. С тех пор как была маленькой девочкой и вплоть до нынешнего дня.
И просто надивиться не могла. Ведь вот всю жизнь тяжко работала, работала изо дня в день. А как открыла впервые глаза в барачной каморке, так здесь и придется навеки закрыть их. Как пришла в каморку Кшисяка после свадьбы, так до сих пор ничего не переменилось. Те же нары, хоть и из другого дерева, те же стены, хотя уже столько раз побеленные заново, та же печка.
Никакого толку, никакого следа от прожитой жизни. А ведь руки покрыты мозолями, потрескались от работы, жесткие, как голенище. Ноги исхожены, распухли от нескончаемой беготни. Ослабели глаза.
А где же следы всего этого? Куда ушла вся эта работа, которую она делала, переделать не могла за всю свою жизнь?
Куда ушли силы, и молодость, и годы, которые мелькали, словно зерна четок, всегда одинаковые, хотя иногда и казались разными? Но теперь, когда она глядела на них издалека, они снова сравнялись, посерели, стали одноцветными, не отличишь один от другого.
Обещали что-то, она ждала, ждала — и ничего. А ведь времени впереди у нее осталось мало.
И она уже ничего не ждала. Одного ей жаль было в этом мире — Павла. Что останется он без нее, что люди, пожалуй, его обидят. Что он пойдет наниматься в батраки, уже скоро, может, на будущий год, может, завтра, — годы ведь идут. И опять начнется то же самое, что с ней и с Ясеком.
От этих дум мутилось в голове. И ей казалось, что именно от них она так слабеет со дня на день.
По утрам не хотелось подниматься с постели. Магда лишь краем уха слышала, что рассказывают о барышне, о ее новых капризах. О событиях в бараке.
Она потихоньку готовилась к смерти. Ведь сколько уже поумирало — вот хоть бы и из их каморки. И из соседних. Хорошо знакомые люди, с которыми ежедневно случалось встречаться, разговаривать.
Сташека убили, еще когда он убежал в легионы. Те времена заволакивались теперь дымкой забвения, терялись в серости рабочих дней.
Померла Янтошка. А казалось, что на нее и смерти не будет. Что она переживет всех. Ведь она была всегда одинаковая, годы проходили над ней, не оставляя следов. Померла Габрыська. Как-то зимой ее нашли где-то в соседней деревне, засыпанную снегом у дороги. Должно быть, присела отдохнуть, да так и не встала. Зимой это часто случается. Помер Малик. А Маличиху барышня выжила из бараков, ни на что не посмотрела. Хотя старухе некуда было деваться. Союз батраков судился из-за этого с барышней. Но когда вышло решение в пользу Маличихи, то ее уж пришлось бы искать в царствии небесном.
Умер и Антон. Ну, этот был уже так стар, что у него голова тряслась, как у огородного пугала. Ему уж пора пришла. Жена его еще сидела в людской, ей давали прясть кудель. Ощупью пряла, слепота ей на глаза пала. Поумирали и другие. Сосчитать трудно. Или пошли по белу свету искать другой работы. И след загинул.
А кто и остался в живых, того узнать трудно, переменился.
Как и прежде, забегала к Магде Тереска. Но теперь уж было ясно, что у нее не все дома. Она сгорбилась, сморщилась, как печеное яблоко. Даже не по годам состарилась. И все-таки ее еще тянуло к парням. Над ней смеялись, ведь она уже совсем бабушкой выглядела. А она все еще, завидя того или другого парня, поправляла платок на голове, улыбалась беззубым ртом. И трещала: каков кто из себя, да что о ком рассказывает, да кто веселый, кто хорошо пляшет. И так без конца. Магда слушала, пусть баба выговорится. Над ней только смеялись. А Магда еще помнила прежние времена. Не то чтобы веселое что-нибудь, а все же знали об этом только они — Тереска да Магда. Иной раз заговорит с ней Магда и даже про все заботы забудет, когда из темной пропасти, куда все провалилось, вдруг возникнут прежние дни, прежние дела, прежние люди, давно уже превратившиеся в прах и пепел.
Хотя Тереска не все хорошо помнила. Прошлое как-то перепуталось у нее в голове. Ей почему-то мерещилось, что Юзек уехал в Америку. А ведь Юзека убили стражники, застигнув его, когда он закапывал оружие в землю. К тому же она вбила себе в голову, что все парни хотели на ней жениться. И это она рассказывала о тех, за которыми сама бегала, будучи уже давно замужней.
Но Магда не поправляла ее. Видно, так Тереске было лучше. Раз так сложилось в Терескиной дурной голове, пусть уж так и будет. Ведь она радуется этому, улыбается во все свое морщинистое лицо.
«Ведь вот и дурная, а не глупо придумала», — размышляла Магда. А вот у нее, Магды, ничего не хотело изменяться в прошлом. Она помнила все, как оно было на самом деле. Не весело. Однообразно. Вечно одни и те же, словно цепи тянущиеся за человеком, бараки.
Как-то раз она почувствовала себя совсем плохо.
— Сдается мне, Ясек, что уж буду помирать.
Он поглядел на нее, но тут и спорить было не о чем. Высохла баба, как щепка. На руках сетью переплелись, вздулись синие жилы. Нос заострился. Глаза ушли в темные впадины.
— Сбегать тебе за ксендзом?
— Надо бы. Вот только в избе приберу, а то как же так…
— Зоська приберет.
— Ей пора на работу идти.
— Не пойдет один раз. На столько меньше потребует с помещицы по суду, — зло сказал Кшисяк.
Магда не стала спорить. Очень уж была слаба.
Пришел ксендз. Она исповедалась, — все как полагается. Ксендз поговорил с ней, но она почти не слушала. Все то же, что он всегда и в костеле говорил, при всякой исповеди. Что ксендзу до нее, барачной бабы, родившейся в бараках и умирающей в бараках? Ладно, что святые дары принес. Разговоры его ни к чему. Разве ксендз вырастил детей, болел за них? Разве он проработал целую жизнь, суровую, серую, напрасную? Разве он знал что-нибудь о ней, Магде, о ее переполненных работой днях, о коротких ночах?
Она поцеловала его руку, поблагодарила, — все как следует. Но словно уже другими глазами смотрела на этого отца духовного. На нем ряса из гладкого сукна, перстень на пальце, у него лицо круглое, румяное. Этот-то не знает нужды. Шелковая у него жизнь. А у нее, Магды, посконная. Даже не холщовая, нет. Может, и случился денек-другой холщовый, а все остальные — подряд посконные. Так что ж ей до этого ксендза?
И ксендз ушел. Магда смотрела, как Зоська суетится, прибирается в избе, как потом все уходят. Она полежала еще, но вдруг почувствовала себя немного лучше. Тогда она сползла с постели и приготовила обед. Придут с работы, будет хоть что поесть.
Прибежала запыхавшаяся Зоська, торопясь сварить что-нибудь до прихода отца и Павла.
— Да вы, мама, сварили?
— Да вот, сварила. Мне вроде лучше.
— Может, после причастия?
— Может, и так.
Но не прошло и получаса, как ее снова охватила страшная слабость. Бросило в пот, посконная рубаха промокла насквозь. Она сбросила с себя все, — ей казалось, что ее огнем жжет.
Потом стал бить озноб. Потом и это прошло. Когда Ясек и Павел пришли обедать, она лежала такая слабая, что шевельнуться не могла. Только смотрела, как они едят, как Зоська подливает сыворотки в картошку.
— Павел…
Он вскочил из-за стола. Но, когда подошел к постели, она была уже мертва.
Ее хоронили на третий день. Барышня заявила, что досок на гроб не даст. Кшисяк побежал в деревню. Доски он выпросил у Матуса, обещал заплатить, когда высудит с барышни деньги. Дело о неуплате батракам было как раз в суде. Матус дал. Ему жалеть было нечего, старик уж был, одной ногой в могиле стоял, а все дети пропали на войне. В могилу с собой не возьмешь, вот он и дал.
Лошадь барышня принуждена была все же дать. Кшисяк заявил управляющему, что если не дадут, он немедленно отправится в город, в профессиональный союз. С союзом барышне не хотелось связываться, и лошадь нашлась.
Гроб оказался мал, пришлось немного склонить голову покойнице на плечо, чтобы она в нем поместилась. Ее отвезли на кладбище с самого утра, но за гробом все-таки кое-кто пошел. Даже несколько деревенских баб приплелось.
Хоронили наскоро. Ксендз покропил святой водой, что-то пробормотал и ушел. Торопился в усадьбу. Могильщик быстро забросал могилу, сравнял лопатой, и все было кончено.
Павел смотрел, как подымается небольшой холмик, который скоро зарастет зеленой травой так, что и следа не останется. Красный журавельник прикроет все своим мелким цветом — и не найдешь.
Ему вспомнилось, как он когда-то стоял с матерью на кладбище. Так же краснели цветы журавельника, так же зеленела трава. Только народу было тьма. Когда же это было?
Ах, да. Теперь он вспомнил ясно, точно это было вчера. Похороны помещицы. Ведь тут, в нескольких шагах, помещичий склеп. Вот они и лежат теперь обе в земле, неподалеку друг от друга. Только на той могиле не вырастет трава, не взойдет бурьян и журавельник. Барышня посадила там вьющиеся розы. Опутанной гирляндой они вились теперь по каменным плитам, прикрывая изломы и щели, своими молодыми побегами достигали ног каменных ангелов.
Павлу припомнилось, как говорил тогда ксендз, как стояли знакомые и родственники барыни, все в черном. Как стояла барышня, высокая, прямая, с черной вуалью на лице. Как была усыпана еловыми ветками вся дорога, как блеснули на гробу, когда его ставили в склеп, серебряные галуны.
Маленький еще тогда был, а все запомнил, будто навеки врезалось в память.
— Ну, что ж так стоишь? Пойдем.
Но Павел не слышал. Он двинулся, лишь когда отец толкнул его в плечо, и медленно пошел вслед за другими по заросшей травой кладбищенской дорожке. Проходя, он покосился на господский склеп. На черной мраморной дощечке золотыми буквами была вырезана фамилия барыни.
На другой же день явилась Тереска. Кшисяк не мог понять, помнит ли она еще о смерти Магды, или нет, хотя она и была на похоронах. Она не обмолвилась о ней ни единым словом, словно Магда и не жила на свете.
Просто пришла, расселась на лавке, будто и не собиралась уходить. Посмеивалась, подмигивала.
Наконец, Кшисяк сообразил, в чем дело, что засело в этой глупой голове. Потому что, хотя Тереска и не говорила прямо, но догадаться было нетрудно. Вечером она пришла еще раз. И так уж потом каждый день.
Не то чтобы Кшисяку казалась дикой самая мысль о женитьбе. Да незачем было. Сам он уже стар, дети подросли. Все, что требуется по дому, Зоська может сделать. Другое дело в деревне, когда у человека на руках изба, хозяйство или дети маленькие. Тут уж без бабы не обойдешься. Хочешь не хочешь, а только похоронил жену — присматривай другую. А здесь на что?
Да если бы он и собирался жениться, так не на Тереске же! И стара, не намного моложе его, да и пользы от нее ни на грош. Ведь и дома, пока жив был мужик, почитай все ему приходилось делать самому, ее все где-то носило.
Зоська швыряла горшками от злости, она уже давно терпеть не могла Тереску. Но та и ухом не вела. Сидит, смеется, подмигивает.
— У Куликов скоро свадьба, — начинает она осторожно, издали.
— Теперь-то? В самую страду? Что ж, они до осени потерпеть не могут?
— Так уж, видно, пришлось. Может, им… к спеху?
Она захихикала.
— Может, и так, — равнодушно буркнул Кшисяк.
— Какая там свадьба? — обозлилась Зоська. Ее злило всякое упоминание о свадьбе, обидно было, что это не ее свадьба. — Не женится Франек на Ганке.
— Ну да! С чего ему не жениться? Чего девке не хватает? — заступилась Тереска.
— Хватать-то ей всего хватает, может, и лишнее что есть. За кем она только не бегала?
— Не наговаривай, не наговаривай, не то и на тебя наговорят, — остановил ее Кшисяк. Он не выносил бабьих сплетен. Хотя, по правде сказать, что можно было наговорить на Зоську? Не в тех уже она годах, чтобы парни за ней ухаживали. Если уж до сих пор ничего не было, так никогда не будет.
— Помните, как на моей свадьбе мы с вами плясали? — начала Тереска с другого конца.
— Угу… — пробормотал он, думая о другом. На Терескиной свадьбе он и не был вовсе. И никогда с ней не плясал. Просто бабе охота навести разговор на свадьбы. Авось Кшисяк и сам намекнет на свадьбу.
Но она так и не дождалась. С ней почти и не разговаривали. Сидят оба надутые. И Тереска направилась к выходу, бросив неприязненный взгляд на Зоську.
В сенях она встретила Павла и задержала его на пороге.
— Что же это ты по ночам шатаешься?
— А сами-то? Время-то ведь одно, что для меня, что для вас.
— Ну, я-то ведь из избы иду.
— А я в избу.
Он хотел пройти в дом, но Тереска загородила ему дорогу.
— Как думаешь, Павел, будет отец жениться?
Павел остолбенел. Но тотчас сообразил, что с глупой и говорить надо по-глупому.
— Не знаю. Вы бы спросили его.
— Да, понимаешь, мне как-то не с руки…
— Так что ж я вам сделаю?
— Спросил бы ты сам… Так, сторонкой, что, мол, мужику одному не справиться…
Он пытливо взглянул ей в глаза.
— Вы это за него замуж хотите?
— Ну уж, так сразу… А все же спросить ведь ты можешь?
— Спрошу, спрошу.
— Так я ужо прибегу, расскажешь мне.
— Что вам зря ходить! Узнаю, дам вам знать.
— Только обязательно узнай, золотой ты мой!
— Обязательно, обязательно узнаю.
— Да поскорей!
Уже не слушая, он ушел в каморку. Тяжело опустился на лавку.
— С кем это ты разговаривал?
— С Тереской.
— О свадьбе? — спросила Зоська. — Так она уж теперь за тебя замуж собралась?
— За меня?
— Да, ведь она тут все тату обхаживала, как кошка какая. А может, теперь его на тебя променяла?
— Э, невесть что несешь…
— Глупость, и только. Глупый — он глупый и есть, про глупое и говорит. И всегда она была такая, Тереска-то, смолоду такая была, — вмешался Кшисяк, пытаясь предупредить надвигающуюся ссору.
Чем больше времени проходило со смерти матери, тем чаще брат и сестра ссорились между собой. Никак не могли ужиться. А в Зоське злость нарастала с малых лет. Она знала, что Павел всегда был первый в материном сердце, что она, Зоська, только так путается по дому, что ее только терпят. И она завидовала Павлу. Ничего не говорила, не жаловалась. И все же обида росла в ней, разбухала, тяжелым горьким клубком подкатывалась к горлу.
А потом по ее душе прошли военные годы. Страх, испуг, воспоминание о трупах, выстрелах, пожарах. До сих пор остался у нее суеверный ужас перед огнем. Иной раз она просыпалась ночью, ей казалось, что бараки охватывает пламя. Этот сон повторялся упрямым кошмаром, гнал от глаз дремоту. Она подолгу прислушивалась — не шелестит ли, не пробегает ли быстрый огонь по дранке крыши, не протягиваются ли длинные языки пламени к заваленному рухлядью чердаку, не врываются ли в каморку. Она раздувала ноздри, не доносится ли запах гари. Всматривалась в щель над порогом, не видно ли там пламени, которое отрежет выход в поле, единственную возможность спасения.
Война оставила на ней и другие следы. Она была пуглива. Стоило уронить что-нибудь или неожиданно позвать ее, как она вскакивала с криком, с колотящимся сердцем, готовая бежать сломя голову куда глаза глядят, лишь бы подальше от того места, где что-то случилось.
От недоедания во время войны у нее не было никаких сил. Она выросла высокая и тонкая. На лице часто высыпали красные прыщи. Она кашляла, как мать, но кто бы там стал обращать на это внимание.
А теперь ко всему присоединилось еще и то, что она вот никогда не выйдет замуж, что ей придется навсегда остаться в бараках, прислуживать отцу, зашивать Павлу рваные штаны. Что она вдвойне батрачка — у господ и у отца.
Это грызло ее день и ночь. Иссушало в ней всю радость жизни, гасило улыбку. Зоська становилась кислой, как уксус.
И вот все чаще и чаще стала она искать утешения в другом месте. А до него, до этого места, было недалечко: пробежать мимо усадьбы, свернуть за угол — и готово.
В костеле, в его сумрачной глубине было единственное место, где она чувствовала себя дома. Она подолгу молилась, не упускала ни одной свободной минутки, чтобы не сбегать сюда, не помолиться перед боковым алтарем с изображением святого Георгия.
Зоська не могла насмотреться на этого святого Георгия. Длинным копьем он пронзал извивающегося дракона. Из пасти дракона вырывалось красное пламя. Святой Георгий смотрел прямо на Зоську. Лицо у него было румяное, глаза голубые, и расписан он был так ярко, что смотреть было больно. Когда прежние краски поблекли, ксендз-настоятель приказал подновить образ, и хромой Яничак, деревенский живописец, размалевал его так, что глаз не оторвешь.
Одно только Яничак сделал плохо — уж раз подновлял, то надо было исправить и это.
А то смотреть стыдно. Святой в латах, а ноги над сапогами с загнутым носком — голые до самого верха, мерзость, да и только. Это и мужику так ходить непристойно, а уж святому и подавно.
И Зоська никогда не смотрела на ноги святого Георгия. С зеленого дракона она поскорей переводила глаза на круглое, румяное лицо святого. Поверяла ему все свои заботы и огорчения. Обиды на отца и на Павла. Сперва она молилась о замужестве, но потом бросила. Все равно не поможет. Такого парня, чтоб захотел жениться на Зоське, не сыскать. Что у нее, приданое, что ли? Или она молода? Хороша собой? Нет. Болезненная, печальная, оборванная девушка из бараков. Тут уже надо бы, чтобы чудо случилось. Так неужели же ради нее, Зоськи, святой станет чудеса творить?
Понемногу она привыкла бегать к ксендзу. Он записал ее в какое-то братство, где ежедневно собирались для совместной молитвы, а когда на троицу шла процессия в костел, Зоська вместе с другими несла образ.
Павел не пропускал случая, чтобы не подшутить над ней. За эти шушуканья с ксендзом.
Потому что ксендз-то был другой, не тот, что прежде, при русских. Тот был ничего человек, простой такой, и проповедь, бывало, такую скажет, что бабы всплакнут. О неволе скажет, через которую все страдают. Что, мол, и святая католическая церковь через нее в поругании. О великом гнете. Тот ксендз, бывало, горькими слезами плакал, часами молился, лежал ниц перед алтарем. И с людьми поговорит. Расскажет, как все это переменится, как все будет иначе, когда снова возродится свободная отчизна.
Вот оно и переменилось. Вместо прежнего молодого ксендза, что плакал об отчизне, пришел этот новый, веселый, кругленький. Этот бранил людей, кричал на них с амвона, попрекал грехами. А уж больше всего за то, что не дают денег на костел. Будто у них есть где взять! А то еще поименно называл с амвона девушек, срамил их перед людьми. И все больше сидел в господском доме. Видно, понравились ему помещичьи обеды. А к крестьянам, к батракам мало ходил. Разве уж сами позовут.
За господ стоял. Не то что тот, прежний. И теперь уж стало ясно, как обстоит дело. Пока были под царским сапогом, пока католическую церковь преследовали, она цеплялась за народ. А как только усилилась, как только стала заправлять, сейчас другое лицо показала. Что господа решат, то ксендз и вбивает людям в головы. И кричит и доказывает, что только кроткие будут в царствии небесном. И что кого, мол, бог любит, тому и крест посылает.
Зоська выслушивала все это и приносила домой. Ксендзовские поучения так и сыпались из нее. Павел из себя выходил.
Отец, тот хоть не слушал, но и не говорил Зоське ничего. Впрочем, это уж был не прежний Кшисяк, на все готовый Кшисяк прежних лет.
Он сгорбился. Пригнулся к земле. Старость одолела не только тело, она глубокими морщинами врезалась и в сердце и в думы.
Теперь уж этот человек не рвался вперед, и все чаще вспоминал, как Магда не верила, что все может быть по-иному.
Все миновало, все засыпано прахом забвения. Поросло весенней травой, сгорело на летнем солнцепеке, занесено осенними листьями, исчезло под зимним снегом. И стачка, и то, что было после нее, когда он подстерегал в лесу стражников. И война, безумное, горячее время, когда человек был словно птица, прижавшаяся в бурю к ветке. Когда неведомо было, не обрушится ли через мгновение смерть, не закачается ли петля виселицы.
Теперь ничего этого нет. Сгорело, испепелилось сердце.
Как же так? Не ради этого же он промучился всю жизнь. Не ради этого волочил изувеченную стражниками ногу. Не ради этого сидел в городской тюрьме?
А выходит, будто как раз ради этого. Ради того, чтобы барышня и дальше могла ездить верхом на дорогой лошади и смотреть на людей злыми глазами. Чтобы мог покрикивать на людей управляющий, чтобы приказчики и кладовщики глумились над батраками, как хотели.
Опротивело все. А тут еще и в избе нет покоя. Ссорятся Павел с Зоськой, будто им за это деньги платят. Павел шумно и с криком, Зоська ехидно, ядовито.
— Ксендзовская служанка! — бранился Павел.
— Уж лучше быть ксендзовской служанкой, чем слугой дьявола.
— Глядите, какая умная стала!
— Это ты стал больно умный, а только доиграешься, вот увидишь, доиграешься!
Павел умолкал.
Хоть оно и правда, что ксендз от этого своего братства выгоду имеет. Бабы даром бегают к нему убирать, даром полют его огород, стирают. Ни гроша он им не платит, да они бы и не взяли. Как можно? Ведь это для ксендза делается. А уж когда в престольный праздник к ксендзу съезжались гости, Зоськи дома и не увидишь. Так целыми днями и сидит в ксендзовском доме, помогает на кухне.
Но правда и то, что Зоська кое-что знала о Павловых делах. Может, и не так уж точно, но кой о чем все же догадывалась. Так, пожалуй, лучше помолчать. Хоть ничего особенного и нет, а все же не такое дело, чтобы бабьим языкам трепать об этом по всей деревне, чтобы дошло и до ксендза и до господского дома.
И так уж и ксендз и управляющий держали на примете подрастающих пареньков. Не кланяются ксендзу. Редко который снимет шапку перед костелом. Газетки читают. Сходятся и о чем-то сговариваются между собой.
Кшисяк знал, но все это как-то проходило мимо него. Уже все меньше нитей связывало его с жизнью. Даже от своих делегатских обязанностей он мало-помалу отказался. Не справлялся больше.
В нем уже не осталось никакой веры — ни во что. Он уже бывал обманутым. И раз, и другой, и третий. Уже не один человек взобрался по его спине высоко вверх. А он остался, где был. Нет, не на том, видно, держалась неволя, на что ему указывали.
И Кшисяк глубоко задумался. Кто же обманул его?
Ведь не товарищ же Мартин, который сгнил в могиле, расстрелянный немцами, отдал голову за свою веру, собственной кровью припечатал каждое сказанное слово.
Не рабочие с кирпичного завода, которые приходили сюда сперва в стачку, а потом в военное время.
Не Антон, который до последнего своего дня ждал, что все должно перемениться.
Кто же обманул его, Кшисяка, кто толкнул его под казацкие нагайки, на австрийские штыки ради того, чтобы господа и помещики спокойно сеяли и собирали урожай, ради того, чтобы они по-прежнему богатели его трудом и потом?
Уже не сам ли он обманул себя, не сам ли он прозевал подходящую минуту, когда надо было взяться за дело по-другому?
Но теперь уже поздно.
Теперь мужика снова притиснули к земле. Снова взвалили непосильное бремя на его согнутую спину.
Так и состарился Кшисяк, и сам не заметил когда.
Своим чередом шли и стачки. Да что это были за стачки? Из-за уплаты трехмесячного жалованья, которого едва хватит на пару сапог. Из-за недоданной месячины, которой едва-едва можно было наполнить голодное брюхо. Из-за починки крыши, чтобы вода не лилась на нары. Все больше такие.
А ведь пусть бы даже выплатили жалованье, пусть бы выдали месячину, пусть бы крыша была цела, что из этого батраку? Какая ему от этого польза? Что изменилось бы от этого в его сермяжной доле? Ровно ничего.
Так что и к этим делам Кшисяк остыл душой. Хмуро ходил между людьми. Редко когда слово скажет. Делал свою работу, будто во сне. Работал, потому что так уж привык всю жизнь. Но даже и работы уже не чувствовал. Отупел.
И одного хотел, чтобы дома было спокойно. Но и этого не было.
Едва затихала ссора между Павлом и Зоськой, как начиналась за стеной.
Там жили семеро Зависляков. Четверо детей, мал мала меньше, девка, которой шел уже девятнадцатый год, и двое стариков.
В их каморке стоял непрестанный крик. Дети целый день ссорились, дрались и визжали, хоть святых вон выноси. И это продолжалось, пока вечером не приходил конюх Зависляк.
Тут уж начинался чистый судный день.
Зависляк лупил всех по очереди, начиная с самого младшего. И лупил не на шутку, ремня не жалел. Зоська аж вся белела от страха, потому что сквозь стенку все было слышно.
— Я тебе что говорил, холера проклятая? Что я тебе сто раз говорил? Где ты пропадал, почему тебя на месте не было? Куда тебя черти носили, чурбан ты этакий?
Сперва тихонько скулил какие-то оправдания детский голос, потом свистел ремень и раздавался раздирающий крик:
— Караул! Ой, таточка, не бейте! Не бейте! Караул!
И так уж и шло по порядку, пока не вмешивалась Завислячиха, боясь, чтобы он не поубивал ребятишек. Тогда он бросал детей и принимался за бабу. И так каждый день.
Но в этот вечер, видно, стряслось что-то из ряда вон. Скрипнула дверь, и маленькие Зависляки по одному выскользнули из каморки. Усевшись под ясенями, они шепотом совещались.
А в каморке Зависляк бил старшую, Розку. Крик был такой, что в бараках захлопали двери, люди выскочили из своих комнатенок. Роза кричала протяжно и вдруг вскрикнула таким нечеловеческим голосом, что Кшисяк вздрогнул. Тяжело поднявшись с лавки, он направился к соседям.
Они даже не ответили, когда он поздоровался, не слышали, как он вошел. Зависляк, намотав на руку длинные волосы Розы, порол ее ремнем и пинал ногой в высоком сапоге. Все лицо девушки было в крови.
— Побойтесь вы бога, что у вас тут делается?
Зависляк поднял слепые от бешенства глаза.
— Что делается? Ни стыда, ни совести на свете не осталось! Мало тебе нищеты, мало тебе всего, так еще доченька тебе подбавит! Так подбавит, что света не взвидишь! Чтобы в глаза людям взглянуть совестно было!
На пороге уже теснились любопытные.
— Хоть бы ты сам-то людей постыдился! — унимала его жена, которая теперь появилась из какого-то угла с черным синяком под глазом.
— А без меня люди не увидят? Без меня люди не узнают? Убирайся, стерва, чтоб глаза мои тебя не видели! — рявкнул он с новым приступом бешенства на припавшую к глиняному полу Розу.
Извиваясь по земле, как собака, она рванулась к дверям.
— Сука ты, потаскуха бесстыжая! Чтоб я тебя больше не видел! Чтоб тебя черти забрали! На глаза мне не смей показываться! Пошла, убирайся к своему хахалю. Умел ребенка сделать, так пусть и забирает тебя теперь!
Соседи медленно расходились. Случалось и такое. Иной раз с руганью, побоями, вышвыриванием из дому. А иной раз и тишком. Никто ничего и не знает, глядь — ребенок попискивает в избе. И никто ничего не говорил. Божье попущение, только и всего.
А сколько этому ребенку придется потом проглотить попреков, брани, тумаков, этого уж никто не считал. Известно, такому ребенку никто не обрадуется. Кому он нужен? Лишний, непрошенный рот у миски — и все.
Но на этот раз все ломали голову, с кем это Роза спуталась. Ведь никто ничего не знал. Она ни словечка не пикнула, хотя отец чуть душу из нее не выбил. Но она — нет, ни словечка.
Только она и знала, как это было. А дело было в ярмарку, она даже не знала, что за парень и откуда. Пригласил выпить рюмку наливки. У нее и голова закружилась, потому непривычная. А потом проводил ее, далеко за лес.
И сразу ребенок. Но отцу она бы в этом ни за что на свете не призналась. Этого-то он бы уж не простил. Сейчас он бесится, может, об алиментах подумывает. А как подавать в суд, когда неведомо даже на кого?
Так лучше уж перетерпеть все и убраться из дому. Она тихо всхлипывала, обмывая распухшее лицо у колодца. В каморке все еще бранился Зависляк, но первая злость у него уже прошла.
Завислячиха выскочила за дочерью, сунула ей в руку два злотых, припрятанных на черный день. Роза прильнула губами к руке матери. И, тяжело передвигая ноги, скрылась в сумерках, оглашаемых далеким кваканьем лягушек.
Зоська глядела ей вслед с непонятным, жгучим чувством в груди. Ведь это страшный грех. Таких ксендз выгонял из костела, когда узнавал. И все же…
Она сама не понимала, почему у нее так тяжело на душе. Об этом не следовало думать, а все же думалось. Как все это произошло и с кем? Правда, люди говорили, что девушке переспать с парнем — все равно что перышко выщипнуть. Но с ней, сколько она себя помнила, ни разу не случалось, чтобы кто хоть намекнул, что она ему нравится. Не то чтобы свататься, а так, хоть бы улыбнулся какой парень или пошутил с ней. Никто и никогда.
Она вернулась в каморку. Надо было залатать юбку, а то она совсем уж валится с нее. Не было денег на нитки. Не было денег на иголки. Хорошо, что она заняла у Брончаков в деревне.
Уж и юбка тоже, что тут чинить и чем чинить. Вся истлела, порыжела, в руках расползается.
А ведь она работала. Тяжко работала. Работали и отец и Павел. И втроем не могли заработать. Не могли заслужить у барышни столько, чтобы набить живот хоть раз в неделю, хоть в воскресенье. Все равно чем, лишь бы не мучил голод.
И чтоб было что на себя надеть. За всю эту работу.
Кшисяк работал за месячину. Они — поденно или посезонно, как случится. Но толку никакого. Как раньше ничего не было, так и сейчас нет.
Она бегала босиком от морозов до морозов. По едва оттаявшей земле, по ледяной грязи, еще подернутой по утрам тонким ледком. И осенью опять, пока земля не промерзала, пока ее не засыпало снегом.
Кабанчика под нарами уже давно не было. Миновало то время, когда на рождество кололи свинью и приправляли еду салом.
Картофельные очистки теперь нужны людям, а не свиньям. Зоська готовила их на все лады. Сушила в печке, перемалывала, пекла из них лепешки на плите. Черные они были, горькие, припахивали землей. А все-таки хоть можно было брюхо набить.
Или перемешивала с отрубями, варила похлебку. Ругались мужики, когда ели, а все-таки ели.
Случалось, барышня и по полгода не выдавала им ни жалованья, ни месячины. А голод не тетка.
Быстро вымирали дети. Сил у них никаких не было, они и от ветерка валились.
Ничего не поделаешь. Вот Зоське и приходилось латать свою единственную юбчонку и варить картофельные очистки. Одно только и было утешение, несмотря на Павловы издевки.
Она все чаще бегала в костел.
Сидела в полумраке, одна, потому что больше никого не было. Ведь она ходила в костел, когда и не было богослужения.
А уж в богослужение было совсем чудесно. Больше всего она любила, когда люди пели, а на хорах так красиво, торжественно играл орган.
Люди пели:
— «Святый боже… Святый крепкий…»
Пение и звуки органа отдавались под сумрачными сводами, поднимались от земли к небу. Зоська присоединяла и свой голос. Она воспевала бога и того святого Георгия, что пронзал копьем дракона в боковом приделе.
Пела, забывая обо всем на свете.
Здесь было совсем иначе. Сладостно, прекрасно, благоуханно.
Где-то далеко-далеко оставались бараки, и рваная юбка, которую невозможно было залатать, и очистки в горшке, от которых воняло, как от свиного корма.
За все это им, обитателям бараков, полагалось царствие небесное. И Зоська теперь днем и ночью выслуживала это царствие небесное. Все возрастающей нищетой. Невыплаченной поденной платой. Голодным брюхом. Башмаками, которых у нее не было.
Она бастовала, когда все бастовали. Раз все, так уж все. Но ей-то думалось, что не надо бы.
Потому что, видно, уж так с сотворения мира было суждено, что одним принадлежит царствие небесное на земле, а другим лишь после смерти.
И ей, Зоське, и всем батракам полагалось — после смерти. И хотя здесь, в этом мире, так тяжко, так ведь чем тяжелее, тем ближе к небу. Ксендз рассказывал, что есть два пути — один узкий и тернистый, а другой широкий, удобный, без ранящих ноги камней. Но один из них ведет в ад, а другой на небо. Узкий и тернистый — на небо.
Когда ксендз обращался к людям с проповедью, она не могла оторвать от него глаз, глядела, словно на святую икону. Румяное лицо ксендза мешалось в ее голове с румяным лицом святого Георгия с иконы. И когда она потом шла мыть у ксендза полы или чистить в кухне картошку, ей казалось, что она прислуживает самому святому Георгию. А когда ксендз протягивал ей руку для поцелуя, у нее просто сердце замирало от блаженства.
Она так сосредоточилась на своем пути в царствие небесное, что больше ни о чем не думала. Даже злые насмешки Павла в конце концов перестали злить и мучить ее. Она непрестанно молилась. Шептала свои молитвы за прополкой, когда копала картофель, доила коров. Старалась заслужить царствие небесное.
И сурово осуждала людей. Вечно они привередничают, вечно только и думают, как бы живот набить, вечно бунтуют против власти. Не тому учит ксендз. А ведь ксендзу от самого господа бога известно, как следует поступать. Он собственными руками ежедневно возносит к небу золотую дарохранительницу.
Зоська не размышляла теперь о том, как обстоит дело с помещицей, не размышляла ни о каких мирских делах. Ведь ксендз сказал ей — делать свою работу и не рассуждать.
И она слушалась. Все равно не понять ей этот мир. Не понять ни рассуждений, которые она еще иной раз слышала от отца, ни горячих разговоров Павла с молодежью, ни бабьих жалоб и ропота, всеобщих нареканий на всех и на все.
Она была покорна. Ей уж не на что надеяться, нечего было ожидать от жизни, кроме картофельных очисток и рваной юбчонки. И она всеми силами старалась заслужить царствие небесное.
X
Кшисяк пахал под картошку свой участок, узкой полоской тянувшийся вдоль пруда.
Время шло к зиме. Легкий сонный туман повис над полями, запутывался между деревьями в роще, оседал в котловинах. Бледное бессильное солнце неподвижно стояло в вылинявшем небе.
Ему мешала хромая нога. Она нестерпимо болела, как всегда к перемене погоды.
— Н-о-о!
Павел погонял. Лошадь шла с трудом, едва вытаскивая копыта, облепленные большими комьями земли. Нет, не годится эта земля под картошку. Здесь, поближе к пруду, она, как всегда, сопреет. Туда, повыше, может, и останется немного высоких зеленых стеблей с раскидистыми листьями и мелконькими, как орех, клубнями.
Кшисяк сердито сплюнул в сторону, на поросший конским щавелем откос, опускавшийся к сонной воде. От бараков к пруду шла Зоська, она несла в корзине картофельные очистки. Медленно сошла вниз к мосткам. Опустилась на колени и глядела в воду.
«Карпы у нее в голове», — подумал он со злостью. Хотел было прикрикнуть на нее и погрозить издали кнутом. Как вдруг его словно что-то пронзило.
Когда же это было, вот такой же блеклый, будто вылинявший день, здесь, у пруда?
И он явственно припомнил. Он пашет, как и сегодня. От бараков к пруду идет Магда. С трудом несет перед собой тяжелый живот. Которым же это она была тогда беременна? Зоськой? Павлом? Сколько лет прошло с тех пор?
Нет, не Зоськой. Это тем, первым, что сразу помер. Сколько же это лет назад? Не иначе, как тридцать с лишком.
Он задумался и шел за плугом, не глядя, ровные ли пласты откидывает лемех.
Точь-в-точь, как тогда. Ничто не изменилось. Раскисший участок под картошку. Резкий гнилостный запах от пруда. Барачные каморки, глядящие слепыми глазами маленьких, заткнутых тряпьем окон. Пруд, вечно выделяющий голубоватую мглу, ночной туман, вечернюю духоту, смешанный запах прелых листьев и водорослей.
Между этими двумя днями протекло тридцать лет, даже больше. И каждый год он пахал, все так же пахал. А вспомнился как раз тот день, во всех подробностях, будто записанный, будто увиденный на картинке в книжечке.
Умерла Магда. Родились и подросли Зоська и Павел. Сам он стал старым дедом.
Но разве что-нибудь изменилось по-настоящему, разве что-нибудь стало иначе?
Он приостановился, кончилась как раз борозда. Надо было заворачивать, а у Павла запутались вожжи, он вытащил из кармана ножик и ковырял им что-то в ремнях. Тогда, тридцать лет назад, лошадь погонял Сташек. Тот, что был убит потом в легионах.
Но, кроме того, — что изменилось?
По-прежнему стояла на своем месте усадьба. И бараки. И костел. Все по-прежнему. Тридцать лет спустя.
Правда, было еще одно — родина.
Кшисяк присел на плуг и засмотрелся на нее, на эту родину.
Она простиралась узкой полосой мокрого картофельного поля. Дышала сыростью пруда. Тянулась длинным хребтом барачных крыш.
Какова же она была, эта родина, о которой он ничего не знал тридцать лет назад, потом успел узнать, за которую пожертвовал своей ногой и столько раз был бит и тут, на месте, и в городе. Родина, за которую его запирали в тюрьму, за которую он едва не попал в петлю. За эту родину.
Была родина батрацким бесконечным рабочим днем. Покрикиванием управляющего. Сыростью, стекающей с барачных стен. Кривыми ногами, покрытыми нарывами шеями барачных детей. Картофельными очистками, которые варили в пищу людям. Нарами, шуршащими гнилой соломой.
Ничто не изменилось, ничто.
Впиталась в землю кровь, и не осталось от нее следов.
И вдруг Кшисяку вспомнился тот неведомой фамилии паренек, зарубленный под грушей казаками.
Вспомнились товарищи, Бронек и другие, застреленные, повисшие в петле, замученные по тюрьмам в те прежние, давние дни борьбы за мужицкую родину.
Никто о них не помнил, не знал. Их кости сгнили в земле. А те, что остались в живых, продолжали ходить по усадьбам в поисках работы.
«За то тебя убили, молоденький ты мой, за то изрубили тебя в куски, чтобы по стенам бараков все так же расползалась зеленая плесень? Чтобы все так же бил по морде управляющий, чтобы вымирали дети перед каждым новым урожаем в каждую морозную зиму, в каждую дождливую осень?» Глупо думалось, потому что ведь тот не мог его услышать. Сколько уж лет, как он лежит в земле.
— Надо пахать, тато. А то не кончим к полдню.
Он поднялся с плуга и пошел, крепко ухватившись за чапыги. Мысли ложились вдоль откидываемых пластов, мысли злые, жгучие, будто он сам себе в лицо плевал.
Два дня слились в один, хотя их отделяло друг от друга тридцать лет. Они были одинаковы. Ничего не изменила ни пролитая кровь, ни задорная военная песенка тех, кто верил, что отдает жизнь за батрацкую долю, что идет на борьбу за мужицкое счастье, что своей безвременной смертью платит за новую, как тогда говорили, справедливую жизнь.
Плуг мягко резал сырую землю. Пласты лоснились, как отшлифованные. Павел со злости посвистывал сквозь зубы: отец вел плуг как попало, уйдя в какие-то свои думы.
Все осталось, как было. Крепко стояла усадьба. Барышня жаловалась на плохие дела, но ведь так жаловалась и старая барыня. И обе умели все возместить за счет батраков.
Все так же шли дни в усадьбе. Так же стояли над прудом батрацкие дети, с восхищением глядя на жирных карпов. Так же стремглав пробегали они мимо господского дома, пытаясь разглядеть что-нибудь внутри. Так же разевали рты от изумления, увидев мельком в господском саду крупные красные яблоки или укутанные ватой золотые груши, большие, как дыни.
Все так же стоял костел, только почернела жесть на крыше, когда-то новая и сверкающая. Все так же — помещичьим, господским, ксендзовским было все кругом. Не мужицким. Помещичья, господская, ксендзовская была эта родина. Не мужицкая, как обещали. Как писали в манифесте, как печатали в газетах, как запечатлелось в сердце.
Стоила мужицкая кровь той навозной жижи, которой поливали огород весной. Росло на ней, зеленело, румянилось разное. Поднималось, брало из нее корм и соки. Но навоз всегда оставался навозом, навоза и стоил.
Кшисяку вспомнились разговоры о том, как все будет.
Говорить можно все. Язык без костей.
Но вот теперь можно увидеть своими глазами.
И Кшисяк смотрел. Зорко смотрел. И видел — ничто не изменилось. Все та же была мужицкая доля.
На дороге из господского дома что-то зачернелось. Шли барышня и ксендз.
Как она тогда ехала верхом, вся сверкающая, золотистая и черная! Теперь седина осыпала ее голову, а тонкие черты заострились в сердитый птичий клюв. И одета она была во все черное, как когда-то мать.
И все же до сих пор никто не называл ее помещицей, а все говорили — барышня. Так уж это за ней осталось и останется до конца ее дней, пока и она в свою очередь не отправится под серый камень родового склепа, под изваянных из камня ангелов.
Ксендз семенил возле нее, кругленький, с красным лицом. Он что-то говорил ей, широко разводя руками. Ему трудно было поспевать, потому что барышня по своему обыкновению шла быстро. Ксендз отирал большим платком пот с лица и мелкими шажками торопливо догонял ее.
Они спускались к пруду. И вдруг как-то оба сразу, барышня и ксендз, взглянули на пашущих. Они были совсем близко. Так что Кшисяк словно глянул барышне прямо в лицо.
Привычным, с детства заученным движением рука мужика дернулась к шапке. Хоть барышня, может, даже и не видела его — она ведь издавна привыкла смотреть сквозь людей, как сквозь воздух.
Но в этот момент Павел хлестнул лошадь, и она резко рванула вперед. Лемех выскочил из земли. Кшисяк так поспешно ухватился за чапыги, что шапка свалилась у него с головы. Он крепко вонзил лезвие в черную грязь. Павел еще раз ударил лошадь.
Они пахали ожесточенно, торопливо.
А те двое спустились к пруду. Теперь они стояли у мостков и о чем-то разговаривали, глядя в воду.
— Знаешь, Павел, лет тридцать с лишком назад я как-то пахал здесь, а барышня, молоденькая такая, проехала верхом!
— Ну и что с того? — неприязненно, со злобой в голосе буркнул паренек.
Кшисяк не ответил. Он крепче налег на чапыги, земля здесь была жестче.
Но он уже знал, что′ изменилось, когда взглянул в горящие гневом, полные ненависти глаза подрастающего сына.
Редактор Е. ЦинговатоваХудожник А. ЩербаковХудожественный редактор Г. КудрявцевТехничкский редактор М. ПоздняковаКорректоры Т. Рощина и Е. ЛаптеваСдано в набор 3/XII 1953 г.Подписано к печати 28/II 1954 г. А01025.Бумага 84х108 1/32 — 32,5 печ. л.= 26,65 усл. печ. л.25,56 уч. — изд + 1 вкл. = 26,65 л. Тираж 75000 экз.Заказ № 1008. Цена 9 р. 50 к.Гослитиздат,Москва, Ново-Басманная, 19.4-я типография им. Евг. СоколовойСоюзполиграфпрома ГлавиздатаМинистерства культуры СССР.Ленинград, Измайловский пр., 29