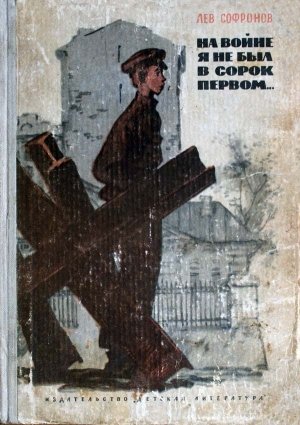
Лилии Софроновoй, жене и другу, посвящаю
Глава первая
ЕМУ НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ...
Мы любим придумывать казнь Адольфу Гитлеру. Если он попадет в наши руки, ему не поздоровится. Для начала мы окунем его в котел со смолой. Потом не пожалеем казенных подушек и распотрошим их над головой фюрера. Он, конечно, будет визжать как бешеный и попробует кусаться. Но мы его быстро успокоим. Мы подпустим к нему немецкую овчарку. Она с ним церемониться не станет — мигом загонит фюрера в железную клетку. Овчарке ведь обидно теперь называться немецкой. Есть и у нее зуб на фюрера.
Потом клетка с Гитлером начнет путешествовать по улицам Москвы. Каждый прохожий сможет плюнуть фюреру в глаза. Мальчишкам будет разрешено стрелять в него из рогаток. Адольф забьется в угол клетки, злобно ощерясь и проклиная тот день и час, когда мать родила его на свет божий.
Оплеванный Гитлер будет помещен в зоопарке в одной клетке с гиенами. Славный им выпадет ужин, что и говорить!
— Ты, Лешка, слишком добрый судья, — раздосадованно говорит Андрейка Калугин, — я бы с ефрейтором Шикльгрубером расправился иначе...
Андрейка не выносит даже само слово «Гитлер». Он всегда называет его ефрейтором Шикльгрубером. Такова настоящая фамилия бывшего ефрейтора Адольфа Гитлера.
У Андрейки, как и у каждого из нас, свои счеты с Гитлером. Фашистские бомбардировщики разбомбили детский дом, где жил Андрейка. Он помогал выносить из-под обломков убитых ребят. А ведь в детском доме все ребята — братья и сестры.
Андрейка стал сиротой в тридцать седьмом году. Как и я. Только наши отцы по-разному погибли. Калугин-старший был военным летчиком. Истребителем. Однажды он попрощался с сыном и сказал:
— Ну, сынуха Андрюха, предстоят маневры. Длительные. Так что не волнуйся, если меня долго не будет.
Андрейка удивился, что на маневры отец уезжает в шляпе и светлом пальто. Ему больше шла военная форма. На одном из снимков, сохранившихся у Андрейки, Калугин-старший стоит, обнявшись с Валерием Чкаловым, и оба улыбаются, как мальчишки. Как ни странно, они познакомились и подружились на гауптвахте. Оба были до отчаянности смелыми летчиками и порой нарушали инструкции.
— Зачем же этот маскарад? — прямо спросил Андрейка, кивнув на шляпу, которую Калугин-старший вертел в руках, словно собирался жонглировать ею.
Отец схватил его двумя пальцами за нос и потянул книзу.
— Любопытной Варваре нос оторвали. Пора бы знать, сынуха Андрюха, что существует такая вещь, как военная тайна. И разглашать ее не дозволено никому.
— Так бы сразу и сказал. — Андрейка насупился, отвернулся в сторону, и в носу у него защекотало.
Это было время, когда слово «Мадрид» не сходило со страниц газет. Мы все тогда с гордостью носили испанки, собирали деньги в фонд помощи детям Испании и приветствовали друг друга звучными словами: «Но пасаран!» В переводе на русский это означало: «Они не пройдут!» Они — это фашисты. Будь Испания поближе, не существуй между нами и ею стольких вражеских границ — немало бы русоволосых сорванцов правдами и неправдами добрались до нее, чтобы драться против Гитлера и Франко рядом с черноволосыми испанскими парнишками.
Даже взрослым нелегко было преодолеть бесконечные барьеры на пути в Испанию. И все-таки в Интернациональной бригаде воевали против фашистов тысячи добровольцев из самых разных стран мира.
— Письма-то хоть будешь писать? — спросил Андрейка у отца.
— Обязательно, — сказал Калугин-старший.
Советские самолеты-истребители испанцы ласково называли «курносыми». С нетерпением читал Андрейка в газетах о воздушных боях под Мадридом. И если сообщалось, что в неравном бою погиб самолет республиканцев, Андрейка стискивал зубы и сжимал кулаки. А вдруг...
И хотя в то время Андрейка не имел представления, где проходят таинственные «маневры» отца, но, зная его характер, кое о чем догадывался. К тому же обещанные письма почему-то не приходили, хотя почта в Советском Союзе работала бесперебойно. Значит, задерживались они не по вине почтовых работников. Вот почему так волновался Андрейка, узнавая о новых и новых схватках над далеким Мадридом. Будь рядом мама, было бы легче. Но еще три года назад Андрейкина мать погибла во время автомобильной катастрофы. Тогда впервые заметил Андрейка седые виски отца, тогда и сам он стал не по-детски молчаливым...
Нет, он не получил извещения о гибели отца. Просто в один ненастный день пришел к Андрейке незнакомый летчик с четырьмя шпалами в петлицах и сказал:
— Будь, Андрюха, моим сыном. Отец просил... в случае чего... передать тебе его планшет... Держи...
И на целлофане отцовского планшета увидел Андрейка слова, написанные по-испански: «Но пасаран!»
Приемный Андрейкин отец погиб во время финской... Друзья его позаботились о судьбе Андрейки. Он попал в детский дом, где воспитывались испанские дети. Они сразу стали друзьями. Андрейка учил их русскому, а сам запоминал звучные и красивые испанские слова. Увезенные из-под бомбежек, могли ли маленькие испанцы думать, что скоро засвистят бомбы и над Советской страной? Не думал об этом и Андрейка.
Когда с грозным рокотом пролетали в вышине самолеты, самые маленькие из ребят с опаской смотрели на небо и старались быть поближе к Андрейке.
— Наши, наши, — успокаивал малышей Андрейка. А самолеты с крестами вынырнули из-за туч внезапно, по-воровски неожиданно. И ни одного советского истребителя не оказалось в этот миг поблизости. Может быть, фашисты приняли детский дом, стоявший у берега реки, за оборонный объект? Нет, конечно. Они хотели разбомбить мост через реку. Но они очень торопились. Они сбросили бомбы как попало. Они старались скорее избавиться от груза и возвратиться восвояси, пока их не обнаружили советские истребители. Мост через реку остался цел. Бомбы упали чуть подальше... Сейчас Андрейка смотрит на меня и говорит:
—Я бы его, гада, не казнил так легко, как ты... Он бы у меня жил и мучился каждую минуту, каждую секунду... Я бы ему адскую жизнь придумал... Смерть — это слишком легкое наказание для него.
Пожалуй, Андрейка прав. Никогда не забуду, как в беспамятстве грохнулась на пол бабушка, получив похоронную на дядю Борю. Он был старше меня всего на пять лет. Мне — четырнадцать, ему девятнадцать. Он требовал, чтобы я называл его на «вы» и дядей Борей. Я смеялся:
— Ты, Борис, лишен чувства юмора...
Он запустил в меня ботинком. Хорошо, что я быстро пригнулся. Ботинок попал в оконное стекло. Оно — вдребезги. Скандал был невероятный. Все-таки бабушка не разрешила ему отшлепать меня. Я ворчал из угла:
Я тебе не крепостной. Ты оставь свои замашки, феодал несчастный. Отрастил усы и думаешь, что стал взрослым?
Усы у Бориса были жиденькие. Отпустил он их, чтобы скрыть некрасивую родинку на верхней губе. Ему казалось, что из-за этой родинки в него не влюбляются девчата.
В то, что он действительно, взрослый, я поверил лишь в день проводов Бориса в армию. Войны еще не было. Призывники шутили, отрывисто переговаривались:
— Жаль, что белофиннов без нас разбили...
— Есть враги и в Германии...
— А пакт о ненападении? Гитлер не дурак.
Гитлер все-таки оказался дураком. Он наплевал на пакт.
Когда объявили о войне, мы, ремесленники, были на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Мы шествовали из павильона в павильон, дивясь немыслимому изобилию. Горы фруктов, овощей. Огромные краснощекие яблоки прямо перед носом. Трудно руки удержать — так они и тянутся к этим яблокам.
— Возьмите по одному, — сказал нам пожилой работник павильона с очень печальными глазами.
Мы не знали, как объяснить его щедрость и самозабвенно грызли необыкновенные яблоки. А он уже слышал сообщение о войне. Таким и запомнился мне этот день — сказочное изобилие выставки и по-настоящему печальные глаза пожилого человека.
Борис писал нам из армии почти каждый день. Бабушка складывала его красноармейские письма-треугольнички в большую деревянную шкатулку. Я ждал с нетерпением, когда он сообщит о первой награде. Он ведь был хорошим спортсменом. В июле сорок первого письма от Бориса приходить перестали. В августе пришла похоронная. Я сидел у кровати больной бабушки и думал, зачем я ругался с Борисом. Я бы называл его дядей Борей и говорил ему «вы». Я бы даже разрешил ему выпороть меня. Пожалуйста. Только бы не было этой бумажки, придавившей в шкатулке письма-треугольнички. И, конечно, нашлась бы в Москве девушка, которая полюбила бы дядю Борю. Но теперь уже не полюбит... И бабушка уже не встанет с постели... И никогда-никогда ласково не назовет меня Борис Лешкой-вральманом за необычайные истории, которые я придумывал на ходу. Очень любил он слушать эти истории и казался в такие минуты не дядей, а старшим братом, о каком мечтал я всю жизнь и какого у меня не было.
Теперь я мысленно рассказываю эти необыкновенные истории сам себе. Рассказываю, когда иду по улице. Рассказываю, когда стою за станком, как сейчас.
Блестящий патрон станка вращается перед глазами. И вот уже это не патрон. Это пропеллер самолета.
... В кабине самолета — знаменитый летчик Алексей Сазонов. Он, то есть я, только что получил задание — вылететь на бомбежку Берлина. Я поправляю шлемофон. Рядом сидят надежные друзья, испытанные в боях.
— Контакт!
— Есть контакт!
Мы летим над Берлином. Внизу — ни огонька. Штурман раскрывает на коленях планшет.
— Алексей Семеныч, пора!
Мы сбрасываем бомбы точно на военные объекты. Внизу начинают пылать костры пожарищ. По возвращении на аэродром командующий пожимает мне руку:
— С новым орденом, товарищ Сазонов.
— Служу трудовому народу!
С небес на землю меня возвращает канючащий голос Юрки Хлопотнова:
— Сазон, а Сазон… Дай мне твой победитовый резец, а? У меня опять сломался.
На него не напасешься резцов. Он их гробит, как первоклассник карандаши. Но разве на Юрку сердишься? Он в тринадцать лет уже понюхал пороха — был разведчиком в партизанском отряде. В тыл его привезли на самолете. На Юркиной гимнастерке серебряная медаль «За боевые заслуги». За такую медаль каждый из нас отдал бы полжизни.
— Возьми в тумбочке, — благосклонно говорю я Юрке и, глядя на его медаль, вздыхаю. Да, это не то, что мой значок «Отличник трудовых резервов». Впрочем, если этот значок прикрепить на кумачовый шелковый кружок, то в полутьме он вполне сойдет за орден Красного Знамени. Надо будет попробовать.
Юрка смотрит на меня, как на мага и волшебника. Шевеля губами, он подсчитывает мои снарядные донышки. Я, наверное, кажусь ему всемогущим чародеем, которому стоит лишь пошевелить пальцем — и готово новое донышко для снаряда.
— Дай одно донышко, а? — просит Юрка.
Пока что мастер разрешает ему протачивать только никому не нужные железки.
— Донышко — это не игрушка, — рассудительно говорю я Юрке, — испортишь донышко, — значит, по фашистам на один снаряд меньше будет выпущено. А может, этот снаряд попадет в самого Гитлера. Чуешь?
— Я же нe маленький, — обижается Юрка, — сам стрелял по фашистам.
— Подстрелил хоть одного?
— А кто его знает! Бой — это такая суматоха... Там не до подсчетов. Вот попадешь на фронт — сам узнаешь.
Юрка почему-то думает, что война будет продолжаться долго. Считает, что кое-кому из нас удастся повоевать. Чудак! Каждому ясно, что не сегодня-завтра немцы полетят из нашей страны вверх тормашками. Не останется на нашу долю подвигов, как ни прикидывай. Ему легко говорить — награда на груди. А наших медалей небось еще и чеканить не начинали.
— Так я возьму донышко, а? Одну лишь только стружечку сниму. Вот увидишь. А доделывать ты сам будешь. А?
— Только чтоб мастер не видел...
Круглая Юркина физиономия, похожая на подсолнух, расплывается в улыбке. Ну и веснушек на ней! Кажется, что какой-то маляр небрежно стряхнул свою кисть прямо на Юркино лицо.
Помню, с каким трепетом я сам протачивал первое донышко для снаряда. Я гладил его шероховатые бока пальцами и ясно представлял, как где-то на фронте возьмутся за это донышко крепкие мужские пальцы подносчика снарядов. Как ляжет снаряд в ствол орудия и командир скомандует: «Огонь!» И со свистом понесется в фашистов снаряд Лешки Сазонова, мой снаряд! Значит, и я воюю с захватчиками, значит, и я недаром живу на земле в трудное для страны время!
Я проточил донышко до зеркальной чистоты. В нем отразился мой чумазый нос и блестящие от счастья глаза. Никакой даже самый строгий военпред не смог бы забраковать это славное донышко.
Мне понятна радость Юрки Хлопотнова. Если уж переправили в тыл, то дайте настоящую мужскую работу, чтобы чувствовать себя нужным человеком.
Конечно, токарями не рождаются. Немало железа перепортил и я, прежде чем сделал как следует свою первую деталь. Это была обыкновенная гайка. Сейчас она крепит винт в какой-нибудь машине. Знать это очень приятно. Невольно появляется уважение к самому себе: все-таки ты не бесполезный человек.
Юрка тащит проточенное донышко ко мне, пряча его под халатом. Снял одну стружку, как и обещал. Не испортил заготовку.
— Молодец, — со снисходительностью старшего говорю я и снова смотрю на его медаль, поблескивающую из-под распахнутого халата.
Перехватив мой взгляд, Юрка предлагает:
— Хочешь, дам ее тебе, чтобы ты сфотографировался? А? Я уже давал Гошке Сенькину. Он всей родне послал фотокарточки.
— Гошке Сенькину? Тоже мне герой — из тарелки ложкой. А ты, Юрка, не будь дураком. Ведь медаль твоя личная. Это же...
Не находя слов, я кручу пальцами в воздухе. Юрка понимающе кивает:
— Больше не буду. Очень уж все ребята пялят глаза. Спрятать ее в сундучок, что ли?
— Ни в коем случае! Носи! Пусть все знают, что мальчишки — это тоже бойцы. Не то, что девчонки.
— Да уж от них проку мало, — с мужской солидарностью говорит Юрка, — девчонку в разведку не пошлешь.
— А ты ходил?
— Два раза.
Видать, этот Юрка в сорочке родился.
— Расскажешь? — заискивающе спрашиваю я.
— А чего ж... Вот придем в общежитие, и я тебе все-все про свою жизнь расскажу. Ты, Лешка, добрый.
— Вот еще! Беги к станку, что-то мастер стал поглядывать в нашу сторону.
Юрка уносится вприпрыжку. Надо же — такой малец, а уже ходил в разведку! Я старше его на целых шесть месяцев, но в жизни мне явно не повезло.
Вот если б я родился года на четыре пораньше!
… Сейчас бы я бежал с винтовкой наперевес в штыковую атаку. Я кричал бы вместе со всеми «ура». Я колол бы этих гитлеровцев налево и направо, не обращая внимания на свист пуль и разрывы снарядов. Русской земли захотел? На! И поверженный фашист зарывается лицом в траву. Строчит пулемет. Злая пуля обжигает мне плечо. Но сейчас не до перевязок. Вперед, вперед, Алексей Сазонов! Убит командир взвода! «Беру командование на себя!» В левой руке моей развевается на ветру знамя полка. Я водружаю его на захваченной высоте. Немцы откатываются, бросая оружие и сверкая подковками сапог. И вдруг шальная пуля попадает мне прямо в лицо…
— Опять, Сазонов, очки не надел? — слышу скрипучий голос Бороды — нашего мастера. — Так и без глаза недолго остаться.
Горячая стружка отлетела из-под резца и на левом веке у меня появляется маленький волдырь.
— Сходи в медпункт, — советует мастер.
Зажимая глаз рукой, бегу в медпункт. Нет, в медсанбат!
... Пуля выбила мне глаз. Теперь я буду воевать с черной повязкой на лице. Нет, я не соглашаюсь демобилизоваться, хотя медицинская комиссия настаивает на этом. Бегу из госпиталя в родной полк. «Отныне ты будешь знаменосцем», — растроганно говорит командир и троекратно — по-русски — целует меня перед строем полка. Мне немножко стыдно за мои давно не бритые щеки, но единственный глаз мой сверкает мужеством и отвагой...
— Из-за такого пустяка прибежал? — ворчит медсестра. — Эх ты, вояка...
— Мастер велел, — неловко оправдываюсь я.
Она, позевывая, мажет чем-то веко. Лучше бы я не обращался к ней. Сразу испортила все настроение. Бреду опять в мастерскую.
... Величаво звучит мелодия похоронного марша. Кто это лежит в гробу, такой молодой и красивый? Это хоронят красноармейца Сазонова. Он пал смертью храбрых в жестоком бою с немецко-фашистскими захватчиками. Над гробом друга товарищи клянутся отомстить за него. Я слышу залпы, которые раздаются в мою честь. Гроб с моим телом бережно опускают в могилу.
Прощально звучат гудки заводов... Но откуда на фронте заводы? Что-то не то...
— Воздушная тревога! — кричит мастер. — Живо все в бомбоубежище. Марш, марш, не задерживайтесь!
Грохочут на ступеньках ботинки с подковками. Жизнь продолжается.
Суровая жизнь, наполненная тревожными сводками Совинформбюро, работой для фронта, дающей мальчишеским сердцам огромную радость. А сколько счастья видишь на лицах, когда по радио сообщают о подвигах красноармейцев на фронте!
Есть в этой жизни, кроме больших радостей и горестей — маленькие радости и горести. Маленькие горести — когда ломаются резцы и сверла, когда Борода скучным голосом отчитывает нас за это, несправедливо обвиняя в нерадивости и в сотне других незаслуженных грехов. Среди маленьких радостей не последнее место занимают чехарда и футбол. С каким гиканьем и свистом выбегаем мы из ворот цеха на волю!
— Стадо телят, — бормочет недовольный Борода.
Мигом намечаем ворота, создаем две команды. Я, конечно, буду нападающим. Хватит, два раза стоял в воротах и оба раза мне расквасили нос ни за что ни про что. Не нравится противникам, что я так цепко беру мячи, вот и попадают вместо мяча мне по физиономии.
— Сазонов будет центром, — говорит Андрейка Калугин. Толковый в нашей команде капитан, ничего не скажешь.
Понимает, что на моем лице уже вполне достаточно знаков спортивной доблести.
По свистку судьи я первый бью по мячу. Держись, вратарь противников!
Глава вторая
ТЫ БУДЕШЬ МОИМ БРАТОМ
Гол я все-таки забил, но после этого удара у меня оторвалась подметка. Ботинок стал зубастым, словно пасть овчарки. Я обмотал его проволокой. Сашка Воронок наблюдал за моей работой неодобрительно:
— Разве это ремонт? Пойдем в общежитие — у коменданта есть «лапа». В момент починю.
Сашка пыхтел над ботинком минут тридцать. Потом протянул его мне.
— Правда, как новенький? Палец из-за тебя, чертяки, разбил. Как я теперь играть буду? Мне пальцы — во как нужны.
Играл он так, что заслушаешься.
Сашкин аккордеон был самой ценной вещью в нашей комнате. Однажды его едва не утащили. Сашка догнал вора в коридоре. Хорошо, что в завязавшейся свалке аккордеон не пострадал. Сашка чуть не откусил жулику ухо. Силы у них были неравные. Сашка щупленький, а тот парень — верзила, каких поискать.
— Косой из пятнадцатого дома, — сообщил нам Сашка.
Этот Косой на прошлой неделе украл два микрометра из училища. Он продавал их на Тишинском рынке. Сашка своими глазами видел.
— Ты за них ответишь, — сказал ему Воронок.
— Не пойманный — не вор. Скажи спасибо, что музыку твою не увел, — засмеялся Косой и надвинул на глаза Воронку фуражку.
Теперь Сашка хранил аккордеон у коменданта.
Мы подружились с Воронком недавно. Он появился в нашей седьмой комнате неделю назад. Ввалился со своим огромным аккордеоном и, оглядев нас по очереди, ехидно сказал:
— Привет героям тыла!
— Ишь ты, фронтовик какой нашелся, — сказал Андрейка, — весь в пороховом дыму!
— Месяц не умывался, — многозначительно сказал Воронок.
Можно было подумать, что он был занят весь этот месяц чем-то необыкновенным.
Когда он заиграл на своем аккордеоне, мы простили ему его ехидство. Он играл «Священную войну» так, что у нас мурашки по спине бегали. К нам сбежались ребята со всего этажа. Получилось что-то вроде концерта. После этого вечера Сашка Воронков стал в училище знаменитостью. С ним многие хотели подружиться, но он если и осчастливливал кого, то только тем, что разрешал угощать себя папиросами.
А мне он однажды прямо сказал:
— Рожа у тебя, Лешка, довольно безобидная. Давай дружить.
— Давай, — охотно согласился я.
Хорошо, конечно, когда друг твой обладает пудовыми кулаками и может защитить тебя повсюду. О таком друге я давно мечтал. Но где его найдешь, такого друга? Вместе с Воронком мы все же вдвое сильнее. Одного обидят — заступится другой.
— Давай ты будешь моим названым братом, — сказал Сашка.
Он достал безопасную бритву и потянулся за моей рукой.
— Зачем это? — удивился я и спрятал руки за спину. Кто его знает, может, он сумасшедший, этот Воронок? Сашка чиркнул бритвой себя по левой руке. Выступила кровь.
— Обменяемся кровью, — важно сказал он.— Без этого я не смогу доверять тебе свои тайны.
Узнать его тайны было заманчиво. Я вздохнул и протянул руку. Нет, все-таки я не Муций Сцевола. Тот сжег на огне всю руку и даже не поморщился. Такого испытания огнем я бы не выдержал. Я от маленького пореза запрыгал по комнате и застонал.
— Однако ты слабак, — произнес Сашка.
Пожалуй, он расхотел становиться моим названым братом. Тогда я замолчал и протянул ему руку. Воронок взял на ранку моей крови, а мою руку помазал своей.
— Вот так, брат мой, — сказал он серьезно.
— Какие же тайны? — сразу спросил я.
— Не будь наивным ребенком. Ты еще должен пройти испытательный срок.
Он приложил палец к губам и прислушался. По коридору топали чьи-то ботинки. В комнату вошел Андрейка Калугин и подозрительно уставился на нас.
— Ты чего? — спросил я как ни в чем не бывало.
— Какие-то вы странные, — сказал Андрейка.
— Думаем, как отомстить Косому, — соврал Воронок.
— Трепачи. Он вас обоих скрутит, — сказал Андрейка и, сладко зевнув, начал раздеваться.
— Всю ночь вкалывал, — шепотом сказал я Сашке. — Прямо двужильный какой-то.
— На твоем станке патрон не в порядке. Бьет. Учти, — сказал мне Андрейка и завалился на боковую.
— Учту, — сказал я.
Это не станок, а горе горькое. Всегда в нем что-нибудь не в порядке. Другого такого «драндулета», наверное, во всей Москве не найти. В мирное время его вообще полагалось бы в металлолом отправить.
— Переходи-ка в слесарную группу, — посоветовал мне Сашка, — всегда вместе будем.
— У меня же спецзаказ, — обиделся я. — А у вас все новички. Еле-еле напильниками шаркают. А мы для фронта работаем.
— Тогда я в токари перейду, — решил Воронок, — я тоже хочу для фронта работать.
— Вряд ли переведут, — сказал Андрейка, — наша группа старая. Возиться с тобой некому.
— Меня переведут, — со значением сказал Воронок, — сегодня же пойду к замполиту Чернышу.
И что бы вы думали? На другой день Сашка появился в нашей группе. Девчонки сразу зашушукались: «Воронков. Воронков...»
Он уже успел очаровать их на субботнем концерте. Я заметил, что даже Рая Любимова выключила мотор и, сделав вид, что ей позарез необходимо заточить резец, прошла мимо Сашки царственной походкой, обдав его голубым пламенем своих необыкновенных глаз.
Сашка довольно хмыкнул и проводил Раю заинтересованным взглядом. Руки у меня сами сжались в кулаки. Не будь он мне названым братом, я на всю жизнь возненавидел бы Сашку с этой минуты. Не люблю пошляков. А в том, как смотрел он ей вслед, было что-то нехорошее.
... Борода сказал Сашке, повертев перед очками какую-то бумажку:
— Тут явная ошибка, друг мой... В мою группу сейчас нет приема.
— Нет правил без исключений, — нахально улыбнувшись, сказал Сашка.
— Подождите здесь, надо выяснить, — пробормотал Борода и засеменил к двери.
Сашка подмигнул мне и подошел к станку Раи Любимовой.
— Вам бы в кинофильмах сниматься, — произнес он избитую фразу, которую Рая слышала до него десятки раз.
Вот сейчас она срежет его, как срезала многих из нас. Помню, как-то я сказал Рае комплимент. Сравнил ее волосы с расплавленным золотом. Она рассмеялась и сказала Таньке Воробьевой:
— А ведь этот Сазонов на рыбу похож. Чешуйчатое лицо у него какое-то, а?
Я покраснел тогда, как вареный рак, и слышал, как Танька укоризненно выговаривала Рае:
— Зачем ты с ним так? Он парень хороший, стихи пишет.
— Тоже мне поэт! Он и за станком-то без подставки не может работать.
В общежитии я долго рассматривал свое лицо в круглом карманном зеркальце. Ну, курносый. Ну, глаза не так, чтобы очень. Но где же тут чешуя? Просто немножко чумазый. Так ведь с каждым бывает. На то мы и рабочий народ. Обидела меня Рая, очень обидела. Впрочем, я в тот же вечер перестал на нее сердиться.
Знаю, что злорадствовать плохо, тем более, когда дело касается названого брата, но сейчас я в душе злорадствовал. Держись, Воронок!
— Жаль, что вы не режиссер, — протяжно сказала Рая Сашке.
— У меня там много знакомых, — небрежно бросил Воронок, — при случае могу замолвить словечко.
«Там...» Смех, да и только.
— Правда? — оживленно спросила Рая. — Тут кругом такая серятина, такая серятина.
— Да? — спросил Сашка и снова незаметно подмигнул мне. — Пожалуй, и в самом деле эта атмосфера не для вас. Мы — люди искусства, не так ли? Впрочем, еще поговорим.
Он кивнул ей и пошел навстречу Бороде. Мастер наш походил в эту минуту на взъерошенного козла. Видно, ему пришлось выдержать нелегкий разговор с директором. Он швырнул бумажку на свой стол и сказал Сашке:
— Прикрепляю вас к Андрею Калугину. Но не представляю, как вы сумеете догнать моих ребят. Они уже настоящие токари. Вам до них далеко.
— А к Сазонову нельзя меня прикрепить? — спросил Воронок.
Мастер затряс бородой. Казалось, еще мгновение — и он заблеет, как настоящий козел.
— Вас понял, — торопливо сказал Сашка.
Это было его любимое присловье. Он запомнил эти слова, посмотрев какой-то фильм о летчиках.
... Мы с Сашкой любим говорить по душам. Ведь мы названые братья. Мне, например, не нравится напускное Сашкино нахальство, его бесцеремонность в обращении с Раей Любимовой. Я откровенно сказал ему об этом.
— Много ты понимаешь, — обрывает меня Воронок, — просто я люблю разыгрывать людей. Особенно взрослых. Они, взрослые, воображают, что им одним все на свете известно и понятно. Чепуха! По-моему, человек в четырнадцать лет уже вполне созревает, как самостоятельная личность. И разбирается в жизни ничуть не хуже иных взрослых.
С этим спорить, конечно, не приходится. Я, например, под всеми сегодняшними мыслями готов подписаться хоть через сто лет. И мое отношение к Рае Любимовой не изменится никогда в жизни.
— А все же тебе не мешало бы держать себя поскромнее. Хотя бы с Раей Любимовой. Скромность украшает человека, — по-братски говорю я Воронку.
— Ну и украшайся на здоровье, — говорит Сашка. Сегодня он почему-то не в настроении. Разговор по душам не получается. Может, Сашка раздосадован, что его прикрепили к Андрейке, а не ко мне? Но ведь Бороде виднее. И зачем Сашка держался с ним так надменно?
Воронок не знает, что наш Борода еще двадцать второго июня просился в военкомате на фронт. Его забраковали по всем статьям: и по зрению, и по сердцу, и по возрасту. Он скрывал это от нас и любил говорить: «Когда я буду на фронте…»
— Когда я буду на фронте, пусть каждый из вас пошлет мне хотя бы одно письмо. Солдаты любят получать письма. А мне, кроме вас, никто ведь не напишет...
Сын его погиб на финской. Сам Борода — инвалид еще с гражданской войны. Воспитатель, по нашему мнению, он был неважный, но, когда вставал к станку, преображался. Детали из-под его рук выходили — засмотришься. Блестящие, тепленькие, словно живые. Он был токарем-универсалом. Он бы и нас сделал универсалами, но что поделаешь — началась война. Общее понятие о своей специальности мы имели. Могли выполнять одну-две операции. А большего с нас в то время и не спрашивали. Я торцую донышко снаряда, Рая протачивает его начерно, Андрейка делает чистовую обработку. Другие нарезают резьбу. Нельзя сказать, что дела у нас идут, как в слаженном оркестре. Иной раз подбегает ко мне Рая и кричит:
— Разве так торцуют? Тебе бы, Сазонов, землю пахать.
— Резцы плохие, — виновато говорю я, — крошатся, как мел.
А порой Андрейка возвращает Рае заготовки. Тогда она, в свою очередь, ссылается на резцы, на наждак, на все, что придет в голову. Андрейка терпеливо выслушивает ее и хмуро говорит:
— Ты же запорола деталь. Какой смысл обрабатывать ее дальше? Военпред все равно не пропустит брака.
Тогда Рая начинает плакать. Она боится Бороды.
Андрейка машет рукой и уносит злополучную деталь. Он берет Райкин брак на свою совесть. Он снимет тонюсенькую стружку и скажет Бороде, что сам запорол заготовку. И мастер долго будет удивляться этому, потому что Андрейку он считает прирожденным токарем. А остальные, считает он, попали в его группу по недоразумению. Вроде этого музыканта, который своим нахальным поведением чуть не довел его сегодня до белого каления.
А музыкант стоит рядом с Андрейкой, ожидая, что тот начнет учить его уму-разуму. Но Андрейка не из породы говорунов. Он знай себе работает как ни в чем не бывало.
— Так и будем? — осторожно спрашивает Сашка. — Или меня поставили к тебе в качестве тени?
— Смотри, — скупо говорит Андрейка, — теорию по учебнику вызубришь.
И Сашка смотрит. Сашка видит, как ржавая неказистая заготовка прямо на глазах превращается в сверкающее снарядное донышко. И Сашке кажется, что никогда в жизни не стать ему таким умельцем. Воронку становится грустно. Андрейка замечает это.
— Ты любишь ходить в гости? — вдруг спрашивает его Андрейка. — Есть у тебя к кому ходить?
Сашка смотрит на него с интересом:
— У тебя все дома? Или ты малость свихнулся от непосильного труда? Зачем эти дурацкие вопросы?
Андрейка молчит. Воронок подает ему новую заготовку и вздыхает. Да, тут не почешешь языком. Сашка тоскливо смотрит в мою сторону. Станок мой — неподалеку. При желании можно переговариваться, но как на это посмотрит Калугин? Андрейка ободряюще хлопает Воронка по плечу:
— В общем, голуба моя, в выходной пойдешь со мной в гости. Подкрепишь силенки.
Глава третья
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА
У Андрейки есть тетка. Она работает хлеборезкой в столовой. По воскресеньям тетка приглашает племянника обедать. Для компании Андрейка прихватывает меня. У Воронка сегодня назначено свидание у «Колизея» с одной очень симпатичной девушкой, и ради встречи с ней он готов пожертвовать даже обедом.
— А пирожные ты любишь? — коварно спрашиваю я.
— Шутишь, — говорит Сашка, — какие сейчас пирожные?
— Песочные тебя устроят?
Сашка глотает слюнки. Он не может понять, разыгрывают его или говорят всерьез. В конце концов он решает на свидание не идти.
— К тетке так к тетке. Музыку брать?
И вот мы шагаем по переулку, неся по очереди аккордеон.
Тетка встречает нас без особого энтузиазма. У нее в комнате сидит какой-то лысый субъект с отвислыми, как у моржа, усами. Он отправляет под свои усищи кусок пирожного и с любопытством смотрит на нас.
— Зря топали, — шепчет мне Воронок, — смотри, какая у него пасть.
— Трудовой резерв? — рыгнув, благодушно спрашивает усатый.
— Племяш мой, — объясняет тетка, — а это, значит, его дружки. Сиротки.
— И я был сироткой, — внезапно объявляет усатый.
— Что-то не похоже, — говорит Сашка.
— Был! — стучит кулаком по столу теткин гость. На столе подпрыгивает бутылка водки.
— В другой бы раз, Андрюшенька, — испуганно говорит тетка.
Она сует ему в карман какие-то сверточки. Но усатый не хочет расставаться с нами. Он разливает водку по стаканчикам и жестом приглашает нас к столу.
— Выпьем за победу! — провозглашает он.
— Это можно, — степенно произносит Сашка и мигом опрокидывает стопку в рот.
— Вот это по-нашему! — смеется усатый.
Он пододвигает Сашке селедку, тарелочку с хлебом. Воронок уплетает за обе щеки, а мы с Андрейкой все еще топчемся у порога.
— Да уж садитесь, коль приглашают, — недовольно бормочет тетка.
От водки мы отказываемся наотрез. Есть же люди, которые пьют такую гадость! Даже Сашка. Вон как у него заблестели глаза! Сейчас он что-нибудь отмочит.
— Рванем, дядя, «Шумел камыш»? — предлагает Воронок.
— Валяй! — милостиво говорит усатый.
Он поет хриплым, прокуренным голосом. Под конец он даже пускает слезу и снова уверяет нас:
— Был я сироткой! Пейте, братцы.
Сашка играет «Позабыт, позаброшен» и делает такое «позабыт-позаброшенное» лицо, что теперь не выдержизает тетка и тоже вытирает глаза платочком. Потом она достает из шкафа вазочку с пирожными. Аккордеон мгновенно умолкает.
Теткин гость трогает клавиши и с уважением говорит:
— Стоящая вещь. Тыщ на десять потянет.
— А вы, извините, кто будете? — с набитым ртом спрашивает Сашка усатого.
— Я — вольный сын эфира, — напыщенно произносит тот.
— На Тишинском работаете? — понимающе говорит Сашка.
— Вот пострел! — восхищается усатый.— Как в воду глядит.
— Уж больно бойкий ваш товарищ, — с опаской говорит тетка, — как бы не обидел он Луку Демьяныча.
— Не обидит, — отвечает Андрейка и подкладывает мне еще одно пирожное.
— Саньку Косого знаете? — любопытствует Воронок.
— Шаромыжник! — отвечает Лука Демьяныч. — На днях обманул меня на пятьсот колов. Больше я с ним делов не имею. Хошь, тебя возьму в напарники?
Он склонился к Сашке и что-то шепчет ему, касаясь Сашкиного лица своими усищами.
Воронок смеется и хлопает Луку Демьяныча по плечу:
— Натворим мы с тобой делов, дядя! А ну, выпьем еще по маленькой!
— Хватит! — сердито говорит Андрейка. Он нахлобучивает фуражку и укладывает аккордеон в футляр.
— Пущай у тетушки на сохранении останется, — кивая на футляр, произносит Лука Демьяныч, — вещь дорогая, в общежитии держать не годится.
— Нет уж, — насупливает брови Андрейка, — нечего нам теткину комнату захламлять. Здесь и так негде повернуться.
— Это ты зря. Жилплощадь хорошая, — дергая себя за ус, говорит Лука Демьяныч и поводит по углам захмелевшими глазами.
А в углах - сундуки. На большом - средний, на среднем - поменьше. А сверху совсем маленький сундучок.
— Богатая невеста твоя тетка, - определяет Лука Демьяныч, — да и человек душевный...
Тетка лезет в шкафчик за второй бутылкой, а мы выкатываемся на лестницу. Воронок хохочет:
— Ну, братцы, у меня теперь блат на Тишинском рынке. С главным спекулянтом запросто разговариваю.
— Нашел чем хвастаться, — укоряет Андрейка, — водку зачем-то стал пить.
— Так за победу же, — оправдывается Сашка, — самый патриотический тост.
— Нашел патриота! — ворчит Андрейка.
— Он же твоим родственником скоро станет. Счастье само тебе в руки валит, — неожиданно зло говорит Сашка и дергает меня за рукав: — Слушай, Лешка, давай дойдем до «Колизея». Девушка ждет, неудобно все же. А ты, Андрюша, занеси музыку к коменданту, а? — просительно говорит Воронок.
— Ладно уж. — Андрейка взваливает аккордеон на плечи и сворачивает в сторону.
— Что за девушка? — небрежно спрашиваю я.
— Ты ее вроде знаешь, — улыбается Сашка.
Он покачивается от выпитой водки, мурлычет какую-то песенку и у каждого прохожего спрашивает, как пройти на Чистые Пруды.
Интересно наблюдать за пьяным. Был человек как человек, но вот влил в себя ядовитую жидкость и сразу изменился. Глаза стали мутные, походка валкая. Вот он уже и целоваться лезет прямо на улице и всем сообщает, что я его названый брат, что за Лешку Сазонова он любому голову оторвет. Но почему-то приятно слышать эти хвастливые слова. И смущают меня только сердитые взгляды женщин с авоськами. Интересно, за кого они принимают нас с Сашкой?
А у «Колизея» стояла... Рая Любимова. Она то и дело поглядывала на свои часики, а когда увидела Сашку — сразу надула губы. Меня она даже и не заметила.
— Сорок минут жду, — сказала Рая капризно.
— Ответственный концерт, — сказал Сашка, — для членов правительства.
Врал он здорово. Самое удивительное, что все ему верили.
— Мой брат, — представил Сашка меня.
— Брат? — Глава у Раи стали круглыми.
Названый, — уточнил Воронок, — но я любому оторву…
Я наступил Сашке на ботинок.
— Вас понял, — сказал Сашка. — Итак, что мы пред... предпримем?
Рая, конечно, не могла не чувствовать, что от Сашки разит, как из винной бочки. И все-таки она не уходила. Чем он околдовал ее? Я находился в дурацком положении «третьего лишнего» и сказал независимо:
— А у меня билет в «Аврору».
— Вот как? — удивился Сашка.
Он полез в карман и достал пирожное, завернутое в бумажную салфетку.
— Это, Раечка, вам. Песочное уважаете?
— Откуда такая прелесть?
— Из Кремля, — доверительно сказал Сашка, — был небольшой банкетик.
Такой неслыханной лжи я не мог перенести.
— Врет он, — сказал я сурово, — мы у тетки Андрейки Калугина были. Там он и слямзил это пирожное.
— Врет, да интересно! — обрезала меня Рая. — А ты вот и соврать как следует не умеешь.
— Не умею, — горестно признался я.
Вот и пойми этих девчонок. Когда с ними по-хорошему — они тебя с грязью смешивают. А наврешь с три короба — слушают, разинув рот. Удивительные существа!
— Что значит слямзил? — запоздало обиделся Сашка. — Не слямзил, а экспо... экспро-при-и-ро-вал.
Язык у него сегодня не справлялся с мудреными словами.
— Так я пойду в «Аврору», — мрачно сказал я.
— Э, нет. — Сашка погрозил пальцем. — Мы с Раечкой тебя не отпустим. Правда, Раечка?
Рая посмотрела на меня уничтожающим взглядом. Ведь я был свидетелем того, что она сорок минут ждала Воронка у кинотеатра. Сорок минут!
— Конечно! — ледяным тоном произнесла она. — Может, он даже и стишок для нас составит.
— Составит? — поразился Сашка. — Стишки, Раечка, не составляются, а со-чи-ня-ют-ся. Причем по вдохновению. Правильно, брат мой?
— Правильно. Ну, я пошел...
Я ни разу не оглянулся. Потом услышал за спиной топот, и на мое плечо легла Сашки на рука.
— А ты — гордый малый, — переведя дыхание, с уважением сказал он.
«Гордый малый» молчал, закусив губу, чтоб не разреветься. Теперь Сашка уже не покачивался. Глаза у него стали грустные.
— Любишь ты ее, что ли? А я вот такими пустяками не могу сейчас заниматься. Время, брат мой, не то.
— Зачем же свидание назначаешь?
— А так просто — из озорства. Хочешь — с завтрашнего дня и разговаривать с ней не буду?
— Слабо!
— На слабо дураков ловят. Нужна мне твоя Раечка, как черепахе зонтик. Или как слону тросточка. Фу-ты, ну-ты — ножки гнуты... Воображала.
— Поосторожнее на поворотах, — угрожающе сказал я.
— У меня третий разряд по боксу, — предупредил Сашка.
— Когда же это ты успел?
— А еще в школе. В далеком довоенном детстве.
— Что же ты Косого не нокаутировал, когда он твою музыку поволок?
— Вес-то у меня наилегчайший. Понимать надо. Тебя вот я могу нокаутировать.
И опять не понять было, врет он или говорит правду.
— У нас в училище тоже есть секция бокса. Чемпион страны ведет ее. Он где-то под Москвой служит. Старшина по званию. Приезжает к нам на мотоцикле.
— Запишусь, — зевнув, сказал Сашка, — пора мне второй разряд получать.
— А боксеры не пьют и не курят. Это у них первая заповедь.
— Не буду. — Сашка поглядел на меня лукавыми глазами и рассмеялся. — Не веришь ты мне, чертяка? Вот пройдешь испытательный срок — всему будешь верить.
Что, что, а тумана умел он напустить. В самом деле, почему с ним так считаются в училище? Вот и в токарную группу перевели, и на концерты во время работы отпускают. И даже девчонки в него влюбляются с первого взгляда. Счастливчик этот Сашка Воронков.
Вечером «счастливчик» долго ворочался на своей койке, тяжело вздыхал и что-то нашептывал сам себе.
— Богу, что ли, молишься? — грубовато спросил я.
— А как думаешь — есть он?
— Вот еще выдумал! Хочешь, лезь ко мне. Теплее спать будет.
Он протопал босиком через комнату, юркнул ко мне под одеяло и горячо зашептал:
— Маху дал я со своим переходом к вам. Куда меня вначале посылали, моя слесарная-то, тоже спецзаказ получила. Гранаты будут делать. Хоть обратно просись.
— Андрейка тебя быстро обучит. Еще успеют осточертеть снарядные донышки.
— Мне не осточертеют. У меня такая злость в душе, такая злость...
— Не у тебя одного...
— Эх, не могу я тебе всего рассказать...
— Не можешь — молчи. Попросим завтра Бороду, чтобы поставил тебя на черновую проточку. Начнешь вести счет своим снарядам.
— А ты ведешь?
— Веду, Сашка. Может, и Гитлеру мой подарочек достанется. Эх, разорвать бы Адольфа на тысячу кусков! Жизнь отдал бы за это.
— Вас понял, — задумчиво сказал Сашка, — спи, брат мой… Вроде я не ошибся в тебе. Видать, отец правильно тебя воспитывал...
Глава четвертая
ЭТО ОШИБКА
Моего отца арестовали глубокой ночью. В тридцать седьмом. Мне было тогда десять лет. Спросонок я долго не мог понять, чего хотят от папы незнакомые люди...
Отец мой — большой партийный работник. В партии он с шестнадцати лет. В гражданской войне участвовал. Потом ездил по стройкам, был парторгом. Потом раскулачивал богатых сибирских мужиков, получил в плечо пулю из обреза. Потом снова строил город в тайге, пока его не выбрали секретарем горкома партии.
В доме у нас всегда бывало полным-полно народа. То ночевали друзья по гражданской, то вдруг нагрянут знакомые отца из продотряда. А то, бывало, заполняли квартиру грубоватые строители, переезжавшие на новую работу. Все гости обращались с отцом запросто. Он был для них Семеныч, иначе его и не называли. Я очень любил слушать их рассказы...
— А помнишь, Семеныч, как ты вредителей задержал?
— А помнишь, как мы с тобой косматого повстречали? Царь Топтыгиных был, да и только. Здоровущий!
«А помнишь», «а помнишь», «а помнишь»... Как я завидовал всем этим людям, как гордился отцом! А он улыбался застенчиво, подкладывал друзьям пельменей и чаще молчал.
Он вообще был неразговорчив, мой отец, и эта черта не очень мне нравилась. Почему бы, в самом деле, не рассказать мне подробно о боях во время гражданской, о том, как он видел Ленина в Москве на съезде комсомола, где был делегатом от сибиряков? Так нет — из него каждое слово клещами приходилось вытягивать. «Было дело», — скажет и засмеется.
Мы с ним жили вдвоем: мама умерла от туберкулеза, когда мне было всего четыре года.
... — Сынка, — шепотом зовет отец.
Я придвигаюсь к нему поближе. Он улыбается мне одними глазами и говорит:
— Запомни, сын: я ни в чем не виноват. Это ошибка. Понял меня? Это ошибка.
Я молча киваю. Отец смотрит на меня так ласково, как не смотрел никогда.
— Очень ты, Лешенька, на маму похож. Вылитая мама. Она красивая была... Утром пойдешь к тете Марусе. Поживёшь у нее, пока я не вернусь. Ну, зачем же плакать? Ведь ты мужчина. Вспомни-ка Чапаева...
Что я, маленький, что ли? Не надо меня утешать, не надо напоминать про Чапаева. Я глотаю слезы, давлюсь ими. Зажимаю рот ладонью, но рыдания сотрясают мои плечи.
Глаза у отца становятся грустные-грустные.
— Ты уже большой мальчик, Лешенька. В десять лет я был учеником стеклодува и никогда не плакал. А ведь ты мой сын. Не позорь меня...
И я постепенно замолкаю. Мне кажется, что ночь длится бесконечно долго. Да и в самом деле — в окно уже заглядывает рассвет...
Отец подходит ко мне и торопливо целует несколько раз в щеку. Никогда раньше он меня не целовал.
— Выше голову, сын! — в последний раз улыбается мне отец.
... Я сижу на постели и думаю. Долго думаю. Голова у меня от всех этих мыслей начинает болеть невыносимо. Чуть свет я прихожу к тете Марусе. Она уважала моего отца. Когда-то он очень помог ей, выручил из какой-то большой беды. Она готова была молиться на отца.
— Лешенька! — всплескивает она руками. — Что с тобой случилось?
— Арестовали папу, — глядя в сторону, говорю я.
Руки у тети Маруси опускаются.
— Как же так? — говорит она. — Как же так...
Потом в глазах ее появляется надежда. Она ставит передо мной тарелки с едой и быстро-быстро говорит:
— Вызволим папу, Лешенька! Тысячи подписей соберу, а папу вызволим...
— Совсем теперь пропадет сирота, — жалостливо судачили соседки во дворе, — ох, пропадет.
В Москве у меня есть бабушка. Мать моей мамы.
До Москвы я добирался зайцем. Разыскал бабушку. Она охала и ахала, слушая мой рассказ.
Я жил у нее и учился в школе. А перед самой войной пошел в ремесленное. Они тогда только-только создавались. Не мог я сидеть на шее у бабушки, понимал, что тяжело ей было.
А в ремесленном меня одели и обули. Питание у нас было бесплатное. В общем, почувствовал я себя самостоятельным человеком.
Про отца моего знали в училище. Знал и замполит Федот Петрович Черныш, и комсорг Нина Грозовая. Они писали куда-то. Им ответили, что отец мой умер в заключении от «паралича сердца».
— Сын за отца не отвечает, — сказала мне Нина Грозовая, — учись и работай спокойно.
Но я за отца всегда готов был ответить. Я все время знал, что он ни в чем не виноват.
И в конце концов настал в моей жизни день, когда мне сообщили, что отец мой полностью оправдан. И даже восстановлен в партии, как старый большевик. Посмертно.
А Черныш и тогда верил мне. Черныш говорил, что никто не застрахован от ошибок. Даже те товарищи, что забрали отца. Будь отец жив, Черныш повоевал бы за него. Черныш — коммунист с семнадцатого года. Он брал Зимний дворец и был знаком с Владимиром Ильичом.
Это Черныш помог мне устроиться в ремесленное. Меня не брали — не хватало нескольких месяцев до четырнадцати лет.
— Нет правил без исключений, — сказал Черныш.
Мы перед этим долго беседовали с ним. О бабушке. Об отце. И вообще о жизни.
Черныш ходил со мной в Главное управление трудовых резервов. К самому главному из начальников. И начальник написал на моем зааявлении: «В виде исключения разрешаю принять т. Сазонова А. С. в ремесленное училище».
— Растите его хорошим человеком, — сказал начальник Чернышу.
— Вырастим, — уверенно сказал Черныш.
Глава пятая
ВЕЗЛО ЖЕ ЛЮДЯМ!
Черныш пригласил нас на чай. Скучно Федоту Петровичу одному коротать вечера. Мы пришили к гимнастеркам новые подворотнички, начистили мелом пуговицы.
Любил замполит армейскую выправку. Полушутя-полусерьезно он сказал нам, что мы имеем право отдавать честь военным.
— У них форма и у вас форма. Вы ведь хотя и в тылу, но тоже бойцы. Вот попробуйте поприветствовать — и сами увидите, что вам обязательно ответят.
Воронок прямо загорелся. Он вытащил меня на улицу и стал жадно искать военных. На противоположной стороне улицы шел красноармеец. Длиный, худющий, похожий в своих обмотках на журавля. Мы перебежали дорогу и, не доходя до красноармейца трех шагов, вскинули руки к фуражкам, пожирая его глазами.
Он ошалело посмотрел на нас и... козырнул. Козырнул! Потом нам попался младший политрук. Он не только ответил на наше приветствие, но даже остановился и заговорил с нами.
— Молодцы, что уважаете старших, — сказал младший политрук.
— А мы и рядовым отдаем честь, — сказал Воронок.
— Я имел в виду старших по возрасту, — снисходительно объяснил младший политрук. На губах его золотился пушок — видать, для солидности он пробовал отпустить усы.
— Что ж вы всё отступаете? — укоризненно сказал политруку Сашка.
Собеседник наш неловко откашлялся:
— Я, видите ли, всего лишь третий день в армии.
Можно было догадываться, что теперь дела пойдут на лад. Кто-кто, а младший политрук не ударит лицом в грязь. Мы расстались с ним дружески — он и старше нас был на каких-то четыре года. Не больше.
— Опоздали мы родиться, — изрек Сашка, — пока подрастем — война закончится, Гитлера повесят н не достанется на нашу долю ни орденов, ни медалей.
— Гляди, полковник! — толкнул я его локтем в бок.
— Даем строевым, а? — предложил Сашка. — Ведь маршала сейчас в Москве вряд ли встретишь.
— Согласен, — сказал я, — давай строевым.
За пять метров до полковника мы оба разом вскинули руки и начали чеканить шаг. Он ответил нам, широко улыбнувшись, и даже два раза оглянулся, с довольным видом покачав головой.
— Видал? — горделиво спросил Сашка. — Вот, думает, бравые ребята, их бы ко мне — сыновьями полка, разведчиками. Пошел бы?
— Пошел бы, — признался я.
... Мы пришли к Федоту Петровичу втроем. Андрейка с удовольствием разделил нашу компанию. К нашему удивлению, в комнате Черныша мы увидели Нину Грозовую. Она копалась в книгах, то и дело громко чихая:
— Будь здорова! — сказали мы одновременно.
— А, три мушкетера, — сказала Нина. — Для нас одного самовара-то маловато будет, а?
— Вода нынче дешевая, — пошутил Черныш. — Рассаживайтесь, орлы, поудобнее. Сейчас я патефон заведу.
— А у нас, Федот Петрович, своя музыка, — сказал я, кивнув на аккордеон.
Сашка небрежно пробежал пальцами по клавишам, внимательно посмотрел на Нину и заиграл «Катюшу». Нина запела первая, задумчиво глядя на перечеркнутое белыми полосками окно; мы подхватили песню, и даже Черныш негромко подпевал, стараясь не заглушать красивый и чистый голос девушки...
Когда человек поет, легко понять, что это за человек. Вот Нина... Сразу видно, что вспоминается ей в эту минуту очень хорошее. Может быть, мама, которая осталась в оккупированном Смоленске, может, первая встреча с любимым...
О том, что у нее есть любимый, знает все училище. Еще недавно он ходил на все наши вечера — молоденький летчик с двумя кубиками на петлицах. Он танцевал только с Ниной. Говорил только с Ниной, и видно было, что кроме Нины, он на этих вечерах никого не замечает.
Его звали Павликом. Нина не раз уговаривала его выступить перед ребятами, рассказать о службе. Я слышал, как она просила его. Павлик хмурился.
— Ну о чем я буду рассказывать? Вот собью фашиста — тогда пожалуйста.
— Ловлю тебя на слове, — смеясь, сказала Нина.
— Если, конечно, он меня не собьет, — добавил Павлик и, видя, что Нина расстроилась от этих слов, просиял, как мальчишка, и успокоил ее: — Ладно уж — ради тебя я его собью...
Как только начались налеты на Москву, Павлик перестал появляться в училище. Но письма-треугольнички Нина получала от него каждый день. Об этом мы тоже знали.
Андрейка поет старательно и серьезно. Я часто любуюсь его лицом — высоким лбом, спокойными глазами, крутым подбородком. Он красив, наш Андрейка, настоящей мужской красотой. Вот и в братья он ко мне не набивался, и ругает меня частенько за всякую ерунду, а я все-таки люблю его. Стоит побыть без него несколько часов — и уже начинаешь скучать, не хватает тебе его рассудительного голоса, его теплого дружеского взгляда. Он, пожалуй, мудрее всех нас, если, конечно, можно быть мудрым в неполных шестнадцать лет.
Свободнее всех держится, конечно, Сашка Воронок. Сейчас он в своей стихии. Все слушают его, и стоит ему прекратить игру — оборвется и песня. Сашка не поет, а декламирует. Право петь он предоставляет нам, а сам лишь напоминает слова, чтобы мы не сбились и не испортили песню.
Мы поем «Славное море, священный Байкал», «Тучи над городом встали», «В далекий край товарищ улетает»...
Последнюю песню Сашка заиграл не без умысла. Нина ее не поет, только слушает, глядя на нас своими большущими усталыми главами. В глазах этих появляется непрошеная влага, и девушка отворачивается к окну. «Любимый город может спать спокойно...»
Где сейчас ее Павлик, какие ветры летят вслед за ним? И не в эту ли минуту встретился он в небе со своим первым фашистом?
Так, наверное, думает она, и, чтобы развеять ее грусть, я прошу Сашку сыграть «Камаринскую» и начинаю откаблучивать самые замысловатые коленца. Воронок смотрит, на меня с одобрением, все время ускоряет темп, и я в конце концов плюхаюсь на диван совершенно обессиленный.
— Ай да Сазонов! — восклицает Черныш. — Не знал я за тобой этого таланта.
Андрейка довольно хмыкает и говорит:
— На него находит. Иной раз носится по комнате как угорелый. Я сперва думал, что он малость чокнутый, а, оказывается, он таким манером вдохновение вызывает. Теперь полчаса будет отлеживаться.
Все смеются, смеюсь и я. До чего же хорошо с вами, друзья мои — товарищи! До чего же вы все мне родные...
Сашка принимается за анекдоты. По этой части ему нет равных в училище. Анекдоты он рассказывает безобидные и очень смешные. Начал он было один анекдот с «перцем», но Черныш так пронзительно посмотрел на него, кивнув в сторону Нины, что Сашка поперхнулся чаем, объяснив сконфуженно:
— Не в то горло попало. Извините.
Федот Петрович надевает очки, раскрывает альбом с фотокарточками. Вот он пастушонок с длинным бичом в руке, сфотографированный заезжим «пушкарем». Вытаращил мальчонка глаза, руки держит по швам, а сбоку — глупые овечьи морды— подвластное ему царство-государство.
— Лет восемь мне тут. Не жизнь была, а мука смертная. За харчи только и батрачил. Никому не желаю такого детства.
На следующем снимке Черныш в буденовке, рука лежит на эфесе сабли.
— В конармии Буденного снимался. Сабля эта и сейчас у меня. За спиной у вас висит.
Мы оглядываемся и видим саблю, прикрепленную к ковру.
— Можно? — спрашивает Воронок.
Он вытаскивает саблю из ножен, пробует пальцем лезвие.
— Острая, — удивляется Сашка.
Так враги же еще не все перебиты, нельзя ей тупеть, — с улыбкой говорит Черныш.
— «Геройскому парню Чернышу от командира полка», — с выражением читает Воронок надпись и крутит восхищенно головой: — Везло же людям, черт возьми!
— А с батькой твоим я в финской участвовал, — неожиданно сообщает Черныш.
— Да ну! — Сашка даже подпрыгивает. — Ну и как он вам показался?
— Посерьезнее, чем ты. А улыбкой ты на него очень похож. Да недолго пришлось мне тогда воевать: совсем рядом разорвался снаряд. Двадцать семь осколков и осколочков из меня вынули, а сколько еще осталось — одному богу известно. Вот и ковыляю теперь с палочкой. Хоть и хочется мне опять под началом твоего батьки послужить. Командир он отличный — финнам на сто лет запомнится.
— А фашисты вот бьют его пока, — тихо роняет Сашка.
— Так разве его одного? Да только всех не перебить им — кишка тонка.
— Так у тебя отец военный? — с удивлением спрашиваю я Сашку.
— Военный, — коротко отвечает он.
Мы уходим от Черныша поздно. Я говорю в раздумье:
— Вот бы нам прожить такую жизнь... чтоб было что вспомнить...
— Будет, — загадочно говорит Воронок.
Что он имеет в виду? Может быть, опять намекает на свои тайны, которые я узнаю, когда кончится испытательный срок? И почему секреты Воронка смогут повлиять на нашу жизнь? Или мы сразу совершим какой-то необыкновенный подвиг?
Мальчишки всегда мечтают о подвигах. Но как-то странно устроена жизнь — обычно подвиги совершают люди постарше. Всегда мы чуточку опаздываем родиться. Подвиги всегда оказываются впереди, а не рядом. А может быть, вся жизнь человека — подготовка к подвигу? Может быть, подготовка эта идет ежедневно, ежечасно, ежеминутно? Как кристаллизуется соль в перенасыщенном растворе, так и в сердце человека постепенно созревает готовность совершить что-то выдающееся, необыкновенное. И когда приходит час испытания — сердце человека раскрывается, как цветок. И все видят, какое это сердце. Какое сердце у моих друзей? Какое у меня? Как узнать?
Глава шестая
„ГРАЖДАНЕ, ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!”
— Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!
За окном начинает завывать сирена. Когда-то ее звук казался нам с Андрейкой нестерпимым. Словно завели на предельных оборотах гигантскую бормашину. Даже еще противнее. Во время учебных тревог мы чуточку привыкли к ней. А когда начались настоящие налеты, мы уже не обращали на сирену внимания. Некогда было вслушиваться в ее нарастающий вой и поражаться дьявольским ее интонациям.
Оба мы записались в добровольную пожарную дружину, чтобы не тащиться каждый вечер в метро, где шага негде шагнуть. Переполнены не только вестибюли, но и в тоннелях располагались люди. Приходили семьями. Наиболее практичные прихватывали с собой кипяток и гоняли чаи, коротая время. Мало веселого было в этой картине.
То ли дело на крыше! Чистый воздух и такое зрелище, какого не увидишь нигде! Впрочем, в метро не все ребята ходили. Многие оставались в траншее, вырытой во дворе дома. Траншею эту называли щелью. Мы с Андрейкой считали унизительным забираться в щель. Словно мы не люди, а насекомые.
Нам повезло: нас приняли в пожарную дружину одними из первых. Потом многие захотели стать пожарными, но было поздно: крышу уже разделили на участки и всем нечего было делать.
Моя вотчина была на левом крыле, Андрейкина — на правом. Между этими крыльями поднимались еще два этажа. На той крыше хозяйничали ребята постарше. Почему-то считалось, что там опаснее. Я лично думал, что бомбам все равно куда падать. Мое преимущество перед Андрейкой заключалось в том, что я из окна своей седьмой комнаты вылезал прямо на левое крыло. А товарищу моему нужно было еще промчаться по коридорам. Я оказывался на посту буквально через секунду после объявления тревоги.
Проверял, на месте ли ящики с песком и деревянный щит, где аккуратно были расположены железные щипцы для «зажигалок», топорик, ведро и ломик. Еще была у меня десятиведерная бочка с водой.
На боку у меня болтается противогаз, на рукаве красная повязка — свидетельство того, что я — всамделишный пожарный, а не какой-нибудь самозванец.
Надежность противогазов мы проверяли в камере окуривания. Загоняли нас в комнатушку с голыми стенами и напускали туда газа. А может, не газа, а еще чего-то ядовитого. Мы смотрели из противогазных очков, как марсиане, мотали резиновыми хоботами и, конечно, толкали друг друга. А за всем этим наблюдал через окно инструктор, безногий инвалид с гитлеровскими усиками. Почему он не хотел сбрить эти паршивые усики, — до сих пор не пойму.
Когда проходило необходимое время, перед нами открывалась дверь на свободу. Однажды она распахнулась раньше времени: инструктор заметил, что Гошке Сенькину стало плохо. Оказалось, что он выбрал себе слишком большой противогаз. На рост, что ли? Потом он отлынивал от работы, уверяя врачей, что отравился чуть не до смерти. После этого случая его газированным стали звать.
На клички у нас ребята мастера: приклеют ярлык — и будешь ходить с ним, словно вовсе и нет у тебя ни имени, ни фамилии. У одного лишь Андрейки Калугина не было никакого прозвища. Повода не давал.
По тревоге Андрейка хватает свой противогаз и тоном приказа говорит Сашке Воронку:
— Живо в щель!
— Что я — клоп, что ли? Чем я хуже тебя? — обижается Воронок.
— Не вздумай лезть на крышу: дежурный застанет во время обхода — и нас с Лешкой вытурят из-за тебя.
— Не хочу я в щель. Тоже мне удовольствие — слушать девчачий визг.
— Тогда в метро беги.
Андрейка убегает на крышу. Я открываю раму и забираюсь на подоконник. Мне жалко Сашку. Ну чем виноват человек, что поступил в училище позднее нас?
— Полез, защитник Москвы? А на брата, значит, наплевать? — чуть не со слезами говорит Сашка.
Придется мне брать грех на свою душу. Нельзя же бросать Воронка.
— В случае чего — прячься за бочкой. Усвоил?
— Вас понял! — отвечает Воронок.
Он карабкается вслед за мной на крышу и, восхищенно озираясь, замечает:
— Да здесь настоящая война!
Уже забегали по темному небу длинные лучи прожекторов. Колышутся над городом аэростаты воздушного заграждения. Их поднимают каждый вечер, не дожидаясь тревоги. Мы видели, как занимаются этим девушки-красноармейцы на Чистых Прудах.
Затрещали со всех сторон зенитки, загукали крупнокалиберные пулеметы. На крышу к нам упал первый осколок зенитного снаряда. Сашка подобрал его и, перекладывая с руки на руку, как горячую картофелину, сказал удивленно:
— Словно из печки...
— Из пекла — точнее будет. У меня этих осколков — считать не сосчитать. Теперь я их даже не собираю.
— Шарахнет какой покрупнее по голове — сразу загнешься, а?
— По теории вероятности это исключено, — сказал я с видом знатока.
— Да ты и не нюхал эту теорию. Не люблю, когда люди стараются казаться умнее, чем они есть, — заметил Воронок.
Я напялил большущие брезентовые рукавицы и оперся на щипцы.
— Вид у тебя живописный. Так и хочется приняться за картину и назвать ее «Юный патриот», — насмешливо произнес Воронок.
Зачем я взял его с собой? Пускай сидел бы в щели с девчонками. .. Еще насмехается!
Сверху девчонок не видно, но в минуты затишья отчетливо слышно, как они болтают о всяких пустяках. Слабый пол. Точное определение. Ни одной из них нет сейчас на нашей крыше.
Впрочем, они тоже кое на что годятся. Многие вступили в санитарную дружину. Им целый экзамен устраивали. А мы, мальчишки, изображали условно раненых. Меня перевязывала Рая Любимова. Руки у нее оказались нежные-нежные. Но она забинтовала мою голову так, словно из нее вот-вот все мозги должны были вывалиться.
И когда я застонал от этой тугой повязки, Рая удивилась и спросила:
— Это ты, Сазонов, условно стонешь?
— Условно, условно, только разбинтуй, пожалуйста, поскорее, — прохрипел я.
— Не могу — у меня еще не приняли мою работу.
Пришлось мне минут тридцать дожидаться, пока к моим носилкам не подошел врач. Он ощупал повязку со всех сторон и сказал: — Я удивлен, что этот условно раненый остался живым. Вы же, девушка, задушили его бинтами.
Я с трудом приоткрыл один глаз и увидел слезы на глазах Раи Любимовой. Тогда я пересилил себя и прошептал:
— Мне, доктор, было очень хорошо. Поставьте ей отлично. Никогда не забуду взгляда, которым наградила меня Рая.
За этот взгляд и не такие пытки можно было бы перенести.
Воронок бродит за мной по крыше, словно тень, и рассуждает вслух:
— Говорят, фашисты такие зажигалки придумали, от которых человек сразу слепнет. Вот будет номер, если к нам такая упадет!
— По теории вероятности на нашу крышу зажигалка может упасть один раз за сто лет, — сухо сообщаю я.
На этот раз Воронок охотно принимает мою теорию. Почувствовал, что я рассердился на него.
Прямо над нами повисает осветительная ракета. Становится светло как днем. Фашистскому летчику теперь видны многие дома вокруг. Напротив нашего училища — старинный монастырь, напоминающий своими стенами и церквушками Кремль в миниатюре. Нас отделяет от монастыря только Яуза, которую сверху можно принять и за Москву-реку.
Настоящий Кремль замаскирован так, что гитлеровским летчикам трудно его найти. Мавзолей Ленина закамуфлирован под небольшой домик.
На том берегу Яузы — крутой откос. На нем вдруг вспыхивают десятки бенгальских огней. Только это не безобидные палочки, которые жгут у новогодних елок, а кое-что поярче: горят зажигательные бомбы, расплескивая пламя по траве откоса.
— Совсем рядом, — шепчет Сашка.
И в эту же минуту две зажигалки падают к нам. Одна из них, разбив деревянный щит, катится к самому краю крыши. Она застревает у желоба. Я подбираюсь к ней со щипцами и, чуть отвернув в сторону лицо, сбрасываю зажигалку во двор. Там её сразу же засыпают песком. Вторая бомба подожгла крышу. Мы с Воронком хватаем по ведру с водой и мчимся наперегонки к очагу пожара. Выливаем ведра — и снова к бочке.
— Постой! — кричу я. — Лучше сначала песком забросать. Мы тянем ящик. В одной руке у меня — совковая лопата.
Подцепляю как можно больше песка. Несколько бросков — и огненные брызги уже не расплескиваются вокруг. Пахнет гарью, дым попадает в легкие, и мы, как по команде, начинаем кашлять.
Появляется Нина Грозовая.
— Все в порядке? — спрашивает она.
Воронок не успел спрятаться за бочку, но Нина не обращает на него никакого внимания. Ей сейчас не до этого.
— Одну потушили и одну скинули во двор, — докладываю я.
Задрав головы, мы смотрим в небо.
— Вроде больше не будет, — говорит Нина, — он их много на откос сбросил. Целыми пачками швырял.
Мечутся по небосклону лучи прожекторов, зенитки грохочут не умолкая. Один из лучей неожиданно застывает. Серебряным комариком сверкает в нем самолет. И вот уже много лучей держат его в своих невесомых пальцах. Комарик пытается вырваться, но лучи не выпускают его, следуют за ним, передавая его новым и новым лучам.
— Попался, — удовлетворенно произносит Нина, — теперь его наверняка собьют.
Она глядит на Сашку и вдруг спрашивает:
— А ты как сюда попал?
— Прибежал на помощь, — храбро врет Сашка.
— Он тушил вместе со мной... Как бы, Нина, зачислить его к нам?
— Раз отличился — придется зачислить, — соглашается Нина.
Сашка улыбается во весь рот и тут же начинает клянчить:
— Рукавицы бы мне. Они все же геройский вид придают. Погляди на Сазонова — настоящий пожарный.
— Получишь и рукавицы, — обещает Грозовая, — и благодарность за смелость.
— Видал? — прищелкивает языком Воронок, когда Нина уходит. — А Калугин в щель меня хотел засадить.
После отбоя мы долго не можем заснуть. Андрейка тоже потушил две зажигалки. А ребятам на верхней крыше ничего не досталось. Они только наблюдали, как мы расправлялись с этими бомбочками. Нашу вторую Сашка притащил в комнату. Она лежит на столе, напоминая пузатую дохлую рыбину.
— Сохранить бы ее для потомков, — задумчиво говорит Воронок.
— В мусорном ящике ее место, — заявляет Андрейка.
— Ну, не скажи. Я завтра оттащу ее в красный уголок. Пусть ребята видят, что ничего страшного в ней нет.
— Похвастаться захотелось? — подковыривает Андрейка.
— Много ты понимаешь. Меня вот Грозовая сразу в пожарные определила, а ты считал, что я только в щели сидеть гожусь.
— Спи, балаболка, — беззлобно говорит Андрейка, — с утра на работу надо.
Я лежу с открытыми глазами, вновь и вновь переживая сегодняшний вечер. Жаль, что мало зажигалок нам досталось. Оказывается, с ними не так-то уж трудно справиться. Мы вполне могли бы потушить штук по десять. И тогда, возможно, о нас написали бы в газете. Сообщали же о мальчишке, который погасил восемнадцать зажигалок.
Потом я думаю о Павлике — друге Нины Грозовой. Наверное, он поднимался сегодня в небо на своем «ястребке». И, может быть, встретился с тем самолетом, который обнаружили прожектористы. Я представляю картину ночного воздушного боя, и мне становится страшно за Павлика. Скорее бы он появился опять в нашем училище. Нина за последние дни осунулась, стала сама не своя. Ох и страшная это вещь — война!
Просто удивительно, что даже в такое время люди могут шутить, смеяться. Я вспоминаю старинное изречение: «Когда разговаривают пушки — музы молчат». Пожалуй, в наше время оно устарело. Каждый день по радио выступают поэты с гневными стихами. Композиторы сочиняют песни, от которых захватывает дух и под которые так заманчиво маршируют красноармейцы, уходящие из Москвы на фронт. Художники пишут плакаты. Окна ТАСС знакомы каждому москвичу.
А разве молчат музы в нашем училище, вроде бы не имеющем к искусству никакого отношения? Нет, не молчат!
Я тоже чуть не каждый день пишу новые стихи. Пусть не такие складные, как у настоящих поэтов, но не менее гневные. Ручаюсь за это головой. Сашка никогда не забывает о своем аккордеоне, играет для ребят каждый вечер. Выходит, его муза не молчит. А наш училищный Лемешев? Есть у нас такой талантливый парнишка, что любому соловью может дать сто очков вперед. Не верите? Я тоже не верил, пока не услышал его пение.
Глава седьмая
ПОЗНАКОМЬТЕ МЕНЯ С ВАШИМ СОЛОВЬЕМ
У Мишки Румянцева серебряное горло. Когда он поет, нельзя остаться равнодушным. По вечерам, проходя мимо нашего общежития, прохожие, наверное, думают, что в этом доме живут студенты консерватории. Они замедляют шаги у открытого окна, прислушиваясь к Мишкиному пению. Мишка любит классические романсы: «Я помню чудное мгновенье...», «Средь шумного бала...»
Однажды в общежитие пришел старичок с замысловатой тростью в руке. Набалдашник трости был сделан в форме львиной головы. Пасть у льва разинута, словно он собирается кого-то проглотить.
— Познакомьте меня с вашим соловьем, — попросил старичок.
Я повел его в красный уголок. Мишка сидел на подоконнике и напевал озорную и легкомысленную «Тиритомбу»:
— Так, так, — сказал старичок, — ну, а можете показать что-нибудь из русского репертуара?
— Нот у него полная тумбочка, — с гордостью сообщил я старичку, — сейчас он вам их покажет.
— Я попросил показать в смысле исполнить! Ну, спеть. Понятно? — строго произнес владелец необыкновенной трости.
— А кто вы такой? — обиженно спросил я.
— Меня зовут Иваном Михайловичем. Я профессор консерватории.
Мишка затрепетал. Шутка сказать — настоящий живой профессор заинтересовался его персоной. Мишка благоговел перед обыкновенными музыкантами, даже перед Сашкой Воронком, каково же было ему разговаривать с самим профессором!
— Понятно, — независимо сказал я, — сейчас я приведу вам аккомпаниатора.
— Вот как, — удивился профессор, — у вас есть даже аккомпаниатор? Очень хорошо!
Увидев Сашку Воронка с аккордеоном, профессор удивился:
— Я ожидал, что это взрослый. Так, так. Да у вас тут маленькая консерватория.
— Мы все взрослые, — сказал Сашка, — сами себя кормим. Вот этими руками.
— Великодушно извините, если вас обидело мое замечание, — с изысканной вежливостью сказал профессор. Лев с разинутой пастью вертелся в руках профессора, как флюгер.
— Редкая тросточка, — с видом знатока сказал Сашка.
— Подарок Федора Ивановича Шаляпина.
Мы переглянулись ошеломленно. Вот так старичок! Знал Шаляпина...
Мишка Румянцев плюхнулся на стул и посмотрел на нас глазами утопающего.
— Ты, Мишук, сегодня вроде не в голосе? — протянул ему соломинку Сашка Воронок.
Мишка заблеял что-то, словно заблудившийся козленок. Даже мы с Воронком не разобрали ни слова. Такой трусости мне еще в жизни не приходилось видеть. Человеку, можно сказать, счастье привалило, а он от него отбрыкивается руками и ногами.
Может, этот профессор устроит его в консерваторию. Может, Мишка станет знаменитым тенором, как Собинов.
И мне уже представляется, что на залитой светом сцене стоит стройный юноша с выразительными голубыми глазами. Публика кричит «бис» и «браво». Только что окончился концерт. На сцену поднимается Сергей Яковлевич Лемешев и обнимает юношу от всей души. Аплодисменты переходят в овацию, когда Мишка говорит зрителям:
— Позвольте мне в первую очередь поблагодарить моего учителя и наставника Ивана Михайловича. Вот он сидит в первом ряду.
Иван Михайлович кланяется публике и растроганно вытирает белоснежным платком уголки повлажневших глаз...
— Значит, не в голосе? Так, так, — с добродушной усмешкой говорит профессор. — Ну что ж, вот моя визитная карточка. Будете, юноша, желанным гостем в моем доме. Ну и вы, разумеется, — милостиво кивает он нам с Воронком.
И вот он уходит, постукивая своей замечательной тростью. Мы с Воронком набрасываемся на Мишку:
— Растяпа! Покраснел, словно красная девица.
— Такой случай раз в сто лет бывает!
— Отстаньте, — стонет Мишка, — я же больше вас переживаю.
Мы выхватываем из его рук визитную карточку. В самом деле профессор. И живет в центре, недалеко от Красной площади.
— Завтра же пойдем к нему! — тоном беспрекословного приказа говорит Сашка.
— Что вы, ребята! — ужасается Мишка. — Я должен репетировать и репетировать. Ведь он — профессор! Я же сяду в лужу. Вот через месяц — другое дело.
— Через неделю! — отрывисто произносит Сашка. — И репетировать, Мишук, будем вместе. Я с тебя сто потов спущу.
— У меня же совсем не поставленный голос, — с жалкой улыбкой говорит Мишка, — я же ди-ле-тант...
— Очень много воображаешь о себе, — не совсем логично заключает Воронок.
— Ты брось эти иностранные словечки,— добавляю я,— профессор назвал тебя соловьем. Я это собственными ушами слышал.
— Ну хорошо, — сдается Мишка, — через неделю так через неделю.
Но на следующий день выясняется, что у Мишки в самом деле пропал голос. То ли он застудил горло, то ли просто переволновался при встрече с профессором, но голос у него начисто исчез.
Мы потащили Мишку к медсестре. Она нажала на его язык большой ложкой, словно рычагом. Мишка выпучил глаза. Мне казалось, что от растерянности и ужаса он вот-вот проглотят эту ложку.
— Горло чистое, — недовольно сказала сестра, — все вы любите посимулировать.
— Да нам не надо справку, тетя, — сказал Воронок, — ему петь надо. Перед профессором.
— В мирное время в таких случаях рекомендовали принимать сырые яйца, — деловито сказала медсестра и стала полоскать руки под краном. Наверное, ее не взяли на фронт из-за вредного характера. Смеется она, что ли? Где мы сейчас достанем сырые яйца?
— Эх, если б мы жили в деревне! — мечтательно произнес Воронок.
— По карточкам только яичный порошок выдают, — подтвердил я.
Мишка сидел с обреченным видом, забыв закрыть рот.
— Так вот пропадают таланты, — мрачно сказал Воронок,— из-за каких-то несчастных куриных яиц. Закрой рот, дружище Мишук. Мы уже видели, что зубы у тебя в идеальном порядке.
Потом мы долго сидели в Мишкиной комнате, время от времени говоря ему:
— А ну, попробуй...
— А-а-а-а...
Сашка морщился.
— Испорченный патефон. Ты, Мишук, просто внушил себе, что у тебя пропал голос. Самовнушение — страшная вещь.
В дверь постучали.
— Войдите, — сказал Сашка. На пороге появилась медсестра.
— Ну как — так и не запел?
— Не запел, — одновременно ответили мы. Медсестра положила на стол кулек.
— Пять штук, — сказала она хмуро, — отоварила вчера карточки. Как на счастье, давали яички.
— Тетя, вы ангел! — завопил Воронок.
— Я ведь тоже когда-то мечтала петь. Не получилось.
Мы все смотрели, как Мишка Румянцев пил сырые яйца.
В моем довоенном представлении это была страшная гадость. Как варёный лук. Но теперь я уплетал лук за милую душу. И в сыром и в вареном виде. От яиц я, пожалуй, тоже не отказался бы. Но бог, к сожалению, не дал мне певческого таланта.
Мишка запрокидывал голову и выливал в рот сразу целое яйцо. Сашка помогал ему — постукивал по скорлупе ногтем, чтобы не пропало даром ни капли. Мы с медсестрой торжественно молчали, положив руки на колени и глядя на нашего Лемешева с надеждой и почтением.
И Мишка запел. Он запел легко и свободно, поверив в могущество сырых яиц. Медсестра слушала его, то и дело вздыхая. Может, она вспоминала, как пела сама и как из этого ничего не вышло.
Во всяком случае, мы ей были очень благодарны. Отныне никто из нас не назовет ее мегерой. А ведь раньше называли. И частенько.
Вот ведь как неожиданно раскрываются сердца людей! Кто бы подумал, что у нашей медсестры добрая душа. Угрюмее ее, казалось, не было человека в училище. А понадобилась помощь — она оторвала долю от своего пайка и бескорыстно поделилась с Мишкой.
Это было открытие. Много таких открытий мне еще предстояло сделать в жизни. И радостных, и огорчительных. Потому что каждый человек все-таки загадка.
Взять того же Мишку. Вон как оробел он при встрече с профессором. А я своими глазами видел, как он, не задумываясь, полез в драку со взрослыми парнями, пристававшими к Рае Любимовой. Парней было двое. Они преградили Рае дорогу, и один из них бесцеремонно обхватил девушку руками. Другой, воспользовавшись этим, полез целоваться. Видно, они были пьяны.
Мишка шел впереди меня. Он бросился к парням и, развернувшись, дал в ухо любителю поцелуев. На Мишку кинулся второй, но тут подоспел я и с размаху ударил парня головой в живот. Он охнул и опустился на тротуар. Все произошло так быстро, что не успели они прийти в себя, как нас, троих, и след простыл.
Мы проводили Раю до ее дома, и она сказала:
— Спасибо, вы, оказывается, смелые.
— Убегать мастера, — пошутил Мишка.
— Нет, серьезно. Они ведь могли бы вас изувечить. Пьяные же. А пьяному море по колено.
Еще помню случай в кинотеатре. В переполненном зале Мишку попробовал согнать с места какой-то нахальный парень.
— Отстань ты от меня, — по-хорошему сказал Румянцев.
— Чё, чё? — закипятился тот. — Может, ты по-блатному говоришь? Может, выйдем потолкуем?
Мишка молча поднялся и на глазах у всей почтеннейшей публики цепко ухватил паренька за оттопыренное ухо. Так он проволок его через весь зал до выхода и после этого вновь уселся на своё место как ни в чем не бывало.
После фильма нас подкараулили друзья обиженного. Драка была что надо. Ремесленники одержали победу, но какой ценой! Мы с Мишкой две недели после этого ходили с «фонарями». У Сашки Воронка в свалке потерялась фуражка. У Андрейки вырвали из рук peмень с металлической пряжкой. Нашими трофеями была кепчонка с хвостиком наверху и увесистый портсигар, набитый довоенном «Беломором».
Больше эта компания здесь не появлялась, уступив нам плацдарм, завоеванный по всем рыцарским правилам.
Так что внешность человека зачастую обманчива. На первый взгляд Мишка тюфяк тюфяком. Размазня. А дойдет до дела — на него всегда можно положиться. С ним бы я пошел в любую разведку, как говорят в фильмах красноармейцы.
Сейчас Мишка опекает Юрку Хлопотнова — нашего юного партизана. Шефствует над ним в мастерской, учит работать по-румянцевски. А сам он, после Андрейки, второй токарь — виртуоз нашего училища. Ему поручают самую сложную работу. Юрка не спускает со своего шефа восторженных глаз. Он всюду бродит за ним как тень.
— Значит, Мишук, через неделю идем к профессору? — спрашивает Сашка.
— Будь по-твоему, — Мишка машет рукой, — не съест же он меня в самом деле.
— Таким костлявым недолго и подавиться, — веско замечает Воронок.
— От костлявого слышу, — говорит Мишка, и рот его расплывается до ушей.
Любит он улыбаться, хотя его лицо от этого отнюдь не делается красивее. Одни глаза только и хороши на длинном и худом лице Мишки Румянцева.
Говорят, что глаза — зеркало души человека. Может, конечно, это и так, но попробуй разобраться в миллионах этих зеркал. У Сашки Воронка, например, явно ехидное выражение глаз. Значит, он вредный человек? Некоторые и впрямь считают его таким. Но это ведь всего-навсего маска. Я знаю, каков мой названый брат. В душе он артист. Он может предстать перед вами каким угодно. Хорошим или плохим. Добрым или жадным. Никогда не знаешь, какую роль он начнет играть в следующую минуту. А игра эта доставляет ему удовольствие. Он говорит, что таким способом проверяет людей. Довольно странный способ.
Мне, как начинающему поэту, полагались бы этакие вдохновенные глаза. А достались на мою долю невыразительные серые глазенки. Рая вот находит в них даже что-то рыбье. Жаль, но что поделаешь...
У Гошки Сенькина глаза невыспавшегося шкодливого кота. Вот ему они впрямь подходят. Подходят глаза и Саньке Косому — нашему общему врагу. На всех ремесленников он смотрит, как удав на кроликов. Какой-то гипнотизирующий у него взгляд. Так и кажется, что сейчас он внушит тебе сделать какую-нибудь пакость. Хоть и видел я Саньку Косого раза два, да и то мельком, но глаза его хорошо запомнил.
Глава восьмая
ДЕЛАЕМ ЗАСАДУ
А ну, постой, ремесло, — сказал грубый голос, и кто-то придержал меня за хлястик шинели.
Я оглянулся и увидел Саньку Косого. На нем была кепчонка, пришлепнувшая ровную смоляную челочку, длинный пиджак — чуть ли не до колен — и хромовые сапоги гармошкой. Когда Санька Косой говорил, во рту поблескивала «фикса» — золотая коронка. Косой с шиком сплюнул поверх моей головы и спросил:
— Гошку Сенькина знаешь?
Всему училищу был известен этот первый лодырь в нашей группе. Он вечно бегал по врачам, жалуясь на болезни. А получив справку, освобождающую от работы, стрелой мчался на рынок. Там он что-то покупал, перепродавал и снова покупал. Лицо у него круглое и невыразительное, нос — кнопкой, глаза как щелочки и все время сонные. Он умудрялся засыпать, стоя за станком. Включит самоход и дремлет.
— А хотя бы и знаю?
— Передашь ему записку. Прямо в руки. Не сделаешь — лежать тебе в гробу в белых тапочках.
Первое мое побуждение — оттолкнуть руку Косого. Пальцы у него длиннющие, тонкие. Про такие говорят — музыкальные. На мизинце отрос ноготь сантиметра на два. Говорят, что этим ногтем Косой действует как безопасной бритвой. Чиркнет противника по глазам, а сам наутек. Я не очень-то верю в это, но сейчас ноготь прямо перед моим носом, и я беру записку.
Почему это Косой обратился именно ко мне? Догадываюсь, что неспроста. Вспоминается мне разговор с Гошкой Сенькиным. Он тогда очень интересовался, за что моего отца арестовали. Видно, и Косому он об этом разговоре сообщил. Небось и от себя добавил, что Лешка — парень свой, что на него можно положиться. Вот и решил Косой проверить так ли это на самом деле.
— Ты, кажется, в седьмой комнате живёшь? — припоминая что-то, говорит Косой.
— В семьдесят пятой, — поправляю я.
Комнат в общежитии всего тридцать. Косой смотрит на меня подозрительно, достает блестящий портсигар и предлагает мне папироску.
«Была не была», — думаю я и прикуриваю от его зажигалки, сделанной в виде пистолета. Зажигалка огромная, ее вполне можно принять за настоящий пистолет.
И надо же — в эту минуту проходит мимо Нина Грозовая, комсорг нашего училища. Она смотрит на меня удивленно и встревоженно. Собеседник мой явно не внушает ей доверия.
— Деваха — первый сорт! — смеется Косой. Он хлопает меня по плечу, как закадычного дружка, придвигает к себе и шепчет на ухо: — Сегодня же передай записку. В руки!
Нина приостанавливается и снова смотрит на нас.
— Сазонов, — говорит Грозовая, — ты в столовую идешь?
— Да, да, — краснея, отвечаю я и подхожу к Нине с виноватым лицом.
— Что это за тип? — громко и без обиняков спрашивает Грозовая.
Косой предостерегающе поднимает палец и кричит:
— До встречи в седьмой комнате, Сазончик!
Нина Грозовая в первый день войны тоже просилась на фронт. Её не взяли в армию, как и нашего мастера.
— Подрасти чуток, — сказали Грозовой.
Ей только семнадцать лет совсем недавно исполнилось. Она сутками пропадает в училище и даже спит прямо там — на диванчике в комитете комсомола. Ее у нас любят и побаиваются. Нина сама себя не щадит и поблажек от нее не дождешься.
Лицо у Нины — тонкое, с большими серыми глазами, очень выразительное и подвижное.
— Что это за тип? — нетерпеливо повторяет Нина и смотрит на меня глазищами, под взглядом которых соврать просто невозможно.
— Знакомый Гошки Сенькина, — неохотно говорю я.
— Держись подальше от таких знакомых. Неважно ты выглядишь, Сазонов. И стихов твоих давно я не читала в стенгазете. Ты не болен?
— В ночную работал, Нина. Станков-то не хватает. А стихи некогда писать: еле до койки добираюсь после работы.
— Что за человек Воронков? Говорят, ты с ним подружился.
— Хороший человек, — говорю я.
— Избалованный, — говорит Нина — он, наверное, думает, если у него отец командир дивизии, то с ним должны носиться, как с писаной торбой.
— Что?! — Я раскрываю рот, и лицо мое, видимо, принимает глупейшее выражение.
Нина смеется:
— Правда, комдив. А он что же, никому не говорил об этом?
Вот тебе и названый брат! Я, можно сказать, душу открыл ему, а он мне о себе — ни гугу. Ну ладно же, Воронок, этого я не забуду...
— Почему — не говорил? Говорил, — небрежно роняю я.
— А еще что говорил? — интересуется Гроэовая. — О путешествиях своих не рассказывал?
Не вытерпев, я посвящаю ее в то, как мы стали назваными братьями, как Сашка установил для меня испытательный срок, который уже подходит к концу.
— Фантазер и выдумщик твой Сашка, — весело говорит Нина, — смотри, не очень-то попадай под его влияние. Почему испытательный срок только для тебя? А для него?
— Я ему и так всю свою жизнь рассказал... Какие у меня могут быть тайны?
— В четырнадцать лет у всех бывают тайны. Рая-то у вас по-прежнему блистает? Не все еще в нее перевлюблялись?
Ох и хитра эта Нина Грозовая!
Мы расстаемся с ней около столовой. Я ищу талончик на обед и на мгновение пугаюсь: неужели опять потерял, растяпа несчастный? Но нет, вот он лежит в записной книжке, малюсенький кусочек бумажки, заключающий в себе первое, второе и, может быть, даже и компот.
— Почему без группы пришел? — ворчливо спрашивает подавальщица тетя Сима.
— В ночную работал...
— Труженики — от горшка два вершка.
Для начала она приносит мне хлеб и щи из крапивы.
О, хлеб сорок первого, тяжелый и вязкий, как глина, ты был для нас лакомее многих довоенных яств! На вид ты напоминал оконную замазку, но как приятно было не спеша разжевывать тебя молодыми крепкими зубами, стараясь продлить это необыкновенное удовольствие. Ты таял во рту неотвратимо и слишком быстро... Счастливые обладатели горбушек наслаждались на несколько мгновений дольше. Они хрустели поджаренной коркой и сосредоточено смотрели на тусклые цветочки клеенки. Редко кто разговаривал в эти минуты.
Добрая тетя Сима дала мне сегодня горбушку. Продолговатую, хорошо пропеченную горбушку, на срезе которой видны были матовые вкрапления картофеля. Очень редко доставались мне горбушки, когда я обедал вместе с группой. Наглецы, вроде Гошки Сенькина, коршунами набрасываюсь на поднос с хлебом, растаскивали куски, которые казались им больше и лучше других.
Все время доставалась мне серединка, пластинка хлеба, не идущая ни в какое сравнение с горбушкой. Она и на вид была меньше, и на вкус гораздо хуже.
Я надкусил продолговатое чудо и помешал ложкой щи. Густые. Как выгодно обедать в последнюю очередь! Повариха выскребает из котлов остатки, и они достаются счастливчикам вроде меня. Что из того, что вместо капусты щи заправлены крапивой? По радио говорили, что в крапиве — масса ценных витаминов.
Тетя Сима подсела ко мне за стол; пригорюнившись, оперлась щекой на ладонь и сказала:
— Компоту тебе не досталось. Есть утрешний чай. Принести?
Чай так чай. Бывают в жизни огорчения и похуже.
— Никак не дождусь письма я от мужа. На границе он служил. — Тетя Сима достала платочек, вытерла уголки глаз.
— Отступает, писать некогда, наверное, — предположил я.
— И что это за Гитлер такой объявился на нашу голову... Жили, как люди, никому не мешали. Сжег он небось все границы-то наши... Вон ведь как прет, окаянный...
В первый день войны я разлиновал общую тетрадь. В одной графе поставил даты, в другой написал: «Взятые немецкие города»... Ведь я ходил в кино, видел и парады на Красной площади. Я пел вместе со всеми «Если завтра война...»
В тетради моей так и не появилось ни одной записи.
— В конце концов, мы победим, тетя Сима...
— Вы победите! — раздраженно сказала она. — Одни бабы да вы, сопляки, в тылу-то остались.
В цехе Гошки Сенькина не было. Вот еще навязался на мою шею этот Косой со своей запиской. А главное, что он и фамилию мою знает, и комнату, где живу. Попробуй выброси записку — расправы не миновать.
Что, собственно, в ней написано? И имею ли я право передавать ее Гошке?
Навстречу шел Андрейка Калугин.
— О чем задумался, детина? — спросил он.
— Да вот, понимаешь, какая петрушка...
В двух словах я ему выложил всю историю. Андрейка бесцеремонно взял записку, развернул ее и прочитал вслух:
«Ксивы я тебе достал. Получишь после посещения тринадцатой квартиры в первом доме. Хозяева уехали — хата наша. Шмоток богато. Жду тебя там в субботу вечером. Звонить не надо — стукни разочек в стенку рядом с дверью, и порядок. Заметано? К.»
— «Заметано?» — еще раз повторил Андрейка и с интересом посмотрел на меня: — Уникальный документ попал к тебе в руки, Сазон.
— Что же мне делать? — растерянно спросил я.
Похоже, я влип в такой переплет, из которого просто так не выкарабкаешься.
— Выходов я вижу три, — спокойно сказал Андрейка, — первый — отдать записку в милицию, второй — самим устроить засаду в этой квартире, передав записку по назначению. И третий — вручить записку и забыть обо всем этом деле.
Калугин испытующе взглянул на меня:
— Решай, Аника-воин...
— С Воронком бы посоветоваться...
— Воронок выберет засаду. У него на Косого зуб старый.
— А ты?
— И я с вами буду. Да еще Даньку-молотобойца пригласим.
От сердца у меня отлегло. Данька один мог справиться с дюжиной таких, как Гошка Сенькин. Мускулы у него были словно канаты. Когда он здоровался с тобой за руку, то казалось, что пальцы твои сжимают чудовищные тиски. До поступления в училище он работал молотобойцем в кузнице.
— Делаем засаду! — повеселев, сказал я.
— Ну, а Гошку ты найдешь там, куда цари пещком ходили. Жалуется бедный на колики в животе. Да записку-то спиши предварительно. Пригодится.
Послание Косого Гошка принял из моих рук недоверчиво. Быстро прочел его и уставился на меня своими сонными глазами:
— Не пойму, чего-то он тут пишет. Может, объяснишь?
— А я читал, что ли? Давай посмотрю, если хочешь.
— Да ладно уж,— зевнул Гошка, — разберусь сам как-нибудь.
... Вечером в общежитии я стащил Воронка с койки. Он оттолкнул меня:
— Ты что, взбесился?
— Почему не сказал мне, что у тебя отец комдив? Я тебе про своего все рассказал, а ты помалкиваешь? Братья так не делают. Или ты уже раздумал быть моим братом?
— Тю, дурной, говорил же, что военный. Еще у Черныша. Сашка достал из кармана бумажник, раскрыл его и протянул мне фотокарточки.
Я увидел улыбающегося военного. Он улыбался, хитровато прищурясь. Совсем как Воронок. На петлицах его гимнастерки поблескивали ромбы. На обороте карточки я прочитал: «Плох, Сашко, солдат, который не мечтает стать генералом. Мечтай, сынок!»
— Понял? — сказал Сашка. — Он сейчас дивизией командует. Нина тебе сказала?
— Ага. Кстати, она на какие-то путешествия твои намекала.
— А вот об этом я тебе расскажу, когда кончится испытательный срок. Возможно, что и ты отправишься со мной в путешествие.
— Черт с тобой. Слушай, что со мной сегодня произошло. Косого я встретил...
Глава девятая
ОТСТУПАТЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ
Что ни говорите, а Данька-молотобоец все-таки феномен. Чудо природы. Мы разыскали его в умывальной. Данька фыркал, брызги так и летели во все стороны. Мускулы играли на его руках живыми клубками.
— Святая троица, — сказал Данька, заметив нас. — Что скажете? Выследили бандитов? Или напали на след шпиона?
— Не смейся, дело серьезное, — сказал Воронок.
— Верю, — согласился Данька, — по пустякам я не принимаю. Выкладывайте, что случилось.
Он внимательно выслушал нас и посоветовал:
— Обратились бы в милицию. Очень просто. Вообще, я вижу, вы мастера заваривать кашу. А как расхлебывать — бежите за мной.
— Значит, ты трусишь? Так бы и сказал. Мы и сами управимся. — Сашка обиженно пошел к двери.
— Вы же таланты, — сказал Данька. — Воронок вот боксер. А кто я?
Данька умел набивать себе цену. Мы знали, что ломается он для виду, что никуда нас одних он не отпустит. Просто Данька ждал очередной порции комплиментов. Мы простили ему эту маленькую слабость.
— Без тебя нам крышка, — печально сказал я.
— Ты один заменишь десятерых, — сказал Андрейка.
— Я и приемы-то все позабыл, — буркнул от двери Сашка Воронок.
— О-хо-хо, — закряхтел Данька. Лицо его приняло довольное выражение.
В чьем сердце лесть не находит уголка? Мало, наверное, таких людей на белом свете.
— Шут с вами. Так и быть, пособлю. Ребята вы вроде ничего. Только фантазий у вас много. Свойство детского возраста.
Мы промолчали. Даже Сашка Воронок промолчал. Мы почтительно смотрели, как Данька натягивает майку. Казалось, она вот-вот лопнет.
Данька щелкнул меня в нос.
— А ты, друг ситный, уверен, что все благополучно обойдется? Может, не стоит тебе лезть в эту квартиру?
— Стоит, — беспечно сказал я.
— Смел, как тореадор, — сказал Данька, — в Мексике или Испании ты, Лешка, был бы тореадором. Крутил бы хвосты быкам и срывал аплодисменты.
Понятие о тореадорах у него было несколько превратное. Я не стал вдаваться в ненужные объяснения. Пусть тореадоры, по его мнению, крутят быкам хвосты. Это, видимо, дело тоже не очень легкое.
Данька вдруг схватил меня и Воронка, посадил на согнутые руки и так зашагал по коридору.
Ребята тыкали в нас пальцами и покатывались от смеха, но мы в интересах общего дела предпочитали молчать. Всегда находятся людишки, которые в неловком положении человека видят нечто забавное. Это такие, наверное, вопили в древнем Риме, чтобы им подавали хлеба и зрелищ.
Чуть начало темнеть, мы с Воронком вышли из общежития. Данька с Андрейкой должны были с минуты на минуту последовать за нами. Они задержались в столовой.
... Это был один из тех старых приземистых домов, которые сохранились в Москве еще с купеческих времен. Кирпичная кладка побурела, дом осел, перекосив кое-где оконные проемы. Он напоминал кряжистого старичка, согнувшегося под бременем прожитых лет, но все еще крепкого.
Дом был двухэтажный. Тринадцатая квартира помещалась наверху. Сашка Воронок еще накануне успел покалякать во дворе с ребятами и разузнать все, что надо. Действительно, жильцы из тринадцатой квартиры неделю назад уехали в Саратов. Уехали они налегке, оставив в Москве почти все свои вещи.
Мы стояли с Воронком у «Гастронома» и поджидали Андрейку с Данькой-молотобойцем. Воронок настаивал на том, чтобы засаду устроить на чердаке.
— Мы их, субчиков, будем видеть как на ладони. Дадим возможность им проникнуть в квартиру, а потом спустимся и встретим их прямо с поличным.
Воронок вооружился железным прутом, спрятав его в рукаве шинели. У меня в кармане лежал небольшой булыжник. Но в глубине души оба мы больше всего рассчитывали на стальные Данькины мускулы. Когда Данька выступал на вечерах самодеятельности, играя, словно мячиками, двухпудовыми гирями, в зале стояла восторженная тишина. Даньке предсказывали будущее чемпиона мира по штанге. Повариха, по собственной инициативе, всегда старалась выкроить для молотобойца дополнительный обед. И никто из нас не сетовал на это: ясно было, что Данька с его недюжинной мускулатурой нуждается в дополнительном питании больше, чем кто-либо другой.
Сашка насвистывал грустный мотивчик, меланхолично глядя на пустую витрину магазина.
— Когда-то она ломилась от окороков и колбас. Можно было зайти с полтинником и выйти с кульком леденцов. Сказка была, а не жизнь, — заключил он и, нагнувшись, подобрал толстый окурок.
— Смотри-ка, «Казбечина»! Не иначе какой-нибудь спекулянт бросил. Оставить покурить?
Я отрицательно помотал головой, вглядываясь в конец улицы. Прошло десять минут после условленного времени, а товарищей наших все не было. Что могло их задержать? Андрейка всегда отличался точностью. В группе шутили, что по нему можно проверять часы.
Но вот наконец показались и они.
— Долго не обслуживали нас в столовой, — сказал Андрейка.
— Можно было пожертвовать ужином, — проворчал Воронок.
Сашка доложил обстановку.
— Согласен, что надо забраться на чердак, — сказал Данька. — Но не всем. Двое из нас должны в подъезде спрятаться. Кто хочет? Нужно ведь следить и за окнами, и за тем из них, кто может оказаться внизу — на шухере, как они говорят.
Мы с Воронком переглянулись.
— Значит, мы с Данькой во дворе остаемся, — решил Андрейка, — а вы там не лезьте на рожон. Только наблюдайте. Ясно?
Сашка показал им кончик железки и спросил:
— А у вас есть что-нибудь?
— Кулаки у нас есть. И головы. Думаем, что этого достаточно, — сказал Данька.
Мы с Воронком осторожно поднялись наверх по лестнице, где пахло кошками и прокисшей капустой. На улице было еще светло, а на чердаке уже сгущались сумерки. Мы распластались у чердачного проёма. Тринадцатая квартира была прямо перед нашими глазами.
И только тут мы поняли до конца, что дело нам предстоит не шуточное, что отступать уже нельзя. Впрочем, было еще не поздно. Можно еще сойти вниз и сказать ребятам, что мы сдрейфили. Но как мы после этого будем смотреть друг другу в глаза? Как сможем жить, когда останется на совести это грязное и липкое пятно — трусость?
Вчера я не ожидал, что мне будет страшно. А сегодня страх проник даже в кончики пальцев, покалывая их иголочками и оттуда пробирался к сердцу. Мне было стыдно этого страха, я покусывал губы и не сводил взгляда с числа «тринадцать» на дверях квартиры. Говорят, что это роковое число. Многие побаиваются его. Но я-то ведь не суеверный. В одном из своих стихотворений, помещенном в стенгазете, я высмеивал ребят, верящих в приметы. Потом это стихотворение читала на вечере Танька Воробьева. Ей здорово хлопали тогда. Танька собирает все мои стихи. Шутит, что со временем отдаст их в музей.
— Боязно? — шепотом спросил я Сашку.
— Вот еще! — сказал Воронок и, поежившись, добавил: — Становится довольно прохладно. Кто знает, сколько придется ждать.
— А знаешь, Воронок, я жду не дождусь конца моего испытательного срока, — сказал я.
— Неужто! — оживился Сашка. — Значит, всерьёз заело тебя. Ну ничего — скоро я расскажу тебе о моих путешествиях. И, может, мы вдвоем начнем готовиться к новому. Если ты, конечно, согласишься.
— Какие путешествия во время войны? Не смеши, Воронок. Опять ты меня разыгрываешь.
— На этот раз нет. Нас ждет отличное путешествие. А ну, тихо...
На лестнице послышались шаги. Старушка с авоськой, кряхтя, поднималась по ступенькам. Из авоськи торчал рыбий хвост. Старушка прошла налево — в двенадцатую квартиру.
— Отоварилась бабуся, — сказал Сашка, — поймала золотую рыбку.
— Давай помолчим, — предложил я, — пограничники в секретах часами не разговаривают. А мы все болтаем.
— Так то пограничники. А мы с тобой всего-навсего ремесло. До пограничников у нас нос не дорос. Надо же было так поздно родиться!
Когда разговариваешь, то чувствуешь себя как-то спокойнее. Не лезут в голову всякие ненужные мысли.
— Андрейка у нас замечательный. Правда, Воронок?
— А мы что — лыком шиты? Я тоже хотел в подъезде остаться, да они меня опередили. Там, между прочим, безопаснее.
— Так ты, значит, хотел где безопаснее?
— Ну тебя к лешему! И чего придираешься к каждому слову? Может, никто еще и не придет. Нанюхаемся вот этой дореволюционной пыли —- и потопаем в общежитие несолоно хлебавши.
Да, это был бы прекрасный выход. И зачем только мы ввязались в эту историю? Просто надо было сообщить милиции, и все. Единственно правильный шаг, которого мы, к сожалению, не сделали. И даже благоразумный Андрейка Калугин почему-то высказался за засаду.
— Тебе хорошо, — шепнул я, — у тебя разряд по боксу да еще эта железяка. А у меня всего лишь булыжник и мускулы, как кисель.
— Нет у меня никакого разряда. На пушку я тебя взял, — буркнул Сашка.
Вот это да! Ну где еще встретишь такого трепача! Я-то думал, что я за Воронком, как за каменной стеной, а он, оказывается... Влипли мы, что и говорить. Право же, писать стихи о храбрости в сто раз легче, чем маяться на этом проклятом чердаке в ожидании грабителей.
И тут мы снова услышали шаги. На лестнице, воровато оглядываясь, появился Косой.
Сашка двинул меня локтем в бок. Я двинул его. Не дыша, мы следили за происходящим. Косой открыл дверь ключом и оглянулся на лестницу. Он исчез в квартире, а мы с Воронком уставились друг на друга.
Сашка тяжело передохнул, сказал с наигранной беспечностью:
— Видал? Собственной персоной явился. А Гошка-то, видать, сдрейфил.
— Что же будем делать?
— Не пасуй, Сазончик. В общем, я стану у двери и ошарашу этой железкой по голове первого, кто выйдет. Второго, если будет второй, — бьем вместе с тобой. До смерти не обязательно. А в общем и целом, разрешаю кусаться и применять все подручные средства.
Воронок преобразился. Глаза у него азартно заблестели.
— Помни, брат мой, это наша первая схватка! Будем давить их, если уж не пришлось нам давить фашистов.
— Постой, постой. Нам ведь велели только наблюдать, — охладил я пыл Воронка.
Он сразу скис и неохотно сказал:
— Вообще-то приказам следует подчиняться. Дисциплина — это все. Что ж, будем наблюдать.
Прошло еще полчаса, а в тринадцатую квартиру больше никто не пришел.
— Сейчас я чихну, — сказал Сашка.
И в это время на пороге квартиры появился Косой с двумя большими чемоданами. Сашка зажал нос пальцами и смотрел на жулика вытаращенными глазами. Косой прихлопнул дверь и торопливо стал спускаться по лестнице.
Сашка чихнул.
Косой вздрогнул и опрометью помчался вниз. Мы с Воронком сиганули с чердака, как стрелы, выпущенные из луков.
Загораживая дверь подъезда, перед Косым стояли Данька и Андрейка.
— Кыш с дороги! — сказал Косой.
— Давай помогу, — сказал Данька и протянул руку к одному из чемоданов.
Косой поставил чемоданы и быстро сунул руку за голенище сапога. В руке его появилась финка.
— Жить надоело? — спросил он Даньку с усмешкой.
Воронок и я набросились на него сзади. Сашка укусил Косого за руку, в которой была финка. Нож звякнул о каменный пол.
Данька завернул руки Косого за спину и, подталкивая его коленкой к выходу, сказал:
— Двигай-двигай, субчик-голубчик. А вы, хлопцы, прихватите финку и чемоданы. Взяли гада с поличным. Теперь в милиции не отвертится.
Глава десятая
ОТЦА У МЕНЯ УБИЛИ НА ФРОНТЕ
В куче металлических стружек Борода нашел двенадцать снарядных донышек. Все заготовки были испорчены на черновой проточке. Они уже покрылись красноватой ржавчиной. Борода перетащил детали к себе на стол. Он разложил их на три кучки и проверял скобой снова и снова. Лицо у мастера было недоумевающее и растерянное. Мы наблюдали за ним из-за своих станков.
— Быть грозе! — сказал мне Андрейка. — И какой только дурак умудрился спрятать их?
Каждому из нас случалось «гробить» заготовки. Но никто и никогда не старался скрыть это. Правда, иной раз Андрейка или я брали на себя вину Раи Любимовой. Но ведь испорченные заготовки предъявлялись в конце концов Бороде. Он отчитывал Андрейку или меня — и на том дело обычно кончалось. А тут кто-то сообразил похоронить сразу двенадцать донышек!
Украдкой я посмотрел на Раю Любимову. Она низко склонилась над деталью. Лицо ее было пунцовым. «На воре шапка горит», — вспомнилась мне старинная поговорка. Ах, Рая, Рая, неужели это сделала ты?
Я вспомнил, как она рассмешила всех, когда появилась у нас впервые. Ее тогда прикрепили ко мне. Я ничего не имел против. Очень даже приятно быть наставником такой симпатичной ученицы. Но она взбунтовалась сразу же:
— Не хочу учиться на токарном!
Нас обступили зеваки. В любой группе есть такие, которым лишь бы не работать, а как-нибудь убить время до обеда. К тому же на первых порах с нас не очень строго спрашивали. Это сейчас не отойдешь от станка, не получив разрешения мастера. А тогда было вольнее. Покуривали в уборной, критиковали училищные порядки. Анекдотики рассказывали. Одно время Борода грозился вообще закрыть уборную. Но ему, наверное, не разрешил директор.
Зеваки смотрели Рае в рот и ожидали, что она еще скажет. Таким красивым девчонкам иногда приходят в голову сумасбродные мысли. Я ломал голову, как к ней обращаться: на «ты» или на «вы». В конце концов решил, что на «вы» будет правильнее. Все-таки она постарше меня. И к тому же разодета, словно принцесса. Шелковая белая кофточка, плиссированная юбочка, туфли на каблучках. Девчонки наши тысячу раз сфотографировали своими зрачками ее наряд. Пошушукаться они и без этого были любительницы, а тут такой повод. Они шептались сегодня напропалую и краешком уха прислушивались к нашему разговору.
— А что вы хотите? — вежливо спросил я.
— Хочу на револьверном!
— Почему же именно на нём?
— Буду делать револьверы для красноармейцев. Неужели непонятно?
Такого смеха, какой грянул после ее слов, наши стены никогда не слышали. Девчонки смеялись до слез и смотрели на Раю, как на заморское диво.
Рая капризно надула губы и топнула каблуком:
— Чего они смеются?
Пришлось объяснить, что револьверный станок лишь немного отличается от токарного. Что никто не сумел бы сделать на нем револьвера, как бы ни старался. Одна из частей станка действительно напоминает револьверный барабан, поставленный на попа. Но в этом «барабане» крепятся резцы, сверла, метчики.
— А я-то думала... — протянула Рая.
— Индюк думал да в суп попал, — высказался Гошка Сенькин.
Я молча взглянул на него. Гошка независимо высморкался, но от станка моего все-таки отошёл.
После этого в училище долго показывали на Раю пальцами и говорили: «Вот эта самая. Револьверы на револьверном надумала делать. Голова!»
В дальнейшем, обучая Раю Любимову, я обнаружил у себя полнейшее отсутствие педагогических способностей. Наши разговоры с ней очень походили на разговоры Петьки-ординарца с Анной-пулемётчицей из кинофильма «Чапаев». Там Петька говорит об одной детали пулемета: «А это щёчки...» Анка же готова ему пощёчину залепить, думая, что он над ней смеётся.
Так и у нас с Любимовой получилось. Объясняю ей устройство станка и говорю:
— Это вот бабка.
— А где дедка? — насмешливо спрашивает Рая.
— Дедки нет, — сержусь я, — есть передняя бабка, и есть задняя бабка.
— Задняя? Ах так! — Она фыркает и идет жаловаться к Бороде.
— Сазонов мне всякие глупости говорит.
Хорошо же! Пусть ее учит кто-нибудь другой. Я лично умываю руки. Мастер уговаривает меня:
— Пойми, до войны её на рояле учили. Думаешь, легко — после рояля за станок?
Меня когда-то тоже учили играть на скрипке. В далеком детстве, когда мне было семь лет. Сейчас мне четырнадцать, и я не променяю свой токарный даже на скрипку Страдивариуса. Каждому — свое. Большинство родителей почему-то считают своих детей самыми талантливыми, самыми необыкновенными. Родители в мечтах видят их дирижерами, певцами, капитанами дальнего плавания. Я не встречал человека, который бы хотел вырастить сына конюхом, а дочку — дворничихой. Однако есть и конюхи и дворничихи. И кому-то приходится выращивать хлеб. И кто-то шьет для нас штаны. И кто-то варит сталь, делает станки, строит города... Жутко представить, что случилось бы, если все вдруг стали бы только дирижерами, певцами и капитанами дальнего плавания. Дирижеры остались бы без музыкантов, певцы — без слушателей, капитаны — без моряков. Да они бы съели друг друга!
Борода убедил меня продолжать занятия. Теперь Рая слушает молча, обходясь без коварных вопросов. Прошу повторить. Покраснев, она отвечает, как на уроке в школе:
— Суппорты — продольный и поперечный — крепятся на штанине. По ней же свободно движется бабка.
— Откуда вы взяли штанину? Я не говорил ни о какой штанине. Станина, а не штанина!
— У тебя дикция плохая, — холодно отвечает Рая, — словно кашу во рту жуешь. И вообще, у этого станка сплошные неприличные части. Неужели нельзя было назвать как-нибудь иначе?
С грехом пополам она все же освоила премудрости нашего ремесла. И почему-то с тех самых пор невзлюбила меня. А я, наоборот, стал относиться к ней гораздо лучше. Бывает же так в жизни!
Сейчас я смотрю на ее пунцовое лицо и меня злость берет. Ну, призналась бы нам откровенно, что так и так — «запорола» двенадцать заготовок. Разделили бы мы их по две на шесть человек. Авось и сошло бы. Так нет, надо было тайком запрятать детали в стружку. Не знает, что у Бороды на такие вещи необыкновенный нюх. К тому же заготовки он получает по счету. Рано или поздно — все равно хватился бы.
Мастер подходит к моему станку. Он стоит, заложив руки за спину, и наблюдает, как я протачиваю снарядное донышко. Начерно протачиваю.
Как, он подозревает меня? Чувствую, что начинаю неудержимо краснеть.
И сразу же у меня «летит» резец. Отскакивает режущая победитовая пластинка, плохо припаянная кем-то. Отличился! Достаю из тумбочки новый резец и собираюсь пройти мимо Бороды к наждаку.
— Сазонов, кто бы это мог сделать?
Уточнять вопрос вряд ли стоит. Пожимаю плечами. В конце концов, какие у меня улики против Раи? Никаких. Да если бы и были — так бы я их и выложил. О другой девчонке, может, и сказал бы. О Рае — никогда.
— Это похоже на Сенькина, Сазонов, — наводит меня на след мастер, — он один работает у нас тяп-ляп. Поговори с ним, дружок...
Я вскидываю голову и нахожу глазами Гошку Сенькина. Он опасливо косится в нашу сторону...
— Попробую узнать, — говорю я.
— Попробуй, — просительным тоном говорит мастер.
Я пальцем вызываю Гошку в коридор и без обиняков спрашиваю:
— Твоя работа? Запартаченные донышки-то?
— Вот тебе крест, не я! Видел, как Райка возле той кучи стружки копошилась, — шепчет он, сразу став каким-то серым и очень жалким.
В обеденный перерыв вместе с ним подхожу к Рае. Гошка повторяет свои слова. Как прекрасна Рая Любимова в гневе!
— Да, я относила стружку, но деталей не прятала, — гордо подняв подбородок, говорит Рая.
— Минут десять там копошилась, — твердит Гошка, — своими глазами видел. Чегой-то вроде притыривала... Прятала, значит...
Рая плюет ему в лицо и уходит королевской походкой. Гошка вытирает щеку и обрадованно говорит:
— Видал — психанула! Видал? Она и спрятала, не стоять мне на этом самом месте.
Перед концом работы к столу Бороды приближается заплаканная Танька Воробьева. Она мнет в руках мокрый платочек и, с трудом произнося каждое слово, говорит:
— Рая не виновата. Это я запорола донышки. Отца у меня убили на фронте. Вот и не видела ничего сквозь слезы. А когда спохватилась — смотрю: брак, брак, брак…
— Иди работай, Танюша, — необычайно мягко говорит Борода.
Светлеет лицо Раи Любимовой, тяжелый камень падает с моей души, и даже Гошка Сенькин начинает трудиться усерднее, чем всегда.
Наверное, чертовски обидно человеку, когда на него падает несправедливое подозрение. Даже такому, как Гошка Сенькин. Напрасно некоторые ребята побаивались его связей с Санькой Косым. Связи эти на поверку оказались не крепче паутины. Сенькин — тряпка. Вот и Косому он не решился помочь, хотя тот и обещал щедро одарить его. Струсил. И не прогадал, пожалуй. Сидел бы сейчас на скамье подсудимых и лил крокодиловы слезы, как Санька Косой.
Глава одиннадцатая
НЕ НА ШУТКУ РАЗМЕЧТАЛСЯ
Так вот какое путешествие предлагает мне Сашка! Я сижу на койке напротив него и удивленно хлопаю глазами.
— А что, — говорит он невозмутимо, — не доберемся, думаешь? Еще как доберемся! У меня уже есть опыт по этой части. Вернули ведь почти с передовой...
Бежать на фронт! Честно говоря, раньше эта мысль как-то не приходила мне в голову.
— К отцу пробираться бесполезно, — деловито продолжает Воронок, — он нас мигом вытурит. Зато в любой другой дивизии нас встретят по-человечески. Станем сыновьями полка, в разведку будем ходить. Кто из фашистов заподозрит нас? Мы же четырнадцатилетние. Ну, а в свободное время я буду играть для красноармейцев на аккордеоне, ты стихи читать будешь...
Картина, нарисованная Сашкой, заманчива и вроде вполне осуществима. До фронта сейчас — рукой подать. Он приближается к Москве с каждым днем.
Холодок восторга проникает в мое сердце. Ай да Воронок!
Нет, не зря он испытывал меня. В такое путешествие можно отправляться только с проверенным другом.
— Согласен! — говорю я. — Когда бежим — завтра?
— Прыткий какой! Сразу видно, что ты совсем еще ребенок. Хотя, — задумчиво добавляет он, — на чердаке ты так держался, что меня даже завидки взяли. Словно каждый день жуликов задерживаешь — такой спокойный был.
Я держался?! Я был спокойный? Меня подмывает рассказать Воронку о моих страхах, но он не дает мне и рта открыть.
— Первым делом — надо насушить сухарей. Неплохо раздобыть несколько банок консервов. Консервы беру на себя. С сегодняшнего ужина откладываем по пайке хлеба. Ужинаем без него. На ночь вообще вредно есть — по радио все время об этом говорят. Недели через две необходимые запасы у нас будут. Вырабатываем маршрут — и фьють!
— Здорово! — подхватываю я. — Представляешь, вернемся после победы — на груди ордена. Штуки по четыре. Прохожие удивляются: «Совсем еще мальчики, а сколько наград заслужили!» А мы идем себе как ни в чем не бывало и вдруг встречаем Нину Грозовую. Она всплескивает руками и с завистью смотрит на нас. А мы говорим ей спокойненько: «Не хочешь, Нина, посидеть с нами в ресторане? Вспомним ремесленное и как ты нас пропесочивала за малейшую провинность».—«Ах,— говорит Нина, — я и не знала, что рядом со мной жили такие необыкновенные люди! Вы уж простите меня, что я вам давала взбучку за всякую ерунду, вроде чехарды или футбола в рабочее время. С удовольствием послушаю про ваши подвиги». Она берет нас под руки — мы ведь обогнали ее в росте — и с гордостью идет рядом с нами...
— Отчего ты не пишешь рассказов? — с удивлением спросил Сашка. — У тебя они должны получаться.
Но я отмахнулся. Меня понесло.
— Нина просит нас выступить в ремесленном. И вот мы видим в зале нашего мастера. Борода сияет, как именинник, и шепчет соседу: «Это я воспитывал этих героев. Они всегда были моей гордостью».
— Ну, тут уж ты загнул, — с сомнением сказал Сашка. — Андрейка, тот действительно его гордость. А нас с тобой он недолюбливает. За музыку и стихи. По его мнению, токарям это ни к чему.
— Ограниченный человек. И все-таки он шепчет: «Этот, Воронков, за две недели стал первоклассным токарем».
— Освоил черновую проточку, — уточняет Сашка.
— В зале сидит и Федот Петрович Черныш. Слезы застилают ему глаза. «Да, — думает он, — теперь я знаю, кому завещать мою саблю. Подарю-ка я ее геройскому парню Лешке Сазонову».
— Почему же именно тебе? У нас же обоих по четыре ордена.
— А у меня еще две медали: «За отвагу» и «За боевые заслуги».
— Значит, я совсем без медалей?
— Н-да, — спохватываюсь я. — Ты, я вижу, не на шутку размечтался.
— Я?! Сам заливает, а сваливает на меня. Ишь ты, саблю ему захотелось!
— Не расстраивайся, брат мой. Ордена и медали наши еще впереди. Еще не раз придется Михал Иванычу Калинину пожимать наши мужественные руки. Вручает он мне первый орден и спрашивает: «Простите, Алексей Семеныч, вы не сын героя гражданской войны Семена Сазонова? ..» — «Так точно», — отвечаю. «Выходит, смелость в семье Сазоновых — черта наследственная? Очень приятно!» И он целует меня, словно родного внука...
— Опять только тебя... Ты, Лешка, все же эгоист порядочный.
— Ну и тебя тоже, — милостиво говорю я Воронку. — Узнает, что ты — мой названый брат, и тоже целует... Слушай, а мы не прозеваем ужин?
Мы торопливо натягиваем шинели. Бежим по улице и по дороге нагоняем Гошку Сенькина. Он что-то жует и, заметив нас, прячет в карман здоровенный ломоть хлеба.
— Усиленное питание? — осведомляется Сашка. — Отощал в беготне по врачам? Справляешь поминки по Косому?
Шматочек жмыха подобрал, — объясняет Гошка.
— А манна небесная тебе не встречалась? Ее тоже рассыпает господь перед страждущими и голодными. И тоже без карточек.
— А с Косым я делов не имел. Вот те крест, — заискивающе говорит мне Гошка, не вынимая руки из кармана. Придерживает хлеб на всякий случай.
В столовой мы все садимся за один стол. Гошка, конечно, схватил горбушку и сразу же вонзил в нее свои редкие зубы.
— Не подавись, дорогой, — заботливо сказал Сашка, — я знаю случай, когда человеку попала корочка в дыхательное горло и он тут же отдал концы. Скапустился в две минуты.
Я смеюсь и машинально отщипываю кусочек от своей пайки. Сашка начинает ерзать на стуле и смотрит на меня взглядом укротителя. Видя, что гипноз его не производит ни малейшего впечатления, Воронок больно пинает меня ногой под столом.
— Ты чего? — простодушно спрашиваю я.
— На ночь есть вредно — вот чего. Радио надо слушать.
Ах да! Мы же решили откладывать хлеб на сухари. Как это вылетело у меня из головы...
— И впрямь есть неохота, — говорю я, небрежно щелкая ногтем по хлебу, — только что навернул банку тушонки.
— Почем брал? — живо интересуется Гошка.
— За два огляда, — отвечаю ему по-свойски.
Сенькин довольно хихикает. Он видит, что Сашка тоже не притрагивается к своему хлебу. Удивленно говорит:
— Никак, и ты, Воронков, тушонки налопался?
— Аж изжога схватила. Мяса теперь даже видеть не могу.
Гошка колеблется. На лице его отражаются самые противоречивые чувства. В конце концов он говорит со смешком:
— Так я возьму ваши пайки. Чего ж им даром пропадать? А я нынче здорово голодный.
— Что-о-о? — грозно рычит Воронок. — Да я лучше свиньям их отдам, чем тебе! Кто не работает — тот не ест. Знакома тебе эта прописная истина?
Интересно, где он возьмет свиней? Гошка смотрит на него обиженно.
— «Кто не работает...» У меня, может, рак, а врачи никак не определят. Бестолковые они, врачи-то.
— Воспаление хитрости у тебя, — говорит Сашка и заворачивает наш хлеб в газету.
Затем он близко-близко подвигается к Гошке Сенькину и что-то доверительно шепчет, дружески обняв его одной рукой. Сенькин внимательно слушает и отвечает:
— Правда, голодный! Маковой росинки во рту не было. Вот только тот кусочек жмыха и съел.
— Тогда мне искренне жаль тебя, — сочувственно произносит Сашка, — позволь мне тогда выделить тебе долю из моих запасов.
— Давай! — Гошка жадно протягивает руку.
Воронок вкладывает ему в ладонь здоровенный ломоть белого хлеба граммов на триста.
— Кушай на здоровье, — с лицемерной кротостью произносит Сашка.
Сенькин лихорадочно хватается за карман. Глаза его становятся злыми.
—У, во-рю-га... — говорит он медленно и с расстановкой.
Сашка тут же дает ему пощечину:
— За такие слова полагается отвечать, дорогой мой!
Гошка трет покрасневшую щеку и перебирается за другой стол. Оттуда он грозит:
— Ты у меня еще будешь прощенья просить.
Тетя Сима ставит перед нами железные тарелки с овсянкой.
— За что ты его? — спрашивает она Сашку.
— Вор у вора дубинку украл, — туманно говорит Воронок.
— Ох, озорники! — качает головой тетя Сима. — В наше время мальчишки были совсем не такими. Смирными были. А мой вот тоже сорванцом растет. Вчера ему дружки новую рубашку в клочки разорвали. Напасись попробуй.
Мы наваливаемся на овсянку. До чего же вкусна эта каша, такая непривлекательная на вид!
—Что ж без хлеба-то? Уже съели, нe дождавшись? Пойду попробую попросить вам добавки. Повариха сегодня добрая — письмо от мужа получила.
С добавкой мы расправляемся так же быстро. Добрейшая тетя Сима не обделила и Гошку. Он лениво ковыряется ложкой в тарелке. Видно, что овсянка не лезет ему в горло, но он все-таки пропихивает ее в рот, ложку за ложкой.
— Я пойду, — говорит Сашка, — а ты потолкуй с этим симулянтом. Может, через него консервов на дорогу можно достать.
— Чего ты с ним водишься? — кивая на удаляющегося Воронка, спрашивает меня Сенькин. — Он же псих ненормальный. Я вот подговорю кое-кого — ему зададут перцу.
— Стоит ли? — небрежно спрашиваю я.
— Да за эту пощечину его убить мало!
— У него же отец — командир дивизии. Чуть тронь Сашку — и тебя мигом законвертуют за тридевять земель, — добросердечно сообщаю я.
— Вот оно что! А я и не знал. Спасибо, что предупредил.
— Всегда рад услужить хорошему человеку...
— То-то ты с ним водишься. Пахан небось посылки ему присылает?
— А как же — каждую неделю по две штуки.
— Вот жизнь-то! То-то ему наш пролетарский хлебушек не по вкусу. А в карман-то как незаметно залез ко мне? Сын комдива называется! И как только я руки его не почувствовал...
Пробую заговорить о консервах, но Гошка сразу замолкает. Нет, первого встречного он не посвятит в свои рыночные махинации...
Придется пока запасать только сухарики. Для меня это не внове. Недавно я решил накопить денег на часы. Продавал свой хлеб. Через две недели у меня собралась порядочная сумма. По дороге на рынок, где я собирался прицениться к часам, мне встретилась пухлощекая гражданка. Прямо-таки довоенная гражданка. У нее в авоське лежала увесистая буханка. При виде этой буханки я начал глотать слюнки. Условный рефлекс, открытый академиком Павловым. Попробуйте недоедать две недели, и вы увидите, что я не вру.
Гражданка доверительно сказала:
— Сынок, хлеб не купишь? Еще теплый — прямо с хлебозавода.
Я пощупал хлеб сквозь авоську. Он действительно был теплый. Только-только вынули его из печки. Такой хлебушек нам есть не доводилось.
— Сколько? — сглотнув слюну, спросил я.
Гражданка сказала. Именно такая сумма лежала у меня в кармане гимнастерки. Я подумал, что часы все же вещь несъедобная. Ну, тикают. Ну, показывают точное время. Так у нас в цехе есть огромные часы. И в общежитии тоже. Стоит ли, как говорится, выбрасывать деньги на ветер? Да и хватит ли их на часы? Может, целесообразнее купить этот хлеб? Желудок мой склонялся ко второму варианту, а разум подсказывал, что вряд ли я накоплю еще раз столько денег. Голодовка все же есть голодовка. И переносить ее, особенно в четырнадцать лет, когда клетки, как назло, растут бурно и знай себе требуют всяких там калорий, нелегко.
— Дороговато, — сказал я тетке и равнодушно отвернулся в сторону.
Но эта буханка, наверное, была намагничена не меньше всей Курской аномалии. Металлические пуговицы моей шинели поворачивало к буханке мимо моей воли. Желудок ворчал что-то неразборчивое, вступая в пререкания с рассудком. Гражданка и не подозревала об этой перебранке, о буре, бушующей в моем пустом животе.
— Уступлю десяточку, — сказала гражданочка.
И разум отступил. Я отдал деньги и небрежно сказал:
— Можете не проверять. Без обмана.
— Копеечка счет любит, — сказала гражданка. Она трижды пересчитала мои замусоленные деньги и только тогда отдала мне буханку, воровато оглянувшись по сторонам.
Я пришел в общежитие и водрузил буханку на стол. Мы втроем навалились на нее, как сто проголодавшихся волков.
Вскоре от буханки остался один запах. Он витал в комнате, где мы так геройски разделались с буханкой. Даже не хотелось уходить из комнаты.
— Понятно, — ковыряя спичкой в зубах, сказал Воронок, — толкучка была закрыта на учет и часов ты не купил.
Это было совсем недавно, а сейчас мы с Воронком вдвоем стали экономить хлеб. Но есть-то нам хотелось.
— Будем ходить в театры, — многозначительно сказал Воронок.
Я удивился. В зрачках моих появились вопросительные знаки.
— Чудак, — сказал Сашка, — в театральных буфетах иногда продают какие-то загадочные изделия из сои. Без карточек, но вроде бы съедобные. В общем, положись на меня. Я все разведаю. Куплю билеты только туда, где пахнет съедобным. А о репертуаре станем думать в мирное время. Возражений нет?
— Нет, — сказал я.
Приобщиться к искусству всегда полезно. Даже если тебя толкает на это корыстная цель.
Глава двенадцатая
СОГЛАСНЫ СТАТЬ МОИМ УЧЕНИКОМ?
Сегодня мы будем смотреть в театре оперетту! Знаменитую «Сильву».
— Как только объявят антракт, — говорит мне Сашка, — срывайся с места и жми на всех парах в буфет. Там есть суфле. Такое, знаешь, жидкое мороженое. Надо первыми захватить очередь. А то не достанется.
В училище нас не очень балуют сладким. Дают по два кусочка сахару. А до войны, помню, я мог съесть несколько порций мороженого подряд. Только подавай. Однажды какой-то подвыпивший дядечка в припадке щедрости угощал меня шоколадным эскимо.
— Ешь сколько хочешь, — говорил он, — плачу за все!
Когда я швырнул в мусорный ящик десятую палочку, дядечка протрезвел и сказал:
— Не дай бог такого сына. Разорит.
Но за десять эскимо все-таки заплатил.
В театре мы с Воронком чувствовали себя не в своей тарелке. Смущались. Кругом нарядная публика. Зеркала. В каждом отражаются наши замухрышные фигуры в стиранных-перестиранных гимнастерках. Мишка не замечал наших терзаний. Он шел в своей гимнастерке, словно во фраке, поглядывал по сторонам и говорил:
— Не скажешь, что война. Все такие шикарные. Правда?
— Ты на них утром посмотри. Все телогреечки наденут, — ответил Воронок.
В зале он предусмотрительно сел у прохода, чтобы во время антракта первому попасть в буфет. Похоже, что музыка Кальмана интересовала его меньше, чем загадочное суфле. Вот тебе и музыкант.
У меня болели глаза, будто кто-то насыпал в них песку: мы работали в ночную смену, а днем поспать не удалось.
Я с интересом глядел на сцену. Ишь ведь как жила буржуазия! Только и умела ногами дрыгать, да песенки распевать. А музыка хорошая. Говорят, что лучше всего слушать музыку с закрытыми глазами. А ну-ка проверю, верно это или нет.
Я зажмуриваю глаза. И впрямь чудесно. ... Я плыву куда-то в лодке. А волны ударяют в борт, плавно покачивают лодку из стороны в сторону. А из облаков звучит музыка. Все дальше и дальше плывет моя лодка в открытое море. Хорошо-то как! Но вдруг сгущаются вверху тучи. Вот-вот разразится гроза, начнется шторм. Скорее к берегу! Но поздно,.. Лодка моя переворачивается. Штормовая волна больно бьет меня в спину. Раз, другой, третий...
Я раскрываю глаза. Оказывается, это Сашка лупит меня кулаком между лопаток.
— Всю «Сильву» проспал, — говорит он сердито.
— Что ж не разбудил? — обиженно спрашиваю я. Смотрю вокруг и вижу наполовину пустой зал. Мишка ухмыляется:
— Это я ему не разрешил. Очень сладко ты спал. Все время улыбался во сне.
— А как же суфле? Жидкое мороженое.
— Не было суфле, — мрачно говорит Сашка. — Не было жидкого мороженого. Наверное, его решили по карточкам выдавать. Зря только я бегал в буфет каждый антракт.
— Мне, ребята, понравилась оперетта, — сообщает нам Мишка, — надо будет еще раз сходить.
— Мне тоже понравилась, — говорю я.
— Помолчал бы! — хмурится Воронок. — Видали такого — в театр спать пришел.
— Да я ж не нарочно, — виновато оправдываюсь я перед товарищами, — я ж совсем не хотел...
— Ты еще дома у Иван Михалыча не вздумай заснуть, — грозно предупреждает Сашка.
Завтра мы наконец-то ведем Мишку к профессору консерватории, Ивану Михайловичу. Мишка подготовил программу. И арии, и романсы, и песни. Старинные и современные.
— Меня теперь калачами не заманишь на оперетту, — говорит Сашка Воронок.
Он не может простить буфетчице, что она не привезла сегодня суфле.
— Какой же ты музыкант? — удивляется Мишка.
— Оперетта — легкомысленный жанр. Мне по душе серьезная музыка, — солидно высказывается Воронок.
— Ты, Сашок, неправ! — У Мишки загораются глаза. Сейчас они схватятся в словесном поединке. Так бывало не раз. Мне кажется, что в этом споре прав Мишка. Но я не вмешиваюсь в их разговор. Мне стыдно, что я заснул в театре...
Квартира Ивана Михайловича оказалась похожей на музей. Сколько там было картин, статуэток, портретов знаменитых людей с дарственными надписями!
Мы двигались по ковровой дорожке в благоговейном молчании, боясь невзначай задеть какую-нибудь хрупкую фигурку. И все-таки Сашка Воронок умудрился кокнуть небольшую чашечку, на которой были нарисованы скрещенные голубые мечи. Сашка так стремительно кинулся собирать осколки, что со стороны казалось, будто он упал на колени перед Иваном Михайловичем.
— А, пустяки. Сущие пустяки. Посуда бьется к счастью, — небрежно махнув рукой, сказал профессор.
Много лет спустя я узнал, что чашечка эта была из очень редкой коллекции фарфора. За такую чашечку знаток и любитель не задумываясь заплатил бы огромные деньги. Но в этот раз все мы поверили, что разбитая чашка — безделица. Очень уж искренний голос был у профессора.
Ивану Михайловичу не терпелось послушать Мишку. И Мишка оправдал его ожидания. Сначала он пел под аккомпанемент Сашки Воронка. Потом профессор сам сел к роялю и стал играть, посматривая на Мишку счастливыми глазами. Мишка малость освободился от смущения, и его хрустальному голосу уже стало тесно в небольшой квартире.
— Ну, хватит! — сказал наконец Иван Михайлович.
— Да он может еще три часа петь! — закричали мы с Воронком.
Профессор строго посмотрел на нас, и мы сразу замолчали.
Ему виднее. На то он и профессор.
— Согласны стать моим учеником? — спросил Иван Михайлович у Мишки.
— Еще бы! — одновременно сказали мы с Воронком.
— Согласен, — тихо сказал Мишка.
— Предупреждаю — учитель я жестокий. Так требует истинное искусство. Прошу не роптать, если покажется очень тяжело.
Петь — и тяжело. Смехота! Я заулыбался, а Мишка опять повторил:
— Согласен.
— Консерватория в эвакуации. Я вот остался в Москве. Стар стал. Так что заниматься будем у меня. Три раза в неделю. Сможете?
— Смогу.
— И отлично-с! А теперь я угощу вас кофейком. Довоенным.
Мы пили кофе из затейливых чашечек с синими мечами и говорили об искусстве.
— Истинное искусство живет вечно. Ему не страшны испытания временем. В Третьяковку захаживали? Значит, любовались и Репиным, и Саврасовым, и Левитаном. Почему живы эти художники в своих картинах? Потому что их картины — истинное искусство. Когда-нибудь помру и я. Но надеюсь - заметьте, только надеюсь, а не убежден, что останусь жить в своих учениках. В таких, как Миша. Видите портреты? Все это мои ученики. Они приходили ко мне такими же неумелыми и неопытными, как Миша...
Мы с Воронком переглянулись. Мишка — неумелый! Да он сто певцов за пояс заткнет.
— Да, да неумелыми! Сырыми, если хотите знать. Но я делал из них певцов. Таких, которыми может гордиться Россия. Простите мое старческое тщеславие, но мне хочется думать, что это именно так.
Мишка смотрел на Ивана Михайловича, как на бога. Мишка забыл про кофе и слушал профессора, перестав дышать.
— Ну, ну, — сказал Иван Михайлович, — кофе остынет. А вы, други, тоже навещайте меня. Я ведь одинок. Вам это трудно понять. У вас — общежитие. А меня только эти картины.
— Надо было вам эвакуироваться, — сказал Сашка.
— Предлагали. Чуть насильно не увезли. Но, как видите, отбрыкался. Я — старый москвич. Мне без московского воздуха не жить...
Он задумался.
— Есть даже такая болезнь — ностальгия. Тоска по родине. Вот Федор Иванович Шаляпин... Вы думаете, ему было легко вдали от родины?
Мы услышали от Ивана Михайловича много интересного. Мы сидели у него, забыв о времени. Он решил проводить нас и стал одеваться. Обвязал горло пушистым шарфом и тут же спросил Мишку:
— А у вас, Миша, есть кашне?
— Ремесленникам только наушники положены, — сказал Сашка.
Профессор ушел в другую комнату и вернулся с новым шарфом.
— Возьмите, — сказал он Мишке, — вам нужно беречь свое горло.
Мишка пробовал отказаться, но из этого ничего не вышло. Пришлось взять подарок.
Мы спустились по лестнице. Иван Михайлович кивнул на надпись «Бомбоубежище» и спросил:
— У вас тоже есть?
Мы улыбнулись.
— Мы — на крыше, — сообщил Воронок.
— Молодцы! Но все-таки это опасно. Это занятие не для детей. Правда, я и сам не люблю сидеть в бомбоубежище. Очень уж там неуютно. Хотя и люди вокруг. Во время тревог я играю на рояле. Играю Чайковского. Вот кто умел славить жизнь!
— И Шопен! — загоревшись, сказал Сашка. — Я люблю играть Шопена. Такая светлая музыка.
— У поляков был еще и Огинский. Мне бы хотелось, чтобы на моих похоронах звучал его полонез. Грустный и в то же время жизнеутверждающий.
— О, полонез! — сказал Сашка. — Этот полонез и сделал меня любителем музыки.
— «Прощание с родиной» — так, кажется, называется этот полонез, — сказал Мишка.
Родина! Что же это за волшебное слово, заставляющее людей идти на муки и смерть, заставляющее брать в руки оружие и сражаться, пока течет в жилах кровь, пока бьется сердце, пока дышат легкие воздухом родины.
Родина — это и звезды над Кремлем, и ноздреватый хлеб, и музыка Чайковского, и бескрайние поля и леса, и великое братство советских людей. Все это — родина. Наша родина.
Я допишу это стихотворение о родине. Я прочту его Ивану Михайловичу. Пусть он знает, что и я не сбоку припека. А то небось думает, что в компании Мишки и Воронка я всего-навсего третий лишний...
— Замечтался? — Сашка толкнул меня локтем в бок.
— Понимаешь, думал о смысле жизни...
— Фи-ло-соф! Как бы нам с тобой, философ, выпросить у тети Симы по второй порции щей? Что-то после этого благородного кофе аппетит у меня разыгрался зверский. А ночью вкалывать предстоит.
Глава тринадцатая
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ
В ночную работать трудно. Сам не заметишь, как задремлешь над станком, особенно если днем не удалось выспаться.
Борода говорил нам. что до войны подростки не работали в ночных сменах. Но сейчас — война. Станки не могут простаивать. Фронту нужны снаряды.
Не сразу мы привыкли к ночной. В первое время Борода то и дело находил своих спящих питомцев в самых неожиданных местах. Гошка Сенькин, например, старался устроиться с комфортом. Он залезал на верхнюю полку в инструментальной кладовой, клал под голову шинель и начинал задавать храпака. Храпел он с присвистом, с бульканьем.
По этому храпу мастер находил его безошибочно. Борода взбирался по лесенке и тормошил его.
— А? Что? Уже на завтрак? — спрашивал Гошка спросонья.
— Слезайте, ваша остановка, — говорил Борода.
Узнав мастера, Гошка брюзжал:
— Так у меня же станок испорчен. Не тянет. А починить некому.
— Уже починили. Давай, давай, Сенькин. Сам знаешь — прохлаждаться не время.
— О-хо-хо... — Гошка зевал так, что трещали скулы, и плелся на свое рабочее место.
— Эй, стахановец, — кричал ему вслед Воронок, — сколько обедов навернул во сне? С такими, как ты, навоюешь.
— Видали мы таких патриотов, — сонно отвечал Гошка, а сам уже придумывал, куда бы ему еще забраться поспать, чтобы мастер ни за что не обнаружил. Но предательский храп подводил Сенькина всюду. Даже в уборной, где, конечно, особого комфорта не было, но зато стояла сравнительная тишина.
Юрка Хлопотнов прятаться не умел и не хотел. Он засыпал внезапно, сраженный сном, словно пулей, прямо у станка. Подушкой служила подставка, периной — металлические стружки. Борода накрывал его шинелью и останавливал станок. Проснувшись, Юрка очень смущался и торопливо хватался за болванку.
— И как это я? — виновато бормотал он.
После сна лицо у Юрки было розовым, как у младенца. На нежной щеке оставались рубцы от подставки, в волосах запутывалась стружка.
— С добрым утром, Юрий Тимофеевич! — радостно и благожелательно орал Сашка Воронок.
— С добрым утром, — вежливо отвечал Юрка, и лицо его мгновенно заливалось краской.
Помню, как сам я «запорол» деталь. Мне казалось, что я вовсе и не сплю, что глаза мои прекрасно все видят. И вдруг — скрежет металла, резкий удар резца о вращающиеся кулачки и встревоженный голос Воронка:
— Проснись, Лешка!
Но так было только на первых порах. Через месяц мы работали в ночной не хуже, чем днем. Сашка Воронок даже находил в работе ночью особенный героизм.
— Представляешь, — говорил он мне, — все спят. Спят дети, старики. Спят в окопах бойцы на фронте. А утром — снова бой. Снова нужны снаряды. А вот мы не спим. Мы спешим сделать их побольше. Чтобы не было заминки в бою. Здорово?
— Здорово! — соглашался я.
Если у Воронка выходил из строя станок, он бегал консультироваться по поводу поломки и к Мишке, и к Андрейке, и к самому Бороде. Вот и в этот раз у его станка собрался «консилиум» .
— До утра ничего не сделать, — сказал мастер, — придется дожидаться слесарей. Дежурный, как на грех, заболел.
— Везет людям, — сказал Гошка.
— Ложись поспи, — предложил мастер Воронку.
— Так тебе этот лунатик и заснет, — шепнул мне Сенькин, — пойдет сейчас бродить по крышам.
Сашка действительно исчез. Я подумал, что он прикорнул где-нибудь. Но Воронок, оказывается, и не думал спать. Сашка дышал во дворе свежим воздухом и посматривал в окно столовой на поваров, хлопочущих над котлами. Он пытался догадаться по запаху, доносившемуся из форточки, что они готовят на завтрак. Его чуткий нос уловил аромат разварившейся овсянки. Сашка уже хотел вернуться в мастерскую, как увидел выходившего из столовой кладовщика Михеева. Под мышкой у кладовщика был увесистый сверток. Михеев посмотрел налево и направо, но не заметил Сашку, притаившегося за дверью. Кладовщик подошел к большой куче металлической стружки и быстренько спрятал в ней сверток. Потом опять возвратился в столовую, снова поглядев налево и направо.
«А ты, дядя, однако, жох», — подумал Сашка. Он решил, что кладовщик припрятал хлеб, чтоб позднее продать его на рынке.
Долго не думая, Сашка раскидал стружку и по форме свертка догадался, что это не хлеб, а что-то другое.
Сашка помчался со свертком в спортивный зал и только там развернул его. Перед Воронком лежала задняя баранья нога. Жирная, большая, весившая не меньше четырех килограммов. Для человека, собиравшегося бежать на фронт, это было сказочное сокровище. Воронок положил сверток за груду спортивных матов и, посвистывая, опять направился во двор.
Там уже бегал растерянный кладовщик, походивший на ищейку, потерявшую след.
— Послушай, сынок, — обратился он к Сашке, — ты ничего тут не замечал?
— Что именно?
— Ну людей каких-нибудь. Со свертком. Понимаешь, у меня из кладовой кое-что пропало.
— Ах, ах, — сочувственно сказал Воронок, — замки были сломаны, и воры скрылись, не оставив следов?
— Вот-вот. Никаких следов.
— Что с возу упало, то пропало, — значительно сказал Сашка.
— Не могли они далеко уйти. Каких-то пять минут всего и прошло.
— Откуда вы знаете? Следили за ними с часами в руках?
— Может, они в стружку его запрятали?
Кладовщика притягивало к этой куче, будто магнитом. Он принялся расшвыривать ее руками и стал похож на собаку, откапывающую припрятанную кость.
— Глубже, глубже бери, — советовал Сашка, — на дне, наверное, припрятали.
Кладовщик поднялся с колен и жалобно сказал:
— Что же это творится? Грабеж среди бела дня...
— Среди черной ночи, — поправил Воронок, — а что, собственно, украли-то? Пуд соли? Ящик конфет?
— Мя-я-со, — плотоядно сказал кладовщик, — два пуда баранины. Пойдешь в свидетели?
— Два пуда! Этак они, пожалуй, миллионерами станут, а?
— Пойдешь в свидетели?
— А я видел? Я знать ничего не знаю. Может, ты сам это мясо украл? Два пуда.
— Ах ты хам, ах ты шпана малолетняя! Наверное, ты украл мое мясо? Сознавайся!
— Мне два пуда не поднять, — логично заметил Сашка. Кладовщик больно ухватил его за ухо.
— Сознавайся, сознавайся, воровское отродье!
Сашка вырвался и ударил кладовщика головой в живот. Тот раскрыл рот и сел на кучу стружки.
— Сознайся, — пролепетал кладовщик, — я тебе ничего не сделаю.
— Ничего не сделаешь, — подтвердил Сашка.
Кладовщик вскочил и схватил Сашку за руку. Он быстро поднес ладонь Воронка к носу и понюхал ее.
— Пахнет сырым мясом, — сказал он торжествующе, — пахнет, пахнет!
Сашка брезгливо вытер ладонь о штаны.
— Нюха у тебя, дядя, совсем нет.
Слушай, сынок, давай поделимся. Поровну. Половину тебе, половину — мне. А?
— Не смеши лучше людей. Поменьше воровать надо. Окопался в тылу и воруешь. Не стыдно?
— Пойдем, сынок, я тебе хлеба дам. Чего шум поднимать? Пропало мясо — и бог с ним. Спишем по акту, и вся недолга. А ты подпись поставишь, а?
— Ищи дураков. Мы с тобой, дядя, разные люди. Заруби это на своем красном носу.
— Гру-би-ян, — укоризненно и мягко протянул кладовщик, — ну какой же ты грубиян... Промолчать хоть обо всем этом сможешь? Отблагодарю, не сомневайся.
Воронок рассмеялся ему в лицо и побежал рассказать мне обо всем происшедшем.
— Подвезло нам, Сазончик, — сказал он в заключение. Мы помчались в спортзал. Сверток был на месте.
По дороге в цех мы выглянули во двор. Кладовщик разгребал руками уже третью кучу стружки.
— Неужели он так и останется безнаказанным? — спросил я у Воронка.
— Что поделаешь? Некогда нам его разоблачением заниматься. Да и вещественное доказательство сегодня уже уплывет в чьи-то счастливые руки.
— Юрке скажем?
— О ноге? Разумеется! Он же тоже решил бежать с нами на фронт. Наш третий компаньон. Пусть знает, какое у меня щедрое сердце.
Но Юрка Хлопотнов почему-то не очень обрадовался нашему сообщению.
— Может, раздумал бежать с нами? — напрямик спросил его Сашка.
— Да нет, не раздумал...
— Ну так чего кислый?
Юрка мялся-мялся и наконец сказал:
— Что же получается? Выходит, мы спекульнем мясом, которое полагается нашим ребятам? Ведь кладовщик у нас его украл. Или я чего не понимаю?
Мы с Воронком призадумались. Юрка, пожалуй, был прав.
— Так он же все равно продал бы мясо, — неуверенно сказал Сашка.
— Он-то бы продал, — подтвердил я, — а вот мы-то вряд ли имеем на это право. Мясо надо вернуть в общий котел.
— Придется, — грустно согласился Воронок.
— А вы — хорошие! — с любовью сказал Юрка Хлопотнов. — Зря я в вас засомневался.
Наша процессия, гуськом возвращавшаяся из спортзала, привлекла всеобщее внимание. Сашка нес на вытянутых руках баранью ногу. Юрка помахивал беззаботно холстинкой. А сзади выступал я с видом грозного прокурора.
—Вот это да! — Гошка Сенькин остановил станок и зачарованно воззрился на мясо. У него даже слюнки потекли. — Вот это сила! — сказал он.
Ребята сгрудились вокруг нас, расспрашивая наперебой о нашей находке.
Борода серьезно выслушал нас и крякнул.
— Судить кладовщика! — зашумели ребята.
— Милицию позвать! Набить ему рожу!
— Спокойствие, — сказал мастер, пряча мясо в шкафчик для инструмента — Утро вечера мудренее. Утром я пойду к директору и доложу обо всем. И тебя, Воронков, попрошу со мной.
Напрасно в последующие дни мы ожидали суда. Кладовщик ушел с работы, избежав скамьи подсудимых.
А баранья нога попала в общий котел.
Эх, когда же настанет день и мы возьмем в руки настоящее оружие?! Воронок уверяет, что скоро.
Пока что наше оружие — станки. Так говорят Черныш и Нина Грозовая. Но очень уж разное это оружие. У Андрейки новенький Дип, за которым и младенец сможет работать. Этот Дип расшифровывается так: «Догнать и перегнать». Речь идет о соревновании с капиталистическими странами. Так думали конструкторы, давая имя своему замечательному станку. Вот Андрейка и догоняет и перегоняет. Я на Дипе работал. Еще в училище. Тогда меня и наградили значком отличника Трудовых резервов. Нормально работал. А в подсобном цехе завода с тяжелой руки Бороды мне все время доставались какие-то неважнецкие станки. Иностранных марок прошлого века. Только в нашем подсобном цехе и можно было встретить такие. Я уже стеснялся носить свой значок. Напрасно Борода думал, что я покажу высший класс на этих драндулетах. Он явно переоценил мои способности. Частенько я, размышляя об этом, с завистью поглядывал на Андрейкин Дип.
Глава четырнадцатая
А ТЫ ХОРОШО ДЕРЖИШЬСЯ
У каждого станка, словно у человека, свой, особенный характер. Уж я-то это знаю.
С последним станком у меня была самая настоящая война. Он оказался злобным, ворчливым старикашкой. Только вместо седины на его станинах то и дело выступала желтая ржавчина. Мы невзлюбили друг друга с первого же дня. Старикашка плевался стружкой мне в лицо, выбрасывал на патрона мои детали, «гробил» один за другим мои резцы. Мотор его гудел надсадно и раздраженно. Стоило взять стружку покрупнее, патрон переставал вращаться и молча грозил мне потускневшими кулачками.
В сердцах я ударял по резцедержателю гаечным ключом, футболил чугунные станины и, обессиленный, садился на деревянный ящик, искоса наблюдая за станком.
Борода часто твердил нам, что к сердцу любого человека можно подобрать ключик, любого человека можно сделать хорошим. А вот попробуй подбери ключик к этому станку, попробуй заставь этого старикана работать. Ведь это же самый настоящий саботажник.
— Отдыхаешь, Сазонов? — спрашивал Борода, будто не видел поединка, только что разыгравшегося на его глазах.
— Я больше не могу, — трагическим шепотом говорил я Бороде, — это сущий дьявол, а не станок! Он меня скоро в могилу загонит.
— Или ты его угробишь во цвете лет, — добавлял Борода.
— Во цвете лет?! Это он-то во цвете лет?
— А как же. Мой ровесник, — произносил Борода и поглаживал ладонью патрон станка, словно кошку.
Мастер включал мотор, и старикан станок принимался умиротворенно мурлыкать, будто и впрямь понимал, что теперь имеет дело со своим ровесником, а не с каким-то забиякой Лешкой Сазоновым.
Я с удивлением наблюдал, как преображался станок: мотор гудел ровно и сильно, стружка вилась затейливой лентой, н обработанная поверхность детали поблескивала серебром.
— Старый конь борозды не испортит, — выключив мотор, говорил Борода, — мы с ним еще потрудимся.
Я подходил к станку и подхалимски поглаживал ладонью патрон. На всякий случай.
А мастер одобрительно говорил:
— Так-то вот лучше. Запомни, Леша: станок любит ласку — уход, чистку и смазку. Ты для него постараешься, он — для тебя. И станете вы друзьями — водой не разольешь.
Я принимался соскабливать пятна ржавчины со станины. Я поил старикана машинным маслом, вытирал его тряпками-концами.
— Доволен? — спрашивал я. — Посмотри, какой ты стал блестящий и красивый. Никто не скажет, что тебе перевалило на шестой десяток. А теперь, будь другом, за добро отплати добром. Договорились, старче?
Я включал мотор, но для меня он мурлыкать не хотел. Будто подозревал, что любовь моя вызвана корыстным чувством. И старикан с давно рассчитанным прицелом стрелял стружкой мне в глаз, беззвучно похохатывал, щерясь мелькающими кулачками.
Вот она, черная неблагодарность! Нет, нам, видимо, так и не стать друзьями. Но кто же все-таки из нас выйдет победителем в этой ежедневной войне? Он или я? Я ведь все-таки человек. А человек покорил и моря, и горы, и воздух. Неужели же мне придется отступить перед грудой бездушного металла?
Раз! Я бью по кулачкам патрона болванкой, как по зубам заклятого врага. Два! Я зажимаю болванку в патроне, чуть не свернув ему скулы. Три! Я подвожу резец к детали.
Старикан бросается в ответную атаку. Раз! Он обжигает мою руку вращающимся патроном. Так я, пожалуй, и инвалидом могу стать. Два! Он строчит по мне осколками стружки, как пулемет трассирующими пулями. Три! Пластинка на резце отлетает.
— Твоя взяла, — говорю я покорно, — сдаюсь.
Он прислушивается к интонациям моего голоса. Он пытается догадаться, какую каверзу я хочу подстроить теперь. Но он не догадается. Он ведь думать не умеет. А я решил обезглавить его. Вернее, сменить его голову на другую. Для этого патрон станка надо снять со шпинделя. А потом привинтить новый патрон. С новым патроном дело у меня пойдет на лад. Итак, старикан, держись!
Я действую умело и осторожно. Я обнимаю патрон обеими руками. Сейчас он сойдет со шпинделя и окажется у меня в руках. Сейчас, сейчас...
И тут патрон вытворяет нечто неожиданное. Он соскакивает со шпинделя совсем внезапно и пудовым молотом ударяет по моему указательному пальцу.
Я трясу рукой, подпрыгиваю, как спортсмен на разминке, а из пальца уже каплет кровь. Ноготь делается багрово-красным.
— Живо в медпункт! — командует подбежавший Борода и сам выключает станок.
Мастер ведет меня под руку, как тяжелораненого. Девчонки за станками хихикают.
И почему это людям бывает смешно в самые неподходящие моменты?
— Доконал он меня, — жалуюсь я Бороде.
— Вижу, — говорит Борода, — придется тебя за другой поставить. Когда палец вылечишь.
Медсестра кивает мне, как старому знакомому.
— Ничего страшного, — говорит она, осмотрев палец, — косточка не задета. Ноготь этот, конечно, сойдет. Но это не беда. Со временем вырастет другой. А от работы придется освободить тебя. Недельки на две.
Борода деликатно покашливает. Каждая пара рабочих рук сейчас на счету.
— Неужели на две? — грустно осведомляется он.
— Не меньше, — говорит медсестра. Пощипав бороду, мастер уходит.
— Ну, как ваш певец? — бинтуя мой палец, спрашивает медсестра. — Понравился профессору?
— Еще как! Иван Михалыч взял его к себе в ученики. Мишка ходит к нему заниматься домой. А когда вернется консерватория, будет учиться там. Так сказал профессор.
— Счастливый человек ваш Мишка.
— И все благодаря вам. Если бы не те яички, может, Мишка и петь не смог бы.
— Моя заслуга маленькая, — говорит медсестра, — не всем и яички помогают. Талант надо иметь. Вот в чем дело.
Палец мой болит, словно его непрестанно сжимают плоскогубцами.
— Вот тебе направление в поликлинику. Пусть врач тоже посмотрит. А вот освобождение от работы. Не повезло тебе, Сазонов. Только на спецзаказ перешли — и такое несчастье.
— А вы считаете, что с таким пальцем нельзя работать?
— Конечно, нельзя. Грязь попадет или еще что. Да и как ты станешь вертеть всякие там суппорты? Неудобно же.
Эх, сестра, плохо ты знаешь Лешку Сазонова! А как же раненые на фронте не покидают поле боя и дерутся до последней капли крови? У нас здесь — тоже фронт. И самый настоящий дезертир буду я, если перестану работать в такое трудное время.
Я запихиваю справку в кармашек и говорю:
— Спасибо за помощь.
— Иди, Сазонов, писать стихи. Рука-то у тебя левая пострадала. В самый раз тебе сейчас стихами заниматься.
— В самый раз, — соглашаюсь я и возвращаюсь в мастерскую.
Девчонки уже не хихикают. Неужели они подумали тогда, что я нарочно уронил патрон на свой палец? Попробовали бы сами испытать такое удовольствие. Визгу было бы на все училище.
— Вы обещали мне другой станок, — говорю Бороде как ни в чем не бывало.
— А палец?
— Что — палец? Вы же слышали — ничего страшного. Так медсестра сказала.
— Она и о двух неделях сказала.
— А потом передумала. Можно, сказала, работать. Только не за тем драндулетом.
Борода хитро улыбнулся.
Мой новый станок меньше первого и гораздо спокойнее характером. Мы с ним быстро нашли общий язык. Он сразу запел мне успокаивающую песенку, и от этой песенки вроде палец стал болеть меньше.
А в схватку со стариканом драндулетом вступил Андрейка Калугин. Краешком глаза я наблюдал за этим поединком. Первым делом Андрейка начал копаться в брюхе станка. Гремел шестеренками, отыскивал его старческие язвы и сердечные пороки. Влил ему в брюхо полную масленку. Потом колдовал над шпинделем и задней бабкой. Потом сменил резцедержатель.
После этого старикан заурчал, как укрощенный тигр. Вся его злоба куда-то улетучилась.
— Отличный станок! — крикнул мне Андрейка.
— Рад услужить другу, — довольно ответил я.
Через несколько дней палец распух и почернел. Похоже, что там начиналось нагноение. Тогда только я вспомнил о направлении в поликлинику.
Не люблю врачей. Особенно побаиваюсь зубного. Когда он включает свою адскую машинку, у меня волосы дыбом становятся. И словно для устрашения пациентов в зубоврачебных кабинетах всегда полно самых разнообразных орудий пыток. Они лежат на полочках в стеклянном шкафчике, словно нарочно, чтобы их видели. Щипцы и щипчики. И какие-то совсем фантастические приспособления. Такими запросто можно вырывать клыки у слона. Он и пикнуть, бедный, не успеет. А каково человеку, наделенному воображением?
В поликлинике меня направили к хирургу. Это была милая женщина с ласковыми глазами. Она сочувственно охала н ахала над моим пальцем. А потом спросила:
— Боли не боишься?
Какой же мужчина признается, что он боится боли? Чудачка!
— Не боюсь, — сказал я.
— Наверное, на фронт мечтаешь попасть? — спросила врачиха.
Ясновидящая она, что ли?
— Неплохо бы, — сказал я.
— А на фронте больно бывает. Очень больно...
— Ой! — вскрикнул я.
— Это еще не боль, — сказала врачиха, — настоящая боль еще впереди. Так что ты, миленький, потерпи. Потерпишь, миленький?
— Потерплю, — сказал я.
— Ты отвернись. Вот-вот — смотри в окошко. Вид у нас хороший. Правда?
— Пра...
Но тут в мозг мой впились раскаленные иглы. Погас дневной свет в окне. Наверное, глаза у меня стали, как у вареного судака, потому что врачиха сказала:
— Полежи, миленький, на кушеточке.
Медсестра вытирала ваткой пот с моего лба н говорила:
— А ты хорошо держишься. Как настоящий мужчина.
Значит, вот как бывает, когда у человека во время пыток выдирают ногти! Прямо надо сказать — удовольствие ниже среднего. После второго ногтя я бы, пожалуй, потерял сознание. А один — ничего. Один вытерпеть можно.
Я поднимаюсь с кушетки и чувствую противную слаоость в ногах.
Милая врачиха говорит что-то о нервных окончаниях, сосредоточенных под ногтем. Но меня это сейчас мало интересует. Мне хочется поскорее унести ноги из этого уютного кабинета.
— Ну, за перевязки я спокойна, — говорит врачиха, — их-то ты хорошо будешь переносить. А красноармеец из тебя вполне получится.
«Живодеры, — беззлобно думаю я, — за дошкольника меня принимают. И как это женщины не боятся работать хирургами? Им бы салфеточки вышивать, а они ногти у людей вырывают. Дамское занятие!»
Работать больной палец все-таки сильно мешал. За эти две недели я снизил выработку. Даже Юрка Хлопотнов протачивал на одно-два донышка больше меня.
Он любил пересчитывать мои детали и своими глазами убеждаться, что опять обставил меня. Мне это не очень нравилось.
— Подожди, — говорил я Юрке, — палец заживет, и я покажу тебе, как надо работать.
А тут еще, как на грех, вздумала наведаться в цех медсестра. Нам собирались делать какие-то уколы. Гошку Сенькина заранее от этого лихорадило.
— Чую, что заболею, — с надеждой говорил он.
— Тебе бы ногти выдрать, а не Лешке, — сердился Юрка Хлопотнов.
Увидев меня за станком, сестра покачала головой и обратилась к Бороде:
— Давно ли Сазонов начал работать?
— А он и не переставал, — ответил мастер.
— Его же две недели и подпускать к станку нельзя было. Посмотрите, какой он зеленый.
— Они у меня все зеленые, — ворчливо ответил Борода и подошел ко мне. — Что же это такое, товарищ Сазонов? В четырнадцать лет уже научились врать старшим? Обманывать своих наставников? Немедленно уходите из цеха.
Я остановил мотор станка. Собственно, по какому праву он выгоняет меня? Я достал справку из поликлиники. В ней черным по белому было написано, что с завтрашнего дня мне разрешается работать на станке.
Борода повертел в руках справку и даже незаметно понюхал ее.
— Не бойтесь, не поддельная, — сказал я.
— Ну что мне с ним делать? — спросил Борода у медсестры. — Это же горе, а не человек.
— А вот я ему за это первому сделаю укол, — грозно сказала медсестра.
Тоже мне — испугала!
— Пожалуйста, — лениво сказал я, — можете сделать хоть десять, если это доставит вам удовольствие.
Юрка Хлопотнов смотрел на меня с немым обожанием. Гошка Сенькин прятался за его спиной от медсестры и почесывал голову. Наверное, хотел постигнуть причины моего бесстрашия.
Меня провожали тревожными взглядами, словно я шел на заклание. А я в душе смеялся. Ну что мне какой-то укол, когда я даже не застонал у хирурга?
Правильно говорят, что даже маленькая победа над собой делает человека гораздо сильнее. Надо только почаще побеждать самого себя. Я, например, усвоил теперь эту истину на всю жизнь.
— Разрешите, я буду вторым? — обратился Сашка Воронок к медсестре.
— Братья-разбойники, — только и сказала она.
В белой комнате медпункта все-таки чувствуешь себя каким-то неполноценным. Меланхолично поглядываешь на всякие там щирицы и термометры. А может, это только со мной одним происходит такое?
Медсестра набрала в шприц прозрачную жидкость и воинственно подняла его кверху. Похоже, она собирается вкатить мне лошадиную дозу.
— Не многовато? — хладнокровно спросил я.
— Норма, — сказала медсестра и влажным тампоном потерла у меня под лопаткой. Стало щекотно, однако смеяться совсем не хотелось. Я даже не улыбнулся.
Везет мне в последнее время. Ногти вырывают, колют. Поневоле закалишься.
Игла вонзилась в мое тело и осталась там.
— Готово, — сказала сестра.
— Выньте же скорей иголку. Вы забыли ее под моей лопаткой.
Сестра показала мне опорожненный шприц. Иголка была на месте.
— Обманчивое впечатление, — сказала сестра, — слишком ты чувствительный.
Глава пятнадцатая
ТОТ САМЫЙ ВИКТОР!
За несколько месяцев Москва изменилась неузнаваемо.
Бумажные кресты на окнах словно перечеркнули мирную жизнь. Вечерами окна наглухо задергивались темными шторами. На улицах — ни огонька. Только мерцают красноватые точки папирос. Пробираешься чуть ли не ощупью. У некоторых прохожих светятся в темноте на лацканах пальто фосфоресцирующие ромашки, предотвращая столкновения.
Скверами завладели зенитчики и девчата из противовоздушной обороны, в грубошерстных шинелях и кирзовых сапогах. Редко видишь смеющихся людей. Особенно заметно это на эскалаторах метро: никто не улыбается, лица суровые и усталые. А в руках почти у каждого — авоськи со скудными продуктами, полученными на продовольственные карточки. Они не у всех одинаковы, эти карточки. Есть рабочие, служащие, иждивенческие. Есть карточки научных работников. Есть талончики УДП — усиленное дополнительное питание. У нас, ремесленников, карточки были другие. Мы получали каждый месяц бумажный листок. На нем числа и слова — завтрак, обед, ужин. Талончики на завтрак и ужин ценятся в две щепотки табака, обеденный — в четыре. Иногда старые талончики некоторые ловкачи пытались выдать за сегодняшние. Тетя Сима живо разоблачала их.
На московских площадях и улицах преобладают теперь темные тона. Постарела Москва, словно мать, получившая похоронную. И люди изменились: стали сдержаннее, строже, молчаливее. Всем приходится много работать. И почти все работают на оборону. Даже в маленьких мастерских собирают корпуса гранат, точат мины.
Озорным народом остались, пожалуй, только мы, ремесленники. Возраст у нас такой — от четырнадцати до шестнадцати. Взрослые, кажется, называют его переломным. Вот и совпал этот переломный возраст с войной. Или она нас переломит, или мы ее. Поживем — увидим.
Выхожу из метро на площадь Свердлова и сразу вижу неподалеку большую толпу. Что такое? Задавили кого-нибудь? А может быть, шпиона задержали? Случается теперь в Москве и такое.
Работая локтями, пробираюсь вперед.
— Карманники так и шныряют, — косясь на меня, говорит толстая накрашенная тётка, прижимая к боку черный ридикюль.
— Это же рабочий класс, — заступается за меня сухощавый дядька, по виду рабочий. Козырек кепки у него лоснится от машинного масла.
— Проходи, сынок, — говорит рабочий, — посмотри, что за птички теперь над Москвой летают.
На площади распластался немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Пробоин в нем — считать не сосчитать.
— На днях подбили, — объясняет мне рабочий, — привезли вот сюда, чтоб люди смотрели и знали: не поздоровится незваным гостям.
— Всех их ни в коем разе не посшибаешь. У Гитлера их — тьма тьмущая, — авторитетно заявляет накрашенная.
— Шла бы ты, барыня-сударыня, своей дорогой. А то ведь и документики недолго проверить, — насупясь, произносит рабочий.
На тетку оглядываются и другие. Она поджимает губы и начинает выбираться из толпы.
— Клопиная порода, — цедит ей вслед рабочий, — спекулянтка, не иначе.
Около самолета я вижу двух летчиков. Они рассматривают пробоины, щупают их зачем-то и оживленно переговариваются. В одном из них. я узнаю Павлика и стараюсь пробраться к нему поближе. Павлик показывает товарищу на пальцах какие-то фигуры. Руки его изображают два самолета.
Я дотрагиваюсь до рукава его шинели:
— Здравствуйте, товарищ лейтенант. А когда к нам придете? Вы же обещали...
Летчик смотрит на меня недоумевающе, он весь еще во власти своего рассказа. Наконец лицо его проясняется и он спрашивает:
— Так ты, хлопчик, из Нининого училища? А мы как раз собираемся к ней в гости. Познакомься с моим другом.
— Виктор, — говорит другой летчик.
— Алексей Сазонов, — говорю я.
Мы идем в училище. Когда Виктор снимает шинель в нашей раздевалке, я вижу на его гимнастерке Золотую Звезду и орден Ленина. Вот это здорово! К нам в гости пришел Герой Советского Союза.
— За таран получил, — объясняет Павлик, заметив мой восхищенный взгляд.
Так это тот самый Виктор, о котором писали недавно все газеты! Ночной таран под Москвой... И как я не узнал его сразу? Ведь его портреты печатались в газетах. Чуточку смущенное лицо, веселые глаза, упрямый подбородок. Конечно же, это он!
Нина бежит нам навстречу, раскинув руки, словно крылья, и целует Павлика. В глазах ее — слезы, а губы улыбаются, улыбаются неудержимо.
Взяв летчиков под руки, Нина ведет их в комнату комитета комсомола. Я иду позади. Все забыли обо мне. И кто я, собственно, такой? Будто подслушав мои мысли, Павлик спохватывается:
— А где наш хлопчик? Он так о тебе рассказывал, что я чуть ревновать не начал.
Павлик приостанавливается и, положив руку на мое плечо, продолжает:
— Признайся, Нина, что они все в тебя влюблены? Сколько же у меня соперников? Сколько дуэлей мне предстоит!
— Сазонов у нас поэт, — с гордостью говорит Нина, — а недавно он потушил две зайигалки! Получил за это благодарность и премию — пятьдесят рублей.
— На стакан семечек хватит?—смеясь, спрашивает Павлик.
— Не я один тушил, — уточняю я.
— Давай и мы его, Виктор, премируем! Плиткой шоколада. Из планшеток они достают по большой плитке «Золотого ярлыка». Павлик вручает Нине, Виктор —мне. Покраснев, я отказываюсь:
— Да что вы — не надо.
— Бери, бери! — сердится Виктор. — В нем калорий много.
А может, взять? Эти калории очень пригодятся нам с Воронком. Консервов он все еще не добыл, а сухарей у нас уже порядочно. Правда, пришлось провертеть в ремнях гимнастерок новые дырочки, но это не беда. Успеем поправиться.
— Почитай стихи, — просит Нина, — ведь у тебя и о летчиках есть.
Я читаю. Виктор качает головой:
— Ай да парень!
— Я и про вас написал, — застенчиво сообщаю я Виктору и протягиваю ему листок со стихами. Как повезло, что они оказались со мной!
— Чересчур расхвалил, — замечает Виктор, прочитав стихи, — а в общем, здорово. «И падает наземь стервятник, встает над Москвою рассвет!»
Он снова протягивает плитку шоколада, положенную мной на стол, и упрашивает:
— Прими хотя бы вместо гонорара. Имею же я право отблагодарить тебя за стихи?
И я сдаюсь. В конце концов, не каждого угощает Герои Советского Союза. Это тоже надо понимать. Расскажу Сашке и Андрейке — не поверят. А покажу шоколад — сразу прикусят языки. Как-никак — вещественное доказательство.
— Так вы сегодня выступите перед ребятами? — как о само собой разумеющемся спрашивает Нина.
Летчики, словно по команде, смотрят на часы. Павлик вздыхает.
— Сегодня, Ниночка, нет. Забежали мы буквально на минутку. Чтобы ты убедилась, что мы живы и здоровы. Того и вам желаем, как пишет мне батька.
— А он сбил фашиста, Нина, — тихо говорит Виктор, — сбил и помалкивает.
— Правда, Павлик? Ну до чего же ты у меня хороший! Хороший-расхороший!
И, ни чуточки не стесняясь нас с Виктором, она целует Павлика. Павлик теребит планшет и никак не решается сам поцеловать Нину.
— Вот что, Алексей Сазонов, — говорит Виктор, — пойдем покурим в коридоре.
Мы выходим. Я закуриваю предложенную папиросу, хотя делать это в стенах училища нам строго-настрого запрещено. Но ведь это настоящий «Беломор»,, а не какие-нибудь «гвоздики» с грозным названием «Бокс».
Виктор смотрит в окно, негромко произносит:
— Счастливый Пашка человек.
— А вы еще счастливее, — показывая глазами на его грудь, говорю я.
— Вас понял, — улыбается Виктор, — но ты меня не совсем понимаешь.
«Вас понял» — любимые Сашкины слова. Открывается дверь, и выходят Павлик и Нина. Виктор протягивает мне руку:
— Будь здоров, Алексей Сазонов! И, наклонившись к моему уху, шепчет:
— Приезжай со своими друзьями к нам в гости. Прямо на аэродром. Наши машины в Москве каждый день бывают. Попросим шофера, чтобы завернул за вами.
— О чем это вы? — интересуется Нина.
— Мужской разговор, — коротко отвечает Виктор и взъерошивает мне волосы.
Распрощавшись с летчиками, иду по коридору. Дверь спортивного зала приоткрыта. Ах да, сегодня здесь занимаются боксеры. Захожу бочком в зал, присаживаюсь незаметно в уголке. Надо же — прыгают через скакалочку. Словно наши девчонки во время обеденного перерыва. Борода первое время только руками разводил. Теперь вроде привык. А нас за чехарду до сих пор ругает.
Смотрю на боксеров и вдруг вижу среди них Андрейку. Вот так новость! Нам с Воронком не сказал ни слова, а сам записался в секцию. Андрейка тоже замечает меня.
— Интересно, — говорю я, — давно ты этим занимаешься?
— Две недели, — говорит Андрейка, — а что?
— Мог бы и нас с Воронком позвать.
— Не маленькие, сами могли записаться. Для всех висело объявление.
Но вдруг я вспоминаю, что нам с Воронком некогда заниматься боксом: нас ждут вещи посерьезнее, и снисходительно говорю Андрейке:
— Прыгай, прыгай, дружок. В жизни все пригодится. Ты теперь можешь прямо на работе тренироваться. Станешь чемпионом по скакалочке. Среди девчонок, конечно.
— Язва ты, Лешка...
Он уходит в центр зала — поближе к тренеру. Да, тренер у них знаменитый. Несколько лет подряд был чемпионом Советского Союза. Сейчас он всего-навсего армейский старшина. Наверное, учит боксу наших разведчиков.
Какое у него лицо — словно из куска гранита высечено. Резкое, угловатое, без мягких линий. На левой брови — шрам, на подбородке — шрам. Видать, всласть подрался за свою жизнь. Даже нос в сторону свернут.
Андрейка прыгает рядом с тренером и что-то говорит ему, мотая головой в мою сторону. Просит, видимо, чтобы меня вытурили. Чтобы не действовал я ему на нервы своим присутствием.
Тренер и в самом деле идет ко мне. Подумаешь — посмотреть даже нельзя. Я поднимаюсь с независимым видом и медленно направляюсь к выходу.
— Сазонов, — окликает меня чемпион, — погоди минуточку.
Ясно, хочет дать взбучку.
Я останавливаюсь и гляжу на него настороженно, готовый в любую секунду кинуться наутек.
— Калугин сказал мне, что ты всю жизнь мечтаешь боксом заниматься. Это правда?
— Правда.
Чего я в самом деле теряю? Запись-то уже прекращена.
Чемпион смотрит на мои руки. Да, пожалуй, они у меня немного длинноваты. Это плохо.
— Длинные, — говорит чемпион, взяв меня за руки.
«Какие есть», — хочется ответить мне.
— Это хорошо, — говорит чемпион, — можешь со временем нокаутистом стать.
Смеется он надо мной? Да нет, не похоже. Он щупает мою жидковатую мускулатуру. Но тренера это не смущает.
— Кисель тоже густеет со временем, — многозначительно замечает он.
— У вас же переполнено, — напоминаю я. Он усмехается, показывая золотые зубы.
— Через месяц одна треть останется. А ты, видно, малый упрямый. Не струсишь. А?
Кто же все-таки собирается бежать на фронт? Зачем я с ним разговариваю? Зачем ввожу человека в заблуждение?
— Становись в строй к новичкам, — деловито говорит чемпион, — сейчас шведской стенкой будете заниматься.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Оказал мне этот Андрейка медвежью услугу.
— Вас понял, — говорю тренеру и направляюсь в строй. Ничего, на фронте бокс тоже пригодится. Не обязательно быть чемпионом. Знать, куда ударить наверняка, — тоже немало. А пока мы как следует подготовимся к побегу — глядишь, и научусь кое-чему.
Глава шестнадцатая
ПЛАКАТЬ НЕ БУДЕМ
Сколько ловушек на Тишинском рынке для неискушенного человека! Тут и три карты, и веревочка с двумя петлями на конце, и даже своего рода рулетка. Были бы деньги! А они у нас были.
Откуда? А мы с Воронком только что продали по паре новеньких блестящих галош. Нам их выдали вчера в училище, но какой же уважающий себя ремесленник побежит на фронт в сверкающих галошах? Гораздо разумнее реализовать их и на вырученные деньги приобрести консервы и свиного сала.
Воронок продал свои галоши прямо у входа. Я только головой покачал: конечно, он не взял за них настоящую цену. Вот я-то не продешевлю. Кто не знает, что галоши нынче ценятся чуть ли не на вес золота.
Я таскался со своими галошами по всему рынку. Лакированный кончик одного из них заманчиво выглядывал из-за борта моей шинели. Меня рвали на части перекупщики. Они хотели выманить галоши за здорово живешь и перепродать их втридорога. Не на такого напали! Прицепилась было к моим галошам краснощекая молочница, но я заломил такую несусветную цену, что она только ахнула.
— И чего ахаете? Вы же за свое молоко три шкуры дерете — и ничего. Покупают.
— А корма как достаются, ты знаешь? Ну и помалкивай, Малолетний спекулянт. Из молодых, да ранний, видать.
— Не мешайте торговать, — огрызнулся я.
Молочница ушла, гремя бидонами. Меня подозвали из картофельного ряда. Дедок, похожий на старый гриб, долго мял галошу в руках и сетовал:
— Не тот галош пошел, не тот. Крепости в ём нету... А ну, покажь другой.
— Наденьте очки, дедушка, — галоши-то довоенные. Вот видите — «первый сорт».
— Соплив ты, чтоб меня учить. Вытри-ка лучше под носом. ..
Он потискал другую галошину, повздыхал еще минуты три и, засунув покупку в мешок, осведомился:
— Сколько дать-то тебе?
Я назвал цену. Дедок сразу сед на мешок с картошкой. — Шуткуешь, малый? До войны за эти деньги я корову себе купил.
— Так то до войны! За кило картошки вы сейчас выручаете столько, сколько раньше и за целый мешок не могли ваять.
Но дальше было бесполезно разговаривать с ним. Я испортил всю сделку, назвав случайно цену его довоенной коровы. Я готов был поторговаться с ним еще, но дед только руками замахал. Он кинул мне галоши, проворчав напоследок:
— Корову Буренушку купил я за эту цену. Так разве сравнишь ее с какими-то галошами! Она молоко дает, а они? Тьфу, нечистая сила, сгинь с глаз моих, покуда милиционера не позвал.
«Нечистая сила» поплелась в другой конец рынка. Там ко мне подошел солидный дяденька в кожаном пальто. Сапоги у него были хромовые, дорогие, но... без галош. Сердце мое екнуло. Вот он, настоящий покупатель. Дяденька первым делом осведомился о размере. Сразу видно, что не перекупщик. Тех размер не интересует. Им бы вырвать добычу за бесценок. Размер дяденьке подошел. Он не стал щупать галоши, а только поинтересовался:
— Одинаковые? А то купишь один меньше, другой больше.
Сразу видно, что непрактичный дяденька. Ценой совсем не интересуется. Наверное, какой-нибудь научный работник.
— Одинаковые, — успокоил я его и приложил галошины подошвами одну к другой. — Только цены-то знаете сейчас какие? Вы уж не пугайтесь.
— Знаю, знаю... Но ведь и без галош не проходишь. Не так ли? Сразу ревматизм схватишь.
— Конечно, — сказал я, — а после ревматизма — порок сердца, и отдавай господу богу концы.
— А ты начитанный малец, — одобрительно сказал дяденька. — На сколько же ты меня разоришь?
Мне не очень хотелось разорять его. Но ведь Сашка-то продешевил со своей парой. Я храбро назвал свою цену.
Дяденька почесал кончик носа. Самообладания у него нельзя было отнять. Несомненно, что передо мной стоял человек со стальной силой воли. Это меня даже испугало. Не оперативник ли он, чего доброго? Сейчас схватит меня за шиворот и потащит в милицию. Прости-прощай тогда ремесленное. Спекулянтов по головке не гладят. Сажают их, сажают, а они снова, как поганки из-под земли, появляются. Если бы не фронт, мы с Воронком, может быть, и не стали продавать галоши. Может, мы сами щеголяли бы в них. А теперь вот арестует меня этот оперативник ни за что ни про что. И как я не догадался, что он из милиции? А еще психологом себя считаю. Вон какие у него пронзительные глаза. С такими глазами только в милиции и работать. Никакой он не научный сотрудник. Научные сотрудники в кожаных пальто не ходят.
— А если дешевле? — сказал дяденька.
У меня гора с плеч свалилась. Нет, все-таки он имеет отношение к науке. Оперативник не станет торговаться. Ни к чему это ему. От радости, что передо мной не переодетый милиционер, я сбросил сразу треть первой цены. Ну их, эти галоши, к аллаху! Наживешь еще с ними беды. Сашка-то вот гораздо благоразумнее меня поступил: избавился от них сразу, и точка.
— Цена устраивает меня, — бархатным голосом сказал дяденька.
Он стал отсчитывать деньги прямо на моих глазах. Их у него было порядочно. Ну и зарабатывают же эти научные сотрудники! Напрасно я уступил ему галоши так дешево. Он бы и за первую цену купил.
— Правильно? — спросил мой покупатель.
— Все верно, — подтвердил я.
— А это не милиционер там идет? — обеспокоенно скосил он в сторону свои пронзительные глаза.
Я оглянулся и засмеялся:
— Что вы! Это какой-то военный.
— Ну, держи. — Он протянул мне пачку денег и забрал галоши. Проверять было не к чему: он же на моих глазах отсчитывал эти крупные купюры.
— Носите на здоровье, — благодушно сказал я, — теперь вам никакой ревматизм не страшен.
— Благодарю, мой юный друг, — вежливо ответил дяденька и удалился солидной походкой.
— Вот это я! Надо быстрее разыскать Воронка, порадовать его. Я нашел его у чародея с тремя картами. Сашка стоял там как приклеенный.
— Порядок? — спросил он меня, на секунду оторвавшись от трех карт.
— Еще какой! Продал их академику. Денег у него — пруд пруди. Вдвое больше тебя взял.
— Да? — удивился Сашка и сказал: — Смотри, какая интересная штука. Надо угадать из трех карт пиковую даму. Угадал — получай полста. Здорово?
— Здорово! — сказал я. — А если не угадаешь?
— Тогда гони полста. Все справедливо. Он ведь тоже рискует.
«Он» был мужчина с лиловым носом и красными, как у кролика, глазами. Около него толпилось порядочно народу. Но желающих испытать счастье почти не находилось. Впрочем, один гражданин в очках осмелился. Он прижал карту пятерней и сказал:
— Эта!
— Деньги на бочку, — сказал лиловый нос.
Гражданин помахал сторублевкой, не снимая с карты руки.
— Смотрите, — разрешил чародей.
Толпа замерла, вытянув шеи. Гражданин за уголочек тихонечко перевернул карту. Пиковая дама! Лиловый нос сокрушенно развел руками.
— Ваша взяла. — Он отсчитал пятьдесят рублей и сунул их гражданину.
— Теперь моя очередь, — возбужденно заявил Сашка, — я тут целый час стою.
— Твоя, твоя, — успокоил чародей.
Он раскинул на ящике карты, предварительно показав их всем. Два туза и дама. Сашка вцепился в среднюю.
— Эта идет за сотню, — сказал лиловый нос.
— Согласен за сотню! — сказал Сашка. Лиловый нос колебался.
— Три сотни, — изрек он, надеясь, видимо, что Сашка отступится.
Но Сашка и не подумал.
— Согласен за три!
— Деньги на бочку!
Воронок сунул ему в нос свою выручку за галоши. Толпа не дышала и не шевелилась.
— Перевертывай, — тяжко вздохнув, разрешил чародей. Это был туз!
У Сашки на лице выступили веснушки. Но он и не подумал сдаваться. Короче говоря, через пять минут у Воронка не осталось ни копейки. Он алчно взглянул на меня:
— Давай пустим в оборот твои?
Но мне почему-то не хотелось пускать мои деньги в такой оборот. Сашка поплелся за мной, оглядываясь на чародея. Внезапно он толкнул меня локтем:
— Смотри, смотри!
Толпа разошлась. К лиловому носу подошел гражданин в очках, и они вдвоем стали подсчитывать выручку.
— Надо же, — разочарованно сказал Воронок, — обыкновенные жулики. Тю-тю мои галошки! Хорошо еще, что у тебя много денег. Хватит и на консервы и на сало.
Я не стал укорять его. К чему? С любым может случиться. Я приостановился около другого рыночного «аттракциона». Парень года на три постарше нас раскидывал на газете веревочное кольцо. Он бросал так, что на конце получались две петельки. Нужно было сунуть в петельку палец, и, если вокруг него обвивалась веревочка, парень выплачивал вам деньги. Очень просто.
Следовало как-то возместить Сашкин проигрыш. Но Воронка я даже не подпустил к веревочке. Все-таки он довольно легкомысленный человек. Тут требовался пройдоха вроде меня. Ведь сумел я так выгодно продать галоши. Почему же мне не может повезти в веревочку? К тому же ставки здесь были гораздо скромнее: по десятке за попытку. И денег вперед парень не требовал: доверял своей клиентуре. Только каждую попытку отмечал в тетрадке карандашиком. Он разрешил мне десять попыток подряд.
И — удивительное дело! — веревочка все время ускользала от моего пальца. Я пробовал совать его и в ту петельку, и в эту, но ни разу мой палец не захлестнула веревочка. Прямо какое-то наваждение!
Таким образом я проиграл сотню, и только тут парень потребовал расчета. Нет, больше я не буду. Хорошо еще, что проиграл так мало по сравнению с Воронком. Я достал из-за пазухи свою толстую пачку денег и, отделив первую сотню, отдал ее парню с веревочкой.
Но тут в глазах у меня потемнело: под первой сотней в пачке были одни рубли! Тридцать рублей, измызганных и порванных, как убедился я, торопливо пересчитав их. А где же сотни? Ведь дядечка в кожаном пальто перелистывал их перед моим носом. Вот тебе и научный работник!
— Академик-то твой — того... — осторожно сказал Сашка, поняв все по моим глазам.
Мы кинулись на поиски кожаного пальто, не теряя ни мгновения. Мы обегали весь рынок и, усталые, уселись на какие-то ящики. На оставшиеся деньги мы могли купить лишь по стакану варенца. Ни о каких консервах не могло быть и речи. Ах, кожаное пальто, кожаное пальто... Я-то принял его за порядочного человека, а он оказался первостатейным проходимцем. Видно, он подменил пачки, когда я оглядывался на якобы замеченного им милиционера. Ну и дела!
— Ну, как галоши-то — продал? — услышал я скрипучий голос и нехотя поднял голову.
А, дедок! Смотрит на меня ехидно, словно знает уже о всех наших несчастьях.
— Как же, — говорю ему с вызовом, — за две Буренки уступил. Одной мне мало было.
— Мо-ло-дежь, — говорит дедок, — на ходу подметки режут.
— Пойдем отсюда, — поднимается Сашка.
Мы бредем через гомонящую толпу. Чего здесь только не продают! Старые сапоги, древние ходики, заштопанные брюки. Разве это товар? Настоящий товар был у нас с Воронком. Как блестели наши галоши, как скрипели они под пальцами придирчивых покупателей... Хорошие были галоши. Довоенные.
— Плакать не будем, — говорит Воронок, — у нас же есть плитка шоколада и сухари. А консервами и отравиться недолго. Точно?
— Точно, — соглашаюсь я.
Позавчера у меня с Воронком произошел тяжелый разговор. Шоколаду он обрадовался, как мальчишка, но когда я рассказал ему, что записался в боксерскую секцию, Воронок рассердился не на шутку.
— Значит, раздумал бежать на фронт? — спросил он презрительно.
— Бокс на фронте пригодится. Основные приемы узнаю — и то хорошо.
— Труса празднуешь? — осведомился Воронок. — Захотелось у мамы под юбкой отсидеться?
Под какой юбкой? Что он плетет! Я тоже наговорил ему дерзостей. Мы не разговаривали до тех пор, пока не получили галоши. Мне первому и пришла в голову гениальная мысль — произвести товарообмен. Продать галоши — купить продукты на дорогу. Сашка с восторгом ухватился за эту мысль. Он понял, что я по-прежнему рвусь на передовую.
Теперь мы оказались у разбитого корыта. Сашка держался мужественно. Он даже нашел в себе силы пошутить:
— Товарообман без обмена.
На меня его юмор не произвел впечатления. Я заметно скис.
Глава семнадцатая
ОТ МЕЧТЫ СВОЕЙ НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ
Мы едем в гости к Павлику и Виктору на подмосковный аэродром. Летчики прислали за нами грузовичок с разбитным и веселым шофером. В петлицах его гимнастерки — по зеленому треугольнику.
— Это значит, что я командный состав, — объяснил нам шофер. — Сложи два треугольника — получится ромб. Вот и выходит, что я командир на полромба.
— Заливаете, — сказал Сашка, — просто вы старший красноармеец.
— Я шофер БАО, — строго сказал водитель.
Мы подумали, что его так зовут. Глаза у него были с монгольским разрезом. Вот почему такое необычное имя нас не очень удивило.
— Товарищ Бао, — почтительно спросил Юрка Хлопотнов, — а кто поедет с вами в кабине?
Шофер прищелкнул языком, взглянул на Юркину медаль, потрогал ее пальцами и ответил:
— Предпочтение — героям. Садись, дорогой медаленосец. Она у тебя взаправдашняя?
— Командир отряда свою отдал. И документы оформил чин-чинарём. За вторую разведку.
— Да ты, я вижу, свой парень! Меня бы в тот отряд. Так нет — держат в тылу. И на летчика учиться не отпускают.
Он ловко и быстро скрутил «козью ножку» толщиной в два пальца, сыпанул в нее махры и, поцокав языком, нравоучительно сказал:
— Рожденный ползать летать не может. Видать, так и помру за баранкой. Такая, знать, моя планида. Ну, гусары, по коням!
Андрейка, Сашка и я забрались в кузов. Юрка Хлопотнов смущенно устроился в кабине.
— Все, что ли? — спросил шофер Бао.
— Мишки нет...
— За аккордеоном побежал,
— Значит, потанцуем! — Шофер довольно улыбнулся. — Это вы хорошо придумали — аккордеон захватить.
Он разрешил Юрке гуднуть несколько раз. И сразу же в дверях общежития показался Мишка с большим футляром на плечах.
— Давай музыку в кабину, — сказал шофер Бао. Вручив Юрке аккордеон, Мишка плюхнулся через борт в кузов, обнял меня и Сашку:
— Везет нам, ребятки!
Вот было бы здорово, если бы мы ехали на фронт. И передо мной возникают заманчивые картины.
… Машина с горсткой отважных разведчиков мчится по шоссе, которое простреливается гитлеровцами. Командир Алексей Сазонов подбадривает своих орлов:
— Веселей, ребятки! За поворотом — наши.
Осиным роем свистят пули над головами. Склонился к баранке бывалый разведчик шофер Бао. Не раз попадал он в такие переплеты и всегда говорил:
— Живем, гусары!
Голова Александра Воронкова перевязана. Через бинты просачивается кровь. Первым схватился он с «языком» — дюжим обер-лейтенантом, который лежит сейчас в ногах разведчиков, связанный прочными морскими узлами, с кляпом во рту. Глаза немца, налитые кровью, вращаются в бессильной ярости.
И когда до поворота остается какая-то сотня метров, вражеская мина разрывается прямо перед машиной.
— По-пластунски — за мной! — выбравшись из перевернутой машины, командует Алексей Сазонов.
Пленного гитлеровца приходится волочить за собой, как бревно. Остался в машине насмерть сраженный осколком балагур и весельчак Бао. Никогда не услышат больше разведчики его озорной команды: «Гусары, по коням!»
Через полчаса разведчики были у своих. На вопрос товарищей: «А где наш Бао?»—все, как один, виновато опустили глаза...
— Дает наш Бао, — говорит Сашка, — с ветерком едем! Мы встаем в кузове, положив руки друг другу на плечи. Ах, Москва, Москва, какая ты огромная, какая бесконечная!
Какая ты суровая в эти дни, словно и сама надела грубую красноармейскую шинель. В витринах магазинов — мешки с песком, на домах броские надписи: «Бомбоубежище», «Газоубежище» — и стрелы, указывающие вход в подвалы. Дворы домов изрыты щелями, напоминающими окопы.
По Садовому кольцу молча шагают вооруженные ополченцы. В этих рядах — и ученые, и рабочие, служащие и студенты. Только нас, мальчишек, нет в бесконечных колоннах.
— Запевай! — громко говорит командир.
Горячие и гневные слова песни разносятся далеко вокруг, останавливают женщин на тротуарах, вызывают мурашки восторга на наших лицах. Слушает Москва честный и смелый голос своих сыновей, знает Москва, что не отдадут они ее на поругание врагу, как никому не позволят обидеть родную мать, давшую им счастье жизни.
Слушай, Москва, и верь сынам своим! Верь и нам, москвичатам, что нигде и никогда не уроним мы твоей чести. Не беда, что мы не умеем говорить громких слов. Мы будем драться за тебя, Москва, со всей мальчишеской злостью и упрямством. За то, чтоб снова засверкали рубиновые звёзды над твоим Кремлём, чтоб смеялись дети на твоих бульварах, чтоб сменила ты свой строгий вдовий наряд на расписной русский полушалок. Ты слышишь нас, Москва? Нас миллионы у тебя! Сто семьдесят миллионов! Мы выстоим, Москва, мы победим!
— Чего это ты? — настороженно спрашивает Воронок.
—Соринка в глаз попала, — отвечаю я.
— Небось о фронте задумался? Я, брат, тоже…
Шофер Бао выехал за город и тут показал нам во всем блеске свое водительское мастерство. Мелькали кустарники и перелески, мелькали телеграфные столбы. Ветер свистел в ушах, срывал с головы фуражку. Пришлось опустить ремешок под подбородок.
Ты, Мишук, присядь, — посоветовал Воронок,— не ровен час, застудишь горло.
Мишка послушно опустился на дно кузова. Все-таки, наверное, хлопотливо быть певцом. Все время следи за своим здоровьем, опасайся сквозняков. Разве это жизнь? То ли дело мы с Андрейкой и Воронком — стоим себе, как моряки на палубе корабля, орем что-то героическое и плюем на всякие простуды!
Мы замечаем впереди огромное летное поле. Истребители кажутся издали маленькими и безобидными. Около машин суетятся люди. Неужели боевой вылет? Досадно будет не застать Павлика и Виктора.
— Приехали, гусары! — высунувшись из кабинки, кричит шофер Бао. — Сейчас пойду договариваться, чтобы вас пропустили. Раз, два, три, четыре, пять. Никого не забыл? Зарядочку, гусары, зарядочку! Помогает от холода.
Во всем училище я один, пожалуй, знал, что Андрейка Калугин мечтает стать летчиком. В тумбочке у него лежали книги об авиации. На внутренней стенке чемоданчика Андрейки были прикреплены портреты отца, Чкалова, Белякова и Байдукова. Мне казалось, что он частенько молча беседует с ними. Интересно было бы узнать — о чем?
Как он обрадовался сегодняшней поездке! Он собирался к летчикам, словно на бал. Отгладил брюки, надел новую гимнастерку с белоснежным воротничком. Начистил ботинки до зеркального блеска.
— Такого парня можно сразу записывать в ученики летчика, — сказал я.
— А тебя в трубочисты, — ответил он.
Пришлось идти умываться. Почему-то я недолюбливал эту процедуру. Мне нравилось ходить чумазым. Сразу всем видно, что рабочий человек. Не белоручка.
К нам подошел дежурный с квадратиками в петлицах и сказал:
— Ага, нашего полку прибыло! Придется, товарищи, малость подождать. Летчики принимают сейчас других гостей. Так сказать, незваных.
Он посмотрел на небо, и мы тоже задрали головы вверх.
— Не здесь, в другом квадрате, — объяснил дежурный. Он повел нас в столовую. Перед нами поставили огромную кастрюлю с супом.
— Посмотрим, какие вы работнички, — сказал дежурный. Он сам разлил суп по тарелкам.
Наш шофер обедал за другим столиком.
— Садитесь к нам, товарищ Бао, — пригласил его Юрка Хлопотнов.
— Как, как? — переспросил дежурный.
— Товарищ Бао, — повторил Юрка.
Дежурный с хохотом сел на стул.
— Кузькин, ты меня убьешь, — сказал он наконец, вытирая слезы.
Кузькин, подсевший к нам, невозмутимо ответил:
— А меня хоть горшком назови, только в печь не сажай. Бао, значит, бао.
— Он шофер батальона аэродромного обслуживания. Сокращенно — БАО. А зовут Кузькина Митрофан. Митроша из Оша. Есть такое местечко под солнцем, — охотно разъяснил нам дежурный.
Митроша из Оша ухмылялся и наворачивал суп.
Вскоре летчики вернулись с боевой операции. Они разговаривали жестами и смеялись, как дети.
Что же вы Нину не захватили с собой? — огорченно спросил Павлик.
— Ее вызвали в горком комсомола, — сказал я.
— Подождали бы. Эх вы, мужчины.
Я познакомил Андрейку с Виктором.
— Тоже летчиком хочет стать, — шепнул я Виктору.
— Значит, будем коллегами, — просто сказал он, пожимая руку Андрейке.
Дежурный рассказал товарищам о шофере Бао. Рассказывать он был мастак. Виктор поперхнулся супом, а Павлик схватился за живот. Митроша из Оша невозмутимо допивал компот.
По всему было видно, что здесь любили пошутить. И еще любили цветы. Они стояли на каждом столике. Совсем не чувствовалось, что эти люди только что вернулись из поединка с врагом, где рисковали жизнью. Было такое впечатление, что они всего-навсего совершили небольшую прогулку и теперь вот подкрепляют силы.
— Устраиваем мальчишник! — объявил Павлик. — Сбор в клубе в семнадцать ноль-ноль. Соревнование талантов Н-ской части и ремесленного училища!
Я заметил, что в клубе Андрейка сел рядом с Виктором. Они почти все время негромко разговаривали о чем-то. Это было так не похоже на молчуна Андрейку. Выступив на сцене со своими стихами, я подсел к ним. Андрейка говорил:
— С образованием у меня не того... Пытаюсь вот самоучкой пройти курс десятилетки. Вроде помаленьку двигаюсь.
— Если надо помочь — скажи, — отвечал Виктор. — У нас тут прямо профессора есть. И по математике помогут, и по физике. Да и я с удовольствием позанимаюсь с тобой, когда время позволит. А от мечты своей не отказывайся. Будешь летчиком. Это точно.
Андрейка взглянул на меня и засопел. Я правильно понял его взгляд: убирайся, мол, отсюда подальше. Дай поговорить человеку раз в жизни.
Захватил моего Виктора и еще сопит. Да если б не я, не было бы и этого разговора. Так-то ты, Андрейка, ценишь друзей. Я сердито шмыгнул носом и поднялся. Надо разыскать Павлика. Наверное, он захочет переслать Нине письмо.
В разгар вечера в дверях появился дежурный.
— Тревога! — крикнул он.
Летчики сорвались с мест и помчались к выходу.
— Приезжай! — крикнул Виктор Андрейке. — Я скажу, чтоб тебя пропускали.
— Отвезите ребят! — приказал дежурный Кузькину.
Митроша из Оша приложил руку к козырьку.
Мы увидели, как один за другим взлетали в небо самолеты наших друзей. Через несколько минут они встретят врага. Возвращайтесь с победой!
— Так вот и живем, — меланхолично сказал Митроша из Оша, — кто фрицев лупит, а кто малышей развозит по домам.
— Везет вам, товарищ Бао, — сказал Сашка, — глядишь, за всю войну и царапины не получите.
Митроша из Оша сплюнул и ответил:
— Не жизнь, а жестянка! Технари и те больше значат, чем я. Прямо хоть дезертируй из части. На фронт.
— Наш у тебя характер, — загадочно сказал Сашка Воронок.
Мы с Юркой Хлопотновым переглянулись и понимающе засмеялись. Все-таки мы счастливее товарища Бао. Убежим на фронт — и точка. Какой спрос с мальчишек? А Бао — командир на полромба. Ему нельзя.
Глава восемнадцатая
ОДНО СЛОВО — ФАШИСТЫ!
Каких только историй не услышишь в общежитии по вечерам! По одному, по двое приходят ребята в красный уголок. Каждый занимает давно облюбованное место. Пока появляется Черныш или Нина, мы перебрасываемся безобидными шутками, спорим. Бывают ли десятитонные бомбы? Могут ли немцы сбросить на Москву баллоны, начиненные газом?
— От них всего можно ожидать, — заявляет Воронок, — одно слово — фашисты.
— Существует международная конвенция, запрещающая применение газов, — говорит кто-то из угла авторитетным голосом.
Пакт о ненападении тоже существовал, — грубо отзывается Сашка. — А что в результате?
— Уж не думаешь ли, Воронков, что они все звери? Есть и в Германии порядочные люди. Коммунисты есть.
— В концлагерях. А насчет зверей послушай вон Юрку Хлопотнова. У него на глазах отца повесили и старшего брата. И деревню сожгли. Вот тебе и люди-человеки.
Черныш, как всегда, появляется неожиданно. Присядет незаметно у входа и слушает наши споры-разговоры. В шутку замполит говорит, что воспитательную работу среди нас он проводит в основном в красном уголке. Это по просьбе Федота Петровича рассказывал здесь Юрка о том, как исчезла с лица земли его родная деревня, как был он разведчиком в партизанском отряде. Это Черныш заставил Воронка вслух прочесть всем письма отца, исполненные веры в нашу победу, по-мужски сдержанные и многозначительные. Это Черныш приглашал к нам в гости зенитчиков, выздоравливающих раненых и старых большевиков. Кто только не перебывал в нашем красном уголке!
Сегодня Черныш и Нина привели к нам в гости какого-то долговязого и неуклюжего ополченца в очках. Вряд ли это старый большевик. На вид ему не больше тридцати. Он так посмотрел на нас из-под своих очков, словно изучал каждого под микроскопом. Наверное, ученый. Специалист по насекомым. Сейчас он заведет волынку на два часа о каких-нибудь клещах и прочих букашках-таракашках. Скучных лекций мы не любили, и Черныш с Ниной прекрасно знали об этом. Зачем же тут этот ополченец?
— Так вот вы какие, — задумчиво сказал наш гость, протирая очки.
— Какие? — поинтересовался Воронок.
— Обыкновенные, — сказал ополченец, — а Федот Петрович расписал вас прямо богатырями. И зажигалки вы тушите и по полторы нормы даете.
— И тушат, и дают, — сказала Нина.
— Даже не верится. Мальчишки как мальчишки.
— А вы оставайтесь с нами дежурить на крыше, — гостеприимно предложил я.
— Только там, бывает, осколки падают невзначай, — счел нужным предупредить Воронок.
Потеряет, чего доброго, наука специалиста по клещам. Придется тогда нам с Воронком отвечать.
— Совсем запугали, — сказал ученый, — так и быть, не полезу с вами на крышу. Надеюсь, мне найдется дело и на земле.
Вот все они, интеллигенты, такие. Чуть что — сразу в кусты. Кто, кто, а мы за эти месяцы прекрасно научились разбираться в людях. И никаких микроскопов нам не нужно.
— Товарищ Тимофеев — известный пианист, — сказал нам наконец Федот Петрович. — Все вы, наверное, видели на афишах его имя...
Еще бы! Мы сразу захлопали ополченцу. О нем вся Москва знала. О нем кричали до войны огромные буквы афиш на каждой улице. И надо же — такой человек сам, по собственной воле, пошел в ополченцы. Потому что в ополченцы брали только по собственной воле.
— Попросим товарища Тимофеева что-нибудь сыграть нам.
Товарищ Тимофеев открыл крышку нашего пианино и пробежался пальцами по клавишам. И покачал головой.
— Все на нем играете? — спросил он добродушно.
— Все, кому не лень, — признался Воронок.
— Тогда займитесь пока своими разговорами, а я немножко потружусь над вашим уникальным фортепьяно, — сказал товарищ Тимофеев.
Он достал из кармана шинели какую-то штуковину и принялся за настройку пианино.
— Эх вы, — укоризненно сказал Черныш, — сколько раз говорил — не прикасайтесь к инструменту!
Видать, для Тимофеева пианино было не просто черным ящиком, как для нас, а чем-то очень дорогим и заветным. Вон как бережно трогает он струны, как вытирает тряпочкой каждую пылинку.
Настройкой он занимался долго. Мы уже тревожно поглядывали на часы, тикавшие над входной дверью. Скоро налетят фашисты. Любят они прилетать в одно и то же время. Немецкая педантичность.
— Это, конечно, не «Бехштейн» и не «Беккер», — сказал в конце концов товарищ Тимофеев, — но попробуем сыграть и на нем. За качество исполнения трудно ручаться, так что заранее извините, если что не так. Я познакомлю вас с любимой вещью Владимира Ильича. Итак, соната «Аппассионата» Людвига ван Бетховена.
Никогда в жизни я не слышал такой музыки. Это было что-то потрясающе нечеловеческое, сверхъестественное. Казалось, музыка звучит прямо с небес, а не вызвана к жизни хрупкими пальцами человека в очках.
Мальчишки замерли на стульях в тех позах, как их застали первые аккорды. Рука Нины Грозовой так и осталась на моем плече до самого финала. Черныш застыл, закрыв глаза и подперев подбородок палочкой.
Сколько длилось это очарование, никто не знал. Время как бы перестало существовать.
Хлопали пианисту до боли в ладонях, кричали до хрипоты «бис», не понимая, что такое неповторимо.
Товарищ Тимофеев кланялся, сняв очки, и глаза его благодарно блестели.
... Кончилась война. Сверкающий концертный зал... Здесь и молодой рабочий поэт Алексей Сазонов с первой книжкой своих стихов в руках. Все пришли на концерт всемирно известного пианиста товарища Тимофеева. Но что это? На глазах у всех поэт Сазонов поднимается на сцену, вручает пианисту книжку, обнимает его, как родного брата. И товарищ Тимофеев говорит людям в зале:
По просьбе вчерашнего ремесленника, а ныне токаря-универсала и поэта Алексея Сазонова исполняю сонату «Аппассионату». Это произведение великого немецкого композитора я играл ребятам в самое трудное время войны с немцами. И немецкий композитор тоже воевал своей музыкой против фашистов, помогал выстоять защитникам Москвы.
Алексей Сазонов подтверждает слова пианиста и, гремя орденами, уходит со сцены в зрительный вал. Там ждет его самая лучшая девушка в мире. У нее лучистые глаза и маленькая родинка на правой щеке. Такая же, как у Нины Грозовой. ..
Какая у Нины теплая и ласковая рука... Жаль, что она снова не догадывается положить мне ее на плечо. Может быть, товарищ Тимофеев исполнит еще что-нибудь? Ну пожалуйста!
Но нет, он надевает свою грубошерстную шинель и у порога красного уголка еще раз кланяется всем. Он спешит по делу, и Нина провожает его.
Черныш смотрит лукаво на Воронка и спрашивает:
— Не удалось сагитировать пианиста в пожарную команду?
— Не удалось, — вздыхает Воронок и тоже поглядывает на замполита лукаво.
— К вашему сведению, — серьезным голосом говорит Федот Петрович, — хочу доложить, что товарищ Тимофеев состоит в команде, которая обезвреживает невзорвавшиеся бомбы. Так что напрасно вы показывали ему свое бесстрашие.
Мы смущенно молчим, огорченные и потрясенные. Сашка тихо произносит:
— Убрать его надо из этой команды.
— Пробовало начальство. Не удалось.
А мне вспоминаются хрупкие и длинные пальцы пианиста. Сколько же раз прикасались они к самой смерти? И сколько раз прикоснутся еще? Вот тебе и интеллигенция...
— Давно не видел я Ивана Михалыча, — говорю Сашке, — надо бы навестить.
— Завтра сходим вместе с Мишкой.
Дальше в этот вечер все было буднично. Объявили тревогу. Мы сидели на крыше и щелкали семечки. Если кто-то из фашистов и прорвался, то не в нашем районе. Сашка прикорнул около бочки с водой, дав мне наказ разбудить его, если что случится. Но ничего не случилось. Залетел, правда, на крышу осколок странной формы. Чем-то он напоминал профиль Мефистофеля. Но эти игрушки я к тому времени перестал коллекционировать.
А на другой вечер мы отправились к Ивану Михайловичу. Мишка нес ему в подарок кулечек с карамелью. Такие белые подушечки. Нам их в последнее время давали к чаю вместо сахара. Ну, мы и накопили немного.
Мишка радовался, как ребенок. Он души не чаял в профессоре и все ходил придумывал, что бы ему подарить. Ну, Сашка и подсказал насчет конфет. И первый отдал Мпшке свои карамельки.
— У меня от них зубы болят, — сказал Воронок и в подтверждение своих слов сморщился, как столетняя старушка.
— Возьми и мои, — сказал я Мишке, пододвигая белые подушечки, — проживу и без детской забавы.
Мы накопили карамелек пятьдесят. По тем временам это было большое богатство.
— А когда у меня появятся деньги, — говорил сейчас Мишка, — я подарю Иван Михалычу шапку из бобра. Такой шапке сносу нет. Пусть каждый раз вспоминает меня, когда будет надевать ее. Хорошо придумал?
— Такая шапка тыщи стоит, — скептически заметил Воронок.
— Ну и что? Накопить, что ли, нельзя? Всего добиться можно, если сильно захотеть. А я жуть какой упрямый. Да к тому же это ведь для Иван Михалыча...
— Ты скоро молиться на него станешь, — поддел Воронок.
— А я уже молюсь. Святой он человек. Святой и бескорыстный. Только о других и думает. Себя совсем забывает.
— Что верно, то верно, — согласился Воронок, — человек он редкий.
У площади Дзержинского мы свернули на улицу 25 Октября. На этой улице жил Иван Михайлович.
— Смотри-ка, видать, сегодня ночью задело, — показал мне Воронок на одно из зданий. Собственно, это было уже не здание, а большая каменная коробка. В одном из оконных проемов вниз головой покачивалась кукла, зацепившаяся за что-то. Вокруг здания ополченцы сооружали забор.
— Да, тут уже и товарищ Тимофеев бессилен, — сказал я. — Сработала, проклятая.
Мы глядели на разрушенное здание и не сразу заметили, как побледнел Мипша Румянцев. А он смотрел в сторону дома Ивана Михайловича. Он смотрел и оседал на тротуар, шурша шинелью о шершавую стену.
— Что с тобой? — испугался Сашка.
Мы разом взглянули с Воронком на дом Ивана Михайловича и похолодели. Дома не было. Были две стены, торчавшие нелепым огромным углом. А дома не было.
Мы подняли Мишку. Он не плакал, а только трясся, как в ознобе.
— Еще ничего не известно, — ворчливо сказал Сашка, — может, он на этот раз спустился в бомбоубежище.
Мы пошли к развалинам и спросили сердитого ополченца:
— Здесь пострадал кто-нибудь?
— Многие,— сказал сердитый ополченец,— всю ночь и весь день выкапывали из-под развалин. Такая теперь наша работа. А у вас что, родственники здесь жили?
— Да, — сказал Воронок, — такой старичок с острой бородкой. Иван Михалыч.
— Много тут было стариков. С бородкой, говорите? Профессор, что ли? Так какой он вам родственник? Смеетесь?
— Профессор, профессор! Иван Михалыч, — сказал Сашка.
— Опознали его соседи. Только у него никаких родственников не было.
«Не было...» Он говорит о нем в прошедшем времени. Значит, не стало нашего Ивана Михайловича. Значит, и в последнюю тревогу играл он на рояле своего любимого Чайковского. Играл Чайковского, а фашист в это время нажал кнопку — и вниз полетела бомба. Летела бомба, а он не знал об этом и, даже если бы захотел, не мог уже ни уйти в бомбоубежище, ни перестать играть. И он играл до последней секунды. До того самого мига, когда обрушилась на дом тонна взрывчатки... И только смерть оторвала его пальцы от рояля.
— Легко помер профессор. Мгновенно, — сказал ополченец, глядя на наши лица. Он уже не был сердитым. — Вот нашел рядом с ним. Игрушка не игрушка. Не пойму что.
Ополченец достал из кармана деревянную львиную голову. Нижней челюсти у льва словно не бывало. По-прежнему свирепо смотрели его страшные глаза. По-прежнему был грозен царь зверей.
— Дайте это нам, — попросил Сашка.
— Возьмите. Какая-никакая, а память. Что бы это могло быть?
— Набалдашник от трости, — тихо объяснил Воронок. — Была у Ивана Михалыча трость.
Сашка посмотрел на Мишку Румянцева.
— Посиди, Миша, — сказал он, — посиди.
— Внучек, что ль, профессорский?
— Вот именно. Внучек.
— Эх, война, война! И кто ее первый придумал? Ополченец виновато и как-то беспомощно посмотрел на нас и побрел к своим товарищам. Одна обмотка у него развязалась, но он не замечал этого. Надо было сказать ему, а я не мог произнести, ни слова.
Когда мы уже уходили, нога моя раздавила что-то очень хрупкое.
Я со страхом посмотрел вниз. К кирпичам и моему ботинку прилипли раздавленные карамельки. Такие белые подушечки. Их было много. Штук пятьдесят. Я вытер подошву ботинка о кирпич и побежал догонять ребят.
Я думал о своем осиротевшем друге. О Мишке. Надо было как-то утешить его. А как? Ну как?
Проклятые фашисты! Мы работаем по двенадцать часов, валимся с ног от усталости, но разве можно сравнить нашу жизнь с жизнью красноармейцев? Они гибнут в рукопашных схватках, мерзнут в окопах, делят на двоих последний сухарь, последнюю щепотку табаку...
Родные наши! Держитесь до конца. Мы, мальчишки, поможем вам изо всех мальчишеских сил. Я вспоминаю гайдаровскую сказку о Мальчише - Кибальчише. «Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть и дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?»
Нет, не сидим мы сложа руки! Я даю себе клятву — с сегодняшнего дня не тратить даром ни одной минуты, не отходить от станка ни на миг.
Ходят слухи, что нас собираются перевести в основной цех. Это было бы здорово! Станки там — загляденье. На тех станках просто грешно плохо работать. Скорее бы нас переводили!
Глава девятнадцатая
ВОТ УЖ ПОРАБОТАЕМ!
Цех огромный, словно палуба океанского корабля. Только вместо палубных надстроек — станки, станки, станки. А за станками — женщины. Молодые, среднего возраста, пожилые. Редко-редко увидишь мужчину. Женщины смотрят, как мы идем по пролету. Нас тридцать человек — вся пятая токарная группа. Наконец-то мы будем работать в основном цехе, а не на задворках. Здесь не только донышки протачивают. Вон как поблескивают на станках тупорылые корпуса снарядов. Мы стараемся идти независимо, как и полагается рабочему классу. Женщины шутят:
— Вот и в нашем цехе мужским духом повеяло...
— Теперь, бабоньки, не страшно: есть кому защитить нас.
— Выбирайте, девки, женихов — ребята как на подбор.
Мастер смотрит на работниц неодобрительно. Борода вышагивает впереди нас, как полководец, ведущий войска на штурм.
— А главный-то у них — вылитый Суворов. Такой же щупленький и сердитый.
— Разговорчики! — громко говорит мастер, посылая из очков несколько испепеляющих молний.
— Фронтовик — с печки брык!
— Уж больно ты грозен, как я погляжу.
Мы ухмыляемся. Да, этим женщинам пальца в рот не клади. Борода предпочитает теперь шагать молча, чтобы не ронять собственного достоинства.
—Из какого детского сада? — несется нам вслед.
Ну, это уж чересчур. Мы ведь тоже языкастые. Воронок оборачивается и кричит девчонке в красной косынке, задавшей этот дурацкий вопрос:
— А из того самого, где мы рядом с тобой на горшочках сидели. Неужто забыла?
— Воронков! — строго окликает мастер.
Женщины смеются. Лицо девчонки заливается краской. Она склоняется над резцом, закусив губу, не зная, куда деваться от стыда.
— Знай наших! — победно товорит Сашка. — А станочки-то здесь — будь здоров. Не какие-то драндулеты, а настоящие Дипы. Вот уж поработаем так поработаем!
Начальник цеха смотрит на нас грустно. Он худ до невероятности. Костюм болтается на нем, словно на вешалке.
— Дело такое, товарищи... Временно будете трудиться на настольных токарно-винторезных станках. Они вам, конечно, знакомы?
Мастер кивает вместо нас. Эти станки вроде игрушечных. На них изготовляют самые мелкие детали — величиной с наперсток или даже с иголку. Мы разочарованно переглядываемся. Уж лучше бы вкалывали на своих драндулетах в подсобном цехе. Всё-таки специальный заказ выполняли.
Начальник цеха читает по нашим глазам, словно по книге, и поднимает руку:
— Работу будете делать весьма важную. Весьма. Очень ответственную деталь — девятку. Вот такую.
Он показывает нам детальку, похожую на бочоночек, какие применяются для игры в лото. Только она немного меньше и наружная поверхность ее покрыта резьбой.
— Девятка предназначена для очень грозного оружия. Она, можно сказать, главнейшая деталь, хотя и невелика по размерам. Говорю это потому, чтобы знали, какое серьезное дело собираемся мы вам доверить. Сверху на девятке, как видите, резьба. Внутри — отверстия. С одной стороны — конусное. В отверстия вставляются фибровые прокладки. Затем эти прокладки просверливаются. Вставляется бронзовый стерженек. Подбиваем его молоточком и зенкуем.
Начальник подробно рассказывает обо всем технологическом процессе и в заключение говорит:
— Работа, можно сказать, ювелирная. Ваше училище будет производить ее на нашем заводе от начала до конца. Вопросы есть?
— Да, это не донышки для снарядов, — ворчливо говорит Сашка Воронок.
— Согласен с вами. Это еще важнее. И трудоемкость не та, что на донышках. Тут нужен глаз и глаз. Чем больше девяток — тем ближе наша победа. Опять-таки говорю совершенно серьезно, а не для красного словца.
И мы начинаем верить начальнику цеха. Начинаем верить его усталым глазам, его человеческой речи — такой откровенной, словно он говорит не с ремесленниками, а с настоящими квалифицированными рабочими. Потом мы полюбили эту детальку, такую маленькую, такую безобидную на вид. Мы изготовили десятки тысяч девяток. Они нам снились по ночам, мигая красными и черными фибровыми прокладками. Крохотная девятка — деталька для оружия, которое помогло разгромить Гитлера...
Девчонки наши мигом захватили самые лучшие станки. Те, что поближе к свету и поновее. Они вертели никелированные рукоятки суппортов, и казалось, что перед ними не токарные станки, а ручные швейные машинки.
— Портнихи, да и только, — сказал Сашка Воронок, сосредоточенно ковыряя в носу.
Никак я не мог отучить его от этой некрасивой привычки. Стоило ему задуматься, и он сразу начинал терзать свой бедный нос. Я ударил Сашку пальцем, и он сконфуженно спрятал руки за спину.
К нам подошел Борода:
— Так что, братья-разбойники, будете на сверлильных работать. Для ваших музыкальных пальцев это самое подходящее занятие.
Он подвел нас к миниатюрным станочкам. Перед ними даже табуреточки стояли. Сверла тут были диаметра швейных иголок.
— Хрупкий инструмент, — сказал Сашка.
— За перевыполнение нормы будете получать талончики на дополнительное питание, — поспешил обрадовать нас Борода.
В первую неделю мы и в глаза не видывали этих талончиков. Мы ломали крошечные сверла, чертыхались и шли отвести душу к Андрейке. Он дул на готовенькую девяточку, словно собирался ее проглотить, и спрашивал:
— Не клеится?
— Не клеится, — дружно отвечали мы.
Он включал моторчик «швейной машинки» и поглядывал на нас с чувством некоторого превосходства. Виртуоз! Девяточки сыпались из-под его рук, словно из рога изобилия. Талончик на дополнительное питание ему вручили уже на второй день.
— Стараться надо, — назидательно говорит Андрейка. Можно подумать, что он один здесь такой старательный.
— Ты не очень воображай, — советует ему Воронок. — Пока что твоя карточка тоже не висит на Доске почета.
Доска почета в цехе громадная. Портреты работниц сделаны чуть ли не в натуральную величину. В центре — портрет той девчушки в красной косынке, с которой так оригинально познакомился Сашка Воронок. Ее зовут Зоя Голубева.
В обеденный перерыв Сашка часто крутится неподалеку от Зоиного станка. Рая Любимова считает Сашку самым коварным парнем на свете. Это из-за того, что он не стал разговаривать с ней после того злополучного свидания у «Колизея». Сдержал обещание, данное мне. Но мне-то от этого что? Рая не замечает меня.
На Доске почета Зоя Голубева выглядит не такой дерзкой, как в жизни. Она там смущенно улыбается, словно просит извинения, что привлекла к себе внимание фотографа и что ее поместили в самом центре доски. Другие работницы на Доске почета не улыбаются. Я бы даже сказал, что они смотрят довольно хмуро, будто досадуют, что их оторвали от станков из-за такого пустяка.
Бывает, что кто-нибудь из работниц приходит в цех с заплаканными глазами. Наверно, получила похоронную. Сидит женщина, бессильно опустив руки, а на коленям лежит эта бумажка. Ничто, кажется, не поднимет ее, ничто не распрямит ее согбенных плеч…
Начальник цеха Иван Иваныч пытался освобождать от работы. Подойдет с виноватой улыбкой — крепкий мужик, а не на фронте — и скажет:
— Шли бы вы, Пелагея Никифоровна (Или Анна Ивановна, или Маруся, или Зоенька...) домой... Шли бы домой, отдохнуть вам надо...
— Эх, Иван Иваныч, муж за меня теперь отдохнет... И встает, и идет к станку, и включает мотор.
А Иван Иваныч бредет в свою конторку, вспоминая с болью, что и на очередной его рапорт с просьбой послать на передовую начальство ответило отказом...
— Я не рвусь на Доску почета,— отвечает нам Андрейка,— это вы рветесь. Все время вертитесь около нее, словно выискиваете для себя местечко.
Что с ним говорить? Мы уходим к своим «бормашинам» и принимаемся за новые сверла. Интересно, закаляют их или дают какие попало?
Первым перевыполнил норму Воронок. Спервоначала он сам не поверил этому и начал пересчитывать свои девятки, как золотые монеты. Потом подошел ко мне и стеснительно сообщил:
— Сто десять процентов, брат мой... Вот такие пироги. Зря, выходит, мы сверла-то ругали.
Я видел, как в перерыв он храбро подошел к Зонному станку и завел с ней какой-то разговор. Она что-то говорила ему, кивая на станок. Воронок полез зачем-то копаться в шестеренках, хотя каждому из нас было ясно, что он в них ни бельмеса не смыслит. Нарезать резьбу резцом никто из нас не умел, кроме Андрейки. А там, у Зои, нужно было переставить шестерни. Воронок так измазался машинным маслом, словно его кто-то специально под папуаса разрисовал. Он притащил к Зоиному станку Андрейку, и тот в два счета сделал все, что нужно.
Зоя улыбнулась Андрейке и пожала ему руку. Воронок тоже протянул свою. Она и ему пожала. Только без улыбки. И смотрела в этот миг не на Сашкину деловитую физиономию, а вслед Андрейке. Так что талончик на дополнительное питание не очень-то и обрадовал Воронка.
Вермишель, свалившуюся с неба, он по-братски разделил со мной поровну, но ел ее как-то без аппетита. Нужно было поднять ему настроение. Я сказал:
— Просто не верится, что ты первым перевыполнил норму. Я — старый ремесленник, а ты новичок. И надо же так отличиться... Ты, Воронок, прямо виртуозно работаешь.
Он засиял и сразу забыл о Зое Голубевой. Он сказал мне поучительно:
— Не надо сверло рывком толкать. Веди его плавно-плавно... Теперь я, кажется, даже обыкновенной проволокой смогу сверлить.
В основном цехе наши девчата все поголовно увлеклись художественной вышивкой. В свободные минутки делали кисеты, носовые платочки, какие-то накидочки. Все это предназначалось для отправки красноармейцам на фронт. Я, правда, не представлял себе, как можно на передовой использовать накидочку. Вроде той, что вышивает в эту минуту Рая Любимова. Красивая накидочка, ничего не скажешь, но для портянки она, пожалуй, маловата, а для платка — велика.
Я сказал об этом девчатам, и они обрушились на меня двенадцатибалльным штормом. А когда я был окончательно сокрушен их визгом, Рая гневно сказала:
— Много ты понимаешь во фронтовой жизни! Накидочку можно на столик положить, она уют придает.
— Или повесить ее на стенку, — мечтательно добавила Танька Воробьева.
Ей-богу, они не догадывались, что в окопах не бывает столиков! Стенки, разумеется, есть, но не для накидок же.
— И вообще, — процедила Рая, — вы, мальчишки, не годитесь ни на что. Мы хоть кисеты вышиваем, а вы? Так что уж помолчи.
Ее слова натолкнули нас на мысль, что кое-какие подарки бойцам можем послать и мы, мастерим же для себя и мундштуки, и расчески, и зажигалки. Все это добро и красноармейцам пригодится. «Подарочную команду» возглавил Андрейка Калугин. Дело у нас закипело.
Мы бы изготовили подарков еще больше, но Борода как-то с укором сказал Андрейке:
— Право же девятка для фронта гораздо важнее, чем ваши кривозубые алюминиевые расчески. Они же выдирают волосы с корнем.
— Не все выдирают, — оправдывался Андрейка, — я лично хорошенько зачищаю зубцы.
— Делу — время, потехе — час, — промолвил мастер, как бы ставя точку.
После этого наш «подарочный» пыл несколько поумерился. Правда, девчонки так и вышивали свои кисеты, накидки и салфеточки. Многие красноармейцы, наверное, вставали в тупик, получив вместе с кисетом... салфеточку или накидку.
А наши мундштуки доставили, видимо, радость не одному заядлому курильщику. Красивые они были, с набором цветных пластинок. Так и переливались желтым, рубиновым и голубым огнем. Такой мундштучок даже и без табачка подержать во рту приятно.
Что касается расчесок, то тут Борода прав. Идеальными их было довольно трудно назвать. Но орнамент и лозунги на расческах заслуживали внимания. На алюминиевых расческах развернуться фантазии было не очень-то легко — не хватало места. И все-таки мы помещали там стремительных «ястребков», пылающие «хейнкели» и «фокке-вульфы». Танки вставали на дыбы, сокрушая фашистскую артиллерию..! А у Бороды волосы вставали дыбом, когда он знакомился с нашими рисунками.
Вот лозунги он одобрял: «Сокрушим гадов огнем советских снарядов!», «Не возьмет гад Москву и Ленинград!»
По совету мастера девчата некоторые из этих лозунгов вышили на кисетах. Так выходили в свет мои первые стихи. Тираж у них был невелик, но каждый красноармеец старался сохранить их. Кому же хочется потерять такой славный кисет? А вот расчески, наверное, теряли... Хотя практическая их ценность и была невелика, но грех этот в какой-то степени возмещался художественными достоинствами расчесок.
Глава двадцатая
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГАЙДАР
В кабинет замполита можно пройти лишь через комнату комитета комсомола. Перегородка между комнатами тоненькая. Если в одной из них говорят громко — в другой все слышно. Я здороваюсь с Ниной и вхожу в кабинет замполита.
Черныш смотрит на меня вопросительно.
— Я по личному вопросу.
— Посиди, Леша, почитай вот газеты. Тут меня уже дожидаются, а потом с тобой поговорим.
Я пристраиваюсь у краешка длинного стола и раскрываю последний «Огонек». До войны он выходил на блестящей гладкой бумаге. Да и страниц в нем было побольше. А сейчас держу в руках истрепанные шероховатые странички. Бумага — чуть получше оберточной. Но читать журнал интересно: почти весь он заполнен сообщениями с фронта, военными рассказами и стихами. И писались они не в уютных кабинетах, а прямо на передовой — в блиндажах, а то и в окопах. Симонов, Твардовский, Сурков... Воюют они плечом к плечу с красноармейцами, ходят рядом с ними в бой. Воюет где-то и мой любимый Гайдар. Для многих он — просто хороший писатель, а для меня — по-особенному близкий человек. Перед войной я занимался в литературной студии Дома пионеров. В гости к нам приезжали многие писатели. Но ни один из них не запомнился мне так, как Гайдар.
Он появился в просторном читальном зале, словно только что сошел с боевого коня. На нем была военная гимнастерка с широким командирским ремнем, на груди — орден. Он зорко оглядел нас, будто мы были его бойцы, а он — наш командир.
— Здравствуйте, друзья-товарищи! — весело сказал Гайдар.
Мы нестройно прогалдели что-то в ответ. Мне показалось, что Гайдар укоризненно качнул головой. Конечно, если бы не писклявые голоса девчонок, наше приветствие прозвучало бы гораздо мужественнее. Девчонки тоже окружили Аркадия Петровича и застрекотали, как сороки. Можно было подумать, что он пишет свои книги только для них. Мы-то, мальчишки, в глубине души знали, что к нам, и только к нам, обращается Гайдар в своих повестях и рассказах. Нас он готовит быть смелыми и честными в грядущих боях. Разве можно представить девчонку верхом на коне и с острой саблей в руках?
Гайдар сел за стол и получилось так, что я оказался рядом с ним. Я даже касался локтем его большой и сильной руки. Лицо у Гайдара было очень доброе. Только вот в глазах его то и дело мелькали хитринки. Словно он знает про нас что-то такое, о чем до поры до времени не хочет говорить.
— Я прочитаю кое-что из своей новой повести, — сказал нам Гайдар, — называться она будет — «Судьба барабанщика».
Я слушал повесть, и мне казалось, что она написана про таких, как я. Ведь и я остался совсем один, как маленький герой повести Гайдара. Мне казалось, что Гайдар каким-то образом узнал про мою жизнь всё-всёшеньки...
Когда он кончил читать, все аплодировали, а я хлюпал носом и искал во всех карманах платок. Гайдар обнял меня за плечи, и мы вместе вышли из читальни.
— Ну, герой, — спросил он, — чего ты разревелся, словно девчонка? И как тебя зовут? И что ты вообще за человек?
Я рассказал ему, что я за человек и как меня зовут. И Аркадий Петрович переспросил:
— Так твой отец, говоришь, очень любил Ленина? И с шестнадцати лет был в партии? Значит, хороший человек твой отец! Так что крепись, мой маленький барабанщик... И старайся никогда не реветь. Ведь отец сердился, когда ты ревел?
Удивительно, как он узнал и про это! А Гайдар шагал со мной по коридору, по-прежнему обнимая меня за плечи, и глаза у него были грустные-грустные.
Мы расстались с ним как друзья, и он пообещал обязательно подарить мне «Судьбу барабанщика».
А сейчас Гайдар на фронте. Пусть он останется живым, ведь не должны же погибнуть все хорошие люди! А когда он вернется, мы встретимся, и я расскажу ему, как я жил во время войны. И он подарит мне свою книгу... Ведь не может Гайдар не сдержать своего слова!
... Мы, мальчишки, не дождались с фронта своего писателя. Он погиб. Но он оставил нам свои книги. Грустные и веселые, простые и мудрые... Они учили нас жить по-настоящему... По-гайдаровски...
Я будто очнулся от своих воспоминаний и услышал голос Черныша, он разговаривал с каким-то военным.
— Прислал бы ты, Петрович, к нам в госпиталь своих артистов. У тебя тут, слышно, и певцы и танцоры есть. Пусть порадуют красноармейцев.
— Сделаем, — обещает Черныш и что-то пишет в настольном календаре.
— Ну, а как твой рапорт?
— Все еще рассматривают. Все дело в инвалидность упирается. ..
— Ко мне бы в госпиталь тебя замполитом, — мечтательно говорит военный. — А помнишь, как на финской я вынул из тебя килограмм осколков?
— Так уж и килограмм! Стал начальником госпиталя — сразу и привирать начал, — отшучивается Федот Петрович.
— Заходи, старина! Вспомним чертовы Териоки и Выборг. Эх, Суоми, Суоми — край чудес и «кукушек»!
— Зайду, зайду, — улыбаясь, говорит Черныш.
После военного появляется в кабинете старушка. Очки у нее то и дело падают с носа: одна дужка отломилась и ее заменяет обыкновенная проволока.
— Слушаю вас, бабушка.
— Внучек, понимаешь, у меня от рук отбился. Курит, пострел этакий, вечерами где-то околачивается. Ну как завлекут его какие жулики в свою компанию? Меня не слушается вовсе. Мы, говорит, сами с усами. А у самого-то еще только цыплячий пушок на губе. Приструни ты его, бога ради. По совести, его и выпороть не грех. Для острастки.
Замполит записывает в своем календаре фамилию «усатого» внука.
— Думаю, бабушка, что и без порки обойдемся. Возраст у него сейчас такой. Как со взрослым, с ним надо обращаться.
— Да и взрослым некоторым не повредила бы «березовая» каша-то, — убежденно бормочет старушка, подхватывая спадающие очки.
Черныш берет их в руки, рассматривает:
— Доверь-ка их, бабушка, нам. Отремонтируем.
— Да небось дорого возьмешь? Да и мастер ли ты по очкам-то?
— Мастеров у меня — тысяча человек. А о деньгах не беспокойтесь. Починим бесплатно. А ну-ка, Леша, дуй к слесарям.
Минут через пятнадцать я возвращаюсь с отремонтированными очками. Черныш потчует бабусю кипяточком, рассказывает ей что-то очень смешное. Бабуся заливается, всплескивая руками:
— Так ты, мил человек, выходит, тоже из деревенских? Вот уж не думала! — Она примеряет очки, довольно говорит:— Ишь ты — и впрямь мастера. Спасибо за чаек, мил человек. Дай тебе господь здоровья.
Федот Петрович провожает старушку до двери и предупредительно распахивает ее.
— А, Сенькин! — говорит он затем без особого восторга. — Проходи, голубчик, проходи.
Гошка ерзает на краешке стула, теребя в руках замызганную фуражку. Он косится в мою сторону, в сонных глазах его — тревога и беспокойство.
Федот Петрович достает из стола какие-то бумаги. Раскладывает их перед собой и спрашивает:
— Как в основном цехе чувствуешь себя, Сенькин? Не трудновато?
Цех как цех. Кормят вот хуже, чем в ремесленном. А работа известно какая — ишачим от зари до зари.
— Зачем же ты себя с ишаком сравниваешь? Ты же человек. У ишака, например, не может быть отец капитаном дальнего плавания. Не так ли?
Мне кажется, что уши у Гошки Сенькина встают торчком. Он снова косится на меня, подозревая в предательстве.
— В этой вот справке черным по белому написано, что отец твой «утонул в Тихом океане при исполнении служебных обязанностей капитана дальнего плавания». И вся команда корабля тоже утонула. Достоверный факт?
Гошка кивает.
— А в этом вот письме отец твой — Сенькин Михаил Михалыч жалуется, что ты не послал ему ни одного письма за два года, хотя адрес тебе хорошо известен. И письмо это, как ни удивительно, не со дна Тихого океана. Откуда — ты, конечно, догадываешься?
Сенькин снова кивает.
— И вот, войди в мое положение, Сенькин. Если верить справке — отец твой мертв, если верить письму — жив. А если жив, то я должен ведь ответить ему. Что же я ему отвечу? Эту вот справочку пошлю? В своем письме он рассказывает обо всей своей жизни, сетует, что она так сложилась. Пишет, что просится на фронт, в штрафную роту хотя бы.
— Смотри-ка! — удивляется Гошка. — Стыдно мне было, товарищ замполит, такого отца иметь. Вот я и похоронпл его. С почетом.
— Не раньше ли времени, Сенькин? Люди ведь меняются. Ох, как жизнь меняет людей! Иди, голубчик, и подумай обо всем хорошенько. И непременно отцу напиши.
Гошка поднимается со вздохом облегчения. Он моргает мне; «Извини, мол, что худо о тебе подумал».
— Спасибо, товарищ замполит, — помедлив, говорит он Чернышу.
— Не за что, не за что, голубчик, — и, подождав, пока Гошка уйдет, Черныш обращается ко мне: — Выкладывай, Леша, что у тебя.
Смущаясь, рассказываю ему, что вот собрал сборник своих стихов. Хочется, чтобы замполит посмотрел его.
— С удовольствием посмотрю, — говорит Федот Петрович и широко улыбается.
Выхожу из кабинета Черныша и вижу в комнате комитета комсомола Нину Грозовую и Павлика. Летчик даже не узнает меня. Нина сидит с широко раскрытыми глазами и смотрит в мою сторону невидящим взглядом.
— Что случилось, Нина? — со страхом спрашиваю я. Она стряхивает оцепенение и говорит:
— Иди, Воронков, иди...
— Нина, я же не Воронков! Я Сазонов! Что случилось? — почти кричу я.
Павлик всматривается в меня, словно видит впервые. Трет рукой лоб и говорит:
— А, Алексей Сазонов! Здорово, брат. Понимаешь, какое дело — Виктор погиб... Сбил одного «мессера», а другой…
Он плачет, вытирая ладонью по-детски крупные слезы, которые катятся и катятся по его щекам...
А я бегу. Бегу по коридору, по улице, и в висках стучит: «Виктор погиб, Виктор погиб...»
На другой день меня встречает на улице Нина Грозовая. Она осунулась еще больше, одни глаза только и остались. Стараюсь прошмыгнуть незаметно мимо.
— Постой, Леша, — просит она. Смотрит на меня внимательно-внимательно. Наконец говорит: — Павлик рассказывал, что Виктору очень понравилось твое стихотворение. Он всегда носил его с собой. В комсомольском билете. И в последнем полете оно тоже было с ним... Комсомольский билет Виктора передан в ЦК комсомола. А листок с твоими стихами Павлик взял себе. На память о Викторе...
В эту смену я работал без перекуров. Я вынимал из своей «бормашины» одну деталь за другой. Я просверлил столько девяток, сколько раньше не удавалось мне никогда. Даже Воронок с его виртуозной сноровкой в эту смену отстал от меня.
Мы шли в общежитие поздно вечером. И опять и опять говорили о войне. Люди, настоящие люди погибают сейчас, защищая Родину... Они гибнут ежедневно, ежечасно. Они не говорят громких слов. Они отдают свои жизни.
— Пора нам бежать, — сказал Сашка. — Сухарей у нас достаточно. Шоколад есть...
Он осекся, глянул на меня настороженно.
Да, Виктора нет, а шоколад, подаренный им, лежит в целости и сохранности. Почему вещи бывают долговечнее людей? Почему нельзя придумать для летчиков, да и для всех бойцов, такую защиту, чтобы ей не были страшны ни пули, ни осколки? Разве не под силу это ученым?
Сашка смотрит мне в лицо, кашляет и говорит:
— Письмо я получил от своего отца. Бодрое письмо. Сообщает, что скоро погода переменится. Понимай, мол, Сашка, правильно. Я так понимаю, что скоро полетят эти фашисты вверх тормашками с нашей советской земли. И тогда, Лешка, ты достанешь свою тетрадь с названиями немецких городов. И мы будем записывать эти города десятками, сотнями будем записывать эти проклятые города! А может, и брать их будем? Почему бы и нет? Примут же нас в конце концов сыновьями в какой-нибудь полк? А сейчас, брат мой, давай-ка зайдем в библиотеку. Надо книги обменять. На фронт такие нужно взять, чтобы каждому красноармейцу было интересно послушать.
Таким Воронка я еще не видел: глаза — твердые, губы упрямо сжаты. Весь он как натянутая струна — не по-воронковски серьезный, строгий. Словно вдруг старше меня стал на несколько лет.
... Люблю библиотеки. Люблю запах свежей типографской краски, люблю рыться на полках, отыскивая книгу, которая научит жить, научит быть добрым, смелым, честным.
И «Как закалялась сталь», и «Чапаева», и «Овода», и книги Гайдара читал и перечитывал я с трепетом, волнуясь за героев, гордясь ими, стараясь перенять у них все лучшее, светлое, благородное.
Спасибо тебе, книга, что ты с детских лет вела меня по жизни, как верный, испытанный друг. Спасибо вам, библиотекари, что вы изо дня в день увеличивали число моих друзей.
Нашу библиотекаршу звали Анна Егоровна. Сухощавая, маленькая, словно девочка. Из-под толстых стекол очков смотрели близорукие глаза, которые казались беспомощными. Анна Егоровна лет тридцать работает в библиотеках. Она знает все о своих читателях.
Сегодня она заметила мои заплаканные глаза. Увела за перегородку, сухариком угостила, словно пятилетнего малыша. Я, конечно, не взял этот сухарик: он ей и самой пригодится.
А на полках с удовольствием покопался. Воронок, не удостоенный этой чести, долго дожидался меня за барьерчиком. Я выбрал книг шесть. Три Анна Егоровна мне оставила, а три опять на полочки положила:
— В другой раз прочтешь, Лешенька. За ними ведь очередь. Вот такая она, Анна Егоровна. Даже училищному поэту больше трех книг не дает. Словно догадывается, что мы собираемся увезти их с собой на фронт.
Старательно вписывает Анна Егоровна название книг в мой формуляр. «Чапаева» вписывает и «Как закалялась сталь», и гайдаровскую «Школу». И с удивлением говорит, по-матерински глядя сквозь толстые стекла очков:
— Ты же совсем недавно их перечитывал. Что за фантазия у тебя в голове?
— Это он для меня берет, — заступается Сашка, — а я ему свои дам почитать.
— Ох, хитрите вы, ребята! Смотрите, чтобы ни листочка не помять. Догадываюсь, что вслух на работе читать собираетесь.
Вслух, да не на работе. Впервые ошиблась Анна Егоровна в своих предположениях. Но мы вернем эти книги, обязательно вернем их в свою библиотеку, когда вернемся с войны. И тогда Анна Егоровна простит нас, если кое-где даже и найдутся помятые листочки...
Вот только удастся ли нам благополучно добраться до фронта? Как обидно, что нам так мало лет. И почему это именно мы опоздали родиться? Андрейка и Мишка счастливее — на два года старше нас с Воронком. Борода, когда он в особенно хорошем настроении, зовет их по имени-отчеству. Андрей Васильевич. .. Михаил Григорьевич...
Что-то в последнее время Михаил Григорьевич стал не на шутку задумчивым. Очевидно, какой-то наполеоновский план зреет в его голове.
И я не ошибся в своих предположениях. После работы Мишка Румянцев подошел ко мне и сказал:
— Лешенька, у меня к тебе просьба есть.
Никогда он не называл меня так ласково.
— Мишенька, для тебя в лепешку расшибусь, — ответил я, — только прикажи, дорогой...
— Не надо в лепешку. Просто я хочу, чтобы ты помог мне в одном деле.
— Всегда пожалуйста! — с готовностью воскликнул я.
— Да не ори так громко, — поморщился Мишка, — дело, понимаешь, не совсем простое. Может, ты и откажешься.
— Выкладывай, — говорю я Мишке.
Он наклоняется к моему уху и начинает шептать...
Глава двадцать первая
ГДЕ ЗАПИСЫВАЮТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ?
— Из тебя мог бы получиться превосходный мошенник, — говорю я Мишке.
Не отвечая на мой «комплимент», он откладывает безопасную бритву в сторону и придирчиво всматривается в свой паспорт, где начисто исчезла цифра «5» в дате рождения. Теперь паспорт свидетельствует, что Мишка родился в сто девяносто втором году.
— Не надоело вам жить, старче? — спрашиваю я. — Слышал я краем уха про некоего Мафусаила. Это, случаем, не вы?
Не мы, не мы, — говорит Мишка и осторожно макает перо в баночку с черной тушью. Краешком промокашки он убирает с пера лишнюю тушь и начинает писать на листе бумаги цифру «3». Тройки у него получаются захудалые. По сравнению с каллиграфическим почерком паспортиста, они проигрывают, как деревенская рабочая кляча перед племенным рысаком.
— У тебя по чистописанию был неуд.
Мишка будто не слышит.
— Попробуй ты, Лешка, а? — просит Мишка меня и протягивает деревянную ручку.
Я хватаю ее и, высунув кончик языка, вывожу на бумаге тройку. Мишка смотрит на нее, склонив голову, и говорит огорченно:
Змея какая-то, а не тройка. Неужели не можешь красивее?
Я пишу опять и опять, Мишка говорит:
— Не то. Эта, как у первоклассника.
Сколько мне дадут на суде? — спрашиваю я Мишку. — Меньше, чем тебе, или одинаково?
Мишка не понимает юмора. Он отвечает совершенно серьезно:
— По-моему, тебе полагается меньше. Но ты не бойся, я тебя не выдам.
От его слов мне становится как-то неуютно. В самом деле, если все начнут подделывать паспорта, то что же это получится? Ведь мы сейчас действительно совершаем преступление, наказуемое в уголовном порядке. Не уговорить ли мне Мишку снова поставить в паспорте цифру «5»? Вывожу на листке бумаги пятерку, и она получается на диво хороша. Лебедь, а не пятерка.
— Может, передумаешь? — спрашиваю я тихонько. Он любуется моей пятеркой вместе со мной.
— Если б ты сумел такую же троечку, — говорит он мечтательно.
Нет, не передумает.
Пишу тройки. Пишу десятки троек. Мишкин указательный палец вдруг замирает на одной из них.
— Сможешь и в паспорте такую?
— Смогу!
Паспорт лежит передо мной. Паспорт Румянцева Михаила Григорьевича, родившегося в сто девяносто втором году в городе Москве. Врут историки, что основателем Москвы был князь Юрий Долгорукий. Мишка Румянцев — вот кто ее первый житель и основатель. Национальность — русский. Социальное положение — учащийся. Отношение к военной службе... Стоп!
— Здесь же сказано — «невоеннообязанный»?
— Ах! — спохватывается Мишка. — Надо подчистить еще и «не».
— А тогда где твое приписное свидетельство? Военнообязанным их выдают в военкомате.
— Скажу, потерял. Скажу, было и потерял.
Твердой рукой я ставлю ему в паспорт тройку. Повеселевший Мишка соскабливает злополучное «не». Он набил руку и действует бритвочкой, как заправский аферист. Держа в вытянутой руке паспорт, он громко читает:
— «Время и место рождения. 23 февраля одна тысяча девятьсот двадцать третьего года». Двадцать третьего!
Не ворочайся в гробу, Юрий Долгорукий. По-прежнему, ты основатель града Москвы. Угроза нападения на твою историческую заслугу миновала. Отбой. Просто один из твоих потомков в один миг стал старше на два года.
— Двадцать третьего! — с восторгом повторяет Мишка. — Двадцать третьего февраля и двадцать третьего года. Чуешь, в какой день я родился? В день Красной Армии!
— Это ты ловко предусмотрел, — ухмыляюсь я, — быть тебе героем, красноармеец Румянцев.
— Только бы все удалось… Хотя одного фашиста, но прикончу! Веришь, Леша?
— Верю, — говорю я.
Мы молчим. Каждый задумался о своем. Эх, Мишка, знал бы ты, как я представляю твое будущее!
... На красной площади в День Победы красноармеец Михаил Румянцев бросает к подножию Мавзолеи Ленина личный штандарт Адольфа Гитлера. Четырежды Герою Советского Союза Михаилу Румянцеву аплодирует вся Москва, весь Советский Союз, весь мир.
Чеканя шаг, возвращается в строй красноармеец Румянцев. Он выполнил свой долг перед Родиной. Отныне фашистская свастика втоптана в землю, и на веки вечные. Окончена самая последняя война на земле. Это был наш решающий бой. Мы победили!
Сразу пять профессоров консерватории окружают Михаила Румянцева после парада Победы.
— Иван Михалыч завещал нам разыскать вас, — говорят профессора. — Война окончена, надо сейчас же всерьез заняться вашим голосом. Вы будете гордостью России! Ее непревзойденным соловьем!
— Ну что ж, — говорит Михаил Румянцев, — раз так велел Иван Михалыч, значит, придется подзаняться. Теперь время у меня есть...
Товарищ толкает меня локтем в бок.
— Послушай, — говорит Мишка, — теперь очередь билета.
— Какого билета? — не понимаю я.
— Комсомольского...
Он медленно достает его из нагрудного кармана гимнастерки, раскрывает и с тревогой глядит на свою фотокарточку.
— Какой я здесь чудной, а? Не поверят, что уже восемнадцать. Скажут, молокосос еще.
Я вглядываюсь в снимок. На меня беспокойно смотрит стриженый парнишка с длинным лицом и толстыми добродушными губами. Словно ему сказали: «Смотри, сейчас отсюда вылетит птичка!» И вот он смотрит, а птички все нет и нет.
— Да, вид тут у тебя, прямо скажем, довольно младенческий. На Илью Муромца ты здесь не очень похож. И даже на Алешу Поповича не очень.
— Вот именно, — горько говорит Мишка.
— Ну ничего, Мишук. Скажешь, что дал для билета старую фотокарточку. Поры розового и беззаботного детства.
— Не было у меня розового детства, — сердится Мишка, — сам знаешь, что мать у меня уборщица. А отец — в партизанах.
— Не ворчи, не ворчи, Мишук. Я ведь шутя сказал. Давай-ка примемся за дело. Я тебе и сюда поставлю троечку. Так и быть. Но куда вот они завезут тебя — вот в чем вопрос.
— Куда надо завезут. На кудыкину гору.
— А ты будешь мне писать, Мишук?
— Конечно! И тебе и Юрке. Если вы сами к тому времени на фронт не удерете.
Я сжимаю губы. Я сражен наповал.
— Юрка проболтался? — спрашиваю я зловеще.
— О чем? — недоумевает Мишка.
Ошибка. Он просто так сказал, к слову. А я вот себя, кажется, выдал.
Мишка глядит на меня и хмурится.
— Ты, Леша, не вздумай того... Ты ведь и правда еще маленький. И Юрка. Хватит с вас и одной медали на двоих. А я ведь не за наградой гонюсь. Тут у меня жжет... Как вспомню Иван Михалыча...
Он вытирает глаза тыльной стороной ладони. У меня щиплет в носу. Почему-то не могу видеть, как люди плачут. Так и тянет меня тоже пореветь в знак человеческой солидарности.
— Ладно, — шмыгая носом, говорит Мишка, — я им за него отплачу.
— Добрый ты человек, Миша...
— Для кого добрый, а для кого злой. Ты меня еще не знаешь...
Операцию с билетом мы проводим в два счета. Подождав, пока высохнет тушь, Мишка бережно кладет комсомольский билет в левый нагрудный карман.
— Порядок, — говорит Мишка. — Теперь можно и в горком комсомола. Заявление я уже составил. Прошусь, чтоб послали в партизанский отряд. А если нельзя — в ополчение. Там тоже люди с оружием.
— Можно, я пойду с тобой в горком? Я не буду мешать, вот увидишь. А если тебя станут задерживать за подделку — я мигом сбегаю за Ниной Грозовой. Чтоб выручила.
— Пошли, — говорит Мишка, — только Нине меня выручать не придется. Документы верные, комар носа не подточит.
В горкоме носились из комнаты в комнату девчата с какими-то списками, в коридоре гудели голоса сразу нескольких очередей.
— Где записывают добровольцев? — обратился я к девчушке в очках, стоявшей последней.
Она засмеялась и сказала:
— Посмотрите, товарищи, на этого добровольца. У тебя носовой платок есть? Вытри под носом.
— Вы не очень-то воображайте. Очки надели и думаете, что вас запишут? Как бы не так! Близоруких на фронт не берут.
— Младенцев — тоже, — сказала девчушка.
— Да я не сам. Товарищ мой хочет записаться. Ему восемнадцать.
Она посмотрела на длинного и тощего Мишку и промолчала. Поверила, что восемнадцать. Мишка приободрился.
Оказывается, почти все в очереди были боксерами и знали самбо. А насчет лыж и говорить нечего. Даже девчушка в очках сообщила, что она разрядница.
— По кройке и шитью, — сказал я.
— Маленький, а вредный, — удивилась девчушка, — поиграл бы ты пока в песочке.
— Если вместе — согласен, — добродушно сказал я.
Очередь фыркнула. Моя собеседница демонстративно отвернулась.
Из кабинета люди выходили по-разному. Некоторые распахивали дверь торжествующе, с улыбкой. Такие на очередь и не смотрели, словно и не стояли в ней битых два часа, словно ей не интересно было, что там, в кабинете, спрашивают и к чему придираются. Эти счастливчики неслись к выходу как угорелые, будто боялись, что там, в кабинете, передумают и вернут их назад, чтобы вычеркнуть из списка.
— Торопятся вещи собирать,— с завистью говорила очередь.
Другие выходили с понурой головой. Им спешить было некуда. Они жаловались очереди тихими голосами:
— Не взяли по возрасту...
— Велели сначала пройти медкомиссию...
— Испугались, что отец священник. Прямо не сказали, но ведь я-то не дурак...
Мишка нервно тер одну руку об другую. Он выслушивал неудачников сочувственно и терпеливо. Я догадывался, о чем он думал. О том, что и его могут забраковать по возрасту. О том, что он тоже не принес справки от врачей. О том, что отец у него не какой-то священник, а настоящий партизан.
— Говори громко и уверенно, — напутствовал я Мишку, — смотри им, чертям, прямо в глаза. С бегающими глазами тоже могут не взять. Ну и вытягивайся, само собой. Пусть видят, что ростом ты с каланчу да и выправка армейская.
— Да, да, — говорил Мишка и старательно выпячивал грудь. Он походил на молодого петушка, которому ужасно хочется расправить крылышки и закукарекать, но почему-то первое в жизни кукареканье застревает в горле.
Девчушка в очках нырнула в дверь, закрыв глаза, словно прыгала с трамплина в холодную воду. Я заметил, что перед этим она спрятала свои очки в карман телогрейки. Учла мою реплику.
— Как думаешь, возьмут ее? — спросил Мишка.
— Ты что, смеешься? Ее ведь щелчком можно перешибить. К тому же слепая. Да и восемнадцати ей, по-моему, нет. Тоже небось подчищала свои документы.
— Тише ты! — Мишка испуганно дернул меня за рукав. — Болтаешь сам не знаешь что.
Я прикусил язык. Вот уж справедливо говорят: язык мой — враг мой. Сколько раз я попадал из-за своего языка в неприятные положения. А придерживать его до сих пор так и не научился.
Девушка вышла из кабинета медленно.
— Что я говорил? — шепнул я Мишке, сделавшему стойку у двери.
Девушка обвела нас своими туманными глазищами, глубоко-глубоко вздохнула и сказала:
— Взяли...
— Врешь! — крикнул я.
— Нет, не вру. Я ведь радистка. Даю на ключе сто восемьдесят знаков в минуту. Так-то вот, мой маленький, но ехидный дружочек.
Она спутала рукой мои волосы, свистнула по-мальчишечьи и помчалась к выходу.
— Ра-а-дист-ка! — уважительно прошептала очередь.
В кабинет вошел Мишка. Я тихонько приоткрыл дверь, чтобы хоть что-нибудь услышать. Но ее тут же прикрыли изнутри. Часовой у них там, что ли? Нельзя уж поболеть за друга. Я снова приоткрыл дверь, и ее снова прикрыли. Подумаешь, бдительные какие. Так вам шпион и придет в горком комсомола. Мы бы его тут мигом связали. В этих очередях — все свои. Комсомольцы-добровольцы. Сюда бы хорошего художника. Картина бы получилась на большой.
В ожидании Мишки я слонялся по коридору, разглядывая плакаты. «Родина-мать зовет!», «Что ты сделал для фронта?», «Все силы — на разгром врага!»
Тот дяденька на плакате, который спрашивал, что я сделал для фронта, тыкал прямо в меня большущим пальцем и выражал своим взглядом сомнение, что я на что-нибудь способен. Я подмигнул ему дружески. Не сомневайся, мол. Кое-что и я сделал. И еще сделаю.
И тут вышел Мишка. Он кусал губы, и лицо его было в красных пятнах. Все было понятно без слов. Я пошел за ним по коридору, на ходу придумывая слова утешения.
На улице Мишка сказал:
— Заметили, дьяволы, что подчистил. Сразу дали от ворот поворот.
— Через лупу смотрели?
— Какая там лупа! У них глаза почище рентгеновских лучей.
Он приостановился.
— А может, Леш, не заметили? Специальностью-то моей они поинтересовались. Токарь, говорю. «Ну и точи, говорят, снаряды. Будешь нужен — позовем».
— Конечно, не заметили! Подделочка у нас — будь здоров и не кашляй. Идеальная.
— Придется через военкомат действовать, — задумчиво сказал Мишка, — может, в военкомате не так строго. Только ты со мной не ходи. С тобой попасть впросак недолго.
Глава двадцать вторая
ПУСТЬ ПОСТРОЯТ САМОЛЕТ
Андрейке стукнуло шестнадцать. В этот день он перешагнул какую-то невидимую грань, отделяющую нас, подростков, от взрослых. Теперь он мог спокойно смотреть все фильмы, на которые мы, дети до шестнадцати лет, не допускались. Он мог отращивать усы, мог влюбляться и ходить с любой девушкой в кино даже на последние сеансы.
Мы с Воронком долго ломали головы: что бы ему подарить в такой необыкновенный день рождения? Подарок, разумеется, тоже должен быть необыкновенным. Мы купили Андрейке прибор для бритья. Купили станочек для лезвий, кисточку и все необходимые чашечки и стаканчики. Мы достали на толкучке десяток заграничных лезвий. Горделивый матадор на обложке упирался одной рукой в бок, а в другой держал шпагу, готовясь пронзить разъяренного быка. Этим, видимо, подчеркивалось, что лезвия ничуть не тупее матадорской шпаги.
Но этого нам показалось мало. Мы переглянулись с Воронком и прочли в глазах мысли друг друга. Сашка сказал:
— Что мы, одними сухарями не обойдемся, что ли?
— Действительно, — сказал я, — на день рождения все время было принято дарить шоколад. Никто же не виноват, что война поломала этот обычай. А мы вот подарим, несмотря на войну!
Мы достали плитку «Золотого ярлыка» и проверили, не поломалась ли она. Плитка была целехонькой. Словно только-только вручил мне ее Виктор...
Сашка перевязал наши подарки шелковой ленточкой, выпрошенной у кого-то из девчонок. Получилось очень красиво. Мы накрыли подарки газетой и завалились на свои койки.
Андрейка вошел в комнату, на ходу вытирая лицо полотенцем. Наши безмятежные позы подействовали на него, как на быка красная тряпка матадора.
— Красавцы! — язвительно сказал Андрейка. — Нет, чтобы хоть в этот день самим позаботиться о чае!
— Именинник не должен ругаться, — рассудительно сказал Воронок, — именинник должен беречь свою нервную систему...
Андрейка огрел его полотенцем. Воронок и не пошевельнулся.
— Чай под газетой, Андрюша, — сладким голосом сказал я.
— То-то же, — сразу размякнув, проговорил Андрейка. Мы с Воронком одновременно повернули шеи на девяносто градусов. Андрейка не спеша расправил складки на брюках, заглянул в зеркальце, ожидая, наверное, хоть сегодня увидеть на своих щеках мужественную щетину.
— Симпатичный юноша, — девчачьим голосом пропищал Сашка, — разрешите с вами познакомиться?
Именинник запустил в него своей подушкой и подошел наконец к столу. Он поднял газетный лист и ахнул. Мы соскочили с коек и принялись исполнять какой-то дикий танец. Андрейка сграбастал нас своими сильными ручищами и завертел, как на карусели. Он отпустил нас лишь тогда, когда мы оба взмолились о пощаде.
Мы уселись втроем за праздничный стол и налили в кружки кипятку без заварки.
— Сегодня пойдем к тетке, — благодушно сказал Андрейка, — надо забрать у нее мои метрики. Паспорт без них не выдадут. Так что заварочкой разживемся.
Он разделил шоколад на три части, и мы начади грызть его так, словно это была наша повседневная пища. Мы чувствовали себя, как боги. Мы прихлебывали шоколад кипяточком и рассуждали о всякой всячине.
— Знаешь, Зойка Голубева на тебя заглядывается, — как взрослый взрослому, сообщил я Андрейке.
— Шутишь? — вспыхнув, спросил Андрейка.
— Совершенно серьезно, — сказал я, — она с тебя глаз не сводит, когда ты проходишь мимо.
— Враки, — сказал Воронок и поперхнулся кипятком, — Зойка на него и не смотрит.
— Может, она на тебя смотрит? — полюбопытствовал я. Вопрос мой был для Сашки как укол шпаги.
— Ни на кого она не смотрит. Не такая это девушка, чтобы пялить глаза, как твоя Раечка Любимова, — уколом на укол ответил Воронок.
— Один — один, — подытожил Андрейка, — боевая ничья.
На этот раз мы шли к тетке без аккордеона. Сашка сказал, что Лука Демьяныч и Андрейкина тетка — хорошие фрукты и без музыки. Что он предпочитает играть кому угодно, только не им.
— А от обеда ведь не откажешься? — спросил я.
— Кто же в военное время отказывается от обеда? — удивился Сашка моему наивному вопросу. — Дают — бери, бьют — беги.
Но напрасно мы рассчитывали на именинный обед: тетка опаздывала на работу. Она сунула Андрейке ключи и наказала:
— Будешь уходить — положишь их под половичок в коридоре. А метрики твои — в верхнем сундуке. Придет Лука Демьяныч — дашь ему котлеты покушать. А сами ешьте кашу. Она с маслом. Да Луке Демьянычу оставьте.
За опоздания на работу в то время наказывали строго. Тетка вылетела из квартиры, как пушечный снаряд.
Каша была пшенная. После шоколада она показалась нам не очень вкусной. Мы ели ее без вдохновения. Луке Демьянычу осталось больше половины.
Андрейка выбрал из связки ключик поменьше и открыл маленький сундучок. В нем лежали облигации и какие-то потрепанные справки. Своих метрик Андрейка там не обнаружил. Тогда он снял первый сундучок, побренчав связкой, нашел ключик побольше и вставил его во второй сундучок. Крышка распахнулась с мелодичным звоном. Содержимое сундучка было прикрыто пергаментной бумагой, в которую до войны продавщицы заворачивали сливочное масло.
Андрейка отогнул бумагу и... шлепнулся на стул. Мы отложили алюминиевые ложки и подошли к товарищу.
— Что с тобой? — заботливо спросил Сашка. — Может, каши объелся?
Калугин молча ткнул пальцем в сундучок. Мы с Воронком перевели туда глаза и... раскрыли рты.
Сундучок был полон денег. Сторублевые ассигнации лежали пятью рядами. Андрейка вынул толстую пачку из первого ряда. Под ней была другая толстая пачка. Вынул вторую, а там — третья...
Мы впервые видели Андрейку без кровинки в лице. Он швырял на пол пачку за пачкой, и все казалось, что им не будет конца.
— И впрямь — богатая невеста. — растерянно пробормотал Сашка, — да на эти деньги целый самолет можно построить...
— Самолет? — переспросил Андрейка и вдруг приказал Воронку: — А ну, достань из-под кровати чемодан!
Воронок мигом выполнил поручение и вместе с Андрейкой начал укладывать пачки в чемодан.
Я растерянно топтался на одном месте. Что они делают? Уж не собираются ли ограбить бедную тетушку?
— Только бы Лука не нагрянул, — заговорщически шептал Сашка.
— Вы с ума сошли! — сказал я. — Что вы делаете?
— Отстань, ребенок! — отмахнулся Сашка. — Лучше бы помог работать.
Помог «работать»! Да мы за эту «работу» просидим в тюрьме до седых волос... Вон какой жадный блеск появился в глазах Воронка. Никогда не думал, что деньги могут так преобразить человека. А у Андрейкп руки трясутся. Совсем как у настоящего грабителя.
— Перестаньте! — умолял я. — Сейчас придет Лука Демьяныч. И куда вы денете такую кучу денег? Вас же сразу поймают...
Андрейка сердито глянул на меня:
— Не понимаешь? Сдадим их в милицию. Пусть перечислят куда надо, пусть построят на эти деньги самолет. Понятно?
— По-нят-но... — протянул я.
Мы выходили из квартиры на цыпочках, как настоящие воры. Но, на наше счастье, Лука где-то задержался. И в коридоре нам не встретился никто из соседей...
Чемодан был тяжелый. Приходилось тащить его вдвоем. Один прохожий добродушно предложил:
— Давайте помогу вам, хлопцы.
Мы шарахнулись от него, как пугливые лани от кровожадного тигра.
У входа в отделение стоял старый-престарый милиционер. Он громко сморкался в огромный клетчатый платок. Мы терпеливо дождались, пока он высморкается, и Сашка Воронок спросил:
— Как нам найти вашего начальника?
Милиционер зачем-то посмотрел в платок, аккуратно свернул его квадратиком и, отогнув полу шинели, положил в карман, словно какое-то сокровище. Наверное, от старости он был такой медлительный. Наверное, его никогда не посылали на важные операции, оставляя в отделении символизировать мощь и выправку милиции военных лет.
— Так уж вам сразу и подавай начальника, — неторопливо начал милиционер, рассчитывая скоротать время за беседой с забавными парнишками. — А может, я его заменю?
— Не замените. — грубо сказал Сашка. — нам тут некогда турусы на колесах разводить. Дело у нас важное.
— Аль опять из училища микрометры уперли? Или, может, на этот раз цельный станок уволокли? — сказал милиционер и, довольный своей шуткой, рассмеялся дробным старческим смешком, однако повернул голову к дежурному по отделению и сообщил: — Пришли вот грачи из ремесленного, а зачем — не говорят. Подавай им самого начальника, да и только.
— Пройдите, ребята, — сказал дежурный.
Мы подтащили чемодан к дощатой перегородке и уставились на дежурного подозрительно. Можно ли ему рассказать обо всем, не захочет ли он присвоить содержимое этого поистине золотого чемодана?
— Зачем вам нужен начальник? — строго спросил дежурный.
Андрейка решился. Мы втащили чемодан на деревянный барьер. Андрейка поднял крышку и сказал:
— Вот...
— Мать честная! — сказал дежурный и набрал по телефону какой-то номер.
— Товарищ начальник? Спуститесь, пожалуйста, вниз. Тут ребята большой чемодан с деньгами принесли. Полный чемодан сотенных...
Он положил трубку и недоверчиво потыкал пальцем в денежные пачки.
— Смотри-ка — настоящие...
Старичок оставил свой пост у двери и тоже заглянул в чемодан.
— Батюшки светы! — воскликнул он. — И впрямь у них дело наиважнейшее...
При виде начальника он с неожиданной резвостью отскочил к двери и вытянулся.
Начальник посмотрел на нас одобрительно.
— Ай да молодцы! И где же вы такой клад откопали?
Андрейка стал рассказывать. Воронок помогал, вставляя реплики о Луке Демьяныче, о том, как доходна в нынешнее время специальность простой хлеборезки.
— Ограбил, значит, родную тетку? — улыбнулся начальник. Глаза у него были голубые, как васильки.
Он мне понравился. Он отдал дежурному какое-то распоряжение, и тот выходил куда-то минут на десять.
Потом долго считали деньги, составляли протокол. Просили всех нас расписаться. Опять принялись пересчитывать деньги. Будто боялись, что они вдруг растают прямо на глазах.
А потом двое в штатском ввели в отделение Луку Демьяныча. Один ус у него почему-то оказался короче другого.
— Сопротивлялся, — коротко доложил старший из штатских и выложил на барьер пистолет и финский нож. — Его игрушки.
Увидев нас, Лука все понял. Он попытался пнуть Андрейку ногой, но старичок милиционер проворно оттолкнул Луку, да так, что тот не удержался и растянулся на полу.
— Иш ты, гад ползучий! — сказал старичок и полез в карман за носовым платком.
Пожалуй, его все же берут на важные операции.
— Гора с горой не сходится, Лука Демьяныч? — весело сказал начальник. — Ну, ну, не скрипи зубами — нечем будет тюремную баланду жевать. Уведите его.
Двое в штатском взяли связанного по рукам Луку под локти и, легонько подпихивая, провели в узкий коридорчик. Звякнул железный засов, хлопнула дверь.
— Большое спасибо, товарищи! — сказал нам начальник. — Большущее спасибо!
— Так как же насчет самолета? — осведомился Воронок. — Мы ведь хотим, чтобы деньги эти пошли на постройку самолета.
— О вашем желании доложу куда следует. Думаю, что будет по-вашему...
Андрейка повернулся было к двери, но приостановился.
— Скажите, а моя тетка? Что ей будет?
Начальник хрустнул пальцами, подошел к нему и сказал негромко:
— Сам понимаешь, Андрюша... Главный виновник — Лука. Сбил он ее с панталыку. Но мы во всем разберемся. А ты любишь ее, тетку?
— Одна она у меня была, тетка-то... Больше никого из родных нету...
Он сказал «была», и я понял, что Андрейка и сейчас не жалеет о сделанном и никогда в жизни не пожалеет. Такой вот он человек, наш Андрейка.
Глава двадцать третья
„В ШЕСТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ..."
Во многих довоенных фильмах мы видели только парадную сторону войны. Развевались знамена, гремели барабаны, с криком «ура» бойцы бросались на штурм и побеждали. Трусливые враги с перекошенными от страха лицами сверкали пятками, вздымали вверх руки и осознавали с ужасом, что их просто шапками закидали.
Редко можно было увидеть на экране убитых или хотя бы раненых с нашей стороны. Убитыми могли быть только враги. А мы не умираем, не сдаемся — боже упаси! — в плен, а только маршируем с победными песнями по освобожденным селам и городам. Маршируем и поем:
Когда фашисты подошли почти к Москве, мы уже не пели эту песню...
А первых раненых мы увидели в госпитале, куда привел нас Черныш. Тяжелораненых прямо иа койках прикатывали в зал, где должен был состояться концерт. Оказывается, даже и они изъявили желание послушать нас. Это казалось невероятным. Человек испытывает невыносимую боль, не знает, доживет ли до завтрашнего утра, и все-таки просит: отвезите туда, где все.
Вот катят мимо меня и Сашки сплошной кокон из бинтов. Ни рук, ни ног не видно у раненого. Голова забинтована. Да это и не голова, а снежный ком. Приглядевшись, замечаю в снежном коме щелочки. Там, где рот и глаза. Когда в глаза раненому попадает свет электрической лампочки, они поблескивают. И вдруг вижу, что снежный ком подмигивает мне. Подмигивает, как человек! Сестра наклоняется к нему. Ухо ее — у щелочки, где должен быть рот.
— Васильков желает вам успешно выступить, — сообщает нам сестра, — он, говорит, что и сам любил играть на баяне. Ни пуха ни пера, говорит...
У сестры красивые, словно нарисованные, брови, точеный профиль. Но уголки ее губ опущены, а в глазах — страдание. Не за себя. За Василькова. Она смотрит, как санитарки подвозят его ближе к сцене, и говорит нам:
— Танкист... Очень терпеливо перевязки переносит. Ни разу не застонет, пока сознание не потеряет...
Идут двое раненых. У одного левая рука перевязана, у другого — правая.
— Пламенный привет, сестрица! Сегодня с нами сядете?
— Вы и сами артистам хлопать можете. По руке на брата. А я у Василькова сяду.
— Эх, почему я не обгорел, как Васильков?
— Типун на язык! — сердится сестра и говорит нам с Воронком: — Эти двое — истребители танков. Пять штук подбили...
Проходят красноармейцы, у которых ампутированы руки, санитарки провозят безногих... Бинты, бинты, бинты… Но самое удивительное, что почти нет мрачных лиц. Улыбаются в предвкушении предстоящего концерта, перешучиваются, подтрунивая над слабостями друг друга и даже над своими ранениями.
— Эй ты, в пятку раненный, опять вперед пробрался? Ты бы на передовой так делал. Давай назад!
— Молчите, истребители борщей!
— Видите, какие они, — грустно улыбается нам сестра, — за словом в карман не лезут. И почти каждый рвется обратно на фронт. Не понимают, что отвоевались...
Первым выступает Мишка Румянцев. Он некрасив, но голос у него... Если закрыть глаза и не видеть его нескладной долговязой фигуры, его плоского лица с наивными и очень доверчивыми глазами, то невольно покажется, что поет не какой-то ремесленник в стиранной-перестиранной гимнастерке, а настоящий певец.
— Вот дает! — говорит Сашка.
... Метет вдоль по улице метелица, проходит по заснеженному селу русская красавица, не глядя по сторонам, и умоляет, умоляет ее остановиться удалой парень, влюбленный на всю жизнь...
Что за чудо русские песни, выворачивающие душу наизнанку, заставляющие перевертываться сердце, трогающие человека до радостных слез!
Мишка, наверное, сорвет себе сегодня голос, но что поделать! — его не отпускают со сцены, требуют, чтобы пел еще и еще, кричат «бис» и «браво».
— Я спою «Орленка», — объявляет смущенный Мишка.
Я знаю, что это его любимая песня. Он поет ее так, словно это его последняя песня в жизни, его лебединая песня.
Мишка подходит ко мне, глаза его подозрительно влажны. А на сцене уже появился Сашка Воронок со своим громадным аккордеоном. Сашка сегодня в ударе — играет так, словно в награду ему дадут сразу четыре ордена и две медали.
— Какие люди, а? — шепчет мне Мишка, кивая на раненых. — Только у нас в России могут быть такие.
— Здорово ты пел, Мишуха, — говорю я, — многие даже слез не могли скрыть... Своими глазами видел.
Мишке пожимает руку Черныш, растроганно произносит:
— Талантище ты, Румянцев, огромный талантище. Мы тебя еще услышим в Большом... Только не зазнавайся, голубчик.
— Что вы, Федот Петрович! — таращит Мишка свои доверчивые глаза. — Как это можно — зазнаваться?
Концерт наш растянулся часа на два. А мы-то думали, что нашей программы едва-едва на сорок минут хватит. Я читал стихи, посвященные Виктору... Все раненые уже знали, что Виктор погиб, все переживали его смерть, как потерю близкого человека. Мне тоже хлопали долго. Хлопали истребители танков, ударяя друг друга по ладоням здоровых рук. Хлопала сестра у койки танкиста Василькова. И, опираясь на костыли, стоя аплодировал «в пятку раненный» — безусый красноармеец с мальчишеским лицом.
После концерта Черныш и начальник госпиталя повели нас на первый этаж школы. Мы вошли в спортивный зал, превращенный сейчас в столовую. На столиках матово отсвечивали глубокие фарфоровые тарелки с тонко нарезанными ломтиками белого хлеба. Повариха в клубах пара помешивала в котле какое-то вкусное варево.
— Откушайте что бог послал, — по-старомодному вежливо пригласил начальник госпиталя.
— Д-да вы ч-что? — заикаясь, сказал Мишка Румянцев, — ч-чтоб мы у раненых...
— Мы сыты по горлышко, — сказал Сашка.
— У нас же дополнительное питание, — извиняющимся голосом сказал я.
Начальник беспомощно посмотрел на Черныша. Мы не стали ждать, что ответит ему наш замполит. Мы вышли из столовой и столкнулись с медицинской сестрой. Она несла в руках охапку красивых белых цветов.
— Это вам всем, — улыбаясь, сказала она и вручила цветы Мишке Румянцеву.
Мишка разделил их между нами. Каждому досталось по три хризантемы — и певцам, и танцорам, и драмкружковцам. Сестра подошла к Сашке Воронку.
— Васильков просил тебя зайти к нему на днях. С аккордеоном. Если у тебя, конечно, будет время. Чтоб поиграл...
— О чем речь? — обиделся Сашка. — Сам приду и поэта вот нашего прихвачу. Для компании.
— Ну и чудесно! Раненые очень хвалят девочек из вашего училища. Они дежурят у нас по вечерам. Книги читают, письма за красноармейцев пишут. Славные девочки!
— У нас плохих не бывает, — горделиво сказал Сашка.
— А вы просто очаровали всех, —обратилась сестра к Мишке Румянцеву.
Она сказала ему «вы». Значит, мы с Сашкой были в ее глазах обыкновенными детьми? А может быть, преклонение перед Мишкиным голосом заставило ее сказать «вы»? Кто знает...
— Я тоже буду приходить к вам, — пообещал Мишка.
Но через два дня его уже не было в нашем училище...
Мишка погиб под Можайском. Он обманул военкома и погиб шестнадцати, а не восемнадцати лет, как уверяли подделанные им документы. Он подбил один фашистский танк, а второй танк проутюжил окопчик, в котором с противотанковым ружьем сидел наш Мишка. Он не успел получить ни медали, ни ордена.
Его похоронили в братской могиле посреди березовой рощи. Я был на этой могиле спустя год... Странная это была роща. Казалось, не уцелело ни одного деревца. Снаряды сокрушили все вокруг. Надломленные березы прикрывали кронами воронки. Деревья словно кланялись братской могиле. Была роща, и не стало рощи...
В этом году я снова побывал в тех местах. И не узнал их. Голенастые березки стояли вокруг могилы в зеленых весенних косынках. Я не сразу догадался, в чем дело. Потом понял, что погибшие деревья дали жизнь новой молодой поросли. И молодая роща была ничуть не хуже той, прежней...
... Мы возвратились в общежитие голодные, как черти. Воронок принялся вышагивать по комнате, свирепо поглядывая на безмятежно спящего Андрейку.
— Кто спит — тот обедает, — изрек он с философским видом.
Потом он проверил, на месте ли мешочек с нашими сухарями. Были у нас любители пошарить по чужим комнатам.
Он шуршал сухарями, и у меня сразу оказался полный рот слюны.
— На месте сухарики! На месте наш НЗ. Дней на пять хватит, а?
— Перестань трясти ими! Они же крошатся от этого...
— Гм... Слушай, а что, если мы крошки — того... Отделим, от сухарей?
— Давай! — обрадованно согласился я и спустил ноги на пол.
Увы! Крошек оказалась малюсенькая пригоршня. Мы только раздразнили аппетит.
— Вот эти два вроде плесневеть начинают, — озабоченно сказал Воронок, разглядывая довольно крупные сухари.
— Долго ли плесени завестись, — поддержал его я, хотя совершенно не видел ее на сухарях.
— Давай мы их того, а? А то еще отравимся по пути на фронт?
Я не стал убеждать его, что испорченными сухарями с таким же успехом можно отравиться и сейчас, и молча поставил чайник на плитку.
Воронок положил на стол «подозрительные» сухари, а мешочек тщательно завязал и снова прикинул на руке:
— Дня на четыре хватить? Как думаешь?
— Человек вообще может жить без пищи больше месяца, — с ученым видом сообщил я, — он живет этот месяц за счет своих жировых отложений.
— Да? — удивился Сашка и стал щупать ребра. — А если их нет, этих самых отложений?
— Тогда, конечно, меньше. Но жировые отложения есть у каждого человека. Просто ты не там щупаешь.
— А! — озарило Сашку, но он, проверив, тут же грустно сообщил: — Там у меня тоже нет. Одни мослы торчат. Нет, брат мой, без сухарей все же не обойтись. Съедим эти два — и больше не прикоснемся к мешку.
Сухарики были что надо! Мы не стали их размачивать в кружках. Вот еще — портить все удовольствие. Проглотишь — и не заметишь. Нет, мы отгрызали их понемножку, растирали на зубах и, насладившись в полную меру, запивали кипятком сухарную кашицу.
— А знаешь, — сказал Воронок, — там, в госпитале-то, гречневая каша с мясом была... Я сразу учуял. Гречка, она пахнет по-особому. С овсянкой ее запаха не сравнить. Гречка с тушеной свининой. Мечта!
— Жалеешь, что отказался от приглашения? Цветы тебя уже не устраивают?
—Нет, почему же... Цветы — это хорошо. Только они ведь несъедобные. А отказались мы правильно.
Мы засыпаем как убитые. Не часто выдается спокойная ночка. Может быть, завтра совсем не удастся поспать. Налеты на Москву участились...
Глава двадцать четвертая
ЧАС НАСТОЯЩЕГО ИСПЫТАНИЯ
Опять ночь расцвечена яркими ожерельями трассирующих пуль и осветительными ракетами. Мне кажется, что шагают над Москвой великаны на гигантских ходулях из прожекторных лучей. Шагают, натыкаясь на облака и аэростаты воздушного заграждения. Словно с завязанными глазами хотят поймать маленький, юркий самолетик, похожий снизу на безобидного комарика. Вот один великан споткнулся о высокие дома, упал, уронив ходули в разные стороны... Но тут же снова поднялся, снова зашагал через крыши, догоняя товарищей...
Высоко-высоко над собой слышим с Воронком рокот мотора.
— Опять прорвался, чертов фашист, — говорит Воронок.
Он похлопывает рукавицей о рукавицу. Я знаю, о чем он думает. Он думает, что и сегодня будет тушить зажигалки. И может, его наградят медалью «За отвагу», как того паренька, портрет которого мы видели в «Пионерской правде». Но тому пареньку просто повезло: не на каждую крышу зажигалки падают десятками. Ведь к Москве, как правило, прорываются лишь одиночные самолеты фашистов. Большинство из них избавляется от своего груза, не долетев до столицы.
Павлик и его товарищи в такие ночи тоже не дремлют.
Разрушений в Москве не так уж много. Заметно пострадала, правда, улица 25 Октября, ведущая к Красной площади. Но Кремль стоит по-прежнему на своем месте, как стоял сотни лет. Рвутся фугаски вокруг да около, а Кремль стоит и стоит, будто опоясан волшебным кольцом, проникнуть за которое невозможно. Одна бомба попала в Большой театр, одна — разбила памятник Тимирязеву у Кинотеатра повторного фильма. Словно театры и памятники — излюбленные цели фашистов...
Памятник Тимирязеву восстановили быстро. Но вглядитесь повнимательнее в его гранитные плиты — вы и сейчас заметите щербинки, оставленные гитлеровской бомбой в сорок первом году...
Наше училище — неподалеку от Курского вокзала. Ох как мечтали гитлеровские летчики парализовать этот вокзал! С него уходили на восток поезда с оборудованием заводов, эшелоны с эвакуированными. Вот почему на нашу долю почти всегда выпадали веселенькие дежурства. Вот почему и рассчитывал Воронок, что медаль «За отвагу» от него не уйдет.
Неподалеку от училища — большая швейная фабрика. Видим на ее крыше таких же дежурных, как мы. Там в добровольной пожарной дружине много девчат. В минуты затишья до нас порой доносятся их песни — протяжные, грустные.
— Завели панихиду, — ворчит в таких случаях Сашка Воронок, —уж пели бы что-нибудь комсомольское... Тоже мне вояки!
Сегодня песен не слышно. Неумолчно грохочут зенитки, прожекторы торопливо пересчитывают барашки разрывов, склоняются друг к другу, словно шепчась о чем-то... Тревожная сегодня ночка!
— Прорвался, гад, — повторяет Воронок. Прислушиваемся к далекому гулу мотора.
— Сейчас скинет подарочки. — Сашка хватает щипцы для зажигалок.
На фашист сначала сбрасывает, по своему обыкновению, осветительную ракету. Маленьким солнцем сияет она над нами, и при свете ее я впервые замечаю горькие морщинки на лице моего названого брата... Вот и хорохорится он всегда, и подсмеивается над всеми, а в душе опечален не меньше нас с Андрейкой и нерадостным отступлением нашей армии, и ребячьими слезами в тесных бомбоубежищах, и грустными песнями девушек на крыше швейной фабрики.
Я не сержусь, что Сашка захватил единственные щипцы для зажигалок. Наверное, он спокойнее чувствует себя, опираясь на что-то надежное, увесистое. Беру в руки железный домик. Он тоже тяжелый, тоже подбадривает.
И вдруг вспыхивают маленькие солнца прямо на крыше швейной фабрики. Одно, другое, третье... Через минуту на крыше разгорается костер. Нам он кажется не таким уж и страшным. Похож на костры в пионерских лагерях. Только сейчас прыгают вокруг него не мальчики и девочки с пионерскими галстуками, а пожарные из добровольной дружины. Доносятся крики, видно, как заливают костер водой. Он на мгновение притухает, но тут же выбрасывает в небо новый сноп огненных искр, подталкивая их драконьими языками пламени.
«Фи-и-и-и-и!» — раздается дьявольский посвист над нашими головами. Сашка прижимается ко мне:
— Все, Лешка! Летит прямо на нас...
И мне кажется, что летит прямо на нас, но я думаю, что, может, это и не бомба, а продырявленная железная бочка, которые иногда бросают фашисты для устрашения.
Но нет, это была бомба... Она попала в швейную фабрику, прямо в пылающий костер... Ураганный ветер пронесся над нами, сорвав фуражки и растрепав волосы.
Стоим с Воронком, обняв друг друга, прижимаясь спинами к твердой и холодной стене. Хочется сказать Сашке что-то утешающее, но не приходят в голову нужные слова.
И снова — дьявольский посвист над головой, и снова летит бомба прямо в нас — беззащитных и таких маленьких на этой большой крыше. И опять пролетает она мимо, в какой-то сотне метров от нас. Огромный фонтан возникает посреди Яузы, обдает нас брызгами... Невиданно большие волны бьются в берега, переплескиваясь через гранит...
Минут пять проходит, прежде чем Воронок решается сказать мне со своей обычной усмешечкой:
— А мы, брат, видать, оба в сорочках родились. Вот повезло так повезло!
К швейной фабрике подъезжают машины с ополченцами, машины «скорой помощи». Утром мы увидели вокруг фабрики высокий деревянный забор...
После отбоя приходим к себе в комнату. Какие-то мы все не такие. Словно повзрослели за одну ночь. Андрейка хлопочет с чайником, шутит:
— Натерпелись страху, братцы? Сознайтесь честно. А еще на фронт собирались бежать. Пока вы готовились, фронт возьми да приди прямо к вам.
Откуда он знает о наших планах? Догадался по сухарям? Или Воронок не удержался?
Такие же мысли бродят в Сашкиной голове. Смотрим друг на друга и неожиданно начинаем смеяться. Смеемся до слез, до коликов в животе. Сами не понимаем причины своего смеха.
— Психопаты, — говорит Андрейка, — нервы у вас не того... Не очень крепкие.
Пожалуй, он угадал. Вместе со смехом покидает нас напряжение, державшее холодной рукой за сердце несколько часов подряд.
— Андрейка прав, — вытирая слезы, произносит Воронок,— фронт и в самом деле пришел к нам. Лопнули наши героические планы... Давай сюда, Лешка, сухари. Будем есть до отвала. А сражаться станем на баррикадах. Чем мы хуже Гавроша?
— Может, и не дойдет до баррикад, — вслух размышляет Андрейка, — может, еще отбросят фашистов от Москвы.
— Разуй глаза, посмотри, сколько их понастроили! Найдется там местечко и для нас. Не будь я Воронков, если не пристрелю хоть одного фашиста.
— На словах ты горазд, — улыбается Андрейка.
...Был в нашей жизни день, когда мы, все трое, почти поверили, что Москва будет сдана Гитлеру, что и впрямь придется уже нам, мальчишкам, зубами перегрызать горло врагов. Как у Гайдара — в сказке о Мальчише-Кибальчише...
Пасмурный это был день, черный это был день.
Начался он с того, что к нам ворвались ребята из восьмой комнаты и закричали:
— Проснитесь, тетери! Немцы входят в Москву!
Через минуту мы мчались по улице, забыв умыться.
— Надо узнать, где выдают оружие, — твердил Воронок, — ведь должны же всем выдавать оружие...
Диковинное зрелище увидели мы у магазина. Двери его были распахнуты настежь. Какие-то люди тащили пакеты соли, куски хозяйственного мыла, круги колбасы.
— Не теряйтесь, чеграши! — крикнул нам опухший мужчина с лиловым синяком под глазом. — Сегодня без карточек отовариваемся и без продавцов.
— Ах ты мародер! — Сашка схватил камень и запустил ему в спину. Тот грязно выругался и ускорил шаги, прижимая к груди колбасные круги, нанизанные на руки, словно баранки.
— Что же это такое? — грустно спросил я.
— Грабители, — ответил Андрейка, — сегодня все клопы повылезали из щелей. А ну, зайдем!
Мы вошли в магазин. Прилавки усыпаны мукой, металлическая касса сброшена на пол, словно кто-то и ее пытался утащить, да не осилил.
А что творилось на Курском! Крики, беготня, люди висли на подножках, забирались на крыши. Матери искали детей, дети плакали, блуждали толстыми закутанными свертками по всем залам и перронам вокзала. Никто не знал времени отправления поездов. Они отходили от перрона неожиданно, разлучая родных, увешанные человеческими гроздьями, набитые до отказа.
— Что нам тут делать? — сказал Андрейка. — Пошли в училище.
— Правда, может, там винтовки выдают! — спохватился Сашка.
Винтовок мы не получили. У нас их было пять штук, да и те — деревянные макеты. Зато мы встретились с Чернышом и Ниной Грозовой.
— Успокойтесь, — сказал Черныш, — хоть вы-то не поддавайтесь панике. Вы же народ сознательный.
— Дойдет до винтовок, — не забудем вас, — пообещала Нина Грозовая. — Я звонила в райком, сказали, что ничего страшного.
Как мы завидовали ополченцам, шагавшим по улицам с оружием за спиной. Конечно, они идут на передовую. Где она сейчас, передовая?
— Неужели фашисты войдут в Москву? — спросил Сашка, словно мы знали больше, чем он.
— Если и войдут, будем бороться, — твердо произнес Андрейка, — в подполье уйдем, но из Москвы ни в коем случае не уедем. Договорились, ребята?
Еще бы! Мы с Воронком начали обсуждать, кого можно привлечь в подпольную группу, какие диверсии нам по силам, кто будет у нас старшим. Единогласно решили — Андрейка.
Он стукнул нас лбами и сказал:
— Фантазеры! Нина у нас будет старшей, понятно? Думаете, вы одни ломаете сейчас голову над всем этим? Умные люди, конечно же, предусмотрели все заранее. И еще неизвестно, доверят ли нам быть членами подпольной организации.
— Не доверят — свою создадим! — сразу нашелся Сашка.
— Ишь ты, анархист какой, — засмеялся Андрейка.
Я решил не отставать от Федота Петровича ни на шаг, чтобы не упустить какого-нибудь важного момента. Вдруг привезут винтовки и всем не хватит? Вдруг потребуются добровольцы на баррикады?
Ребята одобрили мое решение. Я слонялся за Чернышом, как тень, и, видимо, надоел ему до чертиков.
— Не знал, что ты такой прилипала, — сказал мне Федот Петрович.
Зазвонил телефон. Черныш снял трубку и долго слушал молча, легонько кивая головой.
— Понятно, товарищ Новиков, — сказал он в конце разговора, — все сделаем, как вы сказали, не беспокойтесь.
Он посмотрел на меня устало и спросил:
— Сидишь, значит? А мне вот только что сообщили, что всех ребят, живущих в общежитии, необходимо немедленно эвакуировать. Хоть пешком, но уводить из Москвы. Как ты к этому относишься?
— Нет, Федот Петрович, мы из Москвы никуда не поедем! Ни Андрейка, ни Сашка, ни я! Даже и не думайте.
— Понимаю. — Он наклонил седую голову. — Доходили до меня слушки, что вы с Воронковым на передовую бежать хотели. Сима вас подвела. Сказала мне вчера, что вы хлеба за ужином совсем не едите. Не иначе, говорит, как сухарями на дорогу запасаются. Доходили слушки!
Даже до него! Нет, плохие мы все-таки с Сашкой конспираторы. Туго придется нам в подполье.
— Грех беру я на душу, — сказал Черныш, — большой грех. Но так и быть — оставайтесь. Не верю я, что сдадут Москву! Не верю, хоть убей!
Я пулей выскочил из кабинета замполита и помчался к друзьям. Они выслушали мой рассказ молча. Если бывает день прощания с детством, то сегодня у нас был именно такой день. Мы почувствовали себя мужчинами. Мы почувствовали, что вот он пришел, час настоящего испытания. И мы посмотрели друг другу в глаза. И мы увидели, что каждый из нас к этому испытанию готов.
Глава двадцать пятая
СКОРЕЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, ОРЕЛ!
Поворачиваю голову налево — ряд больничных коек, поворачиваю направо — тумбочка. Обыкновенная деревянная тумбочка, а на ней совершенно необыкновенные вещи. Шоколад, лимоны, яблоки. Салфеткой прикрыта большая вареная курица. Сливочное масло, печенье, копченая рыба. Наверное, мне снится сон. Во время войны такие «съедобные» сны бывали у каждого. Успевай наворачивать, пока не проснулся. Снились наваристые щи, картошка в мундире, макароны с мясом. Дальше этого мое воображение не шло даже во сне. А тут — на тумбочке— целый довоенный «Гастроном»! И еще — цветы.
Я протягиваю руку за яблоком и чувствую острую боль. Словно в тело мое вонзилась тысяча иголок. Рука бессильно падает. Нет, значит, это не сон. Значит, все это взаправду. Последняя бомбежка окончилась худо для меня. Иначе бы не лежал я в своей постели под хрустящей, накрахмаленной простыней.
— Хочешь яблочко, Лешенька? На кушай...
К моему рту подносят яблоко. Вижу молоденькую медицинскую сестру. Глаза у нее ласковые, заботливые. Откусываю разок и мотаю головой — не надо больше. Лучше пусть расскажет, что все это значит. Почему я окружен таким немыслимым изобилием? Неужели все больные питаются здесь так роскошно?
Нет, не все. Она советует мне лежать спокойно, а сама начинает рассказывать. Во-первых, ее зовут Маруся. «Очень хорошее имя»,— думаю я. А во-вторых, я, оказывается, буквально вернулся с того света. Мне повезло, что я попал в эту больницу. Потому что спасти меня могли только в ней. В других нет такой аппаратуры и нет таких врачей, как здесь. Врача, который делал операцию, я по праву могу считать своим вторым отцом. Его зовут Викентий Викентьевич.
«Как писателя Вересаева, — думаю я. — Вересаев тоже был врачом. Как и Чехов».
Викентий Викентьевич просиживал у моей постели целыми сутками. Вот-вот ожидался летальный исход.
«Чудеса! Значит, я чуть не полетел куда-то? Летальный... Красивое слово. Словно стрелу выпустили из лука». Тогда Викентий Викентьевич сказал: «Пусть придут его отец или мать». Но оказалось, что у меня нет ни отца, ни матери. Тогда пришел товарищ Черныш. Такой седой, с палочкой. И он сидел у моей кровати целых два дня, заменяя самых близких родных. Он сидел и молчал. Молчал и слушал, как я вел в атаку бойцов и тушил бомбы. Только я почему-то тушил не зажигательные бомбы, а фугасные. И потом пел грустную песню. Такую грустную, что товарищ Черныш не выдержал и заплакал. Но и плакал он молча, чтобы не мешать мне. И она, Маруся, тоже плакала. «Какие все плаксы оказались, — подумал я, — я-то вот не плакал же».
И вдруг выяснилось, что у меня есть брат. Такой худенький, беленький. И он требовал, чтобы и его пропустили ко мне. Ему не разрешили, и тогда он устроил такой скандал, какого не было в больнице со дня ее основания.
Викентий Викентьевич надрал ему уши, но пройти ко мне все-таки разрешил. И этот худенький брат тоже слушал мои грустные песни. А потом я закричал: «По коням, гусары!» — и чуть было не свалился с кровати. Товарищ Черныш и тот, что назвался братом, вовремя удержали меня. Иначе я вряд ли когда-нибудь сел бы на настоящего коня.
Цветы мне принесла девушка. Ее звали Зоей. Она приходила с таким симпатичным юношей. Молчаливый такой юноша и очень симпатичный. Удивительно, что он нашел в этой Зое. На вид она очень простенькая. Вообще Маруся заметила, что невзрачным девчатам достаются самые красивые парни. Очень удивительно, но почему-то в жизни бывает именно так.
Только ушла Зоя с этим чудесным парнишкой, как появился в больнице юный чудо-богатырь. Чудо-богатырь притащил курицу. Где он разыскал ее сейчас в Москве — известно ему одному да богу, в которого, кстати говоря, она, Маруся, не верит.
Но главные чудеса были впереди. Этот худенький, который назвался братом, посмотрел на курицу такими глазами, что она, Маруся, испугалась, как бы он не набросился на нее и не съел. Маруся подумала, что он здорово голодный. И вежливо предложила ему пообедать в больничной столовой. Но худенький вдруг умчался куда-то и вернулся только под вечер. Он и принес все эти вещи, что лежат сейчас на тумбочке. Викентий Викентьевич испугался, что этот беленький ограбил кого-нибудь. Очень уж редкие вещи он принес. Просто сказочные вещи. Но товарищ Черныш успокоил Викеития Викентьевича. Товарищ Черныш сказал, что все вы, ремесленники, ребята очень честные. Тогда врач разрешил передать мне эти изысканные яства.
Вообще она, Маруся, впервые видит, чтобы к больному, да еще к мальчишке, ходило так много народу.
А вчера Викентий Викентьевич сказал, что опасность миновала. Что летального исхода уже не следует ожидать. И тогда только товарищ Черныш и тот, который назвался братом, отправились спать. Они хотели поспать прямо в больнице, но врач им не разрешил. Если всем разрешить спать в больнице, то это уже будет не больница, а просто гостиница.
Я смотрю в славное Марусино лицо, и мне очень хочется, чтобы ей достался самый красивый парень на свете. Даже красивее Андрейки.
Рядом с ее лицом я вижу лицо старичка. Он похож на Деда-Мороза. Нос у него большой и красный. Усищи и борода почти как у Карла Маркса. Старичок подмигивает мне и спрашивает:
— Как почивали, ваше величество? Как себя чувствуете?
— Я не ваше величество, — слабым голосом отвечаю я и не узнаю своего голоса. Какой-то он не такой. Словно спал я тридцать три дня подряд.
— Как же не ваше величество? Его величество рабочий класс. Ты ведь рабочий класс? Ну, значит, все правильно, — говорит Дед-Мороз и снова подмигивает. Только вместо шубы на нем белый-пребелый халат.
— Викентий Викентьевич, к нему можно пускать посетителей?
Дед-Мороз удивляется:
— А почему нет? Он у нас самый примерный больной. Не шумит, не ругается, что в щах слишком много крапивы и слишком мало картошки. Не курит втихомолку под одеялом, как его сосед слева. Можно пускать! Но не по сто человек сразу. Столько и халатов у нас не найдется. Да и проследите, чтобы Лешенька наш не очень много разговаривал. Пусть гости говорят. А он пусть слушает. Успеет еще наговориться в своей жизни. Сто лет проживет!
— Спасибо, доктор, — благодарю я.
Дед-Мороз виден мне в туманной дымке. Словно неправильные очки на глаза мне надели.
— Только, чур-чура, не реветь. А то мигом отменю все свидания. Вот так, — сердито говорит Викентий Викентьевич и уходит.
— Как на фронте дела? — спрашиваю Марусю.
— Погнали немцев от Москвы! — радостно говорит Маруся. — Хорошо, что я не эвакуировалась, как мне предлагали. Войск, Лешенька, идет через Москву — представить себе не можешь! Несметные тысячи. И все-то в дубленых полушубочках, с автоматами. Веселые все и такие симпатичные, такие симпатичные! Сибиряков среди них очень много… Ага, вот уже и гости к тебе. Проходите, товарищ Черныш.
Федот Петрович усаживается на табуретке, зачем-то щупает мой лоб и говорит довольно:
Дело-то на поправку пошло! Скорее выздоравливай, орел. Будем рассматривать твое заявление о приеме в комсомол. В отсутствие никак нельзя. Вот и Воронков решил с тобой вместе вступать. Не сразу, правда, решил. Была еще у него мыслишка на фронт удрать. Ну, побеседовали. Понял, что к чему. С комсомольским билетом не удерет. Где прикажет комсомол — там и будет трудиться. Позовет комсомол на фронт — пойдете и на фронт. Верно я говорю?
— Верно, Федот Петрович... А где Нина?
— Уехала наша Нина... В эвакуацию ребят повезла. Вернее, повела. Пешком из Москвы уходили. Такие, орел, дела. Замещает ее в училище Андрей Калугин. Мы с ним и в комсомол будем принимать тебя.
Черныша сменяет Воронок. Он сияет, смотрит на меня во все глаза, но не говорит ни слова.
Глупо, но я тоже начинаю сиять. Вот так мы беседуем. Маруся смотрит на нас тревожными глазами. Вот, думает, два ненормальных. Одновременно спятили с ума. Просто удивительно.
— Ты что, занял, что ли, денег? — киваю я на тумбочку. Маруся успокаивается. Хоть один наконец заговорил.
— Ага, — улыбаясь, отвечает Воронок.
— Небось много назанимал?
— Немножко, — отводит Сашка глаза.
— Ну ладно, расплачиваться вместе будем.
— Была бы голова на плечах, а остальное неважно,— мудро говорит Воронок.
Какой он стал рассудительный, скажите на милость! Он рассказывает, как в последнюю тревогу рядом с училищем упала бомба. Меня задело осколками. Слушаю так, словно говорят о ком-то постороннем.
— Крови под тобой было — ужас!
— Чепуха, — говорит Маруся, — даже во взрослом человеке всего четыре литра крови. А он ребенок.
— Сами вы ребенок, — заступается за меня Сашка, — знали бы, как он зажигалки тушил, этот ребенок!
— Я все знаю, — поджимая губы, говорит Маруся,— я даже знаю, какой ты скандалист. Удивительно, что Леша с тобой дружит.
Объясняю сестре ласково:
— Мы с ним правда братья, Маруся. Названые.
— Не знаю какие, но уши ему недаром надрали.
— Надрали, — подтверждает Воронок, — совершенно ни за что надрали.
— «Ни за что»! Больницу кверху ногами поставил. Врача чуть до инфаркта не довел. Он и так у нас еле ходит — с тех пор, как его на фронт отказались послать. А ну, брат не брат, а закругляйся. Там вон еще люди ждут. Пущу одного — и на сегодня хватит. Пускай в другой приемный день приходят.
Она подталкивает Воронка к выходу. Он разводит руками и говорит:
— До свиданья, братишка! Завтра я снова к тебе прорвусь.
— До свиданья, Воронок! Прорывайся!
Последним в этот день ко мне пустили Андрейку. Маруся откуда-то притащила для него стул — на табуретку не захотела сажать.
— Благодарю вас, — как взрослый, сказал Андрейка, и Маруся расцвела маковым цветом. — Уничтожай припасы-то, — посоветовал мне Андрейка, — скорее на ноги встанешь.
— Да уж навалюсь сегодня! И с соседями поделюсь. Не пропадать же такому добру.
— Обрадовать тебя? — спрашивает Андрейка.
Разве о таких вещах спрашивают?
— Тебя наградили часами. Именными. Завтра вручат. Прямо в больнице.
Часы — это здорово. Я всю жизнь мечтал о часах. Как-то человек больше себя уважает, когда на руке у него тикают часы и он в любое мгновение может узнать, сколько сейчас времени. И даже ответить, если его спросит об этом прохожий. До сих пор на вопрос о времени я всем отвечал приблизительно. Теперь, значит, стану отвечать точно. Хорошо! Отныне не буду тратить даром ни одного часа, ни одной минуты. В вечернюю школу поступлю — в восьмой класс.
—И это не все еще, — выкладывает новости Андрейка, — такой еще есть сюрприз, что ни за что не угадаешь.
Маруся смотрит на него как на бога. А говорят еще, что не бывает любви с первого взгляда!
— Вернулись обратно ребята из общежития? И с ними Нина? — спрашиваю о самом затаенном. Очень мне хотелось, чтобы и она была при моем вступлении в комсомол.
— Нет, — хмурится Андрейка, — их уже не вернут. В Свердловск их повезли.
— Ну что же? Говори!
— А то, что твой портрет — на Доске почета. Вот что!
Действительно, сюрприз! Сердце у меня начинает колотиться как сумасшедшее. Значит, считают меня настоящим рабочим. Но почему меня одного?
— А твой, Андрейка?
— Ну, и мой. Да и Сашкин тоже. Все трое и, как всегда, вместе. А рядом со мной на Доске почему-то Зоя Голубева. Словно судьба знак подает, что быть нам всю жизнь вместе.
— Судьбы нет. И бога нет, — сухо произносит Маруся.
Бедная! Не может же Андрейка разорваться на две половинки. Он никогда не был таким влюбчивым, как мы с Воронком. Если уж полюбил, то, видно, и впрямь на всю жизнь.
— Как Рая там поживает?
— Большой привет тебе передавала. Не ожидала, говорит, что Сазонов способен на что-нибудь, кроме стихов.
Способен, Раечка, способен! Ты еще вспомнишь Алексея Сазонова и когда-нибудь пожалеешь о ледяном презрении, которым ты одаряла меня. Не повезло мне с первой любовью. Наверное, редко кому везет с ней. Для этого надо быть счастливчиком. Или таким красавцем, как Андрейка. Впрочем, Рая и в нем никогда не находила ничего особенного. А я-то всегда знал, что Андрейка — самый настоящий человек. Скромный, добрый, трудолюбивый. И очень честный. Вот и спрошу-ка я его, сколько денег назанимал Сашка.
— Занял? Да ни копейки он не занял, — удивляется Андрейка.
— Откуда же все это? — Я киваю на тумбочку.
Друг мой растерянно смотрит на Марусю, словно ждет от нее поддержки. Но Маруся молчит. Она думает о Зое Голубевой. А может, о женихе.
— Разве Сашка ничего не говорил?
— Ничего. То есть мялся чего-то...
— Он же аккордеон загнал. Пошел на Тишинский — в загнал. «Мне, говорит, батька привезет из Берлина еще получше. А пока на училищном буду пиликать».
Ах, Воронок, Воронок, забубённая головушка! Как расплачусь я с тобой за все? Да и нужно ли думать сейчас об этом! Как он сиял тут, сидя рядом со мной.
На душе у меня становятся тепло и радостно. Вот выйду на больницы, и в тот же день будем поступать вместе с ним в комсомол. Вместе!
До самой старости, до седых волос мы будем гордиться тем, что в наших комсомольских билетах будет сказано: «Время вступления — год сорок первый... Город — Москва...»
1962—1965 гг. Москва