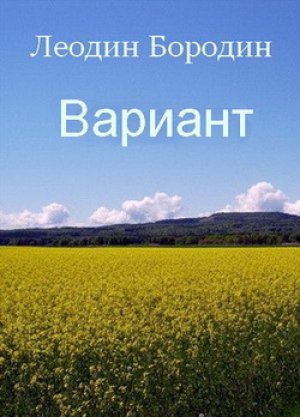
Сеновал находился напротив дома. Это был как бы второй этаж сарая, но в сущности лишь чердак сарая с крутым скатом крыши. Одним торцом сеновал выходил на улицу, к другому, со стороны огородов, была приставлена много раз штопанная лестница, которая угрожающе скрипела, когда Андрей лез по ней. Сена было немного, но запах его подействовал сильнее самогона, и когда Андрей, устроив ложе, плюхнулся, растянувшись в рост, голова его пошла кругом, и хмель закрутил, завертел, зашвырял его из стороны в сторону. Состояние было приятное и радостное. Была легкость и безмятежность. Запах сена был так неожиданно силен, что все остальные чувства и ощущения привел в растерянность. И еще… Он был запахом детства.
Его детство было связано с войной, и его детские игры были играми в войну. Почему они никогда не играли в солдат, всегда играли в партизан? А почему во всех играх он непременно бывал командиром отряда? Наверное, потому, что партизанский командир сам себе голова, над ним нет начальников?
Это соображение удивило и огорчило Андрея. Оказывается, в детстве у него были отчетливые анархистские наклонности! Мальчишки всегда подчинялись ему. И не только сверстники, но и те, что были старше, бесспорно признавали его главенство. Почему? Что подавляло их? Физически он был крепок, но не крепче многих. Фантазия? Может быть. Но скорее всего — его отношение к играм. Он всегда играл всерьез, и если игра требовала какого-то умения, он овладевал им, чего бы это ни стоило.
Если же взглянуть по-другому, то он просто не отличал жизнь от игры, может быть, оттого его жизнь стала похожей на игру. К тому же он всегда был приверженцем строгого соблюдения правил игры и никому не прощал их нарушения. Это пристрастие он перенес на жизнь, в которой также хотел видеть ясность, смысл и присущее детским играм благородство. Он не заметил, когда перестал играть в жизнь и когда началась собственно жизнь, а если это верно, то он — разновидность Дон-Кихота, характера симпатичного, но несчастного.
Да, всё, что с ним произошло теперь, было зашифровано в детстве, и к детству надо было обратиться раньше: несколько лет назад надо было приехать сюда, выпить дедовского самогона, забраться на сеновал, уткнуться носом в духоту сена и вспомнить… А может быть, тогда ничего бы не вспомнилось? Может быть, не в сене дело и не в алом закате, что каждым мазком и полутоном в памяти навечно, как и всё вокруг! Разве сотни раз не снился ему запах сена и цвет заката, и голос речки на перекатах, и он сам среди всего этого? Может быть, не в этом дело? А в пистолете, что давит на грудь, вдавливается в грудь, срывает дыхание и без того сегодня надорванное дедовским зельем?..
В детстве его не любили девчонки. Он не принимал их в игры. Его дразнили «задавакой». Девчонки интриговали против него. Но безуспешно. Он просто не считал их за людей. Они были для него бесполезной прихотью природы. Интерес, который он со временем начал проявлять к ним, сопровождался легким презрением, и он никогда не мог понять душещипательную литературу. В школьные годы Ромео казался ему дураком, в институте Вертер шизофреником. Его героями были путешественники и революционеры. Одна девушка сказала о нем в его присутствии: «Скучный, как бесконечное соло на контрабасе». Этот отзыв он принял с гордостью. Быть интересным для женщин быть клоуном в глазах мужчин.
Любил ли он Ольгу? Он считал, что любил. То есть, он относился к ней исключительно, как ни к одной другой. Но вот только сейчас он начал догадываться, что мог бы действительно любить ее, и это «мог бы» и всё дальнейшее условно-сослагательное направление мысли, словно серым по пестрому, мгновенно омрачили его сентиментально-безбольное состояние и вернули, даже не вернули, а швырнули в реальность, которая в этот вечер милостиво отступила в глубину сознания, давая ему передышку, отдых, просто вздох прячущегося человека.
Сколько же ему осталось? Чего гадать! Нужно считать, что остался час, полчаса, десять минут! И тогда состояние готовности будет постоянным. Тогда не будет напряжения.
Продолжается жизнь. Или игра. Неважно! Нужно соблюдать правила до конца. И в этом — выигрыш!
1. Пятеро
В комнате необставленной и неуютной, с немытыми окнами и затертым полом, четверо ждали пятого. Он опаздывал. Общий разговор выдохся, и все сидели молча. Один, поглаживая темно-русую бородку, рассеянно смотрел в окно, другой пролистывал уже который раз от начала до конца какую-то потрепанную книгу, третий, развалившись в единственном кресле комиссионного происхождения, задумчиво ковырялся в часах. На старой кушетке полулежал четвертый. Одет он был хуже всех, точнее — небрежнее всех, был он небритый и невыспавшийся и даже непонятно, какой масти. Он один вписывался в эту комнату, потому что был ее хозяином. За двадцать пять рублей снимал он ее без телефона и ванной, без права на прописку, но зато с правом полной свободы в обращении с арендуемой площадью. Этим правом он пользовался уже несколько лет, и поскольку был холостяк и неряха, то как-нибудь взяться и привести комнату в приличное состояние было уже просто невозможно. Его упрекали и стыдили. Он каялся и обещал, но всё оставалось по-старому. Привести бы сюда пару студенток, и комнату можно было спасти, но привести нельзя. Это явочная квартира. Конспирация же — превыше всего!
Пятью пять — двадцать пять. Пятеро складывались по пятерке и платили за квартиру. Правда, не у всех в нужный момент оказывалась лишняя пятерка. Именно у хозяина ее часто не оказывалось. Коля-хозяин жил на стипендию. От помощи друзей отказывался принципиально, и лишь вынужден бывал позволить заплатить за себя квартирные. Платил Константин, тот, что сейчас сидел в кресле. Папаша его был известный в Питере босс и сыну в карманных деньгах не отказывал. Константин одевался почти шикарно, почти изысканно, манеры имел аристократические, голос артистический, и потому неудивительно, что казался чужим в этой компании, если, конечно, взглянуть на нее взглядом постороннего и неосведомленного. Если бы не было Константина, то, пожалуй, тогда столь же случайным в этой комнате показался бы Вадим, но не по одежде или внешности, хотя бородка была только у него. Трудно сказать, чем он выделялся, но если бы кто-то посторонний заинтересовался ими, то он обратился бы с вопросом именно к Вадиму. Да что говорить, посторонний мог бы не без оснований посчитать их компанию случайной, потому что и четвертый, Павел, рыжий, как из анекдота, тоже казался сам по себе…
Вот он захлопнул книжку и повернулся к Коле-хозяину, который мужественно боролся с дремотой.
— Слушай, ты время не перепутал?
Костя и Вадим тоже посмотрели на Колю. Он же лишь обиженно хмыкнул.
Пятый опаздывал. Это было настолько против обыкновения, что ни один из ожидающих не высказал и слова неудовольствия. Причина могла быть только уважительная. И когда Константин произнес: «Однако!», то в этом возгласе было лишь искреннее удивление необычным поведением «командора», абсолютная пунктуальность которого иногда даже попахивала снобизмом.
…Если бы их было четверо, компания развалилась бы давно. Но был тот самый, пятый — цемент и железо. Это благодаря его, воистину, таланту, эти четверо, все разные до удивления, несколько лет были как один…
Происходило это не в девятнадцатом веке и не в начале двадцатого, а в самой его середине. Подпольная группа находилась в состоянии кризиса. Два года назад, когда разбрасывали первые листовки, ожидали назавтра бурю, а всё обошлось случайными шепотками. Они были удивлены, обижены. Народ не услышал их или не захотел услышать. А они говорили ему правду о режиме, которая открылась им с несомненной очевидностью, с кричащей очевидностью. Но крики никто не услышал, будто уши ватой заложили, или воском залепили, или оглохли преднамеренно.
А они любили народ! Точнее, они очень хотели любить народ, хотя подозревали, что любовь эта будет без взаимности.
Шел не девятнадцатый век, а середина двадцатого, и они были не дворяне или разночинцы, а комсомольцы, но история повторялась, и они чувствовали это повторение, которое, как и всякое повторение, банально. Чувствовали, но из круга банальности вырваться не могли, и постепенно нагнеталось ощущение безысходности и обреченности.
Иногда они слышали, что где-то кого-то взяли и посадили за что-то подобное, и тогда с досадой стучали кулаками по столу, потому что опять прозевали и не увидели своих, а им так нужно было убедиться, что они не одни…
Шло время. Шалости уже не удовлетворяли. Оптимизм юности столкнулся с действительностью, которая не торопилась меняться и преобразовываться, народ не просыпался, и зарождалось сомнение, спит ли он.
Раньше, когда собирались вместе, сколько разговоров было, спорили как, до хрипоты, до обид. А вот сегодня уже почти час сидели молча. Ждали пятого. И ожидание было тягостным.
На исходе третьего получаса раздался, наконец, долгожданный условный стук в дверь. Колю смело с кушетки, и сна — ни в одном глазу.
Пятого звали Андреем. Он был худощав, высокого роста, темно-русый, с жесткими чертами лица. Он был не старше всех, но таковым казался. Мгновенным оценивающим взглядом он охватил всех, как офицер солдат перед боевым заданием. Никто ничего не сказал. Даже не поздоровались. Первым всегда говорил пятый.
Он подошел к свободному стулу, сел, нахмурился, отчего стал еще старше, молчал. Потом поднялся, подошел к столу, у которого были все четверо, поставил кулак на стол. Так он начинал говорить.
— Ничего не случилось.
Голос его был глухой, но без хрипоты, и такой же тяжелый, как его кулак.
— Ничего не случилось. Да и что может случиться с нами! Мы кроты!
Начало разговора было тревожным. Все смотрели на Андрея, но смотрели как-то сбоку, исподлобья, словно не смотрели, а подсматривали.
— Эти полтора часа я гулял по набережной Мойки. Несколько дней назад я решил сообщить вам очень важное. Но сегодня мне еще нужны были эти полтора часа.
Говорилось всё это тоном человека, уверенного, что никто не усомнится в его праве и правоте. Никто не усомнился.
— Мы потерпели фиаско. Это сегодня ясно каждому. И причина одна Россия не готова, мы — преждевременные скороспелки. Продолжение нашей деятельности бессмысленно.
Теперь все смотрели на него удивленно.
— Мы никому не нужны. Мы смешны в своем желании кричать о том, что всем известно. Мы хотели рассказать о миллионах погибших, мы, однажды узнавшие об этом! А кому мы рассказывали? Тем, на чьих глазах всё происходило! И даже те, что выжили и вернулись из лагерей — вы же знаете, какую блевотину они выдают! Здесь что-то не так… Мы стучимся в каменную стену вместо двери…
Он пристукнул кулаком по столу, словно ставил ту самую точку, которая не получалась в словах. Потом заговорил другим голосом, незнакомым для его друзей.
— Понимаете, ребята, здесь какая-то тайна, задача из высшей математики, а мы решаем ее средствами таблицы умножения… Короче говоря, дело наше ликвидируется по причине отсутствия капитала!
Кроме Константина все казались сконфуженными, даже растерянными, так неожиданны и странны были речи «командора». И когда Константин обнаружил желание что-то сказать, все повернулись к нему с надеждой.
— А чем жить будем? Делать карьеру?
Константин спрашивал не Андрея, который сидел, опустив голову, нахмурившись и вдавив кулаки в стол. Константин спрашивал всех, и потому никому легче не стало.
Константин покосился на Андрея. Тот молчал, но в молчании была недосказанность, и «правая рука командора» почувствовал это.
— Всё ли ты нам сказал, шеф?
— Не всё, — ответил тот. — У меня есть вариант для самого себя. Пусть каждый подумает над своим вариантом. Может быть, произойдет совпадение.
— Чего тянуть, давай сразу! — выскочил Коля-хозяин.
— Нет! — ответил Андрей. — Я буду говорить последний. Так есть у кого-нибудь свой вариант?
Сначала было молчание. Потом тот, у окна, длинноволосый с бородкой, зашевелился смущенно, и все повернулись к нему.
— У меня есть вариант, но… он ни с чем не совпадает… я знаю… Я давно к этому пришел, но не говорил…
Андрей смотрел на него подозрительно, похоже, что он действительно на совпадение не надеялся. А тот колебался, краснел, почему-то хрустел пальцами.
— Ну… в общем… не знаю и как рассказать… В общем… я занимаюсь… это не то слово, наверное, ну, интересуюсь что ли… христианством… Это серьезно… Вот собственно…
Он развел руками, виновато улыбнулся, оглядел всех так же виновато.
Общее молчание было лучшим свидетельством общего удивления. Даже у «командора» обычная жесткость выражения сменилась растерянным недоумением.
— Не понимаю, — сказал он. — Я интересуюсь йогами. Давно и серьезно. Ну и что?
— Это не то, Андрей, — как можно мягче ответил Вадим. — Мне трудно объяснить…
— Ты что, в Бога веришь, что ли? — напрямую с глуповато-удивленной улыбкой спросил Коля-хозяин. Коля не тянул на интеллект и мог позволить себе многое.
— Да, — чуть слышно ответил Вадим.
Сказал он это так, как застенчивые мальчики признаются своим друзьям во влюбленности, готовя себя к заведомому осмеянию. И еще, сказано это было так, что всем стало неудобно, будто действительно вынудили друга сказать о чем-то чрезвычайно интимном, что нельзя принять всерьез, но и нельзя позволить себе даже усмешку. Потому никто не смотрел в глаза Вадиму. И он, покраснев, опустил глаза в стол. Даже «командор» долго не мог найти нужных слов.
— Не понимаю, — сказал он раздраженно. — Если речь идет о религии как социальном институте, несущем положительную мораль… я сам думал об этом. Если у тебя есть идея в этом смысле, выскажи, обсудим… Может быть, действительно можно использовать…
— Нет, — перебил его Вадим, — не то. У меня нет никакой идеи. — На его лице было выражение пытки.
— Идеи нет, а вариант есть, — отпарировал Андрей.
— Я же сказал, что это мой личный вариант, он ничему не мешает. Я же делал всё, что и вы. Ты спросил, я ответил. Если ты хочешь предложить что-то новое, одно другому не мешает.
Вадим говорил уже спокойнее. К Андрею же вернулась его прежняя категоричность.
— Боюсь, что будет мешать, — сказал он жестко.
Коля-хозяин перегнулся через весь стол к Вадиму.
— Вадька, ты крестился, да?
— Отстань от него! — резко оборвал его Константин. Но Вадим ответил.
— Я крещен в детстве.
— Я тоже крещеный! — почему-то радостно крикнул Коля.
— Отстань, тебе говорят! — еще резче осадил Константин.
Тот, ничуть не обидевшись, отошел от стола, плюхнулся на кушетку. Константин повернулся к Вадиму.
— Ну, хорошо, Вадик, это, конечно, твое личное дело. Но знаешь… я не верю, что ты не связываешь этот личный свой вариант с какой-то, ну, скажем, перспективой… Или это просто уход от противоречий… Тогда можно понять… Ну, поясни же хоть что-то!
Вадим колебался.
— Нет, это не уход… Но, честное слово, у меня всё еще, как чутье… я самому себе еще не всё объяснил, но что это не уход, я уверен…
— Но разве религия не умирает во всем мире, — настаивал Константин, если уже не умерла?
— Есть другое мнение, — осторожно ответил Вадим. — Но поверь, мне трудно говорить на эту тему.
Он беспомощно огляделся по сторонам. Напротив него в стене комнаты, что углом выходила во двор, были видны остатки двери, след давней перестройки дома.
— Смотри, — показал он туда. — Мы знаем, что за этой дверью ничего нет. Там улица. И вдруг, если бы мы ее открыли и обнаружили там зал и еще десятки комнат… Так и тут… Христианство — это целый мир, о существовании которого даже не подозревают…
— Ерунда всё это, — сказал вдруг до сих пор молчавший Павел.
— Едва ли, — возразил Константин.
— Во всяком случае, — как бы подводя черту дискуссии, четко проговорил Андрей, — ясно одно: — с Вадимом мы расстаемся.
— Андрей! — испуганно встрепенулся Вадим.
— Да, — отрубил тот и, обращаясь почти единственно к Константину, спросил резко: — Есть у кого-нибудь другие варианты?
Константин пожал плечами. Коля поднялся с кушетки, подошел к столу, всем своим видом показывая, что у него не может быть никаких вариантов, кроме тех, что предложит «командор». Павел сказал за всех: «Нет вариантов», тем самым предоставляя слово Андрею.
Вадим сидел у окна в конце стола. Павел ближе к Андрею. Андрей обошел Павла, подошел к Вадиму. Лицо у Андрея было торжественно и строго. Вадим растерянно поднялся со стула.
— Вадим! — обратился к нему «командор», протягивая руку. — Спасибо тебе.
Смущенный и недоумевающий, Вадим принял руку Андрея.
— Ты был первым, кому я несколько лет назад высказал предложение создать организацию. Ты был верным товарищем. Наши пути расходятся. Поверь, я расстаюсь с тобой без упрека с моей стороны, надеюсь, и с твоей стороны упрека не будет.
Всё это было сказано не без некоторой театральности, но только для тех, кто мог бы со стороны наблюдать и слушать. Достаточно было взглянуть на Колю-хозяина, у которого в этот момент задрожали губы, а глаза стали большущими и влажными, чтобы понять особенность стиля взаимоотношений друзей, чтобы поверить в безыскусственность кажущейся патетики.
Вадим почти крикнул, вырвав руку:
— Ты что же, прогоняешь меня! Я же не отказываюсь…
Но «командор» не дрогнул:
— Твой вариант расходится с моим.
— Андрей! — пытался перебить его Вадим.
— Да. Расходятся. Несовместимы. Ты меня знаешь, напрасно не скажу. И ты уйдешь сейчас. Мой принцип — лишнему лишнего знать не надо.
— Я — лишний! — почти со слезами повторил Вадим.
— У тебя свой вариант, Вадик, — неожиданно мягко сказал Андрей, — ты проверь его, если не оправдается, ты скажешь мне об этом.
И помолчав, добавил хмуро:
— Если к тому времени я сам буду в своем варианте.
Он снова протянул руку Вадиму, но тот не шелохнулся. Андрей взял его за рукав.
— Через пару дней я зайду к тебе. И мы еще потолкуем. Уходи, Вадик.
Вадим вздрогнул.
— Я уйду, — сказал он, не глядя на Андрея. — Но ты что-то делаешь неправильно, потому что я чувствую себя предателем. А это не так.
Андрей сам взял его руку, крепко сжал.
— Это не так! — Добавил нехотя: — Если ты действительно нашел свой вариант, поверь… я тебе завидую.
Вадим освободил руку и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Друзья слышали, как он быстро спускался с лестницы. На некоторое время в комнате наступила тишина, как вдруг раздался торопливый, нервный стук. Коля переглянулся с Андреем, пошел открывать. На пороге стоял Вадим.
— Храни вас Бог! — сказал он еле слышно и бросился вниз по лестнице.
Коля еще бы долго стоял с открытым ртом, но Андрей крикнул:
— Дверь!
— Ну и дела! — процедил Павел, барабаня пальцами по книжке.
Андрей взял стул Вадима, перенес его на свое место. Сел. Коля подтащил еще стул и тоже сел у стола. Все чувствовали себя погано и с облегчением вздохнули, когда Андрей начал говорить. А говорить он начал неуверенно, странно как-то, подыскивая слова, задумываясь над сказанным. Не узнавали друзья «командора», но слушали внимательно, может быть, чтобы избавиться от неловкости после всего, что произошло.
— Я сказал уже, что дальнейшая наша возня с листовками и прочее… всё бессмысленно. Что-то мы не понимаем в ситуации и получается, что мы ее насилуем… В сущности, что мы знаем? Что власть, которая претендует на идеал, преступна. Мы узнали это не из секретных документов, а из источников, всем доступных. Но реагируем почему-то только мы… Вот это «почему-то» нам, видимо, не разгадать. А не реагировать — не можем. Не можем ведь, так я говорю?
— Валяй дальше, — буркнул Павел.
— Понимаете, между нами и всеми есть какой-то разрыв… Во времени или пространстве, не знаю. Только я знаю точно, что убивали людей, я знаю, что есть люди, которые убивали…
Андрей умолк на мгновение. Константин пристально смотрел ему в глаза.
Андрей поднялся, прошелся по комнате, остановился в углу.
— Так вот, я считаю, единственное, что мы делать вправе, это — карать убийц!
— Как это — карать! Убивать что ли?! — ахнул Павел.
— Нет, не убивать, — твердо ответил Андрей, — а именно карать!
— Именем народа, — не без иронии подсказал Константин.
Но Андрей быстро подошел к нему, наклонился:
— Нет, Костя, как раз нет! Ты читал Киплинга, помнишь! Как там?
Константин пожал плечами, припоминая, что именно. Вопросительно произнес две строчки:
— Нет! Нет! — перебил его Андрей. — То есть это, только дальше.
Константин подумал еще и уже уверенно, при этом, правда, будто заново вслушиваясь в знакомые слова, продолжил:
— Вот! — рубанул Андрей. — Вот! Отвечая головой. Ничьим именем, кроме своего! Так получилось, что мы не с царями и не в толпе. Известно, что за правду толпа растаптывала, а цари казнили. Часто это происходило одновременно. Похоже, что мы живем именно в такое время. И мы можем и должны действовать только от своего имени и быть готовыми ответить за это головой. Таков мой вариант.
Он сел. Но вскочил Павел.
— Подожди! Я всё-таки не понял. Как ты собираешься их карать?
— Смертной казнью, Паша, — печально пояснил за Андрея Константин.
— Убивать! — в ужасе произнес Павел.
— Ничего себе вариантик! — ошеломленно пробормотал Коля-хозяин.
Андрей молча смотрел на мечущегося по комнате Павла.
— Чем ты собираешься карать? — вполусерьез шепнул Константин.
— Вопрос второстепенный, — отрезал Андрей.
— Это точно, — с улыбкой согласился Константин и начал ковыряться в ободке часов.
— Слушайте, ребята! — взмолился Павел, разлохмачивая свои рыжие вихры. — Подумайте, о чем говорите!
Он обращался к Андрею и Константину одновременно. Коля был не в счет. Он, казалось, вообще выключился и только таращил глаза то на одного, то на другого.
— Листовки, демонстрации, пропаганда — я понимаю! Но убивать! Это же…
— Убивают людей, — холодно, почти враждебно отпарировал Андрей, — а карают убийц!
— Но это же только слова!
— Короче! — зло бросил Андрей.
Павел подошел к нему вплотную.
— Нет, Андрей, короче не будет! Не в фантики играть предлагаешь.
— Ты не прав, Андрюша, — сказал Константин.
— В чем? — резко повернулся Андрей.
— Сколько времени ты думал над этим вариантом?
— Два месяца, — четко ответил Андрей.
— А нам не даешь и пяти минут?
Андрей поиграл желваками.
— Хорошо. Сколько вам надо времени, чтобы подумать?
— Смотря кому, — спокойно ответил Константин. — Спроси каждого.
— Спрашиваю. Сколько времени нужно тебе, чтобы подумать?
Таким же невозмутимым тоном, так же ковыряясь в часах, Константин сказал:
— Мне хватит того времени, пока ты будешь спрашивать остальных.
Андрей внимательно смотрел на него, точно пытался уловить что-то в интонациях или поведении друга. Обратился к Павлу.
— Сколько тебе нужно времени?
Павел стоял против него нахохлившийся, решительный.
— Если ты уже всё решил и не хочешь обсуждать, то мне нисколько не нужно времени! Убивать я не буду!
— Так.
Они смотрели друг другу в глаза. Взгляд Андрея смягчился.
— Я знал, Паша, что мой вариант не всем подойдет, и допускал, что не подойдет никому.
Едва ли «командор» был искренен в эту минуту. Но продолжал:
— Не сердись! Каждому свое. Спасибо за прошлое!
Он протянул руку Павлу. Тот сразу скис.
— Андрей, пойми…
Но тот перебил его.
— Не нужно. Расстанемся друзьями! Извини, что напоминаю про клятву.
— Само собой, — пробормотал Павел, опуская глаза.
Сложив руки на груди, Андрей подошел к Николаю.
— Ну а ты?
В этом вопросе не только не было надежды, но даже саркастически прозвучал сам вопрос.
Коля развел руками, пожал плечами, покрутил головой и сказал неожиданно для всех:
— Я как ты… Ну с тобой, значит…
Андрей не сумел скрыть удивления и даже руки опустил.
— Это что, серьезно?
— Куда ты лезешь, дура мамина! — заорал на него Павел.
Коля скосился в его сторону.
— Если ты боишься, так молчи!
— Я боюсь… — растерялся Павел. — Я не боюсь. И… по крайней мере, это не главное. — Он вдруг начал заикаться. — Андрей, честное слово, дело не в этом! Ты веришь мне! Я не хочу никого убивать! Никого! Понимаешь!
— Верю! — ответил Андрей. — Даю тебе честное слово, что верю. — Он повернулся к Коле, с любопытством разглядывая его. — А ты, однако, чудной парень! — Коля глуповато и счастливо улыбался. — Не программированный! Всё же подумай еще.
— Подумал, — буркнул Коля.
— Ну смотри!
Андрей подошел к столу, сел напротив Константина.
— Что скажешь, Костя?
Константин улыбнулся.
— Чего ж! Я — как Коля.
— Как я? — изумился тот. — Я с Андреем!
И поняв шутку, расхохотался.
Теперь все трое смотрели на Павла, который сидел на кушетке, уронив голову на руки.
— Нет, — прошептал он, — не могу. Если сейчас поддамся, потом жалеть буду.
Встал, подошел к Андрею.
— Прости, Андрей. Это не по мне!
— Прощай, — подал руку «командор».
Когда затихли шаги на лестнице, Андрей сказал:
— Итак, нас осталось трое! Это даже больше, чем я ожидал.
— Три мушкетера! — подхватил Коля. — Андрей, конечно, Атос, Костя Арамис! А я? Он жалобно посмотрел на друзей.
— Да, — сочувственно заметил Костя, — на Портоса ты как-то не тянешь!
Они долго смеялись, все трое. Смех был нервный.
Андрей взглянул на часы.
— Приступим?
Сели друг напротив друга.
— Есть такое место, Лемболово, знаете?
Кивнули. Андрей достал из внутреннего кармана пиджака тетрадь.
— Живет там один человек, Михаилом Борисовичем Колчановым именуется. Вот досье на него. Показания четырех человек. Записал со слов. Прищемлял пальцы, прижигал губы спичками, бил ногами, пытал голодом, таскал за волосы женщину — и прочие подвиги. Сейчас подполковник на пенсии. Заядлый цветовод.
— Семья есть? — осторожно спросил Константин.
— Ну и что? — ответил Андрей. — У тех тоже были семьи.
— Конечно… Это я так. Интересно, какие у него потомки.
— Не знаю. Можно поинтересоваться, — неуверенно предложил Андрей.
— Да ну их!
— А как…? Чем? — спросил Коля.
— Нам нужен всего один пистолет. И через… — Андрей взглянул на часы, — через четыре часа мы будем его иметь!
Снова полез в карман, достал лист бумаги, сложенный вчетверо, распрямил, положил на стол.
— Смотрите. Это Суворовский, это Старо-Невский, это 2-я Советская. Узнаёте? Вот из этого дома в одиннадцать или около этого выйдет участковый. Он пойдет сюда… Здесь поворот. Тут мы его и возьмем!
— Как возьмем? — испуганно спросил Коля.
Андрей усмехнулся.
— Не бойся, убивать не будем. Удар в солнечное, пистолет из кармана… три минуты пробежать двором вот сюда… дальше в разные стороны. Я с пистолетом к автобусу. Если его не будет, хотя должен быть, тогда напроход на Старо-Невский. Встретимся завтра здесь. Вот и всё. Срыва не должно быть. Я месяц всё это вынюхивал. А теперь небольшая репетиция…
Когда расходились, Андрей задержал Константина у подъезда.
— Костя, скажи, ты действительно всё обдумал или просто пошел за мной? Только честно.
Константин вздохнул.
— Если честно, то… просто пошел за тобой.
У Андрея погрустнели глаза.
— А что мне оставалось делать, Андрюша! Мой дорогой папаша, ты знаешь, партийный босс, и не вчера он им стал. Значит причастен. Да и сам я комсомольский активист… Как-то я должен искупать семейную пакость.
— Но ты-то можешь отказаться… Не силой тянут. Извини, я верил тебе и никогда не говорил на эту тему.
Константин прислонился спиной к стене, запрокинул голову.
— На факультете меня называют идеалистом. Жалко, Андрюша, расставаться с идеалом! Такие хорошие и красивые слова! Ведь не может же быть, что всё ложь! Сотни поколений… миллионы жертв… Разве может зло принимать такую соблазнительную форму! Взгляни на историю — сплошная ненависть и вражда. Коммунизм — это идея братства, всечеловеческого братства…
— А что получается? — мрачно вставил Андрей.
— А, может быть, просто не получается? И если нет мечты, нет идеала, для чего жить! Вот Вадим нашел вариант. Бог! Тебе это о чем-нибудь говорит?
Андрей махнул рукой.
— И для меня тоже это только символ несостоявшегося идеала. Может быть, я чего-то не знаю… Послушай, давай как-нибудь сходим, поищем умного священника, послушаем их аргументацию!
— А есть ли они, умные? — усмехнулся Андрей.
— Должны быть! Были же раньше.
— Посмотрим, может, и сходим… Хотя, откровенно говоря, меня это не вдохновляет.
— А все же любопытно… Что же до моей активности, — продолжал грустно Константин, — то получается, что я попутно проверяю идею отрицанием и утверждением… Ты же не осуждаешь меня.
— Нет.
— Ну и хорошо. А на остальных мне наплевать!
Андрей вдруг хлопнул его по плечу, отошел на шаг, оглядел с головы до ног, рассмеялся:
— На вид — стиляга, официально — активист, неофициально — подпольщик! И впрямь — святая троица!
Константин ответил серьезно:
— Да, я понимаю, в этом есть что-то противоестественное, может быть, даже аморальное…
— Чепуха! — оборвал его Андрей. — Вот я уверен, что ты никогда не предашь, а более ценного человеческого качества я не знаю.
Они пожали руки и разошлись до вечера.
2. Осечка
В десять вечера Андрей сидел на скамейке в маленьком парке на Суворовском проспекте. Сидел, закинув руки на спинку скамьи в позе молодого бездельника, которому даже на прохожих смотреть лень. Чувствовал себя на удивление спокойно. Даже ни тени волнения. За месяц он многократно представлял себе всё, что должно было произойти через час, и была абсолютная уверенность в удаче. За три года ему приходилось осуществлять и более дерзкие операции.
Был теплый июньский вечер. С Невы потягивало прохладой. Где-то приемник не очень громко выхлопывал итальянские ритмы.
У скамейки, чуть покачиваясь, появился «интеллигент». Посмотрел на Андрея и плюхнулся рядом.
— Млеешь? — спросил он.
— Что? — не понял Андрей.
— Млеешь, говорю?
Андрей враждебно покосился на него.
— Созерцаешь проходящих женщин?
— Точно! — с откровенной злобой ответил Андрей.
— Не ершись! — упрекнул «интеллигент». — Созерцать женщин — самое благородное занятие для мужчины!
— Самое? — переспросил Андрей, явно задираясь.
— Если без похоти, — ответил «интеллигент», не обращая внимания на тон Андрея. — Женщина — это главное чудо мира! Это его самая непостижимая тайна!
— Самая? — сбросив агрессивность, спросил Андрей.
— Тсс! — «интеллигент» наклонился к Андрею. — Смотри! Смотри!
Мимо проходила молодая пара.
— Смотри на нее! На него не смотри! Он глуп в своем самодовольстве. Смотри на нее!
— Смотрю, — согласился Андрей, действительно рассматривая красивую, улыбающуюся девушку, которой что-то нашептывал парень.
— Ну! — накинулся на Андрея незнакомец, когда парочка прошла мимо.
— Ну? — ответил Андрей.
— Что ты видел?
— А ты?
«Интеллигент» отстранился от Андрея, презрительно окинул его взглядом.
— Тупица! — сказал он.
«Надвинуть ему шляпу на нос?» — подумал Андрей, но не шевельнулся.
— Ты сейчас видел улыбку счастливой женщины! — провозгласил незнакомец.
— Ну и что?
— А знаешь ты, что такое улыбка счастливой женщины?
Андрей развел руками.
«Интеллигент» снова пододвинулся к нему.
— Слушай и постигай! Улыбка счастливой женщины — это проявление, это мгновение мировой гармонии! Улыбка счастливой женщины — это осуществление мировой гармонии! Слушай! Люди ломают голову над тем, что такое истина, справедливость, правда… Вот ты знаешь, что такое «правда»?
— Не знаю! — с любопытством усмехнулся Андрей.
— А истина? Во! А ведь хочешь знать! Я скажу тебе!
«Интеллигент» почти повис на Андрее.
— Истина — это улыбка счастливой женщины!
— И всё? — иронически заметил Андрей.
— Всё! — торжественно ответил философ. — Она же есть правда и справедливость! Она же есть и высший смысл бытия! Знаешь ты, почему в мире всё так неладно?
— Не знаю!
— Потому, — палец философа качался у самых глаз Андрея, — потому, что мужчины устраивают мир во имя свое! А всё проще, но и труднее! Мир надо устраивать во имя женщины! И счастливая улыбка женщины — высший и единственный критерий действия!
Он наклонился к самому уху Андрея.
— И революций не надо! Тсс! И на душу населения… не надо!
Он захихикал и закашлялся. Пальцем стукнул Андрея по груди.
— Мы, мужчины, твари, отчужденные от мирового смысла! Выпали, да! Сами по себе! Женщина — в самом венце его! Статистика чем занимается? Чушь! А надо? Провели мероприятие, подсчитали счастливых, сравнили! Плохо? Хорошо? Философы, политики о чем пишут? А надо сравнить и выбирать! А что выбирать и сравнивать?
— Улыбки счастливых женщин! — подсказал Андрей.
— Только! Только! — резюмировал «интеллигент».
— Ну, что ж! Это тоже вариант! — усмехнулся Андрей и увидел приближающегося Константина. — Когда власть потерпит фиаско и призовет тебя на помощь, присоединюсь!
— Циник! — буркнул презрительно тот вслед уходящему Андрею.
С Константином они прошли к концу сквера. Там уже топтался Коля. Андрей взглянул на часы:
— Порядок! Пошли!
Старинный петербургский дом арочной колоннадой выступал к углу, заглотнув тенью кривой треугольник перекрестка. От одиннадцати до одиннадцати тридцати углом прошло человек десять. Не те. Андрей на другой, освещенной стороне стоял как вкопанный, ничем не выказывая беспокойства. Но вот он подал условный знак. Быстро перешел перекресток, и там они заняли позицию, заранее обдуманную Андреем. Когда милиционер поравнялся с ними, Коля и Константин одновременно схватили его за руки, а Андрей в то же мгновение ударил его снизу в солнечное сплетение. Милиционер охнул и повис на руках у всех троих. Андрей рванул френч, рубашку, так что затрещали швы, из-под мышки, из самодельной кобуры выхватил пистолет. Коля и Константин отпустили милиционера, и он со стоном сполз на тротуар. Андрей сунул пистолет во внутренний карман пиджака, но тут же, вскрикнув, пластом рухнул на спину. Милиционер остервенело выкручивал ему ногу. Андрей завертелся, пытаясь вырваться или хотя бы спасти ногу от перелома.
— Что стоите! — закричал он остолбеневшим напарникам. Они кинулись на милиционера, пытаясь оттащить его, но тот не отпускал ноги Андрея, хотя крутить и перестал. Андрей изогнулся. Рука сама потянулась к пистолету. Перехватив его за ствол, Андрей резко, наотмашь ударил и попал по руке Коле. Коля вскрикнул и отпустил милиционера, который тотчас же воспользовался этим и боднул головой склонившегося Константина. Удар пришелся в челюсть, Константин отшатнулся, оступился с тротуара и упал. Но в это же мгновение Андрей, вновь изогнувшись, рискуя поломать вывернутую ногу и чуть не теряя сознание от боли, наотмашь ударил уже пытавшегося подняться милиционера. Андрей не только услышал, но рукой почувствовал хруст. Дальше всё прошло по плану.
Встретиться они должны были в пять на квартире. Но в перерыве после второй лекции в коридоре напротив аудитории Андрей увидел Колю. Быстро спустившись по лестнице, у выходной двери Андрей резко повернулся, и Коля, еле поспевавший за ним, чуть не налетел на него. Андрей был в бешенстве.
— Ты зачем здесь! Кто разрешил!
Коля испуганно смотрел на него.
— Ну! — прошипел Андрей.
— Знаешь, — еле выговорил Коля, оглянувшись, сглотнув слюну, — ты… мы… это… в общем убили мы его…
Злость на лице Андрея сменилась угрюмостью. Глядя Коле прямо в глаза, он ответил устало:
— Знаю.
— Откуда? — прошептал Коля.
— Я знал это еще вчера.
Пухлые Колины губы задрожали. Он швыркнул носом, отвел глаза.
— Это я! Понял! Вы ни при чем!
— Да я ничего… — начал оправдываться Коля.
— Кончай! — оборвал его Андрей. — Позвони Косте, что встреча отменяется. Приведите в порядок одежду. Чтоб никаких следов! Если будет что-нибудь новое, — связь через Костю. Никаких встреч!
Добавил уже другим голосом:
— И постарайтесь не хныкать! Духом не падайте! Произошла осечка. Но мы с лихвой искупим! Понял!
Не очень уверенно Коля кивнул головой.
— Всё.
Когда Андрей пожал ему руку, Коля скривился.
— Чего ты, — спросил, нахмурившись, Андрей.
— Руку… Ты вчера мне по ней саданул, — как бы оправдываясь, объяснил Коля. Задрал рукав пиджака и рубашки. Показал: ниже локтя большой синяк. Трогать больно, — виновато сказал Коля.
— Сходи к врачу, может, трещина.
— Да нет, зашиб просто. Трещина была бы — рукой не шевельнул бы. В детстве было такое… — почему-то радостно затараторил Коля.
— Ну ладно, уходи. Да носа не вешай!
Коля убежал.
Андрей поднялся наверх, зашел в аудиторию, взял тетради. В дверях столкнулся с деканом, но даже не поздоровался, прошел мимо. Декан удивленно посмотрел ему вслед.
На улице долго о чем-то раздумывал. Потом достал деньги, пересчитал. Свистнул проходящему такси. Сел на заднее сидение. У метро «Нарвская» расплатился. Нашел свободную телефонную будку, набрал номер.
— Вадим, это я. У тебя есть кто-нибудь? Тогда выйди. Есть время? Порядок.
Вадим появился встревоженный.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего, — спокойно ответил Андрей. — Просто захотел увидеть тебя. Поговорить… надо…
— Ну, слава Богу, — облегченно вздохнул Вадим. — Я не ждал твоего звонка… по крайней мере, сегодня. Подожди, я сбегаю, газ выключу. Отец спит.
— О твоем варианте поговорить хочу, — сказал Андрей, когда Вадим вернулся.
Они пошли переулком в сторону от многолюдного проспекта.
Долго шли молча.
— Вот что скажи, Вадим, — наконец решился Андрей, — как ты со своим вариантом в мире зла жить собираешься? Если я правильно понимаю, он начисто исключает борьбу? Праведность для себя — ведь это самовыключение из неправедного мира? В общем расскажи мне о своем варианте. — И осторожно добавил: — Конечно, если можешь. И что можешь.
С каким-то отчаянием Вадим ответил:
— Боюсь!
— Чего?
— Не со мной бы надо тебе говорить! У меня же всё только в чувстве, я еще не всё словами определил…
— Но я же не прошу обращать меня! — возразил Андрей. — Я просто хочу понять тебя. Говори как можешь. Если и не пойму, — ничего страшного! Я не хочу с тобой спорить. Я хочу только послушать тебя.
— Я попытаюсь, — неуверенно ответил Вадим.
Еще некоторое время шли молча.
— Жизнь ведь ничтожна во времени… Так? Но человеку дано понимание вечности. Откуда? Это же парадокс… А бесконечность! Можешь ты себе ее представить? Параметры не нашего бытия!
— По Канту шпаришь! — усмехнулся Андрей.
— По Канту? Нет. Едва ли… Я не читал его. Скучно…
Живо повернулся к Андрею:
— А правда? Истина! Мы с тобой сколько эти слова мусолим! Ведь никто не знает конкретно, что это такое!
— Улыбка счастливой женщины! — улыбнувшись, пробормотал Андрей.
— Что? — не понял Вадим.
— Извини, я так… Продолжай.
— Я хочу сказать, что каждый ищет смысла этих слов, но не находит… А ведь в сознании-то нашем есть, понимаешь, есть понятия правды, истины… Они будто даже не в нас, эти понятия, а над нами, а мы только головы задираем, да на цыпочках тянемся…
— Ты гений, Вадик! — весело рассмеялся Андрей. — Платона ты ведь тоже не читал!
Вадим насупился. Замолчал. Андрей взял его за локоть:
— Больше не буду! Мне интересно, честное слово!
Вдруг закрутил головой.
— Подожди минуту.
Подскочил к какому-то парню.
— Есть закурить?
Парень нехотя достал пачку сигарет, небрежно протянул Андрею.
Андрей попросил спички и, не поблагодарив, вернулся к Вадиму. У того даже горло пересохло от удивления:
— Андрей, случилось что-нибудь?
— Нет, — ответил Андрей, затягиваясь глубоко и с удовольствием. Разве я не имею права вести себя парадоксально?!
Юмора, однако, не получилось, и Вадим с еще большей тревогой смотрел на Андрея.
— Ну, хорошо, — сбивчиво заговорил Андрей, — вечность, бесконечность, правда, истина, добро, зло — параметры чего-то иного, чем мы. Назовем его Богом. Что меняется от этого в нашей жизни?
Вадим пытался было что-то сказать, но Андрей вдруг схватил его за плечо, остановил, заговорил громко и зло:
— А хочешь другую философию! У тебя кошка есть дома? Кошка, говорю, есть?
— Есть, — испуганно ответил Вадим.
— У твоей кошки одна цель — жить. Когда она хочет есть, она мяучит, когда ей холодно, она мяучит. А когда она сытая, что она делает? Мурлычет! А можешь ты мне объяснить, что это такое? В мурлыканье нет жизненного смысла. Это издержки бытия. Так вот слушай, доморощенный Платон, так называемая интеллектуальная жизнь человека, в которую входит и религия, есть мурлыканье высокоразвитого животного! Мурлыканье! Всё! И ничего больше!
— Что ты говоришь, Андрюша! — крикнул Вадим так громко, что оглянулась проходящая мимо женщина с пучками моркови в сетке. — А разум!
— Разум? — вдруг обрадовался Андрей, словно ждал этого вопроса. Разум — это шестое чувство самосохранения. У кошки их пять, у волка пять, а у человека шесть. То, что ты называешь разумом, развилось в человеке в связи с выпадом его из общей системы природы, где достаточно пяти чувств. Гипертрофия этого шестого чувства породила так называемую интеллектуальную жизнь, как обжорство порождает жировые наслоения. Жирному тепло, но он может и задохнуться от жира. Так и человек! Да! Именно так! Разум сохраняет жизнь и губит ее! Булка хлеба и атомная бомба — продукт хитрости-разума! Кошка не контролирует свое мурлыканье, оно непроизвольно. Творчество человека — тоже! Спроси меня еще, что такое искусство, и я отошлю тебя к твоей кошке, которая играет с мышью, когда сытая! Хочешь формулировочку? Искусство — это…
— Не надо, Андрей!
— Надо! Боишься! А может быть, я говорю тебе ту единственную правду, которую человек не только боится, но и не хочет знать! О чем я? А! На-ка, проглоти! Искусство — это побочная функция нормально функционирующего живого организма! Каково! Эта функция присуща всем живым существам в соответствии со степенью их развития!
— А поэты, умирающие от чахотки!
Вадим покраснел от волнения.
— Например, кто? — злорадно спросил Андрей.
Вадим растерялся.
— Чахоточники и язвенники, Вадик, занимаются политикой, самым гнусным вариантом мурлыканья! Или тебе еще рассказать про комплекс неполноценности, чтобы ты не вспомнил про слепого Гомера и горбатого Эзопа! Человечество живет по тем же законам взаимопожирания и самовыживания, что и весь мир, идея же Бога, как и все прочие идеи — это опыты коллективного самоконтроля, попытки регулирования взаимопожирания!
Сигарета сама догорела в его руке, он еще попытался затянуться, но обжег пальцы, отшвырнул окурок. Он упал к ногам мороженщицы, она что-то закричала им обоим. Вадим поспешно затянул Андрея за угол, там они свернули в арку большого дома, вышли во двор, остановились. Во дворе никого не было.
Андрей успокоился, снова стал самим собой, в глазах погасла лихорадочность, движения стали сдержанными, лицо застыло в привычной маске твердости и уверенности. Таким знал его Вадим. Почти таким. Что-то новое появилось в глазах «командора». Новое было тревожным. Не добрым. Иначе не приковывало бы взгляда…
— Понимаешь, Вадик, — уже спокойно сказал Андрей, — я не вижу аргументов против того, что наговорил тебе. Хотел послушать тебя, а разболтался сам… Этот разговор был не нужен вовсе.
Вадим ответил ему с грустной уверенностью:
— У тебя что-то случилось. Серьезное? Не хочешь говорить, не нужно. Только… если это то, что я думаю…
— Ну, — разрешил Андрей.
— Ты остался один…? Я имею в виду твой вариант…
— Нет, я не один, — сказал Андрей, и тон означал, что тема исчерпана. — Я уезжаю. Надолго. Кое-кто из наших, возможно, тоже уедет. Постарайся с ними не встречаться. Так надо.
Вадим робко спросил:
— Чем-нибудь я могу… помочь тебе?
Андрей помолчал.
— Можешь. Новый телефон Ольги у тебя есть?
Вадим торопливо рылся в записной книжке.
— Есть. Записывай.
— Говори.
Вадим вспомнил, что Андрей никогда не записывал телефоны. Это была часть его системы.
Оба они расстались с предчувствием, что виделись последний раз.
Минут пятнадцать стоял Андрей у телефонной будки, пропустил очередь раз пять. Затем вошел. Набрал номер. Телефон Ольги был занят. Он повесил трубку и пошел прочь.
3. Телефоны
Прошло пять дней. На шестой вечером в квартире Константина зазвонил телефон. Сначала его никто не услышал, так было шумно. Потом девица в голубом платье пропищала:
— Костик, да телефон же!
Константин вышел в коридор. Снял трубку. Вяло ответил.
— Костя, это я, привет!
— Коля?
Обрадованный, что узнан, Коля захихикал.
— У тебя ничего?
— Ничего, — ответил Константин.
— У меня тоже… всё тихо.
Коля покашлял в трубку. Разговор не клеился.
— Знаешь, я сидел, сидел в своей комнате, что-то тошно стало.
— Откуда звонишь?
— Из будки. На углу которая. Я тебе помешал?
— Да нет…
Коля усиленно сопел в трубку.
— Слушай, Кость, если я спрошу, ответишь честно?
— Спрашивай, — сказал Константин, вздохнув.
— Ты… это… ну… ведь презираешь меня? Да?
— Чего? — изумился Константин.
— Ты не отпирайся, Костя! Я знаю! И вообще, это правильно…
Константин закричал в трубку:
— Ты чего там мелешь! Выпил?
— Нет! Честное слово, нет! — заоправдывался Коля. — Ты только подожди, не бросай трубку, я хочу сказать, поговорить… по-другому-то ведь не получится, по телефону только… А я не выпивал, честное слово! Мне нельзя выпивать, у меня язва двенадцатиперстной кишки… Спирт только можно немного. А где его возьмешь… Дорогой… А вина нельзя, сразу кишки резать начинает… и острого ничего нельзя… огуречный рассол, например, вкуснятина, а нельзя.
Коля тараторил.
— У тебя язва? — рассеянно спросил Константин. — Я не знал…
Наверное, никто не знал.
— Слушай, Костя, — продолжал Коля торопливо, словно боялся, что не успеет сказать, что его не дослушают… — Знаешь, я думал, что не люблю тебя! Правда! Я так думал! А вот сегодня сидел и понял, что я просто завидовал, как самый последний подонок завидовал… Я тебе всё скажу, понимаешь, мне надо сказать… Помнишь, юбилей наш отмечали, ты колбасы принес, я такой в жись не видел… сервилат называется. У меня потом всю ночь кишка болела, я еще выпил тогда… за юбилей… И я тебе завидовал… У тебя костюмы всякие… и я тоже завидовал. Я когда один, учился говорить, как ты, ну так, с юмором, у меня ничего не получалось, и я тоже завидовал… Ты этого не знал, но ты презирал меня… и правильно! Я подонок… был…
— Подожди, Коля, подожди! — пытался остановить его Константин, стараясь справиться с чем-то досадным в себе, что появилось захватило, жгло…
— Нет, нет, я еще не всё… Когда Андрей вариант свой сказал, я испугался, но я назло тебе согласился… Нет, не так… Я думал, ты не пойдешь. Я себе сказал: «Он не пойдет, а я пойду!» А ты тоже… Мне, честное слово, стыдно! Потом ты говорил, что в комнате свинство… Это ты правильно. Человек всегда должен быть аккуратным, но ведь, понимаешь, я еще в кочегарке работаю, сорок восемь часов в неделю. Накидаешься лопатой, придешь, руки не поднимаются, и зубрить надо… Не, я не оправдываюсь… то есть я пытаюсь оправдаться, чтоб ты понял… Знаешь, я решил, если всё… ну… пройдет хорошо, я по-новому жить буду! У нас теперь неизвестно как будет, так я решил… чтобы на душе чисто было, вот… Он снова засопел в трубку.
— Ты всё сказал? — голос у Константина дрожал. — Теперь я скажу. Слушай! Ты отличный парень, понял! А я всего-навсего пижон! Сытый пижон! Я не презирал тебя, но я был хамом! Если всё пройдет, мы будем друзьями! Ты веришь мне? Алло!
— Кость! Что мы натворили! А!
Эта фраза прозвучала так, что у Константина мурашки по спине пробежали.
— Да, — глухо ответил он. И вдруг впервые отчетливо понял весь смысл случившегося, и еще — что не обойдется! Что с того вечера жизнь его поделена надвое, и в середине — пропасть. И возврата нет! Еще ему показалось, что на том конце провода очень близкий ему человек, очень нужный ему человек…
— Слушай, Коля, — сказал он торопливо и взволнованно, — давай приезжай ко мне! Хватай такси и езжай! Есть у тебя на такси?
Коля сопел.
— Не надо, Костя.
— Почему? Чего ты?
— Всё будет не так. По телефону лучше. Давай лучше еще поговорим!
— Зря ты! Я бы всех разогнал, и посидели бы вдвоем!
— А кто у тебя? — спросил Коля с детским любопытством.
— Да гости… Три девицы высоких папаш, несколько перспективных аспирантов и один известный музыкант…
— Ух ты! — восторженно прокомментировал Коля. Затем застонал: — Вот видишь, я опять завидую! А чего они делают?
— Сейчас? Сейчас одна дева, закатив глаза, нашептывает Пастернака.
— Декадентка? — спросил Коля серьёзно.
— Нет, — пояснил Константин, — ей замуж нужно.
— Конечно, чего одной-то жить!
— Что? — переспросил Константин.
— Я говорю, понять можно. Каждой женщине детей охота иметь, и чтоб семья…
— Коля, у тебя есть враги?
— Какие враги? Если… ну, ты же знаешь…
— Нет, личные враги, я имею в виду. Есть кто-нибудь, кого ты ненавидишь?
Коля недоуменно хмыкнул.
— Не знаю… Мне зла никто не делал… Больше сам по глупости всегда…
— А девушка у тебя есть?
Коля замолчал. Константин с грустью сказал:
— Как же так получилось, что мы три года дружим и ничего не знаем друг о друге?
Коля молчал. Потом сказал печально.
— Ну, пока, Костя!
Тот испугался.
— Ты что, Коля! Обиделся…
— Нет, нет, — залопотал он, — замерз, в рубашке выскочил. Я еще позвоню, Костя!
— Звони! Слышь, обязательно звони!
— Ну, пока…
Телефон запищал. В гостиной известный музыкант играл Шопена.
В тот же вечер и в то же время состоялся другой телефонный разговор.
Вадим долго пробивался к Ольге. Телефон был занят. Наконец, ответила.
— Бессовестный, — сказала она ему грустно.
— Оля!
— Конечно, я знаю. Я всегда была для тебя приложением к Андрею. А перестав ею быть, перестала существовать! Через полгода чего же ты вдруг вспомнил обо мне?
Чертовски неприятная правда была в ее словах.
— Мне нечем оправдаться! — сказал он очень искренне.
— Поздравь меня, Вадик, я кончила училище.
— Поздравляю!
— Спасибо. Еще поздравь.
— Ну?
— Я поступила в консерваторию.
— Ты молодец, Оля!
— Видишь, как удачно и счастливо устраивается моя жизнь! Так что же ты позвонил мне? Впрочем, можешь не говорить, я знаю.
— Не знаешь.
— У Андрея что-то не так? Ему плохо? Верно?
У Вадима язык отнялся. Она горько усмехнулась.
— Вы почитаете себя сложными, многоплановыми натурами, вы носитесь со своей сложностью, как… Господи! У вас же всегда одна и та же константа эгоизм! Ну, говори же, эгоист, что случилось с твоим другом, эгоистом трижды и без предела!
Она говорила спокойно или старалась говорить спокойно. И всё же Вадим чувствовал, что разговор ей не безразличен. Так и должно быть, он ведь много знал! Но как сказать ей и что сказать!
— Ты права, Оля, ему плохо. Но, конечно, я звоню по своей инициативе.
— Ясное дело! Андрей умеет подбирать чутких друзей!
— Не нужно так говорить о нем, Оля, ты…
— Но можно! — перебила она его. — Андрей — дурной человек! Да! Молчи! Я имею право это говорить! Ну, подумать только! Как много вокруг лучше него, мизинца которых он не стоит! Сколько добрых и благородных людей, любить которых — было бы счастье, твердое, уверенное счастье! Почему же всё так дурацки устроено в жизни? Ты умный и рассудительный, скажи, почему? Впрочем, скажи лучше, что с Андреем!
— Кроме того, что ему плохо, я ничего не могу тебе сказать. Поверь, я сам не знаю!
Она ответила ему с досадой:
— Раньше ты не лгал, Вадим!
— И сейчас не лгу. Я больше не посвящен в его дела. Кое-что изменилось…
— Разругались?!
В голосе был испуг.
— Нет. Я не могу тебе объяснить, но мы не ругались. Я видел его пять дней назад. Ему было плохо. Он попросил твой новый телефон. Но ты не звонила мне, и я понял, что он тебе тоже не звонил.
— Почему я должна была звонить тебе? — удивилась она. — Ну, конечно, ты прав! Я позвонила бы тебе, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности, ведь от него я бы ничего не услышала! «С женщиной говорят о любви, когда любят, и ни о чем, когда равнодушны. О делах не говорят никогда!» Это тебе знакомо?! Демагог проклятый! Сколько горя он мне принес! Вадик, милый! Скажи, за что ты ему так предан? Ведь он никого не любит! Он, если держится за кого, так только пока тот дышит его воздухом!
— Нет, не так! — горячо возразил Вадим. — Я задам тебе тот же вопрос, за что ты его любишь до сих пор?
Вадим ясней ясного увидел ее лицо и слезы на глазах. И не ошибся. Слезы были в голосе.
— Не знаю! Не знаю! Он измучил меня! Я во сне сколько раз хлестала его по щекам! Но он и во сне мучил меня, и я во сне разбивалась об него, как о стену! Он ни разу не приснился мне улыбающимся или ласковым! Знаешь, Вадим, я уже думала, что может быть, это не любовь, а вариант неврастении. Я к психиатру ходила, Вадик! Он высмеял меня, — такой же толстокожий чурбан! Чего же ты хочешь от меня! — вдруг почти закричала она. — Чтоб я пошла к нему, чтоб он снова чванился передо мной, а потом прогнал! И ты такой же! Только прикидываешься добрым! Разве это не жестоко, звонить мне, когда я, быть может, только в себя пришла?! И всё снова? Разве не жестоко толкать меня на унижение! Как ты можешь! Ты такой же, как он! Эгоисты проклятые!
Она бросила трубку на стол. Вадим слышал ее рыдания, молча кусая губы.
Прошло больше минуты. В трубке зашуршало.
— Прости, Вадик! Я становлюсь кликушей.
Она всхлипывала, шмыгала носом.
— Оля, я всё понимаю, но, честное слово, я почему-то уверен, что рано или поздно у вас будет всё хорошо…
Она отвечала, всё еще всхлипывая.
— Поздно хорошо не бывает! Поздно — значит поздно… Это только плохо! Боюсь, что поздней уже некуда! Я не пойду к нему, не проси! Будь он проклят!
Вадим говорил мягко, но убежденно.
— Оля, таких, как Андрей, мало. Я лично не знаю никого. Когда-нибудь ты это поймешь. И еще я знаю, что он любит тебя.
— Нет, Вадик, — устало ответила она, — он никого не любит. И меня. Я бывала ему нужна… и всё. Я не пойду к нему!
Вадим помолчал.
— Хорошо, не ходи. Но обещай мне, что если он придет сам, ты будешь терпелива! Поверь, я знаю его много лет. Таким видел впервые!
— Все только о нем и о нем! А на меня тебе наплевать!
— Ну, не нужно так! — уговаривал он ее. — Я к тебе очень хорошо отношусь! А что не звонил, ну, ты только подумай сама, что мог я сказать тебе?
— Что? — с обидой закричала она. — Что сказать! Да хотя бы, что он жив, что здоров, что не попал под трамвай, не подрался с милиционером, что его не выгнали из института, что он есть на свете еще, подлый он человек! Сказать тебе нечего было! Эх, ты!
И она бросила трубку.
К Константину пришли утром, назавтра после Колиного звонка. Отец с матерью уже уехали на работу. Немного позднее Константин подумал, что в этом смысле ему повезло. Он не увидит их шока.
Пришли пятеро. И еще понятые. Предъявили ордер на арест и обыск. Константин держался спокойно. Оказалось, что он внутренне готов… Покоробило, когда обшаривали, когда рылись в личных вещах, в бумагах. Когда осматривали сервант, уловил недобрую ухмылку в лице сотрудника. Признал ее справедливой. И действительно, к чему семье из трех человек семь наборов рюмок и бокалов! И все прочие сервизы! И фарфор в бессмысленном количестве…
Битком набитый холодильник тоже вызвал хмурое движение бровей. Вполоборота к Константину один спросил его:
— Чего не хватало? А?
— Птичьего молока! — ответил другой, шаривший в гардеробе.
В этот момент Константин позавидовал Коле. Тот при обыске сможет спокойно смотреть всем этим в глаза. Подумал: «Как Коля? Тоже уже?» Удивился, что его совсем не интересует, как до них добрались. Еще оказалось, что другого исхода он и не ожидал. В каком-то смысле даже будто легче стало.
Подумал об институте, как о чем-то очень далеком в прошлом. Мир словно замкнулся этой комнатой, где сновали чужие, враждебные люди, за стенами же словно пустота образовалась и отделила его от всего прочего, потускневшего, помельчавшего, ставшего чужим. Из окон доносился шум уличного движения, но воспринимался, как падающая звезда, без всякого отношения к нему, Константину, тоже не то уже не живущему, не то спящему, не то бредившему наяву… Взглянул на часы. Захотелось их остановить. Но остановить нельзя. Пружина должна раскрутиться до конца. Подумал — разбить? Бравада! Вспомнил, что у Коли часов не было. Он надоедал, спрашивая время. А в столе лежали еще одни часы — подарок отцовского друга-сослуживца. Стыдно стало. Да! Ему было бы совсем спокойно, если бы не это ощущение стыда, что возникало с каждым воспоминанием. Подло жил? Может быть, не подло — легкомысленно! Как канарейка!
— Отвечать надо, когда спрашивают! — раздался над ухом грубый голос.
— Слушаю вас, — спокойно ответил он.
— Документы где? Паспорт?
Константин пытался сосредоточиться, вспомнить, где может быть паспорт.
— Под вазой, наверное…
Он, забывшись, поднялся, чтобы достать…
— Сидеть!
Он сел. Улыбнулся:
— Зачем же вы спрашиваете? Если обыск, так ищите!
Старший подошел к нему, сказал тихо:
— Вам бы воздержаться от остроумия. С уголовным кодексом знакомы?
«Причем здесь „уголовный“? — подумал Константин. — Другого-то, наверное, и нет».
— Вы можете сейчас дать показания. Сами написать. Очень советую. В ваших интересах.
«Господи, как пошло!» — подумал он. Усмехнулся:
— Не надо.
— Ваше дело. Подумайте о родителях! Известные люди!
И в это время зазвонил телефон!
Константин даже головы не повернул. Зато все пятеро уставились на него. Тот, старший, подскочил к нему, наклонился, схватил за плечи, зашипел:
— Парень, это твой единственный шанс! Другого не будет! За убийство вышка! Шанс, говорю! Бери трубку, если это твой соучастник, зови сюда, говори — срочно чтоб приехал! Понял! Единственный шанс! Если жить хочешь! Ну!
Он рывком вырвал Константина из кресла, почти потащил к телефону. Константин не сопротивлялся. Он как-то не мог понять, что от него хотят, что ему надо делать. Не мог сосредоточиться… Поднимая трубку, надеялся, что это не Андрей. Но это был Андрей.
— Привет, Костя!
— Здравствуй! — ответил он.
Нос к носу с ним сотрудник. Глаза горят, ноздри раздуты, губы облизывает. Шипит:
— Ну! Ну! Он? Да? Зови, чтоб приехал! Сюда!
Больно сжимает плечо.
— Зови говорю, сукин сын!
«Ишь ястреб! Добычу почуял!» — подумал, глядя на него, Константин и услышал:
— У тебя всё в порядке, Костя?
— В порядке, — ответил он машинально и почувствовал, что краснеет.
— Коля должен был приехать и не приехал. Не знаешь, в чем дело?
— Нет.
Он вдруг стал задыхаться. Стало жарко до невыносимости. На лбу выступил пот, рубашка на спине стала мокрой.
— Ты спал, что ли?
Еще одно «нет» сказал Константин. Все пятеро сотрудников висели над ним.
— Ну, ладно, — продолжал Андрей, — я тебе вечером еще позвоню. Дома будешь?
— Буду.
И вдруг, спохватившись, неестественно громко:
— Подожди… слушай… Я арестован! У меня обыск!
Трубка вылетела из его рук. На запястьях щелкнули наручники. Его протащили через всю комнату и швырнули в кресло. Он больно ударился боком о подлокотник.
— Щенок! Ты подписал себе приговор! — как-то без особой злобы, но не без досады, сказал старший. Константин посмотрел на него и тоже не почувствовал злобы, потому что какая-то небывалая радость вошла в душу и словно вымела из нее всё, что тошнотой стояло там, и голова закружилась, и всё как-то поплыло, не уходя, не исчезая, но будто на сторону свешиваясь, будто на бок сваливаясь, будто опрокидываясь навзничь и в то же время оставаясь неподвижным, беззвучным и бестелесным… Потеха! Он падал в обморок!
4. Личный вариант
Рыжие вихры Павла Андрей заметил сразу, как только с лестницы свернул в коридор. Он прошел мимо него, чуть кивнул, и Павел понесся за ним, не скрывая радости, но всё же соблюдая конспиративную дистанцию. Они зашли в пустую аудиторию. Павел долго и возбужденно тряс руку Андрея.
— Просьба к тебе, — коротко сказал Андрей.
Павел будто не слышал.
— Это здорово, что ты зашел! Здорово! Я думал, ты вообще… Я все эти дни думал… Я придумал другой вариант! Мы такое дело сделаем! Не нужно будет убивать! Они сами стреляться начнут! Слушай, я тебе сейчас всё расскажу…
Андрей нахмурился.
— Подожди. Мы обсудим твой вариант… Завтра…
— Это недолго! — горячился Павел. Он раскраснелся, кудри его, почти красные, разметались по лбу, он суетился, дергал Андрея за рукав.
— Паша, — еле сдерживаясь, процедил Андрей, — мне сегодня некогда. Завтра мы встретимся и обсудим. Завтра!
Павел сразу сник, погрустнел.
— Я всё продумал… — продолжал он еще по инерции.
— Просьба у меня к тебе! — повторил Андрей.
— Конечно! Конечно! — заторопился он, — ты же знаешь, я всегда… Хорошо, что ты пришел…
— Мне нужна машинка. Отпечатать одно заявление. Сейчас надо!
— Сейчас у нас сопромат… — начал Павел, но встретился со взглядом Андрея.
— А, плевать! Поехали! Двадцать минут — и у меня! Чаю попьем!
— Поехали, — сказал Андрей и добавил: — По пути никаких разговоров!
В метро Андрей поймал себя на том, что всё время оглядывается. Стало противно. Взял себя в руки, но напряженность не уходила. Теперь она стала частью его жизни. Теперь она до конца! До конца! Конец! Скоро конец! Слово произносилось, а смысл его ускользал, кожей улавливался и морозил, а от сознания рикошетом… Зато мысль работала четко, ясность была удивительной! Он всё рассчитал на сто ходов вперед! Он никогда еще не был так уверен, что всё произойдет точно по его плану! Даже конец! Хотя он еще не знает, что это такое!
Когда пришли, Павел засуетился было на кухне, но Андрей сказал категорично:
— Паша, ты сейчас вернешься в институт, еще успеешь на второй час. Я захлопну дверь. Завтра увидимся.
У Павла опустились руки. Был он жалок. Но Андрей не испытывал угрызений совести, когда врал ему о завтрашней встрече. Он знал, что никогда уже не увидит больше Пашку. Что ж! Он многих больше не увидит! Они его тоже не увидят! Значит, он с ними со всеми на равных. Если он будет тратить время и чувства на сантименты, то не выполнит план, его просто не хватит на главное. Павел должен уйти и не мешать ему.
Андрей протянул руку. Сказал, как мог мягче:
— До завтра, Паша! Не дуйся! До завтра!
— Ага! — грустно ответил Павел. Был он отчего-то бледен, все веснушки выступили на лице и отмолодили его до мальчишества. В глаза Андрею не смотрел. Он впервые не верил Андрею. Если бы Андрей был чуть мягче, если бы не торопился, как всегда, он многое сказал бы ему, объяснил, просто излил душу! Но он, Павел, не нужен Андрею! Ему нужна лишь услуга! Ну, что ж! Пусть так. Он не будет навязчив! И всё же! Как можно так легко рвать связи нескольких лет искренней дружбы!
Но руку Андрею пожал горячо.
— Извини, — сказал он, — если что…
Так говорят, когда прощаются навсегда. Андрей понял это. Искренне ответил на пожатие.
На машинке работал минут двадцать. Конечный вариант выглядел так:
Приговор
Совестью своей приговариваю Колганова Михаила Борисовича, в отставке подполковника Комитета Государственной Безопасности за преступления против человечности, совершенные им в период с 1932 по 1953 гг., за пытки и истязания людей, за насилия и издевательства, за попрание человеческого достоинства, за злоупотребление властью к смертной казни.
Приговор привожу в исполнение собственноручно.
Чуть помедлив, Андрей ниже отстукал свое имя и фамилию. Поставил число и время, то время, в которое назначено было умереть Михаилу Борисовичу Колганову, персональному пенсионеру, когда-то верному ученику обрусевшего поляка по имени Феликс Дзержинский, человека, деятельностью своей затмившего славу всех прочих героев на подобном поприще.
У него было в запасе двадцать минут. Он шел по Невскому. Внутренний карман оттягивал тяжелый пистолет ТТ. Он ощущал его не просто как тяжесть, он лежал у него на самом сердце, и Андрей сердцем чувствовал его.
Однажды, десять лет назад, он уже испытал нечто подобное. Но тогда в его кармане лежал комсомольский билет.
Матерью, сельской учительницей, был он воспитан идеалистом, с верой во всё, во что полагалось верить. Вера была красива, у нее были прекрасные слова, дела ее со страниц школьных учебников и популярных книжек казались подвигами героев древних мифов. Радостно до одури было сознавать, что живешь во время, когда свершился и продолжает свершаться смысл всей истории! Даже будущее казалось менее интересным, потому что оно походило на конец истории: оно выглядело величественно, но немного скучновато, и он, Андрей, великодушно уступал другим поколениям жить в этом фантастическом будущем. Себе же он оставлял настоящее, где еще столько перспектив героического, а на меньшее он не готовил себя! На меньшее не готовила его мать, бывшая рабфаковка, однажды приласканная Калининым, однажды видевшая Сталина — «вот как тебя вижу», — однажды выступившая по всесоюзному радио о займе государству.
Однажды пережив причастность к «великому делу», всю свою дальнейшую жизнь она прожила под гипнозом этого причастия. Она оставила мужа, когда не обнаружила в нем должной порции одержимости. Разрыв с мещанином-мужем или мещанкой-женой тогда были воспеваемыми подвигами. Она пошла дальше, она почти прекратила отношения со своими родителями, крестьянами уральской деревни, не оценившими великой мудрости вождя в крестьянском вопросе.
Сама лишь едва причастившаяся, сына своего она готовила к великой причастности. Его вступление в комсомол было обставлено с торжественностью самого знаменательного семейного праздника, на который были приглашены предварительно проинструктированные о поведении дед с бабкой, однако не оправдавшие надежд своей дочери, не проявившие должного энтузиазма по поводу их приглашения. С тех пор она больше не отправляла сына на лето к старикам.
Внук же едва ли был способен уловить такие тонкости, поскольку полностью был поглощен созерцанием своей первой причастности…
Отсутствие такого же энтузиазма в среде своих сверстников воспринимал болезненно. Он мечтал попасть в Москву или Ленинград, где, как он был уверен, живут одни сознательные, где революционный пафос не может угаснуть, потому что там живут вожди, их можно видеть воочию и слышать, там каждый дом и каждый камень — свидетель начала и продолжения!..
Уже в те годы уверенность в себе была его главным качеством. И шагая мощеной улицей рабочего поселка, он тогда твердо знал, что будет в Москве или Ленинграде, что именно там начнется его настоящая жизнь, путевкой в которую была маленькая книжечка, что лежала у него на сердце как часть его…
Теперь он шел главной улицей легендарного Петрограда с пистолетом у сердца, уже убивший человека, готовый убить еще одного и на этом поставить точку своей жизни, несуразной, необычной, но всё же последовательной!
Прав он или нет — не ему судить! Но, что есть ему оправдание, такое чувство было, и оно в веселую, лихую злость превращало каждую мысль, грозившую сомнением.
Радостно было за Костю, оставшегося верным до конца, и за остальных тоже была радость, потому что ни в одном из них не ошибся. Была и гордость! Его друзья — это дело его рук и его воли. Он представлял себе лицо каждого в те минуты, когда виделся с ними в последний раз, и воспоминания вызывали нежность и любовь, и это было единственным, что осознавалось утратой, когда думал о конце. Но о конце старался не думать. Не думал и о милиционере. За эту ошибку он расплатится жизнью, самым ценным, что у него есть, и если и не исправит тем самым, то зачеркнет…
Иногда он машинально, а может быть, специально касался рукой пиджака в том месте, где чуть-чуть выпирала рукоятка пистолета, и тогда реально ощущал готовность ее ребристых граней довериться ладони…
А встречные и обгонявшие его ничего не знали! А если бы узнали, — как бы шарахнулись в стороны, какой бы мертвый круг пустоты образовался вокруг него. Чтобы люди узнали тебе цену, нужно оказаться в мертвом круге. Маленькая, дешевая истина! Но вот он идет по много-людной улице, идет словно под шапкой-невидимкой… Нет, он не страдает от безызвестности, просто невидимость холодит, разделяет до отчуждения, до враждебности. Она подкапывает основу основ — целесообразность! Это она заставляет дрожать голос, когда ему уготовано быть набатом, это она сводит мускулы пальца, когда он ложится на спусковой крючок, это она, единственно она, может у смелого человека вывернуть грудь наизнанку, и человек вместо груди показывает спину!
Было что-то обидное и грустное в той чуждости, с которой проходили мимо него люди и обгоняли его. Подумалось, что случись вот такой улицей идти целый день, то к вечеру, возможно, и усомнился бы в своем варианте! Но восторжествовала бы не истина, а слабость. От слабости не застрахован никто!
Вот у него еще есть один пункт, излучающий слабость. Это Ольга! Но табу! Слава Богу, он вполне овладел способностью контролировать мысль! Его мысль была покорной, тренированной и способной собакой. Этому научили его йоги. Ненужную мысль он мог наотмашь отхлестать по морде, и она, скуля и свертываясь клубком, уползала в темноту конуры. Нужная работала как борзая по следу, и он часто не без самодовольства наблюдал почти как бы со стороны ее работу…
Вот и сейчас, в оставшиеся свободные минуты, он может позволить себе немного сентиментальности, но без злоупотребления. Потому Ольги на свете нет, хотя пусть она где-то живет, но на свете есть мать, хотя она не жива.
Сейчас ему очень полезно вспомнить тот день, когда он примчался домой по телеграмме и застал мать, разбитую параличом, недвижную, немую.
— Ну что, слышала про Сталина? — спросил ее за день до того на улице подвыпивший парень-шофер, бывший ее ученик.
Андрей знал мать. Ее мог разбить паралич от одного обращения на «ты».
— Выходит, всю жизнь ты брехала, учителка! И гроши за то справно получала! Ткнул вас Никита мордой об стол! Степаныча-библиотекаря ты на север упекла? А он человек был, не то что ты — граммофон!
Мать умерла через неделю. На ее могиле при всем народе катался по земле и рвал на себе рубашку парнишка-шофер, бывший ее ученик.
Андрей не поднял на него руки. Но и взгляда не дал ему в облегчение.
Под именем Андрея в Ленинград вернулся другой человек, настолько другой, насколько вообще возможно человеку измениться разом!
Тогда выстелилась перед ним та дорога, что сейчас проходила по Невскому, вела к метро, затем к Финляндскому вокзалу, оттуда до станции Лемболово, где жил на своей даче персональный пенсионер, подполковник КГБ в отставке.
В шесть часов с пунктуальностью маньяка выйдет он в сад с лейкой пожарного цвета в руках и начнет поливать искусные клумбы вокруг дома, осматривая каждую и каждый цветок на ней, чмокая губами, приговаривая что-то, покачивая головой, морщась и сутулясь… Сегодня он польет только три клумбы. На четвертую, что ближе к забору, он упадет, чтобы самому уже больше не подняться. Последними впечатлениями его на этом свете будут боль и аромат пионов. Второго он не заслужил! Непозволительная роскошь — такому человеку умирать под аромат пионов! Но даже самый отъявленный негодяй имеет право на последнее желание! Таков обычай предков, и не стоит его нарушать! Пусть же пионы зачтутся ему как последнее желание!
Вот так это случится. И никто уже никогда не узнает, о чем думал этот человек за минуту до смерти, что думал он о своей жизни, думал ли он вообще в жизни? И если верно, что перед смертью человеку видится вся его жизнь, то не умер ли он скорей положенного от этого видения? Узнать такое было бы очень важно! Может быть, даже важнее, чем его смерть! Но это невозможно! И потому он рухнет лицом вниз на клумбу с красными пионами, и таким же красным пионом расцветет смерть на его белой рубашке.
На выстрел выскочит из дома рыхлая пожилая женщина и, увидев мужа, завопит страшным голосом: «Уби…и…ли!», но вместо того, чтобы кинуться к мужу, пытаться поднять его, растормошить в отчаянии, она закричит: «Спасите!» и еще быстрее влетит в дом, громыхая затворками и защелками…
Последнее — было единственным отклонением от того, как всё представлялось Андрею. И это хорошо! Когда планы осуществляются до мельчайших подробностей, оно, конечно, бальзам самолюбию, но скучновато.
Было случайное желание пальнуть ей вслед, как бы спросить выстрелом: «Чего же ты испугалась, старая карга? Как же ты тогда жизнь свою прожила, если за себя боишься, кукла распатланная!»
Суматоха, наверное, началась скоро. Но Андрей уже этого не услышал. Через семь минут он был на платформе, через пять минут сел в вагон электрички и через сорок минут уже стоял около каменного броневика, с которого вот уже сорок с лишним лет каменный человечек произносил всё одну и ту же речь и никак не мог окончить ее, и рука его окаменела в жесте и каменные слова камнями застряли в горле…
Андрею было бы что спросить у этого человека! Но план есть план. У него не было времени на лирические отступления. Его ждал большой дом на улице Каляева, чудовищная крепость из бетона, куда он должен войти сам, собственной волей, и не выйти из нее уже никогда.
В том месте полвека назад человек его возраста и, может быть даже внешне похожий на него (могло же такое быть!) сделал то же самое, что и он — убил человека. Убил и умер сам! Его именем назвали улицу те, кто унаследовал его дела. А он, Андрей, сегодня убил одного из этих наследников. За это они убьют его. Но никакая улица не получит его имя! У него нет наследников. Круг замыкается! И размыкается одновременно! Тупая бессмысленная последовательность! Он сам подключился к ней и тем самым оставил последнее слово им, его врагам!..
…А с какой стати!
Эта мысль ошарашила его у самых дверей большого дома. С какой стати он преподносит им себя в подарок! Кого он хочет удивить жестом? Но, стоп! Там его друзья! Там Константин, Коля, может, и Павел с Вадимом! Он должен быть с ними!
Но поздно! Он запнулся о сомнение, он уже балансировал, он уже не мог сохранить равновесие. Не было теперь силы, которая заставила бы его перешагнуть порог. Другая сила, незнакомая и гнетущая, несла его прочь, не позволяя ни остановиться, ни оглянуться, ни одуматься! Та самая лихорадочность, что целый день гоняла его по инстанциям тщательно продуманного плана, рвала в клочья его остатки. Андрей вдруг осознал себя мятущимся и мечущимся, рассеянным и растерянным. Он не знал себя таким, он боялся себя такого! Он вскакивал в трамваи и выскакивал из них, он сновал по переходам и эскалаторам метро, два раза машинально купил мороженое и выкидывал, потому что отродясь не ел его…
Но это была еще не вся мера расплаты за сомнение. Подкрадывался страх. Сначала была фраза: «Пусть они попробуют взять меня!» Тут же вылупилась другая: «Легко не дамся!» И тогда змеей выполз страх! Страх попасться глупо, даться легко! И тогда город превратился в его врага. Каждый прохожий потенциально был враг. А что он сможет сделать здесь, в трамвае или в метро, в этой толкучке у витрин и переходов! В городе он как в клетке, в которой пока еще не захлопнулась дверка!
Прочь из города! Как можно скорей, как можно дальше! Чтобы быть готовым в любую минуту! На Урал, к деду! Там они не смогут появиться незаметно! Там он им всыплет на полную! Немедленно на Московский вокзал! Тотчас же! Пока не перекрыли пути! Пока не начали розыска! А может быть, уже и начали! Долго ли продержатся ребята! Не выстоять им на допросах! Где им против этих знатоков своего дела!
Он бросился к метро, но опомнился. Нет денег. Была минута полной растерянности. Но потом сработала память. Сработала она со скрипом, с экивоком к совести, как-то нечисто сработала! И номер телефона набирал трижды. Сбивался. Путал цифры. Господи! Что же это с ним такое!
Полчаса до прихода Андрея Ольга терзала пианино. Старенький инструмент надсадно и как-то испуганно грохотал на несколько этажей вверх и вниз…
Злость на себя переполняла ее, злость туманила сознание, злость кипела на кончиках пальцев и заражала клавиши, и они тоже бесновались в рычании аккордов, и гармония знакомых звуков искажалась гримасой злости.
Она ненавидела себя! Презирала себя, захлебывалась от отвращения к себе! Боже! Сколько она ждала этого звонка! Как тщательно она приготовилась к нему! Тысячу раз были отрепетированы ответные фразы, ювелирно отточена тональность голоса, даже выражение лица, которое бы он не увидел, и оно было продумано и готово к его звонку! Звонков было много, и каждый раз она подходила к аппарату во всеоружии. И этот долгожданный звонок не был неожиданным. Но только задрожала рука, стало шумно в голове и плохо слышно, она вынуждена была переспросить и… сбилась!
Она готовилась уничтожить его, испепелить презрением, она мечтала бросить трубку, чтобы его оглушили короткие сигналы отключенного телефона…
Он спросил: «Ты будешь дома?» Она не поняла от волнения. Переспросила. Он повторил и сказал: «Я через полчаса буду». И она неожиданно промямлила: «Ладно».
Самоуверенный наглец! Прошел почти год! Она могла выйти замуж и родить ребенка! Он же сообщает ей, что придет, как будто только вчера вышел из ее квартиры! Он уверен, подумать только! уверен, что она ждет его и будет ждать сколько угодно. И он может позвонить ей, когда ему вздумается: через год, через два, через десять… Паршивец! Он и через десять лет позвонит ей как ни в чем не бывало, и сообщит, что через полчаса придет!
Уйти! Пусть у него отсохнут пальцы на звонке! Почти рванулась со стула. Мысленно рванулась, накинула плащ, погасила свет, хлопнула дверью, нырнула в лифт, из лифта в темноту улицы…
Но представить его униженного, обескураженного у беззвучной двери пустой квартиры фантазии не хватило. Еще в спину можно было представить: вот он стоит, высокий и строгий, и нажимает кнопку звонка… и все! Его же лицо… Оно все так же насуплено, строго и… властно!
Смешно! Женщины упорно добиваются равноправия! Они уверены, что оно нужно им как воздух! Но вот мужчина, хорошо, если мужчина, а то мальчишка, хмурит брови — и в сердце тысячелетняя мука!
Она не справилась с ним по телефону. От встречи она уже не ожидала ничего хорошего, о встрече она уже не думала. Она только корчилась от презрения к себе, и была обида на весь мир, на жизнь свою обида, на себя обида и за себя обида!
Когда раздался звонок, необычно резкий и оглушительный, она упала головой на клавиши, и пианино ахнуло надрывно и сочувственно дребезжало еще столько, сколько буравил дверь звонок. Когда же звонок смолк, она кинулась к двери и открыла ее, не колеблясь.
Он вошел… такой же и не такой… Тот же был на нем пиджак, те же брюки. Даже рубашка была ей знакома. Все на нем чисто, глажено. Будто видом своим доказывал, что не нуждается в женщине. И все же он изменился. Сначала, в первый момент она не поняла, в чем перемена. Потому что не могла взглянуть в глаза. Когда взглянула — сжалось сердце.
Глаза его всегда бывали строги, холодны и проницательны. Этот букет принято считать признаком сильного человека. Она знала, Вадим и какие-то другие мальчишки бегают за ним, как собачонки. Она знала, в него влюблялись и влюбляются наивные деревенские девчонки и пресытившиеся богемой, жаждущие остренького блекнущие городские девицы.
Она же никогда бы не влюбилась в него, если бы только это видела в его глазах. Но она умела и любила ловить в его демонстративно холодных глазах выражение какой-то необычной тоски. Как иногда в новой и путаной мелодии, бывает, вдруг один аккорд, а то и один звук, подголосок внезапно приоткрывает тайну мелодии и, отталкиваясь от этого намека, постепенно начинаешь чувствовать созвучность всей мелодии какому-то такому же непонятному своему состоянию. И тогда эта музыка становится необходимой, хочется слушать и вслушиваться в нее, потому что она рассказывает о тебе что-то, чего ты сам о себе не знаешь, а лишь догадываешься. В человеческих отношениях это называется родством душ. Родство — не похожесть. Похожесть раздражает и отталкивает. Это смежность душ, соприкосновение, может быть, даже не в самом главном, но в чем-то глубоко интимном. И тогда бывает чудо: разные, как небо и земля, двое соединяются навсегда!
У них этого не произошло. Потому что только один из них смотрел в глаза другому: она. И что еще обиднее, он и на себя смотрел так же поверхностно и равнодушно, как на других, он и в себе видел только то, что было очевидно сходу. Разве знал, он, например, что когда по-обычному хмурится, когда уверен, что в данную минуту гнев есть суть его состояния, разве он знал, что глаза его в этот момент, не всегда, но часто бывают печальными изнутри и не подчиняются мимике, словам и жестам, и будто наблюдают за всем этим, как за чем-то внешним, для них необязательным, им чуждым…
А еще в его глазах часто бывала жажда. И тогда она боялась за него. Или его боялась. Страх этот был не предметным, он не имел слов, его нельзя было объяснить. Но именно в такие минуты она ему прощала все и раскаивалась в прощении позже, когда забывала его взгляд, потому что его нельзя было запомнить, потому что это был лишь нечаянный намек на что-то такое в этом человеке, что ей недоступно и несмежно и, значит, навсегда непонятно…
Он поздоровался тихо и сухо. Прошел в комнату, сел в кресло.
— Кофе? — спросила Ольга, чтобы собраться с мыслями и осознать впечатление, которое он произвел на нее.
— Можно, — равнодушно ответил Андрей.
Она ушла на кухню и, суетясь у газовой плиты, наблюдала за ним, не боясь встретиться с его взглядом, потому что сидел он в своей любимой позе, раскинувшись в кресле, уставясь в абажур настольной лампы. Он говорил ей когда-то, что синий цвет действует на него магически, приятно парализующе, что он успокаивает его.
И хотя глаз его видно не было, она уверилась, что первое впечатление не обмануло ее. Он изменился. Что-то изменилось в нем. Ничто не свидетельствовало о том, что ему плохо. Да она и не знала, что значит «плохо» для Андрея. Неприятности в институте? Дела институтские никогда его всерьез не затрагивали. Он ни с кем никогда не ссорился. Он просто рвал с людьми, вычеркивал их из сознания. И если переживал при этом, то не очень.
Плохо ему было однажды, когда умерла мать. Это было давно. Иногда ей казалось, что это «плохо» стало его постоянным состоянием. Но он никогда, ни до, ни после смерти матери, не говорил о ней что-либо, кроме общих фраз. Не чувствовалось даже особой привязанности к ней. Но с тех пор он изменился. Ей казалось, что к худшему. Мелкие неприятности, наверное, бывали у него. Бывали, наверное, и радости. Но в поведении своем он всегда оставался постоянным, однозначным…
Сегодня внешне — все как обычно. Но она почувствовала сразу: что-то произошло. Ей даже показалось, что сегодня он расскажет о себе все, что скрывал, о чем умалчивал. Ей показалось, что сегодня случится в их отношениях тот поворот к пониманию, которого она ждала годы и не дождалась. Незаметно для себя она снова соблазнялась надеждой, и как не бывало ненависти, обиды, злости… «Баба!» — вздохнула она про себя.
Налила кофе и села против него. Он сделал глоток, нахмурился, как всегда, если находил кофе слишком горячим. Она даже чуть не улыбнулась, так знакомо было ей это непроизвольное движение бровей.
Он поставил чашку. Откинулся в кресле и впервые взглянул на нее. Лучше бы уж не глядел! Ничего хорошего этот взгляд не обещал. В нем была тревога, — но увы! не о ней! — В сущности, он отсутствовал. Искорка надежды погасла и превратилась в льдинку, в крохотный кристаллик, который вызывал озноб.
— По отношению к тебе я, пожалуй, был негодяй, — сказал он, глядя ей прямо в лицо. Сказал, как говорят между прочим о погоде и прочих пустяках.
— Пожалуй, — ответила она тон в тон ему, готовясь к чему-то худшему, к чему-то совсем плохому. А уж, казалось, давно была готова ко всему.
— Ты вправе меня ненавидеть.
Он разрешал ей ненавидеть себя, и она ответила:
— Спасибо!
Он не обратил внимания на издевку.
— И все же мне не к кому обратиться, кроме тебя.
Он играл на ее душе. Одна фраза, и она снова полна любви и готовности. Хотя бы вот так быть нужной!
— Я должен уехать. Сегодня. Но у меня нет денег.
— Сколько? — спросила она слишком торопливо, но ей уже было наплевать, лишь бы не потребовалось больше, чем у нее есть!
Он нахмурился и молчал.
— Сколько нужно денег? — спросила она осторожно и так сочувственно, что это проняло его, и он даже рукой по лбу провел, будто убедиться хотел, что морщины строгости действительно распались…
— Немного. Но… Не в этом дело…
Он встал и заходил по комнате. Он нервничал. Он сильно нервничал! Таким она его не помнила. Что же произошло?!
— Я не смогу вернуть тебе деньги. Никогда не смогу…
Она не поняла. Мелькнула мысль: «Бежит за границу!» Нет, это на него не было похоже!
— Ты уезжаешь навсегда? — спросила она, не скрывая отчаяния.
— Да! — ответил он почему-то грубо.
Она не поняла этого тона. Она поняла только, что это действительно конец, и она, давно приговорившая свою глупую любовь к неудаче, оказывается, к самому концу все же не была готова.
— Сколько нужно? — спросила она еще раз.
Он назвал сумму. Эти деньги у нее были. Она взяла сумочку с окна, достала деньги, пересчитала и отдала ему.
— Спасибо! — буркнул он, и она поняла, что он сейчас уйдет.
— Подожди! — сказала она, хотя Андрей пока ничем не проявил намерение уйти. Она кусала губы. Она не могла его отпустить. Как бы ему плохо ни было, — ей было хуже. Эта несправедливость вызывала желание уравнять боль… Но говорила не то…
— Вадим сказал, что ты любишь меня…
Андрей встрепенулся, ей даже померещился испуг в его глазах.
— Вадим? Ты видела его? Когда?
— Он звонил вчера. Сказал, что ты взял мой телефон… Я ждала…
Ничего этого не нужно было говорить. Она подошла, встала рядом. Он не поднял головы. Он думал о чем-то… не о ней.
— Андрей, — сказала она мягко и тихо, — понимаешь ли ты по-настоящему, что ты плохой человек?
Он помолчал, ответил так же, не поднимая головы.
— Я допускаю это.
— Ты не любил и не любишь меня? Так ведь?
Он поднялся чужой и недоступный.
— Оля, теперь все это не имеет никакого значения!
— Для тебя! — она захлебывалась от обиды. — А для меня, как думаешь?
Как он взглянул на нее! Еще секунда и она бросилась бы ему на шею! Но он сказал:
— Мне нужно идти. Я хотел бы расстаться с тобой хорошо.
Она отшатнулась. Ей казалось, что она падает.
— Может быть, ты все-таки объяснишь что-нибудь! Неужели я этого не заслужила!
Она не узнавала своего голоса. Это был не голос, а скулеж…
— У тебя неприятности? Да? Ну, давай уедем! Я продам квартиру! Уедем далеко! Но только вместе! Куда хочешь!
Он как-то странно и нехорошо усмехнулся.
— Что ж, это тоже вариант! Только теперь он уже невозможен, если раньше был только неприемлем.
— Я ведь аборт сделала, Андрюша!
Лишь полное отчаяние могло выдавить из нее эту фразу.
— Аборт? — переспросил он удивленно и вдруг резко схватил ее за плечи, тряхнул.
— Аборт! Ты убила моего ребенка! Ты! Ты! Дрянь!
И он буквально бросил ее на пол. И казалось, сейчас растопчет, но только повторял:
— Убила ребенка! У меня мог остаться сын… или дочь… Убила!
Он смотрел на нее, как на отвратительное чудище, и она, полулежа на полу, боялась пошевелиться и даже не чувствовала боли от ушиба.
На его лице было горе — такое огромное горе, что она, будто очнувшись, подползла к его ногам, обхватила их, захлебываясь от слез, залепетала:
— Андрюшенька, милый, я ведь не знала… ты же ушел… ты бросил… ты ни слова… Андрюшенька…
Он поднял ее и продолжал держать за плечи, но взгляд его стал еще страшнее: теперь это был взгляд покойника или смертельно раненного, это был взгляд неживого человека.
— Андрюша, у нас еще будут…
— Нет! — перебил он ее. Взглянул на часы. — У меня пятнадцать минут. Я не умею за пятнадцать минут делать детей!
— Что ты говоришь! — закричала она, вырываясь.
— Как ты могла?! — сказал он глухо.
— Я! Я могла? А ты что, младенец? Ты не знал, что могут быть дети? Ты когда-нибудь подумал об этом? Ты обо мне подумал когда-нибудь? Ты еще обвиняешь меня? Ты смеешь?!
Она упала в кресло и затряслась в рыданиях. Какие-то слова прорывались, но она сама их не слышала. Она вцепилась себе в волосы, сдавливая виски, она почти билась головой о подлокотник кресла, она задыхалась.
— Уйди! — вырвалось, наконец, у нее. — Уйди! Пусть тебе будет так же плохо! Пусть!
Слезы ослепили ее, и она не видела, когда он встал у кресла на колени. Он целовал ее руки, ее мокрые руки и говорил:
— Я люблю тебя! Я вернусь! И все будет снова! Все будет не так! Прости меня!
Позже, через несколько лет, ей, наверное, покажется, что не стоял он на коленях, не целовал ее рук, не говорил этих слов, что ничего этого не было, что он ушел, не попрощавшись, и она сама в истерике вообразила всю эту сцену, потому что, если бы ее не было, как бы смогла она выжить…
5. Один
В окне проносилась, проплывала, пролетала и растворялась в далях Россия.
Казалось, к этой серой и молчаливой земле неприменимо название столь звучное, как боевой клич, как зов походной трубы. Слово это воспринималось, как что-то в прошлом, совсем немного в настоящем и ничто в будущем.
Или казалось, что существуют две России: одна в сознании — красивая и неясная, как мечта, другая, как прототип мечты со всеми атрибутами прототипа. Проплывали селения, в селениях жили люди, думалось же о них, как об иностранцах… Даже не верилось, что говорят они на том же языке… Еще страшнее было представить иностранцем себя, страшнее, потому что очень правдоподобно…
Какой жалкой мышиной возней представлялась ему отсюда вся его деятельность в Питере, и все эти муки душевные и поиски, и споры, и принципы, ради которых ломались и создавались человеческие отношения, ради которых перекраивались судьбы, ради которых даже убивали людей…
Железная дорога, бегущая к Уралу и дальше Урала, в Сибирь и дальше Сибири, куда дальше, кажется, уже и невозможно, дорога эта представлялась бездонным колодцем, уходящим в глубину России не только пространственно, но и во времени. Казалось, не километры от центра отсчитывает поезд, а года прочь от настоящего времени к какому-то временному постоянству, которое и раньше и теперь, и всегда, но по отношению к ним, людям столиц, всегда за их спиной, всегда им чужое.
В темноте вообще было реальное ощущение, будто в колодезном ведре летит он вдоль колодезного сруба с бешеной скоростью вниз, и стук колес был вовсе не стук колес, это громыхал вал над колодцем, с которого раскручивалась бесконечная веревка, еще вчера державшая его наверху, под самым козырьком солнца, где он виден был себе сильным, нужным и правым, в полном убеждении, что нет ему надобности вглядываться в темноту сруба, потому что он в самом венце смысла всего, что под ним…
Нет! Всё не так! Он догадывался и ранее об отсутствии смысловой связи между его жизнью и судьбой того существа, что именовалось Россией. Объяснением этому мог быть только факт бессмысленности бытия одного из двух. У него никогда не хватило бы смелости отказать в смысле тому, что было в мире до него и будет после. Но тогда следовало бы признаться в том, что он просто наломал дров в горячке и спешке, и потерять при этом право распоряжаться не только своей жизнью, но и смертью… Потому остается одно: он не понял России. Поспешил, спалил себе крылья и превратился в земноводное, которому остается одно — кусаться и умереть под щелканье собственных челюстей…
А она все мелькала и мелькала в окне, Россия — многообразная и однообразная до отчаяния. Россия, в которую рекомендовалось «только верить» и не тратить времени на познавание умом. Но умом не понять только безумного! Должен же быть какой-то постигаемый смысл в бессмыслице полувека! Каким вдохновением уловить его! Ведь жизнь у каждого одна, она коротка и дорога каждому! Вот он, Андрей, разменял ее на безумство, которому песню — увы! — никто не споет! А если вдуматься, то безумство храбрых это всего лишь храбрость безумцев! И если быть беспощадным к правде, то как не признать, что, поднявшись с пистолетом против стоглавого дракона, он в бунте своем храбр от отчаяния, от бессилия, от страха перед неспособностью к чему-то большему, чем безумство!
И всё же! Маленький, крохотный кусочек подлости, что цементом легла на стыках общества, он отколол и создал, пусть ничтожное, но все же беспокойство этому мурлыкающему от самодовольства дракону! Хотя бы на одном квадратном сантиметре бесконечного болота он создал волнение ценой самого дорогого — жизни! Разве величина ставки не оправдывала бессмысленность!
И потому хотелось еще стрелять и стрелять, и чтобы не смолкал грохот выстрелов, чтобы видеть смятение и страх на лицах, застывших в маске бездумия, заплывших, опухших равнодушием, чтобы взломался ритм слепоты, чтобы автобусы втыкались в тротуары, с треском разлетались витрины, чтобы переворачивались вверх колесами черные лакированные и бронированные персоналки, и оттуда вылезали на четвереньках те, кто еще минуту назад держал на четвереньках человеческие души. Чтобы проспекты превратились в грохочущие тупики, а на одном из этих тупиков — он, Андрей, с пистолетом в руке, а по левую сторону и по правую сторону от него — соратники, радостные и одержимые, и знамя над ними… красное…
Андрей недоумевает, почему оно красное, но другим представить его не может… и он громко стонет во сне, так громко, что сосед по верхней полке, солдат-отпускник осторожно трясет его за плечо…
Его дед, семидесятилетний старик, никак не мог взять в толк, за какое добро послал ему Бог внука, которого он уже не чаял увидеть. Он суетился по избе, кряхтел, охал, ахал и млел, глядя на светловолосого красавца, очень даже похожего на другого, что висел на стенке под стеклом с Георгием на груди. Таким он был сам полвека назад, и сохли девки по нем, как осинки подрубленные! И барышни в кружевах, образованные и беленькие, глупели, когда он подмигивал им, и пухлые вдовушки грустнели, глядя на него! И сам Брусилов, обходя строй, остановился напротив и по плечу хлопнул! Может, правда, и не Брусилов, но что генерал — точно!
Когда сели вдвоем (Андрей просил никого не приглашать) и чокнулись стаканами, не связывался разговор, и потому тут же налили по второй. Помянули покойников, мать и бабку, которая так и не увидела внука взрослым. Старик блестел глазами. Да и Андрей тоже. После третьей — другое дело! Дед разговорился, вспомнил гражданскую, взятие Бугуруслана, ранения свои, госпитали… Потом, как землю дали, как робко делили ее, чужую… Первый урожай на этой земле! Как в город ездили на своих лошадях за обновками, в каких нарядах девки загуляли в деревнях… Как стало потом тускнеть мужицкое счастье, когда закатилась звезда нэпа, и появилась в деревнях матросня да фабричные с наганами по брюхам. И плакала землица, и скотинка, что народиться успела, плакала… Как потрошить начали мужицкие избы, как подводы с раскулаченными заскрипели по заоколицами с ревом баб да ребятишек! И началось строительство этого самого социализма, который, конечно, всему человечеству мечта, да только на горбе крестьянском выращенная! А про то ни у кого сознания нет, и уважения крестьянскому труду молодежь не признает, как несознательное будто это сословие есть… А что ни денег, ни паспортов в глаза не видывали, кому дело да интерес! Перетасовали народишко с разных сторон, забыли как землю охаживать требуется! Церкви для нужды устроили — Бога-то по науке, сказывают, быть не может!
— А веришь в Бога? — спросил Андрей.
— Сомневаюсь я, что Его нету вовсе, и причины тому сомнению имею, да тебе того не понять!
— Какие причины-то? — настаивал Андрей.
— Ну, вот хотя бы, кто у нас шибче всех раскулачивал? А были братья Санька и Пашка Крюковы. Я про нашинских говорю, а что приезжих да нерусских полно было, то само собой! Братья эти по молодости кулачниками да охальниками были. После гражданской партейными обернулись. Уж и погуляли они по хозяйствам нашим! И что?! Саньку Кузьма Банников из винта хлопнул, а Пашку свои же на север упекли, где и сгинул без вести! Опять же Кузьма Банников в Саньку пальнул, а когда огородом, своим огородом, заметь, домой вертался, в старый колодезь угодил, да так, что и помучиться не успел! Вдрызь головой об камень! Вишь, всякое зло расплату имеет! А как она оборачивается, расплата, без Бога ежели? Али Кузьма своего огорода не знал, в колодезь сподобился! В своего пальнул — и разум помутился!
— Так ведь этот «свой», наверное, заслужил?
— Чего там! Совсем бешаный мужик был! Никто не горевал! Да только в своего палить, нешто добро! Ночью, как тать! Трах — и дёру! Не бывало у нас такого! И чтоб в свой колодезь падали, тоже такого никто не помнил. Так что кто-то, внучок, надо думать, над нашими душами есть, и следит он за нами, и за шкирку потаскать может, ежели что… И воле всякой предел установлен!
— А предел подлости людской? Как насчет этого? — хмуро вставил Андрей.
— Все есть, — философствовал дед печально. — И горе, и страдания, и болезни… Только дано человеку лекарство, что посильней всего будет терпение!
— Ага, — буркнул Андрей, — Бог терпел и нам велел!
— Совет тебе хочу дать, внучок! Хитрый совет! — Он вместе со стулом пододвинулся к Андрею, налил самогону из графина. Андрееву бутылку они уже приделали. Привалился боком, держа стакан на весу. — Не богохульствуй попусту! Тебе ведь от этого радости нет! А хрен его знает, может, Он и есть где-нибудь там…!
Ткнул стаканом вверх, расплескал самогон. Андрей посмотрел в потолок, сказал вяло:
— Там никого нет. Пустота да материя мертвая.
— Кто его знает! — с сомнением протянул дед. — Внутрь надо смотреть, наскрозь чтобы…
— Как? — не понял Андрей.
— Внутрь, говорю. Ты вот, что есть? Тварь с двумя руками да с двумя ногами. А ежели внутрь тебя взглянуть?
— Внутри у меня кишки, дедушка!
Андрей стукнул стакан деда и выпил. Перекосился, начал жевать капусту прошлогоднего посола. Дед смотрел на него разочарованно.
— Глуп ты еще! Хоть и образованный! Конечно, если человека шашкой на куски скромсать, то кишки увидишь. Не про то нутро толкую! В том нутре душа у тебя, до нее шашкой не доберешься!
— А если шашкой до кишок добраться, что от души остается?
Андрей весело подмигнул деду, уходя от скучной темы. Не тут-то было!
— Допустим, мешал тебе человек. Ты его шашкой али пулей. Лежит он пред тобой бездыханный! Твой стало быть! Получил ты его мощи. А душу? Душу-то получил? Шиш!
— Добрый у тебя самогон, дед!
Дед радостно подмигнул.
— Понравился! Завтра еще накапаем! Не ждал ведь я тебя!
И вдруг прослезился.
— Мамка твоя, дочь моя, значит, Царствие ей… конечно, и, можно сказать, святая была, но сердцем жестокая! Где это видано, чтобы внука от стариков прятать! Стыдилась она нас, темноты нашей стыдилась. Не понимала, что свет наш в мозолях! Старуха моя покойная тяжело рожала ее, больше детей Бог не дал. Почитай, прожили мы жизнь без детей! Весточки от дочки на переводах получали. В деньгах она аккуратная была! День в день! Завидовали нам! Только старуха каждый раз плакала, как деньги приходили… Глупая была…
Он рукавом вытер глаза. Андрей обнял его.
— Дочь свою не осуждай, дед, несчастная она была!
Дед испуганно вскинулся.
— Да нешто я осуждаю! А про несчастность, это как посмотреть! Жила она верой своей, а в вере люди несчастными не бывают! Дай Бог тебе веры такой!
— Какой веры! — зарычал Андрей. — Во что верила моя мать?! В кого верила? В бандита?
— Но! Но! — нахохлился дед. — Ты не очень-то! Какой он ни есть, при нем порядок был! И люди свое место знали! Людям строгость нужна, а без строгости нынче вон в колхозах работать некому! Каждый свое гнет… Сам себе начальник!
Андрей заскрипел зубами, кулаками сжал виски.
— Что ты говоришь, дед! Какой порядок! Ты же только что рассказывал про этот порядок, как наизнанку вывертывали вас! А про тюрьмы и лагеря ты слышал?! Бандит был тридцать лет у власти! Понимаешь! Бандит! И порядок был бандитский! И законы были бандитские! Дед! Да разве вас не стригли, как овец?! Вы же для него и всей этой шайки рабочим скотом были!
— Это ты брось! — дед смотрел на Андрея сердито, исподлобья. — Это кто, может, другие скотом были, а мы в скотах не ходили! Мы — Россию кормили! А что всяко бывало, так где это жизнь без горя? Может, в Америке? Так мы с тобой там не были и знать не можем, какие у них свои беды! Бандит, говоришь! А в тридцатом кто меня в подкулачники записал? Сталин? Да сосед мой, Прошка Федотов! А за что? А побил я его вожжами по пьянке! Причем тут Сталин? А гусей да курей отбирать — был такой закон? Не было! А у моей старухи петуха прямь из-под подола вытащили активисты наши! А кто им за это по шеям надавал? Знаешь? Никитка-сельсоветчик после того как запил, так и помер от запоя, а до того по деревне козырем ходил, наганом махал да плевался скрозь зубы! Я тебе так скажу: ежели б каждый свою подлость придерживал, так и половины горя в народе не было!
— Это все, что ты помнишь? — с глухим отчаянием спросил Андрей.
Дед обиделся.
— Чего я помню, того в голову тебе не вместить! Много воли вам дали для разговору! А в колхозе работать некому! Всех на чистенькое тянет!
Он еще ворчал. Андрей сидел, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону, и вид у него был такой несчастный, что дед, спохватившись, вдруг умолк, заморгал смущенно, заерзал на стуле.
— Ну, чего ты! Чего! Если что не так говорю, зачем близко к сердцу класть! Какой с меня спрос! Жизнь моя прошла, и каждому свою жизнь жалко… Ну! Внучок!
Он схватил стакан Андрея, наполнил, осторожно тронул внука за рукав.
— Выпьем, а?
Андрей поднял голову, повернулся к деду. Смотрел в его бесцветные слезящиеся глаза, пытался прочитать в них что-то подсознательное и подлинное, что непременно должно быть там, но видел только старость. И еще увидел в них жажду человеческой ласки! Вспомнились глаза Ольги. Удивился тому, что у молодости и старости могут быть одинаковые глаза…
Он обнял деда так крепко, что тот почти захрустел костями, но будто не заметил этого, и весь обмяк и приник к плечу внука. Язык отнялся у старика. Он теребил рукав Андрея и сопел ему в ухо.
Потом они допили остатки и только тогда навалились на закуску, что наскоро была сготовлена дедом и состояла из капусты, картошки, огурцов да рыбы соленой неизвестного наименования. Дед несколько раз пытался оправдаться за скудость закуски, но Андрей активностью челюстей изображал, к полной радости старика, искреннее удовольствие и демонстрировал аппетит здорового человека, здоровье которого пропорционально потребности в пище, простой и обильной. Потом, отдавшись хмелю, они пытались что-то спеть, но Андрей не смог подпеть деду ничего, кроме «По диким степям Забайкалья», да и то один куплет…
Дед готов был продолжать трапезу до бесконечности, но Андрей чувствовал себя так скверно, что вынужден был огорчить старика и попросился на сеновал, хотя тот приготовил ему великолепное, пышное ложе на своей древней супружеской кровати.
Было еще совсем светло, хотя солнце зашло. В сторону заката открывался с сеновала чудный вид на уральские просторы. Проселочная дорога из района зигзагами подбегала к деревне, прокатившись по широченной деревенской улице, втиралась в берег тихой речушки и, петляя в перелесках вместе с ней, исчезала затем в темноте дальних лесов.
С хмеля очень даже легко было представить себя летящим низко над землей, а если смотреть вперед, в алую даль заката, то кажется, что она приближается, и вот-вот догонишь солнце и ворвешься в день… Но день отступал на запад, туда, откуда Андрей бежал так поспешно и откуда ожидал скорой развязки.
Можно было посчитать сном все случившееся, а отсчет пробуждения вести с этого момента, когда он лежит на сеновале и всматривается в закат… Он проспал целый день… Надо придумать, почему проспал… Потому, что прогулял ночь с девушкой. С Ольгой. Ольга живет не в Питере, а в деревянном доме с крашенными ставнями на том конце деревни. И она не пианистка, а… библиотекарь деревенский. Можно ей быть и дояркой, но лучше библиотекарем… Питера не было! Не умирала мать! Она внизу, в комнате, она сейчас готовит ужин и вот-вот позовет его к столу. А он не студент, а тракторист или шофер. Недавно Ольга дала ему почитать книжку о народовольцах, о покушениях на царя. И после приснился ему сон-кентавр, где в главной роли он, Андрей! Он прожил за несколько часов жизнь и пережил душевную муку целого поколения. Он вступил в конфликт с государством и ему предстояло погибнуть в неравной и бессмыслен-ной борьбе. Но он проснулся! И хотя кошмар сна еще будоражил сознание, на душе уже было легко и просто.
Он не герой и не борец, он обычный деревенский парень, жизнь его проходит разумно и радостно. И он всей судьбой неразрывно вписан и в эти перелески, и в этот закат, и в запахи земли, мягкие и живые. Он — нужная часть всего, что вокруг, всё ему откликается пониманием и родственностью и, просыпаясь утром, он приветствует мир, молодой, как и он сам, и бросает вызов миру-сверстнику прищуром глаз и хрустом кулаков. А в каждом его движении и в каждом действии — смысл, созвучный смыслу всего мира…
Он не спускается по лестнице с сеновала, он прыгает с трехметровой высоты и бежит к колодцу. Обливает себя ледяной водой, ахая и задыхаясь внезапной упругостью тела, вытирается длинным махровым полотенцем, а потом, накинув его на шею, идет в дом, где его встречает мать, молодая, красивая и строгая. Она делает ему выговор за ненормальный режим и прогоняет одеваться. Когда он садится за стол, она подходит к нему сзади и обнимает за плечи. Рука ее вдруг натыкается на что-то твердое на груди сына. Она с тревогой заглядывает ему в глаза, а он сам, встревоженный не менее, вынимает из кармана пиджака пистолет… В глазах матери застывает ужас, и она навзничь падает на пол. Андрей уже знает, что ее разбил паралич…
Было около пяти часов утра третьего дня его пребывания у деда. Андрей проснулся от чужого звука. Еще ничего не зная об этом звуке, он лишь приподнял голову и взглянул на часы. Потом подтянулся к краю сеновала. Вправо по улице в узкий проулок между огородами въезжала машина «Бобик». Она вползла за плетень. Там остановилась. Заглохла. Из-за плетня вышли четыре человека и цепочкой направились в его сторону. Не доходя двух домов, они разделились. Двое пошли дальше прямо, двое других, видимо, решили пройти огородами. Они вошли в калитку ближнего дома и там начали «бег с препятствиями» через огородные плетни, приближаясь к дому деда.
«Быстро они добрались до меня», — подумал Андрей, и, кажется, других мыслей не было. Мыслей не было. Была тоска. Пистолет уже в руке. Он и не заметил, когда достал его. Те, что шли прямо, были уже около ворот. Сейчас Андрей не видел их. Щеколда поднялась и некоторое время висела в поднятом положении. Затем ставня ворот скрипнула и подалась внутрь. Двое вошли во двор. Он мог перестрелять их сверху без труда, но почему-то не решался взорвать утреннюю тишину, точно совершил бы этим тягчайшее преступление. К тому же он не обнаружен, и это сомнительное преимущество так не хотелось терять!
Тут он представил лицо внезапно проснувшегося деда, и мысль о нем хлестнула по лицу. Зачем он приехал сюда? Еще одна глупость в цепи бессмысленности всех его действий. На этот раз граничащая с подлостью! Теперь, случись бы и чудо, он не хотел жить!
Двое уже стучались в дверь сеней. Дед, видимо, с их очередного похмелья прошлым вечером спал крепко, не по-стариковски. Андрей выглянул в щель крыши сеновала в другом конце и увидел тех, что шли огородами. Увидел на мгновение, они уже скрылись за домом, подбираясь к окнам. Он вернулся на свое место, снял пистолет с предохранителя, и свесившись с площадки сеновала, спросил резко и громко:
— Чего надо?
Его окрик был воспринят стучавшимися, как пинки под зад. Они шарахнулись от двери, у обоих в руках пистолеты. Не такие, как у него меньше. Один назвал его фамилию.
— Я, — ответил Андрей.
— Бросай оружие! Дом окружен! Слазь!
Чекист говорил не очень уверенно, потому что именно на него был наведен пистолет Андрея. Их же пистолеты смотрели очень неопределенно вверх, лишь в сторону Андрея, но, может быть, и мимо.
— Я сдамся при одном условии, — спокойно ответил Андрей. — Если вы сейчас же без шума вернетесь к машине. Я подойду туда же вслед за вами!
— Не валяй дурака! — зарычал второй. — Бросай пистолет и слазь!
Он при этом сделал какой-то странный жест левой рукой. Андрей понял его чуть с опозданием, когда услышал шорох на другой стороне сеновала. Ему заходили в спину. Лестница была именно с той стороны. Не поворачиваясь полностью, Андрей выстрелил в ту сторону и оглох от выстрела, так он был громок, резок и внезапен. Двоих у двери тут же смело за дом, и одновременно два выстрела отбросили Андрея в глубь сеновала.
— Шуметь, так шуметь! — подумал и выкрикнул Андрей и пальнул в обе стороны.
Выстрелы уже не казались грохотом. Они уже нравились ему. Но он вспомнил, что осталось всего три патрона, а тех четверо, и от сознания, что против четырех он бессилен, стало тоскливо и жаль напрасных выстрелов… Он вдруг превратился в кошку! Он ползал от одного конца сеновала к другому, в узкие щели пытался высмотреть своих врагов, но их видно не было. Зато на крыльце соседнего дома, на противоположной стороне улицы, да и везде, где улица просматривалась, уже сновали люди, заспанные и испуганные, но не могущие побороть любопытства. И еще он увидел бегущего к дому деда. Тот, оказывается, давно встал и куда-то ушел, а теперь бежал к дому, скорчившись и подволакивая ноги.
В воротах навстречу ему выскочил чекист, схватил его за руки, и будто невзначай прикрываясь им, потащил деда в сторону, размахивая пистолетом в свободной руке и крича:
— Все по домам! Здесь опасный преступник! Он вооружен! Все по домам!
И он выстрелил вверх над ухом деда. У деда подкосились ноги, и он с вывернутой рукой повис на плече чекиста, который, все так же прикрываясь дедом, затаскивал его за дом.
Андрей высунулся сверху и закричал:
— Ты, сволочь, оставь деда! Не смей!
Дед увидел его. Челюсть у него отвалилась, глаза выкатились, он вдруг начал хватать чекиста за ту руку, в которой был пистолет, и прежде чем они исчезли из поля зрения, Андрей успел увидеть, как дед обмяк на руках чекиста от удара в живот…
Люди вокруг вроде бы и разбегались и в то же время появлялись то тут, то там, и те, кому удавалось увидеть Андрея, показывали на него рукой, что-то кричали, прятались и высовывались снова.
— Последний раз говорю, сдавайся! Все равно возьмем!
Андрей не выдержал и выстрелил на голос. В ответ прозвучал залп. Андрей закричал:
— Слушайте вы, подонки! Вы привыкли, чтобы перед вами ползали на коленях, вы привыкли хватать людей, как мышей! Попробуйте, возьмите меня! Я первый стреляю в вас! Но скоро вас будут взрывать, давить машинами, бросать под поезда! Преступники — это вы! Вас научат бояться, сволочи!
Еще когда кричал, появилась мысль сдаться. Будет суд. Пусть его приговорят к расстрелу, но на суде он скажет им все, что знает и думает о них! Кто-нибудь будет на суде! Кто-то запомнит его слова!
Но тут он вспомнил рассказ одного выжившего, но в свое время приговоренного к расстрелу клиента того подполковника, которого он убил в Лемболово.
Андрей представил, как после приговора захлопнут на его руках наручники и отведут в камеру смертников. Ему предложат написать помилование. А вдруг он не выдержит страха смерти, вдруг сломается! Но если и устоит, потом его выведут в нужное место, зачитают приговор, а может, и не будут зачитывать, — просто кто-то выстрелит ему в затылок и затем спокойно проделает контрольный выстрел в висок, а врач, оттянув веки, засвидетельствует смерть на протоколе «приведения в исполнение».
Нет! Такого удовольствия он им не доставит! Андрей подполз к краю сеновала. У него в запасе один выстрел. Хотя бы одного, да он уложит, заберет с собой! Но вдруг испугался. Останется один патрон! А если он промахнется и только ранит себя! Нет! Он не может рисковать! Да и что проку — одним гадом станет меньше? А сколько их! Бессмысленно!
Он начал шептать имена всех, кто был когда-то дорог ему, боясь забыть кого-то, не вспомнить! Дед, Ольга, Костя, Вадим, Пашка, Коля, мама… мама… На этом память его забуксовала, и лицо матери заслонило все лица, и он уже больше никого не мог вспомнить. И слово «мама» звучало в мозгу помимо его воли, и губы его шептали, и стократным эхом повторяла его мысль, он даже видел это слово написанным большими буквами на школьной доске и на листке бумаги, и отдельно буквами, висящими в воздухе… Он всунул ствол пистолета в рот, но это было так противно — во рту отвратительный вкус сгоревшего пороха, ствол горячий и кислый. Его затошнило! Он выплюнул дуло, приложил его к виску, но представил свой изуродованный, разнесенный череп, и стало дурно. Он испугался, что может потерять сознание! Тогда он вывернул пистолет дулом к себе, подставил его туда, где ощущалось биение сердца, чуть привалился на пистолет телом, чтобы не откачнулось дуло при нажатии на спуск. Положил на спуск палец левой руки и так оставался минуту или чуть более без единой мысли, без единого побуждения в душе. И, лишь словно убедившись в наступившей пустоте и готовности, нажал на спуск.
Вынув обойму из его пистолета, чекист с удивлением рассматривал оставшийся патрон.
— Как думаешь, — обратился он к другому, — почему он оставил один патрон?
Тот, не повернувшись, пожал плечами.
— Забыл, наверно.