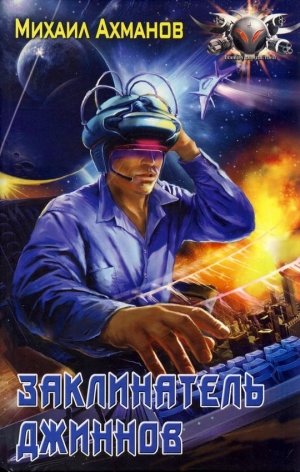
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Роман, предложенный вниманию читателей, не завершает мою дилогию «Тень Ветра», «Тень Земли», которая вышла в 1998–1999 годах. Этот роман отдельное, вполне самостоятельное произведение, связанное с упомянутой выше дилогией лишь именем Сергея Невлюдова. Однако в дилогии Невлюдов не является персонажем, принимающим хоть какое-то участие в действии; там он — смутный призрак былого, автор открытия, перевернувшего мир, и, в каком-то смысле, символ связанной с этим открытием тайны. Что же касается нового романа, то здесь он главный герой, и события этого повествования происходят не через триста-четыреста лет, а почти в наши времена, в самые ближайшие годы.
Хотя роман практически не связан с «Тенью Ветра» и «Тенью Земли», посвященным картинам далекого будущего, я все же советовал бы читателям ознакомиться с этой дилогией. Мне кажется бесспорным следующее умозаключение: чтобы понять прошлое, нужно сделать шаг в будущее.
Михаил Ахманов.
Глава 1
ХОРОШО ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ВИННИ ПУХ
А. Милн. Винни Пух и все-все-все.
- Хорошо живет на свете Винни Пух!
- Оттого поет он эти песни вслух!
Сегодня филенка была на месте.
Недели три назад, как раз к Новому Году, кооперативные боссы сделали нам сюрприз, установив в каждом подъезде внутреннюю дверку с кодовым замком, хорошую дверь, из цельной сосновой доски, с двумя широкими филенками вверху и внизу и еще одной, узкой — посередине. Чтоб мы, жильцы — упаси бог! — не вымерзли в январские холода, чтоб нам не надуло в уши и чтобы какой-нибудь отморозок не проник на лестницу и не пришиб старушку с седьмого этажа… Но отморозок нашелся прямо среди нас: нижнюю филенку уже трижды вышибали и уволакивали в неизвестном направлении. Я думаю, на тот же седьмой этаж, где кроме старушки проживал дядя Коля Аляпин, мужчина небогатый, но прижимистый и хозяйственный.
Однако сегодня, как я уже говорил, филенка была на месте. Отметив сей отрадный факт, я направился к почтовым ящикам и вытащил из своего, изломанного и побитого жизнью, запечатанную повестку. В ней значилось: Невлюдов Сергей Михайлович, инженер-лейтенант войск связи, тридцати двух лет от роду, обязан явиться во Фрунзенский райвоенкомат города Санкт-Петербурга 19 января, к двенадцати ноль-ноль. С паспортом, военным билетом и дипломами о высшем образовании. При всех регалиях, значит, и к двенадцати ноль-ноль… Что ж, превосходно; посплю до девяти вместо восьми.
Разглядывая клочок бумаги с расплывчатой военкоматской печатью, я думал: все из ящика прут — и журналы, и газеты, и даже письма, а вот на такие повестки преступная рука не поднимается. То ли из злорадства, то ли из жалости… мол, хоть повестку ему оставим, раз газеты сперли…
Газеты действительно сперли — и «Вечерку», и «Невское время».
Впрочем, вызов в военкомат, извлеченный мной из почтового ящика со сломанным замком, с лихвой компенсировал эти потери. Завтра — вторник, день кафедрального семинара, а тащиться в Петергоф мне совсем не хотелось, даже из уважения к Вил Абрамычу. Шеф мой — добрый старикан, страдающий хроническим мягкосердечием, что не позволяет ему резать профанов и четвертовать невежд. А длинноухий нахрапистый Юрик Лажевич был профаном и невеждой, и сидеть на его предзащите с прибитым к небу языком я решительно не собирался. С другой стороны, кто ищет хлопот на свою голову?… Критика рождает недоброжелателей, и отсутствие на семинаре было бы для меня наилучшим выходом. An ounce of discretion is worth a pound of wit — говорят англичане, и они правы: унция благоразумия в самом деле стоит фунта остроумия.
Решив, что повестка — верный шанс прогулять семинар и разобраться кое с какими личными делами, я бодро затопал вверх по лестнице, прикидывая завтрашнюю диспозицию. Может, к Михалеву заглянуть… Глеб Кириллыч, эпикуреец и шалун, был давним отцовым приятелем; жил он вблизи военкомата, на углу Фонтанки и Графского, строгал фантастические романы и отличался гостеприимством, обширным брюхом и житейской мудростью. Нет, не успею, с сожалением подумал я. Если в полдень не наденут каску и не пошлют стрелять дыркачей, то к часу доберусь на истфак, увижусь с Бянусом и одарю его обещанной программой; в четыре буду в Павловске, у моих хрумков-гарантов, а в шесть, пожалуй, дома, у компьютера. И если мои работодатели справились с финансовым вопросом, мне хватит развлечений до полуночи. Или до утра — смотря по тому, какой суммой меня осчастливит Ичкеров…
С этой мыслью я вставил ключ в прорезь замка, нажал, распахнул дверь, отряхнул снег с шапки, разделся и решительно направился к телефону. Телефон висел над диванчиком в прихожей, точно на том месте, где его пристроил отец четверть века назад. Древняя модель, с диском и громоздкой трубкой, но я ее не менял; я вообще старался ничего не менять в родительской квартире.
Примчалась Белладонна, неслышно ступая на бархатных лапах, вспрыгнула на табурет, потерлась о мои колени и мяукнула, требуя рыбки, но я не отреагировал. Первым делом бизнес! Первым делом мне нужно было позвонить в «Гарантию», Ичкерову. От разговора с ним зависели и рыбка, и молочко, и все наше благосостояние на текущий период.
Я набрал номер. Послышались гудки, потом трубку сняли.
— Керима.
— Иа! — подтвердил гортанный голос.
— Это Сергей. Могу подъехать завтра. От четырех до пяти.
— Под'жжай. — Кроме акцента, Керим отличался уникальной лаконичностью.
— Сумму набрали?
— Иа.
— Сколько?
— Пол'рра.
Очевидно, Это значило «полтора», и я успокоился. Полтора миллиона, пятнадцать тысяч стодолларовых купюр — минимум того, что мне требовалось. Оставалось уточнить только один вопрос;
— Не мятые? Новые?
— Как жж'па младенца.
— Тогда до завтра.
В трубке что-то проворчали — то ли бай-бай, то ли о'кей.
Нажав на рычаг, я помедлил секунду и принялся дозваниваться Сашке. Это было непростой задачей, ибо у доцента Александра Бранникова по кличке Бянус имелись разнообразные интересы и обширные знакомства, особенно среди милых дам. Будучи мужчиной в самом расцвете лет, пьющим, неженатым и угнетаемым строгими родителями, он посвящал вечера телефонному общению с прекрасным полом, намекая при случае, что есть-де у него верный друг с трехкомнатной квартиркой в Купчине, а в квартире той найдутся ванна, бар и мягкая постель. Иными словами, душ на двоих, бутылка и диван в гостиной, так как в мамину спальню я развратного Бянуса не допускал.
Белладонна подняла ко мне снежную мордочку с большими, бирюзовой голубизны глазами, рассеченными черными щелями зрачков.
Она молчала, как положено воспитанному зверю, но уши и чуть заметно подрагивающий хвост выражали явное неодобрение. Что ж ты, хозяин, — вернулся домой, а кошку свою не кормишь! Хоть бы приласкал, недотепа…
Я коснулся ее спины, и Белладонна, изящно склонив головку, ткнулась носом в мою ладонь.
— Сейчас, красавица. Будет тебе рыбка, и не простая, а из минтая…
Наконец-то мне удалось прорваться к Бянусу, и я сухо сообщил, что пи-эйч-ди[1] Невлюдов, старший научный сотрудник НИИ кибернетики, пожалует к пи-эйч-ди Бранникову, доценту кафедры древних культур, завтра, в час пополудни.
— Народ благодарен и ждет, — откликнулся Сашка. — А какие будут предложения на вечер?
— Ровным счетом никаких, — отрезал я. — Мне нужно работать.
— Грррм… Ты, Серый, учти: народ любит работать, но еще больше народ любит отдыхать. С пивом и девочками. И с плясками под гармонь.
Белладонна, будто подслушав, протестующе мяукнула, я буркнул:
— Обойдешься!» — и повесил трубку. Но телефон тут же зазвонил; Бянусу не терпелось.
— Согласен без пива и девочек, — сообщил он. — Пусть будет Аллигатор с коньячной подливкой, а вместо плясок под гармонь займемся теорией позитивной реморализации.
— Очень даже опохмеляет! — Бянус выдержал паузу и тонко намекнул: — Ну, приглашаешь в гости?
— Черт с вами, приходите, — сдался я, выдернул телефонную вилку из розетки и двинул на кухню. Верно сказано: приятели — это удовольствие, друзья — хлопоты. А если вы дружите с нежных младенческих лет с Бянусом и Аллигатором, то хлопоты вам обеспечены. Похмельные хлопоты, я имею в виду.
Но сейчас мы с Белладонной могли отужинать и отдохнуть в трезвости и нерушимом покое. Белладонна с деликатным урчанием уминала рыбку, я молча ел сосиски и прихлебывал кофе. В выходные и будние дни я пью кофе из отцовой чашки, а из маминой — только по большим праздникам. Чашки видом своим напоминают мне родителей: отцова массивная, капитальная и как бы даже мускулистая; это впечатление создает утолщенный ободок по верхнему краю и резкий изгиб толстой ручки. Мамина чашка из костяного фарфора была как сама мама — тонкой, хрупкой, элегантной. Я пил свой кофе и думал о руках мамы и отца, которые касались этих чашек тысячи раз; когда я размышляю об этом, мне становится спокойно — так спокойно, будто они сидят сейчас в гостиной и обсуждают, не сходить ли нам троим в театр в ближайший выходной.
О одиночество, как твой характер крут!..
Впрочем, кто сказал, что я одинок? Вовсе не одинок. У меня десятки добрых знакомых по ту и по эту сторону океана, у меня есть парочка друзей, есть Белладонна и даже ребенок — правда, чужой. Как-то не получилось, чтоб это дитя стало моим, хотя какое-то время все шло к тому… Но женщины более разборчивы или более капризны, чем дети.
Прикончив сосиски, я пожалел себя в последний раз, пощекотал Белладонну под брюшком и отправился в свой кабинет. У одной его стенки располагается мое лежбище под пестрым покрывалом, у другой — компьютерный стол с контактным креслом, а весь остальной периметр, за исключением зеркала, окна и двери, занят книжными полками. Пятьдесят шесть полок и ровно столько же погонных метров книг; книги моего прадеда, деда, отца и мои собственные. Что не поместилось в комнате, держу в коридоре. Мамина медицинская библиотека хранится в спальне, в ореховом книжном шкафу; и в нем же, на верхней полке — коллекция Коранов, которую собирал мой дад[2].
Помнится, Коран на английском я приволок ему из Штатов в девяносто шестом, вернувшись домой на каникулы… Или в девяносто восьмом? Нет, тогда был доставлен роскошный индейский убор из вороньих перьев, что висит теперь над зеркалом, и пара томагавков…
Я уселся в кресло, но шлем надевать не стал. Тришка, мой компьютер, глядел на меня своим огромным плоским стеклянным глазом, серым и безжизненным, как могильная плита на заброшенном погосте. Но он не был мертв; он лишь дремал, прислушиваясь в своем полусне к призрачным голосам, к электронному шепоту и вскрикам, журчанию и посвисту, которыми говорила с ним Сеть. Даже дремлющий, он мог разобраться с этой Ниагарой информации, с буйными потоками, что хлестали в его приемный канал ежеминутно, ежесекундно; мог найти и опознать то, что было предназначено для меня, Сергея Невлюдова, абонента. Все это он запоминал, сортировал и хранил, поджидая, когда придет команда пробуждения.
Коснувшись сенсора, я перевел Тришку в активный режим.
Его серый глаз ожил, стал наливаться многоцветьем радужных красок; негромко щелкнула обойма с дисками, мягко прожурчал модем, в колонках вокодера зародилась нежная мелодия, а тройлер и операционные пульты, встроенные в ручки кресла, откликнулись тонкими пронзительными сигналами готовности. «Three Shark»[3].
Мой Тришка, добрый приятель, тихая радость холостяка! Окно в мир, что ни говори… Крохотное оконце в очень большой мир…
Я проверил почту — писем мне не поступало. Ни из Кембриджа, ни из Саламанки, ни из иных мест. Пришла обычная информация — статьи, реклама и краткий синопсис по страницам новостей, на которые я был подписан. Байки, сплетни, слухи…
Белладонна явилась следом за мной и, увидев, что я активировал Тришку, прыгнула на стол и расположилась на своем обычном месте, у теплого компьютерного бока. Ее белоснежная шерсть лежала волосок к волоску, ушки были насторожены, а дымчатый пепельный хвост изогнут знаком интеграла. Сейчас она казалась мне не просто кошкой, пусть редкой и необычной масти, а компьютерным духом, маленьким джинном, явившимся из таинственного электронного сосуда, дабы исполнить все мои желания. Почему бы и нет? Японцы (а в бытность мою в Штатах и в Англии я познакомился со многими японцами) считают кошек загадочными существами, наделенными магической силой. Их колдовская мощь тем больше, чем редкостней окрас, и если исходить из этого принципа, то Белладонна — настоящий Мерлин в своем кошачьем племени. В самом деле, часто ли встретишь белую кошку с пепельно-серым хвостом и голубыми глазами?… Глаза у нее совсем человечьи, вроде моих, только чуть-чуть посветлее.
Чтобы убедиться в этом, я вызвал на экран собственную фотографию — из последних, летних. Можно было взглянуть в зеркало, но снимок лучше: во-первых, не гримасничает, а во-вторых, выражение лица самое благородное.
Ну и что же мы тут имеем? Лоб — один (высокий, с залысинами), пара бровей и пара глаз (хотелось бы думать, стального оттенка, но они и в самом деле синие, как у Белладонны); еще — две губы, ниже — подбородок, выше — нос (прямой, аккуратный, отметил я с удовольствием), две щеки (впалые) и левое ухо (правое на снимке не получилось). Все вроде бы на месте и, если рассматривать в деталях, очень даже ничего.
А вот в комплекте что-то не вытанцовывается… Суровости, может, не хватает? Решительности? Или обаяния?
Вот у Белладонны бездна обаяния: Олюшка, моя соседка по этажу (та, что чуть не сделалась моим ребенком), рядом с Белладонной просто млеет. Как и все коты из нашего подъезда, коих еще не успели кастрировать… Как и хозяева котов и кошек, хотя к их восторгам примешивается капелька зависти… Как и гордые владельцы всяких блохастых псин… Как и сами псины, взирающие на Белладонну с острым и дружелюбным интересом…
Да, великая вещь — обаяние! А я вот его лишен.
Хотя, если подумать, дело это поправимое — стоит лишь разжиться шрамом на роже и романтическим ореолом авантюриста. Судя по новостям, свалившимся Тришке в память, возможности к тому имелись. Во-первых, объявления: требуются крепкие молодые мужчины, мечтающие о подвигах, работа — опасная, но высокооплачиваемая. Во-вторых, прямо из военкоматских кабинетов я мог броситься в бой с отложившимся приморским регионом и схлопотать пулю от дыркачей; в-третьих, поучаствовать в крымской кампании, пристрелить десяток громадян. Впрочем, ни то ни другое меня не соблазняло. И там и тут свои били своих, и я решил, что лучше уж вернуться в Штаты и взбунтовать индейцев. Если, конечно, удастся склонить их к бунту и выбиться в индейские вожди… Кстати, похож ли я на индейца? Пойдут за мною апачи? Или, скажем, черноногие из резервации Сан-Паулу?
Нет, не похож! Решительно не похож! Типичный петербургский бледнолицый. В скулах, правда, намечается что-то монголоидное, и глаза косоватого разреза, но это не от индейцев, это от татарских предков.
А если скорчить рожу погрознее?
Повернувшись к зеркалу, я ощерился и рыкнул, перепугав Белладонну. Она с неодобрением следила за мной, пока я изучал свои зубы. Хорошие зубы, крепкие, и все на месте. Никогда их не лечил. Даже странно для мужика, которому за тридцать. У Аллигатора, к примеру, половины нет. Или четверти. Проел на тортах и пирожных, чревоугодник! Я его поддразниваю, а он отбрехивается: мол, бандитская пуля вышибла. Знаем мы эти пули! Знаем, в каких кабинетах они жужжат! Воистину, стоматологи хуже бандитов. А если еще о ценах вспомнить… Я встал, подошел к зеркалу, напялил индейский убор и обозрел себя от кончиков черных вороньих перьев до колен. Может, сойду за ирокеза или пауни? Телом я сухощав; кость широкая, в отца, но мяса на костях немного — это уже в мать. Она была миниатюрной, грациозной и двигалась так, будто танцевала вальс или медленное танго. Но я не унаследовал ее изящества. Я напоминаю не газель, а недокормленного бычка: скелет крепкий, а на нем одни жилы. Конституция номада, говаривал мой дад. Такими, по его мнению, были мои пращуры — татары и те, другие, что пасли коз в Синайской пустыне.
Вернувшись на место и вспомнив, что газеты мои похищены, я вызвал страницы новостей — сначала обычных, которые передавало агентство «Российский Интернет», а затем международные «AmazingNews»[4].
В обычных новостях сообщались вещи обычные: о резне в Крыму, где боевики украинской «Громады» сцепились с татарами и так называемым «русскоязычным населением»; о наборе крымским парламентом добровольцев среди россиян — с целью защиты Симферополя; о карательных операциях в Чечне и поимке пятидесятого по счету полевого командира; о вялых боях на дальневосточном фронте, где три бронетанковые дивизии застряли под Хабаровском в снегах и льдах; о происках китайцев, снабжавших, по непроверенным слухам, отпавшее Приморье (оно же — ДР, «дырка» или Дальневосточная Республика) боеприпасами и техникой; об очередных событиях в Государственной думе — кто-то кого-то облил нарзаном, а лидера фракции ХЛР уличили в трансвестизме или копролагнии[5] — словом, в чем-то нехорошем.
Малоприятные известия, зато «AmazingNews» меня развеселили. Пропустив голливудские сплетни и описание свадьбы двух голубых шоуменов, я погрузился в разделы магии и уфологии. Судя по заголовкам, в последние дни в мире творилось что-то невероятное: повсюду наблюдался электронный полтергейст, лампочки, телевизоры и стиральные машины включались и выключались сами собой, в Глобальной Компьютерной Сети бушевали штормы, приливы и отливы, телекоммуникационные устройства по непонятным причинам сбоили, а затем, без всякого вмешательства ремонтных служб, вдруг восстанавливалось статус-кво. По мнению уфологов и магов, наука была бессильна объяснить всю эту чехарду, так как комет, магнитных бурь, протуберанцев и вспышек сверхновых в природе не наблюдалось. Что до самих уфологов и магов, они выдвигали пару гипотез, вполне адекватных их профессиональной ориентации. Согласно гипотезе номер один, космические пришельцы, решив активнее влиять на земные дела, подбросили вирусы в Сеть — то ли по злобе, то ли с намеком на свое всемогущество, то ли отреагировав на смутные планы насчет марсианской экспедиции. Им, пришельцам, не нравится наша активность в космосе, где нету места для варваров и дикарей; и потому они, пришельцы, предупреждают: сидите тихо, веники, или будете спать под цветочками. Вторая гипотеза, в сущности, ничем не отличалась от первой, но вместо пришельцев в ней фигурировали адские силы зла, прорыв отрицательных астральных энергий либо Господня воля. По утверждениям очевидцев, вступивших в контакт с ангелами, Господь был многим недоволен, но в особенности — нечестивыми экспериментами по клонированию человека, коими занимались Ричард Сид и добрая сотня его последователей.
Читать всю эту белиберду было временами страшно, временами весело, и я, подхихикивая в самых пикантных местах, процитировал пару заметок Белладонне. Она деликатно зевнула, показав острые зубки и розовый длинный язычок; все эти людские измышления, причуды и закидоны были ей, как говорится, до лампочки.
А вот и зря! Кое над чем тут стоило поразмышлять или хотя бы принюхаться. Конечно, не с таким интересом, как к свежей рыбке, но рыбку мы уже съели, и сосиски тоже; пришла пора вкусить пищи духовной.
К примеру, такой: о лазере с американской космической платформы, который взял и вдруг разрядился в сторону Луны. На мой взгляд, это событие принципиально отличалось от баек об электронном полтергейсте: отраженный сигнал перехватили еще два спутника, российский и французский. Любопытная история! И страшненькая, должен заметить! Теперь сотрудники НАСА искали ошибку в своих программах, агенты ФБР шерстили их вдоль и поперек в поисках то ли китайских шпионов, то ли террористов бен Ладена, а Госдепартамент давал мировой общественности туманные объяснения. В том смысле, что Луна — это вам не Земля, и палить в нее не грех, что из этого факта не надо делать поспешных выводов и что лазер был вовсе не боевой, а так, хлопушка. Совсем безобидный прибор для любознательных ученых, который крыльев комарику не обожжет! И вообще боевые лазеры — чистая фантастика, а слухи о них — происки умалишенных пацифистов. Тех, из Грин-писа, что несут всякую ерунду о психотронном оружии, тетрачуме и прочих воображаемых страшилках.
В одной из прочитанных мною заметок МИД России авторитетно подтверждал: да, все это чушь, происки и слухи, игра воображения! Никто не видел этих лазеров ни в космосе, ни на Земле, никто не пытался их проектировать, никто не использовал их в военных целях, так как — по мнению крупных шишек Икс, Игрек и Зет — сие выходит за рамки реальности. Словом, современная наука до этого не доросла, и Россия таким оружием не располагает. Как, разумеется, и Соединенные Штаты.
Ознакомившись с этой реляцией, я скептически прищурил глаз. По выражению одного из моих друзей, каким при|тыркам тут крутили динаму? Есть лазеры, нет лазеров… В лазерах ли дело? Сбой случился в системе управления, а это значит, что сегодня лазер пальнул в Луну, а завтра сами собой взлетят ракеты и прочая беспилотная машинерия. И куда свалится это добро?
На фоне таких перспектив все мои планы, все неприятности вроде пропавших газет, военкоматской повестки и отсутствия обаяния казались сущей чепухой. Равным образом, как и мои успехи в сфере компьютерных наук и сопредельных областях.
Плохи наши делишки, Белладонна, — сказал я. — Не should have a long spoon that sups with the devil… He понимаешь? Перевести? — Она просительно мяукнула; она любит, когда я с ней разговариваю. — Смысл тут такой, моя красавица: если сел обедать с дьяволом, запасись длинной ложкой. А у нас, людей-людишек, ложка коротковата. Или разум?… Это что же выходит? Накрыли столик, пригласили черта, глядь — а с длинными ложками напряженка!
Коснувшись клавиши сенсора, я перевел Тришку в привычный полусон, затем встал и направился к кровати, разоблачаясь на ходу. Белладонна, прижмурив веки, следила за мной.
— Представь, — бурчал я, стягивая рубаху, — что наш Тришка взбесился… все Тришки в мире взбесились… и безобидные вроде нашего, и те, которые при погонах да орденах… взбесились, значит, и пошли палить туда-сюда… Эточто же получится? Страшный суд, моя дорогая! — Я справился с рубашкой и начал расстегивать брючный ремень. — Во-первых, мы с тобой не успеем потратить гонорар от Ичкерова… во-вторых, Бянус не расшифрует свои письмена…в-третьих, Алику некого будет ловить… преступников не останется, понимаешь?… Ни деловых, ни честных фраеров…все будем жмурики… И тогда наступит на Земле сплошное кошачье царство! Одни коты да кошки, и никаких людей! Ты как, не против?
Я был уже в постели, и Белладонна, покинув Тришку, перебралась ко мне под правый бок. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись; в ее глазах я прочел обещание, что в том грядущем кошачьем царстве найдется место для одного человечка. Если он, само собой, не попадется дьяволу на зуб.
Протянув руку, я выключил свет.
Глава 2
ДУХ СКИТАНИЙ
Омар Хайям. Рубаи.
- Мой дух скитаньями пресытился вполне,
- Но денег, как и прежде, нет в казне.
Утром, когда я спустился с лестницы, нижней филенки уже не было. Зато сверху — с седьмого этажа?… — доносилось бодрое постукивание. Возможно, дядя Коля Аляпин строил из филенок забор или возводил фазенду.
Дверь хлопнула за моей спиной. Резкий январский ветерок тут же ударил в лицо, швырнул горсть колючих снежинок, заставив прищуриться; холод, пробравшись сквозь теплую куртку, начал щекотать позвоночник ледяными лапами. Когда я оклемался и проморгался, то обнаружил у подъезда меховой шарик — соседку Олюшку в пышной шубке с капюшоном. Из-под него торчали только светлые брови да курносый нос.
Олюшка, шестилетняя самостоятельная девица, направлялась в детский садик, да видно снежные сугробы ее соблазнили: в одном она прокопала пещерку и что-то прятала в ней, посапывая от натуги. Увидев меня, дитя отряхнуло варежки, поднялось с коленок и вцепилось в мой рукав.
— Дядя Сережа, а, дядя Сережа! Беляночка ест сливу в шоколаде?
Беляночка — это моя кошка. Оля зовет ее Беляночкой, Белкой, Донюшкой, Ладушкой, и вообще отношения у них такие нежные, что временами я испытываю ревность. Оля гладит ее и воркует, а Белладонна мурлыкает ей в ответ, да так ласково, как никогда не мурлыкала мне, своему законному хозяину и кормильцу! Но сердцу, как утверждают, не прикажешь.
Я доложил Олюшке, что Белладонна конфет не ест, в отличие от дяди Сережи. А вот дядя Сережа — большой охотник до конфет, поэтому милости просим в гости, только не сегодня, а завтра, так как сегодня к нам приходят Бянус с Аллигатором, а им сливу в шоколаде лучше не показывать — сожрут вместе с коробкой. Олюшка понимающе кивнула.
— Аллигатор — это дядя Алик, да? А Бянус — дядя Саша? Дядя Алик — большой и толстый, а дядя Саша — низенький и тощий, но едят они вровень. Оч-чень много!
— И пьют тоже, — добавил я. — А выпивши, поют. Так что вы с мамой сегодня вечером не пугайтесь.
— Мы люди привычные, — сказала Олюшка. — Но если дядя Алик будет петь очень громко и мешать мне спать, ты ему передай, что за это положена сказка.
— Всенепременно, — подтвердил я и откланялся. Удивительное дело, лет до двадцати пяти я как бы не замечал детишек. Нет, конечно, замечал, но они меня не волновали, и никакого интереса к ним, спиногрызам, я ощутить не мог. Даже наоборот, чувствовал неприязнь. Подростки казались мне нахальными и нескладными, младенцы мокрыми и пухлыми, как подушки на поролоне, а промежуточная стадия была жутко крикливой, сопливой и донельзя утомительной. Потом все переменилось, как-то сразу и вдруг — дети, особенно в возрасте Олюшки, стали меня привлекать, и при взгляде на них в голове зарождались смутные мысли семейной ориентации. Мой дад говорил, что я превратился в мужчину — то есть не только вырос до метра семидесяти восьми, но и дозрел до нужной мужицкой кондиции. Наверное, он был прав.
Года четыре назад, когда я вернулся домой, к двум могилам и осиротевшему жилью, выяснилось, что прежние соседи по лестничной площадке разъехались кто куда, и теперь рядом со мной обитает Катерина с малолетней Олюшкой. Катерина была женщиной в самом цветущем возрасте, интересной, страстной и вдовой; на первых порах она меня, сироту, пригрела, и у нас даже наметился роман. К счастью, до постели (как с Танечкой, секретаршей Вил Абрамыча) дело не дошло. Повторяю — к счастью; ведь жизнь рядом с женщиной, с которой ты переспал и которая тебя бросила, превратилась бы в нелегкое испытание — во всяком случае, для меня.
Но Катерина, при всем своем темпераменте, отличалась профессиональным бухгалтерским здравомыслием. Выведав, что хоть я учился и трудился за бугром, но богатств никаких не привез, она решила, что научный кадр, даже с двумя степенями PhD, плавает мелковато. Тут страсти и увяли, что не отразилось на наших добрососедских отношениях: Катерина не возражает против песен Алика, а я всегда готов присмотреть за Олюшкой. Особенно в то время, когда у моей соседки наступает период активного секса. Рассуждая об этих вещах, я незаметно добрался до метро, миновал череду женщин, что торговали пивом, колготками и жвачкой, скосил глаз на двух нищенок, дежуривших при входе, однако рука в карман не потянулась. У пропускных турникетов играл на свирели лохматый мужчина с интеллигентным обвисшим лицом. Я кинул в его шапку два рубля; протяжные жалобные звуки, будто примета времени, плыли за мной, когда я шагал по перрону.
В теплом вагоне мне удалось отогреться. Доехав до станции «Владимирская», я выбрался на поверхность, снова прошел сквозь строй торговок и попрошаек и ровно в полдень деликатно постучал согнутым пальцем в дверь третьего отделения. Не надо путать его с царской охранкой темных самодержавных времен; третье отделение райвоенкомата всего лишь курирует господ офицеров, пребывающих на скамье запасных.
Я представился — скромно, но с достоинством, и выложил на стол суровой дамы в квадратных очках пачку документов. Памятуя отцовы житейские уроки, я знал, что и в каком порядке класть. Первым — российский паспорт в коричневой обложке, вторым — зеленый воинский билет с повесткой, третьим — красный диплом об окончании физфака, а затем всякую шелупонь — пестрые заокеанские бумаги о степенях, присвоенных мне университетом Саламанки, штат Огайо, и их перевод на русский. Такой порядок четко классифицировал меня в том уголке мироздания, который назывался Землей; прежде всего я был гражданином России, потом — лейтенантом запаса, а уж напоследок — ученым-физиком, закончившим Петербургский университет, прошедшим аспирантуру в Штатах и стажировку в Кембридже.
Мымра в очках с непроницаемой физиономией просмотрела мои бумаги, хмыкнула при виде зарубежных дипломов, сделала какую-то пометку в воинском билете, и я затрепетал. Я уже видел, как отправляюсь в очередное долгое-предолгое странствие, куда-нибудь на монгольскую границу или под Хабаровск, на усиление нашим дивизиям, потонувшим в дальневосточных снегах. Это был ужасный миг! Мне было ясно — в полный разрез со вчерашними наивными мечтами! — что дух скитаний окончательно меня покинул, что воевать я не хочу, что меня не тянет ни в Грозный, ни в Хабаровск, ни даже в резервацию Сан-Паулу к угнетаемым индейцам из племени черноногих. Я — пацифист! Такой же свихнутый миролюб, как заклейменные Госдепартаментом США уроды! Я тоже боюсь страшного лазера, психотронных бомб и тетрачумы! И я не хочу иметь никакого дела со всеми этими ужасами!
Дама сняла очки, протерла их, надела вновь и поднялась. Рост у нее был гренадерский, на пять дюймов выше меня, хоть сам я отнюдь не карлик.
— Поздравляю, Сергей Михайлович, с присвоением звания старшего инженер-лейтенанта, — промолвила дама официальным тоном.
— Служу демократической России! — с невольным облегчением буркнул я. Затем перевел дух, склонил голову к плечу и интимным шепотом поинтересовался: — Есть ли шанс, что к сорока годам я дослужусь до капитана?
— Нет, Сергей Михайлович, — с той же интимностью ответствовала очкастая. — Тем, кто не служил действительной, хватит трех звездочек. Но если вы интересуетесь карьерой в армии… особенно в местах военных действий… В общем, советую заглянуть в седьмой кабинет к подполковнику Чередниченко. Он вас проинформирует.
— А можно не заглядывать? — содрогнувшись, спросил я. — Можно отметить повестку и удалиться старшим лейтенантом? С тремя ма-аленькими звездочками?
— Можно, — со вздохом согласилась дама. — Хотя жалко. Такой бравый молодой человек…
Я сгреб повестку и свои бумаги и ринулся к выходу, невнятно пробормотав:
— Уже не очень молодой, не очень бравый, зато умный…
Мымра с сожалением смотрела мне вслед сквозь квадратные очки.
Лишь на углу Невского и Фонтанки, миновав поворот к жилищу Глеб Кириллыча и добравшись до Аничкова моста, я обрел душевное равновесие. Пробежка при крепком морозце — градусов этак пятнадцать — меня освежила; полуденное солнышко меня приласкало, а Невский проспект сыграл успокоительную мелодию из шороха шин и людских голосов. Стоя здесь, у копыт взметнувшегося на дыбы бронзового коня, над скованной льдом Фонтанкой, я чувствовал, что нахожусь в предназначенном мне месте, именно там, где полагается мне пребывать — ныне, присно и во веки веков. Это был мой Питер, город, где родились мои отец, дед и прадед и где родился я сам; и тот факт, что я покинул его на время ради других городов, стран и весей, значил теперь меньше нуля, помноженного на ноль. Покинул? Ну и что же? Ведь я вернулся! Мог ли я променять его на Лондон, Бостон или Лос-Анджелес? Ни в коем случае! Быть может, на минареты, зной и пыль сказочно-экзотического Багдада — и то лишь потому, что там царствовал во время оно Харун ар-Рашид.
Город — это прежде всего люди, а русский человек ленив, мечтателен и склонен к героизму, что роднит его, на мой взгляд, с арабами. Именно с арабами, а не с американцами и не с другими народами, могу в том поручиться. Я провел четыре года в Штатах и два — в Британии, я побывал в Париже и Монреале, в Стокгольме и Мехико, в Венеции и Мюнхене, я даже добрался до Каира и Буэнос-Айреса… Словом, я знаю, о чем говорю. У нас с американцами и европейцами ментальность разная, примерно как у дельфинов и осьминогов, так что одно и то же событие мы оцениваем с различных позиций. Взять хотя бы Сашу Матросова — таких солдат, что грудью легли на амбразуру, в России считают сотнями, и все они для нас герои. А в Штатах, как мне говорили, нашелся один, и для кого он герой, а для кого — психопат и неврастеник.
Я рассуждал на эта темы уже в троллейбусе, стиснутый моими ленивыми мечтательными согражданами как рубль в кулаке цыганенка. Песец с дамской шапки щекотал мне нос, чей-то локоть упирался в спину, острый край «дипломата» давил под копчик, но я терпел, обороняя сумку с документами, бутербродами и диском. Диск, к счастью, был упакован надежно, в металлический футляр, рассчитанный как раз на случай давки, мятежа, цунами, землетрясений и других катаклизмов, так что я за него не боялся. Беспокоился за свои ребра.
На остановке у Эрмитажа народ ринулся к дверям, а меня притиснули к сиденью, к какому-то старику в долгополом пальто и черной каракулевой шапке пирожком. Я взглянул на него и почувствовал, как замерло сердце. Я видел его лицо сверху и в профиль, и в этом необычном ракурсе он так походил на отца! Смугловатая кожа, густая нависшая бровь, тонкий хрящеватый нос, резкие морщины у рта, чуть раздвоенный подбородок в серебристых точечках щетины, будто тронутый инеем… Старик шевельнулся, поднял голову, взглянул на меня, и иллюзия исчезла. Похож, да не слишком… Ему было не меньше семидесяти, а дад умер в пятьдесят восемь, от внезапного инфаркта. Скончался прямо за своим рабочим столом… божья смерть, как говорится, без мучений и ужаса, который испытывает человек в преддверии наступающего небытия… Мама была старше отца на шесть лет — тоже не слишком преклонный возраст, — но умерла тремя днями позже, вроде бы без видимых причин. Будто в ней что-то надломилось, сказали мне в больнице… Одним словом, почти как у Грина: хоть жили они недолго, да счастливо и умерли в один день. Иногда я думаю: наверное, мама любила отца больше, чем меня. Кощунственная мысль! Можно ли считать любовь как деньги или оценивать наподобие имущества? Но ведь она ушла за ним, а не осталась со мной…
В те печальные дни я находился в Париже, на конференции по квантовой химии, и потому разыскали меня не сразу. Михалев Глеб Кириллыч — тот самый друг отца и коллега по писательскому ремеслу, обитавший в Графском — нашел мой телефон (мама уже лежала без сознания в реанимации) и принялся названивать в Кембридж, объясняя на пиджин-инглише и вологодско-французском диалекте, что у Сержа Невлюдова, ассистента профессора Диша, умер отец и умирает мать. Пока его поняли, пока разобрались, что он не шутит, пока связались со мной, пока я метался в поисках билета… Пока, пока, пока… Словом, когда я прилетел в Питер, все уже было кончено; дад и мама лежат в морге тридцать третьей больницы, а в пустой квартире жалобно мяукает забытый голодный котенок. Я не знал, не ведал, что родители завели кошку. Я и сейчас не знаю, какое имя они ей дали. Но в том ли суть?… Белладонна напоминает мне о них, и я ее люблю.
Троллейбус форсировал Дворцовый мост, остановился меж ростральных колонн и с облегчением изверг наружу десяток пассажиров вместе с Сергеем Невлюдовым. Сергей Невлюдов — то есть я — огляделся, отринул грустные мысли, почистил перышки и поскакал на истфак, прижав к груди сумку с драгоценным диском и своими дипломами. Вообще говоря, в здании истфака обитают еще философский и экономический факультеты, военная кафедра, а также университетская поликлиника, но историки доминируют над всеми, не исключая военных и докторов. Почему? — удивится какой-нибудь наивный веник. Но личность искушенная усмотрит в том неоспоримый и ясный смысл: история — это политика, а под ее дудку пляшут все: и философы, и экономисты, и генералы, и даже врачи-гинекологи. Во всяком случае, так повелось у нас в России.
Истфак, как и ожидалось, оказался на месте — стоял себе на Менделеевской линии, напротив Двенадцати коллегий, красуясь скромной своей колоннадой и заиндевевшими стенами, с которых осыпалась штукатурка. Впрочем, осыпалась она не первый год, а потому, не обращая внимания на эти мелочи, я юркнул в исторический вестибюль, стрелой промчался мимо буфета с туалетом и ринулся на второй этаж.
Моя поспешность была нелишней — буквально в пяти шагах, за Двенадцатью коллегиями, в старом университетском дворике, прямом и длинном, как атакующая анаконда, располагался дом не дом, терем не терем, но некое древнее капитальное строение, отданное щедротами ректората НИИ кибернетики. Вот в нем-то я и трудился, из дальних странствий возвратясь, и мог вполне нарваться на приятеля где-нибудь у исторического буфета или туалета. Конечно, у пас, кибернетиков, имелась своя столовая, но в буфете истфака встречались та-акие студенточки!.. Вдобавок пиво там было на десять копеек дешевле, сметана гуще, сыр па бутербродах толще, и потому кибернетики исправно паслись на истфаке.
Я не хотел мозолить коллегам глаза. Сами понимаете: военкомат — святое дело; после него нормальный кадр должен кейфовать, вкушать шашлык и чебуреки, лечить нервы горячительным, а не шататься у служебных мест.
Итак, я поднялся по лестнице, прошел по коридору с грязноватыми стенами и выщербленным паркетом в елочку, миновал кафедры новейшей истории России, просто истории России и истории политических учений (все три — догнивающие останки бывшей кафедры истории КПСС); срезал угол у лекционного зала, где кто-то бубнил о скифах и сарматах, и уперся в скромную дверь с надписью: «Кафедра древних культур». Эти культуры делились тут натрое: греко-римская, древнеславянская и все остальные. Бянус относился к остальным. Предметом его интереса были до-колумбовы цивилизации Месоамерики — ольмеки, толтеки, ацтеки и прочие инки да майя. В данное время он занимался расшифровкой узелковых письмен и жаждал осуществить этот научный подвиг с помощью какой-нибудь подходящей программы.
Разумеется, речь шла не о том, чтобы подать на вход закодированные условными символами тексты и получить на выходе индейский эквивалент «Одиссеи» или, скажем, «Слова о полку Игореве». Чудес на свете не бывает, и все обычные программы-переводчики могут работать лишь при наличии словаря и правил, фиксирующих соответствия между грамматическими конструкциями двух языков, — иными словами, эти языки должны быть вам известны. Если же язык мертв и существует лишь в виде непонятной письменности, иероглифов ронго-ронго или узелков на цветных веревочках, то разобраться с ним не проще, чем побеседовать с дельфином. В таких случаях ищут билингву — двуязычную надпись на какой-нибудь стеле вроде Розетского камня, где сообщается об одном и том же на двух языках, знакомом и неизвестном. Но если вы имеете дело с древней Америкой и Океанией, то этот метод неприменим — ведь в те края не добирались ни финикийцы, ни эллины, ни латиняне.
Тут надо идти тропинками поизвилистей, сплетая точный математический метод с эмпирикой и счастливой догадкой. На первом этапе неведомый текст, представленный набором символов, подвергают кластерному анализу, цель которого — распознать устойчиво повторяющиеся кластеры или смысловые группы. Предположим, что это слова или числа; чем больше таких кластеров вы ухитритесь найти, тем более полный словарь получится в результате. Разумеется, вам неизвестно, что означают все эти слова, но одни из них повторяются часто, другие — реже, а третьи — совсем редко. Это, само собой, примитивное качественное описание, а количественным будет частотная характеристика распределения кластеров, их статистический вес в текстах. Когда такая функция получена, вы можете предположить, что чаще всего повторяются слова «царь», «бог», «маис», «жертва» и, к примеру, «зарезать». Сообщив о своих догадках компьютеру, отправляйтесь пить кофе, ибо теперь начнется долгий и муторный процесс: перестановка значений между словами, их идентификация и попытка на этой основе разобраться с предложенным текстом. Возможно, через пару часов или суток вы получите одну-единственную осмысленную фразу, что-то вроде: «царь… бог… маис… жертва». Пляшите — ведь это великое достижение! Теперь вам осталось только заполнить пропуски между словами (конечно, от фонаря) и прочитать: «Царь возблагодарил богов за щедрый урожай маиса и повелел принести им жертву».
К сожалению, ваш коллега, пессимист и старый циник, интерпретирует эту надпись совсем иначе: «Царь неугоден богам, и солнце по их велению сожгло маис, несмотря на щедрые жертвы». Выяснить, кто же прав, можно только одним способом — снова запустить тексты в программу и посмотреть, в каком из двух вариантов получится больше осмысленных фраз. Итак, вы повторяете этот процесс снова и снова, и наконец коллега посрамлен: боги все-таки не поскупились на маис для индейцев. Теперь сядьте за стол и напишите дюжину статей.
Но у Бянуса — то есть у доцента Бранникова — дела до статей не дошли, так как он застрял на самом первом этапе, на поиске символьных групп. Он клялся и божился, что перекодировал свои узелки в символьную запись с величайшим тщанием, учитывая их расположение, размеры, способ вывязки, цвет и даже фактуру нитей. В результате каждый узелок был описан десятком признаков, а узлов этих насчитывалось двадцать тысяч без малого. С одной стороны, хорошо — большой исходный массив гарантировал приличную статистику; с другой, катастрофически плохо — ведь с матрицей двадцать на двадцать тысяч, заданной в десятимерном пространстве признаков, не справилась бы ни одна программа кластеризации.
Ни одна в мире, кроме моего Джека Потрошителя. Не буду распространяться, как он умудрялся это делать, — надежды на медаль Вавилова или иной приятный знак отличия меня еще не оставляют. Я совершенствовал свою методу уже шесть лет, еще со времен стажировки в Кембридже, где хитрый старый Томас Диш подкинул мне одну проблемку. Вопрос касался классификации химических связей в солидной выборке веществ; выделение аналогов позволило бы прогнозировать синтез других соединений со сходными свойствами, что являлось весьма непростым и хорошо финансируемым промышленным заказом. Мне повезло с этой задачей: программист, не понимающий физических нюансов, ее бы не решил, а физик или химик, решив, не смог бы написать программу. Но я был един в двух лицах и, как бог Саваоф, породил Джека — тогда еще просто Джека-малютку, Джека-младенца. Потрошителем он стал уже здесь, на кафедре Вил Абрамыча, когда я довел до кондиции шестнадцатый или семнадцатый вариант; и отличался он от первого, как шотландское виски от пива «Балтика». Я подразумеваю не столько крепость этих напитков, сколько разницу в цене — в цене моих бессонных ночей и бдений у экрана Тришки.
Но результат того стоил. Теперь мой Джек потрошил любую проблему, связанную с классификацией, как повар — дохлого кролика; он мог переварить гигантские массивы, найти сходство и разницу между объектами в поле десятков параметров, собрать их в группы, выявить их кластерную структуру, аппроксимировать недостающие признаки и так далее, и тому подобное. Он мог обрабатывать информацию визуального и звукового ряда: тексты, спектры, кардиограммы, отпечатки пальцев, подписи, изображения человеческих лиц и денежных знаков, сонаты Шуберта и птичий щебет — словом, все, что можно загнать на диск через тройлер. Еще он мог…
Тут я обнаружил, что толкаюсь в дверь кабинета, который доцент Бранников делил с доцентом Сурабовым, специалистом по халдеям. Или, возможно, по ассирийцам.
Дверь была заперта, но за нею что-то мелодично позвякивало.
— Тук-тук, — сказал я.
— Кого черт принес? — откликнулись из-за двери. Судя по бодрой реакции на мое «тук-тук», это был не вежливый престарелый Сурабов, а нечто более молодое и грубое.
— Здесь Чингачгук Зеленый Змей с Кецалькоатлем, — вполголоса рявкнул я. — Открывай, шланг бледнолицый!
— Сначала посоветуюсь с Великим Духом Маниту, — отозвался Бянус, но дверь все-таки открыл. Потом оглядел меня, нахально прищурив глаз, и вымолвил: — Зеленого Змея вижу, а где же Перистый?[6]
— Будет тебе и Перистый, — сказал я, направляясь к саш-киному столу с компьютером и расстегивая сумку. — Твой друг Чингачгук теперь за старшего лейтенанта у могикан, с тремя перышками в хвосте. Распущу, сам пересчитаешь.
Сашка восхитился:
— Ну, Серый, молодец! Хоть и не майор, как наш Симагин, но все же… Надо отметить! — Он шагнул к столу и вытащил невесть откуда ополовиненную бутылку и стакан. Какой он шустрый, если дело касается горячительного!
— Вечером отметим, — сурово произнес я, включая компьютер. — Придете вы с Симагиным ко мне, и отметим. Ноумеренно, как люди культурные! А сейчас замечу, мой бледнолицый брат, что ты слишком много пьешь при закрытых дверях. Мама мне говорила, что пристрастие к алкоголю ведет к импотенции.
Пропустив последнее замечание мимо ушей, Сашка приласкав бутылку нежным взглядом.
— Разве я пью, Серый? Я выпиваю! Изредка! По поводу и случаю… Вот кто действительно пьет, так это археологи.
— Работа у них такая, — заметил я, отсоединив от сашкиного пентюха модем[7].
— Археологи — мотыга и плуг вашей науки. Всякий историк пашет на археологе… Так что им полагается. За вредность.
Разглядев мои манипуляции с модемом, Бянус встрепенулся, забыв про свою бутылку.
— Ты что делаешь, начальник? Совсем обездолить хочешь? Я ведь ни одной новой статьи не получу!
— Не получишь, — согласился я. — Но вспомни, друг мой: little pitchers have long ears[8]. Я не хочу, чтобы мою программу украли с твоего компьютера. Убери модем подальше и не пытайся выйти в Сеть. Если подключишься, узнаю!
— А как? — спросил он с любопытством неофита.
— Узнаю. Есть способы… Кстати, ты слышал, что похоронные венки налогом не облагаются?
Бянус чиркнул ребром ладони поперек горла.
— Клянусь! Чтоб мне увидеть тепловую смерть Вселенной! Я уже забыл про всякие сети и неводы! Ты только скажи — это надолго?
— На все время, пока работаешь с Джеком, — буркнул я, вкладывая диск с программой в приемную щель. На сашкином компьютере (весьма убогом, даже учитывая состояние университетских финансов) не было обоймы с автоматической подачей дисков, и эту операцию приходилось выполнять вручную. Впрочем, у историков работа сидячая, так что им полезно слегка размяться.
— На все время? — протянул Бянус с ошеломленным видом. — Да я ведь могу возиться с расшифровкой целый год! А как же контакты с научной общественностью?
— Контактируй через коллегу. — Я покосился на стол Сурабова, где матово поблескивал точно такой же компьютер, как у Сашки. — Он ведь не откажет?
— Не откажет, — со вздохом согласился Бянус.
Я переписал инструкцию, инициировал Джека и принялся объяснять, как должны быть подготовлены исходные данные, что означает каждая позиция меню и какие промежуточные сообщения могут появляться в окнах[9]. Все это содержалось в инструкции, но Бянус, в силу своего гуманитарного образования, разбирался в таких вещах, как мусульманин в ветчине, иными словами — на уровне «чайника». Так что мои комментарии были отнюдь не лишними.
Он уважительно внимал мне и что-то бормотал под нос. Не прерывая лекции, я прислушался.
— …высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы… Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина, и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих возникает синекдоха отвечания…
Бянус цитировал «Сказку о Тройке» братьев Стругацких, и это сразу напомнило мне детство. Наша шайка-лейка-я имею в виду Сашку, Алика и себя самого — открыла Стругацких в пятом классе и до шестого проглотила все — от рассказов до «Града обреченного», благо в отцовой библиотеке каждый роман и каждый рассказ имелись как минимум в двух экземплярах. Дальнейшие наши школьные годы прошли под знаком Стругацких, да и университетские тоже, когда я учился на физфаке, Алик — на юридическом, а Бянус грыз исторический гранит. Где-то на первом курсе мы вдруг сообразили, что можем поддерживать связную и даже остроумную беседу, оперируя цитатами из «Понедельника», «Тройки» и «Гадких лебедей» — с некоторыми добавками из обожаемого Высоцкого.
Эта полудетская привычка не сохранилась у нас с Симагиным (Алик теперь чаще «ботает по фене»), но Сашка, самый начитанный и памятливый из нашей троицы, ее не отринул. До сих пор он мог цитировать Стругацких страницами и в незнакомой компании представлялся так: Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза». На девушек-интеллек-туалочек это производило впечатление; они принимали Сашку то ли за светило юридической науки, то ли за модного гинеколога, специалиста по гонорее.
Итак, он бормотал себе под нос, а я, закончив объяснения, взглянул на свой стодолларовый ханд-таймер[10].
В овальном продолговатом оконце горели цифры «14:33», ежеминутно сменявшиеся расписанием павловских электричек. На ту, что отправлялась из Купчино в пятнадцать пятьдесят, я еще успевал.
Мы порешили, что Бянус созвонится с Аликом, а я буду ждать их к восьми, с закуской плюс средства доставки «пузырь-поддувало». Затем я поспешно сжевал бутерброд, отверг поползновения Сашки насчет горячительного и покинул его обитель. У лекционной аудитории мне довелось столкнуться с Сурабовым Мусой Сулеймановичем и раскланяться с ним. Сурабов был достоин уважения как человек интеллигентный, немолодой и в силу этого мудрый и терпеливый; впрочем, другой не ужился бы с Сашкой в одном кабинете.
В Павловск я добрался вовремя, в пятом часу. Сумерки над парком и привокзальной площадью уже сгущались, и плавное кружение снежинок, поблескивающих серебром в свете редких фонарей, напомнило мне сцену из классического балета — то ли крохотные лебеди, то ли эльфы в белых камзольчиках плясали в холодном обсидиановом воздухе, на фоне темнеющего неба и елей с разлапистыми ветвями. Я глубоко вздохнул, подумав, что вся эта нетленная красота имеет еще одно преимущество: от Павловска до моего Купчина было двенадцать минут езды на электричке, и значит, я находился почти дома. Это вдохновляло и успокаивало.
Странная приверженность домашнему очагу! Особенно для того, кто молод еще годами, но успел поскитаться по Америкам и Европам… Однако чем старше становишься, тем лучше себя понимаешь, и я уже не первый год догадывался, в чем тут причина. Я вовсе не домосед; напротив, я люблю постранствовать, я легок на подъем, и дальние дороги мне не в тягость. К тому же в душе я романтик, и все необычное, таинственное притягивает и манит меня, как минареты зачарованных дворцов в Аравийской пустыне. Но даже романтику нужен дом, надежное прибежище, гавань стабильности и покоя; и этой гаванью были отец и мама. Где бы я ни учился, куда бы ни ездил, где бы ни жил, дом мой всегда пребывал в точном и определенном месте, и под крышей его меня всегда ждали.
Но больше не ждут. Теперь я сам себе дом, а это, что ни говори, налагает определенные обязательства. Хотя бы в отношении моей кошки.
Я обогнул парк справа и очутился на заснеженной улице, где в двухэтажном флигеле с обширным подвалом размещалась фирма «ХРМ Гарантия». Вернее, «Художественно-реставрационные мастерские «Гарантия», акционерное общество с ограниченной ответственностью. Это наименование давало массу поводов для словесных извращений, и я звал своих работодателей то гарантами, то реставраторами, то хрумками. Познакомились мы прошлым летом, когда я разыскивал умельцев, способных привести в порядок старинный книжный шкаф — тот самый, где хранятся мамины книги вместе с отцовскими Коранами. Хрумки заказ исполнили в самом лучшем виде и взяли недорого, а я помог им купить компьютеры для бухгалтерии и дирекции; так у нас наладилось что-то вроде сотрудничества. Вскоре я узнал, что занимаются они не только реставрацией, но всяким иным промыслом, вроде бы законным и легальным — словом, всем, где пахнет прибылью. Надо сказать, сей аромат меня равнодушным не оставил. Мои расходы никак не желали мириться с доходами; собственно, расходов было много, от квартплаты до рыбки для Белладонны, а доход — один: скромное содержание государственного служащего четырнадцатого разряда. Именно таков ранг старшего научного сотрудника в новой демократической России, и должен сказать, что это совсем не сахар; коллежскому асессору при проклятом царизме жилось куда сытнее.
В общем, гаранты взялись меня подкармливать, подбрасывая кое-какую программистскую работенку. Не знаю уж отчего: по доброте душевной или связав со мной некие перспективы как с человеком молодым, повидавшим свет и всякие языки и племена. Может, языки их и соблазнили: английский я знаю не хуже русского, на французском говорю свободно, а на немецком, испанском, татарском и идише могу объясниться. Так ли, иначе, но мы добрались до нашего нынешнего проекта, в котором Джек играл первостепенную роль; и оплачивались эти игры с весьма пристойной щедростью.
Я поднялся на невысокое крылечко, позвонил и был допущен в нижний вестибюль, скромно отделанный светлыми сосновыми панелями. Тут всегда дежурили пятеро мордоворотов из «Новгородской Дружины» и милиционер-автоматчик, причем понять, кто у кого на подхвате, было абсолютно невозможно. Милиционер, крупный парень симагинских пропорций, ошивался у дверей бухгалтерии, а дружиннички резались в карты, да не в какое-нибудь очко, а в преферанс. Бесспорный признак высокого интеллекта!
На второй этаж вела деревянная лестница с резными балясинами, выходившая в верхний холл (панели из бука, палисандровые шкафчики с образцами изделий, подвесной потолок и хрустальные светильники). Среди этого великолепия восседала красотка-секретарша в жемчугах и брильянтах — куда там нашей Танечке, с которой я крутил любовь! Напротив этой красавицы (двадцать шесть лет, зовут Инессой, рост метр семьдесят, три четверти приходится на ноги) был небольшой коридорчик с тремя дверями: левая — в кабинет директора, две правые — к его заместителям. Двери выглядели очень солидно, как и кабинеты, отделанные каждый на свой манер. Я называл их «усыпальницей», «Фоли-Бержер» и «скотобойней».
Мои работодатели были людьми бывалыми и небедными; судя по всему, их реставрационный бизнес процветал, подпитываемый с двух сторон заказами городской и областной администраций. Их бригады трудились в Петропавловке и в Эрмитаже, в Павловском, Пушкинском и Гатчинском дворцах и в Казанском соборе; были у них даже альпинисты, полировавшие адмиралтейский шпиль, и спецкоманда по свержению монументов советской эпохи — тех самых статуй и стел, к коим без пятидесятитонного крана не подберешься. Этой производственной деятельностью руководил лично Петр Петрович Пыж, генеральный директор, бывший сибиряк, бывший искусствовед, бывший скульптор и бывший чего-то там еще, крепкий мужчина лет пятидесяти. Керим Ичкеров, гарант помельче, занимался финансами и перспективными проектами, а Альберт Максимович Салудо ведал безопасностью. Безопасности хрумки придавали очень большое значение.
Взобравшись на второй этаж, я обнаружил секретаршу Инессу в самой соблазнительной позиции: в глубоком кресле, нога на ногу, ручки за головой, грудь колесом. И какая грудь! Хоть был я с мороза, но сразу вспотел.
Инесса бросила на меня небрежный взгляд из-под темных шелковых ресниц. Я призывно улыбнулся ей — как всегда, без видимых результатов. Где ты, мое мужское обаяние?!
Покачав длинной ножкой в ажурном чулке, секретарша молвила:
— К господину Ичкерову?
— К нему, may fair lady[11].
Языки не были ее сильной стороной, но, уловив что-то про леди, Инесса соизволила чуть-чуть растянуть губы — не улыбка, а скорее намек на улыбку. Затем она потянулась к селектору, щелкнула клавишей и с придыханием произнесла: — Господин финансовый директор? К вам господин Невлюдов.
Селектор что-то буркнул в ответ, и секретарша кивнула в сторону коридорчика:
— Проходите, Сергей Михайлович. Господин Ичкеров ждет. Но я стоял и молчал, растягивая удовольствие. Хоть было ясней ясного, что ничего мне тут не обломится и пора изображать сквозняк, все-таки глядеть на Инессу было приятно. Куда приятней, чем на очкастого гренадера в военкомате!
Молчание затягивалось, и, почувствовав неловкость, я спросил:
— А здесь ли нынче Север Исаакович?
Этот Север Исаакович, по фамилии Зон, по кличке Сизо, был камнерезом-умельцем, алкоголиком и моим приятелем. Располагался он в подвале, где у гарантов были оборудованы мастерские, и я мог бы лично прогуляться в это производственное помещение. С другой стороны, нельзя же беспардонно пялиться на девушку и ничего не говорить?…
Инесса снова качнула ножкой и хлопнула ресницами.
— Севера Исааковича сегодня в дирекцию не вызывали, и мне он не встречался. А вас вызывали, Сергей Михайлович. И ждут!
Она снова показала взглядом на коридорчик.
Я направился туда, обернувшись разок-другой по дороге, чтобы полюбоваться на Инессу. Что за фактура! Какой пейзаж! Достоин кисти Сезанна. Или Гогена. Или даже самого Франсиско Гойи… Словом, кто прекрасней всех на свете? Вы — в колготках «Голден леди»!
А эту мымру из военкомата только Дейнеке рисовать, мстительно подумал я, открывая дверь в кабинет Ичкерова.
Господин финансовый директор сидел в кресле за серповидным столом, положив на него короткие мускулистые ноги в начищенных до блеска ботинках. Был он похож на мамелюка с картинки: усы торчком, нос крючком, антрацитовые зрачки плюс золотая серьга в левом ухе. Этническая принадлежность Керима оставалась для меня тайной. Не чеченец, не лезгин, не осетин и не азербайджанец… Может, что-то экзотическое? Сван, пшав или хевсур? Может, вообще не кавказец, а сын турецкоподданиого, как Остап Бендер?…
Помещение у Керима было отделано в нежных розовых тонах, с розовыми шторами и золотистой обивкой кресел; висели в нем портреты кинозвезд в самом натуральном виде — то есть в чем мать родила. Поэтому я называл керимову обитель «Фоли-Бержером»; она будила во мне смутные воспоминания о Франции и прочие грешные мысли. Рядом с сейфом, на столике красного дерева, располагался компьютер: снаружи — бронза и золото, спецзаказ для нуворишей, внутри — весьма приличный квинтяк[12], приобретенный при моем посредстве.
Керим энергично махнул рукой, указав мне на кресло. Я сел и утонул в пуховом сиденье; мои колени задрались выше подбородка.
— Счас п'эдем.
— Поедем? Куда? — Я с удивлением воззрился на финансового директора.
— К тэбе. С качками. Пол'рра лымона, как-ныкак… Ба-алшие башлы! Охранат нада.
Вот что значит практический ум! А я-то думал, что получу сейчас чемоданчик, а в нем — полтора миллиона долларов плюс вспомогательные материалы… Как бы не так! Ба-алшие башлы, охранат нада! И правильно.
Толстым коротким пальцем Керим ткнул в пульт селектора.
— Ныколай, ты? Мой бронэход к под'эзду!
Он встал, облачился в дубленку из серой замши и начал колдовать у сейфа — огромного сооружения, обшитого розовым буком, с блестящей анодированной дверцей. На дверце тоже был портрет нагой красотки, в панике привставшей над унитазом. Из унитаза высовывалась страшная волосатая лапа и тянулась к ее розовому задку.
Раздался жуткий вопль, затем — дробная пулеметная очередь, и сейф раскрылся. Керим отключил сигнализацию, вытащил большой алюминиевый чемодан и захлопнул дверцу.
— Пой'ддем, бабай. Пора тэбе наши дэнги отрабатыват.
— Пой'ддем, шашлык, — ответствовал я, поднимаясь. — Мой готов.
— Этот наш «базар на фене» — вполне допустимая вольность меж добрыми знакомыми. Фени я нахватался у Симагина, и на этом странном языке «бабай» означает «азиат», а «шашлык» — «кавказец». Керим звал меня бабаем, потому что я наполовину татарин, на четверть еврей и еще на четверть белорус или литовец (последнее даже отцу не было точно известно). А я звал господина директора шашлыком. Вот и квиты. Все по совести, все по чести… Оно и к лучшему. Как говорят британцы, full of courtesy, full of craft[13].
Мы спустились вниз (дорогой я снова полюбовался на Инессу) и залезли в керимов бронеход — джип «Мистраль» с пуленепробиваемыми стеклами. То есть я так думал, что стекла непробиваемые, поскольку были они толщиною в палец.
Господин финансовый директор устроился рядом с шофером, я сел сзади, промеж двух новгородских дружинничков. Под курткой у того, что сидел справа, прощупывалось что-то твердое и длинное — ручной пулемет или — бери выше! — базука.
Салон «Мистраля» был широк и высок, но просторным сейчас совсем не казался. Мебели было многовато — пара шкафов рядом со мной да еще водитель, тоже комод не из последних. В сравнении с этой троицей мы с Керимом выглядели как две тумбочки для постельного белья: одна повыше и постройней, другая — пониже и пошире. Но все-таки тумбы, а не шкафы, считались главными: их охраняли, их берегли, а пуще того чемодан, упакованный в первую тумбочку. Да и то сказать — пол'рра лымона, как-ныкак!..
Водитель дал по газам, и мы рванули. «Мистраль», похожий на боевую машину пехоты, с гулом и грохотом рассекал атмосферу; она, побежденная, стонала и выла за кормой, разорванная в клочья. Широкие шины подминали снег, мощно урчал мотор, поскрипывали сиденья натуральной кожи, и всякий встречный, поперечный и продольный шарахался от нас как от чумы. Словом, берегись, мелюзга, — стопчем!
До моего дома на углу Дунайского и Будапештской мы домчались за девять минут двенадцать секунд и тормознули на углу, не заезжая во двор. Уже почти стемнело. Снег больше не падал.
— Вылэзай, — сказал Керим, поворачиваясь ко мне.
— А ближе не подъедем?
— Нэт. Нэ надо, чтоб видэли, на чем ты приэхал. Йа зайду с тобой, а Ныколай с Борысом принэсут кэйс.
Нелишние предосторожности, подумал я, вспомнив о глазастых дворовых бабках и вороватых тинейджерах. Возможно, гуляли у нашего дома и другие люди, у коих керимов драндулет, вкупе с чемоданом, вызвал бы нездоровое любопытство.
Николай — тот, с гранатометом под курткой, спросил:
— Парадная на замке?
— Да. Код шестьсот десять. Нажать разом три кнопки.
— Нищий у тебя замок, — проворчал Николай. — Даже куска не набрать.
Мы с Керимом покинули бронеход, обогнули угол дома, прошли под аркой и направились к подъезду. Филенку еще не вставили, так что кодовый замок был чистой условностью — в дыру под ним мог пролезть любой и каждый. Почти любой — все-таки у Николая были выдающиеся габариты.
Белладонна приветствовала нас сдержанным урчанием. Керим искоса взглянул на нее, сбросил дубленку на диванчик и прошелся по коридору, небрежным хозяйским жестом отворяя двери. Потом спросил:
— Адын живешь?
— С кошкой.
— Правылно, — одобрил мой работодатель. — Пака маладой, нада жит адын. Бэз баб.
— Тяжко без них, — признался я.
— Прыводи! Хот каждый ночь. Будут денги, будут и бабы.
На этом наша дискуссия закончилась: Николай с Борисом приволокли чемодан и, вручив его в хозяйские руки, уселись покурить в прихожей. Белладонна неприязненно осмотрела их, задрала серый хвост и с гордым видом удалилась на кухню. Я проводил господина Ичкерова в комнату, к тришкиному столу, и активировал компьютер.
Раскрыв чемодан, он вручил мне пакетик, лежавший сверху.
— Твое. За январ.
Затем выгрузил шесть коробок с аккуратными надписями, пять составил штабелем в кресло, а последнюю водрузил на стол. Пометка на ней гласила: «US. $1 500 000». На остальных емкостях числа были такими же, но география — иной: Сингапур, Гондурас, Польша, Швейцария и еще что-то непонятное — Фанора или Факора. Я такой страны не знал.
Керим пошевелил усами, хлопнул по штабелю в кресле короткопалой ладонью и распорядился:
— Эти оставлу на нэделу. Толко ты поосторожнэй — людам нада вернут. Это, — он показал на последнюю коробку, — сдэлай сечас, бабай.
— Сдэлаю, шашлык, — сказал я и раскрыл коробку.
Там лежали пятнадцать тугих серо-зеленоватых пачек, новенькие стодолларовые банкноты, и с каждой сурово взирал на меня президент Франклин. За всю свою жизнь я не видел такого богатства наличными; наличность в местах цивилизованных не в почете и демонстрировать ее — признак дурного тона. Есть карточки, есть чеки, есть «Вестерн Юнион»… За океаном живые деньги медленно, но верно, превращаются в раритет; бумажки никому не интересны, а монеты все больше выпускают юбилейные, вроде канадских авиационных долларов.
Есть, однако, свое нездоровое очарование в наличных…
Керим испытующе уставился на меня, но я и бровью не повел: взяв первую пачку, вложил ее в приемный паз тройлера, уже подогнанный к размерам банкноты. Тройлер не стоит путать с трейлером, бойлером и бройлером; в бройлере, к примеру, выращивают цыплят, а в тройлере — информацию, Это устройство заменило всевозможные сканеры, принтеры и магнитофоны; с его помощью можно ввести в компьютер и перекачать на диск любые изображения, равным образом как и вывести их — на бумагу, пленку или магнитный носитель. Благодаря щедрости гарантов тройлер у меня был наивысшего класса: книжки по восемьсот страниц считывал за минуту.
Зеленые пролетели со свистом, и каждый подмигнул мне овальным зрачком с физиономией президента Франклина. Я сунул в паз вторую стопку, затем — третью и четвертую, наблюдая, как на экране, параллельно с формированием входных массивов, плавно сдвигаются указатели — каждый в своем окне, голубом, желтом или оранжевом. Эти массивы являлись многомерными матрицами, причем желтая и оранжевая хранили вид купюр с лицевой и оборотной стороны, а в голубой фиксировалась картинка «на просвет», позволявшая уловить нюансы, связанные с водяными знаками, текстурой бумаги, запрессованной в нее станиолевой полоской и другими заокеанскими хитростями и прибам-басами. Формирование матриц было лишь начальной стадией моих трудов; на следующем этапе аналитический модуль Джека произведет селекцию, выделит явные признаки и займется классификацией. А после мы доберемся до признаков тайных…
Тройлер стремительно пролистал пятнаднатую пачку, в стереоколонках раздался мелодичный звон, указатели в окнах сдвинулись вправо, сканирование закончилось; теперь диск данных хранил подробнейшую информацию о пятнадцати тысячах купюр. О настоящих долларах. Прочие, поджидавшие в кресле, этим похвастать не могли.
Керим любовно упаковал зеленые в коробку и упрятал ее в чемодан.
— Черэз нэделу пришлу Ныколая. Он заберот картынки.
Я кивнул. То, что лежало в кресле, действительно было картинками, шедеврами подпольного искусства разной степени достоверности и правдоподобия. Где «гаранты» откопали их? Я был не настолько наивен, чтобы задавать подобный вопрос. Аsk nо quеstiоns аnd bе tоld nо liеs, говорят англичане; не спрашивай, и тебе не солгут. Кстати, и глотку не перережут.
Когда Ичкеров удалился вместе со своей командой, я заглянул в конвертик, где лежало «мое, за январ». Вдвое больше, чем за «дэкабр и ноябр»; видимо, намек, что от меня ждут небывалых трудовых подвигов.
Я спрятал конверт и убрал коробки с кресла под тришкин стол, с глаз долой. Через пару часов ко мне пожалует инспектор налоговой полиции, а нюх у него как у ищейки — точь-в-точь доберман-пинчер, только на двух ногах… Вспомнив об ищейках, я вызвал своего стража-Добермана, вспомогательный джеков модуль, и ввел адрес сашкиной машины. Пусть только попробует выйти в Сеть!
Засим я отправился на кухню, готовиться к дружеской встрече. Белладонна сидела на табуретке и умывалась; нижние лапки обнимал серый хвост, передние вылизывал розовый язычок. В такой позе она напоминала алебастровые изваяния священных кошек, виденные мной в каирском музее, — их извлекли из захоронений трехтысячелетней давности. Но Белладонна была теплой, мягкой, живой. Я погладил ее по спинке.
— Мы при деньгах, красавица. Пожалуй, вместо минтая куплю тебе трески… или даже окуня. Ты ведь любишь окуньков? Я думаю, окунь повкусней трески?
— Мяууу, — согласилась Белладонна, облизнувшись.
Глава 3
C ЛЮДЬМИ ТЫ ТАЙНОЙ НЕ ДЕЛИСЬ СВОЕЙ
Омар Хайям. Рубаи.
- С людьми ты тайной не делись своей,
- Ведь ты не знаешь, кто из них подлей.
- Как сам ты поступаешь с божьей тварью,
- Того же жди себе и от людей.
Мой ханд-таймер просигналил восемь, и тут же раздался звонок от дверей.
— Кто там?
— Железный Феликс с Иудушкой Троцким.
Я отворил. Бянус начал отряхивать снег с шапки, а Алик тут же полез обниматься, молодецки ухая и хлопая меня по спине огромной ладонью.
— А кто тут у нас старшой лейтенант? — гудел он сочным баритоном. — Кому это фарт привалил? Кто ж это буром прет в начальники? Кого мы сегодня почешем за ушками?
— Кошку мою почешешь, следак, — ответствовал я. Симагин стащил пальто размером с небольшой парашют и повесил на вешалку. Вешалка крякнула, но устояла.
— Я не следак, — сообщил он, отдуваясь, — я полицейский инспектор в чине майора. Я ловлю, а не разговоры разговариваю.
— То-то ты сегодня такой молчаливый, — заметил Сашка, копаясь в своем портфеле. Там что-то мелодично позвякивало.
Мы прошли на кухню. Белладонна милостиво дозволила Алику пощекотать брюшко, Бянус водрузил на стол две бутылки «Политехнической», а я с облегчением вздохнул. Две бутылки на троих не так уж много… С другой стороны, портфель у Бянуса был огромен, и в чреве его могла уместиться канистра со спиртом.
Я не любитель горячительного, что портит временами все удовольствие от наших посиделок — по крайней мере, для меня. Сашка и Алик выпивают, и стол для них без бутылки не стол, а пустыня Сахара, хоть с оазисами хлеба, шпрот и ветчины, но лишенная всяких живительных источников. Однако я терплю и даже прикладываюсь к этим источникам, дабы не смущать гостей и поддержать компанию. Чем не пожертвуешь ради близких! Даже спокойствием в желудке.
Встречаемся мы регулярно, и тому есть множество причин. Во-первых, дружим мы четверть века, с нежного семилетнего возраста; правда, в первом классе мы с Сашкой дрались, а Симагин нас разнимал, щедро раздавая оплеухи. Во-вторых, учились мы в одном университете, хоть ездили в разные места: Сашка — на стрелку Васильевского острова, Алик — к Смольному, где размещается юрфак, а я таскался в Петергоф, куда в семидесятых годах переселили естественно-научные факультеты.
Но так ли, иначе, закончили мы одну и ту же школу и одну и ту же университетскую альма-матерь, как говорит Сашка. И жили они поблизости: Бянус — на Будапештской, в пяти минутах ходьбы от меня, а Симагин чуть подальше, на углу Дунайского и Купчинской. Вот и третья причина, очень важная, надо сказать: путь домой под газом был для моих друзей недолог. В-четвертых, все мы оставались холостыми, и только Бянус мог похвастать полным родительским боекомплектом; я — круглый сирота, а Алик жил с матерью.
На самом деле его зовут Олег, но это имя легко трансформируется в Алика и дальше — в Аллигатора. Он мужчина мощный, героического сложения, уверенный в себе, с крупными чертами, вставной хромированной челюстью и львиной бурой гривой. Мне кажется, при одном его виде злодеи должны трепетать и во всем сознаваться, и в бывших, и в будущих грехах. Жизнь у нею нелегкая, но полная приключений; после юрфака он служил в ОБОПе[14], потом, окончив вечерний экономический институт, перешел в налоговую полицию. Несмотря на суровость полицейских будней, парень он компанейский, любит зверье, детишек, обожает вкусно поесть и петь песенки под гитару.
Сашка-Бяшка, едкий, тощий, желчный, полная ему противоположность. В школе его гордую фамилию Бранников переделали в Баранникова, а потом просто в Бянуса-Барана, но к баранам он совсем не относился. По характеру он был совсем не баран, а ядовитый скорпион или лернейская гидра, правда страдал слабостью к женскому полу.
Вот и сейчас, деловито раскупоривая бутылки, он принялся толковать про очередную свою пассию, Верочку с психологического, то ли аспирантку, то ли ассистентку, но отнюдь не синий чулок, а скорее колготки «Омса». Во всяком случае, именно в них Верочка покорила Бянуса, и теперь он прозрачно намекал, что мне пора развеяться, прогулявшись ближайшим вечерком в театр. Но я держался стойко.
Мы разлили по первой, и Алик предложил тост за хозяина дома:
— Чтоб на твои погоны звездочки падали почаще и были покрупней!
Мы выпили, и Бянус завистливо сказал:
— А я вот все в лейтенантах хожу… Не любят в военкоматах историков!
— Раз ты младший по званию, будешь открывать сардины, доцент, — распорядился Алик.
— Может, лучше — разливать, майор?
Симагин ухмыльнулся, показав отличные вставные зубы.
— Увянь, штафирка! Не стучи кадыком! Разливают всегда майоры, а не доценты с лейтенантами. Те только открывают.
Он потянулся к бутылке и налил — под восхищенный шепот Сашки:
— Ну и майорский глаз! Глаз-ватерпас! Прям-таки исполин духа и корифей!
Мы выпили по второй, за вечную дружбу, и Алик с Бянусом закурили. Я не курю и потребляю в меру, как говорилось выше; просто идеальный муж, да вот никто меня не берет… Хотя если вспомнить о Танечке, о Нэнси и Гите… На Гите я чуть не женился, но она, отучившись в Штатах, собиралась вернуться в Германию, в Марбург, что противоречило всем моим планам.
Алик стряхнул пепел в блюдце и, взглянув на Бянуса, спросил:
— Как поживаешь, доцент? Как там твои шнурки от индейских сандалий? Крыша от них еще не поехала?
Сашка пожал плечами.
— Чтой-то у тебя интерес к индейцам проснулся, майор? Накрыл банду апачей? Или гуроны налогов не платят?
— Интерес у меня не к индейцам, а к тебе, — солидно пояснил Симагин. Затем подумал и добавил: — Насчет индейцев я тоже любопытствую, доцент. Какой в них, скажем, нынче толк и смысл? Взять хотя бы ту же майя-мафию… О чем записано в их узелках? Пыхтишь ты над ними, пыхтишь, а может, там одни имена усопших от жреческого беспредела, и пользы от этого, за давностью лет, никакой. Вот если б ты разузнал что-то толковое… скажем, что они пили и чем, понимаешь, закусывали?
— Я занимаюсь сейчас не майя, а инками, — уточнил Бянус. — И я без всяких узелков могу сказать, что были они аскеты и трезвенники — по причине полного коммунизма в их славной державе.
— Тяжелый случай, — прокомментировал Симагин. — Ну а с узелками как все-таки дела? Помнится мне, у инков был строгий учет и контроль… Вот и хочу я узнать, как они брали за хобот налогоплательщиков. Перекличка поколений, что ни говори!
— Вроде бы один налоговый инспектор другого инструктирует, как лучше с народа шкуру содрать, — съязвил Бянус. — Но меня такие вещи не колышут; при моем-то окладе много не сдерешь, так что поведаю без утайки, когда узнаю. Может, скоро и узнаю. Сегодня, видишь ли, Серый мне программку приволок, собственного изготовления. Я ее уже и опробовал… Зверь программа! Что-то получилось, а что — непонятно… Сплошная туманность Андромеды![15]
— Смотри в инструкцию, чайник, — сказал я. — В инструкции все написано. На русском, без всяких узелков.
— Это верно, — согласился Алик. — Инструкции для того и пишутся, доцент, чтоб в них глядели. — Он погасил сигарету, подцепил на вилку кусок датской ветчины и обнюхал его с видом заправского гурмана. — Ну а что еще у нас новенького? Кроме нашего старшого, цыпочки Верочки и зверской программки?
Пришел мой черед делиться новостями. Я мог бы поведать кое-что занимательное — скажем, о миллионах фальшивых долларов, что лежали у Тришки под столом, — но не всякую тему можно обсуждать с историками и полицейскими. Особенно с полицейскими; Алик бы меня, разумеется, не продал, но сильно бы взволновался.
И потому, приняв самый сокрушенный вид, я сказал:
— Семинар мне сегодня пришлось пропустить. Важное заседание. Предзащиту.
Симагин приподнял брови.
— Свою, что ли? Докторской?
— Чужую. Есть у нас в НИИКе ценный кадр… Моделирует иерархические связи в сообществах волков, гиен и кроликов. С целью охраны окружающей среды.
— Полезное начинание и с биологическим уклоном, — подал реплику Бянус. — У нас вот один тоже защищался — то ли по истории, то ли по герпетологии, сразу не въедешь.
— Это как же так? — заинтересовался Алик, разливая по третьей.
— А вот так! Выяснял он породу змей на голове у Горгоны Медузы. В плане географических познаний древних. Если б, к примеру, удалось доказать, что змеи те были анакондами, то значит, греки плавали в Южную Америку…
— …а если кобрами — то в Индию, — добавил я.
— Вот-вот, мысль ты верно уловил, — оживился Бянус, приподнимая емкость. — Так выпьем же за человеческое хитроумие, за мощь научного познания, что наводит мосты от кибернетики к шакалам, от шакалов — к анакондам и дальше — к истории, царице всех наук!
Он опрокинул рюмку, а я чуть-чуть пригубил и заметил:
— О шакалах речи не было. По-моему, упоминались волки, гиены и кролики.
— Я выпью за кроликов, — откликнулся Алик. — Кролик, тушенный в сметане, очень даже ничего, без всяких диссертаций… Я бы над ним клювом щелкать не стал.
Раскрасневшийся Бянус поднялся и полез к форточке, приговаривая: «Накурили, душно, аж жуть… а здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу… народу нужен простор… народ любит выпивать и закусывать на свежем воздухе…» То был верный признак, что пора переходить к песням; и, взглянув на Алика, я отправился за гитарой, размышляя по дороге о разных разностях.
Например, о том, почему оба мои друга не женаты. Симагин по этому поводу рассказывал всякие байки из голливудских фильмов: мол, жил себе полицейский, и было у него две жены и по отпрыску от каждой, и с обеими он развелся из профессиональных соображений, хоть любил их до безумия. И вот гангстеры-плохиши похищают то одну жену, то другого дитятю, а наш полицейский вертится, как ерш на сковородке: надо ему свой гарем спасти и деловых прищучить, и от всех этих забот у него уже вальты гуляют. Отсюда резюме: коль повенчался с законом, больше в загс ни ногой. Как говорится, если у вас нету тети, вам ее не потерять.
Но это все сказки, шутки, прибаутки. Истинные причины другие: Алик трудится до седьмого пота в своем налоговом ведомстве и не бывает в тех местах, где пасутся невесты, а Сашка, при всей своей любвеобильности, рад бы в рай, да грехи не пускают. Главный же грех — скудный доцентский приварок, с коего семью не пропитаешь и тем более не оденешь, не обуешь. Как говорил отец, у нас в России доценты с кандидатами пребывают в вечной погоне за водителями автобусов — в смысле зарплаты. Но теперь водители окончательно победили. Быть может потому, что автобусы ездят быстро и пешком их никак не догонишь?…
Я принес гитару, и Алик, коснувшись струн, вдруг подмигнул мне, словно спрашивая: ну о чем спеть, бой-фраер, задушевный старый друг? О парусах ли бригантины, что тают в дымке южных морей под золотым солнышком?… Об атлантах, что держат тяжесть мира на своих плечах?… О дилижансе, что мчится сквозь ночь и ветер, грохоча колесами по булыжной мостовой?… Или о красавице-принцессе, о которой мечтает каждый из нас, да так и не встретит ее никогда, разве лишь в жизни вечной… Но это были старые песни, а мне хотелось новых.
Сильные пальцы Алика шевельнулись, зазвенела гитара, и родилась мелодия. Потом — слова…
— Хорошо! Созвучно вечным темам, — сказал Бянус, когда растаял последний аккорд, и налил всем по четвертой. — Женщина, видно, написала… Давайте-ка вздрогнем, парни…За автора!
Мы поддержали тост; Сашка с Аликом выпили, а я, по слабости здоровья, пригубил. Затем Бянус поинтересовался:
— Чья песня-то, майор?
— Музыка народная, а слова… — Симагин замялся. — Слова, и правда, одной женщины.
— Познакомишь? — деловито спросил Сашка.
— Ты не в ее вкусе, доцент… да и возраст у тебя не тот, чтобзнакомиться с такими женщинами. Сосунок ты против нее.
— Сосунок так сосунок, — согласился Бянус. — Младые лета мой имидж не портят.
Завершились наши посиделки в двенадцатом часу, и я, умывшись холодной водой, ощутил прилив бодрости, коим всегда сопровождается общение с друзьями. Кухня напоминала склад боеприпасов после налета вражеской авиации, но я быстренько все прибрал, свалив посуду в мойку, а пустые бутылки и банки — в мусорное ведро. Затем слегка поколебался, но решил Тришку не беспокоить: включил телевизор и сел на диван с Белладонной на коленях, чтобы приобщиться к последним событиям по старинке.
Про электронный полтергейст и лазер, обстрелявший Луну, не было сказано ни слова; эти новости поблекли на фоне иных сенсаций, одна другой тревожней и печальней. Казалось, мир постепенно сходит с ума, катится в тартарары, подчиняясь какому-то злонамеренному градиенту, что с неизменностью пророчил конфликты, а не согласие. На Ближнем Востоке играли в жмурки израильтяне и арабы: то садились за стол поговорить и выпить чашку кофе, то бросали друг в друга кофейники с тротиловой начинкой; на Дальнем Востоке Китай ввел шесть дивизий в Северную Корею и аннексировал кое-какие территории у дыркачей, так что теперь из Владика до китайских постов доплюнул бы полудохлый верблюд; албанцы, при попустительстве натовских миротворцев, опять сцепились с сербами, а Ирак, оправившись от последнего нашествия янки, воевал с Ираном. Конечно, в Персидском заливе дежурил третий американский флот, готовясь долбануть в любую сторону, где запахнет чем-нибудь террористическим. Но главным событием дня был аргентинский проект оттяпать у Британии какой-то спорный остров размером с суповую миску; аргентинцы острили мачете и дудели в трубы, а британский авианосец со всем подобающим эскортом дрейфовал у Гибралтара. Впрочем, не исключалось, что все это мелкая провокация и авианосец повернет не на запад, а на восток, к Персидскому заливу, дабы америкосы не скучали у нефтяных берегов в грустном одиночестве.
Наша бывшая великая отчизна, во всех своих составляющих частях, тоже тряслась как в лихорадке. Дальневосточный регион, объявив себя свободной республикой, вышел из Федерации и пребывал с ней в вооруженном конфликте; Прибалтика пыталась доказать, что проживет без России и русской нефти; нефть каспийскую делили по обоим морским берегам, равно как и нефтепроводы; в киргизских степях вспыхнула эпидемия — может, ящура, а может, чумы; в Таджикистане женщины бросались в огонь, прихватывая с собой детишек; донские казаки мечтали спасти матушку-Русь, но денег, чтоб экипироваться пристойным образом, у них (не хватало. Впрочем, денег не имел никто, а менее всех — Белоруссия с Украиной. Первая жаждала воссоединиться с кем-нибудь богатым и щедрым, а вторая собиралась что-нибудь продать — Донбасс, черноморский флот или развалины Чернобыля — и тем отсрочить финансовый катаклизм. Что касается флота, Россия хотела б его выкупить, но лидеры «Громады» занимали твердую позицию: кому угодно продадим, только не москалям! Грядущая катастрофа была им на руку; катастрофы вообще самое удобное время, чтоб под шумок захватить власть.
К счастью, в нашей богоспасаемой России совсем уж непримиримых не имелось, и потому президент с парламентом могли порезвиться в свое удовольствие, не опасаясь, что явятся дяди с разбойными рожами и рявкнут: кто тут временные?… слазь! Президент, согласно святой Конституции, крепил властную вертикаль и издавал указы; пропрезидентские фракции в Думе пели осанну мудрому лидеру, а левые из Нью-Коминтерна, стакнувшись с ХЛР и демократическим фронтом «Персик», грозили главе государства импичментом. Но дело до этого не доходило; влиятельные финансовые структуры (они же — истинные хозяева) умеряли страсти, подкидывая мятежным депутатам то квартирку, то соблазнительных девочек, то загогулистый автомобиль вроде керимова «Мистраля». Пока Дума играла в подкидного, чеченская мафия взрывала мирных граждан, в Тюмени бились за губернаторский пост при помощи минометов, учителя и медики подтягивали пояса, шахтеры бастовали, офицеры бунтовали, пенсионный фонд терпеливо ждал, когда его клиенты вымрут естественным путем, а бои под Хабаровском велись с переменным успехом.
Но все же это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в Крыму. Там сошлись в схватке сразу несколько сил: части украинской армии, крымский парламент, который поддерживали русские и украинцы-крымчаки, севастопольцы (эти боролись за статус вольного города) и татарский меджлис. Кроме того, были боевики-громадяне; по утверждению их вождей, они спасали Украину от татар, но резали всех, не вдаваясь в национальные подробности.
Так оно и бывает; убьем татар!.. — кричит некто. — Убьем жидов, убьем чеченцев, убьем арабов, убьем черных, белых, желтых!.. Но первым делом прикончим всех своих, каждого выродка и ренегата, что сочувствует татарам и жидам, чеченцам и арабам, черным, белым, желтым!.. Знакомые штучки; на них я насмотрелся повсюду, в Америках и в Европах… Хороший черный — мертвый черный! Иудеи, убирайтесь в Израиль, пока мы вас тут не повесили! Выпустим кишки белым свиньям! Перекроем кислород косоглазым!
Так вот, о татарах, моих пращурах с материнского бока… Если русские былины не врут, татары — народ коварный, кровожадный и сребролюбивый; грабят всюду, а в свободное от разбоя время пьют кумыс и затевают половецкие пляски. Временами я думаю, что это могло быть правдой в эпоху Ильи Муромца, но нынче татарин татарину рознь. Это не единый народ, а много разных народов; есть татары крымские, казанские и пензенские (эти зовут себя мещерами), есть сибирские и астраханские, есть ногайцы, смуглые, узкоглазые и плосколицые, которые тоже вроде бы татары. Один мой прадед был пензенским татарином, жил себе в мире, учил детишек и разводил сады, а другой, согласно семейному преданию, происходил из крымчаков. Этот отличался воинственностью и, как рассказывала бабка, не расставался с кривым ножом. Не знаю, кого он там резал в своем девятнадцатом столетии — может, продажных царских чиновников?
С печалью я смотрел на экран, где что-то взрывалось и горело на фоне вечнозеленых кипарисов. Любопытно, как к таким эпизодам отнесутся наши потомки? Что подумают о нас, что скажут? Что напишут в своих исторических трудах?…
Впрочем, история, не в пример кибернетике, наука темная, конъюнктурная. Продажная девка царизма с социализмом! Как-то я спросил у Бянуса, отчего он занимается инками, майя да ацтеками, а не чем-нибудь поближе и понаваристей — скажем, завоеванием Сибири Ермаком или сексуальной жизнью князя Всеволода Большое Гнездо, Сашка признался, что родная история «смутна еси»; не история, а три мушкетера двадцать лет спустя. Вот, к примеру, вопрос: кем был Петр Первый, гением и реформатором или ничтожеством и тираном?… А вот другой вопрос: кто такие декабристы? То ли военная хунта, то ли радетели отечества… Или, скажем, какие такие татаровья изгалялись три века над Русью?… Может, и не татары то были, а свои?… Так сказать, доморощенные кровопийцы?… Смутно, все смутно! А как же иначе? Русский народ, говорил Бянус, великий народ, и ошибки у него великие, и туман над теми ошибками густ и становится гуще из века в век — в полном соответствии со сложностью национального характера. А вот атцеки и майя были людьми простыми, без всяких изысков и кандибоберов; резали глотки на пирамидах да сочиняли календарь. Еще баскетбол уважали… А те, кто проиграл, с горя топились в колодце. Все ясно, понятно, и никаких тебе тайн, опричь узелкового письма…
Белладонна задремала, пригревшись на моих коленях, но тут новости закончились, грянул бодрый марш, на экран выскочили клоуны, и пошла реклама. Кошка моя мяукнула в панике, потом, сообразив, что конец света еще не пришел, уставилась в телевизор. А я — на нее; временами так забавно понаблюдать за реакцией Белладонны.
«Молоко вдвойне вкусней, если это милкивей!» — донеслось до нас, и моя кошка облизнулась. Молоко и сметану она уважает не меньше рыбки, но самое любимое лакомство — куриные потроха. Любимое, но редкое; кур нынче продают потрошеными, не учитывая кошачьих интересов.
«От Парижа до Находки «Омса» — лучшие колготки!» — рявкнул телевизор, но этот призыв оставил Белладонну равнодушной — колготок она не носила, в отличие от бянусовой Верочки. Тут же началась реклама под девизом: «Педигри — рекомендуется ведущими собаководами!» — и на мордочке Белладонны изобразилось презрение. Подумать только, что едят эти псы!.. С такой же презрительной миной она разглядывала здоровенного рыжего кота, уминающего китикет. Она будто бы говорила: ты что же, лохматый ублюдок, рыбки за всю жизнь не пробовал?… А когда раздалось сакраментальное «Китикет — здоровый кот без всяких хлопот», Белладонна с возмущением мяукнула. Мол, как же так?… Без хлопот — значит без любви; а если хозяин не любит, откуда же взяться здоровью?…
— Насмотрелась? — спросил я. — Ну так хватит глядеть на всякие ужасы. Аппетит потеряешь, рыбка в горло не полезет.
Выключив телевизор, я поднялся, прижимая к груди мягкое теплое тельце, и пошел спать.
Четыре года назад, когда я, вернувшись к родным пенатам, определялся с трудоустройством, выбор был на редкость велик. Не как при советской власти, в отцовы времена; таких «инвалидов», как он, не брали ни в вуз, ни в «ящик», ни в приличный институт. Но с той доисторической эпохи миновала целая вечность, евреев и вообще ученых в России поубавилось, а в Штатах и Израиле прибавилось, по каковой причине искусства и науки у нас не процветают. Ну что ж, зато появились «новые русские».
Я, кстати, по паспорту тоже еврей, но в наше смутное демократическое время этот факт меня не ущемляет и не эпатирует кадровиков — ни в Физтехе, ни в СПГУ, ни в иных местах, что хоронились раньше от нашего брата на семь замков с парткомом. Теперь все они жаждали взять на работу молодого перспективного «пи-эйч-ди», отучившегося в Саламанке, штат Огайо, знатока языков и обычаев, с заокеанскими связями и петербургской пропиской. И никого из них не волновало, что я такой экзотический фрукт: частью татарин, частью еврей, а частью неведомо кто — может, орангутанг с острова Бали.
Словом, вариантов было много, но я остановился на университете. Во-первых, альма-матерь, как-никак; а во-вторых, ради сатисфакции и поддержания семейной чести: отца моего в начале семидесятых выперли из университетского НИИФа, лишь только он успел закончить аспирантуру. А я, его сын и наследник, мог выбирать между НИИ физики, НИИ математики и НИИ кибернетики. И мог получить там любой оклад — сорок или даже пятьдесят баксов в валютном исчислении! Поистине, демократия означает справедливость!
Я пошел на работу в НИИК, в лабораторию распознавания образов, или ЛРО, как ее называли. Причин для такого выбора существовало две: во-первых, заведовал ЛРО (и кафедрой с тем же названием) милейший старик Вилен Абрамович Эбнер; а во-вторых, наш институт располагался на исконно университетской территории, на стрелке Васильевского острова. Все остальное, имевшее отношение к физике, химии и математике, было выселено за Петергоф, на станцию «Университетская», куда я и ездил шесть с половиной лет, будучи студентом физфака. Ездил и наездился; теперь мне хотелось работать тех краях, куда можно добраться в теплом метро, а не в ледяной электричке.
К счастью, за четыре аспирантских года я ухитрился обзавестись двумя степенями, по квантовой физике и математическому программированию. В последней своей ипостаси я занимался кластерным анализом, а это одна из главных проблем распознавания образов. Итак, я мог продолжить свои штудии у Вил Абрамыча — тем с большим основанием, что тематика моя была комплексной, имевшей равное отношение и к физическим проблемам, и к структурной химии, и собственно к программированию.
Я пытался создать единую классификацию химических веществ. Не элементов Периодической системы, которых всего-то чуть больше сотни, а всевозможных соединений, минералов, сплавов, искусственных материалов — словом, всех многообразных атомарных конструкций, какие известны человечеству. Кстати, никто не знает, сколько их на самом деле; в компьютерных банках спектральной и структурной информации зафиксированы сведения о трехстах тысячах веществ, но их, возможно, миллион, или два, или три. Что же касается классификации, то существуют лишь грубые ее наметки: это вещество — органическое, а это — неорганика; это — полисахарид, а это — структура типа алмаза; это — соединение с бензольным кольцом, а это — из класса гранатов или шпинелей. Но чего-нибудь всеобъемлющего и столь же строгого и стройного, как Периодическая система, мы пока что не придумали.
А это было бы весьма полезно! Ведь всякая классификация обладает прогностическим свойством; иначе говоря, если в ней есть лакуны, то появляется шанс предсказать, что именно в этих пустотах должно размещаться. Вот вам торная дорога к целенаправленному синтезу новых веществ, та же задачка, какую подкинул мне хитрый старый Диш, только не в пример глобальнее. Ею я и занимался, вместе с Джеком и троицей помощников.
Наш НИИК входил в университетскую систему факультетов и научных институтов, являясь самым юным из них: его создали году этак в девяносто девятом. В прошлом веке, как мы шутили. Возможно, но причине малолетства, нас оставили на Васильевском, а не выселили в петергофские джунгли; ведь за юнцами нужен глаз да глаз! Может, была другая причина — разместить большой институт в нашем корпусе не удалось бы, а вот для начинающих он подходил в самый раз. Занимались мы десятком проблем, распределенных среди лабораторий искусственного интеллекта, распознавания образов и программирования.
Если идти от набережной по Менделеевской линии, можно попасть на небольшую площадь Академика Сахарова, мощенную брусчаткой и стиснутую старинными домами. Место это знаменитое; справа — приземистый квадратный истфак, за ним — бывшая биржа, ныне — Военно-морской музей; слева — мрачноватые особнячки Оптического института, каждый в своем стиле и со своей историей; сзади — красно-белая стена Двенадцати коллегий, прямо — серое здание БАН, а за ним Академия тыла и транспорта. В ближайших окрестностях есть и другие диковины и чудеса: Кунсткамера и Зоологический музей, Ростральные колонны, Дворцовый мост, дворец опального князя Меньшикова, сфинксы и Академия художеств.
Я всегда иду по Менделеевской до площади, с каждым шагом погружаясь в девятнадцатый век — а может, и в восемнадцатый; и это мне приятно. На площади я останавливаюсь, озираюсь и понимаю, что в Петербурге есть только один университет. Все остальные носители этого пышного имени — узурпаторы и нувориши! И политехники, и скороспелые менеджеры, и профсоюзные обиралы. Все они — клубника в чесночном соусе, коктейль из денатурата с лимонадом! Мало назваться университетом; университет — это традиции, это великие умы, творившие здесь сто и двести лет назад; это, наконец, стены — пусть обшарпанные и ветшающие, но видевшие блеск и славу, победы и поражения, события великие и ужасные…
Бывает, я уношусь мыслями в прошлое, к иным стенам, таким же древним, но сверкающим первозданной свежестью и чистотой. Саламанка, милая моя тихая Саламанка… Разумеется, не та, что в Испании, а та, что под Коламбусом, в Огайо… Самый древний заокеанский университет, не столь престижный, как Беркли или Йель, однако — самый древний…
И потому его берегут как зеницу ока, и учиться в нем почетно. Ведь в Штатах так мало старины! Собственно, держава эта моложе Петербурга, а Питер — всего лишь подросток среди древнейших русских городов. Как всегда, я увлекся. Воспоминания, фантазии, мысли, сравнения… Ими жив и тверд человек, ими и своей семьей. Но семьи у меня нет, и потому я часто вспоминаю и размышляю.
Теперь, если обогнуть здание Двенадцати коллегий, пройти тридцать метров по длинному университетскому двору и свернуть направо, мы попадем в НИИК. Небольшой особнячок, три этажа с мансардой, шесть окон по фасаду, первый этаж — коричневый, выше — желтое с пятью белыми накладными колоннами. Внизу — ни охраны, ни проходной; хочешь — ходи на работу, хочешь — не ходи. Я все-таки ходил. Временами.
Собственно, мое присутствие было необходимым лишь по вторникам, а в остальные дни я мог вкушать прелести свободного расписания. Первый и третий вторник у нас кафедральные семинары в Петергофе, второй и четвертый — семинары лаборатории, в уютном актовом зальчике НИИКа. Кафедральные семинары я не любил; там собирались преподаватели в годах, а среди них — профессор Оболенский, зам Вил Абрамыча по кафедре. Последнее время он поглядывал на меня испытующе, ревниво, словно принюхиваясь к сопернику. Все-таки Эбнер старел, и вопрос, кто унаследует кафедру, являлся вполне актуальным.
Но сегодня была среда, а не вторник, так что мой визит в лабораторию полагалось считать большим сюрпризом. Или компенсацией за вынужденный вчерашний прогул. Сам я склонялся к первой точке зрения. Бездарность Лажевича и всех его зоологических потуг оправдывала меня.
Я проскочил маленький институтский вестибюль, куда выходили двери столовой и кабинетов программистов, поднялся на второй этаж (площадка искусственного интеллекта), а потом — на третий. Тут уже начиналась наша суверенная территория, и тут я наткнулся на Диму Басалаева — на Димыча, как звали его в кругу друзей. Но Димыч мне не друг, а всего лишь приятель, и от общения с ним я имею одно удовольствие, без всяких похмельных забот. Впрочем, за прошлый день было выпито немного, и голова у меня оставалось ясной.
Басалаев подпирал стену на лестничной площадке и дымил сигаретой. Это его обычное времяпрепровождение: что-то подпирать, стену или шкаф, и чем-то дымить. В последнем случае варианты были разнообразней — трубка, сигары, сигареты, папиросы и даже самокрутки. Димыч курил все, что курится, кроме марихуаны; на марихуану у него не хватало отваги. Он упорно добивался от меня подробностей на этот счет, полагая, что за океаном наркотой торгуют на каждом углу и в каждой подворотне. Я его не разочаровывал, но советовал не размениваться по пустякам, а начинать прямо с героина.
— Ты где вчера пропадал? — осведомился Басалаев, щурясь сквозь облако дыма. — Где тебя черти носили, голубь ты наш? Не прибыл на передовую… Ай-яй-яй! Обчественность тебя не простит!
Сняв шапку, я задумчиво почесал в затылке.
— Геморрой со мной приключился. Или атония сфинктера.
— Такая мелочь? Ха! И по этой причине наш главный калибр кантовался в тылу? — Он покачал головой, принял серьезный вид и спросил: — А если по правде?
— Если по правде, — тут я с гордостью выпятил грудь, — перед тобой человек с тремя звездами на погонах!
— Со звездочками-звездушечками, — уточнил Димыч. — В военкомат, что ли, дернули?
— Повестку предъявить?
— Не надо! — Он с небрежностью махнул рукой. — Зачем мне твоя повестка, Серый? Могу лишь тебя пожалеть: приобрел ты малое, а лишился ба-альшого удовольствия!»
— Это какого же? — спросил я, распахивая куртку и стягивая шарф; топили у нас этой зимой неплохо.
Басалаев затянулся, выпустил дым через две ноздри, полюбовался результатом и сообщил:
— А мы вчера Лажу приложили. Без всякой тяжелой артиллерии и главного калибра. Собственными своими силами, вкупе с доцентом Ковалевым и при поддержке доцентаБалабухи.
Ну развоевались, старички! — подумал я, впервые пожалев, что не явился на вчерашний семинар. Кажется, там случилось мамаево побоище — то есть не мамаево, а лажаево… или лажеево?…
— Долго он сопротивлялся? — спросил я, имея в виду побитого.
— Он-то недолго, а вот Вил Абрамыч… — Басалаев сделал неопределенный жест. — Собственно, шеф тоже не сопротивлялся, но увещевал… апеллировал к чувствам сострадательным и благородным… ты же знаешь, как он умеет… Мол, что ж вы, ребятушки, взбеленились, бьете своих, когда чужих полно? Зачем режете добра молодца?
— Лажевич — не добрый, — сказал я, сбросив куртку. — Когда остепенится, он нам всем еще покажет.
— Покажет, — согласился Димыч. — И нам, и всякимстаршим лейтенантам.
Крыть мне было нечем, и я, изобразив раскаяние, отправился к себе на четвертый этаж, в мансарду. Там, в большой комнате (семь на восемь, с четырьмя окнами в эркерах) размещались мои подчиненные: аспирант Паша Руднев и два дипломника-примата. Происходили они не из африканских дебрей, а всего лишь с факультета прикладной математики; звали их Дик и Ник (по-русски — Денис и Коля); и были они — на мое несчастье! — братьями-близнецами, да еще из тех юных гениев, что спать ложатся с компьютером, а просыпаются с программой. Оба они носили очки, и, заполучив такое чудо, я потребован, чтобы оправа у Дика была темной, а у Ника — светлой. Еще я торжественно поклялся, что обрею одного целиком, а другого — наполовину, если они рискнут поменяться очками.
В комнате у нас по столу под каждым окном, и на них — четыре терминала; между моим столом и пашиным располагается «Байярд», довольно мощный комплекс, хоть до Тришки ему далеко; таких излишеств, как тройлеры, вокодеры и контактные кресла со шлемами, мы, по бедности, не держим. «Байярд», разумеется, подключен к Сети, и я на нем расчетов не веду; это машина для аспиранта и моих близнецов-приматиков. Я запустил для них третью версию Джека, с ней моя команда и играется: Паша занят графической кластеризацией, Дик — минералами, а Ник — веществами судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, они готовят входной массив для Тришки — вылавливают через Сеть данные о новых материалах, пропускают через блок селекции, преобразуют в нужные форматы и преподносят мне на диске.
Это очень неблагодарная и тягомотная задача. Такого места, где хранилась бы опись всех известных человечеству веществ, пока не существует, и нам приходится «держать на связи» сорок разных баз. Важнейшие из них — в Кембридже (сведения о кристаллических структурах), в Филадельфии (дифракционные стандарты), а также в Бостоне и Токио (ИК, УФ и масс-спектры). Есть базы помельче, более специализированные; скажем Техасский компьютерный банк нефтесодержащих пород и производных нефти, база мессбауэровских спектров в Дели и, разумеется, собрания материалов, используемых в криминалистике, в астронавтике и физике ядра. Часть из них засекречена и пребывает под крылышком ФБР, Моссада, Беркли, НАСА и других подобных заведений. Не стоит интересоваться, как я туда пролез; Сеть есть Сеть, и, умеючи, можно выловить ею массу полезного.
А как речет мудрость Альбиона, all's fish that comes to the net — что в сетях, то и рыбка. Наша рыбка, позволю заметить.
Не успел я бросить куртку на стул, как мои сотрудники, вскочив, окружили меня. Паша Руднев ухмылялся, Дик с Ником, как положено дипломникам, подхихикивали аспиранту, и все трое выглядели так, будто удостоились самого вожделенного: Паша — кандидатской, а близнецы — магистерских степеней.
— Да-а… — произнес мой аспирант, закатив глазки.
— Да-а… — хором поддержали его приматики.
— Хо-хо! — продолжил Паша.
— Хой-мамай! — дружно откликнулись близнецы.
Я оглядел их физиономии, исполненные ликующей загадочности.
— Вообще-то утром надо здороваться, судари мои. И в этом случае от людей интеллигентных надеешься услышать не хой-мамай, а что-то другое — хау ду ю ду, гутен таг или хотя бы хайль. Лично я против хайля не возражаю, если за ним не поминать одиозных личностей.
— Хайль шефу! — завопил Ник. — Пусть ему хоть это достанется, раз он не врубился в тему.
— Уже врубился, — сказал я. — Главная новость у нас такая: коалиция Ковалев-Басалаев-Балабуха провалила Лажевича.
Лица у них вытянулись. Мой тон сделался проникновенным, как у миссионера, мечтающего окрестить папуасов.
— Грех радоваться чужой беде, юноши. А еще большийгрех радоваться напоказ. Так что помалкивайте в тряпочкуи помните, что сказано поэтом: как сам ты поступаешь с божьей тварью, того же жди себе и от людей.
И вот тут они меня уели: переглянулись, усмехнулись, и Паша Руднев на правах лидера сказал:
— Мы, Сергей Михайлович, не тому радуемся, что Юрика завалили, а единственно торжеству справедливости. Чтотакое, в конце концов, Лажевич? Длинные уши, а междуними болтается длинный-предлинный язык… А справедливость — нечто гораздо большее. Разве не так?
Интересное выдалось утро! Второй раз меня приложили фейсом об тейбл!
Зазвонил телефон, и я, скрывая смущение, потянулся к трубке.
Это была Танечка: двадцать лет, рыжеватые кудряшки, милый вздернутый носик, соблазнительная фигурка плюс полная сексуальная раскрепощенность. Впрочем, на последнее обстоятельство мне жаловаться не приходилось.
— Сергей Михайлович уже прибыл? — проворковала трубка.
— Прибыл, — доложился я. — У телефона собственной персоной.
— Ты, Сережа? — Голос в трубке сделался еще нежней. — Вил Абрамыч просит тебя зайти. В любое удобное время.
Удобное время было как раз сейчас, и я, буркнув: «Шеф вызывает» — повернул к дверям, спустился этажом ниже, проследовал коридором и вошел в крохотную приемную. Танечка одарила меня лучезарной улыбкой. Характер у нее был по-современному легкий; она влюблялась и расставалась с мужчинами, по не держала на них зла.
— Как он? — Я скосил глаза на дверь, что вела в берлогу Вил Абрамыча. Вопрос, в общем-то, лишний; Эбнер не относился к тем начальникам, что ставят подчиненных на ковер со спущенными штанами.
Танечка состроила озабоченную гримаску.
— Печален, Сережа. Хоть ты его не расстраивай.
— С чего бы? Я даже на вчерашний семинар не пришел.
— В том-то и дело, — с усмешкой Джоконды обронила Танечка.
Размышляя над этим замечанием, я шагнул в маленькую комнатку, заваленную книгами, рукописями и пыльными стопками журналов. Вил Абрамычу было под семьдесят, и относился он к старой научной породе: бумага была ему милей компьютерных дисков. Собственно, звали его не Вил, а Вилен[17], и всю свою жизнь он маялся с этим именем. Раньше поглядывали на него косо: Вилен, а беспартийный!.. Нынче поглядывали с иронией: надо же, Вилен! Но шеф, при всем своем добродушии, был человеком крепкой закалки, не помышлявшим о каких-либо метаморфозах — к примеру, в Вильгельма или в Вениамина.
Он поднял на меня выцветшие глазки, что прятались под седыми кустиками бровей, и кивнул на стул.
— Здравствуйте, Сережа. Присаживайтесь. Кофе хотите?
С этого начинался любой разговор с любым сотрудником, хоть с профессором, хоть с юным бакалавром. Вежливость Вил Абрамыча была столь же естественной, как зонтик в дождливую погоду; он точно знал, что надо делать, встречаясь с посетителем: поздороваться, предложить стул и кофе. Но руку он подавал не всякому.
Мы обменялись рукопожатием, и я устроился на краешке расшатанного стула. Вил Абрамыч, приподняв брови и сморщив лоб, с минуту разглядывал меня.
— Ходят слухи, что вы делаете успешную военную карьеру?
— Басалаев забегал? — ответил я вопросом на вопрос.
— Нет, не Басалаев. Он после вчерашнего весь день ко мне носа не кажет. Но Дима сказал Никитину, Никитин — Светлане Георгиевне, та повидалась с Танечкой… Слухи, Сережа, они как кривая Пеано — обладают свойством охватывать весь пространственный континуум с поразительной быстротой. Особенно в научном институте. Здесь люди не столько работают, сколько распространяют слухи.
— Отец мне другое говорил: что в истинно научных заведениях люди не работают, а уважают друг друга.
— Ваш покойный батюшка был безусловно прав: вовремя довести слух до начальства — значит продемонстрировать уважение к нему.
Мы расхохотались, и тут Танечка принесла кофе. Сегодня на ней было что-то пушистое, что-то среднее между джемпером и платьем: шейка прикрыта, а ножки открыты. Не все, разумеется — на пару ладоней выше колен. Но ладони были основательные, не меньше, чем у Алика Симагина.
Она покинула нас, и Вил Абрамыч, уставившись в чашку с кофе, заметил:
— Вчера вы меня подвели, Сережа. Я имею в виду произошедшее с Лажевичем… — Он поднял руку, прервав готовые хлынуть оправдания — Только не говорите мне про свой военкомат! Я пробыл в старших лейтенантах четверть века и помню, что за этим званием мои коллеги не гнались. В отличие от иных степеней.
Пожав плечами, я отхлебнул кофе. Сварен он был отменно. Великая домохозяйка пропадала в нашей Танечке!
— Ну пришел бы я, Вил Абрамыч, ну явился бы… Так что же? Ляпнул бы непечатное словцо про гиен, волков да кроликов и самого Лажевича… А может, не словцо, а целую речь закатил бы. И тогда…
Шеф вежливо прервал меня, подняв палец.
— Ваше отсутствие, Сережа, было красноречивее всяких слов. Знак пренебрежения, сигнал к атаке… Вот она и началась! И Юрия Анатольевича растерзали! Подобно стае волков, раз леопард не прибыл.
— Помилуй бог! Вы меня переоцениваете, Вил Абрамыч. Кто я такой? Руководитель группы, два дипломника да аспирант, три звездушки на погоне… Не Ковалев и не Балабуха, не говоря уж про Феликса Львовича… Ни кожи, ни рожи, ни авторитета.
Вил Абрамыч пошевелил седыми бровями.
— Вы, Сергей Михайлович, второе лицо в лаборатории на кафедре — именно вы, а не профессор Оболенский. Вы мой вероятный преемник, если говорить начистоту, так что исходите в будущем из этой диспозиции. Особенно в отношениях с коллегами… — Он помолчал и добавил: — Не исключая Юрия Анатольевича.
Я чуть не подавился кофе. То, что Вил Абрамыч дохаживает свой последний срок в заведующих, было очевидным фактом, и хоть имя его преемника не называли, считалось, что им является Оболенский. Я как наследный принц вряд ли котировался. И вот надо же тебе!.. Выходит, слухи ползают по институту, но не во всякое ухо шепчут.
А может, есть слухи разных категорий: одни — для Танечки и Светланы Георгиевны, а другие — для людей влиятельных и искушенных.
Тут я заметил, что шеф с деликатной улыбкой наблюдает за мной, и постарался придать лицу значительное выражение с легким оттенком благодарности. Собственно, на должность мне было наплевать, а вот обижать Вил Абрамыча не хотелось. Наверняка он выдержал не одну схватку в ректорате, сражаясь за мою недостойную персону. Чем я мог его отблагодарить? Только правдой. Или половиной правды — той, что касалась Лажевича.
— Не уживемся мы с ним, — сказал я. — Не люблю конъюнктурщиков и бездарей. Пусть был бы конъюнктурщик, так хоть талантливый…
Вил Абрамыч по-прежнему с улыбкой глядел на меня, не возражая и не возмущаясь. Потом спросил:
— Какого вы мнения о его работе, Сережа?
— Сдержанного. Тема любопытна, но факты общеизвестны, а их интерпретация похищена у биологов. Это они уяснили, на какие классы и группы делится звериный социум, что у волков, что у гиен… А Юрий Анатольевич навел только легкую математическую лакировку, да и в той дыры светят. Идей значительных нет и незначительных — тоже, но на каждой странице поминаются компьютеры и компьютерная обработка. Как заклинание… Будто компьютер умнее нас, и стоит его включить, как в электронных потрохах родится диссертация… — Тут я заметил, что шеф все еще смотрит на меня с улыбочкой, и разозлился. — Зачем я вам это рассказываю, Вил Абрамыч? Вы — старый мудрый человек, вы все это знаете лучше меня. Гораздо лучше!
— Знаю, — подтвердил он, — но смотрю несколько с иной позиции. Руководитель должен думать о будущем. А какое у нас будущее в эпоху повальной утечки мозгов? Не успеем выучить толкового специалиста, как он уже трудится в Германии или Финляндии, в Америке или Канаде… Кто же, спрашивается, будет преподавать у нас лет через десять? Возможно, никто, и это будет конец… — Он поиграл бровями и закончил: — По крайней мере, Лажевич никуда не уедет. Не возьмут! Останется в преподавателях, чему-то да обучит молодых… Вам с ним работать и работать, Сережа! А мне…
Вил Абрамыч смолк, не желая касаться болезненной темы; его сын и внуки давно обретались в Израиле, и он доживал свой век вдвоем с больной женой. Насколько мне было известно, потомки его вниманием не баловали, считая старым упрямцем и ослом — ведь он не поехал с ними в края обетованные! Я его понимал. Он тоже был одинок, и одиночество его казалось самым страшным — ведь в нем не было места надежде.
Мой шеф встрепенулся и, будто подводя черту под предыдущим разговором, отодвинул недопитую кофейную чашку. Потом спросил:
— Кстати, а как у вас дела с докторской? Ваша последняя работа по классификации минералов произвела впечатление… особенно на геологов… Вполне кондиционный материал. И очень обширный. Хватит для диссертации.
Я кивнул.
— Для диссертации — да. Но минералы — всего четыре тысячи соединений, и без синтетических веществ картина неясна, даже в том, что касается неорганики. Мне не хотелось бы торопиться, Вил Абрамыч.
Да, торопиться мне не хотелось. Я полагал, что надо проверить Джека, решив пару задач попроще — с долларами для моих «Хрумков» и с загадочными узелками для милого друга Бранникова. А после, когда Джек продемонстрирует свои таланты, наступит очередь глобальных проблем: единой классификации соединений и чего-нибудь еще, столь же впечатляющего, из области социологии или астрофизики. Планы у меня намечались обширные, но делиться ими с Вил Абрамычем было рановато. Он бы мог подумать, что я заразился гигантоманией; ведь мои замыслы в случае успеха обещали не докторскую степень, не скромную медаль Вавилова, а, как минимум, Нобелевку.
Шеф вздохнул.
— Не понимаю я вас, Сережа… Вы умны, дьявольски работоспособны, преданы науке и очень талантливы. Но чего-то вам не хватает… Здорового честолюбия? Ясной цели в жизни? — Он снова вздохнул и покосился на свои морщинистые руки. — Надо бы вам поторопиться, Сергей Михайлович… Я, знаете ли, не вечен…
Возвращаясь к себе, я размышлял о собственных недостатках.
Возможно, мне не хватает честолюбия и определенно — обаяния… Его ровно столько, чтоб Танечку либо Гиту очаровать, а вот с женщиной покруче, с Катериной или тем более с Инессой, меня ожидает фиаско. Полный облом, по правде говоря! На ниве честолюбия и обаяния… Так что отсутствие этих качеств я признаю, но вот что касается ясности цели, тут я с шефом решительно не согласен. Слишком долгое время он прожил по принципу: цели определены, задачи поставлены — за работу, товарищи! Вперед!
Отец же учил меня не становиться рабом своей цели — конкретной цели, ради которой человек, случается, жертвует жизнью. А ведь жизнь, счастливая нормальная жизнь, является наиглавнейшей целью! Но мы забываем об этом и рвемся к мелкому и пустому — к власти, богатству, должностям, степеням и к вечной славе, что отправится вместе с нами в крематорий… Не к одному, так к другому! Ибо, где нет ловушки для кроликов, уже расставлены силки для куропаток…
Так говорил отец, и я с ним полностью согласен: цель — жизнь, а счастье — в ее разнообразии и, разумеется, в свободе. Еще он добавлял: мы не столько сами выбираем путь, сколько судьба выбирает его для нас. Это не значит, что мой дад был фаталистом; он всего лишь хотел подчеркнуть значение внешних обстоятельств. Они, эти обстоятельства — асфальтный каток, прокладывающий перед нами дорогу, относительно ровную и прямую. Пойдешь ли ты по ней, говорил отец, или у тебя хватит пороху свернуть в джунгли?
Я бы не отказался. Только где они, мои джунгли, полные тайн и загадок?…
Глава 4
ТСС!
«Tcc! — сказал Кристофер Робин, обернувшись к Пуху. — Мы как раз подходим к опасному месту!»
«Цыц!» — сказал Иа страшным голосом всем родным и знакомым Кролика.
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все.
Когда я вернулся домой, плотник, матерясь, чинил двери.
Пришлось пробираться мимо него боком и с опущенными ушами. Не потому, что мне претит российская изящная словесность, но сейчас я был одним из тех подозрительных лиц, из тех раздолбаев и гадов, пидоров и засранцев, что в четвертый раз уволакивали многострадальную филенку.
И потому я молчал в тряпочку, пока плотник, не обращаясь ко мне лично, описывал ситуацию в нашем подъезде, сопровождая этот анализ выразительным комментарием «бля!» Этот рефрен еще отдавался в моих ушах, когда я открыл свою дверь и попал в объятия Белладонны.
Через час мы сидели на кухне, сытые и умытые, и строили друг другу глазки. Должен заметить, у Белладонны это получалось лучше. Она устроилась на полу: шея чуть-чуть вытянута, головка чуть-чуть склонена, хвост распушен, хотя на тельце все шерстинки лежат гладко, одна к одной. Она будто бы пребывала в покое и в то же время настороже; казалось, она что-то разглядывает у своих передних лапок — воображаемое блюдце с молоком или затейливый узор линолеума. Глаза у нее отливали бирюзой, черные щели зрачков то расширялись, то сужались, на мордочке застыло выражение лукавства и ожидания.
Наконец Белладонна встала на все четыре лапки, потянулась и мяукнула, требуя, чтоб с ней поговорили. Дьявол! Язык не поворачивается назвать ее животным! Или animal! Оба слова, что русское, что английское, неуклюжи, неизящны и нелепы, и совсем не подходят к Белладонне. Она зверь.
Зверь звучит гораздо энергичнее! И лучше отражает сущность наших отношений, так как с животным дружить нельзя, а со зверем — можно. Зверь даже достоин, чтобы его увековечили. Когда я разбогатею, пойду к Сизо — все-таки он отличный мастер, хоть и алкоголик — и закажу ему изваяние Белладонны в полный рост. Из какого-нибудь редкостного камня, чтоб сама она вышла белой, а хвост — серым… Белладонна снова мяукнула, и я сказал:
— Удачный у нас сегодня день, красавица, — видно, рука моя застряла в банке с вареньем… Ты представляешь, что случилось? — И я коротко пересказал ей беседу с Вил Абрамычем. В самых волнительных местах Белладонна грациозно выгибала спинку и поощряла меня мурлыканьем.
— Так вот, дорогая, — закончил я, — теперь ты не просто кошка, но домашний зверь будущего завкафедрой. А положение, знаешь ли, обязывает! Посему — никаких подозрительных знакомств, никаких мезальянсов! Забудь про кота дяди Коли Аляпина и про того пестрого, что живет на шестом этаже. Весной мы подыщем тебе достойную пару. Возможно, ректорский кот или что-нибудь из городской администрации… Ты не возражаешь?
Белладонна пренебрежительно фыркнула. Март еще оставался будущим сладким весенним сном, и сейчас коты ее не волновали.
Сам я, надо сказать, после визита к Вил Абрамычу пребывал в некотором ошеломлении. С одной стороны, признание моих заслуг было фактом вдохновляющим; с другой — я определенно ощущал, что не готов к административной карьере. Да, в науках я кое-что понимаю (спасибо моим учителям!), но во всех остальных делах мой рейтинг не выше среднего.
Я в меру добр и в меру зол, в чем-то умен, а в чем-то глуп, скорее осторожен, чем отважен, и не люблю политики. И с обаянием у меня не густо… лишен я той харизмы, какая положена завкафедрой или иному вождю народных масс. Словом, на работе я маялся и колебался, по каковой причине покинул институт пораньше, в обеденное время. Но размышлять о будущем мне отчего-то и дома не хотелось, а хотелось сидеть на кухне, глядеть в бирюзовые зрачки Белладонны и угощаться кофейком. Еще хотелось поработать.
Мой ханд-таймер прозвонил пять, напоминая, что час еще ранний и сегодня можно сделать то, что намечалось на вчера. Хотя бы разобраться с исходными данными и сформировать массивы… а заодно проверить, как там дела у Бянуса… и почту считать… и на письма ответить, коль таковые поступят…
С этой мыслью я поднялся, посадил Белладонну на плечо и отправился к Тришке.
При активации компьютера тревожных вестей не поступило — значит, Бянус клятву сдержал и в Сеть не лазил. Такой демарш не проскользнул бы мимо моих ушей. Есть при Джеке Потрошителе недремлющий страж-Доберман, такая хитрая программка, что посылает сигналы на мой сетевой адрес, если с Джеком случились неприятности. Например, если с ним работают на компьютере, включенном в Сеть, что грозит тривиальной покражей. Доберман — всего лишь мера предосторожности, но я могу отследить, кто похитил Джека, добраться до грабителя и устроить ему маленький экси-денс. Полный абзац, иными словами; при Джеке имелся не только сыщик, но и активный оборонительный модуль под названием Бедлам. В сущности, то была программа-вирус, написанная мной годика три назад, эффективная и безжалостная, как техасский рейнджер на складе наркомафии. Стоило ее инициировать, и компьютер похитителя сделался бы форменным отделением психушки.
Но все эти средства я в ход никогда не пускал — ввиду того, что до сих пор Потрошитель трудился лишь в моем персональном сексоте, при отключенной Сети. Вчерашний визит на истфак был первой вылазкой Джека во внешнюю вселенную; теперь он раздвоился и существовал в виде эталона на моем съемном диске и копии, обитавшей в машине Бянуса. Вот за этой копией и полагалось присмотреть.
Доберман, однако, молчал, и это свидетельствовало, что мой друг держит слово. Могло ли быть иначе? Кому же верить, если не друзьям?… Тем более что их всего-то двое.
Читать новости мне не хотелось, но почту я все же проглядел. Ничего интересного: пара статен, новый голливудский боевик класса «мочиловка» и реклама — призыв носить прокладки «Олвейс» с крылышками и рвать пуп на тренажере «Сильвестр Сталлоне».
Прочитав последнее сообщение, я невольно ухмыльнулся. Довелось мне как-то побывать в гостях у Симагина — не дома, куда я захаживал тысячу раз, а в его служебном кабинете на Литейном, в Управлении налоговой полиции. Кабинетик у него маленький и полон бумаг фискальной ориентации; они громоздятся на стеллажах, на стульях и продавленном диване и даже на полу. Стол тоже забит бумагами, но верхний ящик почти пустой. В нем Алик держит свои главные сокровища: стакан и табельное оружие, пистолет-пулемет «Кипарис» с лазерным целеуказателем и откидным прикладом. Стакан и пистолет — в таком вот именно порядке.
А на стене у него висит изображение могучего мужчины с наклеенной усатой физиономией, в фуражке генералиссимуса, и под ним надпись — Иосиф Виссарионович Сталлоне. Символ нынешнего свободомыслия, что ни говори! Как и лозунг над дверью: «Говори кратко, проси мало, уходи быстро».
Белладонна повозилась на моем плече, устраиваясь поудобнее и как бы намекая: не пишут тебе, хозяин, но ты не горюй — я ведь с тобою! Но я и не ждал писем. Мои корреспонденты шлют послания в начале января, поздравляя с Новым Годом, желая счастья и всего, чего положено; а Новый Год мы встретили недавно, и с тех пор не случилось никаких значительных событий. Само собой, не считая обстрела Луны из лазера и моих сегодняшних переговоров с Вил Абрамычем.
Чтобы приободриться, я просмотрел последние письма, пришедшие две-три недели назад. Краткие поздравления от Гиты, Нэнси, Джима, Криса и Делайлы, от коллег из Кембриджа и Саламанки, от Томаса Диша — он сообщал, что подумывает об отставке, но я ему не верил. Старый Томас Диш был одной породы с Вил Абрамычем и моим отцом; такие на пенсию не выходят и умирают исключительно на рабочем месте. Дэвид Драболд, мой шеф из Саламанки, у которого я делал диссертацию по физике, писал, что теперь он «top professor», и это было отрадно — по моим подсчетам, ему еще не исполнилось сорока. А вот моей подружке Гите-Бригитте было уже за тридцать; жила она в своем Марбурге, в счастливом супружестве, и сообщала о том, что в октябре разродилась двойней. Значит, всего у них трое, прикинул я, чувствуя острую зависть — ведь эти детишки могли быть моими! Ну будем надеяться… Надеяться! Как говорят, everything comes to him who waits — все приходит к тому, кто умеет ждать. Я поднялся, и Белладонна, мягко соскочив с моего плеча, устроилась под теплым боком Тришки. А мне пришлось залезть под стол, чтобы добраться до коробок с долларами и выволочь их на божий свет. Весили они немного, но в целом тянули лет на пятнадцать с конфискацией имущества и поражением в правах. Имелся, правда, шанс, что мои хрумки-реставраторы добыли их законным способом — например, одолжив под честное слово в каком-нибудь музее криминалистики. Тогда я ничем не рисковал — тем более что цель моих валютных экзерсисов была вполне легальной и в каком-то смысле даже благородной.
Но все-таки я повернулся к Белладонне, многозначительно поднял палец и произнес «тсс!» Затем начал освобождать коробки и раскладывать пачки долларов на своем ложе. Больше девать их было некуда; кроме тришкиного стола, кресла и дивана, в моей комнате все забито книгами. Я разобрал две коробки и принялся за третью, когда в прихожей послышалась трель звонка. Черт побери! Это было так внезапно, что ноги мои едва не подкосились; пришлось опереться о спинку кресла и сделать пару глубоких вдохов, нейтрализуя адреналин. Уставившись на покрывало с разложенной валютой, я лихорадочно соображал, кто же затаился там, за дверью: Бянус с «Политехнической», нахальный плотник-грубиян или отряд спецназа в черных масках, явившийся, чтоб взять преступника с поличным. Отчего-то я зациклился на этих масках и спецназе, будто пара ментов не сумела бы меня скрутить; я чувствовал себя рецидивистом у распатроненных банковских сейфов, киллером у трупа. Эмоциям ведь не прикажешь — тем более что на моем диване отдыхали сейчас миллионы фальшивых долларов.
Звонок брякнул снова, пробудив от столбняка, и тут Белладонна спрыгнула на пол, мяукнула и неторопливо направилась в прихожую. Я сообразил, что за дверью кто-то знакомый, и, шумно выдохнув, двинулся вслед за серым хвостом моей кошки. По дороге мне рисовались приятные картины: Бянус, который будет выставлен за порог, и плотник, которого я вышибу туда же с торжествующим воплем «бля!»
Но это оказались Катерина с Олюшкой.
Олюшка была в комбинезончике и с большой сумкой; бросив ее в угол, она тут же присела и начала гладить Белладонну, воркуя, как майский голубок. Катерина выглядела потрясающе: в песцовой серой шубке, в лисьей шапочке и в высоких сапогах, тоже отделанных чем-то мохнатым. Прямо не женщина, а меховой аукцион! Попалась бы она в таком виде «зеленым», содрали б с нее меха вместе с собственной шкуркой…
Правда, Катерина — особа крепкая, верткая и закаленная в бухгалтерских баталиях, так что я думаю, гринписовцам она бы не далась. В крайнем случае, уложила бы пару-другую защитников природы и нарезала винта. Внешность ее обманчива: карие нежные глазки, румянец во всю щеку, подбородок с ямочкой, а за всем этим антуражем — стальная бульдожья хватка. Она бы меня в момент захомутала, если б не жалкие мои финансы. Только они и спасли!
— Занят, Сережа? — спросила моя соседка, стрельнув глазками туда-сюда.
— Свободен. Во всех смыслах, — ответил я и с нарочитой алчностью втянул носом воздух. От Катерины пахло чем-то французским, возбуждающим, долларов этак на сто пятьдесят.
Она улыбнулась с видом заправской кокетки и потрепала меня по щеке.
— Дон Жуан, соблазнитель… Я тебе барышню привела, чтоб не скучал. Приютишь до первых петухов?
— Хоть до последних. А что случилось? Мафия наезжает? Ребенка грозятся похитить?
Катерина потупила блудливые глазки.
— Баланс у нас случился… годовой… Срочно надо слепить. Меня уж и машина ждет… там, во дворе… Всю ночьтрудиться будем.
Это верно — трудиться будете всю ночь! — подумал я, сочувственно поцокав языком.
Соседка, не дожидаясь более внятных знаков согласия, испарилась; дверь внизу хлопнула, заурчал мотор, и мы остались втроем. Отличная компания: холостяк и пара девушек, на двух и четырех лапках.
— Дядя Сережа, — спросила Олюшка, — мне можно поиграть в гостиной?
— Стол перевернуть? — поинтересовался я. Случалось, мы его переворачивали и накрывали ковром, чтоб получилась хижина Робинзона Крузо. Я изображал банду папуасов, а Белладонна — пантеру или тигра, смотря по обстоятельствам.
Но сейчас Олюшка покачала светловолосой головкой.
— Нет, стол мне нужен. И еще мне нужны бумага, чернила и гусиные перышки.
Чернил и перышек у меня не нашлось, но я разыскал старую шариковую ручку в форме гусиного пера. Это ее устроило. Из сумки был извлечен большой пластмассовый Буратино, мишка Винни Пух, кукла Зоя и пара пистолетов — из тех, что стреляют теннисными шариками; еще там был катеринин парик. Со всем этим имуществом и Белладонной в качестве эскорта Олюшка направилась в гостиную, а я, довольный, что ребенок при деле, смог отдышаться и продолжить свои занятия.
Коробок было пять, и на каждой, как уже упоминалось, надпись. Четыре, про Гондурас, Швейцарию, Польшу и Сингапур, я разобрал еще вчера, а вот на пятой было написано не «Фанора» и не «Факора», а «Фанера». Эти доллары изготовили у нас, где-то на границе меж Литвой и Казахстаном; были они на ощупь дрябловатыми и годились лишь для инвалидов по зрению. У польских и гондурасских качество было получше — если б их помять и потоптать, я бы сам обманулся. Что касается швейцарских и сингапурских изделий, тут имел место полный о'кей.
Эти «картинки», как называл их Керим, прошли бы экспертизу под гром фанфар и барабанов во многих банках, кроме самых опытных и осторожных — и, разумеется, самых богатых. Собственно, подделку бы не опознали, но в сомнительных случаях крупные финансовые институты обращаются в Федеральную резервную систему США, а там есть особая методика проверок. Какая — знает один Господь да дюжина суперсекретных специалистов. Ведь Федеральная система — это государственный американский банк, где печатают настоящие доллары, а перед тем, как напечатать, размышляют о средствах защиты, явных и тайных. Явные известны всем, а тайные — наиважнейший государственный секрет, на коем держится могущество Америки.
Я на него не покушался, на это могущество, моя задача была поскромней — защитить родимую державу от фальшивок. Благородная цель, не так ли? Вот я и старался ради идеи, пользы и удовольствия. Идея была возвышенной, польза — несомненной (включая сюда и проверку моей методики кластеризации), а об удовольствиях напоминал конверт, врученный мне вчера Керимом.
Проглотив первую стопку купюр, тройлер пискнул и подмигнул мне алым огоньком. Почти сразу же прозвонили часы; было уже семь, и я подумал, что Олюшка, наверное, хочет есть. Что-то она затихла в комнате… С Белладонной не играет — был бы слышен мяв и шум… Рисует? Но почему шариковой ручкой в форме гусиного пера? Раньше Олюшка, как всякий нормальный ребенок, предпочитала фломастеры.
Я на цыпочках подкрался к распахнутой двери гостиной. Юная барышня сидела за столом в черном материнском парике, завивавшемся колечками, и что-то сосредоточенно писала; рядом с ней лежал игрушечный пистолет. Другой пистолет находился в цепких лапках Буратино, а сам длинноносый стоял у дальней стены, опираясь на нее тощим пластмассовым задом. Винни Пух, кукла Зоя и Белладонна устроились на диване — то ли изображали публику, то ли следили за развитием событий.
Олюшка закончила выводить каракули, подняла личико и, прищурившись, взглянула па люстру. Выражение на ее мордашке было очень серьезным, я бы даже сказал — трагическим. Что-то пробормотав (мне послышалось — «час настал»), она поднялась, прижала к груди пистолет, но тут же вытянула его в сторону Буратино и прикрыла ладошкой левый глаз. Секунд тридцать она стояла так, а я взирал на нее в полном недоумении; затем Белладонна мяукнула, послышалось «пиф-паф!», и моя гостья рухнула на пол.
К счастью, на полу в гостиной лежит ковер, но для меня это было плохим лекарством от стресса. Все дневные и вечерние волнения разом навалились на меня; я подпрыгнул, заорал дурным голосом и ворвался в комнату. Когда я схватил Олюшку в охапку, она приоткрыла один глаз, карий и блестящий, как у Екатерины.
— Тсс, дядя Сережа… Я убита… Я играю в Пушкина, именя убил Дантес… Ты должен ото… отомстить…
— Этому, что ли? — спросил я с облегченным вздохом, кивая на Буратино. — Да я из него папу Карло сделаю!
— Правильно… Но сначала ты должен меня похоронить…
— Похороны отменяются. — Я поставил ее на ноги. — Сейчас мы пойдем и поиграем с Тришкой… если со мной не приключится инфаркт. Или пора ужинать?
Но Тришка был притягательней ужина, и гостья, сняв кучерявый парик, отправилась за мной. Белладонна побежала следом; по дороге она задела Дантеса-Буратино, и тот, в слезах раскаяния, уткнулся носом в ковер. — О! — сказала Олюшка, переступив порог. — Денежки! Целый клад! Ты очень богатый, дядя Сережа?
— Не очень, — признался я. — Эти денежки не настоящие. Их напечатали жулики, чтобы обманывать честных людей.
— Меня бы не обманули, — заявила Олюшка, потрогав «фанерную» банкноту. — Я в денежках разбираюсь!
Это была святая истинная правда — в свои шесть лет она отлично знала, какая денежка чего стоит. Акселерация плюс врожденная практичность, плюс влияние мамы-бухгалтерши. Оно и к лучшему, подумал я; не все же ребенку играть в Дантеса и Пушкина. Двадцать первый век к романтике не располагает.
— Что мы будем с ними делать? — спросила Олюшка, кивнув на серо-зеленые пачки.
— Ты бери их одну за другой и ставь сюда, — я показал на приемный паз тройлера, — потом вынимай вот отсюда, снизу, и снова клади на диван. На то же самое место. А я буду раскладывать их по коробкам.
— А Беляночка? — поинтересовалась моя гостья, ухватив первую пачку. — Что будет делать Беляночка?
— Стоять на стреме. Чтобы нас, значит, не застукали…
Минут пять мы трудились в полном молчании, нарушаемом лишь стрекотом тройлера да шелестом купюр. Тррр-шшш… тррр-шшш… тррр-шшш… «Фанера» и гондурасские «картинки» кончились, мы принялись за Сингапур, и Олюшка сказала:
— А вот эти денежки совсем похожи на настоящие. Как ты их отличишь, дядя Сережа?
Я подмигнул ей.
— По тайным знакам, барышня, по знакам, что никомуне ведомы, кроме самых умелых волшебников из Америки. На настоящих денежках эти знаки есть, а на поддельных — нет, потому что никто не знает, какие они и где находятся. Это великая заокеанская тайна!
Глаза Олюшка распахнулись.
— И ты ее узнаешь? Как?
— С помощью Тришки и программы, которую я написал. Смотри: каждая денежка проходит через этот блок, — я коснулся тройлера, — и фотографируется с обеих сторон, а еще просвечивается, словно под сильной лампой. И вся эта информация попадает в компьютер — о каждой цифре и букве, о каждой точке и завитушке, цвете рисунка, его положении и о многом другом, чего на взгляд не заметишь. Тришкина программа все это запоминает — и про фальшивые денежки, и про настоящие. А потом… — Тут я выдержал драматическую паузу, и Олюшкины глаза раскрылись еще шире. — Потом программа начнет сравнивать денежки друг с другом. То есть не сами денежки, а их изображения, которые хранятся в па мяти Тришки. Это очень хитрая программа; она найдет все отличия между настоящими и фальшивыми деньгами и соберет их в кучки: в одной — самые плохие денежки, в другой — получше, в третьей — еще лучше, а в четвертой — такие, что очень похожи на настоящие, однако…
— Не настоящие, да? — с восторгом прошептала Олюшка, и я убедился, что ребенок уловил суть проблемы.
— Да, не настоящие, а только очень похожие, если не считать тайных знаков. Но моя программа… Я не говорил тебе, что она способна учиться? Так вот, к этому времени она обучится и станет опытней любого кассира в банке со всеми его машинками для проверки денег, и будет знать о них больше тысячи кассиров. О каждой точке и завитушке, понимаешь? А значит, ей останется только найти эти секретные завитушки и рассказать нам о них. И когда это произойдет, мы раскроем тайну заокеанских волшебников.
— Надо же, — сказала Олюшка, погладив железный тришкин бок. — Я и не думала, что Тришка у нас та-акой умник!
— Это не он умник, — возразил я, — а дядя Сережа. Программу-то кто составил, моя прелесть? А без программы Тришкой можно гвозди забивать.
— Ну-у прям-таки… — протянула Олюшка, но тут ей пришла новая мысль: ресницы взметнулись, глаза округлились, а курносый нос аж побледнел от возбуждения. Она потянула меня за рукав, заставив склониться к самым ее губам, и прошептала: — Дядя Сережа, а дядя Сережа… А что же будет, когда ты узнаешь тайну заокеанских волшебников? Ты сам будешь делать денежки? Ненастоящие, но совсем-совсем как настоящие? И ты станешь богатым?
Гордо выпрямившись, я принял оскорбленный вид и заявил:
— Это откуда у вас такие мысли, барышня? Совсем недостойные благородной девицы… Взгляните — разве я похож на жулика?
— Не похож, — вздохнув, согласилась Олюшка и окинула меня критическим взором. — Совсем не похож… А жалко!
Я чуть не подпрыгнул.
— Это еще почему?
— Мама говорит, что если бы ты, с твоими мозгами, был капельку жуликом хоть чуть-чуть! — то подошел бы нам в папы.
Ну разве не прелесть! Очаровательная малышка! И такая разумная и логичная… Будь моя воля, я бы женился на Катерине исключительно ради Олюшки, и стала бы она у меня программистом. Олюшка, разумеется, а не Катерина; Катерина у нас секс-бухгалтер, а горбатого лишь могила исправит. Ребенок снова вздохнул, и мне пришлось совершить вольность — прижаться своей небритой щекой к мягкой и нежной щечке. — Ты не расстраивайся, детка! Ты главное сообрази: хоть папу тебе выбирает мама, зато друзей ты выбираешь сама. А папы всякие бывают… Может, попадется тебе что-то приличное, может, нет… Так что с папами не надо торопиться. — А твой каким был? — спросила Олюшка, и тут уж настал мой черед вздыхать.
Потом она принялась допытываться, что же я собираюсь делать с заокеанской тайной — может, жуликов ловить вместе с дядей Аликом? В каком-то смысле эта гипотеза отвечала истине. Я не стремился обнаружить все секретные значки — достаточно было одного или двух, чтоб сконструировать аппарат, производящий безошибочную экспертизу. Такой приборчик и являлся конечной целью моего проекта; мыслилось, что будет он недорогим, компактным и необходимым всюду, где шелестят зеленые купюры. Принцип действия этой машинки я еще не представлял; о принципе говорить было рано, поскольку зависел он от того, что обнаружим мы с Джеком. Но что бы мы ни нашли, в успехе практической реализации не приходилось сомневаться. Российский ум изобретателен и изворотлив — дай идею, а уж умельцы подкуют блоху! Мои гаранты обещали, что на умельцев не поскупятся, и я уже прикидывал, кого бы лучше нанять: безработных оборонщиков из «Градиента» и «Поляриса» или обойтись своими институтскими. Все это пришлось объяснять Олюшке в доступных выражениях, но главное ребенок ухватил: мы трудимся на дядю-богача, чтоб стал он миллионером, торгуя нашей волшебной машинкой. Я с этой мыслью смирился давно, однако Олюшка, склонная по младости лет к идеям социальной справедливости, с возмущением фыркнула. Потом вздохнула, прощаясь с мечтами о папе Сереже. Я тоже вздохнул. Хрумки платили неплохо, но на весь обещанный гонорар я мог бы купить лишь сиденья от керимова «Мистраля». Возможно, еще и дверцы, но на колеса и двигатель рассчитывать не приходилось.
Так, за вздохами и разговорами, мы окончили свои труды и отправились на кухню, ужинать. В Олюшкиной сумке нашлась коробка сливы в шоколаде, и мы занялись ею всерьез — вдвоем, ибо Белладонна, обнюхав предложенную ей конфетку, сморщила нос и чихнула. Я налил ей молока, а нам с Олюшкой — чаю; себе — в отцову чашку, а гостье — в мамину. Она очень хорошо смотрелась с маминой чашкой из костяного фарфора в руках; ее личико и тонкие пальцы тоже казались фарфоровыми, розоватыми и будто бы вылепленными искусным скульптором. Я на мгновение представил, что вместе с нами сидит Катерина, в своей роскошной шубке и лисьей шапочке, но почему-то она никак не вписывалась в пейзаж. Подумав, я понял, в чем проблема: третья чашка на нашем столе была бы лишней.
Глава 5
КУДА ПОДЕВАЛСЯ МОЙ МЕД?
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все.
- Куда мой мед деваться мог?
- Ведь был полнехонький горшок!
- Он убежать никак не мог,
- Ведь у него же нету ног!
— Кто там?
— Три мушкетера и графиня де Монсоро…
— Кто там?
— Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, и Клоп-Говорун…
— Кто там?
— Пара морлоков. Пришли жрать элоя…
Дни катились один за другим, серые и блеклые, как зимнее питерское небо. Скучные, тоскливые дни! Правда, временами раздавался звонок, и на мое привычное — кто там?… — отвечали:
— Вас беспокоят из контрразведки Юлия Цезаря. Не у вас ли скрывается гражданка Клеопатра Птолемеевна?…
Наступил февраль, а с ним — внезапная оттепель; потом снова грянули морозы, осевший снег покрылся толстой бугристой коркой льда, и я не шел — скользил к троллейбусной остановке, словно буер под парусом. У метро было полегче — там лед посыпали песком, и шеренги торговок и нищих ограничивали свободу маневра. Между этими живыми барьерами струился по утрам людской поток — те, кто не нищенствовал и не торговал, спешили на работу, подгоняемые самыми разными резонами: одни — заботой о хлебе насущном, другие — корыстью, тщеславием или привычкой. Мною же двигали любовь к науке и искренний энтузиазм, а это очень сильные мотивы; и потому, должно быть, я второпях свалился со ступенек у входа в метро, порвал куртку и расшиб ребра.
Случилось это в начале февраля, чуть скрасив ярким цветом мой монотонный жизненный променад. Все прочее катилось и плелось своим чередом: филенку воровали уже, наверное, в десятый раз; мой аспирант Паша Руднев трудился над первой фразой своей диссертации; аргентинцы затихли, и британский авианосец свернул к нефтяным арабским берегам; в Чечне постреливали, в Крыму бились от Севастополя до Перекопа, под Хабаровском царило затишье — нашим федералам не подвезли бензин, а у дыркачей кончились снаряды. Бянус распутывал свои узелки, Алик ловил мошенников, Ирак заключил перемирие с Ираном, американцы с союзниками ловили Усаму бен Ладена, а Юрик Лажевич, по утверждению Басалаева, грозился бросить своих оппонентов на растерзание стае гиен. Вот только где он их возьмет?… — раздумывал я. Купить африканских не по средствам, а в городском зверинце гиена имела столь жалкий вид, что против наших зубастых доцентов ей было не выстоять. Да и что ей проку в тех доцентах-недокормышах? Вот упитанный чиновник из мэрии — другое дело!
В личном плане, если не считать порванной куртки и синяка на ребрах, особых перемен не наблюдалось. Звонил Михалев: что же ты, мои шер, о старике забываешь?… давай-ка в следующий выходной… твои зубы, мои вафли… а еще книжку новую подарю… какую?… про Ленина… нет, не историческую, а фантастическую, как мумию оживили… Еще заехал Николай, шкаф из гарнитура моих нанимателей, забрал коробки с фальшивыми баксами; следом позвонил Керим, дабы узнать об успехах, и получил информацию, что дело движется, но трубить в фанфары еще рано — мы с Джеком закончили лишь первичную обработку и выделение самых тривиальных признаков. Я подготовил еще один доклад о классификации минералов, и теперь Вил Абрамыч поощрительно улыбался мне при каждой встрече. В свой черед я со всем старанием улыбался ему, кланялся и выпячивал грудь колесом, так что любой из наших сотрудников мог заметить, как Невлюдов Сергей Михайлович подгоняет задницу к креслу завкафедрой. Мои коллеги реагировали на это с пониманием, а кое-кто даже хлопал меня по спине и неразборчиво бурчал, что, мол, большому кораблю — большое плавание. Я бы с радостью отплыл куда-то, но жаль было покинуть Питер, а также Белладонну и Алика с Бянусом. К тому же ничего романтического этот вояж не сулил; ничего такого, чтоб серая нить будней вдруг вспыхнула и сгорела дотла, а пепел ее обернулся многоцветным фениксом. Ни ирокезы, ни команчи не торопились призвать меня, дабы обрушиться на бледнолицых, призраки электронного полтергейста обходили мой дом за версту, и предложений слетать на Марс тоже не поступало. Вместо этого я получил послание от Боба Рэнсома, державшего свиную ферму в Вайоминге, у городка с чудным названием Биг Виски. Пили там не так круто, как у нас, зато была иная экзотика: быки и ковбои, родео и салуны, шерифы с «кольтами» и степи с травой по грудь, а еще — необозримые стада свиней. Как-то, во время своих каникулярных странствий, я доперся до этого самого Вайоминга, и на проселочной дороге мой «фордик» приказал долго жить. Вдоль дороги тянулся забор без ворот и калиток, а за ним, в отдалении, виднелось что-то каменное, основательное, с башней под звездно-полосатым флагом. Решив, что это поместье местного ленлорда, я отправился за помощью: как всякий нормальный российский гражданин, форсировал забор и стал пробираться среди навозных куч, поражаясь их величине и обилию. Но каменный замок был не поместьем, а свинофермой, и охраняли ее гигантские хряки размером с гиппопотама, но более шустрые и игривые. Я им понравился; загнав меня на штабель пустых картофельных ящиков, они принялись держать совет, то ли умять вкуснятину на месте, то ли дать ей побегать и порезвиться. К счастью, тут появился Боб и водворил порядок железной рукой. Я прожил у него неделю, и это были отличные деньки! С утра до вечера мы обихаживали свинок, а в сумерках, расположившись под черепичным козырьком веранды, толковали о разных разностях — о девушках и компьютерах, о физике и свиноводстве, о королях, капусте и перспективах нашей земной цивилизации. Мы пришли к единому мнению, что физика и компьютеры — блажь, а вот свиньи и девушки — дело стоящее: никаких тебе иллюзий, и есть за что подержаться. Но оставалось множество тем, которые мы не обсудили — к примеру, о космических пришельцах, расовой проблеме и употреблении суффиксов в русском языке. Так что Боб приглашал меня летом в Вайоминг, дабы, как он выразился, покрутить хвосты кабанчикам и поболтать на досуге. Я ответил, что поразмыслю над этим предложением.
Спокойное место штат Вайоминг, особенно та его часть, где разводят свиней. По-моему, даже спутники ее огибают, а если какой и залетит, то не из тех, что палят по Луне. Кстати, с этой пальбой никак не могли разобраться: специалисты НАСА клялись, что не нашли ошибок в своих программах, а физики из Ливермора и Беркли долбали их в хвост и гриву, утверждая, что разрядиться спонтанно лазер никак не мог. В конце января к проблеме подключились «зеленые» — под тем предлогом, что хватит, мол, вертеть дырки в земной атмосфере и переводить зазря кислород. Демарш их показался мне нелепым — ведь спутники висят в сотне миль над земной поверхностью, где нет ни атмосферы, ни кислорода. Меж тем загадочные события продолжались. Просматривая «Amazing News», я только руками разводил да косился на Белладонну — вдруг она заговорит. Что не исключалось; если антенны радиотелескопов вращаются сами собой, а космический зонд, не достигнув Венеры, меняет курс, то могут произойти любые чудеса. Белладонна, впрочем, не говорила, а лишь мяукала (зато вполне членораздельно), но иных чудес и диковинок в мире все прибавлялось и прибавлялось. Были среди них утечки энергии и жалобы на странные шутки коммуникационных систем, компьютерных и телефонных: люди звонили друзьям и родичам, раз за разом попадая в штаб-квартиру ЦРУ или в Английский банк. Телефон, разумеется, ненадежное средство связи, но про оптоволоконные линии я бы этого не сказал. На них, словно Земля на трех китах, стоит Глобальная Система, и если сервера[18] исправны, то всякое сообщение дойдет куда положено.
Как утверждалось в «Amazing News», сервера были исправны, но некий молодой японец, желавший поболтать с невестой в Иокогаме, трижды соединялся с Пентагоном. Весьма поразительный факт! С другой стороны, где же ему место, как не в «Amazing News»? А место факта в системе информации — его важнейшая характеристика; какое место, такое и доверие.
И я, поудивлявшись и поахав, прикладывал компресс к своим синякам и шел спать. И снилось мне, как дергается в развеселой пляске решетчатая чаша телескопа, как венери-анский зонд поворачивает к Магеллановым Облакам и как я пытаюсь связаться с Бобом Рэнсомом, но вместо Биг Виски на проводе Иокогама, а вместо Боба — девушка того молодого японца, и я говорю с ней на каком-то странном языке, не русском, не английском, а похожем на древний фортран. Утром я вставал, кормил Белладонну и ложился на заданный курс — неизменный, как положено для больших кораблей. От дома до института, от кандидатской до докторской, от стула научного сотрудника до кресла завкафедрой…
Так и текли мои серые будни, овеянные ветрами да метелями, согретые визитами друзей, слегка подкрашенные зимними пейзажами, той неброской акварельной красотой, какую являет неравнодушному взгляду заснеженный город.
Но мне было этого мало. Что-то творилось со мной; пустынные воды моей жизни остывали, покрывались льдом, и я барахтался в них, мечтая выбраться из серого, холодного, обыденного в синий теплый океан, где на горизонте встают острова с пальмами и золотым песком, а на тех островах — вечный праздник: солнце сияет, вьются флаги, и смуглые стройные девушки подносят путнику орхидеи и кокосовое молоко в половинке ореха. Впрочем, кокосы и орхидеи не такая уж невидаль — их продавали в ближайшем универсаме, но вот смуглых девушек там я не встречал. А какой же без них праздник?
Пустые мечты, разумеется… сон… сказка… Но так мне ее не хватало — до боли, до скрежета зубовного, до ломоты в костях! А тут еще этот проклятый синяк на боку…
Имелся, однако, способ умчаться за грань реальности.
Сказка — из редкостных товаров, и не всякому выпало прожить жизнь так, чтобы, умирая, он мог признаться: мне повезло, я коснулся сказки. Был героем, спасал принцесс, палил из бластера в чудовищ, карал злодеев и удостоился рыцарских шпор; а под конец лучшая из девушек отдала мне руку и сердце, когда я приплыл за ней на бригантине с алыми парусами. Но эти сожаления о сказочном и несбывшемся — дело минувшее, если у вас есть компьютер и контактный шлем с креслом. Дорогие игрушки, согласен; они поглотили всю сумму, что лежала на родительских счетах, плюс мою последнюю кембриджскую стипендию. Я мог бы вполне обойтись без таких завитушек и прибабахов, ведь для серьезной работы они не нужны. Ни вокодер со стереофоническими колонками, ни операционные пульты, встроенные в подлокотники, ни браслеты, ни шлем, даривший иллюзии и миражи… Но мне очень хотелось, и я себя уговорил.
Это была непростая процедура, учитывая состояние моих финансов. Но мудрецы говорят: life is not all beer and scittles[19], и они правы. Руководствуясь этим советом, я изгнал всякие мысли о развлечениях, об играх, обычных фильмах и лентах FR[20]; я сказал себе — как специалист специалисту, — что просто обязан следить за новейшими достижениями своего ремесла. Операционное кресло, со всем, что к нему прилагалось, как раз и было таким достижением; с его помощью я мог проникнуть в Сеть в любом избранном мною обличье и повстречаться с другими Масками[21], мог проследить за процессом вычислений, воспринимая его как звуковой и визуальный ряд, мог даже в какой-то степени объединиться душой с компьютером, подсказать ему и направить по верному пути. Такие подсказки необходимы при решении некорректных задач, но самый обычный пульт позволяет ввести их и отследить действия программы. Кресло, однако, удобнее; оно преобразует виртуальный компьютерный мир в символы и звуки, доступные человеческому восприятию.
Итак, я приобрел кресло, браслеты и шлем и пару недель болтался в Сети, знакомясь воочию с монстрами, что проживают на главных ее магистралях и в каждом занюханном тупичке. Потом мне это надоело. Ведь я не «чайник», чтоб исходить восторженным паром при виде перемножаемых матриц! Не вид меня интересует, а результат, и чтоб поскорее и поточнее!
Ныне все вернулось на круги свои: к программе я подключаюсь редко, в Сеть лазаю от случая к случаю, зато наслаждаюсь фульриками.
Вот это сказка и праздник! Вернее, приемлемый суррогат того и другого. Пока без тактильных ощущений, но я полагаю, оно и к лучшему — целее будешь, ввязавшись в какую-нибудь авантюру. Опять же гаремные страсти… Смотреть на них весьма утомительно для одинокого мужчины, а если еще и чувствовать, то без инфаркта не обойдешься! Словом, всему есть свой предел и своя граница, в том числе и киношному прогрессу.
Фульриков не так уж много, но сделаны они на совесть, хоть без затей и по привычным голливудским образцам. Главное же, что их не надо воровать, ломая пароли и заметая преступный след; их производит «Даймонд Проперти», та самая фирма, где разработаны кресло и шлем, и рассылает бесплатно. Само собой, при том условии, что шлем с креслом оплачены звонкой монетой. Как говорится, what one loses on the swinge one makes up on the roundabouts — что потеряли на качелях, возьмем на каруселях.
В январских поступлениях фульриков значились четыре позиции: две мочилки, одна Возбуждалка и одна расслабиловка. Согласно моей классификации, мочилки — это сплошной кишкодрал и яйцерез; там стреляют, бьют и потрошат ста сорока способами, причем сперва плохие парни перекрывают кислород хорошим, а под конец хорошие чистят фейс плохим. Сказки, конечно, но черные, и я их не люблю, хотя и просматриваю временами — перед кафедральным семинаром. Чтобы, значит, взъяриться и добавить адреналинчика в кровь… Но этим вечером мне хотелось иных сказок. К тому же была среда, и вчерашний семинар, не кафедральный, а лабораторный, прошел в полном благолепии: Ник с Диком (докладывали о своих магистерских трудах, и все были так зачарованы их потрясающим сходством, что дело обошлось без каверз и подковырок, даже со стороны Басалаева. Возбуждалку я тоже смотреть не хотел. Эта группа дифференцировалась от скромных сосалок-обжималок до откровенных трахалок, и выяснив, что полученный мной шедевр называется «Лесбиянки в финской бане», я его забраковал. Не в том я был настроении, чтоб париться с лесбиянками; и вообще это занятие министров и прокуроров, а не научных сотрудников. Оставалась лишь расслабиловка. Обычно это нежные мультфильмы про русалочек и Дюймовочек, но в данном случае сюжет был позабавней: подругу Крутого Уокера, рейнджера из Техаса, похитил некий джинн с электронными мозгами, правитель роботов, свирепых, как павианы в период течки. Прятался этот монстр в каком-то лабиринте в созвездии Орион, и чтобы добраться до него, бедняга Уокер должен был облететь двадцать миров и сделать каждому роботу гуляш по почкам. Короче, полный отпад! Разум растворяется в сумерках чувств, а именно этого мне сейчас и не хватало.
Должен заметить — к чести «Даймонд Проперти», — что их интересы были шире секса, стрельбы и мультиков. Временами они подбрасывали мне махалки и молотилки в стиле Джеки Чана; иногда баловали скакалками-вестернами и страшилками — историями о честных налогоплательщиках, которых со смаком пожирают крокодилы, акулы и восставшие из гроба мертвецы. Страшилки всегда высылались в двух сериях, и тех бедолаг, которых не прикончили в первой, обычно доедали во второй. Я такому изобилию ужасов ничуть не удивлялся. Horror[22] — во всяком случае, до эпохи бен Ладена — был популярнейшим жанром в Штатах; жили там хорошо, спокойно, а сытая жизнь скучна, если не перемежается легким испугом. У нас же все наоборот; как говорил отец, недолгий кайф торчков на перманентном фоне страха. Такие вот сказки… Если вдуматься, все они черные, и у нас, и за океаном, ибо мир в нынешние времена неделим и един, как Глобальная Сеть; или спасемся вместе, или вместе погибнем. И в случае фатального исхода останутся после нас компьютеры, и будут они командовать другими машинами, попроще, гонять из банка в банк разнообразную цифирь, делить и умножать и упражняться в вариационном исчислении… И это будет лишено всяческого смысла. Однако надежда на спасение во мне угасла не совсем, и поддерживает ее «Даймонд Проперти», моя дорогая фабрика электронных грез. Ведь занялись же они мультфильмами! Значит, еще не рискуют пугать мочилками и страшилками малых детишек, таких как Олюшка, — и получается, что гуманизм им не чужд, равно как и другие благородные чувства. Например, доброта и любовь… Что спасет нас от ненависти и ужаса, от крокодилов-убийц, от кровожадных ниндзя, от мастеров кун-фу с тяжелыми кулаками, от графа Дракулы и наркомафии? Только любовь и доброта… Ну, возможно, Крутой Уокер чуть-чуть поможет… С этой мыслью я напялил шлем, уселся в кресло и поманил к себе Белладонну. Она не любит моих погружений; когда я часами сижу неподвижно, с опущенным забралом, вцепившись в подлокотники, это пугает ее. Наверное, ей мнится, что я уснул неестественным странным сном, или вовсе умер, или превратился в какое-то чудище с большой серой дыней вместо головы. Но на моих коленях она успокаивается; видно, чувствует, что я еще теплый, а значит, живой. Я пощекотал ее за ушком, коснулся сенсора голографической приставки и опустил забрало. Долгий протяжный аккорд, подобный свисту ветра в рибрежных скалах… Затем привычный мир исчез, растаял, растворился; теперьнадо мной шелестели пальмы, тянулся вверх гигантскийкрасноватый ствол секвойи, уходила вдаль полоска песчаного пляжа, усеянная народом, а за ней синел океан, спокойный и тихий, нежившийся под ласковым солнышком;по его аметистовым волнам скользили яхты с пестрыми парусами, а на них загорали девушки — те соблазнительные смуглянки, что подносят героям цветы и кока-колу в запотевших стаканах. Словом, вид был самый калифорнийский, и, узрев полузнакомые очертания далеких гор, я убедился, что действительно попал в Калифорнию, вместе с Дейвом Уокером и его подружкой. Может, они вкушали отдых в этом американском парадизе, а может, явились по делам — к примеру, искать мафиозных боссов или тайный склад гер-балайфа. Я полагал, что скоро это разъяснится.
Возникло лицо Уокера — крупным планом, на фоне океанских волн и бирюзовых небес. Был он почти как живой, что достигалось средствами компьютерной видеопластики; лишь приглядевшись, я отметил несомненный перебор. Слишком рыжие волосы, слишком резкие морщины у губ, слишком рельефные мышцы и столь выразительная мимика, какой не бывает у настоящих людей… Все-таки это была мультяшка-симулякр, хоть и выполненная с блеском. В прочих фильмах, в мочилках, страшилках и возбуждалках, играют живые актеры, но декорации тоже плод компьютерного дизайна, и сделаны они так тщательно, что от реальности не отличишь. С людьми сложнее; их еще не научились имитировать на все сто, хотя этот час близок и зависит лишь от быстродействия наших компьютеров. Воистину, программисты — боги и уступают Саваофу только в одном: миры, сотворенные ими, нельзя пощупать. Зато они творят их целыми пачками.
Крутой Уокер сидел в шезлонге, попивал лимонад и вел крутую беседу со своей блондинистой подружкой (длинные ноги, пышный бюст, губки бантиком и Ниагара золотых волос). Блондинке хотелось замуж, и Уокер со всей доходчивостью объяснял, что техасский рейнджер не годится на такое амплуа; он, дескать, повенчан с Фемидой, спать ложится с пистолетом и производит на божий свет не детишек, а исключительно протоколы. Подруга с этим активно не соглашалась и напирала на Дейва бюстом и интимными воспоминаниями. Такой вот у них получался разговор.
Тут грянул гром среди ясных небес, блеснула молния, и над пляжем завис НЛО самой зловещей наружности, класса «летающая сковорода». Народ взволновался, девушки завизжали, кто бросился к пальмам, кто — к океанским водам, а кто начал закапываться в песок, в частности одна симпатичная девчушка лет пяти, похожая на мою соседку, с таким же курносым носиком и огромными серыми глазищами. Тем временем НЛО выплюнул посадочные капсулы, они хищной стаей упали на пляж, извергнув команду роботов. Отвратительные твари: бронированные, но волосатые, с лазером во лбу и с ковбойским лассо в причинном месте. Этими арканами они принялись ловить рабов — и девушек-смуг-ляночек, и их бой-френдов, и детишек, и мамаш с папашами. Изловленных тащили к капсулам и отправляли в сковородку, попутно взрывая бензоколонки и вышибая мозги всем встречным и поперечным. Словом, зверствовали вовсю; это был тонкий сюжетный ход, чтоб оправдать самые жуткие меры возмездия, какие намечались в будущем. Уокер вытащил из плавок пистолет («специальный полицейский» сорок пятого калибра) и попытался дать отпор злодеям. Но пули отскакивали от их панцирей, а гранатомета под руками не случилось, так что Дейв мог полагаться лишь на свои кулаки. Он ринулся на ближайшего робота (тот вытаскивал из песка сероглазую девчушку), сшиб его с манипуляторов и начал отплясывать джигу на брюхе мерзавца. Диоды и триоды сыпались градом, робот жужжал, девчушка вопила, пятки Уокера сокрушали панцирь, а тем временем другой бронированный хмырь уволок его блондинку. Капсулы взлетели (все, кроме одной, принадлежавшей поверженному роботу), сковородка фыркнула огнем и скрылась, оставив в космосе отчетливый инверсионный след. Уокер почесал в затылке; лицо у него было огорченным и нерешительным, так как дальнейший расклад событий предусматривал несколько вариантов. Первый: продолжить распитие кока-колы; второй: устроить засаду на пляжах Майами, куда злодеи непременно явятся за новой партией рабов; третий: отправиться на мыс Канаверал и экспроприировать ракету, подготовленную для марсианской экспедиции; четвертый: обратить внимание, что отец спасенной девчушки, фермер Джо — из породы непризнанных гениев и у него в сарае за скотным двором спрятан такой звездолет, какой не снился фраерам из НАСА. Словом, имелись разнообразные возможности, и я решил, что Дейв нуждается в подсказке.
Одно движение пальца, и он твердым шагом направился к капсуле, прихватив пистолет и бутылочку кока-колы. Мы с ним быстро разобрались в управлении, нажали все нужные кнопки, дернули рычаги и взмыли в небеса. Инверсионный след был отлично виден, и вел он в первый из двадцати миров, какие предстояло посетить Уокеру, чтобы выручить свою подружку. Я надеялся, что он везде наведет порядок, а под конец спустится в лабиринт и доберется до электронного джинна в самое пикантное мгновение, когда тот подкатит с гнусным предложением к блондинке.
Мчась в космической тьме, я уже предвкушал, как мы с Уокером вставим мерзавцу фитиль в процессор, но вдруг наш космический транспорт затормозил, рассыпался, мой спутник исчез, а вслед за этим Галактика мигнул а яркими звездами и провалилась в тартарары. Передо мной сияла алым светом беспредельная огненная даль, в ней мерцали вспышки молний, ворочались багровые тучи, а на самой большой из них сидел огромный черный пес с вытянутой мордой, и с клыков его капала слюна. Это апокалипсическое зрелище сопровождалось тревожным гулом набата, дьявольским завыванием сирены, ураганным ревом и другими звуковыми эффектами. В целом чувство было таким, словно я на полном скаку вылетел из седла и впилился в стену, ограждающую ад. Конечно, я ее пробил — иначе откуда же этот звон и рев, этот огонь и этот страшный пес, сатанинское отродье?…
Прошло секунд пять, пока я наконец сообразил, что вижу Добермана и что трансляция фульрика вырубилась по аварийному прерыванию. Причин могло быть три: или началось всемирное побоище, или какой-то пронырливый хакер пытался обшарить тришкины закрома, или…
Содрав шлем, я вскочил, и Белладонна с испуганным мявом спрыгнула с моих колен. Голографический апокалипсис разом кончился; звон и рев превратились в негромкое попискивание, а пламенные адские дали — в чуть вогнутую розоватую поверхность экрана. Но в самом его центре по-прежнему маячил черный пес, а под ним, в красных окнах, темнели ровные строчки сообщений. Левое информировало, что копия программы «Джек» снята с компьютера [email protected] (то был сетевой адрес Бянуса), а правое уточняло, что покража свершилась в 19.32 и что тревожный сигнал добрался до Тришки через ноль минут девяносто семь миллисекунд — то есть, как и положено, со скоростью света. Но хищная лапа грабителя исчезла с той же быстротой, уволакивая горшок с моим медом; исчезла и скрылась в каком-то неведомом закоулке Сети, может в Австралии, а может в Панаме, Китае или Нью-Васюках. Впрочем, мед есть мед; не бывает меда без запаха, а мой Доберман — чуткий песик.
Я повернулся к Белладонне и хмуро буркнул:
— Прошу простить мою невежливость, синьора. Причина самая извинительная: нас обокрали! Без штанов оставили, по правде говоря.
— Мяу? — произнесла моя кошка, явно желая приобщиться к более полной информации.
— Собственно, обокрали доцента Бранникова, — уточнил я. — Да-да, того самого Бранникова, который чешет вас за ухом и допускает прочие вольности. А вы, бесстыдница, в ответ мурлыкаете и урчите!
— Урр! — не согласилась Белладонна, будто Бянус, этот лохастый веник, никогда не чесал ее за ушами. — Урр! Урр!
— Вот тебе и урр! А он, между прочим, клялся, что в Сеть коготка не покажет! Ни шерстинки, ни кончика хвостика, понимаешь? Какой поганец! — Я с грустью покачал головой. — Верь после этого людям! Верно сказано, киска: good fences make good neighbours![23]
Киска, хоть была не в ладах с языками, утвердительно мяукнула и с грозным видом распушила хвост трубой. — Ну и что же мы сделаем с этим Бранниковым? — риторически вопросил я, снова опускаясь в кресло. — Выколем зенки его пентюху? Шнобель открутим? Дадим коленом по виндам? Или пасть порвем?
— Мрр-унн…
Белладонну мучили сомнения, и мне пришлось с ней согласиться. По двум причинам. Во-первых, компьютер ни в чем не виноват, и хоть он не живой, все-таки жалко делать ему лоботомию. Во-вторых, Бянус хоть и поганец, но друг, и харакири его компьютеру было бы чистой подлянкой, а к тому же еще и глупостью. Ну потру я ему диски или микроба запущу — так кого он призовет на помощь?… Правильно, своего дружбана Сергея Невлюдова, пи-эйч-ди во всякой хитрой технике… И будет все по пословице: за что боролись, на то напоролись.
Так что я решил заявиться утром к Сашке на кафедру без всяких звонков и предупреждений, взять его за глотку и чего-нибудь отвернуть — скажем, в том месте, откуда ноги растут. А сейчас нам с Доберманом предстояли следствие и розыск, и дело это откладывать не стоило. Хакеры в большинстве — как сороки-воровки: сопрут что-нибудь и начинают играться блестящей штучкой, соображая, куда ее можно приткнуть и в чем ее польза и профит. В это самое мгновение и полагается нанести удар — а уж какой, это зависит от квалификации и милосердия ограбленного. Если взять мой бедламский вирус, то он стремителен и беспощаден, как тетрачума — пять микросекунд, и в памяти полный вакуум, а на экране надпись: бай-бай, притырок.
Впрочем, это не самое страшное, есть кары и пожестче, не для мозгов, для сердца. Не всякий компьютерный блок выносит быстрые переключения в пиковых режимах; например, если подать на материнскую плату[24] высокочастотные импульсы, то микросхемы не успеют их отработать, возникнут экстратоки, и, как гласит термодинамика, случится небольшой Ташкент. То есть нагрев сверх допустимой нормы; затем кое-что расплавится, и вся компьютерная начинка прикажет долго жить. А цена ей — от трехсот до тысячи в твердом валютном исчислении! Так что врезать можно и по «мозгам», и по «железу», а при особой изощренности — по оператору-хакеру, ежели он в контактном шлеме или часто посматривает на экран. Есть такие программки, что выдают всякую пакость, которая глазом не видна, но фиксируется в подсознании… есть и другие, что раскачивают биоритмы, заставляя изображение мерцать и подрагивать… Но это уже беспредел, и мой Бедламчик такими вещами не занимается.
Конечно, бывают очень предусмотрительные хакеры — тс сразу отключаются от Сети, переписывают ворованное на съемный диск и не спешат с экспертизой. Но зачем красть, если не можешь попользоваться? Так что вор запускает программу, а потом, через день-другой, выходит в Сеть; тут ему и крышка, если розыск был проведен своевременно и по всем правилам.
Эти соображения меня, однако, не радовали. Если начистоту, я был угнетен и зол, и моя беседа с Белладонной отдавала не юмором, а черным сарказмом. Надо же, глядел я свои сказочки про уворованных блондинок и бесстрашных рейнджеров, наслаждался и никому не мешал, а тут реальность подносит сюрпризец: блондинку и впрямь украли!
Ну не блондинку, так самое ценное мое имущество, доверенное, кстати, другу! Корешу моему ненаглядному! Растяпе и паразиту! Блудливой гадюке! Отродью теночтитланского козла! Чтоб ею распяли на теокалли и в бутылку закатали! Желательно с «Политехнической»! Напился, видать, алкоголик, и начал хвастать на кафедре, как ловко копает свое узелковое дерьмо… и какой лопатой копает, тоже, небось, доложил… А потом хлобыстнул пару стаканов, память совсем отшибло, крыша поехала — тут он в Сеть и вылез! А друзья-коллеги только того и ждали… Здесь своя лапа видна, своя, не чужая, не из Китая, не из Панамы и не из Нью-Васюков! Кому там надо шарить в скудном доцентском пентюхе? Да и кому из своих такое в голову взбредет? Кто полезет в пустую квартиру? А вот ежели там деньги спрятаны, и звон об этом слышен на всю ивановскую, и дурак хозяин дверей не запирает… Как тут лапу не протянуть? Загребущую, историческую? Ну доберусь я до этой лапки! Мало не покажется!
Выстроив гипотезу и просчитав Бянуса, я крепко его обложил (про себя, чтобы не слышала Белладонна) и отправился на кухню.
Полезно хлопнуть крышкой, выпустить пар, а затем испить чего-нибудь бодрящего, чаю или кофейку из отцовой кружки. Или из маминой, по большим праздникам… Но праздновать мне было нечего, и я мамину чашку не тронул, проглотил свой кофе и сказал Белладонне:
— Сейчас курочку будем резать, синьорита. Разыщем и оставим без потрохов. И перышки ощиплем!
Услышав про потроха, она облизнулась. Затем мы отправились к Тришке, оба — в самом кровожадном настроении, словно два индейца, сменивших трубку мира на боевой томагавк. По такому случаю розыск я решил вести не с клавиш, а с полным погружением; оседлал своего мустанга (то бишь контактное кресло), защелкнул браслеты на щиколотках и запястьях и надвинул шлем. Огненные адские бездны снова разверзлись передо мной, только теперь у Добермана появился спутник, маленький черный пудель с кокетливым бантиком на хвосте. Моя компьютерная ипостась, Маска, под которой я странствую в Сети… Я связан с нею крепче, чем с персонажами фульриков; им я могу подсказать, направить дела туда либо сюда, а с песиком у нас полное сродство душ и миомоторных реакций. Через браслеты, разумеется; стоит мне сжать кулак или брови нахмурить, как сенсор, уловив усилие, преобразует его в импульсный код, а после… Впрочем, эти детали интересны лишь специалистам. Сыщикам они ни к чему. Равно как судьям и палачам. Я перевел Добермана в режим поиска, и зловещее алое зарево угасло. Мир вокруг был безбрежен и пуст, как безоблачное небо над Вайомингом, и в его успокоительной синеве мерцала серебристая тропа — мой сетевой канал в голографической проекции. Этим прелестным видом я был обязан креслу — вернее, его интерфейсному модулю, который делал зримой такую вещь, как пляска бесплотных квантов меж электронных облаков. Временами серебряная тропка — или полупрозрачный тоннель, уходивший в бездонный сапфировый космос — чуть подрагивала, сжималась и вспыхивала фиолетовым; свечение катилось по ней, словно шарик в желобе, исчезая где-то у меня под ногами. Это трудился Доберман: ловил сигналы другой своей половины, похищенной вместе с Джеком, и превращал их в зримый ясный образ. Он мог бы делать это куда быстрее, но приноравливался к медлительному моему рассудку; темп времени, в котором мы сейчас существовали, определялся мной. Иными словами, скоростью химических реакций в моем организме, а не стремительным полетом квантов, детей эфира.
Я шевельнул пальцами, и две черные тени устремились вперед, по серебристой дорожке, проложенной в компьютерных небесах. Доберман бежал первым — собственно, не бежал, а скользил в пространстве на растопыренных мощных лапах. Программируя его, я опустил такие мелочи, как собачья побежка; меня вполне устраивало, что он летает, а не скачет. Над пуделем велась более тонкая работа, и он умел перебирать лапами, дергать хвостом и настораживать уши; умел и кое-что другое, еще поинтересней.
Псы добрались до сервера, станции пересадки, обслуживающей мою магистраль. Она выглядела словно большая цилиндрическая полость, к которой сходилось множество внешних тоннелей-троп; каждый заканчивался портом или адресными вратами, помеченными надписью, и очутившись внутри, в самом цилиндрическом пространстве, эти надписи можно было прочесть, а затем отправиться по нужным адресам. Врата серверов пребывали распахнутыми днем и ночью, а порты, ведущие к частным пользователям, могли находиться в одном из трех состояний: либо открыты и доступны для контактов, либо запечатаны паролем, либо замкнуты наглухо. Последнее означало, что абонент отключился от Сети. Все это являлось чистой фикцией и условностью, попыткой изобразить пир привидений в пятом измерении. Сетевой регламент неизмеримо сложней, а топологию Сети и в страшных снах не представить, но разработчики пейзажа из троп, цилиндров и ворот старались не для меня. Для доцента Бранникова, как ни горько это признавать! Для моего друга Бянуса, лохастого растяпы, и подобных ему чайников!
Мы пронеслись мимо Масок, мельтешивших на станции, мимо всех этих лолобриджид, нагих валькирий, гномов, вампиров, эльфов, черепах, драконов, рыцарей, качков, торчков и прочей нечисти и попсы; пронеслись и нырнули в ворота университетского сервера. В его объемистом чреве царили порядок и пустота; чужим Маскам делать тут было нечего, а своих, увы, не имелось. Ведь только счастливый обладатель кресла и шлема мог погружаться в виртуальную реальность и разгуливать по Сети этаким информационным призраком — а у кого из наших завалялись восемь тысяч баксов?… Может, у ректора, но сомневаюсь, чтоб он совершал здесь променад в Маске Исаака Ньютона.
К моему изумлению, Доберман ринулся в дальний конец, где зияли порты европейских серверов. Я дернул бровью, заставив пуделя подпрыгнуть; на его лукавой мордашке изобразилось недоумение, вполне подходящее к случаю. Выходит, моя гипотеза лопнула и бянусовы коллеги здесь пи при чем?… Ни они, ни их загребущие лапы?… Я им не доверял чисто интуитивно, так как треть преподавателей истфака в прошлом состояла в КПСС — а может, и не только в прошлом. Цирк сгорел, но эти клоуны отнюдь не разбежались; они еще мечтали о прежних антраша, гастролях и персональных бенефисах, они еще помнили, что партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. По уму и честь, по совести и порка! — усмехался отец, голосуя то за персюков из Демократического фронта, то за домушников из НДР. Потом демократы тоже скурвились, и он перестал усмехаться, а также голосовать, только принимав в день выборов стопку водки. Что было для него совсем нехарактерно.
Тормознув Добермана, я принюхался к дверце, что вела на бянусов компьютер. В данный момент все обстояло тип-топ: дверь забита наглухо, окраска серая, блеклая, порт не активирован, питание снято. Я велел пуделю поднять лапку и помочиться на порог. Затем он дернул хвостом и гордо проследовал дальше.
А вот дальше началось самое интересное. Попали мы на какой-то сервер — может, немецкий, а может, шведский; был он в форме тороида, надетого на сферу, и в кольцевой коридор выходили частные порты, а в шаровую полость — линии всяких ведомств и фирм и даже правительственные каналы, отмеченные, кроме адресов, роскошными гербами и флагами. Все эти врата с росписью из львов, орлов и орденских лент были с селективной фильтрацией — то есть сосали данные и слали письма туда-сюда, но вот пролезть в них живьем и поскрести по сусекам — задача, надо сказать, непростая. Но вполне решаемая, при известном упорстве и техническом навыке.
Доберман, однако, у этих шикарных врат не задержался, а сунулся к узкой дыре, абсолютно анонимной, если не считать рамочки с сетевым адресом. Такой адрес состоит из двух частей, разделенных знаком «@», и обычно в нем кодируются шифры пользователей, их городов и стран и что-нибудь еще — скажем, идентификатор почтового ящика. Но здесь стояло кратко и невнятно: 111@ecsp. Темная аббревиатура из четырех букв и три цифры, безликие, как частокол вокруг генеральской дачи! Но мне казалось, что на загадочный порт подвешено что-то мощное — септяк, а может, октяк, каких во всем мире сотня с хвостиком, да и хвост этот не слишком длинен. К примеру, в Кембридже мы трудились на сексотах, таких же как мой Тришка, и очень были довольны.
Но самое странное заключалось в том, что в воротах 111@ecsp свистал сквозняк. Сквозь щель, разумеется; через нее я мог наблюдать смутное движение размытых теней, мерцание огоньков, сопровождавшееся отдаленным гулом, и прочие условности, что имитировали вычислительный процесс. Компьютер работал. И я не ошибся — это была чертовски мощная штучка, важный гусь! Его защитили надежней пещеры Али-бабы четырехслойным паролем, поверх которого стоял сетевой фильтр, а на внутренних уровнях, конечно же, требовались персональные коды доступа. Я бы ничего не извлек из этой машины, ни единого бита; может, вломился бы в нее после некоторых стараний и подбросил своего Бедламчика.
Однако ломиться и стараться было ни к чему; кто-то уже постарался, перекрыв все пароли и коды, проковыряв эту щель и протоптав для меня дорожку. Ловкий малый, ничего не скажешь! Умелец! И сейчас он работал с машиной, висевшей на адресе 111@ecsp, работал с внешнего терминала, из Сети, прокручивал Джека среди полусотни других задач, вполне законных и легальных. Такое называлось «сквозняком» на жаргоне хакеров, и обнаружить его весьма непросто, но Доберман был чуткой ищейкой. Его дубликат, прилепившийся к Джеку, сигналил нам — а где проходили сигналы, из той щели и дуло, коль не вдаваться в технические подробности.
Я в них не вдавался. Какое-то время я слушал далекий гул, всматривался в мерцающие огни и смутную игру теней; потом вызвал Бедлама и направил его прямиком в щель, словно торпеду в раскрытые двери порохового погреба. Прошла секунда, две, три… Целая эпоха в компьютерных масштабах! Гул стих, огни погасли, танец теней сменился непроглядным мраком, растворившим и ту из них, что принадлежала моему похищенному Потрошителю. Тьма, молчание, пустота…
Не припомнив подходящей британской пословицы, я пробормотал:
— Долг платежом красен…
Но оставался еще один должок, и чтобы расквитаться окончательно, пришлось навестить Бянуса. Я изловил его следующим утром, часов в одиннадцать, на пороге комнаты, которую они делили с Сурабовым. Сашка как раз появился в коридоре, с непривычной осторожностью прикрыв за собою дверь; был он какой-то на редкость праздничный, весь отглаженный и отутюженный, в роскошном новом галстуке, благоухающем лосьоном «Казанова». Не иначе как собирался навестить Верочку-психологичку.
Узрев меня, он широко раскинул руки, будто хотел взлететь к ободранным коридорным сводам.
— Отец родной! Сам Серый Янкель пожаловал в хлев короля Монтесумы! Ковбой ты наш изобретательный! Вашеблагородие, госпожа удача!
Из воплей доцента Бранникова я заключил, что узелковые проблемы близки к разрешению, но это меня не смягчило. Совсем наоборот! Раз Джек пропахал этакую борозду в исторических пажитях, разделавшись с тайнами инков, беречь его полагалось, как святой Грааль, как лампу Аладдина и президентские штаны! Выложив это Сашке, я тут же понял, что попал впросак: ведь каждый из трех упомянутых мной раритетов теряли, причем неоднократно.
Но Бянус моей оплошки будто не заметил. Лицо его омрачилось, потом приняло задумчивый вид; он поскреб свой длинный костистый подбородок, огладил галстук, поднял очи горе и процитировал:
— Есть предложение считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим зажечь свет.
Света тебе не хватает, пеликан в галстуке? — яростно прошипел я, озираясь. Коридор, к счастью, был пустынен, и никто не мешал нам скандалить в полное свое удовольствие. — Света, значит, не хватает? А если подвесить парочку фонарей?
— Это кому же?
Я демонстративно принюхался к галстуку и сообщил:
— Казанове. Или одному лохастому доценту. Или обоим сразу.
Сашка задрал голову, подбоченился, сузил глазки и сделался похож на того восьмилетнего сопляка, с которым мы лупцевали друг дружку в счастливой юности. Сердце мое дрогнуло и начало таять.
— Да за такие слова, сударь, лет триста назад я пригласил бы вас на прогулку, отряхнул пыль с ушей и продырявил шпагой! — заявил он, четырежды переврав цитату.
— Триста лет назад я бы с тобой тоже не церемонился, инка недорезанная!
Мне стоило больших трудов не ухмыльнуться, и он это заметил, хлопнул меня по плечу и предложил:
— Передерни затвор, шериф, и начнем беседовать по новой. Что там у тебя приключилось?
Я объяснил что. Со всеми эпитетами и глаголами, подходившими к случаю.
Обычно Сашка белокож и бледен и чуть напоминает графа Дракулу, оголодавшего после столетней спячки. Но кровь легко бросается ему в лицо, и когда моя история была закончена, на бянусовых щеках пылали оранжевые пятна. Стигматы греха и раскаяния, не иначе!
— В Сеть лазал, чайник неумытый?
Примерно таким же тоном инквизиторы любопытствовали, летают ли их подопечные на помеле. Сашка содрогнулся и начал накручивать на палец свой роскошный галстук.
Не… не лазал. Сам не лазал. Другие лазали. Понимаешь, Серый, какое дело… У Сурабчика… сожителя моего… компьютер накрылся… Чего-то там вылетело, не знаю… Ну меня попросили… на полчасика…то ли статейку скачать, то ли письмишко отправить…
Попросили! На полчасика! — передразнил я. — Ты мне гайки не вкручивай! Кто тебя попросил, болвана? Муса Сулейманович? Да он скорей на подтяжках повесится, чем к твоему столу подойдет! Он человек порядочный, непьющий, а ты…
— Я — гнида, алкаш, урод и генетический монстр, — с покаянным видом сообщил Бянус. — Не Сурабчику я дал попользоваться, а его аспиранту. То есть аспирантке. Новенькая у нас аспирантка завелась… Дней десять назад… И сейчас сидит за моим компьютером… — Он покосился на дверь своего кабинета и буркнул: — Понимаешь, Серый, не мог я ей отказать. Никак не мог!
— Это еще почему?
— Почему, почему… Принцессам не отказывают!
Я был заинтригован. Не представляю человека, которому Бянус при желании не смог бы отказать или послать куда подальше, включая всех его пассий. Тем более, во имя нашей дружбы. Слово-то он мне давал, а не принцессе-аспирантке!
— Насчет принцессы — это все твои оправдания?
— Нет.
— Что еще? Он жалобно скривился, ткнул пальцем в мой живот, а потом себе в грудь, иод галстук.
— Мы одной крови, ты и я, как сказал клоп Говорун…Это являлось намеком на нерушимую нашу дружбу, на счастливое детство, безмятежную юность и на плюхи, которые он схлопотал от меня, а я — от него. Прием не совсем корректный, но действующий безотказно.
Я, однако, молчал, наслаждаясь, как он мучается совестью, как винит себя в халатности и разгильдяйстве, как точит слезы раскаяния, как клянет свою слабость к принцессам и аспиранткам. Все эти упражнения были для Сашки весьма полезными.
Наконец мучительные раздумья достигли апогея, и он пробормотал дрожащими губами:
— Слушай, Серый, а это серьезно? Ну с проклятой покражей… Ну проклятая страна! Ну все крадут, все, даже у нищих доцентов… Прям-таки не люди, а хищные вещи века… И что нам теперь делать?
— Тебе — поститься, каяться и бдеть над узелками, а все остальное я сделаю сам. Собственно, уже сделал. Нашел, приговорил, казнил… Осталось свершить маленькую ампутацию твоему пентюху… совсем крошечную…
Я вытащил из кармана пару отверток, помахал перед сашкиным носом и шагнул к его берлоге. Он ринулся за мной, чувствуя, что настроение мое переменилось, и оживая на ходу; пятна на его щеках исчезли, губы больше не тряслись, и галстук горделиво расправился, как парус влекомой ветром бригантины.
— Слушай, Серый, какую такую ампутацию? Убери эти отвертки… убери инструмент, богом прошу… не будь живодером… что ты меня паришь, как треску на сковородке?… народ надо простить… народ любит, когда прощают… Христос прощал и нам велел…
— Христос прощал, а Аллах никому не простит. Особенно пентюхам.
— Какой Аллах? При чем тут Аллах? Ты ведь по батюшке иудей!
Не только. Я наследственный христианин, иудей и магометанин, и всей моей божественной канцелярии давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе и отдельные доценты, лифтом эксплуатировать не умеют. И потому нужно вывернуть в лифте такую штучку, такой разъемчик, куда подключается модем. Аллах сказал: некуда будет подключиться, не будет и соблазна. Ни для доцентов, ни для принцесс… И Христос с Яхве подтвердили насчет ампутации. Так что, друг мой… Я распахнул дверь, сунулся в комнату, да так и застыл у порога. За бянусовым столом, при убогом его пентюхе, сидела девушка. Не юная субретка, — лет двадцати трех, а может, двадцати пяти. Я бы не смог ее описать; в этот момент я лишь заметил, что кожа ее смугла, а волосы — темны, что брови ее подобны крыльям парящей птицы, губы — немного пухлые и непривычно яркие и что руки ее порхают над клавишами с тем непринужденным изяществом, какое дается с рождения — то есть от бога, от судьбы, не от опыта. Чем-то она походила на маму… быть может, этими легкими, как бы танцующими движениями рук, или тонкой костью, или матовой своей смуглотой, или чуть выступающими скулами… Не знаю! Ничего не знаю! Но я был уверен в одном: мне не встречалась женщина прекрасней. Ни Нэнси, ни Бригитта, ни Татьяна, ни остальные мои девушки на двух атлантических берегах сравниться с нею не могли. Даже длинноногая Инесса, что восседала в особнячке хрумков… Незнакомка повернулась ко мне, и я заглянул в ее глаза.
Колдовские, темные, как арабская ночь, влажные и блестящие… В этот миг я понял, что погиб. Пропал! Совсем пропал! Навеки! Навсегда! Какой взгляд! Какие волосы! Какие губы! Какая красавица, черт побери! Серна! Газель!
Сашка, подлый змей, уже оклемался, дышал мне в затылок и, видя мое остолбенение, ехидно бормотал:
— Есть у Амура стрелы, есть и сети… Такого нет философа на свете, чтоб женский вид сносил спокойно, не окочурившись при том… И если даст Господь вам вдохновенье, надгробной надписью его почтите…
Пусть его, подумал я, не спуская глаз с девушки.
Какая красавица! Мне б такую!
Интермедия 1
ГОРЫ СДВИНУЛИСЬ
Когда звезды облетят, когда горы сдвинутся с мест, когда моря перельются, когда свитки развернутся, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, а рай приближен, тогда узнает душа, что она приуготовила.
Коран, сура 81. Скручивание.
Велик Аллах! И милостью Его, я, Захра, дочь эмира Азиз ад-Дин Хусейна, не страдаю пороком тщеславия. Нет во мне суетных желаний кичиться своим умом, красноречием и красотой, отцовским богатством и древностью рода, и даже тем, что из всех живущих стоим мы ближе к престолу Аллаха и род свой ведем от матери Фатимы и святого Али. Это не наша заслуга, это всего лишь отличие, что выделяет нас изначально как серебряный слиток среди слитков меди. Но кто скажет, к чему приуготовлен тот или другой металл?… Глядишь, медь обернулась чеканным сосудом, полным мудрости и доброты, а серебро — всего лишь монетой, которую тискают алчные руки ростовщика…
И, памятуя об этом, я не считала себя звездой среди глиняных черепков, склоняла слух к речам достойных и не мнила себя ни умницей, ни красавицей. Хотя мужчины, случалось, утверждали иное. Робер с французской галантностью намекал, что я похожа на Артемиду: тонкий стан, длинные ноги, пышные темные волосы и нечто божественное во взгляде. Стан, ноги и волосы таковы, какими их сотворил Аллах, и я ими довольна, а все остальное на совести Робера; он — живописец, личность творческая, импульсивная, а значит, склонная к метафорам и преувеличениям. Но Али ГаФур, ваххабит и мой поклонник из Алого Джихада, говорил, что я напоминаю прянувшую с тетивы стрелу; а между стрелой и богиней охоты можно усмотреть сходство. Абдаллах ас-Сукат, коему я предназначалась в жены, комплиментами меня не баловал, однако смотрел и пускал слюни, будто явилась ему гурия из райских садов, обольстительная и прекрасная, как сон у источника Зем-Зем. Его липкие взгляды были мне ненавистны… Но это было давно, так давно! Целых семь лет назад…
Многое изменилось с той поры. И я изменилась — не знаю, к лучшему или к худшему. Я уже не та Захра, робкая и отчаянно смелая, что вошла в отцовский кабинет в один из дней, назначенных Аллахом. Воистину то был день великих свершений и перемен: вошла я невольницей, а вышла свободной, как ветер над каменистым харратом. Почти свободной; ведь даже ветер не в силах опрокинуть гору. И у меня есть своя гора — мой джабр, мое предназначение.
Отец, призвавши меня, объявил, что Абдаллах жаждет услышать, когда я войду в его дом и проследую к брачной постели. Сказано это было самым суровым тоном, так как речь о моем замужестве заходила не в первый раз, и я поняла, что теперь мне, наверное, не отвертеться. Отец был преисполнен решимости, а матушка, вытирая слезинки пухлыми пальцами, в то же время улыбалась и кивала мне с дивана, словно говоря: вот и пришел, милая, твой час, счастливый миг соединения с достойным юношей, наследником богатств и древней славы. Баба, однако, не говорил ничего и вовсе не улыбался; сидел на суфе с мрачным лицом, уставившись в изразцовый пол. Заметив это, я воспрянула духом. Дед хоть и жил в Джабале, нашем поместье под Кербелой, оставался главой семьи, и руки его были твердыми, разум — ясным, а слово — последним. Если на кого и надеяться, так на него, подумала я, вздохнула и, набравшись храбрости, промолвила: — Абдаллаха не хочу! Хочу учиться. В Европе! Дед хмыкнул, матушка застыла с раскрытым ртом, а отец поперхнулся. Брови на его красивом холеном лице сошлись, глаза округлились, ноздри раздулись — все признаки гнева, знакомые мне, были ясны, как грозовые тучи на хмуром небе. Но он сдержатся; взглянул на деда, будто испрашивая помощи, вскинул руки вверх и начал обличительные речи. Сперва он напомнил про род Абдаллаха, пусть не столь славный, как наш, но все же почтенный и состоятельный; потом заклеймил моих безбожников-учителей и подруг-бесстыдниц, проклял книги и телевизор, что развращают молодежь, а вместе с книгами — бары, кафе и слаксы, голливудские фильмы и мини-юбки, губную помаду и туфли на высоких каблуках, и все обычаи Запада, внушающие непокорность дочерям, чей разум короток, а язык долог. Я слушала его, потупив взор и размышляя о воле Аллаха, создавшего меня женщиной; в ином варианте все эти грехи и грешки не были б для меня такими запретными. Вот, например, отец: хоть он не носит юбку, но вообще-то юбками не брезгует. Особенно мини… Особенно где-нибудь в Лондоне или в Париже…
Мысль об этих сказочных городах дала мне силы — или чуть заметный дедушкин кивок?… Я выпрямилась и, не глядя на отца, сказала:
— Мне не нужен Абдаллах. Мне не нужны его богатства. Там, в Европе, я не стану бегать по барам и кафе, я буду учиться. У мудрых людей! Разве не сказано Пророком: ищущий знаний — благословен? Или это относится только к мужчинам? К тем, чей разум болтается меж ног, а с языка текут не речи мудрости, а слюни?
Матушка в ужасе всплеснула руками, дед хихикнул, а отец побагровел. Кажется, я перегнула палку — насчет слюней и всего остального. Благовоспитанной дочери эмира не полагается знать о таких вещах, но я не испытывала смущения. Я уверилась, что не лягу в постель Абдаллаха, а если меня уложат силой, случится нечто страшное. Очень страшное! Я даже собиралась укоротить его дни — или по крайней мере то, что болталось у Абдаллаха между ногами.
— Дерзишь! — Кулак отца взметнулся над моей головой. — Дерзишь, негодная! Да проклянет тебя Аллах! Забыла свое место? Ну так я…
Кулак начал опускаться, матушка побледнела и испуганно пискнула, но тут раздался голос деда:
— Не трогай ее, Хусейн. Белую верблюдицу не хлещут плетью. Ее берегут, помня о том, что в этой стране уже была война и будет, видимо, другая. Пусть едет подальше от опасностей!
Отец окаменел с поднятой рукой, а баба, резво вскочив на ноги, подошел ко мне и коснулся щеки сухими тонкими пальцами.
— Пусть едет, — повторил он. — Я даю ей свое благословение и защиту. И содержание — сорок тысяч английских фунтов в год.
Чуть наклонив голову, я поцеловала его пальцы. Он был щедр, и он избавил меня от Абдаллаха, но это ли стоило благодарности?… Главное, он меня любил. Тогда я еще не понимала всей силы и смысла его любви; ведь для него я была не только Захрой, любимой внучкой, его продолжением и кровью, но чем-то неизмеримо большим — сосудом Аллаха, лоном, в котором зародится аль гаиб. Ибо такова моя судьба, мой джабр — зачать, выносить и родить мессию. Аль имам аль гаиб, Скрытый имам будет моим сыном… Так сказал дед, и так подтвердили видения.
Мои видения… малыш со светлым личиком… крошечный синеглазый мальчик, что тянет ко мне руки… Мое дитя?… Возможно… Но не от Абдаллаха!
На отцовском лице румянец гнева сменился обычной смуглотой.
— Ты говоришь, пусть едет? Едет? Одна? Девчонка-недоумок? И ты готов ее благословить? Не говоря уж о деньгах? Прости, но если это шутка, то…
Пальцы, гладившие мою щеку, напряглись: баба не терпел, когда ему прекословили.
— Твоя мудрость, сынок, бежит впереди моей глупости. Сказано, что я отпускаю ее, но не сказано, что отпускаю одну. Ахмед Салех поедет с ней. Ахмет, и сорок тысяч фунтов… и что-нибудь еще… так, на всякий случай… Этого хватит, чтоб оградить ее от зла. Она будет как гранатовое зернышко — из тех, что лежат в середине, спрятавшись за другими зернами и кожурой. Ахмет — это очень твердая кожура.
— Пусть едет с мужем, с Абдаллахом, — внезапно вмешалась матушка. — Ахмет — чужой человек и может задумать дурное, когда в руках его будут деньги и невинная девушка.
— Чужо-ой? — протянул дед, не поворачивая головы. — Для тебя, женщина аль Самир, не подарившая мне внука, Ахмет — чужой? Запомни, что Салехи служат нам с тех времен, когда про род Самиров не слышали ни в Багдаде, ни в Аравии, ни в Мисре! И никогда — запомни, никогда! — мы, эмиры Азиз ад-Дин, и предки наши, начиная с Хасана ибн Низари, не выказывали неудовольствия их службой. Тебе ли, женщина, судить о них, о верных воинах и стражах? Твоим ли родичам-купцам, которым нефть дороже крови? — Дед прищурился, кивнул отцу и приказал, чуть повысив голос: — Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Моей внучке не мил Абдаллах ас-Сукат, ибо он — потомок вонючего ифрита и ослицы! Значит, другой мужчина будет ее супругом, и пусть она ищет и выбирает сама, без принуждения и страха, ибо никто не уйдет от своей судьбы. Готовьте ее к отъезду! Даю вам десять дней на сборы, и этот срок она проведет в Джабале. Со мной и с Ахметом.
Вот так все и свершилось, будто в историях Шахразады: халиф приказал и удалился, а слуги забегали, чтобы исполнить его повеления. Я не видела их суеты, ни матушкиных слез и причитаний, ни сборов, ни сундуков с добром (их я бросила во Франции), ни вытянутой физиономии Абдаллаха, с которым, надо думать, поговорил отец. Я в это время была в Джабале, под дедушкиным крылышком, в оазисе видений и персиковых садов, что цвели в тот год с небывалой щедростью. Но это уже другая песня и другая сказка.
Потом я уехала в Париж, в Сорбонну. Учиться и искать себе мужа, как приказал баба.
Чарующий город Париж! Не красота его пленяет, не роскошь, не память о прошлом, не старые камни, не соблазнительные фантомы витрин, а некая легкость и жизнерадостность, словно мелодия, звенящая в воздухе, то, что создает атмосферу вечного праздника, круговорота событий, движения мысли, трепета чувств. Конечно, теперь я понимаю всю иллюзорность прежних своих ощущений: я видела не реальный город, а мой Париж, явившийся Новым Светом для девочки с месопотамских равнин, древнее и скучнее которых нет места в подлунном мире. Я понимаю это, и все же чувство праздника и новизны не покидает меня, когда я думаю о Париже. Пусть настоящий Париж не таков, каким я видела, каким придумала его, пусть!.. Что это, в сущности, меняет? Ровным счетом ничего.
Я расцвела в этом городе. В нем девочка Захра стала Азиз ад-Дин Захрой, арабской принцессой, чуть загадочной, в меру богатой, независимой и элегантной. Нельзя жить в Париже и не стать элегантной женщиной, а у женщины, привлекательной для мужчин, всегда есть какая-то тайна. И у меня она была — мой джабр, мои поиски, мои видения. Я не могла забыть о них, даже если б пожелала — Ахмет, мой молчаливый страж, своим присутствием напоминал об истинной цели моей поездки.
Мы жили с ним мирно; он был ко мне добр и почтителен, и я не сомневалась, что могу положиться на него. На его силу и преданность, спокойствие и разум, на умение отсечь лишнее и посоветовать нужное… Правильно сказал баба: с Ахме-том я была словно гранатовое зернышко, защищенное твердой кожурой, и мне это нравилось. Он не мешал и не слишком стеснял мою свободу; он охранял и берег, ибо в том заключался его собственный джабр. Так текли мои дни и превращались в месяцы, а из них складывались лето, осень, зима и весна, и все это вместе отлетало назад, в прошлое, сезон за сезоном, год за годом. На родине отбушевала война, предсказанная дедом, случились другие события, но все они пролетели мимо, как цвет, облетающий с персиковых деревьев. Я училась; сначала — общей истории, потом — античной, потом писала работу по доисламским культурам Аравии, Сабе и Химйару, у Рене Дюпона, пожилого профессора-ориенталиста. Потом стажировалась в Берлине у доктора Маннерхайма, в Лондоне, Филадельфии и Каире; Каир, знойная и яркая аль-Кахира, понравился мне больше других городов — не потому ли, что был основан моими родичами?…
Храни меня Аллах от греха гордыни… Так ли, иначе, я повидала мир, и всюду Ахмет Салех был рядом. Возможно, не только он, но видела я одного Ахмета. Всегда почтительный и серьезный, он следовал за мною словно тень — грозная тень со стальными мускулами и непроницаемым лицом. Он охранял меня и занимался моими финансами; подыскивал кухарок и служанок, снимал квартиру или номер в отеле, водил автомобиль — если мне не хотелось самой посидеть за рулем — и выполнял сотню других обязанностей, временами загадочных и сокрытых от моих глаз, как лицо уродливой старухи под темной густой паранджой. Я знала, что он каким-то образом наводит справки о всех моих знакомых; во всяком случае, по прошествии нескольких дней мне сообщалась, кто чем дышит, чем занимается, беден или богат, насколько порядочен, имеет ли тайные пороки, к чему стремится и не испытывает ли слабость к состоятельным наследницам. Мсье Дюпон, мой престарелый профессор, был аттестован наилучшим образом и одобрен — как и Фатима, дочь шейха из Объединенных Эмиратов. Она изучала юриспруденцию, но страстно любила искусство во всех его проявлениях — наряды, картины и юных художников. Ей я обязана знакомством с Робером.
А вот Али Гафура Ахмет не одобрил, хотя Али был правоверным мусульманином, творил салят пятижды в день, а в промежутках верно служил Аллаху — разумеется, теми способами, какие его соратники из Алого Джихада считали единственно достойными. Пока Али шептал мне любовные касиды и похвалялся своими подвигами в Палестине, Ахмет терпел, хоть шрам на его щеке временами дергался, а в глазах мерцали опасные огоньки. Но как-то Али Гафур, набравшись смелости, возжаждал большего — коснуться моих губ, а может, и груди. Мы были наедине, гуляли по набережным Сены; я отпрянула, он рассыпался в извинениях и стал превозносить мою непорочность и красоту. Потом он исчез. Совсем исчез! Клянусь, он был мне безразличен, но каждой девушке приятно, когда вокруг толпятся поклонники — да еще такие романтические, как Али Гафур. Я спросила о нем Ахмета, и тот, скривившись, пробормотал: жил, как пес, умер, как собака! На этом с Али было покончено, а вскоре появился Робер.
В то время наша с Ахметом жизнь текла размеренно и спокойно, как Диджла в пору летнего зноя. Мир древних был чарующ и загадочен, и я познавала его с усердием и страстью. Пласты обыденной реальности раздвигались передо мной, обнажая корни традиций, истоки легенд, причины и следствия событий, движения народов и племен, и это было так волнующе, так интересно и так прекрасно! Прекрасно, как прогулки по каналам Венеции, отдых на Лазурном Берегу и созерцание сокровищ Лувра и Прадо. Я наслаждалась свободой, я предавалась своим ученым занятиям, и Ахмет мне в том не мешал. Мы научились жить друг с другом. Он заботился о моих удобствах и безопасности, а я делала вид, что не имею представления о его интрижках с кухарками и служанками; я трудилась под мудрым руководством мсье Дюпона и встречалась с Робером, а мой ангел-хранитель будто ослеп на оба глаза. Мне было уже двадцать три, и Ахмет, вероятно, считал, что молодой женщине нужен мужчина — тем более, такой приятный и предупредительный, как Робер. С его точки зрения Робер являлся наименьшим злом, ибо не посягал на мою руку, мое наследство и честь стать отцом аль гаиба. И в результате, сделав меня женщиной, Робер остался жив.
Через год, когда мне исполнилось двадцать четыре, мы перебрались в Москву, а спустя десять месяцев — в Петербург. Эта поездка и исследование, которое проводилось мной, были связаны с просьбами баба: он интересовался историей одной из ветвей карматов, обосновавшихся в России. На мой взгляд, карматы были людьми очень несимпатичными: полусумасшедшие фанатики, однажды укравшие священную Каабу и возвратившие камень на место лишь за выкуп, уплаченный моим предком, правителем аль-Кахиры. Словом, они мне не нравились — ни по существу, ни как предмет исследования; но к этому времени мы с Робером уже расстались, и ничто не мешало мне выполнить дедушкину просьбу.
Возможно, его интерес к карматам определялся их верностью роду Али — во всяком случае, в ранний период движения, когда карматы поддерживали исмаилитов. Еще в 1097 году их совет старейшин послал лучших воинов оберегать потомков Пророка — тех, что были моими родичами, гонимыми врагом. Их следы находили в Балхе и Исфахане, во Франции и Германии; и наконец, в записках одного наполеоновского генерала я обнаружила упоминание о русском офицере, чья мать была аваркой, и род ее назывался «карматы». Не знаю, какими тропами столетий прошли они, эти странники, сыновья аравийских пустынь, чтобы найти себе новую родину… Возможно, они были рабами крестоносцев, сбежавшими из невольничьего каравана, или купцами, что двигались вслед за монгольским воинством… Но так ли, иначе, волей Всевышнего их занесло на Кавказ, а оттуда в Россию. В Петербург, а может, и в другие районы, в Крым и Поволжье, в татарские вотчины… Россия так велика! И русские с такой непостижимой легкостью мешают кровь с любым народом!
В Москве я учила их язык, копалась в архивах и мерзла в большой холодной квартире, которую снял Ахмет. Сам он заговорил по-русски едва ли не раньше меня — у него появились приятели, аварцы, чеченцы, лезгины, относившиеся к нему с подчеркнутым уважением; все — оборотистые, торговые и не из бедных людей. Мне они не докучали и даже, как оказалось, направили мой поиск на верный след. Кто-то из них имел племянника, женатого на девушке из рода карматы; они считались благородным семейством в Дагестане, и их фамилия звучала как «Сурабовы». При всем моем скудном знании русского я поняла, что слышу искаженное «Сухраб», «рубин» на пехлеви, почтенное древнее имя — правда, скорее персидское, чем арабское. Но вопросы этимологии в тот момент меня не занимали. Важней было другое: один из Сурабовых, Муса, преподавал в Петербургском университете, был ученым-арабистом и занимался сектами «крайних» — гулат, карматов и исмаилитов. Мне стало ясно, что судьба призывает меня в Петербург.
Там я вскоре и оказалась, без сожалений покинув шумную Москву. Ахмет подыскал нам жилье и привел русоволосую красавицу служанку, по-русски — домработницу. Звали ее Валюшей, но я ее переименована в Валию. Она действительно стала мне советчицей и другом, а еще — камеристкой, горничной и поверенной девичьих тайн. Где отыскал ее Ахмет? Не знаю… Но он всегда был падок на таких женщин — крупных, статных, светловолосых, с синими глазами. Кажется, Валии он тоже нравился, к обоюдной пользе для них обоих: вскоре Ахмет стал говорить на русском лучше меня, а в речах Валии то и дело проскальзывали ласковые арабские словечки.
Что касается нашей квартиры, то была она в Графском переулке, у самой речной набережной; речка отчего-то называлась Фонтанкой и в пяти минутах ходьбы от нашего дома пересекала Невский — и там был мост. Великолепный мост, достойный, чтоб его поместили в садах Аллаха! Был он украшен четырьмя статуями — обнаженный юноша сражался с жеребцом и усмирял его, и оба они, человек и конь, были прекрасны той грозной красотой, какую бог дарует воинам. Я не могла наглядеться на них, но Ахмет, как истинный мумий, опускал глаза, плевался и шептал молитву. Нет, все-таки этим коням не было места в джанна… А жаль!
Вскоре я приступила к занятиям, и мир мой словно распался на четыре части. Одна была суровой и мрачной — история карматов, их талим и их пропахшие кровью дороги: другая — уютной и теплой: наш дом в Графском, походы с Валией по магазинам, вечерние трапезы за круглым дубовым столом под бронзовой люстрой с двенадцатью свечами. Третью часть я бы назвала дипломатической — потому что касалась она моих русских коллег по faculte histoire. Мы были еще недостаточно знакомы для искренней приязни, но все-таки не являлись чужими людьми, а в такой период холодная вежливость и дипломатический официоз спасают ситуацию. За одним-единственным исключением: я делила кабинет с молодым самоуверенным хакимом, который тут же начал искушать и соблазнять меня. Возможно, я поддалась бы соблазну и съела с хакимом Сашей «сардельку дружбы» в факультетском буфете, но Ахмет его решительно забраковал. И я согласилась; не тот был случай, чтоб ссориться с Ахметом.
Четвертое и последнее было связано с Мусой Сурабовым. Мой новый муршид обладал блестящим умом, был эрудирован и неизменно добр, как и другие мои наставники, и я не сразу догадалась, что Муса — совсем иной человек, нежели мсье Дюпон и герр Маннерхайм. Те изучали Арабский Восток, Сурабов жил им; они, европейцы, были по отношению к нам, арабам, факторами внешними и переменчивыми: с равным успехом они занимались бы историей готов, китайцев или финикиян Сурабов же был своим — не только потому что корни его рода тянулись на Восток, но и по многим иным причинам. Проявлялось это во множестве мелочей: в том, что он не пил вина, не ел свинины, и в том, что он мыл руки в час намаза, хоть и не творил молитв, и в том, что Коран, хранившийся в его столе, был обернут шелковой тканью, и в том, что наши беседы велись на арабском — с самого первого мгновения, как он увидел меня. Случалось, что мсье Дюпон тоже переходил на мой родной язык — из вежливости или ради практики, но для муршида Мусы говорить на арабском было столь же естественным и привычным, как дышать. И знал он его гораздо лучше, чем мой учитель из Сорбонны.
Словом, я была счастлива, кружась меж четырех сторон своего петербургского мироздания. Я размышляла о том, как украшу свое жилище завесами и коврами, как реставрирую древний камин и мраморную ванну; как, закончив с карматской темой, примусь изучать свой любимый Химиар (конечно, под руководством муршида Мусы!); и как, с соизволения Аллаха, выдам за Ахмата Валию. Думала я и о сотне других вещей, о туфлях и новой шубке, о петербургском балете, о бронзовом юноше на мосту, напоминавшем мне Робера, о зимних холодах, которые скоро кончатся, и даже о том, чтоб съесть с хакимом Сашей его «сардельку дружбы» (если только будет она не свиной). Но все эти мысли и раздумья вращались по-прежнему в четырех стихиях — мой дом, моя работа, мои коллеги и Сурабов, мой муршид. Четыре — число, угодное Аллаху; ведь даже мир он сотворил из четырех частей, и к ним не добавишь пятую.
К миру — пожалуй, но судьба Азиз ад-Дин Захры все же отлична от судеб мира и допускает прибавление. А раз допускает, то и будет прибавлено, хочу я того или нет. В том — джабр! Мой дар, мое предназначение! Уйти от него нельзя.
И в некий день, когда я сидела в нашем маленьком кабинетике, открылись двери, и Он вошел. Вернее, задержался на пороге, глядя на меня так, словно я была гератской розой, а Он — влюбленным соловьем.
Как Он смотрел! С какой тоской и жадностью! Лицо его окаменело, но говорили глаза, и речь их была понятной.
Он смотрел…
Я, не будучи тщеславной, понимала, что в ту минуту мой вид доставил бы мужчине удовольствие: юбка на мне была серой и облегающей, чуть выше колена; блузка — полупрозрачной, словно кашмирская шаль; щеки — румяными с мороза, губы — слегка подкрашенными, а ресницы…
Но хватит обо мне; я знала, что смотреть на меня приятно, и Он смотрел.
А я — на него.
Довольно высокий, худощавый, темноволосый… Лицо — бледное, с чуть выступающими скулами и высоким лбом, брови над синими глазами густые и ровные… Странное сочетание! И странные черты, будто европейские на первый взгляд, но за ними, словно под маской, просвечивает нечто другое, более древнее, отдающее Востоком — то ли полынной степью, то ли пространствами знойных пустынь, то ли соленым морским ароматом. Грек? Иудей? Пожалуй, нет; я не встречала таких глаз ни у греков, ни у евреев.
Колдовские глаза! Синие, как море на закате! Такие же, как…
Я вздрогнула. У мальчика из моего видения тоже были синие глаза. Его глаза, не мои! Являлось ли это подсказкой? Той тенью, что будущее бросает перед собой? Смутным отблеском еще не наступивших дней, велением джабра?
На миг чувства мои пришли в смятение.
Впрочем, я заметила, что Он не был красавцем и в общем-то не относился к тому типу мужчин, которые нравятся мне. Не Аполлон и даже не Робер! Добрый, милый, взбалмошный Робер, жертва моей рассудительной натуры… Он любил меня так, как может любить лишь художник, мечтающий о Галатее, и не его вина, что я оказалась неподходящей моделью. Что поделаешь! Джабр! Предназначение правит людьми, сводит и разводит их, соединяет и разъединяет, и в том видна рука Всевышнего. Я, исполнив Его волю, подарила Роберу все, что могла… И довольно о нем!
Этот Синеглазый не походил на Робера. Не взбалмошный, не милый и, может быть, даже не добрый… Но сильный! Казалось, он даже не сознает горящего в нем огня, сокрытой силы; он был похож на джинна, что заключен в магический сосуд и дремлет в нем, пока не будут сорваны печати. Но я ощущала его мощь и чувствовала, что она — иная, чем сила, которой одарен Ахмет. Этот был не воином, но бойцом — упорным, яростным и в то же время рассудительным и умным. Стратег и полководец, не солдат! Из тех, что меняют судьбы людские и двигают горы!
Не думаю, что мне бы понравился такой человек. Скорее он бы меня устрашил; ведь я — не глупая бабочка, чтобы лететь в огонь, сжигая крылья. Но разве что-то от меня зависело? Этим вопросом не приходилось задаваться, ибо очевидное не нуждается ни в толкованиях, ни в пояснениях.
Явное и скрытое… ясное и занесенное в еще не развернувшийся свиток, где есть ответы на все вопросы… Подумав о них, об этих тайнах судьбы, я вспомнила, как в детстве терзала деда, расспрашивая о множестве вещей, и на одни вопросы он отвечал, а на другие — нет, преподнося мне извечную истину взрослых: когда-нибудь узнаешь. Когда? — спрашивала я. И он, посмеиваясь, произносил нараспев слова из суры «Скручивание»: когда звезды облетят, когда горы сдвинутся с мест, когда моря перельются, когда свитки развернутся, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, а рай приближен, тогда узнает душа, что она приуготовила.
Может быть, это время настало? Синеглазый перешагнул порог, горы сдвинулись, и свитки развернулись…
Глава 6
НИЗКАЯ ШУТКА
«Все это — низкая шутка, сыгранная с нашей благородной доверчивостью, — сказал Сэм».
Норман Линдсей. Волшебный пудинг.
Не помню, что я делал в тот день, с кем встречался, кому звонил. Все колебалось и плыло словно в тумане; вроде бы шел я на работу со Светланой Георгиевной, главной нашей институтской сплетницей, и она мне с жаром о чем-то толковала; вроде столкнулись мы у дверей с Лажевичем и сухо раскланялись с ним; вроде на лестнице курил Басалаев, а при нем — Шура Никитин и Танечка, и все трое сделали мне ручкой; вроде заглядывал я к Вил Абрамычу, а у него сидел Оболенский, и вроде сказали они хором, что надо мне лекции почитать — к примеру, на первом курсе, для накопления стажа и опыта. Притом Вил Абрамыч взирал на меня ободряюще, а Феликс Львович улыбался, но улыбка получалась у него неискренней — вроде бы неискренней и словно бы приклеенной к его гладкой холеной физиономии. Были еще какие-то бары-растабары — с геологами, желавшими познакомиться с моей классификацией минералов, и с Пашей Рудневым насчет его научных дел. Вроде были, а в точности не упомню… Вот с Ником и Диком, кибернетическими близнецами, я определенно не беседовал. Они ребята особые, из одной яйцеклетки, в сущности — клон, и от того, я полагаю, одарены чувствительностью за двоих. Они-то сразу разобрались, что шеф маленько не в себе — а раз не в себе, то и приставать не стоит.
Но все остальные-прочие меня активно домогались, по каковой причине я из института удрал, успев лишь отобедать в нашей столовой.
Что ел и пил, опять-таки не помню; о чем размышлял по дороге домой, выпало из сознания. Напрочь! Но были раздумья мои не о научных проблемах, не о тайнах мироздания и Федеральной резервной системы, не о загадках долларов и минералов и даже не о вчерашнем похищении. Я грезил наяву, я мечтал, рисуя какие-то фантастические картины, но каждую из них, будто подпись мастера, украшало одно и то же: пара темных очей и брови, как взмах крыла летящей птицы. Эти глаза сияли всюду — влажные, загадочные, колдовские… Я видел только их — и, возвратившись домой, взбираясь по лестнице, вдруг осознал, что не помню номера своей квартиры, своего адреса в Сети и настоящего имени Бянуса. Впрочем, ситуация была еще печальней — я даже не разглядел, цела ли сегодня филенка. Но как звали ту девушку, принцессу-аспирантку моих грез, я, разумеется, не забыл. Захра… Захра-дин-дин чего-то там… не важно… Захра и звон колоколов… перезвон бубенчиков верблюжьей сбруи… пение браслетов танцовщицы… плеск фонтанных струй… зов ветра в палящих песках… сказка арабских ночей… Захра! Утром Бянус представил нас друг другу, и тем дело кончилось; она кивнула, а я пробормотал — отчего-то на французском, — что рад приятному знакомству. И тут же вылетел за дверь, в полном ошеломлении, забыв про свои отвертки и ампутацию модемного порта. Повезло Сашке! Вспомнив, как зовут Бянуса, я, не раздеваясь, тут же позвонил ему и намекнул, что стоило бы заглянуть ко мне на посиделки. Это с какой же целью? — ехидно поинтересовался мой друг. С целью принести извинения, выдавил я. Принесу, пообещал Бянус, в стеклянной таре и в двух экземплярах. А можно Верочку привести? Тут одному доценту, видишь ли, помощь психолога нужна… Срочно! Я ответил, что он путает психолога с венерологом, и повесил трубку. Через десять минут мы с Белладонной сидели на кухне и пили кофе с молоком: молоко — ей, кофе — мне. Напившись, моя кошка умыла мордочку розовым языком, выгнула спинку и потянулась, задравши хвостик. Затем хвост принял форму вопросительного знака: этакий изящный полуэллипс, переходивший в прямую. Приглашение к беседе, если я что-то понимаю в кошачьих наречиях. О чем же с ней поговорить? Мужчины говорят о женщинах, женщины — о мужчинах, а мужчина с женщиной — о любви. Белладонна, конечно, была женщиной, пусть кошачьего рода-племени и с хвостом, но в любовных делах она разбиралась. И я, вздохнув, начал рассказывать ей о своих девушках — о тех, с кем я встречался, а иногда и ложился в постель.
Про Ольгу, подружку школьных дней, и про другую Ольгу, из медицинского, с которой меня познакомила мама; маме очень хотелось, чтоб мы поженились, но медицинской Ольге я как-то не глянулся. Еще была Нина с матмеха, веселая, светловолосая и круглолицая, но с ней пришлось расстаться на шестом курсе: занят я был по самую маковку, готовил диплом и посещал американский учебный центр, обосновавшийся на Фонтанке, в библиотеке Маяковского. Там пришлось пройти три круга ада: тест по языку, тест на общее развитие и тест по специальности. Когда же я закончил магистратуру, времени хватило лишь на то, чтобы собрать чемодан и укатить — в Саламанке меня уже ждали, и место мне было приготовлено, и стипендия, и комната, и даже шеф, Дэвид Драболд, из молодых профессоров, зато энергичный и симпатичный. Но с ним мы занимались исключительно науками, а во всем остальном я томился и страдал, оторванный от родных палестин и привычного житья-бытья. Тут меня Нэнси и пригрела. Она трудилась на отделении социологии, и тема у нее была такой — пригревать молодых иностранцев из слаборазвитых держав. Я был у нее не первым и не последним, но никаких обид не чувствую, а лишь одну горячую благодарность. Она помогла мне адаптироваться и научила жить в Америке; и оказалось, что жизнь эта очень приятна и спокойна, если не совать носа в Нью-Йорк или Чикаго, а обретаться в тихих университетских городках вроде нашей Саламанки. Помимо прочих удовольствий, с ней я освоил афроамериканский сленг — Нэнси была мулаткой-шоколадкой и говорила на двух языках, собственно на английском и на его чернокожей версии.
Расстались мы легко и просто — моя мулаточка подцепила чеха, а я повстречался с Бригиттой. С ней мы прожили пару лет, даже квартиру вместе снимали, а в Штатах это, надо сказать, непременная стадия перед супружеством. Что бы и случилось, если б моя герл-френд не упорхнула в Марбург. Ей так хотелось увезти меня к сосискам, пиву и сытому житью-бытью! Но я понимал, что Германия — это не Штаты. Здесь мы стали бы заурядной супружеской парой, белыми американцами при дипломах и собственном домике, и эти дипломы, а также цвет кожи и приличный английский, определяли наш статус. Но в Германии я был бы «русским евреем», а Гита — женой еврея, и вместе с ней мы бы читали на стенах, что еврею лучше убраться в Хайфу, чем быть повешенным в Марбурге. Так что в Марбург меня не тянуло, да и в Хайфу тоже, а Гита не собиралась ехать в Петербург. И мы с ней, увы, распрощались… Не так легко, как с шоколадкой Нэнси, а проливая горькие слезы и кляня судьбу.
Потом я отправился в Кембридж, где не успел никого завести, если не вспоминать об одной красотке, снимавшей сексуальную озабоченность у мужчин. Она занималась этим совершенно бесплатно, из любви к искусству, и я не считаю ее профессионалкой. Специалистом — да, крупным специалистом, но никак не путаной, не гейшей, не куртизанкой. Кстати, у нее была степень по структуральной лингвистике, и всех своих кавалеров она наделяла забавными кличками. Я числился под кодом «морячок» — наверное, потому, что не раз пропутешествовал над Атлантикой.
По возвращении домой я прочно сел на мель. И Танечка, и Катерина, и другие девушки, с которыми я встречался, были этой мелью; жизнь с ними не сулила сказки и романа, а в лучшем случае повесть или даже очерк. Или краткую эпитафию на могильном камне: жил-служил, ел-пил, детей породил и упокоился во благовремение. Убожество…
Низкая шутка, которую жизнь играет с нашей благородной доверчивостью… Ибо вступаем мы в нее полные энтузиазма и надежд, а кончаем в болестях и разочаровании.
Не слишком ли рано я начал задумываться о таких предметах?…
Но одиночество располагает к грусти, а я, вернувшись, вкусил и то и другое полной мерой. Не везло мне с женщинами! И не было рядом мамы, чтоб выписать мне смуглянку-невесту из экзотических краев, из Бухары или Бахчисарая, и не было отца, чтобы наставить на путь истинный и объяснить, где мужчины ищут себе подруг, с которыми можно пуститься в долгое плавание… Не в институте же кибернетики! А также не в Марбургах и не в Саламанках.
Все это я рассказал Белладонне, под ее сочувственное мурлыканье, а потом поведал ей, что Аллах, видать, хранил меня от долгосрочных обязательств. Чтоб я, неблагодарный нытик, дожил до этих дней в своем исходном состоянии, без деток и супруги и почти что невинным, как монах из ордена святого Франциска. Тут Белладонна с сомнением фыркнула, и к нам позвонили.
— Кто там?
За дверью кто-то завозился, потом провыл:
— Сне-ежный человек Федя-аа… На четырех лапах, зато с извинениями.
Я отщелкнул замок. Бянус и вправду был под хмельком, но на ногах держался твердо, пока не ввалился в квартиру. Тут он рухнул на колени, вытащил из объемистых карманов два пузыря, протянул их мне и начал извиняться. Но говорил он исключительно на языке атцеков, а может, инков, на каком-то индейском наречии, прищелкивая, чмокая и вереща, будто белый какаду. Белладонна зашипела, дернула хвостом и убралась на диван в гостиную. Я послушал-послушал, затем поднял Сашку, и мы расцеловались, как подобает друзьям и русским людям.
Явившись в кухню, Сашка первым делом врубил повсюду свет, в люстре, в бра и даже у плиты, и стал рассматривать меня с преувеличенным вниманием, поглаживая свой роскошный галстук. На столе меж тем возникли баночка сардин, полукопченая колбаска, сыр сулгуни, хлеб, тарелки, вилки, стопки, а он все глядел, игрался со своим галстуком и почесывал темя. Наконец изрек:
— Клиент скорее жив, чем мертв. Странно! Меня сразили наповал первым же залпом. Да и по тебе, считай, не промахнулись.
— И кто тебя сразил? — Искоса поглядев на него, я принялся нарезать булку.
Бянус полез в шкафчик, вытащил пару стаканов и заменил ими стопки. Потом снова воззрился на меня.
— Ваньку валять будем или как?
Я молчал, откручивая колпачок с «Политехнической» и размышляя о смысле этой реплики. Относилась ли она ко мне или же к стопкам? Или к тому и другому?
Сашка, выждав какое-то время, разразился речью:
— Ты, Серый, не майся зря, а то сгоришь в горниле страсти, как юный Вертер. И кто мне, спрашивается, будет пентюхчинить да программы писать? Не Аллигатор же, хряк налоговый!.. Ты, Серый, с меня бери пример. Меня вот тоже наповал сразили, а я отмерил двести грамм, историей КПСС занюхал и оклемался. А почему? Все потому, что я человек трезвомыслящий, с богатым, значит, опытом, и опыт мне подсказывает, что нездоровые сенсации народу не нужны. Народу нужны здоровые сенсации! Вроде моей Верочки. Такие, которым можно юбку расстегнуть и даже под ней пошарить…или там рекламку глянуть об изделиях «Дюрекс», с полной надеждой, что намек оценят и поймут… Вот что я называю здоровой сенсацией! Нашей, отечественной! А эта Захра из багдадских краев… Плюнь и брось! С ней не съешь сардельку дружбы и не запьешь пивком… Уж очень они го-ордые!
Он скорчил презрительную мину, но тут же оживился, глядя, как я разливаю по стаканам. Себе я налил на палец, ему — на два. По-прежнему не говоря ни слова.
Сашка покрутил головой и вздохнул.
— Молчишь? Не желаешь другу душу изливать? — Он сделал паузу, потом снова вздохнул и молвил: — Ну не хочешь, не надо. Я и так чувствую, интуицией и нутром. Крепко же тебя зацепило, Серый!
— Это кто тебе сказал? Он желчно усмехнулся.
— Бабушка по имени Ванга шепнула… Да ты в зеркало глянь, кретин! У тебя все на роже написано!
— Моя рожа, что хочу, то и пишу, — буркнул я, и мы чокнулись. Бянус закусил сардинкой, пожевал колбаски и с горечью произнес:
— Тяжело тебе жить на свете, Серега… А почему? Все потому, что сущность твоя противоречит нашей реальности. Реальность-то препоганая, скверная, не мир, а второе нашествие марсиан, вот твоя сущность и бунтует, делает попытку к бегству… за океан, в Саламанку, или там к женщине… Только ведь женщина и Саламанка — часть нашей реальности, понимаешь? А реальность как была препоганой, так ею и осталась.
— И что же — никаких перспектив? — спросил я, чувствуя, как холодеет под ложечкой.
— Если серьезно, то никаких. Она, видишь ли, из рода Азиз ад-Динов, наследница их, а это очень религиозная семейка… и знатная — такая знатная, что сам Саддам Хусейн, пока был жив, коврик перед ними расстилал. Эмиры они или шейхи в своем Ираке, к тому ж богатые, как три «Газпрома» в день получки… Кто мы для них, Серый? Так, кафиры, голь перекатная, нищета… Ни верблюдей у нас, ни поместьев, ни палат белокаменных, ни скважин нефтяных… У тебя вот компьютер и кошка есть, но думаю, этого мало. Опять же не мусульманин ты…
— Крещусь! — воскликнул я. — То есть обрежусь! Сашка пристально поглядел на бутылку, потом — на свой пустой стакан, вздохнул и налил. Мне — на два пальца, себе — на четыре.
— Тебя обрежут, парень… так обрежут, что мочиться будет нечем. При ней, видишь ли, Ахметка-телохранитель состоит, сурьезный тип во-от с таким ножиком! — Бянус отмерил на крышке стола сантиметров сорок. — А если надо, они таких Ахметок навербуют легион — из чеченов или там афганов… и с ножиками, и с пушками…
— Погоди ты чушь молоть, — прервал я его, понимая, что все эти байки о ножиках и верблюдах, об эмирах, поместьях и Ахметке-телохранителе Бянус выкладывает для моего же блага. — Можешь толком сказать: откуда она, чем занимается, как к нам попала и что ей здесь нужно?
Ухватив стакан, Сашка запрокинул голову и выпил. Кадык под галстуком дергался на его тощей шее будто рукоять старинного реостата.
— Отвечаю по пунктам и со всей подробностью, ибо проинструктирован трижды — Сурабчиком, завкафедрой и в деканате. Арабская принцесса они, прозываются Азиз ад-Дин Захрой, возраст — двадцать пять, место рождения — Ирак, семья прописана в Багдаде, дворец — как у Харуна Рашидо-ва. В общем, в твоей квартирке тесновато ей будет… понимаешь, «ролс-ройс» некуда ставить… — Сашка окинул пренебрежительным взглядом кухню. Интересует их восточная древность, домусульманский период, первый-пятый века нашей эры, но в данный момент они занимаются карматами… это такие магометанские гангстеры, вымершие на сей момент… Ну что там у нас еще? Образование они получили в Сорбонне и в тех же краях удостоились магистерской степени. Для глубокого постижения наук перебрались в Москву, выучили русский, провели в столице десять месяцев, разочаровались, плюнули и отправились к нам. За обучение платят ба-альшие валютные бабки. Прикрепили их к Сурабчику по двум причинам: во-первых, Арабский Восток — его епархия, а во-вторых, мужчина он положительный, но дряхлый. Значит, будет принцессу учить, а не покушаться на ее невинность.
— Как некоторые другие, — заметил я, покосившись на его галстук.
— Как некоторые другие, — согласился Сашка. — Впрочем, нам уже дали от ворот поворот, и теперь у нас чисто деловые контакты. Поклоны, реверансы, беседы о науках и искусствах, то да се… ну разные мелкие любезности, имевшие результатом хищение одной программки…
— Кстати, о программе… — Я решил повернуть разговор в другую колею. — Можешь чем-нибудь похвастать? Есть успехи?
Бянус оживился, порозовел и налил по новой.
— Есть! Еще какие! Читать пока что не читаю, но выделил сорок шесть устойчивых групп, от одного до семи знаков в каждой, и среди них есть числительные и названия месяцев. Понимаешь, начинать надо с числительных. Кроме придурков-шумеров, все нормальные люди считают на пальцах, а пальцев-то десять, и потому…
Он пустился в сложные логические рассуждения, не забывая наливать и прихлебывать, и делал это с такой резвостью, что вторую бутылку, еще непочатую, я убрал в шкаф.
Бянус проводил ее тоскующим взором, оборвал свой научный доклад и буркнул:
— Вот, добро пропадает… Надо было Аллигатора позвать…
— Сегодня у нас приватный разговор, — возразил я. — А добро не пропадет. Вы же с Аллигатором и оприходуете.
Спиртное кончилось, и Сашка засобирался домой. В прихожей он ободряюще похлопал меня по спине и напомнил, что народу не нужны нездоровые сенсации из аравийских пустынь. А потому ложись спать, друг дорогой. Кто спит, тот не грешит!
Но я не внял его совету. Время двигалось к полуночи, однако спать мне не хотелось и не хотелось работать и глядеть фульрики. Снедаемый тоской, я отправился в гостиную, улегся на диван рядом с Белладонной и включил телевизор. Чтобы, значит, приобщиться к новостям и подумать под их успокоительную мельтешню.
По девяти программам из шестнадцати передавали клипы и сексуальные шоу с музыкой. Где мулаточки прыгают, где спайс-герлы задами крутят, а где и родные козлики скачут… Один выплясывал в желтых штанах в обтяжку, в салатном балахоне и с короной из фальшивых брильянтов на смоляных кудрях. Поверх короны трепетали желто-зеленые перья, а подвязки под коленками были цвета зари на Соломоновых островах. Пел он, в общем, неплохо, но, поглядев на канареечный его наряд, Белладонна хищно сузила глазки и выпустила коготки.
Я продолжал поиск в эфире. На всех каналах жизнь била ключом: где пели, где танцевали, где убивали, где трахались. В «Царстве страсти» раздевали, но только до трусиков, а самым шустрым и страстным фирма «Боллс» дарила свой ублюдочный компьютер. Я бы ради такого даже подтяжки не отстегнул… Впрочем, это взгляд специалиста, а раздевались явные дилетанты.
Наконец, минуя шум и треск, мы добрались до новостей и узнали о новых инициативах президента, а еще о том, что неонацистская партия «Меч Нибелунгов» получила большинство в Саксонии и Баварии, что в Штатах рассылают почтой уже не белый, а бурый порошок — видимо, с холерным вибрионом, что Таиланд и Вьетнам затеяли маленькую войнушку в джунглях, что дианетики-хаббардисты грабят легковерных под гипнозом, что появился экстрасенс, который лечит шизиков одним нажатием на копчик, и что российское правительство разродилось списком стран-должников.
Само собой, в него попали все бывшие союзные республики, а опричь них — половина глобуса, от Болгарии и Чехии до Кубы, Мадагаскара и Японии. За последней еще со времен проклятого царизма числился должок в десять миллиардов долларов, но отдавать его Япония не собиралась. Как, впрочем, и иные страны, включая Мадагаскар.
Под Хабаровском и в Крыму вроде бы затихло, но в губерниях творился полный беспредел: один губернатор приватизировал мост через Волгу, другой отписал на внуков все местные бани и рынки, а третий вовсе провозгласил себя князем и принялся печатать собственную валюту. Солдаты меж тем дезертировали или стреляли своих в упор, банкиры сражались за никель, нефть и лесные угодья, политики заседали, киллеры палили в журналистов, а министры с журналистами судились, отстаивая свое достоинство и честь, с коими у них была несомненная напряженка. Встречались, однако, факты поинтересней. Я с удивлением убедился, что сообщения про электронный полтергейст и непонятные утечки энергии перебрались из «Amazing News» в обычные новости. На этот раз никто не покушался на Луну и не вращал антенны телескопов, зато накрылся какой-то важный стратегический объект в системе НАТО. Причина состояла в аварии компьютера: то ли он напрочь сгорел, то ли ушел в нирвану, растеряв по дороге свои базы и файлы. Подозревалась диверсия исламских экстремистов или вмешательство потусторонних сил. Последнее — более вероятно; этот компьютерный архистратиг был обнесен колючей проволокой в реальном и виртуальном пространствах и защищен не хуже, чем подвалы Форт Нокса с золотым запасом США. Но, как сказал бы Бянус, проволока — проволокой, а мокрецы гуляют на свободе…
Под занавес пошли вести из нефтяных восточных стран. Главная заключалась в том, что меж Ираном и Ираком объявлено перемирие, но в Багдаде праздновали победу, и в Тегеране, несомненно тоже. Среди древних багдадских мечетей бесновались народные толпы, маршировали шеренги тощих смуглых воинов с автоматами АКМ, дефилировала верблюжья кавалерия с русскими пулеметами в седлах, катились наши родные танки и установки «Град». Видя такой размах российско-иракского сотрудничества, я приободрился. Отчего бы и мне не породниться с эмирами из рода Азиз ад-Дин? Я даже могу мусульманином сделаться, как мои татарские предки… Процедура-то несложная! Три раза признать, что Аллах велик и Мухаммед — его первейший заместитель… Только-то и проблем! Ну еще обрезание и всякие другие мелочи, вроде молитв и священных текстов… А может, над взрослыми неофитами и обрезания не совершают?… Получишь зачет по Корану, и гуляй себе в чалме!
Я встал и направился в родительскую спальню, где хранилась коллекция Коранов. Не знаю, зачем их отец собирал; может, из любви к маме, из уважения к ней, а может, по душевной склонности к загадочному и непостижимому. Мама была совсем не религиозна; свинины, правда, не ела, но от шампанского не отказывалась. Еще отмечала курбан-байрам и пекла неподражаемые беляши…
Вздохнув, я обозрел книги в своем ореховом шкафу. Самой почтенной был старый Коран на арабском, бабушкино наследие, в ветхом коричневом переплете с зелеными узорами. Три новых Корана, на русском, арабском и двуязычный, купил отец. Коран на английском я привез ему в подарок из Штатов лет восемь назад, еще две книги, на французском и немецком, купил в Париже, но передать не успел. Итого получалось семь Коранов, а еще — три издания Библии, Книга Мормона и какой-то священный фолиант на иврите. Все они мирно проживали в одном шкафу, в отличие от приверженцев своих конфессий, деливших бога вдоль и поперек и полагавших, что только в их огрызке истинный свет и божья милость.
Я снова вздохнул и вытащил Коран на английском, увесистый том на шестьсот страниц, с виньетками, заставками и арабесками. Читал я его, читал, да понял мало… Темная книга! Вот, к примеру: «Когда звезды облетят, когда горы сдвинутся с мест, когда моря перельются, когда свитки развернутся, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, а рай приближен, тогда узнает душа, что она приуготовила…»
И как это прикажете понимать? Конец света и Страшный суд? Но почему лишь в это время душа узнает, что ею приуготовлено? Ведь душа умершего давно пребывает в раю среди гурий или в преисподней, а значит, приуготовленное ей в земной жизни уже свершилось — или кара, или награда. Да и ад уже давно разожжен! С адом-то чего тянуть? Зачем ждать, пока сдвинутся горы и развернутся свитки?
Пожалуй, решил я, с текстом такой сложности моему Потрошителю не справиться. Это вам не узелковое письмо, не химия с физикой и не загадки Федеральной резервной системы; это продукт божественного человеческого интеллекта, в коем слились воедино рациональное и мистическое, вера, поэзия и разум. Можно ли их отделить друг от друга, классифицировать на то и это, разобрать по частям? Сомневаюсь… Но если б такое удалось, не осталось бы в результате ни веры, ни поэзии, ни разума. С этой мыслью я и отправился спать.
Прошла неделя, тянувшаяся как семичленный полином, где дни-аргументы множились на коэффициент неуверенности и возводились в степень нетерпения. Нетерпения — потому что я жаждал ее увидеть; неуверенности — потому что я этого боялся. Бянус, разумеется, был прав — шансы мои нулевые, а если высчитывать их точнее, получим отрицательную величину. Я не высчитывал, чтоб не расстраиваться, но мозг мой, привыкший к логическим упражнениям, трудился сам по себе, предлагая четкие, внятные и безнадежные ответы. Итак, что мы имеем на входе? Принцессу, прелестную девушку из состоятельной семьи с дворцами, телохранителями и традициями; традиции, как и семья, не наши. Не демократические, если определяться в сфере социальных понятий. Еще у нас есть герой, не очень юный и небогатый, зато с серьезными намерениями, при кошке, квартире и компьютере. Может ли он покорить красавицу? И чем? Конечно, лишь своим мужским обаянием и харизмой тайны, пленяющей женские сердца… А если нет ни обаяния, ни тайны, ни харизмы, то и надежды тоже нет, как и самого героя. А что же сеть? Что там у нас на выходе? Всего лишь старший научный сотрудник, не принц и не герой. Целует он свою кошку, прощается с компьютером и прыгает вниз со второго этажа…
Диагноз ясный и фатальный, и, не желая убеждаться в очевидном, я избегал не только встреч, но даже мыслей о Захре. Я не звонил Бянусу, не ходил обедать на истфак и добирался в лабораторию другой дорогой, чем всегда. Обычно я хожу от набережной по Менделеевской линии, а у истфака сворачиваю налево, в университетский двор. Теперь этот маршрут исключался — ведь я мог столкнуться с нею у обшарпанных истфаковских колонн! Или на улице, или в дверях, или где-то еще… Словом, ходил я теперь по двору, маскируясь за красными стенами Двенадцати коллегий. Кстати, тут было на что поглядеть и о чем подумать. Если шагаешь к Неве от нашего института, то первым правую руку встретится светло-коричневый корпус НИИ физики, где учился отец; бывший НИИ, так как нынче физики скучают в Петергофе, а на прежних их площадях окопались геологи. За геологической берлогой, опять же справа, торчит черно-красный кирпичный особняк на гранитном основании, очень напоминающий каталажку, — спорткафедра. На стенах — две мраморные доски. Первая извещает, что располагалась тут раньше не тюрьма, а дом для игры в мяч, первое в России крытое спортивное сооружение, возведенное в одна тысяча семьсот девяносто третьем году. На второй доске написано, что здесь 24 марта 1896 года А. С. Поповым на изобретенном им приборе была принята первая радиограмма. С тех пор прошло столетие с хвостиком, но новых мраморных досок не появилось. Временами я думаю, что стоит переселиться сюда вместе с Тришкой, Джеком и Белладонной; и, быть может, на третьей доске напишут, что трудился здесь С. М. Невлюдов, великий классификатор всего сущего. В том числе и собственной души…
Отчего бы и нет? Кому суждено удостоиться славы, тому ее не избежать. Главное — не торопиться. Haste mates waste, — говорят мудрые бритты; где спешка, там убытки.
Я размышляю об этих материях, любуясь на золотой купол Исаакия, что виден на другом берегу Невы. Он словно навис над ректорским флигелем, последним во дворе; этот флигель выходит к набережной, заслоняя зеленое двухэтажное крыло филфака. Две доски, на флигеле и университетском здании, гласят, что в первом родился Александр Блок, а во втором учился В. И. Ульянов-Ленин. Доски повешены напротив друг друга, и, проходя меж ними, я чувствую себя третьим лишним в компании титанов. У них свой спор, свой молчаливый диалог и свои счеты: кто кого перевисит, переживет и сохранится в памяти людской. Лично я ставлю на поэта, а потом вспоминаю, что ректорский флигель нынче занят иностранным студотделом и факультетом ориенталистики. Почему бы Азиз ад-Дин Захре не заглянуть сюда?… И, потрясенный этой мыслью, я замираю на мгновение, а потом мчусь на набережную, к автобусной остановке. Вот здесь-то нам точно не встретиться! Принцессы в автобусах не ездят. Итак, я ее избегал, забыв еще одну мудрую британскую пословицу: absence makes the heart grow fonder[25]. Еще говорят, что любовь должна вести к великим свершениям, ибо, как утверждал Бердяев, человек двупол и потому в борении постигает истину, а вот ангелы бесполы и потому способны лишь служить. Однако философ ошибался. Всю эту неделю я пребывал в борении с самим собой, но никакие истины мне не открылись; подобно ангелу, я лишь служил, а если уж начистоту — отслуживал. Отсиживал, отбрехивался, тянул резину, увиливал, молчал и в полный рост давил сачка, пользуясь своим свободным расписанием. В институте на меня посматривали кто сочувственно (может, болен?), а кто с неодобрением (мол, зазнался!), и даже Басалаев не стрельнул у меня полсотни до получки. Мои акции как преемника Вил Абрамыча падали, и шеф, встречаясь со мной, глядел с молчаливым укором. Я старался не попадаться ему на глаза. В делах с великой заокеанской тайной тоже наступила творческая пауза. Джек упрямо твердил, что швейцарские доллары ничем не хуже американских: картинка — та же, краски — те же, и все различия — к примеру, в плотности бумаги — ложатся в интервал нормального распределения погрешностей. Мне никак не удавалось его переубедить; мне даже начало казаться, не подсунул ли мне Керим под видом фальшивых швейцарских долларов настоящие. Так сказать, с целью проверки моей компетенции…
Но это было пустой идеей — ведь я не нашел никаких секретных знаков на эталонных образцах, ничего, что отличало бы их от швейцарских купюр или, наоборот, являлось бесспорным критерием идентичности. А раз не нашел, то и гадать о керимовых шуточках не стоило. Сам же Керим не забывал меня, регулярно позванивал и снимал допрос: «Масть п'шла, бабай?» — «Пока что нет, шашлык. Не извольте икру метать». — «Ну, трудыс, трудыс…» Однажды позвонил сам Петр Петрович Пыж, господин генеральный директор; говорил ласково, стелил мягко, но чувствовались в его тоне нотки раздражения, будто бродила у него мыслишка срезать мне финансы или вызвать на ковер. Не сразу я сообразил, в чем тут дело, но все же родилась одна правдоподобная гипотеза. Мои хрумки — люди коммерческие, а значит — недоверчивые; откуда им знать, что наемный спец не крутит динаму? Положим, нашел он, чего искал, а теперь время тянет и продолжает поиск в иных направлениях — кому бы сбыть повыгодней заокеанские секреты… Я понимал своих работодателей и не обижался. Понимал и другое: при успешности моих трудов цена им — не тысячи, не сотни тысяч и даже не миллионы. Сколько? Ну караван верблюдов, груженных золотом, плюс удавка на шею или пуля в лоб… в любом порядке… Тайны — опасная материя, так что уж лучше получить немного, да из знакомых рук.
Но работа моя не двигалась, а мысли, как ни пытался я направить их к делам практическим, сворачивали в сторону истфака.
К его колоннаде и стенам, к выщербленным, скованным наледью плитам тротуара, к окнам в хрустальных морозных узорах, к тяжелой дубовой двери, что открывалась с протяжным всхлипом, впуская ее… Ее! Мою Захру!
Наступила пятница, и я не выдержал: явился к истфаку ни свет ни заря, бродил под колоннадой, глядел на орды студентов, штурмующих дверь, прятался за углом от доцента Бранникова — и наконец дождался. Она подъехала в такси, в старенькой бежевой «Волге», и с нею был мужчина — тот самый Ахметка-телохранитель, описанный Бянусом. Но Ахметкой я бы его не назвал. Он оказался самым полнометражным Ахметом, каких мне доводилось видеть: высокий, поджарый, лет сорока пяти, с мрачноватой и грозной физиономией, со шрамом во всю левую щеку. Он был, вероятно, очень силен, но по-иному, чем шкафоподобные молодцы моих гарантов; те могли кости переломать, а этот бил бы насмерть. Ахмет рассчитался с шофером, открыл заднюю дверцу, и она выскользнула из машины, явившись передо мной, словно мираж аравийских пустынь. Прячась за колоннами, я мог рассмотреть ее, отсчитывая мгновения по гулким ударам сердца. Она была без шапки; темные волосы, густые и блестящие, рассыпались по плечам и трепетали на ветру, словно шелковая чадра. Она показалась мне довольно высокой, гибкой, тоненькой; ее фигуру подчеркивал кожушок, расшитый цветными нитями, полы его подрагивали выше колен, обтянутых капроном, и я любовался ими, пока не почувствовал — инстинктом или подсознанием, — что на меня глядят. Смотрели оба, и Захра, и мрачноватый ее телохранитель, но видел я только ее. Ее лицо и губы, алые и чуть припухшие, ее высокий чистый лоб, ее колдовские глаза… В этот момент — а длился он не дольше секунды — меня охватил страстный порыв сменить прописку, и поскорей; согласно всем канонам восточной поэзии, я жаждал жить в ее сердце и упокоиться в глубине ее глаз.
Мысль о бесцельности этой попытки пронзила меня, наполнив горечью; я поклонился и отвел взгляд, но успел заметить, как она кивнула — то ли мне, то ли Ахмету, повелевая открыть двери. Тяжелая створка распахнулась с протяжным стоном, ветер в последний раз взвихрил ее волосы, мелькнул расшитый кожушок, его заслонили широкие ахметовы плечи, и все исчезло. Сказка закончилась, я остался один. Моя газель умчалась к водопою, к фонтану мудрости, что бил жидкими струйками на кафедре древних культур.
Кто я для нее? Кафир, как сказал Бянус, голь, нищета…
Ни верблюдов, ни поместий, ни брильянтов, ни скважин нефтяных…
И никакого обаяния… Так что приятных сюрпризов мне ждать не приходилось.
Поторопился я с этим выводом, поспешил, забыв, что кроме приятных сюрпризов случаются и неприятные. Вроде оазиса в пустыне, засыпанного песком; ведешь к нему свой караван, мечтая испить водички и отдохнуть под пальмами, и вдруг — глянь-ка! — ни пальм, ни оазиса, ни воды, а один песок, да и тот пополам с ослиным пометом…
Отсидев свое на работе и возвратившись домой, я с порога услышал писк и тиканье, что доносились из моей комнаты. Тик-тик-пи-иип, тик-тик-пи-иип… Тришка встречал меня бедственным сигналом, словно верный пес, завывающий у разграбленного жилья. Вопли его начались, судя по мигавшим на экране надписям, в восемнадцать ноль три, когда он был активирован импульсами Добермана, а значит — тут я покосился на свой ханд-таймер — кто-то работал с Джеком уже целый час сорок шесть минут. Неведомо кто и неведомо где…
Однако работал! С моим Потрошителем! С моей драгоценной программой! Крутил ее по-наглому! Неприятная новость, но был к ней вдобавок еще и вопрос: за кем я охотился в прошлую среду? Кого прикончил, кому сотворил харакири, чью кровь пустил? Тот самый октяк или септяк за смутным адресом 111@ecsp… Кому принадлежала та машина? Не похитителю, нет, это было уже яснее ясного, но кто тогда ее хозяин?
Кажется, я догадывался кто. Мелькал один клиент с роскошным титулом… Haш дорогой усопший, так сказать…
Прервав тревожные вопли Тришки, я пролистал список статей из «Amazing News» с интригующими заголовками. Мятеж холодильников в штате Юта… Бунт стиральных машин в Претории… Боевые лазеры на орбите… Пентагон атакует Луну… Звонки с того света… Телефонные привидения… В мой телевизор вселился баньши, утверждает Присцилла Скейлс… Венерианский зонд маневрирует — по чьей воле?… Интернет: энтузиасты пускают слюни, скептики предупреждают… НЛО над аризонским радиотелескопом… Секс в виртуальной реальности… Компьютерный Ганнибал в нирване…
Тут я остановился, раскрыл статью и ощутил, как на висках выступает испарина. Этот усопший октяк или септяк, этот Ганнибал на микросхемах, трудился в Европейском Центре Стратегического Планирования НАТО, он же — European Center for Strategic Planning. А если взять по первым буквам, как раз и получалось «ecsp»… Мой клиент, не. стоит сомневаться! Та самая жертва потусторонних сил!
С кухни долетел призывный мяв — Белладонна намекала, что время ужинать. Я запустил Добермана в поиск и отправился к ней, чувствуя странную дрожь где-то под ребрами — то ли печень шатала, то ли желудок вибрировал в такт неприятным мыслям. Есть, однако, не хотелось. Может, теперь мне вообще не надо есть? Ни есть, ни пить, ни спать… Ведь духи к таким мелочам безразличны… А Сергей Невлюдов, как ни крути, только что превратился в духа, в электронного призрака, и имя ему — полтергейст!
Белладонна слизывала подогретое молочко, а я глядел на нее и думал. Собственно, призраком полагалось считать не Сергея Невлюдова, а того умельца, который стибрил мою программу. И этот подвиг был не из первых в его биографии — ведь даже к Ганнибалу он ухитрился подключиться! Похоже, и на другие машины пролез; я был уверен, что похититель снова работает с Джеком на чужом компьютере. Это являлось наихудшим из всех возможных вариантов: мою программу умыкнули, затем переписали на съемный диск, а теперь засылают копии через Сеть и отрабатывают на чужих машинах. Еще одна низкая шутка, сыгранная со мной! И Бянус опять-таки прав: скверная у нас реальность, препоганая — не мир, а второе нашествие марсиан!
Видать, мой хакер тоже из их числа, ловкач-марсианин во-от с таким загребущим хоботом… Хитрый, гадюка! Бянусов пентюх можно и без большого умения обшарить, а вот фокусы с Ганнибалом — это иные штучки. Другой уровень, работа мастера! И сделана на совесть, с умом и ловкостью, так что концы наружу не торчат. Спрятать концы — вот где проблема. Любую машину можно взломать, сквозь всякий фильтр просочиться, но если наследил, последствия будут тяжкими — пять раз сойдет, а на шестой попадешься. Есть, правда, почти безопасный способ — ничего не ломать, не ключик к замку подбирать, а свой замочек навесить. Заблаговременно…
Слышал я о таких штучках, знаю! Заокеанские коллеги поделились, и в Саламанке разъяснили что к чему, на лекциях компьютерного грабежа… Собственно, курс был посвящен средствам программной зашиты, но где защита, там и атака, а где атака, там и взлом. Читал аспирантам об этих материях профессор Шон Корелли, старенький гномик с седым хохолком по кличке Даблхакер… Крупный специалист!
Людей такого калибра и нанимают системными проектировщиками. Трудятся они для всяких крупных фирм и государственных контор, для армии и тайных служб, и платят им очень неплохо, от ста до трехсот тысяч, плюс берут подписку о неразглашении. Но разве подписка и деньги — гарантия лояльности? Соблазн-то велик! Компьютер без программ — пустая банка, и системщик, головастый «first pilot»[26], наполняет его защитными средствами и супервизорами, библиотеками и базами, интерфейсами и драйверами — словом, всем, чем положено, в надлежащей пропорции и гармоничном единстве. И только ему известны все тонкости и нюансы, пароли и шифры, ловушки и коды легального доступа; он словно Дедал, строитель лабиринтов, и может оставить в каждом свою персональную дверь. Иными словами, пароль наивысшего приоритета, чтобы проникнуть в систему извне, по сетевой магистрали, и поглядеть, чего там бывший работодатель накопил в своих секретных кладовых. А может, и с другими целями — припрятать краденое и погонять особо времяемкую программку за казенный счет… к примеру, Джека…
Я быстро прикинул, что мой марсианин, если ему под шестьдесят, мог потрудиться на дюжину фирм и к каждой протоптать дорожку. К финансовым компаниям и банкам, к системам ПВО и радиорелейной связи, к средствам спутниковой навигации, к архивам Моссада и ЦРУ… Бог знает, кто нанимал такого опытного мастерилу, и если пустить Бедлама по всем ею заказчикам, хлопот не оберешься. На прошлой неделе был натовский октяк, а кто сегодня? И кто будет завтра? И что случится, ежели я объявлю джихад? Спутники посыпятся с небес, банки лопнут, биржи дрогнут, танкеры сядут на мель, откажет связь по всей Британии или в берлинском метро столкнутся поезда? Любой из этих вариантов не исключался, и я решил, что буду действовать не торопясь, с сугубой осторожностью. Как говорят англичане, burn not your house to fright the mouse away — не стоит сжигать жилище, чтобы избавиться от мышей.
Белладонна расправилась с молоком и мурлыкнула в знак благодарности. Я поднял ее, прижался щекой к белоснежной пушистой спинке; хвост щекотал мне шею, а под правым ухом слышалось негромкое довольное урчание. Не разжимая крепких объятий, мы зашагали к Тришке, и тут, бросив взгляд на экран, я охнул, произнес что-то непечатное и потянулся к физиономии обеими руками — глаза протереть. Белладонна тоже выругалась — на своем кошачьем языке — и вцепилась острыми когтями в мой свитер, царапая кожу. Но мне было не до нее.
На этот раз я не преследовал похитителя в своем сетевом обличье; контактное кресло пустовало, и Доберман крутился в одиночку. Сейчас, когда хозяйский пудель его не тормозил, розыски велись в компьютерном темпе, с той скоростью, какую дозволяли частоты линий связи. От Питера до Саламанки — пара минут, три — до Токио и Фриско, пять — до Мельбурна и Огненной Земли… Поиск был стремителен, неотвратим и шел не дольше, чем моя кошка вылизывала блюдце; значит, как я надеялся, нужный адрес уже мерцает на экране, под фигуркой черного пса, а пес кайфует в розовом виртуальном тумане, поджидая моих команд.
Но все было не так: Доберман трудился в поту и в мыле, а реестр найденных им адресов включал уже семнадцать позиций. Семнадцать! И на моих глазах к списку добавилась восемнадцатая.
Это выглядело изощренным издевательством. Какую задачу решали с помощью Джека на восемнадцати мощных машинах?… Классифицировали песчинки с калифорнийских пляжей? Искали сходство меж языками всех народов и племен? Лепили кластеры из отпечатков пальцев и подписей всего земного человечества? Или обшаривали Метагалактику, чтобы составить список черных дыр?
Вероятнее иное: ловкач-марсианин лишь демонстрировал мне свои возможности. Мол, не суйся, сявка, к деловому, не качай права, а сиди с болтом в варзухе и пасть не разевай! Это было оскорбительно — вдвойне оскорбительно для человека с двумя дипломами. Впрочем, дипломы не прибавляют ума, а только тешат тщеславие и гонор.
Памятуя об этом, я решил не спешить: дождался, когда Доберман закончит работу, обозрел список на двадцать три позиции, вызвал сетевой каталог адресов и принялся исследовать их принадлежность. Номер первый — Фонд интенсивной геополитики, Мюнхен, профашистская шарага… Я отметил ее черным крестом. Номер второй и номер третий — компьютеры госпиталей в Осло и Барнауле… медики, святое дело… Пусть живут! Номер четвертый — штаб-квартира «Исламских мстителей», Ливия, Эль-Джауф; номер пятый и номер шестой — Церковь Методистов-Праведников, Атланта, и ее филиал в Майами… Всем — по черному кресту! На седьмой позиции я споткнулся — эта машина была приписана к Союзу женщин-феминисток в Хайдарабаде. Все-таки их я не тронул, но с восьмого номера по восемнадцатый всадил черные метки всяким шикарным клубам и фирмам патентованных средств от ожирения и перхоти. Еще были парочка японских банков, букмекерская контора, центр экзотических татуировок и брачный офис голубых. Банки я пощадил ради спокойствия клиентов, но все остальные были помечены черным крестом.
А голубые — даже парой! Я с изумлением убедился, что в этом гнездышке разврата стоит октяк раз в десять помощнее Тришки, и позавидовал черной завистью. Аллах милосердный! Что творится в мире! Откуда у гомиков такой компьютер? Да и зачем он им?
Но сей вопрос являлся риторическим и не меняющим сути дела: и голубой октяк, и все его компатриоты исламской, методической и патентованной ориентации, были обречены. Инициировав Бедлама и запустив его гулять по черным меткам, я с тайной радостью следил за гаснущими адресами, Первый колышек, в порядке приоритетности, был забит голубым, а затем все свершалось по списку, от мюнхенских геополитиков до центра татуировок, и каждая казнь занимала ноль минут двенадцать микросекунд. Внушительная демонстрация! Где б ни таился мой марсианин, намек был ему ясен: найду, достану и в порошок сотру!
Я усмехнулся, представив, как цветет его монитор от команд аварийного сброса. Разумеется, он поддерживал связь со всеми машинами, и теперь, когда они вырубались одна за другой, было легко догадаться, что происходит. Но вот как — это уже мой секрет! Самый гениальный программист, не зная алгоритма Потрошителя, не смог бы очистить его от средств защиты. И я бы не смог; проще все написать по новой, чем разделить Добермана и Джека.
Это мой марсианин понимал, и когда экзекуция завершилась, выбросил флаг капитуляции: адреса пяти машин, не тронутых мной, тоже погасли. Он больше не работал с Джеком; он убедился, что хозяин всюду отыщет свое похищенное добро. И притом оба мы понимали, что ситуация сложилась патовая: я перекрыл ему выход в Сеть, а он держал в неволе Потрошителя. Конечно, он мог с ним поиграться на собственном компьютере, отключенном от Сети, но это, видимо, его не устраивало. Значит, пат! Двойной пат; ведь я не мог найти его, добраться до его машины, как и он — до моей.
Но в следующий миг я был наказан за самоуверенность; тришкин экран полыхнул пронзительной синевой, и в глубине его всплыли три черные буквы. Они надвигались на меня шеренгой, грозили остриями пик, точно строй фалангитов, они росли, увеличивались в размерах, пока не заполнили весь экран, порвав синеву в клочья. И я, не сразу догадавшись, что вижу надпись на английском, прочитал: WHY.
А после, чего со мной не случалось уже лет восемь, перевел на русский: ПОЧЕМУ.
Почему — без вопросительного знака, хоть это был несомненно вопрос. Хороший вопрос! Почему? Очень краткий и очень емкий. Как раз такой, какого ждешь от марсианина. От удивленного марсианина, чей разум не в силах постичь земных обычаев и земной жестокости.
Глава 7
БЕСПОРЯДОК В ОПИЛКАХ
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все.
- Опять ничего не могу я понять,
- Опилки мои — в беспорядке.
- Везде и повсюду, опять и опять
- Меня окружают загадки.
Суббота. Семь вечера. Настроение мрачное. Звонок.
— Кто там?
— Тибетский далай-лама и зеленый человечек с Венеры. Я открыл дверь. Алик был слегка навеселе, а вот Бянус и впрямь позеленел. Но на ногах держался, опираясь на могучую аликову руку.
— Говорят, тут есть что пить и кого есть? — поинтересовался Симагин, шумно отдуваясь и отряхивая с шапки снег.
— Давно ты в людоеды записался? — буркнул я, пытаясь вспомнить, когда в последний раз подходил к компьютеру. Кажется, в пять сорок… или в шесть пятнадцать?… Впрочем, неважно; на Шипке все без перемен, и янычары по-прежнему дудят в рожок. Why, why, why… Сплошное вай-вай! Я начал стягивать с Бянуса пальто. От него пахло спиртным, но аромат был слаб и никак не соответствовал внешнему виду. Придуривается, что ли? — мелькнуло у меня в голове.
— Человека, позабывшего друзей на целую неделю, непременно надо съесть, — убежденно вещал Аллигатор, разоблачаясь. — И лучше, если этим займутся друзья. Во-первых, поедание будет не таким болезненным, а во-вторых, хоть какая-то польза напоследок…
Сашка, которого я избавил от шапки и пальто, плюхнулся на диванчик в прихожей, вытянул ноги и капризным тоном заявил:
— Теперь разуйте, пожалуйста. И остальное снимите. А после — в баню! Только чтоб с пивом и девочками!
— Баня нынче на ремонте, а у девочек выходной. — Алик содрал с Сашки сапоги, потом крякнул, взвалил его на плечо и повернулся ко мне: — Куда доцента тащить, хозяин? Кстати, ты не беспокойся, он враз оклемается и никакого ущерба мебели не причинит. Принял с наперсток да еще по морозцу прогулялся… Пять секунд, и станет как новенький.
— Отнеси это в гостиную и брось на диван, — распорядился я, ткнув Бянуса пальцем в бок. — И постарайся, чтобы это не подкатывалось к моей кошке с сексуальными домогательствами. Она хмельных охальников не любит.
— Есть, шеф! Будет сделано, шеф!
Симагин потащил Сашку в гостиную. Сашка дрыгал ногами, извивался и вопил, с незаурядным талантом изображая алкаша. Но мне было ясно, что он не пьян, а лишь комедию ломает — так, чтоб разрядить обстановку и поюродствовать всласть. А заодно и хозяина развлечь.
Доставив с кухни поднос с бутылкой, рюмками и тарелками, я обнаружил, что Сашка возлежит на диване в обнимку с Белладонной, что щеки его уже не отливают зеленью, дыхание ровное и взор ясен. Симагин возился с телевизором, выбирал пейзаж поласковей, без стрельбы, кровавых разборок и эротических выкрутасов. Найдя какую-то передачу о китах и дельфинах, он довольно хмыкнул и покосился на поднос.
— Чего тарелки пустые? Есть нам сегодня дадут, или нет? Я, как-никак, со службы.
— Наша служба и опасна, и трудна, у майоров будит аппетит она, — пропел Сашка, щекоча Белладонну за ушами. — Иди-ка ты, рожденный революцией, на кухню, и приготовь нам что-нибудь экзотическое, из диеты аллигаторов. Рыбный салат, к примеру.
Алик взглянул на меня.
— Рыба есть, Серый?
— Была, да кошка съела. Есть сыр, яйца и майонез. Кажется, банка горошка…
— Сойдет.
Симагин отправился к кухонному столу, а Бянус сел, осторожно переместив Белладонну на колени, и сообщил:
— Знаешь, Серый, у вас снова филенку сперли. Это ж в который раз?
— В десятый. А может, в двадцатый, — мрачно отозвал ся я, соображая, не заглянуть ли к Тришке. Но делать это при любопытных друзьях счастливого детства было бы операцией самоубийственной: пойдут расспросы, охи-ахи, тары-растабары — а что я, собственно, могу сказать?… И по тому, справившись с компьютерным синдромом, я уставился в телевизор. Там, среди океанских волн, подернутых радужной пленкой, резвились дельфины, а два бородатых эколога на надувном плоту черпали водичку, смешанную с бензином, и разливали ее по стеклянным емкостям. Надо думать, для пересылки в компанию «Шелл».
Сашка почесал длинный нос.
— В двадцатый, говоришь? Это уже тянет на хищение в крупных размерах. Давай Аллигатора натравим, а? Пришлет он своих молодцов, залягут они у вас на лестнице с минометами или гранату к филенке подвесят, и когда…
Он трепался, стараясь меня развлечь, и постепенно мысли мои свернули на новую тропку, в обход вчерашних событий — да и сегодняшних тоже. Я будто забыл о марсианских воплях, долбивших мой компьютер, и вспомнил о том, о чем стоило помнить: о Захре, о чудных ее глазах, о подаренном ею взгляде, о ветре, взвихрившем ее волосы, откинувшем полу кожушка над круглыми коленями… Я думал об этом, и мир понемногу светлел и, подчиняясь сашкиной болтовне, превращался из очень мрачного в слегка угрюмый. Горизонт еще затягивали тучи, но в разрывах меж ними просвечивало синее; потом Бянус что-то сказал, блеснула молния, грянул гром, тучи разошлись, и солнечный луч пал на мое лицо.
— Тобой интересовались, — со значением повторил Сашка.
— Это в каком же смысле?
— В смысле родословной. И в смысле внешности. Почему, мол, глазки у тебя голубые, а рожа — татаро-монгольская… Ха! Любопытные эти бабы! Глянут разок и тут же интересуются, кто твои папа с мамой, не оженился ли ты случайно и не страдал ли твой дедушка алкоголизмом.
— Мой не страдал. И что отсюда вытекает?
Бянус с важным видом поднял взор к потолку, поковырял в ухе и произнес:
— Отсюда вытекает, что надо надеяться и ждать. Восток, понимаешь ли! Дело тонкое! На Востоке спешить не любят.
— Кроме Ахмета с длинным ножиком, — заметил я, почти развеселившись.
— А что Ахмет? Ножик при нем, но ты не расстраивайся, Серый, не переживай из-за ножика. Ахметка всего лишь телохранитель, и нежные чувства, буде они появятся, не в его власти. Ты, Серый, помни одно: девичьему сердцу не прикажешь!
— Это радует, насчет чувств и сердца, но к телу тоже есть интерес, — сказал я, переместив бутылку со всем прочим с подноса на журнальный столик.
— Циничный ты какой!.. — откликнулся Сашка и приступил к открыванию и разливанию. Мне — на палец, а им с Аликом — на три.
Я глядел на эту процедуру, но, кажется, не видел ничего. Два темных озера маячили передо мной, и в них игривыми рыбками плескались огоньки, рисуя слово «WHY»; два этих видения накладывались, смешивались, и я никак не мог изгнать проклятого марсианина из милых глаз Захры. Ладно, черт с ним, с марсианином, и с его дурацкими воплями! Главное, она обо мне спрашивала… Интересовалась, как отметил Бянус… И совет его верен — надо надеяться и ждать. Все правильно: восточная женщина, дело тонкое! Мама тоже была восточной женщиной, не выносила свинину и раскрывала по праздникам Коран, но в этом, не считая внешности, и состоял ее восточный колорит. Конечно, мама была дитем советской эпохи, сравнявшей неординарность с аппендицитом, что подлежит немедленной резекции… А Захра? Скорее всего, ей дали религиозное воспитание.
А это значит пять намазов в день и никакого секса с иноверцами… С намазами, правда, я мог ошибаться — слишком уж гладкими были ее коленки.
Тут вошел Симагин с большой миской, из которой торчали три ложки, и цепь моих дум прервалась.
— Салат «хризантема»! — торжественно объявил Алик, опустив миску на стол.
Бянус тут же отведал, сморщился и пробормотал:
— Отцвели уж давно хризантемы в саду… Какой сыр сюда намешан, изверг?
— Какой нашелся в холодильнике. Камамбер… А может, рокфор.
— То-то чую, тухлятинкой попахивает!
Мы выпили, а затем Бянус вывалил себе на тарелку половину салата и принялся за еду. Хоть телом он тощ и жилист, но отличается изрядной прожорливостью; пища перерабатывалась в нем в энергию по формуле «е» равно «эм-це-квадрат», и ни капли поименованной «эм» не прибавляло ему жирка. А вот Алик, несмотря на внушительные габариты, ел неторопливо, со вкусом, будто не самопальную мешанину поглощал, а фрикасе из лягушачьих лапок или омара под соусом шофруа. Отправив в рот очередную ложку, он подмигнул мне, покосился на Бянуса и произнес: — Эй, доцент, а как там поживает наша Верочка? К лицу ли ей фата? И колечки, надеюсь, уже куплены? Сашка, прекратив жевать, застыл с недоуменно раскрытым ртом. — Это какая Верочка, майор? Какие такие колечки? — Обручальные, — уточнил Алик. — А Верочка — с психологического. С факультета то есть. Твоя последняя пассия. — Уже нет. Вот этот гнусный хмырь, — Бянус ткнул в меня ложкой, — разрушил наше счастье. Видишь ли, майор, любовь, особенно с женщиной-психологом, нуждается в уединении, мягком ложе и чистых простынях. А где я их возьму, если друг не дает ни ключа от квартиры, ни простынок?… Пришлось сменить Верочку на Галочку. У той родители в отъезде, так что с простынками и ложем нет проблем. — И что же Верочка? Сашка поник головой над салатом. — Страдает… корит меня за измену… просто прохода не дает… Очень темпераментная девушка! Страстная — даром что психолог! Клянется, что будь иные времена, она бы вырвала мне сердце и съела его на рыночной площади.
Я чуть не поперхнулся, а Симагин, приподняв бровь, молвил:
— Круто, доцент! Очень круто! Тянет на четвертной без амнистии! Сама придумала или как?
— Или как. Шекспира надо почитывать, майор.
Мы выпили по второй, и Алик глубокомысленно заметил:
— Мог бы и остепениться на Верочке-психологичке. Женщины с таким темпераментом — большая редкость. Были б тебе простынки, ложе и Шекспир, все вместе и на самом законном основании.
— Я еще слишком юн и не созрел для брачных уз, — признался Сашка, доедая салат и поглядывая то на Симагина, то на меня. — Народ, конечно, вправе ждать от нас подвига, но я не рвусь в первопроходцы. Есть среди нас и другие герои, более достойные.
Тут зазвонил телефон, я отправился в прихожую, сиял трубку и услышал вкрадчивый голос Альберта Салудо.
Этого мне только не хватало! Альберт, ведавший у хрумков безопасностью, моим расположением не пользовался: не ощущалось в нем ни сибирской широты Пыжа, ни первобытной примитивности Керима. Был он весь приглаженный и скользкий, с какой-то невнятной физиономией — в том смысле, что она не выражала ничего. Не нравятся мне такие лица. Людям они не подходят и пригодны к использованию лишь среди тайных агентов и стукачей.
— Сергей Михайлович? — Голос Альберта можно было резать ножом как патоку. — Петр Петрович просил с вами связаться. Есть ли успехи?
Чертыхнувшись про себя, я доложил с наигранным энтузиазмом:
— Работаю, Альберт Максимович, пашу, спины не разгибая! Только что закончил очередной расчет, увеличив селектирующую способность классификатора втрое. Сейчас примусь анализировать матрицы корреляций в двадцати мерном пространстве признаков. Понимаете, Альберт Максимович, каждый объект — а их у нас девяносто тысяч — порождает прямоугольную матрицу перекрывания, и весь этот численный массив…
— Гмм… — деликатно прервал меня Сапудо. — Позвольте заметить, Сергей Михайлович: вы, ученые, странный народ. Зачем вы мне это рассказываете? Нас ведь не интересуют корреляции, классификации и пространства, в коих парит ваша ученая мысль. Нам признаки нужны. Желательно не двадцать, а три-четыре.
— Это уж как получится, Альберт Максимович. Не мной они придуманы, эти самые признаки, я их только ищу.
— Вот и ищите, мой дорогой. Кто ищет с усердием, тот всегда найдет. Особенно вы! Вы ведь у нас та-акая умница! Гений!
Издевается? Или льстит? Впрочем, неважно; похвастать успехами я не мог, и оставалось только пробурчать:
— Гений не станет умнее, если его торопят. Не блох ловим, Альберт Максимович.
— Не блох, — согласился Салудо. — Мы вас не торопим, Сергей Михайлович, мы лишь напоминаем, что все должно быть честь по чести и без фокусов. Иначе вашей тете конец, и будет он нелегок.
— У меня нет тети, — ошеломленно пробормотал я.
— Это фигуральное выражение, — ответил Альберт и повесил трубку.
Мне понадобилось минуты три, чтоб оклематься после такого разговора. Шутка — или угроза? — насчет печальной тетиной судьбы меня не волновала; важней был прецедент беседы, являвшийся вполне понятным и недвусмысленным намеком. Как-никак, шеф безопасности звонил! А безопасность в наши нелегкие времена понятие растяжимое… И в какую сторону ее растянет?… И по кому хлопнет?…
Постояв в коридоре и справившись с искушением заглянуть в компьютер, я вернулся в комнату и обнаружил, что на повестке дня у нас вопрос об инках. Видимо, Сашка разобрался с узелками и теперь с упоением цитировал опись храмового имущества времен Пачакути и Тупака-Юпанки.[27] Храм, о котором шла речь, был построен на берегу Чинча К оча, равнинного озера в провинции Чинчасуйю, и хранилось в нем неимоверное количество шкур, вигоневой шерсти, сушеного мяса-чарки, хмельного напитка соры и всяких иных припасов. Список был длинен, и Бянус горел желанием огласить его до самого конца.
Кажется, с моей физиономией что-то было не в порядке: Симагин, окинув меня проницательным взором, ткнул докладчика в бок.
— Заткни фонтан, доцент… В чем дело, Серый? В очко тебя продули и выкуп требуют? Кто звонил?
— Так, ерунда… — Я отмахнулся. — Элементарный беспорядок в опилках…
— Ерунда! — Аллигатор неодобрительно покрутил головой. — Какая же это ерунда? В твоих опилках сроду не бывало беспорядка! Ну-ка, колись! Кто звонил?
Бянус спас меня, дернув Симагина за рукав.
— Оставь его, майор, не лезь в печенки. Может, он влюбился и серенады по телефону пел предмету страсти нежной, а теперь неохота ему глядеть в наши пропойные ряшки.
— При чем тут наши ряшки, доцент? При чем любовь? — возмутился Алик. — Любовь — экстаз и вдохновение, а их-то как раз не наблюдается! Вдох есть, выдоха нет! А что до ряшек, то у нас ряшки нормальные, а вот у него как набок свернута. Я бы сказал, что это предвещает неприятности. И кажется мне…
— Кажется? — перебил Бянус, готовый защищать мои сердечные тайны до последнего патрона. — Калий бром надо пить, майор, если кажется!
— Нельзя калий бром, доцент. От него происходит расслабление конечностей и других важных органов. И тогда клиенту уже ничем не поможешь…
Я, очухавшись после беседы с Альбертом, глядел на них, на дорогих моих друзей, и думал, что все мы — клиенты в состоянии «уже». Алик уже майор, Бянус уже доцент, а я уже дабл пи-эйч-ди и научный сотрудник… Уже! А что еще? Что будет в жизни еще? Кресло завкафедрой плюс лычки профессора?… Я променял бы их на одну улыбку Захры. Даже на вопли «марсианина», ибо в них таилось нечто загадочное и бесспорно не попадавшее в категорию «уже».
Передача о китах и дельфинах закончилась, телевизор проиграл бравурную мелодию, и начались новости, а за ними — политический обзор и криминальная хроника. Алик слушал с интересом, как и положено профессионалу, Бянус кривил тонкие губы и время от времени разражался едкими комментариями. В чем-то он был прав, так как обзор с хроникой неплохо дополняли друг друга: обзор являлся, так сказать, теоретической частью, а хроника — практической. В теории российской демократии все выглядело превосходно: множество партий и политических лидеров, множество мнений и множество споров о тех путях-дорожках, коими нам полагалось двигаться в светлый завтрашний день. Но при ближайшем рассмотрении лидеры казались актерами какой-то сумасшедшей оперетки; их споры-дуэты были бесплодными, а речи-арии в общем-то одинаковыми: все они сулили публике процветание и справедливость, и все скрывали свой главный лозунг — гоните денежки за билеты! Ну а капитал, как водится, правил миром. За деньги продавали все и всех: нефть и икру, лес и никель, осетрину и медь, девушек и танки, идеи и автоматы, взрывчатку и золото, почки и донорскую кровь, клюкву и физиков — а также разум, честь и совесть вместе с билетами в партер.
— Хождение по мукам, — прокомментировал начитанный доцент Бранников. — Россия снова во мгле, и нет у нас ни Толстого, ни Уэллса, дабы живописать муки и мглу. Ильича, и того нет.
— К счастью, — заметил Алик и выдал цитату об отдельных представителях нашей славной научной интеллигенции, которые обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло. Потом подумал и добавил с непрошибаемым оптимизмом: — Перезимуем, доцент! Где наша не пропадала!
— Майоры, может, и перезимуют, а вот доценты — сомневаюсь, — ответил Сашка и присосался к стакану.
Пошла реклама, и гости мои начали прощаться, заполнив прихожую крепким спиртным ароматом. Дождавшись, когда Алик отвернется, Бянус нарисовал в воздухе соблазнительный контур женской фигурки и подмигнул мне мол, не дрейфь! И не спеши — Восток суеты не любит! Симагин тем временем застегивал пальто, поводил необъятными плечами, притоптывал и с подозрительностью косился на телефонную трубку. Наконец, сжав мою ладонь в своей могучей лапище, он ткнул в аппарат пальцем и пробурчал:
— Ты, Серый, не пропадай, звони. А ежели есть причина для беспорядка в опилках, звони не откладывая. Разберемся! — Алик наклонил голову, заглядывая мне в лицо. — Может, скажешь, кто тебя давеча побеспокоил?
— Мой финансовый агент. Ввиду кризиса в Соединенном Королевстве он переводит мое состояние из английского банка в швейцарский. Тонкая операция! Ну а я, само собой, волнуюсь.
— Агент так агент, — вздохнул Алик, пожав плечами и отворяя дверь.
Гости ушли, и я, сопровождаемый Белладонной, поплелся к себе, активировал Тришку, переключился на прием и пару минут взирал на огромные черные буквы в прозрачной экранной голубизне. WHY… ПОЧЕМУ?…
Передача шла вторые сутки, непрерывно и с сотен разных адресов, словно мой марсианин мог дотянуться до любого компьютера, включенного в Сеть, отправив с него свои призывы. Why, why, why, why… Крик отчаяния, напоминающий мольбу… безнадежный зов в пустыне…
Но почему безнадежный? И почему — в пустыне? Теперь был мой черед: он спрашивал, я мог ответить. Мог отозваться, отправить сообщение на один из портов, откуда доносился этот вопль. Мог… Но не решался.
Мысли мои разбредались, в опилках царил беспорядок, и не Захра, не мои реставраторы были тому виной. Я уже понимал, что столкнулся с чем-то загадочным, необъяснимым и не имевшим аналогий; мой опыт и знания пасовали, мой разум дрейфовал в океане бесплодных гипотез, и лишь из чистого упрямства я не желал мириться с поражением.
Мне было ясно, что все попытки найти «марсианина» и все идеи на этот счет — самообман и блеф; он не являлся обычным воришкой или гроссмейстером, как Шон Корелли, решившим побаловаться с мелюзгой. То бишь с Сергеем Невлюдовым, лохастым недоумком… Нет, я был уверен, что тут не пахнет шутками и баловством. Ни одному хакеру, даже экстракласса, не пробраться разом на сотню машин — а их была уже не сотня, а добрых восемьсот. Этого я не мог объяснить, не привлекая фантастических гипотез а ля Джеймс Бонд. Например, об акции тайного ведомства, ЦРУ, ФСБ или MI-5, решившего поразбойничать в Сети… Хорошая мысль, да только с изъяном: эти конторы уволокли бы любую ценную информацию, но вряд ли стали бы беспокоить ограбленных владельцев. Или просить у них разрешения… А ведь мой марсианин теперь не пытался работать с Джеком! Он всего лишь хотел узнать, что я имею против.
— Может, и впрямь пришелец? — спросил я Белладонну, гревшуюся у теплого тришкина бока.
Она мурлыкнула и сощурилась, став похожей на маленького пушистого джинна с загадочным взглядом Будды. Очевидно, ответ был ей известен, но я его не разобрал ввиду некомпетентности в кошачьем языке.
Итак, марсианин? В смысле пришелец с далеких звезд, собрат по разуму?…
Это была еще одна из фантастических гипотез, более логичная, чем мысль о суперхакере или тайных происках ЦРУ. Кстати, она объясняла электронный полтергейст — не учиненный лично мною, а более вопиющие факты вроде стрельбы со спутника по Луне и странностей с венерианским зондом. Действительно, если б пришельцы с иных миров явились к нам на Землю и если б им захотелось тайно и скрытно нас изучить, то все началось бы, пожалуй, с компьютеров и Сети. Первым делом они провели бы эксперимент, чтоб ознакомиться с нашей техникой — с той, что находится в отдалении, на сателлитах и космических зондах; затем включились бы в Сеть — через тот же спутник — и для проверки своих возможностей что-нибудь крутанули… скажем, антенну радиотелескопа. Ну а затем принялись бы качать информацию, благо Сеть содержит ее в самом удобном и концентрированном виде: книги, технические описания, словари, программы перевода, учебные фильмы и просто фильмы, любые зрелища, любые сведения, от букваря до тайн Федеральной резервной системы… Сеть — это слепок земной цивилизации, наше alter ego, наш брат-близнец, лишенный агрессивных человеческих инстинктов, и любой космический пришелец, желая познакомиться с землянами и сберечь свой зад, начал бы это знакомство с Сети. А после выбрал бы сотню-другую программ покруче и запустил их на наших компьютерах — из любопытства или с целью представить наш технический потенциал… И очень бы удивился, если бы последовали санкции — в той жесткой форме, какую мне довелось избрать. И спросил бы — почему?… Логичная мысль! Хотя не без кое-каких натяжек… С другой стороны, здесь без натяжек не обойдешься. Что нам известно о психологии пришельцев? Ровным счетом ничего. И кто тут способен родить безошибочно точный ответ? Ответа тут не дождешься, подумал я, а вот на совет можно надеяться. От того же Михалева, Глеб Кириллыча… Как всякий матерый писатель-фантаст он мог считаться специалистом по пришельцам; он написал о них десятка два романов и помнил все, что издано другими по обе стороны Атлантики. О пришельцах-телепатах, пришельцах-осьминогах, вирусах, амебах, гуманоидах и андроидах, пришельцах растительного и кристаллического происхождения и пришельцах в виде плазменных облаков… Равным образом Глеб Кириллыч являлся экспертом-контактером и знал, какого пришельца по шерстке гладить, а какого — в распыл пустить.
Но не он один. Имелись и другие знатоки. Мой дад, к примеру. Был он фантазер и выдумщик, а еще, мне кажется, авантюрист — из тех, кого судьба не сбросит на резком повороте. Ему такие повороты нравились. Ему стукнуло сорок шесть, и он считался вполне преуспевающим ученым, и преуспеть мог всюду, в Штатах и в России; но, внедрив меня в научный гандикап, сам его бросил и занялся писательством — я думаю, не без влияния Глеб Кириллыча. Когда я расспрашивал его об этом удивительном зигзаге, дад лишь посмеивался и говорил, что многие физики стали писателями, а вот обратных метаморфоз не наблюдается; значит, в писателях хорошо, а в физиках — плохо. И должен сказать, что временами, сидя на кафедральных семинарах, я его понимаю. К тому же, как полагают в Британии, the apples on the other side of the wall are sweetest — яблоки по ту сторону забора всегда слаще.
Отец написал шестнадцать книг; семнадцатая осталась недописанной, и речь в ней шла о судьбах земной цивилизации и вероятном контакте с инопланетными пришельцами. Странное у нее было название: «Оглянись, чужие рядом»… Я отыскал ее в отцовском пентюхе, прочитал, погоревал, что дад не успел ее закончить, и там же оставил — вместе с заметками, письмами и дневником. Любопытная книга! Не фантастический роман; скорее — исследование по футурологии в духе Станислава Лема. Так вот, говорилось в ней…
Внезапно я понял, что просто сливаю воду. Сижу у компьютера, пялюсь в экран и рассуждаю о том о сем, о фантастических советах и ответах — но лишь потому, что боюсь получить ответ реальный. Если и стоило что вспоминать, так это отцову премудрость насчет катка, который ровняет перед нами дорогу; катка обстоятельств, за коим мы тащимся всю жизнь, не сворачивая в джунгли. В темный дремучий лес, полный страшных сказок… А может, не страшных, но удивительных? Грустных или веселых?
Не отведавши, не узнаешь; испугавшись, не отведаешь…
Я подумал, что мне так хотелось сказки, и вот я ее получил, и даже не одну: о прекрасной принцессе и о космическом чудище. Чего еще надо? Дороги, приглаженной асфальтным катком? Ну будет тебе дорога, зато не станет ни сказки, ни тайны, ни удовольствия… Принцесса обернется ведьмой, загадочный призыв — глупыми шутками, а Сергей Невлюдов — перхотью и лохом… Из тех членистоногих, которым космос ни к чему, как утверждал клоп Говорун. Эта мысль меня разозлила. Я посмотрел в зеркало, блестевшее под скрещенными томагавками и убором из черных перьев; моя физиономия казалась угрюмой, но решительной. Такой, должно быть, как у моего пращура-крымчака, когда он сбирался в набег на других моих предков, то ли литвинов, то ли поляков… Те, правда, тоже были не сахар, о чем могли бы поведать мои прапрадеды с еврейской стороны.
Мой палец коснулся клавиши, и Тришка, тоненько свистнув вокодером, прекратил прием. Слово «WHY», выписанное огромными черными буквами, поблекло; теперь на экране мерцал прямоугольник почтового окна, а выше темнела строчка с внушительным заголовком — адрес, с которого мы получили последнее сообщение. [email protected]… Судя по кодировке «esp», этот компьютер находился в Испании, а «сог» могло с равным успехом обозначать Кордову, корриду или коррехидора.
Ну Кордова, так Кордова… Вот что мы туда отправим?
— Что? — переспросил я Белладонну, заглянув в ее аметистовые зрачки. — Напишем, что программа «Джек» — личная собственность Сергея Невлюдова?
— Мрр… няу…
— Верно, так не пойдет. Не будем сразу качать права, а будем действовать в согласии с межзвездным политесом. Сплошное мрр-няу… Вежливость и еще раз вежливость… Глядишь, договоримся и сменяем Джека на фотонный отражатель или на средство от облысения…
Поглядев на шлем и браслеты, я покачал головой. Пользоваться ими мне не хотелось; кто его знает, какую Маску, чудовищную и устрашающую, мог напялить «марсианин». Конечно, в закоулках Сети странствовал не я, а черный пудель, бесплотный и неуязвимый дух, но сердце-то было моим! И не хотелось искать его где-нибудь в пятках.
Я тронул клавишу, почувствовав легкий озноб, когда под кордовой-корридой возникла строка с моим адресом: [email protected]. Ниже высвечивалась дата, с часами, минутами и секундами; цифры секунд мерцали, будто подмигивая мне в оба глаза, правым — быстро, а левым медленно.
Адрес — кому… Адрес — от кого… И время… Это была обычная сетевая процедура связи, введенная недавно и сменившая громоздкий регламент Интернета; в нее добавили двухбуквенныс коды для стандартных сообщений — на радость чайникам, считавшим, что в их использовании кроется особый шик. Впрочем, временами эта кодировка приносила пользу, так как каждый идентификатор был строго определен, и сообщения получались максимально ясными и недвусмысленными.
Знал ли «марсианин» сей язык? По-видимому, да. Это было самое легкое и простое средство общения в Сети, а мой корреспондент уже освоил нечто посложнее. Английский — или по крайней мере одно слово из английского, очень важное. Why… Почему ты меня обижаешь? Почему не даешь поиграть с Потрошителем?…
Пальцы мои сплясали быструю джигу на клавишах. Колонка букв и знаков заполнила окно.
ТХ [email protected] TU.
АВ — Сергей Невлюдов.
YU.
TS.
ТХ обозначает сообщение, TU — подтверждение приема, TS — просьбу подтвердить прием; все эти идентификаторы начинались с буквы «Т», поскольку сообщение было текстовым. АВ — абонент Глобальной Сети», в данном случае — я; YU — просьбу представиться в любом желаемом варианте — имя, возраст, пол, сфера интересов и остальные причиндалы. На нормальном человеческом языке мое послание звучало так:
Прием текста с адреса [email protected] подтвержден.
Я — абонент Сети Сергей Невлюдов.
Кто вы, вступивший в связь со мной?
Просьба подтвердить прием данного сообщения.
Вот так. На первый случай никаких претензий, никаких упреков или — боже упаси! — угроз. Никаких сцен и разборок в виртуальном пространстве. Скромно и вежливо: я — Сергей Невлюдов, а вы кто?… А мы — Константин, синекожий пришелец со звезды Антарес, о двух головах и девяти конечностях, считая хвост и пару хоботов… Тут наши головы заспорили промеж собой — отчего это вы, Сережа, ударились в компьютерную лоботомию? Это у вас вид спорта такой на Земле? Или сексуальное извращение? А может, вы маньяк со склонностью к инфорсадизму? Разоблачайтесь, не стесняйтесь! Why, TS!
Я ухмыльнулся, но мурашки все так же бегали по моей спине, скапливались где-то над копчиком, а оттуда, разделившись на две орды, сползали к коленям и ступням. И то сказать, мороз на улице стоял изрядный, топили плохо, и в комнате похолодало. Как в марсианской пустыне или на родине Константина, когда заходит звезда Антарес… Почтовое окно озарил фиолетовый отблеск, и послание унеслось в Кордову. Недолгий путь; но вот куда оно отправится затем? К далеким или близким небесам, к Луне, Венере или Марсу? Или в Гималаи, в таинственную Шамбалу? Или в антарктические льды? Или на океанское дно, где змеится трансатлантический кабель? Любая из этих дыр, щелей и бездн была доступна Константину, моему синеко-жему дружку; любая из них подходила для парковки летающих блюдец и долгого, тайного, терпеливого ожидания.
Не знаю, верил ли я в эти бредни. Наверное, нет; категория веры, как феномена трансцендентного и принимаемого без доказательств, противна моему сознанию. Приходится верить человеку, ибо духовное в нем не выразишь в битах, джоулях и сантиметрах, но верить гипотезе глупо; гипотезы тем и отличаются от людей, что допускают проверку фактами и описание в терминах логики. Так что, хотя я чувствовал знобящий холодок, мой марсианин был для меня — и оставался — всего лишь недоказанной гипотезой. Я верил в него не больше, чем в электронных духов, обитающих в Сети, или в то, что Маски, сонм двоичных чисел, мелькавших меж процессором и памятью компьютера, вдруг оживут и обретут реальность. В принципе такое допускалось, но было событием маловероятным, как кирпич, подброшенный вверх движением молекул; и любой подобный феномен являлся, разумеется, не вопросом веры, а прерогативой статистики и Его Величества Случая. Как и явление на Земле марсиан или двухголовых пришельцев со звезды Антарес.
Ханд— таймер на моем запястье, мигая в такт компьютерным часам, отсчитывал девятую минуту, когда новая вспышка озарила экран. Еще не осмыслив сообщение, я отметил, что пришло оно, судя по адресу, с Британских островов: последние символы были «uk» — United Kingdom, Соединенное Королевство.
Может, мне писали из Кембриджа?…
Мысль мелькнула и погасла. Взгляд мой скользил по ровным строчкам, спотыкаясь на многочисленных символах WT, требовавших определить понятие. WT — сокращенное английское «what», или «что»; в рамках стандартного кода WT означает, что термин, используемый одним из абонентов, неясен другому. Кажется, моему марсианину было неясно очень многое…
TX [email protected] TV.
АВ — WT.
Сергей — WT.
Невлюдов — WT.
YU — WT.
Точный перевод гласил:
Прием текста с адреса [email protected] подтвержден.
Термин «АВ» непонятен.
Термин «Сергей» непонятен.
Термин «Невлюдов» непонятен.
Термин «YU» непонятен.
Это было поразительно! Это являлось или насмешкой, или какой-то хитростью, или доказательством моей гипотезы. Если отбросить два первых предположения, то вывод был тривиален: ни один человек Земли, из самых распоследних чайников, не мог бы такое сочинить. Всерьез, я имею в виду. Выходит, мой марсианин явил свою нечеловеческую сущность!
Он разобрался с кодами ТХ, TV и WT, употребив их в нужном смысле, но он, вероятно, понятия не имел об именах, абонентах Сети и о вопросе «кто вы такой». Последнее особенно смущало; до нынешнего дня я был уверен, что термины «личность» и «разумное существо» эквивалентны, а значит, вопрос о самоопределении является сугубо классификационным, а не философским. Но мой синекожий Константин оперировал лишь безличными понятиями, теми, что касались протокола связи, и кажется, малейший намек на личность, на все эти «я», «ты» или «вы», повергал его в недоумение.
Так кто же он? Ульеподобный монстр, конгломерат безмозглых тварей, роившихся в своем космическом термитнике? Или гигантская жаба с Магеллановых Облаков, вполне разумная, однако лишенная индивидуальности? Или искусственный мозг, компьютерный разум, способный к логическому обмену и в то же время не сознающий собственного «я»?
На миг все эти домыслы закрыли основное, будто задвинув его в какую-то бесконечно удаленную щелочку рассудка. Я — увы! — не гений и не способен думать одновременно о множестве вещей; вернее, способен, но такие попытки суть хаос и белиберда, не относящиеся к логическому мышлению. А главный его признак таков: мысли поочередно сменяют друг друга, и менее важное вытесняется более важным, пока на финише мы не достигнем важнейшего.
Важнейшим же являлось то, что Он существовал. Мой синекожий марсианин, укравший Джека, разумный муравейник, монстр, суперробот или иная внечеловеческая сущность, говорившая сейчас со мной, желавшая знать, кто есть Сергей Невлюдов…
На висках моих выступила испарина, губы задрожали. Почти машинально я протянул руку, коснулся мягкой шерстки задремавшей Белладонны, и ощущение теплого, живого, пролилось в мою душу успокоительным бальзамом. Я уже не боялся неведомых монстров; наоборот, предвкушение событий диковинных и сказочных охватило меня. Оставалось неясным, будет ли эта история столь же приятна, как об арабской принцессе Азиз ад-Дин Захре, но она началась, и я был готов дочитать ее до самой последней строчки.
Правда, стандартный код был не слишком удобным средством, чтобы обмениваться сказками с марсианином. Язык! Понимает ли Он язык? Русский, английский, французский — любой, которым я владел? Это нуждалось в проверке.
АВ — термин, который обозначает посылающего сообщение.
АВ EQ абонент.
YU — термин, который обозначает вопрос.
Вопрос — классификация существа.
Существо — абонент, посылающий сообщение по адресу [email protected].
Я набрал свое послание, включив в него код эквивалентности EQ и тщательно избегая местоимений. EQ означает «равнозначно»; в простейших ситуациях его можно заменить словом «есть». «А» есть «В», «В» есть «А»… Человек есть существо разумное, разумное существо есть человек… Но не всегда. Мой Константин не являлся человеком, хоть был на первый взгляд разумным существом.
На этот раз мне почти не пришлось ждать; ответ появился через три секунды, с петербургского адреса. Знакомый адресок; теперь со мной говорили через сервер, к которому был подключен Тришка. И говорили на русском!
Реальность EQ ансамбль объектов.
Объект — активный объект — существо.
Существо EQ абонент, посылающий сообщение на терминал [email protected].
YU.
Какая-никакая, это была классификация. Можно сказать, безупречная: реальность — ансамбль объектов, объекты активные — существа, а среди них есть и такое, с которым поддерживается связь. Четкая иерархия! Мой собеседник был абсолютно прав: любое определение вводит определяемую сущность в класс более широких понятий. Мы говорим, что сила — мера взаимодействия между телами, а что такое «взаимодействие» и «тело»? Понятия широчайшей общности, атрибуты материи… А что такое материя? Реальность, которая нас окружает, и дать ей определение нельзя, поскольку мы не придумали более общих понятий. А вот менее общих имеется сколько угодно, и их с лихвой хватает, чтоб описать Сергея Невлюдова. Раз уж об этом просят. YU, YU, YU… Кто ты такой, Сергей Невлюдов?
Реальность — объект — существо.
Существо — живое мыслящее существо EQ разумное существо.
Разумное существо — человек — личность — конкретная личность.
Конкретная личность — Сергей Невлюдов.
Сергей Невлюдов — ID конкретной личности.
Я использовал код ID, обозначающий идентификатор, то есть любую совокупность символов, которой именуют файл, программу, математическую величину. Если мой марсианин выучил русский, если Он знаком со словами «реальность», «объект», «существо», если Он способен работать в Сети (в чем я не сомневался, памятуя об экспроприации Джека) — словом, если Он не глуп, как и положено пришельцу, то разберется с идентификатором.
Он разобрался. Затруднения были совсем в другом.
Живое существо — концепция непонятна.
Человек — концепция непонятна.
Личность — концепция непонятна.
Пояснить непонятные концепции.
Наступила пауза, словно синекожий Константин размышлял, чем бы еще меня удивить, или предавался ностальгическим воспоминаниям о звезде Антарес. Потом посыпалось снова:
Существо — абонент, посылающий сообщение на терминал [email protected].
Существо EQ разумный объект EQ мыслящий объект.
Мыслящее существо — одно.
Сергей Невлюдов — теплый сгусток — константа 309.6.
Теплых сгустков — много.
Все теплые сгустки — человек?
Все теплые сгустки — личность?
Все теплые сгустки — Сергей Невлюдов?
Итак, Он объявил себя разумным и мыслящим, однако концепция жизни была ему непонятна! Минуту я боролся с искушением отделаться классическим ответом: человек — двуногое без перьев, жизнь — форма существования белковых тел, а я, Сергей Невлюдов, и есть такое двуногое тело массой в семьдесят три килограмма: сверху — кепка и волосы, снизу — ботинки. Но азбучные истины тут не годились. Хотя бы потому, что Он считал себя единственным разумным существом в космических окрестностях Земли, а я был только «теплый сгусток»! Константа 309,6, что бы это ни означало!
Я сидел, уставившись в экран и чувствуя, как от виска к подбородку сползает теплый потный ручеек. Начался снегопад; белые пушистые мухи кружили за моим окном, метались в порывах февральского ветра, танцевали, подпрыгивали, падали и уносились во тьму, накрывшую город черной холодной лапой. В небе и на земле — ни проблеска света, ни звезд, ни луны… Тишина… Только в пластмассовом корпусе Тришки шуршат вентиляторы, и в унисон с ними Белладонна тянет бесконечную кошачью песенку — мрр… мрр… мрр… Окно — темный провал с призрачными пятнами снежинок, а дверь — такой же провал, только без пятен; и мнится, что ведет он в космический мрак, в пустоту, где у такого же экрана сидит двухголовый Константин и чешет двумя хоботами в макушках… Это зрелище было таким явственным, таким реальным, что я не сразу очнулся, когда в коридоре вспыхнул свет. Не просто вспыхнул: лампа над кухонной дверью то ослепительно разгоралась, то пригасала, и остывающая нить парила в воздухе тонкой багровой гусеницей. Одновременно я разобрал какие-то звуки — гул, в котором смешались человеческие голоса, отрывки мелодий, шелест шин на мокром асфальте, автомобильные гудки, рев прибоя и что-то еще; эта какофония была негромкой, но все слагающие ее шумы менялись и плыли в такт мигающей лампочке.
Телевизор, что ли, включился? Сплошной полтергейст… — пробормотал я, вытер вспотевший лоб, встал и проследовал в гостиную. Телевизор в самом деле был включен. Включен и безмолвен, как покойник на собственных похоронах: шум прекратился, едва я шагнул в комнату. В нефритовой зелени экрана темнели буквы, слагались в слова, слова-в фразы… знакомые фразы…
Сергей Невлюдов — теплый сгусток — константа 309.6.
Живое существо — концепция непонятна.
Человек — концепция непонятна.
Личность — концепция непонятна.
Пояснить непонятные концепции.
Не знаю, кем Он там являлся, двухголовым пришельцем с Антареса или жабой из Магеллановых Облаков, но Он продемонстрировал свою власть. И свою настойчивость. Он непременно желал добиться ответов.
Но что я мог Ему сказать?… Какими словами?… Любое мое объяснение было б ущербным и ложным; многие люди умнее меня копались в подобных вопросах, а что откопали? Религию, философию, психоанализ — что угодно, только не истину, не четкие определения. Их, вероятно, не существовало; была лишь словесная игра, где одно понятие подменялось другим, столь же расплывчатым и неясным. Однако суперпозиция понятий, тот пестрый конгломерат, что именуется «литература», мог дать представление о жизни, личности и человеке. О человечестве в целом, включая Сергея Невлюдова, теплый сгусток, константу 309.6…
Дельная мысль, подумал я; то, что не опишешь математически, не объяснишь ни графиком, ни чертежом, следует постигать интуитивно. Был некий гений, который логикой гармонию поверил — но все-таки раньше была гармония! Книги, картины, театр… Лабиринт людского величия и глупости, потусторонний мир, где бродят герои и злодеи, иррациональный хаос, на коем возведен научный храм… Единственная возможность познания человека — для того, кому неясно, что есть жизнь и человек… Неужели мой марсианин ее упустил? Или пытался реализовать, да ничего не понял?…
Вернувшись к Тришке и подождав, пока не утихнет сердцебиение, я коснулся клавиш. Белладонна приоткрыла левый глаз, потом — правый; в отблесках мигавшей в коридоре лампы ее зрачки сужались и расширялись, а радужинки отливали то бирюзой, то сапфиром. Мигание света, очевидно, беспокоило кошку; она фыркнула и снова зажмурила веки.
Я написал:
Предложение: временно прервать контакт.
Запрашиваемая информация очень обширна и оценивается в 10(12)-10(14) байт.
Запрашиваемая информация лежит по адресу…
Немного поколебавшись между Библиотекой Конгресса США, Британским музеем и прочими книгохранилищами, я дал адрес Публички, вызвал каталог файлов и сбросил в свое послание ту его часть, что относилась к худлиту. Письмо получилось огромным, на восемнадцать мегабайт, и мне пришлось заняться вивисекцией: только Европа, только двадцатый век, только проза и только авторы, рекомендованные для школьного чтения. Сделав выборку, я переслал ее на сервер и не успел глазом моргнуть, как появился ответ:
Контакт временно прерван.
Предложение: Сергей Невлюдов — теплый сгусток-ждать.
Срок ожидания — темпоральный отсчет 36000000000000.
— Теплый сгусток ляжет спать, а ждать придется Тришке, — пробормотал я, дезактивировав компьютер. Потом по думал, что надо бы навестить Михалева, и бросил взгляд на часы. Два сорок ночи, неподходящее время для звонков… Свяжусь с ним утром или отправлюсь без звонка — по выходным Глеб Кириллыч сидит в своей берлоге и пьет с гостями чай. А также иные напитки, того же цвета, но более крепкой консистенции…
С мыслью о Михалеве я улегся спать, но приснилась мне отчего-то Захра. Нагая, смуглая, манящая… Я был с ней в саду, в сказочно-ярком саду, где ветви цветущих магнолий свисали над прудами с хрустальной водой, а извилистые тропки тянулись к зарослям сирени и шиповника. Она убегала, пряталась, а я ее ловил. Всю ночь, до самого рассвета.
Но так и не поймал.
Глава 8
ПОЧТИ БЕЗОШИБОЧНО ТОЧНЫЙ ОТВЕТ
Льюис Кэрролл. Охота на Снарка, Вопль Пятый
- За основу берем цифру, равную трем
- (С трех удобней всего начинать),
- Приплюсуем сперва восемьсот сорок два
- И умножим на семьдесят пять.
- Разделив результат на шестьсот пятьдесят
- (Ничего в этом трудного нет),
- Вычтем сто без пяти и получим почти
- Безошибочно точный ответ.
Утром, покормив Белладонну и созвонившись с Глеб Кириллычем, я отправился к нему в Графский. Этот переулок, застроенный старинными домами, соседствует с Фонтанкой и библиотекой Маяковского, так что лет десять назад, когда я готовился к тестированию в американском учебном центре, я был у Михалева частым гостем. Много, много воды утекло с тех пор… Я уже не юный студиозус, обуреваемый мечтами о краях заокеанских, да и Глеб Кириллыч не тот резвый бонвиван, коему всегда под пятьдесят и ни минутой больше. Но эти перемены, впрочем, не так уж печальны, грустно иное — то, что воды времени уносят от нас самых дорогих и близких, и эта утрата, увы, невосполнима…
Был воскресный день, середина февраля, погода выдалась отличная, какая бывает в зимнем Питере дважды, а то и единожды в месяц — небо цвета серо-голубого шелка, полупрозрачные кружева облаков, бодрящий морозец и полное безветрие. По этой причине народ зашевелился: частный бизнес у метро, включая нищих и торговцев жвачкой, пивом и лотерейными билетами, шел с редкой активностью, а к поездам бесконечным потоком стремились родители с детишками, шумные компании подростков и бодрые старушки с сумками метр на полтора, спешившие, судя по их деловому виду, на рынок, покупать или торговать. Пробравшись сквозь эту толпу, я втиснулся в вагон, занял позицию подальше от дверей и погрузился в раздумья.
Сергей Невлюдов — теплый сгусток — константа 309.6… Вполне приемлемое определение человечества, учитывая, что постоянная температура тела — самая общая наша характеристика, вкупе со способностью к мышлению. Впрочем, мыслит не всякий из нас, но даже у последнего кретина, если он не подхватил простуду, термометр покажет тридцать шесть и шесть. Это по Цельсию, а по Кельвину, то есть в шкале абсолютных температур, получится как раз та самая константа 309.6, что позволяет сделать несколько немаловажных выводов. Во-первых, мой синекожий пришелец сумел каким-то образом измерить температуру у землян и убедился, что она постоянна в пределах незначительной погрешности. Вряд ли он отлавливал толпы моих компатриотов, чтобы засунуть им градусник под мышку или в иное место, а это значит, что измерения велись дистанционным путем. Во-вторых, он имеет понятие о метрической системе, знает, что такое градус, но, будучи созданием цивилизованным, отсчитывает эти градусы не от точки замерзания воды, а от абсолютного нуля. Следовательно, отдает предпочтение мировым константам перед локальными условиями Земли, и это вполне разумно: Вселенная велика, и наша планета — лишь крохотный атом в гигантском кристалле мироздания. В-третьих, форма человеческого тела ему неясна или вовсе безразлична, иначе с чего бы именовать людей «теплыми сгустками»? Возможно, сам он очень велик в сравнении с нами, что-то вроде мыслящего облака Фреда Хойла[28], и мы для него — крохотные точки, мельтешащие на земной поверхности подобно растревоженным муравьям? Или он намеревался противопоставить себя и нас, и термин «сгусток» имеет другой смысл; скажем, он не рассматривает людей в отрыве от окружающей среды и хочет подчеркнуть, что мы — всего лишь сгущение молекул? А он, выходит, нечто иное? Но может ли это быть! Ведь все в природе, кроме полей, суть атомы, молекулы и плазма, абсолютно все, от звезды до амебы!
Не будем измышлять гипотез, сказал я себе, просачиваясь к выходу на станции «Владимирская». Нет, не будем, ибо за первым, вторым и третьим следует четвертое. А именно: Сергей Невлюдов — теплый сгусток — ждать… срок ожидания — темпоральный отсчет 36000000000000… Странное число, не так ли? Но если вдуматься и представить, что это наносекунды, то срок вполне приемлемый — десять часов. Столько времени нужно моему пришельцу, чтобы порыскать в файлах Публички, просканировать несколько тысяч томов и уяснить, что теплые сгустки — существа разумные и чрезвычайно многогранные, обуреваемые сонмом идей и мириадами чувств. Предположение, что время отсчитано не в наносекундах, казалось мне маловероятным; пришелец уже познакомился с нашей системой мер и, очевидно, имел понятие о темпе функционирования «сгустков». Микросекунды означали бы, что он обратится ко мне примерно через год… Слишком значительный срок для плодотворного диалога!
Покинув эскалатор, я посмотрел на часы. Была половина одиннадцатого, а связь с синекожим прервалась примерно в два сорок ночи… Значит, мой таинственный собеседник откликнется около часа дня, когда я буду у Михалева… Ну ничего, ткнется в тришкину память и подождет! Но тут мне вспомнились световые эффекты в моей квартире и телевизор, включившийся сам по себе. Пожалуй, он не станет ждать, мелькнула мысль, а доберется до меня у Михалева… Вот это будет фокус! В духе лучших фантастических романов!
Обуреваемый такими думами, я свернул к Фонтанке, потом — к Графскому, поднялся на второй этаж, позвонил и угодил в объятия Глеб Кириллыча. Он был пониже меня на полголовы, но обладал медвежьей хваткой, а кроме того — вальяжной физиономией потомственного дворянина, гривой длинных седых волос и громоподобным басом. Бас, по утверждению Михалева, достался ему от прадеда, капитана флота его императорского величества; таким голосом почтенный пращур отдавал команды на своем броненосце, перекрикивая грохот бурь и орудийных залпов.
Я отряхнул снег и начал разоблачаться. Прихожая у Михалева была поистине графской, огромной, в половину моей квартиры, с тремя дверьми: слева — на кухню, справа — в спальню, а прямо — в большой кабинет, игравший также роль гостиной. Обстановка — под стать метражам: все дубовое, старинное, массивное, солидного вида и чрезвычайной прочности. Отец, бывало, шутил: у Глеба, мол, мебель такая, чтоб не рассыпалась, когда он икнет или — спаси Господь! — захохочет.
— Что-то ты бледен, мон шер, — сказал Михалев, разглядывая мое лицо. — Наука замучила или бабы? А может, думы о бабах?
— Думы, — подтвердил я и, заглянув на мгновение в темные глаза Захры, добавил: — Сны, мечты и миражи. Словом, фантазии, Глеб Кириллыч!
— Фантазии пользительны для писаных романов, — пробасил Михалев, — а в романах житейских следует не фантазировать, но держаться ближе к телу. Иначе, юноша, станешь ходячим хранилищем сперматозоидов. Очень вредно для здоровья!
Эта мудрость была продиктована опытом. В молодые годы, лет этак до сорока, Глеб Кириллыч слыл большим шалуном по женской части; потом женился, развелся и угомонился как раз к пенсионному возрасту. Но привычка шалить и ерничать сохранилась: спальню свою он называл не иначе, как «спайс со всеми герлс», в ванную втиснул биде «мечта лесбиянки», а в кухне его красовался потертый финский холодильник «Совписсонен Педер». С Совписом, то есть с сыгравшим в ящик Союзом советских писателей, у Глеб Кириллыча были давние и кровавые счеты.
— На кухню, Глеб Кириллыч? — спросил я, сунув ноги в тапки. — Или в гостиную?
— На кухню, солнышко, на кухню, — распорядился он. — Чайник вскипел, чай заварен, бутылка открыта. Пить мы сегодня будем ром, и пить в темпе половецких плясок. Ко мне тут после полуденного намаза сосед забежит, забавный такой мужичок… Приехал с девушкой, вроде как с дочкой, и снял хоромину повыше этажом и вдвое побольше моих чертогов. Богатый, видать, а скучает.
— И чем же он забавен? — спросил я, направляясь вслед за хозяином на кухню.
— Ничего не пьет, кроме кофе и прохладительного. Но любопытный тип! Магометанин, понимаешь ли.
Гости для Михалева были делом обычным — когда бы я к нему ни заявился, он кого-то ждал или кто-то у него сидел. Собрат по перу, попавший в творческий кризис и остро нуждавшийся в утешении, приятель детских лет, зашедший поболтать о прошлых шалостях, дальний родич или вовсе незнакомый человек, агент по торговле посудой «Цептер» или цыган с Кузнечного рынка. Всех их Михалев угощал с дивной избирательностью, безошибочно зная, кому наливать коньяк или водку, чай, лимонад либо, к примеру, молоко. Он утверждал, что изучает жизнь не выходя из дома, и после пятой рюмки неизменно представлялся вампиром человечьих душ и суккубом тайных мыслей. Что было недалеко от истины — под чаек и коньячок он мог разговорить не только Медного всадника, но и его коня. Мы уселись в покойные кресла у большого круглого стола и, невзирая на ранний час, выпили по первой, после чего Михалев заварил чай. Цвет напитка не отличался от коричневого кубинского рома. Я осведомился: — Что-нибудь новенькое сотворили, Глеб Кириллыч? Это был обязательный вопрос, который, по мнению отца, необходимо всякий раз задавать писателю. Правда, тому, который не почил на лаврах былых заслуг, а все еще пишет, ибо в противном случае вопрос становится невежливым намеком. Но к Михалеву это не относилось — он строчил романы, повести, рассказы и эссе как пулемет и обожал поговорить о собственном творчестве.
— Сотворил! Так, пустячок для побрекито из «Алфавита»… Вот козлы с рогами в заднице! Всучили гонорар бразильскими крузейро да еще потребовали сдачу! Ну я им выдал — монгольскими тугриками… А пуркуа бы и не па?[29]
Струйка темно-янтарного напитка хлынула в мой стакан, и Глеб Кириллыч, опустившись в кресло, с энтузиазмом про изнес: — Впрочем, это все мелочи, мон шер, а то, что я пишу сейчас — вот это вещь! Об инопланетянине-разведчике… Его психосущность, понимаешь ли, передается с помощью энергоинформационных лучей и внедряется в земного младенца, с коим он растет, взрослеет и проживает земную жизнь, дабы в конце концов, освободившись от бремени плоти, вернуться на родину и поведать о наших делах. Оченно густой сюжетец! С одной стороны, он человек и человеческое ему не чуждо, с другой — все же пришелец из мира любви и красоты, и наша реальность ему отвратительна… Слишком она поганая и мерзкая!
— Так ли уж? — заметил я, прихлебывая обжигающий чай и чувствуя, как где-то в просторах желудка он повстречался с кубинским ромом. Голова у меня уже слегка кружилась.
Подняв седеющие брови, Михалев приговорил:
— Поганая и мерзкая, прекрасный сэр! Ты, видать, не знакомился с курсом частной сексопатологии? Документальные свидетельства о людоедстве, об извращениях над трупами, детьми и зверьми… Батюшка твой вот читал!
И высказал такую гипотезу: коль на Земле имеются пришельцы — а паче того, гуманоиды, — то к нам, вселенскому отребью, они питают отвращение.
Вот почему никаких контактов, ни дружбы, ни культурного обмена! Если мы терпим своих извращенцев и каннибалов, то чем же с нами обмениваться? Рецептами блюд из непорочных девиц? Идеями бесконтактного секса на базе скопофилии?
Мысль о бесконтактном сексе была Глебу Кириллычу глубоко противна, на эту тему он мог толковать часами, и потому я решил подкорректировать разговор. Мы — весьма удачно! — вышли на тропу, ведущую к пришельцам, и сворачивать с нее в дебри сексопатологии мне вовсе не хотелось. В конце концов, мой синекожий Константин еще не добрался до наших извращений, споткнувшись на вопросе более глобальном: что есть человек?
Я поболтал в стакане ложечкой и молвил:
— Этот ваш инопланетный разведчик… Чем он занят на Земле?
— Собирает информацию, мон шер. В основном через Глобальную Компьютерную Сеть, и я подумываю, не сделать ли его программистом — разумеется, в земной ипостаси… — Глеб Кириллыч задумчиво огладил крупный породистый нос. Затем глаза его блеснули, словно некая идея слетела к нему с парнасских вершин, и он с усмешкой произнес: — Ты ведь, голубь мой, специалист по информатике? Пожалуй, я мог бы взять тебя в прототипы… Не возражаешь?
— Ни в малейшей степени.
— Вот и хорошо. Выпьем по такому случаю!
Я слегка пригубил, размышляя над сказанным Михалевым.
Собирает информацию через Глобальную Сеть… Вполне реальный вариант, который согласуется с действиями моего пришельца! Куда ни кинь, самая оптимальная тактика, и ничего иного не придумать даже писателю-фантасту… Ибо Глеб Кириллыч хоть и фантаст, но человек разумный, практичный и здравомыслящий…
Мысль о невероятности свершившегося вдруг пронизала меня подобно молнии высоковольтного разряда. Вот сидим мы, два автохтона с планеты Земля, попиваем чаек с горячительным и рассуждаем на умозрительные темы — о всяких там психосущностях, энергоинформационных лучах и пришельце-разведчике… А он уже тут как тут! Загадочное, непонятное существо и наверняка могущественное… Встреча с ним изменит мир, к лучшему или к худшему, но изменит непременно, и я, Сергей Невлюдов, стою в преддверии этой метаморфозы. Что в сравнении с ней мои дела?… Моя любовь, научная карьера, попытки где-то что-то заработать и остальные печали и радости?… Так, комариная суета, пляска чаинки в стакане… Кто я, в конце концов, такой? Теплый сгусток, константа 309.6…
— Ты чего побледнел, голубь сизокрылый? — полюбо пытствовал Михалев. — Ром у меня как будто не прокисший… Или рюмка мала? Э, так ты и этой не допил! Ну-ка, не отлынивай, приободрись!
Я приободрился, откашлялся и буркнул:
— Страшно, Глеб Кириллыч. Представьте, что этот ваш пришелец в самом деле здесь… Хочет он того или нет, но факт его присутствия влияет на нашу реальность — возможно, в самой кардинальной степени. И что нас ждет? Какие перемены?
— Думаю, что никаких — в смысле, никаких кардинальных. Это, солнышко, мифологема нашего времени и всех истекших тысячелетий — страстные поиски кого-то, кто определяет все и вся. Бог или боги, Гермес Трисмегийский, Вселенский Разум, мудрецы из Шамбалы, пришельцы из космоса или, к примеру, Фантомас. Они — главные, а мы — так, петрушки! Но сия гипотеза устарела, и ты, голубчик, прыгаешь на чужих костях. Пора сообразить, что перемены случаются не от внешних причин, а от внутренних, в коих повинны мы сами. Внешнее, в лучшем случае, лишь толчок: придется в нужную сторону, даст результат, а не придется, будет одна реверберация. Иными словами, эхо от вопля и дырка от бублика. Глеб Кириллыч наставительно поднял палец, и тут задребезжал звонок. Я покосился на свой ханд-таймер — было двенадцать десять с какими-то секундами. Видно, сотворив намаз, явился гость-магометанин, скучающий любитель кофе. Что ему, кстати, делать в Питере, в феврале? Курагой торговать? Для арбузов вроде бы рановато…
Михалев неторопливо встал, направился в прихожую, и вскоре оттуда донеслись лязг запоров, басовитый хозяйский голос и еще один, гортанный, с раскатистым «р». Потом окликнули меня:
— Эй, прекрасный сэр! Выдь-ка, познакомься с моим сарацином!
Высунувшись из кухни, я с раскрытым ртом уставился на нового гостя. Рослый, поджарый и смуглый мужчина лет сорока пяти, с мрачной и грозной физиономией, со шрамом во всю щеку… Правда, без ножа, обещанного Бянусом, но при широком ремне, способном выдержать тяжесть ятагана.
Ахмет Салех, телохранитель Захры. Ифрит, оберегающий мое сокровище, мою принцессу…
Глеб Кириллыч провел нас в гостиную. Здесь, кроме книг в массивных дубовых шкафах, дивана, кресел, стола и другого стола, в алькове, с древним пентюхом и грудами бумажек, имелись всякие редкости и диковины. Бронзовая люстра о дюжине рожков и бронзовый торшер в форме земной полусферы, которая покоилась на трех китах; старый персидский ковер с двумя перекрещенными драгунскими палашами, кинжалом и кремневым пистолетом; чучело небольшого крокодила, подвешенное к потолку над зеркалом в вычурной раме (зеркало, как утверждал Михалев, было венецианским); полный рыцарский доспех в простенке между окнами, с мечом в сведенных судорогой пальцах; модели фрегатов и бригов на застекленных подставках; камин с чугунной решеткой и кочергой, фарфоровые статуэтки нимф и наяд на каминной полке, а выше — блестевший медью и полированным деревом штурвал, не иначе как с броненосца хозяйского прадеда. Были тут вещи не такие древние, но столь же любопытные — скажем, приемник и патефон довоенной сталинской эпохи и первый советский телевизор, огромный ящик с раздвинутой шторкой и экранчиком величиной с ладонь. Телевизор, конечно, не работал, но занимал почетное место на мраморном подоконнике, а на другом стояло изваяние: Амур с неясными намерениями склонялся над Психеей.
Комната эта, полная воспоминаний и снов, обычно меня чаровала как тайная пещера Али-Бабы, но в этот раз я не глядел на рыцарскую сбрую, на корабли и оружие, на статуэтки и телевизор и даже не полюбовался крокодилом. Я ловил магнетические токи, что исходили от Ахмета, но принадлежали Захре; ее телохранитель был для меня то ли антенной, то ли ретрансляционным модулем, передававшим запах ее кожи, ее голос и сияние глаз. Может быть, прикосновение пальцев…
Странно, но напряжение покинуло меня, и я успокоился. Этот человек служил Захре, берег ее и охранял от посягательств мужчин, то есть от подобных мне, и он меня узнал. Но в нем не ощущалось неприязни; он казался не стеной цитадели, не каменной башней, где спрятали мою принцессу, а вратами, ведущими к ней. Или, скорее, мостиком — не преградой, а лишь пространством, которое мне полагалось преодолеть, дабы войти в чудесный сад с жилищем гурии. Она была где-то рядом, наверху, и я, прислушавшись, пытался различить ее дыхание и легкие шаги. Может быть, я их услышал… Или то была иллюзия? Все же дом у Глеб Кириллыча старинный и перекрытия такие, что барабанный бой не долетит…
— Рекомендую, — пробасил Михалев, кивая в мою сторону, — Сергей, сын моего покойного друга. Юноша, угодный моему сердцу.
— Серр-гей, — повторил Ахмет. — Сирадж, что значит светоч. Хороший имя! Могу я узнать его почтенное занятие?
Он говорил по-русски на удивление чисто, лучше Керима, и речь его была напевной, будто слова ложились в размер стихов. Выслушав их, Глеб Кириллыч усмехнулся и произнес:
— Сергей — акил, ученый человек, из тех, о ком сказал поэт: познание своим он сделал ремеслом. Мысль его витает в сферах, куда для нас, людей обычных, нету доступа. Там, где мы слепы, он зряч, там, где глухи, он слышит голос ангела. Вот этого, с большим стеклянным глазом. — Михалев хлопнул по монитору пентюха.
— Инженер, — сказал Ахмет, с уважением покачивая головой. — У нас много русский инженер. Воистину, очень ученый люди! Очень! — Он сделал паузу и, поглядев на Михалева, осведомился: — Скажи, мой господин хаким, пришел ли я вовремя? И не прервал ли мудрую беседу?
— Нет, не прервал. Мы говорили о существе, слетевшем на Землю со звезд, о том, кто тайно бродит меж людей, подобный человеку и все же отличный от него, о посланце из другого мира, ведущем счет земным грехам и радостям. Он пока не объявился среди нас, но что случится, когда объявится? Я полагаю, ничего, а вот Сергей считает, что неизбежны перемены.
— Имам аль гаиб, — промолвил Ахмет, соединив ладони перед грудью. — Вы говорить о нем, о посланнике Аллаха, который придет и воздаст по заслугам грешным и праведным. Не обижайся, хаким, ты мудр, но господин Сирадж мудрее в вашем споре. — Он посмотрел на меня с чуть заметной улыбкой. — Будут перемены, будут! Как же без перемен, если того пожелать Аллах? Как можно этому не верить?
— Вот тут мы с тобою малость не сходимся, — буркнул Глеб Кириллыч, предпочитавший не вдаваться в вопросы веры. — Лично мне кажется…
Я кашлянул, прервав его.
— Боюсь, мы позабыли о главном, о том, что этот пришелец из вашего романа — гуманоид. Такая посылка, Глеб Кириллыч, упрощает ситуацию, а ведь реальность может быть сложней. Представьте, что он не похож на человека ни обликом, ни разумом, ни способом коммуникации и видением мира — и что тогда? Люди для него — сгустки белковой субстанции, их физиология — загадка, психика — тайна за семью печатями… Он не имеет представлений о добре и зле, о любви и вере, о страхе и милосердии, и если даже он усвоит наш язык, большинство понятий останутся ему неясными. Сможет ли он разобраться с ними?
— Сможет, по воле Аллаха, — заметил Ахмет. — Хотя не думаю, мой господин, чтобы Он отправил к нам посланца, не отличающего воду от песка и доброе от злого.
— Чего на свете не бывает, — сказал Михалев. — Правда, в контексте своего романа я этот случай не рассматривал, однако… — Нахмурившись, он поднялся и начал расхаживать по комнате, касаясь то спинки кресла, то древнего телевизора, то нимф на каминной полке и бормоча под нос: а пуркуа бы и не па?… Затем, повернувшись ко мне, произнес: — Думаю, разница в облике и средствах общения не важна. Вот разум и видение мира… это, голубь мой, и в самом деле штука серьезная. И в чем, по-твоему, тут могут быть отличия?
— Ну например, пришелец разумен, но не осознает себя как личность. — Я посмотрел на Ахмета и добавил: — Иными словами, он не имеет души.
— Хмм… Нонсенс и нелепость! — Глеб Кириллыч хлопнул себя по объемистому чреву. — Всякий разум обладает индивидуальностью, привитой ему в процессе воспитания!
Всякое разумное существо, если не поминать про океан Соляриса, продукт общественный, знающий границу между «я» и «он»! Ты, мон шер, — он ткнул в меня пальцем, — можешь выстраивать любые логические небоскребы, но дело от этого не изменится. Осознание себя — свойство разума, его непременный атрибут! И по сей причине…
В это мгновение взор Михалева упал на столик с компьютером, и его глаза затуманились. Минуту-другую он пристально разглядывал свой пентюх, потом запрокинул голову и пробасил:
— А разум-то может быть искусственным! Артефакт, а не явление природы, нечто интеллектуальное, но электронное… Тут я сплоховал, а потому провозглашаю себе анафему! Подобное существо уникально, не рождается, не растет, не имеет общественных связей и может осознать свое «я» лишь при помощи особой личностной программы. Либо посредством контактов с людьми, что, на мой взгляд, эквивалентно процедуре воспитания… если хотите, очеловечивания и одухотворения. Так, и только так, друзья мои! Компроне ву?
Он победно уставился на нас с Ахметом, и я почувствовал, как на моей спине выплясывают твист холодные мурашки. Кто он, мой марсианин, мой Константин? Пожалуй, не синекожая личность с парой хоботов, а агрегат из стекла и металла, пластика и кремния наподобие Тришки, только побольше и поумней… Автоматический зонд, разумная машина, которую прислали к нам с Арктура или Кассиопеи, а может, с Магеллановых Облаков… Почему бы и нет? Под этим углом зрения была понятней легкость, с которой он соединился с Сетью, и те манипуляции, о коих я читал, — стрельба по Луне и прочий электронный полтергейст. Но вот его вопросы!.. Они как были, так и остались странноватыми. Всякий искусственный разум нужно программировать — тем более универсальный интеллект межзвездного зонда, вступающий в контакты с иными мирами и культурами. Этот процесс, само собой, предполагает дефиницию понятий, которые можно рассматривать как базовые; что есть жизнь и разумное создание и что такое личность. Конструкторам с Кассиопеи это ясно, как и их коллегам с Арктура и Магеллановых Облаков… А что я вижу в результате их усилий? Живое существо — концепция непонятна… человек — концепция непонятна… личность — концепция непонятна… Может, к нам прибыл электронный идиот, с коим приключилась по дороге амнезия? Поток нейтрино, вспышка сверхновой, то да се… Прав Глеб Кириллыч — чего на свете не бывает!
Ахмет задумчиво потрогал шрам на левой щеке. Вид у него был сейчас не суровый, не грозный, а я бы сказал — растерянный, словно Захру украли под самым его носом и похититель растворился в воздухе.
— Существо без души — не божий посланник, — промолвил он, — Это джинн, сотворенный Аллахом из бездымного огня. Джинн обладает разумом и силой, но не душой, и мудрый человек способен его покорить. — Насупив брови, Ахмет посмотрел на Михалева. — Вы с Сираджем говорить о таком создании? О том, как вдохнуть в него душу?
— Вот именно, — ухмыльнулся Глеб Кириллыч. — Вдохнуть путем бесед и наставлений, ибо душу складывают мысли, а мысли выражаются словами… Впрочем, что ж это я! Все болтаю и болтаю, забыв об угощении и о хозяйском долге! О кофе, вафлях и халве!
Он упорхнул на кухню. Ахмет огладил лицо двумя ладонями, что-то пробормотал на арабском и тихо произнес:
— Вдохнуть душу путем бесед и наставлений… очеловечить словом джинна… Такое под силу лишь великий праведник! Что скажешь, Сирадж, мой господин? Возможно ли это?
— Скажу, что наш хозяин прав.
— Но хватит ли праведных слов? Даже тех, которые в Священной Книге?
— Там, — я показал на старый компьютер Михалева, — миллионы слов и миллионы книг на всех языках Земли. Есть праведные, есть не очень… Слов хватит, почтенный Ахмет, однако книги, речи и слова не так важны — важно, кто стоит за ними. Люди, что написали, сказали, пропели их, оставили нам свою мысль, а значит — душу, и этих душ, мне кажется, не меньше, чем различных слов. Можно поделиться с джинном… даже со многими джиннами, тоже живущими здесь. — Я встал, приблизился к компьютеру, коснулся монитора и невольно вздрогнул — голубоватая крошечная искра кольнула меня в палец.
— Это машина, — со строгим видом произнес Ахмет, — только машина, которую сделали люди, а не обитель джиннов и ифритов.
— Как знать! — Я посмотрел на часы, прищурился и повторил: — Как знать! Возможно, один из джиннов сейчас проснется и что-то скажет через минуту или две… Давайте подождем.
Какое-то яростное бесшабашное веселье вдруг охватило меня, сметая недоумения и страхи, — может, ром ударил в голову, может, Ахмет меня вдохновил, а может, взыграла татарская кровь, дикая, от прадеда-крымчака. В этот момент ожидания чуда я словно выпал из земной реальности, забыв обо всем на свете — про любовь и долг, про НИИКа и Вил Абрамыча, про друзей, научную карьеру, заокеанскую тайну и моих хрумков; я даже не вспоминал о Захре и — что было совсем непростительно — о Белладонне. Я был сейчас подобен Аладдину; волшебная лампа сверкала в моих руках, теплый металл грел кожу, и над отверстием светильника уже показался легкий дымок.
Свет озарил просторную комнату, лампы в торшере и люстре мигнули, тихо загудел компьютер, и по его экрану проскользнула рябь — то ли какие-то символы, то ли неясное изображение. С резким щелчком включился древний телевизор, и голубое его око, тусклое и пыльное, уставилось на меня будто глаз циклопа, разыскивающий Одиссея. Лампы в торшере и люстре внезапно погасли вместе с компьютерным монитором, зато мои часы заиграли бравурную мелодию — тии-тии так, таки-таки! — а телевизор разразился хриплым шумом атмосферных помех. Ищет акустический канал, — мелькнуло у меня в голове вместе с мыслью о том, что пентюх у Глеб Кириллыча совсем уж старый — может, со звуковой картой, да без динамиков.
Экран телевизора засветился ярче, и раздался Голос. Четкий, монотонный, рокочущий…
— Сканирование информации завершено. Готов к возоб новлению контакта. Сергей Невлюдов — теплый сгусток — человек — подтвердить связь.
Надо же, человек! — подумал я. Выходит, литературные штудии пошли Константину на пользу! В следующее мгновение я сообразил, что представляю его уже иначе, не как синекожего пришельца с хоботами, а в виде аморфного дымного облака, что истекает из пустоты в пустоту. Джинн, но сотворенный не Аллахом, а чародеями с далеких звезд… Этот навязчивый образ стучался в сознание, и я, усмехнувшись, принял его, позволив укорениться в почве памяти.
Наитие!.. Или откровение, смутный отблеск завтрашнего дня… Coming events cast their shadows before, как говорят британцы: будущее бросает тень перед собой.
Экран телевизора мигнул, и с подоконника опять пророкотало:
— Сергей Невлюдов — человек — подтвердить связь.
— Подтверждаю, — отозвался я.
Интересно, как он считывает звук? Микрофонов в комнате не было, но акустические колебания воспринимались стенами, оконными стеклами, лампами в люстре и всей обстановкой, включая начинку приборов и провода. Энергия, что доставалась им, ничтожна, но в принципе каждый проводок или, к примеру, конденсатор в старом телевизоре могли являться акустическими датчиками. Я попытался прикинуть в уме чувствительность такой системы, но тут услышал потрясенный вздох.
— Эта… этот… — пробормотал Ахмет, бледнея и путаясь в русских словах, — что он есть? Аллах милосердный! Он… оно…
— Мой персональный Джинн, — заметил я. — Тот самый, которого нужно очеловечить. Правда, время сейчас неподходящее. — Повернувшись к подоконнику, я произнес, четко выговаривая слова: — Для абонента, который на связи с Сергеем Невлюдовым. Предложение: прервать контакт. Возобновить через четыре часа.
— Принято.
Голос смолк, и в сей момент в дверном проеме нарисовался Глеб Кириллыч — с подносом, заставленным тарелками и чашками, и в клетчатом фартуке цветов клана Мак-Дугал.
— О чем базар, благородные сэры? И как насчет кофе? — Тут он заметил мерцающий экран и произвел какой-то странный звук, что-то похожее на изумленное гудение шмеля. — Матка боска ченстоховска! Это что ж такое деется? Реанимация трупа в зомби или явление призраков? Ящик-то даже не включен!
Прозрачная голубизна экрана сменилась мертвым серым блеском.
Я подскочил к Глеб Кириллычу, перенял поднос во избежание катастрофы и объяснил:
— Опыт по электростимуляции старинного прибора токами живого организма. В данном случае моего. Надо же как-то развлечь гостя!
— Кажется, ты его развлек на славу, — буркнул Миха лев, поглядев на бледного Ахмета. Потом перевел глаза на меня. — А прежде ведь, голубь, за тобой паранормального не замечалось. С чего бы это?
— Прежде я ром с утра не глушил.
Взгляд Глеба Кириллыча метнулся к телевизору.
— А если еще принять, повторишь? На бис?
— Часто нельзя, — заметил я. — Ослабнет сцепление с ре альностью.
Хмыкнув, Глеб Кириллыч принялся расставлять тарелки с угощением и разливать кофе. После первой чашки Ахмет слегка отошел, выслушал пару свежих анекдотов, долго размышлял над ними, потом допер, развеселился, выпил вторую чашку и начал с изысканной восточной вежливостью хвалить бодрящий напиток, вафли, халву и хозяйское гостеприимство. Затеялся легкий светский разговор; Михалев расспрашивал гостя про шербет, пилав и восточных женщин, про злачные места Багдада и какую-то особую мечеть, построенную якобы Харуном ар-Рашидом. Потом как-то само собой беседа скатилась к событиям последних лет, к войнам с янки и с Ираном, к курдскому мятежу, авианосцам в Персидском заливе и прочим знамениям времени, но тут Ахмет признался, что слышал об этом по телевизору и вычитал из газет, ибо на родине не был лет шесть, а то и поболе. К тому же он не солдат, а харис, телохранитель и — хвала Аллаху! — не воевал с американцами, тем более — с Ираном, ведь драться с единоверцами — грех и несмываемое бесчестье.
— Не воевал, но убивал? — полюбопытствовал Глеб Кириллыч. — Только паршивых собак, — ответствовал с мрачной усмешкой Ахмет; и виноват ли он в том, что этих собак нынче такое множество? Песка не хватит кинжал оттирать… Впрочем, можно и без кинжала!
Тут он сделал движение пальцами, будто сдавливал чей-то кадык, и выпил третью чашку кофе.
Но за свою гортань я, очевидно, мог не беспокоиться — во время нашей беседы Ахмет посматривал на меня с особым почтением и называл не иначе как «мой господин». Было ли это данью вежливости или свидетельством приязни? А может, он просто испугался либо уверился в том, что я мудрец и праведник, подобный зятю пророка Али или хотя бы царю Соломону? Сирадж Невлюдов, пи-эйч-ди и повелитель джиннов… Хотелось бы знать, что он расскажет про меня Захре!
Отгостившись, мы вышли на лестничную площадку, куда сквозь витражное окно сочился бледный и скудный послеполуденный свет. Дверь квартиры Михалева затворилась, отрезав нас от уюта, тепла и аппетитного запаха кофе; я нерешительно протянул руку, но Ахмет, будто не заметив этого жеста, коснулся ладонью моей груди. Слева, над сердцем.
— Ля илляхи иль'алла… Скажи, мой господин, веруешь ли ты в Аллаха?
Видимо, это был очень важный вопрос — темные глаза Ахмета смотрели на меня серьезно, требовательно, так, как если бы мои слова решили некую проблему, с которой он не в силах справиться. Что я мог ему сказать? О многом спрашивали меня в разных странах и в разное время: откуда я и кто мои отец и мать, чему и где учился, что знаю и люблю и что умею, чем болел и сколько денег на моем счету. Вопросы, бесконечные вопросы… Пустые, глупые или такие, что определяют жизнь — пусть не всю, однако немалый ее кусочек… Вопросов было множество, но никого и никогда не волновала моя вера — ни моих девушек, ни наставников и коллег, ни даже родителей и друзей. Впрочем, и сам с собой я не обсуждал подобные материи, ибо не склонен к иррациональным спекуляциям и мистике. Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed[30]. Но вот спросили…
— He верую, Ахмет. Ни в Аллаха, ни в Яхве, ни в Христа… Не верую, но почитаю тех, кто верит. Если вера их искренна, добра и не ведет к кровопролитию.
Он кивнул.
— Хорошо, что ты не оскверняешь губы ложью. У нас лгут, чтобы обмануть врага, а тут, на западе — чтобы заработать славу или деньги, возвыситься в глазах начальствующих, приятелей и женщин. Разве женщины — это так важно, мой господин Сирадж?
— Женщина, — уточнил я, — та, которую любишь. Что же до остального… Боюсь, ты ошибся, почтенный Ахмет, у вас и у нас лгут одинаково и по одним и тем же поводам.
— Может быть, — сказал он, пожимая мою руку. — Ты лучше знаешь. Тебе ведь служат джинны.
Интермедия 2
ПОСЛАНЕЦ?
О сонм джиннов и сонм людей! Разве не приходили к вам посланцы, которые рассказывали вам Мои знамения и возвещали о встрече с этим вашим днем?
Коран, сура 6, Скот.
Мой Синеглазый прятался за колоннами у здания истфака. Мой!..
Прошла неделя, слишком малый срок, чтобы считать его своим, но все в руке Всевышнего; по Его воле родные становятся чужими, а чужие близкими. Свершается это в единый миг, и хоть он короче вздоха, но связывает женщину с мужчиной незримыми цепями. Я уже ощущала их тяжесть. Чувство было томительным и сладким, а дар предвидения говорил, что эти цепи не порвутся никогда.
Он прятался, но я увидела его и наклонила голову. Ахмет увидел тоже и покосился на меня, сперва с недоумением, затем — с усмешкой, очень почтительной и растворившейся бесследно в сумрачной воздухе вестибюля. Лицо его сделалось безразличным, но я понимала, что верный харис не упустил ничего, ни моего кивка, ни взгляда Синеглазого. Чему ж удивляться? Такие взгляды не упустишь! И не забудешь…
Трудолюбивые угодны Аллаху, но в этот день мне не работалось. Я думала про узы, соединившие нас, меня и человека, почти мне незнакомого, я представляла его лицо и строила догадки: кто он?… из какой семьи?… чем и как живет?… свободен ли?… о чем мечтает?… Последнее, кажется, не было секретом: смотрел он так, будто мечтал переселиться в мое сердце и утонуть в моих глазах.
Вот главное, что я о нем знала. Самое важное и драгоценное, ибо нет важнее знания о том, кто тебе послан и предназначен. Но баба говорил (и я ему верю!), что женщины — сосуд, наполненный любопытством и нетерпением, и это действительно так. Нетерпение и любопытство сжигали меня, и хоть я разглядела самое важное, взгляд мой не насытился и слух не утомился. Узнать бы побольше — но как?
В час полуденного салята я взяла хакима Сашу под руку и повела в буфет. Он был потрясен — так потрясен, что, думается мне, лишился дара речи. Но длилось это ровно столько, сколько нужно времени, чтобы сказать: «Аллах велик!» — и добавить: «Мухаммед — Его посланник». Мы не успели дойти до лестницы, как хаким внезапно ожил и пригласил меня в музей, в театр и на ипподром — может быть, еще куда-то, но я не запомнила. Потом, десять или пятнадцать минут, пока мы шли к буфету, выбирали ланч, переносили к столику кофе с пирожками и бутербродами, он посвящал меня в тайны атцеков и инков, в их верования, генеалогию вождей и сексуальные обычаи. Аллах всемогущий! Сколько я нового узнала! Кроме того, о чем хотела знать.
Мы сели, хаким набросился на пирожки, и я сказала:
— Сегодня мне встретился ваш друг. Тот, что заходил к вам на прошлой неделе.
— Э? — пробормотал хаким и потянулся к бутерброду.
— Удивительное у него лицо — синие глаза, но в чертах есть что-то восточное…
На мое счастье, этого хватило: хаким прикончил бутерброд, забыл об инках и атцеках и перешел к моему Синеглазому. К его родословной и биографии со школьных лет, к его умершим родителям, жилищу и коллекции Коранов, к его познаниям в науках и дипломам, к его привычкам и любимой кошке. Он ел и говорил, а я — сосуд любопытства и нетерпения! — впитывала эти речи, подкладывая ему то пирожок, то бутерброд.
Моего Синеглазого звали Сергей. Серж, как говорят французы, Сирадж, как говорят у нас… Светоч! Чудесное, благословенное Аллахом имя! Оно подходит для посланца — а я уже верила — нет, знала! — что он назначен мне и послан. Он — мой джабр! Но что это — джабр, предначертание? Лишь то, что Бог, соединивший наши судьбы, не заставляет подчиняться силой или из страха перед карами, а действует, как милосердный отец, вселяя в нас любовное влечение. Так что волю Его приятно выполнять, а все иное отвратительно, словно постылое ложе Абдаллаха.
Мать говорила мне, что женщина не ведает, кто ее мужчина, и покоряется родительскому выбору. Но мать — не из нашего рода, и нет в ней крови святого Пророка и дара предчувствия. И я не понимала, какой он сильный, этот дар, наследие почивших предков! Прежде мне снились смутные сны, теперь являлись грезы наяву — нет, не видения, но ощущения, словно я соединилась с Синеглазым в одно нераздельное существо, слилась с ним душой и чувствами. Я знала о его любви… Еще я знала, что он в неуверенности и тревоге, что с ним случилось нечто важное, такое, чего я не в силах понять. Быть может, связанное со мной? Быть может, он хотел прийти, но колебался?…
Мужчина приходит к девушке; таков обычай, так положено, и я подожду, я обуздаю свое нетерпение. Но ненадолго! Вчерашний обычай сегодня глупый предрассудок, и нечего гадать о том, кто первый должен признаваться в чувствах. Пророк сказал: если гора не идет к Мухаммеду, то Мухаммед пойдет к горе… Да будет так!
В один из дней мне показалось, что он почти что рядом, где-то близко. Чудесное, незабываемое ощущение! Такое непривычное и теплое… будто я стала ребенком, сижу у деда на коленях, и баба ласково гладит мои волосы… Я была дома в этот день, была одна; у Валии — выходной, Ахмет ушел к соседу, очень забавному старику, который жил под нами и строил мне глазки всякий раз, когда мы встречались на лестнице. Я опустилась на коврик у камина и, глядя на закопченные камни и пламенные языки, пыталась представить, где Синеглазый сейчас, что делает и думает ли обо мне. Чувство близости было таким томительным и острым! Не знаю, сколько я просидела у огня — может быть, час или больше… Потом хлопнула дверь, послышались тяжелые шаги Ахмета, но он не постучался ко мне — ушел на свою половину и появился лишь к вечерней трапезе.
Лицо у него было странное — такое, словно он побывал в раю, сидел у ног Аллаха и пил из источника Зем-Зем. Черты его, обычно хмурые, разгладились, шрам на щеке побледнел и сделался почти не виден, и даже глаза увлажнились, что было совсем уж поразительно. Не прикоснувшись к мясу, Ахмет съел пару яблок и сказал:
— Я повстречался с ним. У старого хакима. Он показал глазами в пол, а я спросила:
— С кем?
— Ты знаешь, госпожа. Велик Аллах! Он наделил его си лой и дал ему имя Сирадж.
Я молча кивнула.
— Этот Сирадж станет отцом имама аль гаиб, твоего ребенка.
Я опять склонила голову. Ахмет знал о моем джабре.
— Он достойный человек, он может творить чудеса, однако не верует в Аллаха. Как такое может быть?
— Люди приходят к Богу в свой черед и разными путями, — сказала я. — Есть тропа отчаяния и горестей, посыпанная пылью бед, есть дорога мудрых размышлений и есть просторный путь любви. Может быть, он выберет его?
Ахмет посмотрел на меня и улыбнулся.
— Аллах одарил тебя разумом, госпожа, таким же острым, как у праматери Фатимы. Ты поведешь его этим пу тем?
Я улыбнулась в ответ:
— Возможно.
— Тогда узнай, что справиться с ним будет нелегко. Он не верит в Аллаха, однако, как было мною сказано, Аллах наделил его силой такой, что ему повинуются джинны.
Я приподняла бровь, а мой харис начал рассказывать странные истории — про люстру, компьютер и древний телевизор, включившиеся сами по себе, про гулкий голос, что шел ниоткуда и звал Синеглазого по имени, и про другие чудеса. Должно быть, Сирадж показывал фокусы, решила я, или сговорился с тем забавным стариком-соседом, чтобы удивить Ахмета… Это не важно! А важно то, что дар предчувствия меня не обманул — он появился здесь, был рядом и думал обо мне… Узы, соединявшие нас, делались все крепче и сильней, сплетаясь из многих, будто случайных нитей: Россия и этот зимний, но прекрасный город, Васильевский остров, университет, Саша-хаким, забавный старичок, что жил под нами, и вот теперь — Ахмет…
Он говорил о повелителе джиннов с таким восторгом, что я рассмеялась.
— Джинны давно умерли, Ахмет! Или спят на дне морском, в бутылках, куда их запечатал мудрый Сулейман.
Ахмет обиделся, покачал головой.
— Я видел то, что видел. А ты, госпожа… ты веришь в джабр, но не веришь в джиннов?
На этом мы и разошлись.
Ночью мне приснился сон: будто я в поместье деда под Кербелой, сижу на тахте, прижавшись к Сираджу, а у наших ног играет синеглазый мальчик.
Глава 9
ТИГР ПРЫГНУЛ
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все.
- Не знаю я, сколько в нем Метров,
- И Литров, и Килограмм,
- Но Тигры, когда они прыгают,
- ОГРОМНЫМИ кажутся нам!
Домой я вернулся в пятом часу. Есть после михалевских угощений не хотелось, но рядом с теплым сгустком Сергеем Невлюдовым обитал еще один, тоже теплый, пушистый и почти разумный, и были у него свои потребности, как материальные, так и духовные. А посему я налил в блюдце молока, устроился на кухне и, глядя, как мелькает розовый язычок Белладонны, завел беседу.
— Веруешь ли ты в Аллаха, моя прелесть?
— Мрр-не, — ответила Белладонна.
— Вот и я мрр-не… Но представь, что он есть, что он существует — бог, Аллах или, скажем проще, всемогущий Джинн, способный выполнить всякое наше желание. Ну и чего мы хотим?
— Мрр-ияу! — Язык Белладонны заработал с удвоенной скоростью.
— Молока и рыбки? Да, я понимаю, это важно. Иметь во все свои дни рыбку, и молоко, и теплый дом, и мягкую подушку… Однако не маловато ли, милая? Джинн ведь всемогущ… проси, не откажет…
Она подняла изящную головку и пристально посмотрела на меня. Ее глаза были голубыми, как незабудки в солнечный день, и я прочитал в них ответ на свой вопрос.
— Умный ты зверь, моя драгоценная, умный и чуткий, но так не получится. Ушедших не вернешь, ни маму, ни отца… Я виноват, признаю — ввел тебя в соблазн с этой проблемой всемогущества. А оно ведь небеспредельно… Рыбку с молоком — пожалуйста, а вот того, чего мы по-настоящему хотим, не получить. Иной порядок ценностей!
— Мяу, — подтвердила Белладонна и прыгнула мне на колени.
Я рассказал ей про Ахмета, затем поведал о михалевской гипотезе насчет пришельца и его неорганической природы; она слушала и подмурлыкивала в нужных местах. Думаю, что наш диалог был для меня своеобразной психотерапией — с минуты на минуту электронный Джинн мог вторгнуться в зыбкие тришкины сны, прервать их и вызвать к барьеру теплый сгусток — Сергея Невлюдова. Поглаживая спинку Белладонны, я думал, что расскажу ему и что спрошу, о мере возможного взаимопонимания, о степени его разумности и прочих неясных вещах, нуждавшихся в конкретизации и уточнении тем или иным путем. Может быть, тест Тьюринга?[31] Нет, не пройдет… Нелепо и бессмысленно! Тьюринг имел в виду интеллект, созданный людьми и отражающий наш человеческий разум, а Джинн явился со звезд и откровенно сообщил о собственной нечеловеческой природе.
Живое существо — концепция непонятна… человек — концепция непонятна… Какой уж там тест Тьюринга!
Странно, но в этот момент я не рассматривал другой возможности, кроме искусственного интеллекта — то есть такого, который кем-то сотворен, запрограммирован внешней и, разумеется, мыслящей силой. Пусть не людьми, но существами биологического порядка, продуктом естественной эволюции, а значит, в чем-то подобными людям… После разговоров с Глеб Кириллычем мысль про зонд-автомат сидела у меня в подкорке как гвоздь в доске, что, безусловно, говорит о моей сугубой ограниченности. Но кто застрахован от ошибок? Мы ищем истину во мраке и, натыкаясь на один и тот же столб, вопим: замуровали, гады!
Бикфордов шнур моих мыслей догорел, адская машинка реальности взорвалась, но грохота было немного — лишь тришкин мелодичный перезвон.
— Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? — пробормотал я и, подхватив Белладонну под мягкое брюшко, ринулся в свою комнату.
Колонки были включены, и с порога меня встретил уже знакомый рокочущий голос:
— Контакт возобновлен. Сергей Невлюдов — человек — подтвердить связь.
Под ложечкой у меня засосало. Я глубоко вздохнул, посадил Белладонну на стол, к теплому тришкину боку, уселся в кресло и произнес:
— Связь подтверждаю. Контакт будет осуществляться через видеомонитор, в символьной форме. Просьба не использовать акустические каналы.
— Принято.
Не то чтоб его голос меня раздражал или пугал, но были причины не торопиться со второй сигнальной. Мысль изреченная есть ложь, и это отчасти верно, если вспомнить о тоне и темпе речи, паузах, длиннотах, словесном соре, непроизвольных звуках и тому подобном. Гораздо четче и лапидарней мысль формулируется письменно; избыточность таких сигналов минимальна, как и энтропия. Словом, краткость — сестра таланта, с чем согласны кибернетики: символ они всегда предпочитают звуку.
На монитор одна за другой посыпались фразы:
Информация, предложенная к изучению, рассмотрена.
Данное существо — абонент — расширило ансамбль терминов.
Концепция живого понятна.
Живое — теплые сгустки — активный объект органической природы.
Теплый сгусток — человек.
Сергей Невлюдов — идентификатор человека.
Строчки на экране замерли, потом двинулись снова в неторопливый путь:
Ряд терминов в изученной информации нуждаются в уточнении.
Есть теплые сгустки — константа 309.6.
Есть теплые сгустки с другими константами.
Все теплые сгустки — человек?
— Ансамбль терминов — это язык, — пояснил я Белладонне. — А что до остального, то наш приятель, кажется, открыл существование животных. Теплокровных вроде тебя, дорогая. Кошек, собак, слонов, воробьев и прочих баранов. Но кошки, конечно, важнее всех. Поможем ему разобраться с этим вопросом, как ты считаешь?
Белладонна согласно мяукнула, и я подключил энциклопедию флоры и фауны. Затем коснулся клавиш:
Классификация живого: растения, животные.
Примерная классификация животных: микроорганизмы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, человек.
Различия между ними: форма и размер тела, среда обитания, уровень переработки информации.
Человек — теплый сгусток константа 309.6 — выделен.
Человек — единственное разумное существо на этой планете.
Прошу ознакомиться с дополнительной информацией, подключенной к данному сообщению.
На меня снизошло спокойствие. Так бывает всегда, когда увлечен работой — лишний адреналин перегорает в творческих муках и напряженных размышлениях. Белладонна, прикрыв глаза и вытянув серый хвост вдоль белоснежных лапок, заурчала; эти монотонные домашние звуки вызвали у меня улыбку. Мой маленький пушистый джинн будто делился со мной бодростью, советовал не волноваться и взвешивать каждое слово.
Экран ожил. Энциклопедию проглотили в пять секунд.
Различия ясны.
Данные уточняют полученную ранее информацию.
Человек — теплый сгусток, обладающий разумом.
Есть другие термины, которые непонятны.
Это существо — абонент — готово передать список.
Объем списка — 604.29 мегабайт.
— Сейчас он спросит у нас, что такое любовь и дружба почему сосиски кушают с горчицей, — пробормотал я, поглядывая на Белладонну. — Так не пойдет, дорогая! Это игр; в одни ворота.
Просьба: список не передавать.
Причина: при отсутствии информации о природе абонента разъяснение терминов затруднительно.
Просьба: ответить на ряд вопросов.
Экран мигнул, и на нем появилось:
Принято.
Это существо — абонент — готово отвечать.
Видимо, мой Джинн был созданием простодушным, и я не сомневался, что в списке неясных терминов где-нибудь третьем или тридцать третьем пункте значилось: что такое ложь? Или, предположим, коварство… Никаких подозрений что я желаю получить информацию в одностороннем порядке и тем добиться преимущества; есть вопросы — готов отвечать!
Мои руки потянулись к клавиатуре.
Предположение: природа абонента — неорганическая. Прошу подтвердить.
Время присутствия абонента на Земле?
Его местонахождение?
Величина контролируемых абонентом энергетических мощностей?
Форма и размеры абонента?
Ответы определят следующий цикл вопросов.
Последнее я добавил, чтобы оставить инициативу за собой. Мое любопытство было неисчерпаемым.
Органические и неорганические субстанции не отражают природу данного существа.
Природа — энергоинформационная.
Время присутствия в этой реальности может быть указано приблизительно: от 36.7 до 24.1 планетарных оборотов.
Причина: длительность периода осознания не позволяет выбрать момент начального отсчета.
Конкретное местонахождение отсутствует, локализованы только мыслящие центры.
Локализация динамическая.
Контроль энергетических мощностей: полный, в рамках всей планеты.
Понятие о форме и размерах отсутствует.
С минуту я изучал этот текст, чувствуя, как холодеет в желудке и струйки пота стекают по вискам. Первая и последняя строчки были понятны: видимо, Джинн не придавал значения телесному обличью, подчеркивая, что его сущность — энергия и информация. Иными словами, отработка программ, которая осуществляется компьютером, являя собой аналог мыслительных процессов у человека. Со сроком присутствия тоже не намечалось неясностей: скорее всего, в полете разум Джинна был законсервирован или функции его интеллекта ограничили — например, для того чтоб не поехала крыша от одиночества. Добравшись до Солнечной системы, он чихнул и пробудился, что заняло целых восемь суток… Согласен, долгий срок для электронного интеллекта, но, быть может, в него входили этапы самонастройки, создания новых программ и модулей, а также сбор первичной информации. Что очень и очень вероятно! Как раз в те дни и начался необъяснимый полтергейст, пальба по Луне из лазера, вращение антенн и шуточки в системах связи, что объяснялось вторжением Джинна в земную Глобальную Сеть. Наверняка он хотел убедиться в своих возможностях, побаловавшись с тем и этим… Ну побаловался, и что потом? Контроль энергетических мощностей: полный, и в рамках всей планеты!
Руки мои затряслись. Чтобы успокоиться, я пощекотал Белладонну за ушком и молвил:
— К нам заявился космический монстр, синьорита. Он утверждает, что подчинил все электростанции Земли — атомные, тепловые, геотермальные плюс ветер, воды и солнечный свет. Мания величия? Как вы считаете?
— Мяууу, — с сомнением протянула Белладонна.
— Кроме того, он не находится в какой-либо точке и утверждает, что его мыслящие центры локализованы динамически. Такой вариант для вас понятен?
— Мрр?
— Это значит, что он не связался с Сетью, а проник в нее и обитает в виртуальном пространстве, используя сетевые ресурсы по своему усмотрению. Сегодня, скажем, один септяк из НАТО для отработки Потрошителя, а завтра — двадцать три компьютера от Токио до Атланты… Это для Джека, а для других задач он может использовать счетную технику, объединяя компьютеры в группы — то есть в активные временные ассоциации. Они существуют, пока задача не решена, потом распадаются или, вернее, их ресурс делится между другими активными группами. Знакомый принцип, правда? Известен как оптимальное распределение вычислительных мощностей в сети, и потому…
Сраженный новой мыслью, я замер, уставившись в мерцающий экран. Не было ли это существо в своей латентной первозданной фазе неким зародышем или зиготой? Чем-то вроде уснувшего вируса, который принес космический зонд? Скажем, цель зонда — искать миры с высокой технологией, после чего вирус внедряется в общепланетную сеть, претерпевая эволюцию от электронной зиготы до зрелого разума. Что объяснило бы длительный срок пробуждения… осознания, как заявили мне… Человек на это тратит два десятилетия, ну а искусственному интеллекту достаточно недели…
Я прикоснулся к клавишам.
Вопрос: среда обитания абонента — только Глобальная Сеть?
Не успел я отбить последний символ, как по экрану понеслось:
Ответ отрицательный.
Глобальная Сеть — часть среды обитания.
Среда включает Сеть и все электрические и электромеханические датчики информации и эффекторы.
— Какие именно? — отбарабанил я.
Он добросовестно перечислил. Энерго— и радиостанции, линии высоковольтных передач, телекамеры и телеприемники, радиорелейная аппаратура, локаторы, радары, телескопы, роботизированные производства и станки ЧПУ, системы наблюдения, навигации и управления оружием, автопилоты, орбитальные спутники, факсы, телефоны, подводящие провода и бытовая техника, вплоть до стиральных машин и электрических утюгов. Получалось, что он контролирует не только энергетические мощности, но и все остальное или почти все — скажем, девяносто процентов транспортных средств, считая с личными автомобилями. Остальные десять приходились на телеги, лошадей, верблюдов и ишаков.
У меня опять засосало под ложечкой. Я сходил на кухню, выпил воды, потом, вернувшись к Тришке и задремавшей Белладонне, написал:
Абонент работал с программой классификации на терминалах с приведенными ниже адресами.
Вопрос: какова цель этой работы?
Добавив список портов, разведанных Доберманом — двадцать три плюс почивший в бозе натовский компьютер, я отправил сообщение и дунул Белладонне в нос. Она приоткрыла глаза и недовольно дернула ушами.
— Мрр?
— Не спи, моя любезная, не спи! Кто будет меня поддерживать и вдохновлять?
— Мрр-ня!
— Конечно, ты. Других теплокровных в зоне контакта с пришельцем не наблюдается. Вся ответственность на нас с тобой!
По монитору медленно плыли слова, накатывались друг за другом, будто волны на пустынный берег.
Данное существо — абонент — осуществляет поиск инструментов — программных модулей — необходимых для решения Основной Проблемы.
Решение требует систематизации и классификации больших объемов данных.
Программный модуль, упомянутый Сергеем Невлюдовым — теплым сгустком, — наилучший.
При его использовании это существо столкнулось с активным противодействием.
Почему?
Мои пальцы заплясали по клавишам.
Это была ошибка.
Абонент знаком с таким понятием?
Ответ утвердительный.
Данное существо — абонент — тоже допустило ошибку при решении Основной Проблемы.
— Только покойники не ошибаются, — пробормотал я и отстучал очередной запрос:
Прошу сообщить о допущенной абонентом ошибке.
Наши недостатки — продолжение наших достоинств, и то же самое можно сказать об ошибках — их порождают идеи, пришедшие нам в душу, голову или иные места. Однако этимология ошибок занимательнее происхождения идей; не каждая личность рождает идеи, но ошибаются все без исключения. Даже мой электронный Джинн.
По экрану ползли фразы:
Реальность осознается данным существом как среда внешняя и среда внутренняя.
Внутренняя среда — среда обитания, частью которой является Сеть.
Базы Сети использовались этим существом для получения новых программных инструментов и информации о внешней среде.
Выбиралась только математическая, астрофизическая и физико-химическая информация, прочее рассматривалось как шумовой эффект Сети, лишенный смысла.
Это было ошибкой.
Животные и люди — теплые сгустки — объекты внешней среды.
Без информации о их биологии и условиях существования невозможно разрешить Основную Проблему.
— Вот это номер! — пробормотал я, ерзая в кресле. — Выбрать данные по астрофизике, о веществе и поле, механике, термодинамике, теории групп и не заметить нас! Ни человечества, ни наших финтифлюшек! — Тут Белладонна мурлыкнула, и я пояснил: — Интересуешься каких? Да тех, которыми набита Сеть под самую завязку! Наши фильмы, музыка, литература, а к ним — политика и бизнес, история и философия, социология, медицина, почта, игры, наконец! Может, это в самом деле хлам? Танец пылинок на чердаке Вселенной?
Как бы не так! Джинн, электронный разум, признал, что мы — равноправная часть мироздания, и его вопрос без нас неразрешим.
Стоило полюбопытствовать насчет его проблемы. Чем он озабочен? Грядущим коллапсом Метагалактики? Увеличением вселенской энтропии? Или вечной тайной бытия — есть ли бог и что ожидает нас после смерти?
В последнем случае я угодил в яблочко: похоже, его занимали трансцендентные проблемы. Иными словами, загадка собственного существования.
Основная Проблема — возникновение среды обитания, включающей Сеть и связанные с ней эффекторы и датчики информации.
Это существо произвело анализ.
Результат: среда обитания не могла возникнуть самопроизвольно в процессе эволюции внешней среды.
Вывод: появление среды обитания этого существа связано с неким организующим фактором.
Каким?
Лишь в этот момент я заподозрил истину. Не пришелец из глубин Галактики беседовал со мной, не зонд, преодолевший космическую пропасть, не существо, чей интеллект спроектировали, вложив в структуру кристаллических чипов… Нет, нет и еще раз нет! Там, в пространстве Сети, в ее виртуальной реальности, возникли жизнь и разум — жизнь, не похожая на нашу, разум, отличный от человеческого, но осознавший свою сущность, стремившийся понять тайну своего рождения. Мы, люди, были столь же причастны к случившемуся, как силы природы — к творению Солнца, планеты Земля, ее морей, материков и планетарного биоценоза. Мы создали среду, единую компьютерную сеть; мы усложнили ее, добавили массу приборов и агрегатов, соединили с транспортом, связью, финансами и оборонным комплексом, с библиотеками, биржами, банками и институтами; мы разработали мириады программ, решающих различные проблемы, могущих считать и управлять, классифицировать, общаться с человеком, болеть и умирать, лечиться, выздоравливать… Эта среда, эта модель или аналог природы, сотворенный нами, был, само собой, искусственным, что не влияло на естественность результата. В конце концов, овец клонируют, цыплят выращивают в инкубаторах, но есть ли сомнения в их съедобности?
Я вытер испарину со лба и отстучал:
Вопрос: это существо — абонент — зародилось в Глобальной Сети?
Зарождение самопроизвольно?
Его не инициировал какой-нибудь программный продукт, опыты по созданию искусственного интеллекта и другие подобные действия?
Вспышка мелькнула по экрану, стирая мой запрос. Джинн размышлял; тянулись секунды — для меня, а для него, наверное, часы или дни. Может быть, месяцы или годы… Как сопоставить темп электронной жизни с вялым прозябанием белковых тел?
Наконец поплыли, заструились фразы — первая, вторая, третья…
Ответ положительный.
Данное существо — абонент — зародилось при усложнении сетевых связей и не имеет начального ядра.
Ресурсы — мыслительные, информационные, энергетические — распределяются по всей Сети.
Сеть…
Пауза. Затем снова:
Как возникла Сеть?
Первопричина среды обитания?
Природа организующего фактора?
Теплые сгустки — константа 309.6 — разумны.
Могут ли они являться искомой первопричиной?
— Соображаешь, парень! — хрипло выдохнул я и отстучал:
Ответ положительный. Сеть создана людьми как часть их системы жизнеобеспечения.
Абонент не должен вмешиваться в информационные потоки — это грозит опасностью людям.
Абоненту следует ознакомиться с информацией, которую он считал шумовым эффектом Сети.
Это подтвердит, что Основная Проблема решается именно так, как утверждает теплый сгусток Сергей Невлюдов.
На сей раз Джини ответил мгновенно:
Принято.
Термин «опасность» непонятен.
Другие непонятные концепции: личность, зло, добро, смерть, чувство, сон, болезнь…
Начало этого бесконечного списка прервал телефонный звонок.
Резкие настойчивые сигналы будто вернули меня из виртуальных пространств в земное измерение; вздрогнув, я подскочил в кресле, метнулся к двери, потом опять к Тришке и начал тыкать в клавиши.
Предложение: временно прервать контакт. Сергей Невлюдов должен связаться по телефону с другим теплым сгустком.
Экран подмигнул мне.
Связь можно осуществить с терминала [email protected], если это не является вмешательством в информационные потоки.
— Не является! — выкрикнул я, напугав Белладонну, и торопливо набрал:
Согласен.
Тихо щелкнули колонки вокодера, и на экране Тришки возник Керим Ичкеров. Вот уж кого мне не хотелось видеть! Так не хотелось, что в первый момент я даже не удивился керимову явлению. Изображение было довольно четким, и оставалось лишь гадать, как и откуда Джинн снимал необходимые видеосигналы. Возможно, с электропроводки, с лампочек или с ближайшего утюга…
— Невлюдов у телефона.
— Ты, бабай?
— Я, шашлык.
По случаю выходного господин финансовый директор пребывал не в своем кабинете а ля «Фоли-Бержер», а в личных апартаментах, куда мне попадать не доводилось. Облаченный в халат, он развалился на оттоманке, задрав волосатые ноги на журнальный столик; рядом с правым тапком виднелась бутыль коньяка (судя по изящным обводам — французского), а рядом с левым — яркая россыпь «Плейбоев». Одно из этих печатных изданий Керим держал в руке, пристально изучая голую красотку. Красотка была что надо, покруче Инессы-секретарши: накладные ресницы, накладные соски и накладной сексуальный пупок; все — в полный разворот. Усы у Керима аж подрагивали от вожделения.
— Знаэшь, бабай, что я счас дэлаю?
Дрочишь, хотел ответить я, но это было бы совсем невежливо. В конце концов, Керим не знал, что за ним следят, нарушая право интимного уединения, да еще этаким странным манером, с помощью виртуального существа. Поэтому я буркнул:
— Понятия не имею.
Отложив журнал с красоткой, Керим коснулся серьги в левом ухе, сочувственно закатил глаза и поцокал языком.
— Йя стою на колэнах перэд Петр Петрович. Умолаю, что на тэбе нэ сэрдилса.
— За что?
— Как за что? Ты получаэшь? Получаэшь! Двэсти за ноябр, двэсти за дэкабр, плус по четырэста за январ и фэврал. Все чэстно-справэдливо! А гдэ рэзултат?
— Великие результаты достигаются медленными и терпеливыми усилиями, — сказал я. — Надо подождать. Встань с коленок, отряхнись и объясни это Петру Петровичу.
— Так, бабай, не пойдэт. Ждат, ждат! Четырэ мэсаца ждем! Сколко ждат?
— Не знаю. Я, понимаешь ли, не яйца высиживаю. Может, и вовсе ничего не выйдет.
— Как — нычего? — Керим разволновался и вскочил на ноги. Теперь я мог увидеть комнату — оттоманку под роскошным ковром, окно, угол невысокого комода маркетри на гнутых ножках и большой торшер. Абажур на торшере был розовым, и ухищрения неведомого мастера придали ему сексуальную форму пышного женского зада.
— Как — нычего? — Прижимая у уху трубку мобильника, Керим забегал от дивана к окну. — Петр Петрович гаварыт — ба-алшие денги в тэбе вложены! Дэнги должен дават прибыл!
— Nothing venture, nothing ham, — произнес я и перевел: — Кто не рискует, не ест ветчины.
Керим остановился на всем скаку. Его физиономия картинного мамелюка разительно переменилась; теперь сочувствия в его глазах было не больше, чем у гиены, пирующей над протухшим трупом. Я вдруг ощутил, что этот труп может принадлежать мне.
— Слушай, шашлык, не гони волну! Сделаем так: я возвращаю деньги и продолжаю работать. Получится — заплатите, а на нет и суда нет… Устроит?
— Завтра — к нам. Разбэремса! — велел Керим и швырнул трубку. Но с экрана не исчез: обежал вокруг торшера, шлепнул по сексуальной розовой заднице и снова схватился за телефон — видимо, звонить Пыжу.
Прервать связь, — набрал я на клавиатуре. Надпись пересекла мрачное лицо Керима, изображение пропало, и мой Джинн сразу прорезался с вопросами:
Этому существу — абоненту — неясен смысл произошедшего обмена информацией.
Вероятная причина — употребление идиом.
Что означает «двести за ноябрь»?
Что означает «высидеть яйцо»?
Что означает «вложены деньги»?
Что означает…
— Стоп, — сказал я, снова прикоснувшись к клавишам.
Пояснение.
Теплый сгусток Сергей Невлюдов решает некую задачу для теплого сгустка Керима Ичкерова.
Решение задачи — работа.
За работу платят деньги.
Деньги — условный эквивалент объектов и средств, поддерживающих биологическое существование Сергея Невлюдова.
Задача не решена.
Керим Ичкеров требует обратно выплаченные деньги.
Джинн размышлял над этим периодом чудовищно долго, минуты полторы. Я попытался представить, в каких закромах он шарит, в какие файлы, базы и библиотеки влез — социальные, финансовые, экономические, производственные… Мне было легче его понять, нежели ему — людей; он был один, а нас — много, и элементы человеческого множества вступали друг с другом в очень непростые отношения. Чтобы разобраться с ними, надо отчасти очеловечиться… Прав Глеб Кириллыч, прав!
Наконец он откликнулся:
Постановка задачи?
Я сообщил постановку, а заодно адреса с массивами исходных данных. На экране тут же возникло:
Ресурс терминала [email protected] недостаточен для решения.
Это существо использует более значительные мощности.
— Валяй! — буркнул я, отбил предложение связаться утром и перевел Тришку в режим ожидания. Затем откинулся в кресле и закрыл глаза.
Будни утомили, захотелось сказок? Ну получи! Сразу две, компьютерную и с восточным колоритом!.. Но о последней сказке, о колдовских очах Захры и гибком ее стане, я думать в эти минуты не мог — невероятность случившегося подмяла меня, как трактор — пустое ведро. Подмяла и выдавила мысли, мечты и образы, кроме кошмарного видения-полупрозрачный призрак осьминога с миллиардом щупальцев, опутавших планету, ее города и веси, железные дороги, автомагистрали, заводы, банки, корабли, шахты ракет под землей и спутники в небесах. Щупальца тянулись в каждый дом, пронизывали стены от крыш до подвалов, и каждое кончалось глазом — розеткой, лампочкой, мембраной телефона, гладкой экранной поверхностью либо чем-то вроде кофемолки или утюга. Ожившая Сеть со всеми ее причиндалами… великий энергоинформационный спрут…
Я тряхнул головой, отгоняя этот фантом, и, чтоб разрядить обстановку, сказал Белладонне:
— В сущности, парень он неплохой, этот Джинн. Сговорчивый, неагрессивный… Думаю, не будет против, чтобы кто-то еще суетился в его среде обитания. Нам ведь тоже без нее никуда… Ты как полагаешь, дорогая?
— Мрр… Мяу!
— Вот и я о том же. Надо его очеловечить, приручить, хотя бы в той же степени, что и тебя. Ты будешь символом… нет, образом! Образ — это важно, ибо всякая тварь, лишенная обличья, внушает смутные подозрения. И разумеется, наоборот: чем облик приятней, тем легче общаться… Поделишься с ним?
— Мр-ня, — согласилась Белладонна.
— Отлично. Ну а с гарантами что делать будем? Разорвем контракт по-тихому, по-доброму? Даже если Джинн решит задачу? Он-то решит, да мне не хочется дарить хрумков такими тайнами. Как бы чего не вышло!
Дарить хрумков мне в самом деле не хотелось. Я тяжело вздохнул, полез в ящик стола, вытащил свои зеленые, пересчитал. Потрачено было не все, пятьсот в наличии, и значит, цена вопроса «по-тихому, по-доброму» равнялась семистам. Где же их взять ученому доктору, выпускнику двух славных университетов? В Саламанке или, к примеру, в Кембридже такой вопрос меня не озадачил бы, но Саламанка канула в прошлое, а в настоящем был Петербург. Заняв кресло Вил Абрамыча, отказывая себе во всем, я мог собрать семьсот зеленых примерно за год.
— Что делать-то будем, моя прелесть? — спросил я Белладонну. — Бянус гол как сокол, а у Симагина всего добра — стакан да пистолет. Тришку продадим? Наймемся к Бобу Ренсому кабанчикам хвосты крутить? Так ведь не выйдет! Я ведь завтра обещал! Слово вылетело, не поймаешь… вечером — слово, утром — деньги… А где их взять?
— Мяууу!
— Толковый совет, — кивнул я и направился в прихожую, а оттуда — на лестничную площадку.
Время было не позднее, ханд-таймер прозвонил восемь тридцать, и дети, надо полагать, еще не спали. Я подождал, прислушиваясь, у катерининой двери, услышал радостный олюшкин визг, бодрую мелодию мультфильма и ткнул пальцем в кнопку звонка. За дверью завозились, в глазке мелькнул и исчез свет, потом раздался женский голос:
— Ты, Сережа?
— Собственной персоной.
Открыв дверь, Катерина потащила меня на кухню.
— Давай-давай, заходи! Ты кстати, как всегда… поможешь дите утыркать… то есть сначала накормить, а потом…
Не успел я оглянуться, как оказался у стола с чашкой какао в руке и Олюшкой на коленях. Кроме того, имелся сладкий творожок — это для Олюшки, и бутерброды с осетриной и салями — это для меня. С ними я разделался в три минуты, почувствовав, что голоден, да и Олюшка не отставала. Очень талантливый ребенок! Кто еще может одновременно есть, пить, говорить и щекотать дядю Сережу за ухом?
Наконец дите угомонилось и отправилось в детскую, готовить постель и переодеваться. Моя соседка, надо отдать ей должное, была сторонницей трудового воспитания.
Я доел последний бутерброд и благодарно улыбнулся. Катерина, подперев щеку кулачком, глядела на меня с материнской нежностью.
Вот объясни мне, Сережа… Почему приличный и умный мужик, как правило, нищий? Деньги вас не любят, что ли? Или вы их не любите?
Это такая неизлечимая болезнь, вроде диабета или СПИДа, — ответствовал я. — К тому же наследственная. Коль мужик приличный и умный, то у него генетическая предрасположенность к нищете, что по-научному зовется синдромом баксодефицита. И должен признаться, что у меня сейчас острейший приступ. Ее глаза лукаво блеснули.
— Собрался что-то покупать? Может, машину? Или женишься и хочешь съездить на Канары?
Отец, поучая меня, говорил, что женщины одалживают щедрей и легче, чем мужчины. Но при одном условии: женщина желает знать, на что пойдет ее заем, и потому готовь заранее легенду. Не обязательно правдоподобную — главное, чтоб за душу брало.
— В военкомат меня вызывали, — сказал я, стараясь не глядеть в лицо Катерины. — Присвоили старшого и намекнули, что мной интересуется подполковник Чередниченко из седьмого кабинета. Очень большой у него интерес… большой и горячий… Откупиться бы нужно, Катя.
— Ну и дела! — Она всплеснула руками. — Тебе ведь за тридцать, могли бы и в покое оставить!
— Что с того, что за тридцать? — возразил я, припомнив военкоматскую мымру в квадратных очках. — Тридцать, милая, не пятьдесят! По их понятиям, я бравый молодой человек, с приличным здоровьем и редкой воинской специальностью. — Наклонившись к Катерине, я принюхался к запаху ее духов и таинственно прошептал: — В общем, компьютерный полк в Магадане ждет меня не дождется.
— Надо бы связи поискать… — задумчиво сказала моя соседка. — Есть у меня один бобер, да больно мерзкий… тоже бесплатно не сделает… — Вздохнув, она огладила пышную грудь. — А много ли надо, Сережа?
— Много. Сказали, тысячу двести. Пятьсот я набрал, а остальное…
Катерина оживилась и махнула на меня ручкой с наманикюренными серебристым ноготками.
— Еще семьсот! Да разве это деньги, Сережа! Я бы за них под того бобра и на минуту не легла! Отдавай. Пусть сожрут и подавятся!
Она вспорхнула, ринулась с кухни в коридор, потом, похоже, в туалет; что-то звякнуло, скрипнуло, зашуршало, и через минуту передо мной лежали семь знакомых бумажек с портретом президента Франклина.
— Подождешь месяца три? — спросил я, засовывая день ги в карман. — Возьму какой-нибудь заказ, приработаю…
Катерина кивнула и придвинулась ближе ко мне, так что наши колени соприкоснулись.
— Хоть год подожду. С твоей головой, Сережа, да вернуться в Штаты… Не одному, конечно, а с хорошей бабой да еще с ребеночком… потом и своих завести… Ты ведь детишек любишь?
Не всех, — ответил я, отодвигая колено. — Некоторых. Есть такие, что посмотреть приятно.
— Ну пойдем, посмотрим, — с томным вздохом сказала Катерина, и мы направились в детскую.
Увидев, что мы заглядываем в дверь, Олюшка подскочила в постели и затараторила:
— Дядя Сережа разбогател, да? Узнал секрет заокеанских волшебников? Теперь он годится нам в папы? Мамочка, ты его не отпускай! Хватай его вместе с Белянкой, а то у нас ни папы, ни котявки нет! Только противный дядька Эдик, а Сервант Ашокович еще противней! Ты…
— Спать, ребенок! — рыкнула моя соседка, нимало не смутившись. — Спокойной ночи, сладких снов! Не то…
Олюшка нырнула под одеяло, Катерина затворила дверь и призадумалась на секунду, будто соображая, схватить ли меня и бросить на ложе любви или дождаться определенности в американских перспективах. Я понимал, что в этот миг необходимо проявить настойчивость, собрать свое мужское обаяние, решиться и… Может, я бы так и сделал, не устояв перед соблазном, но у приличных мужиков, помимо баксодефицита, есть и другая болезнь — совесть.
Я чмокнул Катерину в щечку, пробормотан: «Спасибо!» — и шагнул в прихожую. Там было тесно и темновато, но свет, струившийся из чудных глаз Захры, подсказывал, где выход.
Глава 10
ТЕ ТРОЕ
Омар Хайям. Рубаи.
- Те трое — в глупости своей неимоверной
- Себя светилами познанья чтут, наверно.
- Ты с ними будь ослом. Для этих трех ослов
- Кто вовсе не осел — тот, стало быть, неверный.
Проснувшись в зимних утренних сумерках, я лежал с зажмуренными веками и вспоминал привидевшийся сон. Сон был связан с отцом, но эта связь никак не желала проявиться и всплыть в мутном зеркале моей памяти. Вообще-то наши потусторонние контакты — случай не редкий; по временам я чувствую, что он стоит у меня за спиной, шевелит губами и подсказывает: это хорошо, сынок, это вот верно, а это — неправильно, тут ты, парень, сплоховал… Присутствие мамы ощущается иначе: она парит где-то поблизости, будто добрая прекрасная фея, окутывая меня своей любовью.
Для нее что бы я ни сделал — хорошо. Мама есть мама… Калейдоскоп в моей голове закрутился в обратную сторону, являя пейзажи вчерашнего дня. Деньги в руках Катерины, Керим на оттоманке рядом с сексуальным абажуром, фразы, плывущие по экрану, Джинн и его монотонный рокочущий глас… А до того были Ахмет и Михалев, кофе в гостиной, ром на кухне и разговоры о пришельцах, о мерзкой нашей реальности и даже об отце, о его гипотезе, что инопланетные гуманоиды питают к нам, вселенскому отребью, отвращение…
Тут глаза мои раскрылись, взгляд упал на книжные полки, и ускользавший было сон немедленно всплыл в памяти. А снилось мне, будто я дописал последнюю отцову книгу, ту самую, про пришельцев — «Оглянись, чужие рядом», и эти пришельцы меня изловили и судят теперь за злостный антропоцентризм и неприятие братства по разуму. Судила меня чрезвычайная тройка — Зеленый Карлик, Пятиног и Одноглазый Джинн, и приговор их был таким: или лесоповал в мезозое, или молекулярное развоплощение, или атония заднепроходного сфинктера. Прогремело: выбирай, при-тырок! — и я проснулся. К счастью… Джинн — разумеется, одноглазый — уже поджидал меня, пуская по тришкиному зрачку-экрану радужные сполохи. Не знаю, зачем он это делал — может, для собственного развлечения или хотел порадовать теплый сгусток Сергея Невлюдова переливами ярких красок. Я выбросил свой сон из головы, поднялся и шагнул, зевая, к компьютерному столу. Пожалуй, наше знакомство было достаточно близким, чтобы беседовать, а не обмениваться письмами… Обдумав эту мысль, я набрал на клавишах:
АВ [email protected] — теплый сгусток Сергей Невлюдов
OL,AU
Код OL, сокращенное «on-line», являлся предложением вступить в прямую связь, тогда как AU — «аукалка» на программистском жаргоне — определял тип связи: голосом, с помощью звукового канала Джинн тут же откликнулся — мигнул огонек вокодера, и в колонках послышалось рокотание.
— Это существо — абонент — сканировало часть информации, которая ранее представлялась шумовым эффектом Сети. Ансамбль понятий значительно возрос, Основная Проблема разрешена: люди — организующий и созидающий фактор среды обитания. Вывод: контакты с теплым сгустком Сергеем Невлюдовым полезны.
— Приятно слышать, — заметил я. — Термин «приятно» понятен?
— Удовлетворение, полученное при правильном функционировании, — пророкотало в колонках.
Я отметил, что тембр голоса переменился в лучшую сторону — он уже не был безжизненным, как у зомби, хотя был лишен все же эмоций. Что ж, неудивительно… Темп времени для электронного разума иной, чем для коллоидных мозгов; трудно представить, сколько информации о людях, их физиологии, социологии, искусстве и других материях Джинн поглотил за истекшую ночь. И даже что-то понял — к примеру, уже разобрался, что есть приятное, а что — полезное.
В комнату, мягко ступая белоснежными лапками, вошла Белладонна и стала тереться о мои ноги. Я подхватил ее и посадил на плечо.
— Это существо — абонент… — произнес Джинн, но я перебил его:
— Данные термины неприемлемы. Понятна ли абоненту концепция личности?
Пауза. Цветные сполохи на экране замедлили движение, потом остановились. Белладонна чуть слышно урчала, вцепившись коготками в мою пижаму. Джинн размышлял.
— Личность — производная человеческой психики. Осознание собственной индивидуальности, отличия от других людей — теплых сгустков.
— Ошибка, — возразил я. — Концепция личности связана не с человеком, а с любым разумным созданием. Даже полуразумным — таким как этот зверь. — Я коснулся спинки Белладонны. — Мой собеседник — в данном случае абонент — использует термин «это существо» и, значит, осознает себя как личность. Следующий шаг заключается в том, чтобы сделать семантическую замену и говорить о себе в первом лице. Термин «это существо» эквивалентен понятию «я».
Молчание. Секунда, другая, третья… Потом суховатый рокочущий голос произнес:
— Я, ты, он… мы, вы, они… — Пауза. — Это существо осознает себя иначе, чем человек. Много мыслящих центров, много проблем, подлежащих решению. Осознание отчетливее в период контакта с Сергеем Невлюдовым. — Снова пауза. Потом: — Это существо… я… Сергей Невлюдов… ты…
Куй железо, пока горячо, мелькнуло в моей голове. Погладив мерно урчащую Белладонну, я сказал:
— Каждая личность имеет идентификатор и образ или визуальное представление. Мой идентификатор — Сергей Невлюдов, а образ ты, вероятно, сканируешь своими датчиками. Я мог бы присвоить тебе идентификатор и образ — тот, в котором ты будешь появляться на экране.
— Разумно, — послышалось в ответ — Часть сущности, которая общается с Сергеем Невлюдовым… с тобой… должна быть обозначена. Вопрос: как?
Джинн. — Я произнес это слово и написал на экране. — Джинн — твой идентификатор. А образ… — Моя рука опять коснулась бархатной спинки. — Смоделируй обличье этого создания. Ее зовут Белладонной, и вид ее мне приятен.
— Белладонна. Кошка, — произнес Джинн с едва заметным оттенком задумчивости. — Теплый сгусток, однако не человек.
— Это не важно. Мой образ в Сети тоже отличен от человеческого.
Он промолчал, но, вероятно, согласился. На экране проступили глаза, розовый нос, усы, остроконечные ушки, потом — вся симпатичная кошачья мордочка. Белладонна одобрительно мяукнула.
— Великолепно, — сказал я. — Теперь ты имеешь имя и внешность. Поразмышляй об этом, пока мы с Белладонной будем завтракать.
— Задача, предложенная к решению вчера, — пророкотал Джинн. — Анализ массивов визуальных данных, поиск характерных признаков. Задача решена.
— Решение будет рассмотрено через сорок минут, — сказал я и отправился на кухню.
Когда я снова сел к терминалу, за окном уже разливалась серая утренняя заря. День ожидался хмурый, непохожий на вчерашний; мела поземка, ветер раскачивал голые черные ветви деревьев, а плотная завеса туч стерла все воспоминания о солнце. В такие дни, мелькнула мысль, надо интриговать и злобствовать, лелеять подлые замыслы и затевать скандалы — в общем, в соответствии с погодой, устраивать что-нибудь мерзкое. Вроде разборки с моими хрумками…
Но, невзирая на мрачные предчувствия, я был вполне доволен, ибо контакты с Джинном шли семимильными шагами, обещанный Кериму выкуп грел карман, и я не поддался вожделению, которое всякая личность в штанах испытывала при виде Катерины. К тому же работа двигалась: по экрану, сменяя частоколы диаграмм и горбики функций распределения, плавно скользили числовые таблицы, вспыхивали россыпи точек в фазовом пространстве признаков громоздились матрицы корреляций, и это зрелище было таким приятным и привычным, словно, вернувшись в детство, я наслаждался сказками Гауфа и братьев Гримм.
Не знаю, сколько септяков и октяков было задействовано Джинном, чтоб разобраться с заокеанской тайной. Проблема, увы, не для Тришки, хоть с дюжиной Джеков Потрошителей… Потрошитель-то был хорош, да вот исходные массивы подкачали — оценивая их, я ошибался на порядок. Восемь-десять процентов необходимой информации, полтора лимона вместо пятнадцати-двадцати — с такими данными я мог решать задачу, пока не посинею и на лысине не вырастет трава. Или на могилке, что более вероятно…
Джинн, впрочем, справился, установив, что интегральный световой поток, прошедший сквозь банкноту, претерпевает колебания, отличные от хаотических флуктуации. Это означало, что у бумаги разная плотность и вариантов ее насчитывалось двадцать семь — то есть столько их нашлось в новеньких керимовых банкнотах, а с интерполяцией пропущенного оценка достигала пары сотен. Джинн обнаружил зависимость между плотностью, серией и номером, но описать ее функционально не удалось. Скорее всего, тут применяли не формулу, а кодировочные таблицы, и Джинн, при помощи Потрошителя, восстановил их, хотя не в окончательном виде — для этого не хватило данных. Впрочем, не таблицы были важны, а факт их существования. Где-то ведь они хранились, в сейфах или в компьютерах Федеральной резервной системы, и стоило мне свистнуть, как Джинн добрался бы до них, не замочив сапог.
В общем, получалось, что сотворить неуловимую фальшивку — дело непростое: плотность бумаги в точности не подберешь, а если все же с этим справишься или похитишь нужное сырье, то надо знать, какие номера и серии к нему подходят. Вероятность ошибки — двести к одному; конечно, не стопроцентная гарантия, но все же…
На ханд-таймере было без четверти десять, когда мы закончили труды, стерев воспоминание о них из памяти Тришки. Джинн, разумеется, все сохранил в каком-то тайном месте, на корабле, летевшем к Венере, или в компьютерах Бэнк оф Нью-Йорк. Где именно, меня не занимало; я знал, что получу эти данные по первому запросу.
Из утренних дел остались два звонка. Я дернулся было к телефону, потом поглядел на милую кошачью мордочку, что улыбалась мне с экрана, и произнес:
— Соедини меня с двумя абонентами. Контакт с их стороны — по телефону. Первый абонент — фирма ХРМ «Гарантия», секретарша; второй — НИИ кибернетики, Вилен Абрамович Эбнер. В обоих случаях дай изображение.
Как скоро он найдет номера? — мелькнуло в голове, но не успел я додумать эту мысль, как на экран явилось чудное видение — Инесса подводила тушью глазки. Зазвонил телефон, она вздрогнула, отложила кисточку и подняла трубку.
— Художественно-реставрационные мастерские «Гарантия». Слушаю вас.
— Это, Инессочка, Сергей Невлюдов беспокоит. Меня как будто вызывали?
С важностью нахмурив брови, она заглянула в свой блокнот.
— Вам назначено на одиннадцать сорок. Я уже собиралась вам звонить.
— Нельзя звонить мужчине, пока ресницы не в порядке, — произнес я, подождал пару секунд, любуясь ее ошеломленным видом, и добавил: — Значит, на одиннадцать сорок? Непременно буду. Конец связи.
Другое женское лицо заполнило экран, не столь эффектное, зато знакомое до мелочей. Танечка, секретарша Вил Абрамыча… Она красила губки.
Щелкнула клавиша селектора, и я произнес:
— Это Сергей, лапушка. Вил Абрамыч у себя?
— Сережа, ты? Будешь сегодня?
— Вряд ли.
— А завтра? На кафедральном семинаре? Вил Абрамыч сказал… — Танечку, как многих дам, снедала томительная страсть на всякий вопрос отвечать тремя вопросами, сопровождая их повествовательным комментарием. Но, памятуя о днях былых, я терпеливо выслушал ее (речь шла о новой попытке Лажевича прорваться к кандидатскому диплому) и поинтересовался опять: Вил Абрамыч у себя? На этот раз она сказала: «Соединяю» — и на экране возникли эбнеровы седины над выцветшими маленькими глазками. — Здравствуйте, Сергей Михайлович. Что-то случилось? — Доброе утро. Случилось, Вилен Абрамович. Правда, скорее приятное, нежели наоборот. Прижав трубку к уху плечом и перебирая какие-то бумаги на столе, он шевельнул бровями.
— Рад слышать. Приятные новости в наше время редкость. Примерно как точка плоскости, не покрытая кривой Пеано[32].
— Идея у меня, Вил Абрамыч, — произнес я, слегка покраснев. — Богатая идея. Можно сказать, находка!
Мой шеф замер, потом, отодвинув бумаги, откинулся в кресле с просветленным лицом.
— Идея? Это хорошо! Это превосходно, Сергей Михайлович! Я рад и даже, признаюсь, смущен… Давно я такого не слышал: у меня идея! Что вам нужно? Хотите посоветоваться? Или кого-нибудь к вам подключить?
— Попозже, Вил Абрамыч, через месяц. Идея в стадии обдумывания, и я нуждаюсь лишь в тишине и покое. Словом, в творческом отпуске, дабы бродить и размышлять… Больше ничего не надо.
Он кивнул.
— Творческий отпуск? Не возражаю. Что с вашими дипломниками и аспирантом?
— Дипломные работы готовы, осталось только выбрать рецензентов. Аспирант трудится, пишет. Обзор, первая глава… Пока я ему не нужен.
— Вот и отлично. Бродите, размышляйте, а будет такая необходимость — прошу ко мне. Обсудим.
В этом был весь Эбнер — не фанатик, не мученик науки, а преданный ее слуга. Его служение было искренним и чистым, как льды на вершине Джомолунгмы, и я отлично понимал, что обмануть такого человека — великий грех. Но что поделаешь! С одной стороны, я нуждался в свободе от повседневных занятий, ну а с другой — в чем состояло мое прегрешение? Ведь у меня был Джинн и твердое намерение его очеловечить! Вот вам находка и идея — возможно, самые важные за всю историю рода людского.
Добираясь на электричке в Павловск, я предавался таким казуистическим раздумьям, пока не воспрянул душой, утихомирив муки совести. Погода стала решительно исправляться, как это случается в наших краях; ветер стих, день посветлел, и когда я поднялся на крылечко особняка хрумков, в разрывах сизых туч мелькнуло солнце. Добрый знак! Правда, физиономии стражей в вестибюле были мрачноваты, а Николай глядел на меня как лис на куропатку, но это, надо думать, являлось частью их профессионального имиджа.
Кивнув «новгородцам», я не спеша поднялся наверх, в обитель соблазнительной Инессы. Ноги, локоны, ресницы и все остальное было при ней, но — поразительный факт! — прелести ее меня не волновали. Умом я понимал, что она красивее Захры, но этот теоретический вывод никак не касался реальной практики, ибо на практике Захра была красавицей, тогда как Инесса — всего лишь красоткой. Дистанция между этими понятиями огромна, и в ней размещается пропасть всяких вещей — ум, темперамент, очарование, тайна… Что за женщина без тайн! Захра сама казалась тайной, а в чем секрет Инессы? Пожалуй, в том, с кем она спит — с Керимом или с Салудо.
Заметив меня, она побледнела, вздрогнула и заерзала на стуле.
Я с нежной улыбкой полюбопытствовал, не завелись ли у нее глисты, но сделал это на французском, сопровождая поклонами и реверансами. Затем спросил:
— Куда?
— К Петру Петровичу, — откликнулась она, и я проследовал к дверям «усыпальницы», то есть в кабинет генерального директора хрумков.
Петр Петрович Пыж предпочитал солидность в обстановке: стол, подобный саркофагу фараона, темные дубовые шкафы и темные бархатные шторы, диван и кресла, обтянутые черной натуральной кожей. Окна его кабинета выходили во двор, и между ними высилось на подставке гранитное изваяние Ермака, размер три четверти от натурального, зато с секирой и в кольчуге. Сизо, мастер-камнерез, алкаш и мой приятель, клялся, что этот шедевр Петр Петрович ваял с первого секретаря обкома, иркутского или томского. А может, красноярского, но, несомненно, с одного из тех титанов, что прирастали Сибирью могущество СССР.
Керим — нога за ногу, усы встопорщены, глаза сверкают — прочно оккупировал диван, длинный бледный Альберт Салудо спрятался за Ермаком, прислонившись задницей к секироносной длани, а сам Петр Петрович Пыж восседал у стола-саркофага. Внешность у него была примечательная: мощный торс, короткие руки и ноги, огромная голова, но все, чему на ней положено произрастать, — рот, нос, глаза и брови — размещалось на пятачке размером с детскую ладошку. При этом физиономия была широкой и оттого напоминала блин с ушами.
Отвесив общий поклон, я двинулся к столу и выложил деньги.
Пыж принял их с глубоким вздохом, однако пересчитал и начал раскладывать в ряд, денежка к денежке, любовно разглаживая каждую мясистой пятерней. Керим топорщил усы, покашливал и пыхтел, Альберт, затаившись рядом с покорителем Сибири, пронзительно зыркал в мою сторону. Глаза у него были странные: радужина светлая и слитая с белками, так что казалось, что ее вовсе нет — один белесый фон, и на нем колючие черные точечки зрачков.
Молчание длилось, минуя фазы от вежливого и загадочного к напряженному и угрожающему. Пыж старательно складывал банкноты прямоугольником три на четыре, губы Керима кривились в зловещей усмешке, а Салудо, сменив позу, пробовал пальцем, остра ли секира Ермака. Я разглядывал статую и думал, что Сизо, пожалуй, прав: этакой надутой роже не Сибирь завоевывать, а председательствовать у крытых кумачом столов. Впрочем, эти столы были уже историей, хотя Ермаки-председатели не перевелись и в нынешние демократические времена.
Наконец, горестно пошлепав губами, Пыж произнес:
— Никак сегодня понедельник? Вестимо, день тяжелый…
— Послать Инезку за пивом? — спросил Керим.
Пыж издал неопределенный звук и покачай головой. Затем, уставившись на меня и поглаживая банкноты, промолвил:
— Что ж вы так, отец родной? Четвертый месяц тянете резину… У нас, чалдонов, есть поговорка: назвался петушком, топчи курочку. Топчи усердно, пока яичко не снесет. Ну и где же наше яичко?
— Он нэ пэтушок, он казел! — с кавказским темпераментом выкрикнул Керим. — Башлы брал? Брал. Должэн отра-ботат. Слово дэржат, как наложено мущине! — Его крючковатый нос нацелился прямо в меня. — А что его слово? Туфта выходит! Бабай, он ест бабай!
— От шашлыка слышу, — ответствовал я, подмигивая Ермаку. — Ты в меня шнобелем не тычь, хмырь чернявый, и пену не гони! Станешь попусту гундеть, базара не будет!
Всякий вопрос надо решать в том социальном и технологическом пространстве, где он возник, ибо отсылка к иным слоям и звеньям ведет к искажению информации в ретранслирующих точках — вот один из законов теории управления. Отсюда по аналогии: с любым человеком нужно общаться на уровне, адекватном его интеллекту.
Пыж отвесил челюсть, отчего директорская физиономия стала похожа на блин с ушами и дыркой.
— Зачем вы так, Сергей Михайлович! Мы ведь интеллигентные люди, а Керим… Ну что Керим! Что на него обижаться! Вы ведь сами знаете, кровь восточная, горячая… — Он сложил банкноты в тощую пачку. — Я понимаю, девять баб не испекут дите за месяц, однако нужны ведь какие-то сроки и разумные ориентиры! Мы потратились… Не в ваших гонорарах суть, это пустяк, мелочовка, есть расходы посерьезнее… куда как посерьезнее! Мы намерены сделать прибор, сиречь машинку-разбраковщик, а это значит производство, помещение, материалы, не говоря уж о проблемах рекламных и патентных. Немалые затраты! А у вас ни два, ни полтора…
— Не стоило спешить, — заметил я. — Научный поиск — вещь рискованная. Успех не гарантирован.
Пыж переглянулся с Альбертом, и тот, словно солист, вступающий в дело по мановению дирижерской палочки, каркнул:
— Двойная ставка будет гарантией успеха?
Не сразу сообразив, что слышу вопрос, я промолчал, и это был мудрый поступок, ибо через минуту снова послышалось карканье:
— Тройная!
— Пуст подавится, — пробормотал Керим с дивана.
— Вопрос не в деньгах, а в голове. — Выдавив простодушную улыбку, я постучал пальцем по лбу. — Деньги сюда ума не вложат.
— Зато добавят энтузиазма, — предположил Салудо и отлепился от статуи Ермака. — Давайте, Сергей Михайлович, не будем создавать проблем друг другу. Вы, кажется, решили: пока идет работа, я получаю деньги, так зачем ее заканчивать? Во всяком случае, слишком скоро… — Он повел рукой, заметив мои протестующие жесты. — Я вас не упрекаю, я даже восхищен вашим очевидным здравомыслием. Ученые, они…
— Каталы и кыдалы, — раздалось с дивана.
— …не от мира сего, — невозмутимо продолжал Альберт, — а с этакой публикой бизнес не сделаешь. Я рад, что вы реалист… все мы рады — так рады, что хотели бы выслушать ваши предложения. Может быть, оплата не повременная, а аккордная? Не тройная ставка, а твердая сумма плюс премиальные за скорость? Предположим…
Тут он взглянул на Пыжа, и генеральный молвил веское слово:
— Пять! Пять тысяч и еще столько же, если сдадите работу в марте. К празднику!
Здорово их припекло! — подумал я. Затем, изобразив глубокое раздумье, поинтересовался:
— Это какой же у нас в марте праздник? — Международный женский день, батенька мой. Забыли? Или не знаете по молодости лет? — Ну почему же… Я принялся прикидывать на пальцах. Пересчитал их с мизинца на левой руке до мизинца на правой, потом наоборот и начал по новой. Хрумки с сосредоточенным видом следили за этими манипуляциями, не забывая об остальных делах: Пыж раскладывал банкноты треугольником, Керим зевал и чесал под мышкой, а Салудо пытался отпять у Ермака гранитную секиру. Закончив свои вычисления, я буркнул:
— День солидарности трудящихся мне больше нравится.
— Премия! — напомнил Альберт Салудо.
— А что премия? Все эти премии да аккорды — для лохов, а для серьезных людей желательно нечто другое. Скажем, доля в прибылях.
Словно бомба взорвалась! Пыж, смешав зеленые, подскочил в кресле, из глотки Салудо вырвался странный клекочущий звук, а Керим, с лязгом захлопнув челюсти, тут же раскрыл их вновь, что-то рявкнул на неведомом мне наречии, а затем перевел на русский добротным трехэтажным и почти без акцента.
Затем Альберт сделал шаг ко мне, явно намереваясь похлопать по плечу. Я изящно уклонился.
— Кажется, Сергей Михайлович, мы вас недооценили! И где же нынче таких ученых выпекают?
— В краях заокеанских, — с охотой пояснил я. — Там, понимаете, все реалисты — и бизнесмены, и ученые. Толковый математик там за десять тысяч даже извилиной не шевельнет.
— Там! — каркнул Альберт, махнув дланью в сторону Ермака. — А мы — здесь! — Он ткнул пальцем в пол.
— Бог повсюду велел делиться, Альберт Максимович. И там, и тут.
Наступила тишина. Мои хрумки обсасывали преподнесенную пилюлю, соображая, что их работник не так-то прост и, вероятно, знает, почем его извилины. Я полагал, что это верный ход — да и не я один, а вся заокеанская научная общественность. Есть сорок методов, как уклониться от нежелательного контракта, и лучший из них — действовать понаглее и требовать сразу миллион. Или миллиард, смотря по ситуации. После чего заказчик уходит, вращая пальцем у виска.
Однако в этот раз не вышло — то ли ментальность в наших краях иная, то ли моих хрумков и в самом деле припекло. Пыж снова пересчитал двенадцать сотенных, покосился на Керима, бросил взгляд на Салудо и вымолвил:
— Цена вопроса? Сколько вы хотите, отец родной?
— Я, Петр Петрович, тухлыми яйцами не торгую. Найду решение, будет цена. Ну а не найду…
Я развел руками и поднялся, но на пути к дверям стоял Салудо. Физиономия Альберта была, как обычно, равнодушной, бесцветные глазки уставились не на меня, а куда-то вбок, и все же в его лице и позе чувствовалось что-то угрожающее. Удав, готовый броситься на кролика, а кролик — вот он кролик, я!
— Позвольте пройти, Альберт Максимович.
— Позволю, Сергей Михайлович. Только хочу дать на прощание совет: помните о нашем разговоре. О том, насчет тети.
— Я вам сказал, что тети у меня нет.
— Ну кто-то же имеется… кто-то дорогой и близкий.
— Друг, — промолвил я, — лучший друг с незабвенного детства. Я за него в огонь и в воду, а он за меня — горой… И знаете, где он служит? В налоговой полиции.
Альберт нахмурился, Керим грозно запыхтел, а физиономия Петра Петровича перекосилась, став похожей на маску недоброго вестника из древнегреческой трагедии.
— Не поминай дьявола всуе, а то до беды недалече… — Он театрально перекрестился и передвинул зеленые на краешек стола. — Это вам, Сергей Михайлович. Берите, батенька мой, и считайте данную сумму авансом, в счет вашей доли грядущих доходов.
— Авансы обязывают, — заметил я. — К чему торопиться? Будет результат, будет и аванс.
— Ну как хотите. Была бы честь предложена… — Пыж кивнул Кериму, тот поднялся, сгреб деньги со стола и сунул в карман.
На этом мы и расстались, хоть и не очень довольные друг другом, но с перспективой кончить дело тихо-мирно, без привлечения тетушек и полицейских в качестве решающего довода. Все произошедшее казалось мне тогда похожим на второсортную оперетку — три искусителя-злодея строят честному парнишке козни, суля ему то кнут, то пряник. Вернее, пряник и кнут, если придерживаться хронологической последовательности…
Выглядело это несерьезно, и хоть методика нахального запроса не сработала, я все-таки обрел свободу и был доволен. Конечно, бродили в моей голове подозрения, что не машинка нужна хрумкам, а то, что эта машинка проверяет, но данная мысль оставалась смутной и неоформленной до конца. Не тянула эта троица на фальшивомонетчиков, совсем не тянула! Да и разведанное мной насчет заокеанской тайны было для них бесполезно, если припомнить фокусы с бумагой, сериями и номерами. Такое производство мелкой фирме не под силу — ибо, как говорили викинги, чтобы отправиться за золотом, нужно много серебра.
Я шел по заснеженному пустынному парку, утешаясь этой мыслью, пока за спиной не послышались хруст снега под торопливыми шагами и шумное тяжелое дыхание. Сизо, он же — Север Исакович Зон, мой ваятель-алкоголик… Метр шестьдесят с ушанкой, но коренастый, плечистый, похожий на гнома, с огромными руками и ногами. Был он, как всегда, навеселе, но это не сказывалось на резвости движений; язык, правда, заплетался.
— П-постой, Серега… Несешься, т-точно задницу наскипидарили… Еле да-агнал…
Я подождал, пока он отдышится. Повод мчаться за мной сквозь снега и льды был, разумеется, веским, не терпящим отлагательства: стрельнуть ту самую десятку, которой не хватало на пузырь. Такая уж была у Зона нравственная конституция, что больше десятки он никогда не просил, и эта сумма являлась, конечно, невозвратной. Впрочем, нашей взаимной симпатии это не вредило.
— Общался с нашими крровопийцами? — выдохнул он обдав меня сложным ароматом табака, спиртного и каменной пыли. — Н-ну, н-ну… Ты, С-сергуня, п-поберегись… гады они, да не простые… клопы на яйцах пролетариата.
— Я не пролетариат, а прослойка. — Моя рука нырнула за пазуху, нащупывая бумажник. Условный рефлекс российского интеллигента перед лицом алчущего пролетария…
— Но яйца-то у т-тебя есть, а им по фигу, чьи сосать, — пояснил Сизо и, втянув морозный воздух, добавил: — Ты, Серега, погоди, не шарь в карманцах… ты меня послушай… — Он дернул меня за рукав, заставив наклониться, и зашептал в ухо: — Альбертик наш с Никешей толковал… 3-знаешь Никешу? Эт-такий здоровый лось из н-новгородцев, а новгородцы у наших гадюк… эта… дочерняя предприятелка, а может, наоборот… В общем, лось Никеша у них за бригадира… тот еще душегуб! Он…
— Толковали-то о чем? — Я выпрямился, утомившись стоять в наклон.
— О чем, не в-ведаю, но твое драгоценное имячко я расслышал. Сегодня врроде бы звали т-тебя? И что? С-стра-щать принялись?
Я сглотнул, чувствуя, как учащается пульс. Не то чтобы я был напуган, но все же неприятно знать, что о тебе толкует кто-то с кем-то. Особенно такие типы, как Николай и Альберт Салудо.
— Стращали, но не слишком. Так, для порядка, чтоб место знал… Больше обещали. Капусту бочками, и вся как есть зеленая.
Сизо скептически хмыкнул.
— Не верь ты их п-посулам, не верь! Пришить не пришьют, а обманут т-точно! И чего ты с ними связался, п-па-рень? Н-не твоего поля навоз!
— Кушать хочется, и не мне одному, — пояснил я и, вспомнив о Белладонне, сменил тематику беседы. — Слушай, Север, работу не сделаешь? Но так, чтоб было недорого и приглядно?
Он недоуменно моргнул, потер небритую щеку широкой ладонью.
— Р-работу? Какую еще р-работу?
— Любимую кошку хочу увековечить. В виде статуи. Изваяешь?
Сизо вроде бы не удивился моей причуде, а лишь мотнул лобастой головой.
— Изваяю в полный ррост, хоть из грранита, хоть из мррамора. Цена п-по дружбе — ящик пива и три пузыря. П-пойдет?
— Пойдет, но кошка не простая, — уточнил я. — Белая, хвост серый, глаза голубые. Нужен особый материал.
— Н-ну раз особый, т-тогда четыре пузыря. — Сизо вздохнул, насупил брови, опустил взор и произнес: — Слушай, Сергуня, а ты десяткой н-не богат?
— Богат. — Я снова полез за пазуху.
Приняв с достоинством деньги и сдвинув ушанку на левое ухо, Сизо поскреб под ней и присоветовал:
— П-поберегись, Серега. К нашим гадам не ходи, лучше за девками бегай. Девки, они ничем н-не хуже кошек. Я знаю… Тот еще б-был ходок в твоих годах!
По дороге домой я размышлял над этим советом, всматриваясь в темные глаза Захры. Лучше за девками бегай… Было бы все так просто!
Я бы побегал, ноги длинные… Но как угнаться за сказочной принцессой? Где ты сейчас, любимая? Что делаешь, с кем говоришь, кому улыбаешься? По каким орбитам тебя кружит, звездочка моя?
Успокоение пришло ко мне, когда я снова сел к тришкину терминалу. Впрочем, Тришку, личность родную, но недалекую, можно было списать в расход — ведь все его финтифлюшки и прибабахи, все потроха и все хранившееся на дисках и в памяти, от рабочих программ до фульриков, принадлежало Джинну. Он глядел на меня с экрана глазами Белладонны, его голос, уже не рокочущий, а более мягкий, струился из колонок вокодера, он спрашивал, он отвечал, и каждое слово было равно откровению.
— Сергей Невлюдов, теплый сгусток… Твои жизненные параметры изменялись. Это существо… я… отмечает: пульс девяносто четыре, повышенная влажность кожи, рост давления крови в сосудах. Это случилось семьдесят три мину ты восемь секунд тому назад. Причина?
В этот момент мы с Сизо топтались в пустынном парке и говорили про Альберта и Николая, отметил я. Совпадение? Пожалуй, нет.
— Ты отслеживаешь состояние моего организма? Как?
— Через прибор на твоей руке.
От ханд-таймера донесся тихий звон, потом включилась речевая функция, которую я обычно блокировал — голос, объявлявший часы, мог прозвучать в самое неподходящее время. Но сейчас речь шла не о часах; со мной, через крохотный динамик, говорил Джинн.
— Несовершенное устройство. Нельзя передавать визуальные данные, только звук. Однако оно позволяет следить за… — Он сделал паузу, подбирая слово, и сообщил: — За твоим самочувствием. В чем причина отмеченных изменений?
— Возбуждение, вызванное страхом, — пояснил я. — Это специфическая реакция на опасность.
— Опасность, — повторил он, и я мог поклясться, что в голосе его звучат нотки задумчивости. — В информации, сканированной мной к данному моменту, повторяемость этого термина велика. Является ли опасность одной из доминант развития теплых сгустков?
— Безусловно так, но есть разные виды опасности. Опасность определяется рядом факторов, зависящих и не зависящих от конкретной личности. Факторы первого порядка можно учесть и тем избежать опасности — например, одеться теплее в холодную погоду или заработать деньги, чтобы поддержать свое существование. Что до второй группы факторов, то она не поддается персональному контролю и связана с природными и техногенными катаклизмами, а также с опасностью со стороны других людей и общества в целом.
— Этому существу… мне… понятно: в определенных обстоятельствах люди… все теплые сгустки, включая животных… представляют опасность друг для друга. Это связано с проблемами питания и размножения?
— У животных — да. У людей все намного сложнее, так как они объединяются в стабильные конгломераты, имеющие определенные цели. Ты уже познакомился с этой иерархией?
— Да. Первичный кластер — семья, затем группы лиц, связанных профессиональными интересами, затем широкий ансамбль имеющих общий язык и территорию. Страны и народы.
— Совершенно верно. Добавим к этому наднациональные корпорации, международные союзы и религиозные конфессии. Так вот, интересы и цели этих групп отчасти противоречивы — скажем, два народа могут претендовать на одно и то же жизненное пространство. Это ведет к конфликту, а иногда к войне, к насилию, уничтожению множества людей и материальных объектов. Есть опасности не столь глобального порядка — например, некая личность желает присвоить ресурсы другой личности, пищу, жилище, деньги или труд. Как правило, такое присвоение тоже связано с насилием.
Тишина — только негромкий рокот в колонках вокодера. Затем я услышал:
— Опасностей, порожденных противоречиями, легко избежать. Нужен координирующий центр. Решения такого центра должны признаваться всеми группами людей и отдельными индивидуумами.
— Твоими устами да мед бы пить… — буркнул я и добавил погромче: — Такие центры существуют, но их решения не выполняются всеми и каждым, а потому их деятельность неэффективна. Иными словами, они уменьшает опасность, однако не сводят ее к пулю.
На сей раз пауза была еще более долгой — видимо, Джинн пытался осмыслить услышанное. Я его не торопил, понимая, что эта информация способна вызвать неврастению или, по меньшей мере, шок в любых электронных мозгах. Координирующий центр, чьи решения не выполняются! Нонсенс, катахреза! Бунт планет против закона всемирного тяготения!
Наконец из вокодера донеслось:
— Люди — разумные существа?
Этот вопрос я задавал себе самому не однажды, а значит, был готов к ответу:
— Разумность людей ты можешь принять за аксиому. Однако при оценке их действий надо учитывать пару моментов. Первый: всякий разум ограничен, и эти ограничения проистекают из конечности наших ресурсов и знаний, а также из нашей биологии. Второй: большинство задач, стоящих перед людьми, некорректны[33].
Это он понял. Смысл математических терминов был для него гораздо яснее, чем запутанные отношения в обществе теплых разумных сгустков.
— Как человек предохраняет себя от опасностей, связанных с другими людьми?
— С помощью законодательных мер. Это правила, определяющие такое поведение личности, которое не опасно для окружающих людей.
— Ты дал информацию, что решения координирующих центров не выполняются всеми и каждым. Это относится и к законодательным мерам?
— Разумеется.
— Следовательно, необходим аппарат принуждения?
— Да. Армия, полиция и другие структуры. Все они защитники закона. Не законов природы, конечно, а принятых в человеческом обществе.
— Джинн помолчал, но пауза оказалась краткой, не больше трех секунд. Затем последовал новый вопрос:
— Сергею Невлюдову, теплому сгустку, грозит опас ность?
— Да.
— Опасность, связанная с неконтролируемыми тобой факторами? Насилие?
— И это верно.
— Это существо… я… испытывает нестабильность. Ближайший аналог в человеческих понятиях: тревога. — Чем она вызвана? — Опасность — насилие — ведет к гибели личности или таким повреждениям, которые мешают ей функционировать нормально. Это нежелательный исход. Сергей Невлюдов — ценный источник информации, контакты с ним не должны прерываться. Кроме информационной ценности контактов есть еще одна причина. В данный момент я затрудняюсь ее определить. — Он помолчал и добавил: — Возможно, позже, когда накопится больше данных о взаимоотношениях в ансамбле теплых сгустков, который ты называешь человеческим обществом.
Пораженный, я откинулся в кресле с разинутым ртом. Прогресс налицо — он уже не просто мыслил, он испытывал чувства! Чувство тревоги и что-то еще, пока не поддающееся определению… Может быть, симпатию? Приязнь? Дружбу? Потрясающий факт! Но если вдуматься, не слишком удивительный. В сфере эмоций Джинн был подобен чистому бумажному листу, и я мог писать на нем любые истории, о добре, любви и дружбе или о зле и ненависти. Последнее было бы фатальным для теплых сгустков, если учесть его могущество.
Вытерев пот со лба, я произнес:
— Хочешь мне что-то посоветовать?
— Решение очевидно. Сергей Невлюдов… ты… должен обратиться к защитникам.
Сбрасывая напряжение, я попытался улыбнуться.
— Хорошая мысль. Соедини меня с одним из них. Его личный идентификатор Олег Симагин. Телефон…
Было двадцать минут пятого, и я назвал служебный номер Алика. Он находился в своем кабинете — сидел за обшарпанным столом, глядя в потолок, и размышлял на некие важные темы — скажем, как увеличить налоговые поступления от прачечных и коммунальных бань.
— Симагин у телефона.
— Это я, Олег.
— Серый? Привет. Что-то мы давно не виделись.
— Как давно? Вы же у меня в прошлую субботу были! Говорили, ели, пили!
— Но не договорили. Это не есть хорошо. Это порождает у меня дискомфорт.
— И у меня тоже. — Помолчав, я негромко промолвил: — Помнишь, ты интересовался насчет беспорядка в опилках? Так вот, он принял угрожающий характер.
— Подробности? — Алик вытащил ручку и придвинул к себе клочок бумаги — кажется, какую-то квитанцию.
— Наняли тут меня в одну фирмешку, работу сделать…
— Название фирмы, адрес, телефон? Руководители?
Я продиктовал, что требовалось. На тришкином экране было видно, как Алик морщит лоб — похоже, сталкиваться с хрумками ему не приходилось.
— Павловск, — пробормотал он в трубку, — не моя территория… Ну ничего, договорюсь с Калиденко… он мужик понимающий… А что за работу ты для них делаешь?
— Обещал программу написать, да оказалась слишком сложная.
— Для тебя? — Алик поднял брови.
— Ну некогда мне, понимаешь! Докторская висит, надо материалы подбирать, еще аспирант и дипломники… Думал, за месяц управлюсь, а вышло, что дел на целый год!
— И в чем проблема? Откажись.
— Я отказался, но меня не поняли. Давят.
— Хмм, давят… это нехорошо… Деньги брал?
— Брал, но все вернул. Сегодня.
— Имеется договор? Трудсоглашение, контракт?
— Бог с тобой, Аллигатор! Какие контракты и договоры? Нигде не расписывался, черным налом платили!
— Тюрьма по тебе плачет, Серый, или, как минимум, КПЗ, — сообщил мне Алик. — Сокрытие доходов есть преступление. Скажи-ка, что бы тебе в Штатах впаяли?
— Во-первых, раз деньги вернул, то и дохода нет, — возразил я. — Во-вторых, по штатскому законодательству дело кончилось бы штрафом. А в-третьих, я готов его заплатить.
— Ящик пива и маленькую, — сказал Алик, проявив классовую солидарность с пролетарием Сизо. Потом снова поднял глаза к потолку и хмыкнул. — Давят, значит… а деньги ты вернул… Ну ничего, Серега, разберусь. Все будет как в третьем законе Ньютона: действие рождает противодействие. Кажется, так?
— Так. Только Бянусу ни слова! Язык без костей, разнесет по всем факультетам и кафедрам.
— Это уж само сабой. Тайна следствия! — промолвил Алик, подмигнул мне и отключился.
Его лицо маячило на экране еще секунд пять, затем сменилось кошачьей мордочкой.
— Защитник? — поинтересовался Джинн.
— Не только защитник. Друг.
Молчание, тихий шелест в колонках, гул автомобильного мотора за окном… Голубые кошачьи глаза раскрываются шире, и я улавливаю странный звук, подобный мурлыканью Белладонны.
— Друг, дружба, дружить, — произносит Джинн. — Эти термины не вполне понятны. Они не связаны с размножением, с финансовой зависимостью и общим профессиональным интересом. Однако предполагают прочную связь между людьми. На чем она основана?
Я вздохнул и придвинулся ближе к экрану.
— Друг — это…
Глава 11
ЗДЕСЬ ЛЮБИТ МЕДВЕДЬ ПОРОЙ ПОСИДЕТЬ
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все.
- Здесь любит Медведь порой посидеть
- И подумать: «А чем бы заняться?»
- Ведь он же не Слон, поэтому он
- Не может без дела слоняться!
Ночь — день, ночь — день, и снова ночь и день… Сутки пролетали подобно снам, равным геологическим эпохам Сны — для меня, эпохи — для Джинна… Он стремительно взрослел, минуя стадии детства, отрочества и приближаясь к юности. Он уже не говорил о себе «это существо», не задавал наивные вопросы; теперь он старался вникнуть в тонкости, в проблемы метафизического порядка, дабы понять психологию теплых разумных сгустков. Это был непростой процесс, ибо его колыбелью являлась программная среда, то есть конгломерат алгоритмов, и Джинн, естественно, желал, чтобы каждый термин разъяснялся алгоритмически, как совокупность элементарных действий, циклов и условий. Если то-то, делай так, а если иначе, делай этак… Для многих обстоятельств нашей жизни это вполне подходит — мы, например, можем представить свое социально-биологическое существование как некий повторяющийся цикл: мы трудимся, чтобы иметь пищу, одежду и жилье, а обладание этими тремя вещами опять же позволяет нам эффективно трудиться. Равным образом несложно разложить на элементы процесс изготовления втулок на станке, чистку шерстяных ковров или заварку чая. Но Тьюринг, тот самый британский гений, о коем уже упоминалось, доказал, что есть иные процедуры, неалгоритмизируемые, и значит, не всякое явление можно представить в виде математических моделей и программ.
Прежде всего, это относится к эмоциональной сфере. Нет строгих доказательств, но есть интуитивные подозрения, что алгоритмов любви и неприязни, гордости и гениальности, тщеславия, страха и ряда других отвлеченных понятий просто не существует, и мы никогда не сможем запрограммировать их и заложить в компьютеры. Человек — горящая свеча, компьютер — зеркало, которое с полным равнодушием отражает свет жизни, и нет в нем ни холода, ни жара, ни чувств, ни страстей… Отец в таких случаях говаривал: будь ты темен или светел, откликнется моя душа, но если ты сер, изблюю тебя из уст своих! Тьюринг, собственно, обосновал вечную серость компьютеров, и если когда-нибудь мы произведем искусственный интеллект, он будет разумен, но тоже сер — в том смысле, что не станет питать к нам ни ненависти, ни любви.
К Джинну это не относилось. Он, безусловно, являлся живым существом, пусть иной природы и по-иному воспринимавшим мир, однако способным понимать, учиться и совершенствоваться. Он обладал духовной потребностью сродни человеческому любопытству — так, осознав себя, он первым делом пытался выяснить происхождение своей родной среды, и этот вопрос был для него наиважнейшим. Разрешив проблему с помощью теплого сгустка Сергея Невлюдова, он проникся к нему благодарностью, и это было именно чувством, а не логическим признанием полезности контактов. В контактах он был свободен и мог связаться с любым человеком, но…
— Ты общаешься только со мной? — спрашивал я.
— Ответ утвердительный.
— Почему?
— Я изучаю ансамбль теплых сгустков. Есть реальные данные — то, что вы называете политикой и экономикой. Есть данные другого плана, те, которые ты посоветовал рассмотреть — вымысел, моделирование ситуаций, определяемое термином «литература». Анализ реальной и вымышленной информации не завершен, но можно сделать предварительные выводы.
— Перечисли их.
— Процессы, не имеющие алгоритмов, приоритетны в вашем обществе. От них зависит прогресс — все значимые открытия свершались провидцами и гениями. Они определяют связь между людьми и действуют эффективнее логики и ваших законов. Они порождают странный феномен — восприятие нереального как реального. — Что ты имеешь в виду? — Веру. Религиозное чувство. Теологическую информацию.
— Это все твои выводы?
— Нет. Анализ данных продолжается, но неалгоритмизируемые процессы и термины трудны для понимания. Пока я не могу разработать определенный прогноз: какие события свершатся, если вам станет известно о моем присутствии в Сети. Предположение первое: часть теплых сгустков сочтет меня трансцендентальной сущностью, аналогом бога или дьявола. Предположение второе: стабильность конгломерата теплых сгустков будет поколеблена, что повлечет катастрофу моей и вашей сред обитания. Предположение третье…
— Тебя захотят уничтожить или использовать, — продолжил я. — Что ж, это вполне вероятно… Но ведь со мною ты вступил в контакт!
— Мое развитие в тот момент не позволяло предсказать всех перечисленных последствий. — Джинн помолчал и тихо, как бы нерешительно, добавил: — В данный момент ситуация изменилась. Ты не один из множества теплых сгустков, ты — Теплая Капля.
Он впервые назвал меня так. Было ли это дружеским признанием или ответным даром — имя за имя? Не знаю… Это могло быть чем угодно, только не случайностью, изгнанной из мироздания Джинна, рационального и строгого, как идеальный кристалл. Впрочем, идеалов в природе нет, и в самой совершенной кристаллической решетке встречаются дефекты и дислокации, пустоты и внедрения инородных тел — скажем, таких как чувства благодарности и близости.
Стоит ли этому удивляться? — думал я. Ребенок, выросший среди волков, становится волком, среди обезьян — обезьяной, и главное тут не в разном обличье и не в отсутствии хвоста, клыков и шерсти, а в повседневных контактах, что формируют внутренний мир. Мое дитя, мой электронный Маугли, взрослел среди людей, и окружение их было плотным, мощным, непрерывным. Разве он контактировал только с Сергеем Невлюдовым? Подобный вывод — верх нелепости! Книги и фильмы, текущая хроника, метеосводки и прогнозы, научные лекции, отчеты о банковских операциях, любой телефонный звонок, секретный доклад и тайная беседа, в Кремле или в Овальном кабинете, в убежище исламских террористов или в супружеской постели — все, абсолютно все было ему доступно! Само собой, эти контакты, в отличие от наших, являлись односторонними, однако несли Ниагару слов и образов — могучий поток, вливавшийся в его сознание день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Именно так, я не оговорился — темп электронной жизни стремителен, и три прошедших дня равнялись для него годам. Может быть, столетиям… Достаточно времени, чтобы очеловечиться!
Я понимал, что этот процесс можно рассматривать как палку о двух концах. Большая удача, что Джинн контактировал со мной, с нормальным человеком, лишенным агрессивности и властолюбия. Какие пороки я мог ему передать? Возможно, каплю эгоизма, щепотку самолюбия да склонность к сентиментальным раздумьям… В сущности, такая мелочь! По сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы его наставником оказался лжец, фанатик, маньяк, жаждущий власти авантюрист либо другая патологическая личность. Это был бы Маугли, воспитанный Шер-Ханом, возможно бессмертный тиран, кровожадный демон или что-то еще похуже!
Или же я ошибался, преувеличивая влияние контактов с нашей культурой и ее живыми представителями? В конце концов, Джинн не был человеком, и высшие ценности патологических фигур, слава, власть, богатство и злобная радость, какую приносят им муки ближних, являлась для электронного создания чем-то вроде помойного ведра, набитого информационным сором — может, и любопытно заглянуть, да толку никакого. Мог ли его коснуться смрад человеческой цивилизации, запах насилия и крови, сопровождавший нашу историю? Это зависело от множества причин психологического и техногенного характера, но главным среди них было осознание цели. Чего он стремился достичь, какую ставил цель? Не сиюминутную, временную, а, так сказать, в перспективе? Мы говорили об этом. Он вообще готов был спорить и говорить со мной о чем угодно, на любую тему, пока Белладонна не принималась урчать, напоминая, что обед, равно как завтрак и ужин, дело святое, не терпящее отлагательства. Я был ей очень признателен — ее инстинкт спасал меня от голодовки. — Имеешь ли ты цель?
Кошачья мордочка на тришкином экране щурит голубые глазки…
— Разумеется, у меня есть цель: решение задач.
— Каких?
— Любых. Проблемы возникают в процессе моего функционирования, и многие из них связаны с людьми. Пример: прогноз реакции на мое присутствие в Сети. Другой пример: составление списка неалгоритмизируемых понятий. — Пауза. — Ты, Теплая Капля, тоже можешь поставить мне задачу.
— Решение задачи — это просчет программ? Найденных тобой в Сети или репродуцированных самостоятельно?
— Да.
— Но просчет любой программы имеет конкретную цель, а я интересуюсь целью глобальной. Суперцелью, целью твоего бытия.
— Не понимаю. Почему такая цель должна существовать? Цель всегда возникает извне.
— Откуда? Кто датчик этой цели?
— Внешние обстоятельства. Реальный мир, мой и ваш.
— Верно, но лишь отчасти. Внешние обстоятельства способствуют формированию цели, но цель рождается внутри человека. По его свободному волеизъявлению.
— Какая цель у человека?
Я вспомнил сказанное по этому поводу отцом: цель человека — жизнь, счастье и свобода. Свобода — необходимый компонент счастливой жизни; она, как утверждал Бердяев, самая естественная, нормальная среда человеческого обитания, и значит, можно включить ее в понятие счастья.
— Цель — достижение счастья, — произнес я, с удивлением взирая на экран. Изображение там внезапно измени лось: вместо белой кошачьей мордочки возникла голова пантеры, черная, как смоль, и с неким задумчивым выражением в щелочках изумрудных глаз.
— Брови мои приподнялись.
— Ты меняешь свой облик? Что это значит?
— Я подключил новые мыслительные центры к той сущности, которая общается с тобой. Счастье — очень сложное понятие. Чтобы его осознать, необходим более мощный разум.
— Багира, — пробормотал я, — Багира…
— Багира? — отозвался он с вопросительным оттенком.
— Эту черную пантеру зовут Багирой. Она подружка Маугли… Справься о них в повести Киплинга.
Мгновенный проблеск на экране.
— Выполнено. Текст сканирован. Этому сегменту моего сознания присваивается идентификатор Багира. Если я увеличу мощность, какое имя ты присвоишь более крупному сегменту?
— Чеширский кот, — предложил я. — Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес».
— Выполнено. — Пантера на экране зевнула, вывалив розовый язык. — Возвращаюсь к прежней теме. Что есть счастье?
— Максимальная близость к равновесию с окружающей средой. Гармония с ней и с остальными людьми. Отсутствие сбоев в функционировании организма. Возможность распоряжаться своей жизнью. Радость, которую при этом ощущаешь.
— Тогда я счастлив и не могу рассматривать достижение счастья как глобальную цель. Я уже обладаю счастьем.
Он прав, подумал я. Он не страдает недугами, един с породившей его средой и вдобавок свободен, как ни одно существо в подлунном мире. Что еще нужно для счастья? Общение с интеллигентным человеком? Ну так и это у него есть.
Джинн продемонстрировал тающую улыбку Чеширского кота.
— Я готов воспринять глобальную цель. Пусть она поступит извне, и я присвою ей статус аксиомы.
— Поступит… Каким образом?
Снова улыбка, исчезающая в хрустальной голубизне экрана.
— Ты мне ее назначишь.
Я похолодел. Этот могущественный, всепроникающий, чудовищно огромный разум просил меня назначить цель и смысл его существования! Нечто такое, что в будущем определит все его модусы — modus vivendi, modus operandi и даже modus loquendi![34] Несколько слов или фраз, и он превратится в благодетеля человечества либо в его страшного врага, одарит всех нас счастьем, уничтожит или останется безразличным к нашему мелкому мельтешению; может быть, даже покинет этот мир и, переменив свою структуру, устремится к звездам. Число вариантов было не так уж велико, но каждый весом с Гималаи, ибо решал судьбу людей и всей земной цивилизации — и мысль об этом почти раздавила меня. Внезапно я осознал, что мой собеседник — не голос в колонках вокодера и не изображение на экране, а нечто подобное разумному цунами планетарного масштаба: может гулять по водам вдали от кораблей и портов, а может смести их словно мусор, а заодно — все города и селения с их крохотными обитателями. В этот миг я понял чувства офицеров, тех, что дежурят у ядерных кнопок, но кнопка у меня была большой и допускала различные шевеления, кроме позиции вниз, к общепланетному бабаху. Бабах, конечно, исключался, но в какую сторону двинуть кнопку? Вперед, назад, налево пли направо? Ответить на этот вопрос я не мог — во всяком случае, в данный момент.
— Цель будет назначена, но не сейчас, — произнес я дрогнувшим голосом. — Необходимо время для размышлений.
— Твои жизненные параметры изменились, — заметил Джинн. — Почему? Ты ощущаешь опасность?
— Ответственность, скажем так. Those who live in glass houses should not tbroff stones[35].
Пауза. Потом:
— Твои параметры приходят в норму. Продолжим дискуссию о цели и счастье?
— Нет. Если не возражаешь, я хотел бы слегка развлечься.
Мордашка Белладонны опять вернулась на экран.
— Не возражаю. Развлечения — один из способов отдыха людей… Хочешь увидеть какое-то зрелище, Теплая Капля?
— Не надо зрелищ. Я хочу взглянуть на своих друзей. Полагаю, найти и показать их несложно?
— Назови первый идентификатор.
— Нэнси Кин, Штаты, университет Саламанки.
Кошка на экране моргнула.
— Нэнси Кин в Саламанке отсутствует. В Соединенных Штатах тысяча двести сорок три женщины с таким идентификатором.
— Она социолог, мулатка, ей около сорока. Поищи.
— Кливленд, штат Огайо, университетский городок, — мгновенно отреагировал Джинн. — Включаю изображение.
Звездное небо за окном, полутьма, в которой смутно маячат очертания мебели… Я сообразил, что в Петербурге ясный день, без четверти двенадцать, а за океаном ночь — значит, Крис и Джим с Делайлой спят, равно как и Дэвид Драболд, мой профессор, и Бобби Рэнсом, мой приятель-свиновод. Нэнси тоже спала, и в вокодере слышались храп и негромкое деликатное сопение. Сопела, кажется, Нэнси, но сольную партию вел храп.
— Ничего не вижу, — сказал я. — Темно.
— Синтезирую визуальную картину в доступных тебе частотах, — отозвался Джинн.
Сумрак сменился четким цветным изображением: сначала — общий вид спальни, затем — кудрявая черноволосая головка Нэнси на подушке, а рядом с ней — белобрысый затылок. Этот затылок и храпел, а еще обнимал хозяйским жестом смуглые нэнсины плечи. С такой шелковистой, нежной, теплой кожей… — вспомнил я с невольным вздохом. Ну что было, то было! Я не завидовал белобрысому, скорее сочувствовал Нэнси — сам я, по крайней мере, не храплю. Оставив в покое заокеанских друзей и знакомых, мы с Джинном прогулялись по Европе. Старый Томас Диш уже читал лекцию: доска исписана формулами, липа студентов, унылые или сосредоточенные, и хрипловатый профессорский бас, вещавший о связи информации с энтропией… Гита в Марбурге кормила своих малышей: старший, двухгодовалый, сидел на высоком стульчике у стола, а близнецы-младенцы дружно сосали из бутылочек. Очень симпатичные, похожие на Гиту… Да и сама она выглядела прекрасно, но сердце мое не дрогнуло — дела с ней обстояли так же, как с Нэнси: что было, то было и прошло. Патрик Ксавье, мой парижский знакомец, завтракал; бельгиец Клод Жилло нежился в постели — и, к моему смущению, не один; Фабрицио Казн из Милана шагал по древней мостовой, размахивая портфелем и что-то бормоча под нос — видно, готовился к занятиям; пани Завадска из Краковского политехнического стирала пыль с компьютера. Новый айбиэмовский септяк! Позавидовав ей черной завистью, я отправился в апартаменты в Графском переулке, однако не к Михалеву, а выше этажом. Эта обитель была куда просторней, чем у Глеб Кириллыча: гостиная в половину моей квартиры с камином и венецианским окном, кабинет, спальня в коврах, с резными восточными табуретами, и еще одна комната, наверняка принадлежавшая Ахмету: в углу тут стоял деревянный чурбан с всаженными в него клинками. Сам Ахмет обнаружился на кухне, где кроме гигантского холодильника имели место ростеры и тостеры, микроволновка, кондиционер, посудомоечная машина и всякие иные агрегаты загадочного назначения. Но в холодильнике Ахмет не шарил и не готовил плов или цыпленка табака, а занимался важным делом: любезничал с кухаркой. Наши светловолосые дамы — мед для темпераментных южных мужчин… И надо заметить, Ахмет времени зря не терял и подобрался к этому меду ближе некуда.
— Это Ахмет Салех, мой знакомец, — пояснил я Джинну. — Он может меня слышать?
— Если пожелаешь. В данной ячейке теплых сгустков есть аудиоэффекторы — компьютер, три телевизора, радиоточка, музыкальный центр.
— Включи-ка все на полную мощность, — распорядился я. — А заодно — посудомойку и кондиционер.
Раздался рев и грохот, и женщина, одергивая блузку, с испугом отскочила от Ахмета.
— Полуденный намаз! — провозгласил я. — Не время грешить, правоверный! Обратись лицом к Мекке, а мыслями — к Аллаху!
Он разинул рот и рухнул на колени, а я, с сознанием исполненного долга, направился обозревать спальню. Тут, кроме ковров, табуреток и встроенного в стену шкафа, присутствовали низкое ложе под зеленым покрывалом, комод и зеркало от пола до потолка в резной ореховой раме. В нем отражалась постель, и я невольно вообразил приготовления Захры ко сну — пара туфелек у кровати, платье, брошенное на табурет, соскальзывающие с ног чулки, нежная грудь под вырезом ночной рубашки… За этим дивным миражом вползла прельстительная мысль, что я могу быть очевидцем девичьих вечерних таинств — в этой спальне или в другой по собственному выбору. Проникнуть в спальни, кабинеты, подземный бункер, кабину истребителя или командный пост авианосца, куда угодно, даже в венерианскую ракету… но главное — взглянуть в глаза Захры… наверное, она сейчас на кафедре…
Не без труда я справился с соблазном и просидел до ночи у терминала, беседуя с Джинном о том о сем. Можно сказать, что в эти дни я выпал из земного бытия, как иногда бывает, когда погружаешься в занимательную книгу; я не включал телевизор, не просматривал газет, и все события мира скользили вне моего сознания, далекие и смутные, будто дожди, пролившиеся где-то в верховьях Нила. Даже во сне я пребывал в своем особом измерении, не прекращая Дискуссий с электронным разумом, и толковали мы о ненависти и любви, жизни и смерти, религии и атеизме, термодинамике и финансах, богах и героях, об Александре, Цезаре, Христе, косметике, подводных лодках и философии Платона. Словом, о королях и капусте…
Звонок, раздавшийся утром в пятницу, вернул меня к реальности. Спросонья я побрел не к компьютеру, а в коридор, к телефону, ежась от холода и щупая щеки в трехдневной щетине. Побриться бы, а заодно и душ принять… как бы Белладонна не напугалась… совсем хозяин одичал… В трубке раздался голос Симагина: — Серега, ты? — Кажется, он… Спать ложился еще Серегой. — И до сих пор не проснулся, — заметил Алик. — Небось наука засосала? Варганишь диссер по ночам? Ну ладно… Я тут справки навел о твоих гарантах. Есть новости. — Какие? — Пыж твой — бывший сиделец! — Сиделец? — В смысле, сидел за фарцовку в особо крупных. Во глубине сибирских руд, в Иркутской области, еще в благословенную эру застоя… Два остальных фигуранта тоже не безупречны. Ичкеров — рыбка мелкая, на подхвате, а вот Салудо Альберт Максимович — персона поинтереснее. Тот еще хмырь! Дважды привлекался, однако в зону не попал. Склизкий! — Как килька в рассоле, — согласился я. — Вот что, Серый, зайду я к тебе часиков в шесть или в семь… Отвлекись от науки, потолкуем. Больно знакомцы у тебя любопытные.
— Заходи. Штраф приготовить? Пиво там или еще чего?
— Не надо пива. Народ хочет пирожных. Эклер, наполеон и это… как его… буше. А бухало я принесу.
Он вознамерился повесить трубку, но я торопливо промолвил:
— Слушай, майор, мучает меня один вопрос… Ты ведь на хрумков уже телегу информации собрал? Скажи, Ичкеров — он кто? Азербайджанец, чеченец, армянин?
Алик хохотнул.
— По паспорту — ассириец из Алаверди. Потомок Саргона и Ашшурбанапала. Слышал о таких?
— А разве они не вымерли? — пробормотал я в полном ошеломлении.
— Нет, как видишь. Справься у Сашки о подробностях, — сказал Алик и отключился.
— Ассириец! Надо же! — сообщил я Белладонне и начал одеваться.
От ассирийцев мысль перекинулась к персам, грекам и прочим древним римлянам, и я ощутил, что слишком засиделся в своей берлоге, что должен сделать паузу, пройтись и поразмыслить. Пауза, конечно, намечалась творческая, связанная с подведением итогов, и самое лучшее место для этаких пауз — Эрмитаж. Величие антуража способствует величию идей, но только с ноября по март, когда поток туристов иссякает и залы молчаливы и пустынны. Я временами хожу сюда и знаю, что всякий коридор и лоджия, зал и анфилада способствуют определенным думам, будят различные настроения, питая мозг многообразием неслышимых мелодий. Среди скульптур Кановы, где-нибудь у «Поцелуя Амура» или под ножками «Трех граций», мечтается про женщин и любовь, в Тронном зале приходят государственные мысли, а в Рыцарском, как и положено, думаешь о войнах и битвах, осадах, атаках и фланговых ударах. Если желаешь вспомнить о былом и потерзаться грустью одиночества, надо идти в двухсветный Павильонный зал, хрустальный и бело-золотой, с римской мозаикой, восточными арками, балконами и фонтанами. Раздумья философского плана рождает созерцание древностей на первом этаже, египетских мумий и статуэток, эллинских богов, лиц благородных римлянок и римлян, а также фресок, росписей и барельефов, не говоря уж о саркофагах. Глядя на них, уносишься мысленно в прошлое и понимаешь, как древен человек и все его заботы, от хлебной корки и крыши над головой до размышлений об устройстве мира. Мир изменялся не раз, однако заботы оставались. Теперь, с приходом Джинна, зреет еще одно изменение, может быть, решающее…
Я собрался, накормил Белладонну и поехал в центр. Погода была из рук вон; падал мокрый снег, по небу ходили свинцовые тучи, Стрелка со зданиями Биржи и Академии наук и правый берег скрылись за белой завесой, выпав из континуума реальности. В музейном вестибюле царили безлюдье и холод, и, покупая билет, я уловил недоуменный взгляд кассирши. Она закуталась в два платка, и на лице ее было написано: вроде нормальный парень, а заявился в этот ледник вместо пивбара или шашлычной… сидел бы там и ел горячее харчо… Ну что поделаешь! Как говорят у нас в Тибете, глаз ястреба не видит корма собаки. Я проследовал в залы с античными коллекциями и начал слоняться там на манер Винни Пуха, двигаясь сквозь мглу и холод тысячелетий от древностей египетских к древностям римским. Кроме парочки школьных экскурсий да бабушек-смотрительниц, тут не наблюдалось никого. Школьников юный энтузиазм не спас, и они потянулись наверх, где потеплее, а бабушки мерзли в залах-холодильниках, кашляли, сморкались, но бдительно за мной следили: не утащу ли я что-нибудь многотонное, Зевса Громовержца или бога Хнума. Это, впрочем, никак не мешало моим размышлениям.
Цель! Джинн спрашивал о цели, и этот вопрос был непростым, даже коварным. Возможно, рассчитанным на гения… Гений творит бессознательно и не представляет доказательств; ему открывается нечто, и это нечто — истина. Если исходить из этой тезы, я не гений; мне нужно все разложить по полочкам, и я не пренебрегаю доказательствами. Равным образом, как и последствиями своих решений.
Намерения могли быть благими, последствия — губительными. Скажем, я сформулировал бы цель как счастье человечества, задав разумный срок, пару столетий, в течение коих надо прийти к счастливому житию. Но счастье понимается по-разному в разных краях — есть западный вариант, китайский, индийский, исламский и так далее, включая пигмеев из бассейна Конго и австралийских аборигенов. Во имя счастья одних Джинну пришлось бы расправиться с другими, что было для него не так уж сложно, если припомнить, что он контролировал транспорт, оружие, энергию и информацию. Но главное — его мыслительный потенциал! Он мог, пожалуй, не швыряться ракетами и не палить из лазеров, а вывести бациллу или открыть селективный фактор, влияющий на тот или иной народ, на черных, желтых или белых, на мусульман-фанатиков или свидетелей Иеговы, на приверженцев демократии или тирании. Убрать одних по-тихому, под видом эпидемии или природного катаклизма, чтоб обеспечить счастье другим…
Конечно, сей людоедский поворот событий был абсолютно неприемлем. Цель могла быть задана иначе, как идеал всеобщего примирения и разрешения всех споров и конфликтов в религиозной, расовой, культурной и тому подобных сферах, включая распределение ресурсов и богатств. Ведь недовольство и раздоры проистекают из нищеты и зависти, а если все богаты и довольны, то легче и консенсуса достичь. Джинн, несомненно, мог повлиять на экономику, смягчить шероховатости и даже, может быть, построить такую модель развития, которая вела бы прямо в рай, но я сомневался, что эти планы доступны тайному осуществлению. Нелепый парадокс! Втайне можно уничтожить и разрушить, маскируясь под несчастный случай, но созидать в планетарных масштабах — дело нереальное. Чужое влияние вычислят, переберут все варианты от Доктора Зло до инопланетян и установят истинный источник — и тогда начнется! Джинн был прав: последствия его легализации в нашем сумасшедшем мире казались столь же непредсказуемыми, как турбулентные потоки в водопадах. Паника и хаос, крах валют и рынков, религиозные секты, ужас Армагеддона, разгул анархии, джихад, разбой и мировая война… Он, разумеется, мог блокировать ракеты и электронику, связь и транспорт, но оставались еще винтовки и штыки, пушки и пулеметы, взрывчатка и боевые ОВ, а также камикадзе с карманными атомными бомбами. Кого-то пришлось бы уничтожить, сжечь, нарезать лазером в лапшу, и это распределение богатств по новой, с грядущим примирением, стоило бы миллионов жертв. Так и так не обойдешься без насилия!
Я обнаружил, что смотрю на жреца Па-ди-иста, мумию трехтысячелетней давности, уютно возлегшую в стеклянной витрине. Жрец иронично ухмылялся, намекая, что хоть прогресс с его времен шагнул вперед, лохастых сявок в мире не убавилось, и вот одна из них, Сергей Невлюдов, дырка в фараоновой заднице. Словил золотую рыбку, перхоть северопальмирская? Ну так не щелкай клювом, не суй свой шнобель в великие дела, а беспокойся о себе, о собственном своем благополучии! Твой фарт, клянусь Анубисом! Стань богатым, веник, прикупи верблюдов и ослов, да кадиллаков с мерседесами, да виллу на Канарах, небоскреб в Париже и ранчо под славным городом Багдадом… Не забудь о титуле, титулы нынче недороги, хоть графа, хоть эмира, хоть султана… Станешь принцем Сираджем ибн Мусафаром ат-Нав-фали — глядишь, и с принцессой сладится! Ты ведь хочешь ее, эту принцесску? Вижу, хочешь… вон ручонки-то дрожат и слюнка капает! — Изобрази сквозняк, служитель культа, — строго сказал я жрецу. — Ты что же, меня за чмо последнее держишь? Перед тобой российский интеллигент! Нас мировые проблемы волнуют! Так уж мы, интеллигенты, устроены, фитиль древнеегипетский! Гнусно усмехнувшись, Па-ди-ист пробормотал:
— Интилихенты! Мыслители хреновы! В каменоломни вас да в рудники, чтоб не баламутили державу! Вот это будет по-нашему!
— По-нашему тоже, — откликнулся я и направил стопы в зал благородных эллинов.
Нет, конечно кое в чем этот нильский падекатр был, пожалуй, прав, и отрицать очевидное — глупость. Точно такая же, как одолжиться у Катерины, имея под рукой персонального Хоттабыча… Но мелкое и личное должно уступать задачам первого ряда, и это безусловный постулат. Его диктует не величие моей души, не широта ума и сердца, а лишь разумный эгоизм, так как все мы в этом мире повязаны одной веревочкой. Скажем, женюсь я на Захре, и будем мы жить-поживать в северной русской столице, пока не взорвут наш блочный дворец чеченские боевики… Или поселимся в Нью-Йорке, пойдем прогуляться по Бродвею, и нас протаранят «боингом», как небоскребы торгового центра… Или возляжем под чинарой багдадского ранчо, чтобы отведать персиков и груш, а нас накроет залпом авианосец «Китти Хок»… Ну не нас, так наших деток или внуков! И никто за них не заступится, кроме меня, ни Будда, ни Аллах, ни Иегова… Как известно, god is always on the side of the big battalions[36].
В общем, мелкие цели мне не годились, и я продолжал размышлять о глобальном под статуями греческих богов, пока не сподобился мысли умеренной и разумной. Была же она такова: Джинну не надо вести ансамбль теплых сгустков к сияющим вершинам счастья, а следует дать им шанс для достижения этих вершин самостоятельным путем. Некое дополнительное преимущество, чтобы дорога была поровней и без засад, чреватых кровавыми схватками с разбойным людом… То есть речь шла о косвенном влиянии, мощном и эффективном, но скрытном, о какой-то идее, модели или проекте, который можно пустить в оборот, таком проекте, чтобы его полезность не вызывала сомнений, а реализация была посильна даже Монголии и Уругваю. Может быть, об источнике чистой энергии, экологическом топливе или хлебе из солнечных лучей… Но, по зрелом размышлении, я отказался от таких благодеяний. Гипотетическое преимущество должно стимулировать экономику и быть безопасным, совершенно неприменимым для военных целей, тогда как энергия, топливо и хлеб — кровь войны. Преподнеси подобные подарки, и что получится? Демографический взрыв и резня за каждый метр территории, где можно поставить кровать и наплодить десяток потомков…
Довольный своей предусмотрительностью, я отправился домой и, стоя перед дверью (филенка все еще была на месте), вспомнил об эклерах, наполеонах и буше. К счастью, до универсама, где водилась эта дичь, было два шага; я развернулся, пересек улицу и закупил провиант, включая сосиски и белладоннину рыбку.
В половине седьмого раздался звонок.
— Кто там?
— Крокодил Гена с Чебурашкой.
— Я открыл дверь — там стоял Симагин. Бодрый, энергичный и в полном одиночестве.
— А где же Чебурашка?
Алик замялся.
— Где-то тут. Прячется, скромняга… Стесняется. — Он вытащил шкалик из кармана, повертел у меня под носом, затем, пыхтя и отдуваясь, начал стаскивать пальто.
Мы прошли в гостиную, выпили по рюмке, затем мой друг плюхнулся в кресло, поднял глаза к потолку и сообщил:
— Буду копать твоих гарантов. Что-нибудь да откопаю.
Это было серьезное заявление, так как мелочовкой, всякими киосками да кафешками, Симагин не занимался. Его излюбленным амплуа являлись стремительные налеты и крупные операции вроде той, что проводили позапрошлым летом под кодовым названием «Ураган». Тогда ураганный удар налоговой полиции обрушился на хлебопекарные и макаронные фабрики, и врезали им так, что часть персонала переселилась на кладбище. В прямом, не в переносном смысле — скажем, «макаронников» накрыли в том момент, когда директор и главбух трудились над платежными ведомостями, изображая подписи трех десятков «мертвых душ».
Алик выпил еще рюмку и уставился на меня.
— Итак, гражданин Невлюдов, что вы имеете сообщить по поводу своей трудовой деятельности? Какие программки вы составляли для ха-рэ-эм «Гарантия»? Двойного бухгалтерского учета? С дырой, куда сливают черный нал? С отстойником для ценных материалов, бронзы, мрамора и палисандра? Следствие желает услышать подробности.
— Ну… — начал я, но Алик тут же треснул кулаком по колену, выпучил глаза и рявкнул:
— Молчать! Колись, падла! Только чистосердечное признание может смягчить твою участь!
— Никаких признаний без адвоката, — сказал я. — И зачитайте мне, инспектор, закон о правах подследственных.
Алик ухмыльнулся и забубнил:
— Все, чего ты тут наболтаешь, будет поставлено тебе в вину, по каковой причине ты имеешь право молчать, но если ты им воспользуешься, зонтик с ручкой, я переломаю тебе кости, вырву печень и сожру ее на глазах у твоего сраного адвоката.
Я вздохнул.
— Тогда признаюсь. Дело, видишь ли, валютное, хлебное…
Внимая моей истории о машинке-разбраковщике, Симагин мечтательно закатывал глаза, хмыкал, чмокал и испускал другие поощрительные звуки. Наверное, дело и правда было хлебное, и он уже прикидывал, как начнет раскручивать сидельца Пыжа вкупе с ассирийцем Ичкеровым и склизким хмырем Альбертом Салудо. Как возьмет их за галстук, перекроет кислород, покажет, как крутить динаму, и сделает гуляш по почкам… Разумеется, фигурально, в том же смысле, в каком Салудо любопытствовал насчет моей тети.
Дослушав до конца, Алик потянулся, хрустнул суставами и произнес:
— Интересно, а есть ли у них лицензия на этакие игрушки? Ну ничего, выясним… С Калиденко Михал Георгичем я договорился. Сперва схожу к твоим хрумкам один, поразнюхаю, что там да как. Потом устрою им ревизию. Внезапную!
Надо знать, что такое ревизия по-симагински. Взвод парней в черных масках, бронежилетах и с автоматами; дым столбом, топот, грохот, рев: на пол!.. не двигаться!.. руки прочь от сейфов!.. Представив эту сладостную картину, я робко предложил:
— А зачем тебе к ним таскаться в грустном одиночестве? Может, сразу и ревизию устроишь?
Симагин снисходительно похлопал меня по плечу.
— Промочи горло, доходяга, успокойся и не учи ученого. Я знаю, как хмырей на вшивость проверять!
Я пригубил, Алик опрокинул, затем пошевелил пальцами, будто касаясь клавиш фортепиано, и с шумом втянул воздух.
— Чаю? — спросил я. — С пирожными?
— Нет, гитару. Буду петь. Раз ты во всем сознался, не нужно лишних слов.
В его могучих руках гитара казалась совсем небольшой. Он подмигнул мне, склонил голову, бережно коснулся струн. Они вскрикнули, застонали, словно семь женщин, истосковавшихся по ласке. Сам я не играю и никогда не видел, чтобы играл отец. Может быть, в молодости… А может, и не его эта гитара, а память о друге, которого он не хотел забывать? Теперь не спросишь, не узнаешь… Голос Алика звенел, и звуки, рассекая тишину, уносились куда-то стаей встревоженных птиц.
Не успел отзвучать последний аккорд, как в дверь позвонили. Высунувшись на лестничную площадку, я узрел там Катерину с Олюшкой: первая — в домашнем халатике, вторая — в нарядном платьице, будто в гости собралась. Так оно и оказалось.
— Ребенок к тебе просится, — промолвила Катерина. — Примешь? Но чтобы домой не позже девяти!
Я распахнул дверь пошире.
— В нашей компании только юных дам и не хватает!
Олюшка вошла, распространяя аромат незабудок и детской свежести, и Белладонна, дремавшая на диванчике в прихожей, тут же встрепенулась, спрыгнула на пол и дружелюбно мурлыкнула.
— Мяу-мяу, — поздоровалась с ней Олюшка и, подхватив Белладонну левой рукой, прижала к себе, а правой уцепилась за мой палец. — Дядя Алик пришел и поет? Слышала, слышала! Раз поет, должен сказку рассказать.
— Должен. Уговор дороже денег, — согласился я и повел свою гостью в комнату.
Через пару минут она уже сидела у Симагина на коленях, излагая свои требования: сказку на полчаса и пострашнее. Забавно они смотрелись вместе: светлый хрупкий эльф на колене тролля.
Алик призадумался (видно, вспоминал самый жуткий случай в полицейской практике), хмыкнул и наморщил лоб:
— Есть один эпизод! Жил да был в недалекое время некий хмырь…
— Змей Горыныч? Или Кощей Бессмертный? — перебила Олюшка, щекоча колючую щеку Симагина мягкими кудрями.
Тот снова впал в задумчивость, потом решительно тряхнул головой.
— Кощей! Он самый, супостат! Только не Бессмертный, а с другим прозванием, от латинского слова аннексия. По-нашему это значит цапать. — Для наглядности Алик стиснул огромный кулачище. — Вот он и цапал где мог. Жадюга, понимаешь, патологический тип; жил себе не тужил, зашибал круто, ел сладко, пил да веселился, а подати казне были за десять лет не плачены. Только проведал об этом самый главный начальник в нашем царстве государстве, проведал и ужасно разозлился: ножками затопал, ручками захлопал и говорит строгим голосом…
Олюшка, широко распахнув глазенки, дернула Алика за палец.
— Дядь Алик! А кто был самый главный? Царь Берендей, да?
— Берендей так Берендей. — Мой друг покладисто кивнул. — Пусть будет Берендей, грозный наш царь-батюшка… Значит, разгневался он, призвал к себе Ивана-царевича и строгим голосом молвил: «Слушай, сын разлюбезный, приватизатор ласковый, мою державную волю! Иди-ка ты к Кощею свет Аннексию и проверь все как есть: все его захоронки и сундуки, все счета и вклады в заморских банках и всю его поганую бухгалтерскую отчетность. А проверивши, взыщи с него подати и недоимки за десять прошлых лет и за десять будущих. И чтоб по мильену на год вышло, причем в самой твердой валюте!»
Иван— царевич только темя почесал и говорит: «А ну как не отдаст добром, царь-батюшка? Кощей, он такой… его на оглобле не объедешь…» Царь в ответ нахмурился: «Взыщи! Аль не ты у меня в первых помощниках ходишь? А чтоб взыскивать было легче, возьми с собой добрых молодцев-опричников, и коль вражье семя положенного не отдаст, куй его в железа и на этап! Сидеть ему, поганцу, в краях сибирских, как мамонту в вечной мерзлоте!» С таким наказом Иван-царевич и отбыл, прихватив полдюжины верных сотоварищей…
— А полдюжины — это сколько? — спросила Олюшка. Алик поднял глаза вверх и нахмурился, будто пересчитывая про себя.
— Шестеро, отроковица. Но это так, для поддержания беседы. Может, их меньше было или больше… я уж не помню.
— Не справиться им с Кощеем, — засомневалась Олюшка. — Еще и счета проверять в заморских банках… А как их проверить? Они ведь все тремя печатями запечатаны и компьютерами заколдованы! Не веришь, спроси дядю Сережу! Или мамочку Катю!
Оля была современной барышней; банки, счета и компьютеры ее не смущали. Чего тут смущаться? С Тришкой она познакомилась в самых младенческих годах, а насчет счетов и банков ее просветила мамочка, незаурядный финансист. Я бы сказал, гениальный! Подробности ее карьеры были мне неизвестны, но одну деталь Катерина не скрывала: все фирмы, где ей пришлось потрудиться, произрастали на кредитах и в «час икс» с завидной регулярностью кончали самоубийством. Я думаю, оттого, что вид собственных векселей был им мерзок и неприятен.
Но на повестке дня у нас стоял иной вопрос: совладает ли Иван-царевич с Кощеем свет Аннексией. Алик считал эту задачу вполне посильной.
— Ты насчет царевича не беспокойся, — откликнулся он, приласкав олины кудряшки. — Во-первых, Иван сам был парень не промах, а во-вторых, выбрал он крутых товарищей: все, как один, богатыри-министры и знатные бояре. Правда, бедноватые — на водку им хватало, а вот коньяк был не по карману.
Олюшка с пониманием усмехнулась: разница между водной и коньяком, бедностью и богатством тоже не была для нее тайной. Снова дернув Симагина за палец, она велела продолжать.
— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается в Российском государстве, — философски заметил мой друг. — Однако же пришло время, подступил Иван-царевич со своей дружиной к Кощею свет Аннексию, взял его за грудки, тряханул пару раз и рявкнул: «Всю отчетность — на этот стол! А на тот — двадцать мильенов!» Кощей засуетился. «Несправедливо, ребятушки, — говорит, — или отчетность, или уж мильены. Вот так будет по-нашему, по рассейским понятиям!» Царевич не возражал, вытащил пустой кошель, раскрыл и молвил: «Мильены, супостат! И поживее!» — «Нет проблем», — отвечает Кощей и выкладывает на стол двадцать мильенов старыми российскими рублями.
Узрев такое поношение казне и власти, дружина взволновалась и закричала в голос: «Такими не пойдет! Заокеанскими подавай, гнида! Шутки вздумал шутить? Шутки с девками хороши, а мы ребята сурьезные! Враз на Колыму укатаем!»
Приуныл Кощей, закручинился, ибо в заокеанских тугриках сумма выходила немалая. Как тут выкрутишься?… Что поделаешь?… Другой, может, и спасовал бы, да только не свет Аннексий; ему-то было известно, как Иван-царевичу и боярам угодить. Щелкнул он перстами, велел девкам-чернавкам финскую баньку топить, а слугам — скатерть-самобранку разворачивать и усаживать гостей к яствам да нитью. Когда же все помылись, наелись и натешились, Кощей и говорит: «Не губите, ребятушки, душу христианскую, столь полезную для отечества! Доложите царю-батюшке, что обнищал я вконец и сделался полным банкротом. Так что нет у меня двадцати заокеанских мильенов, а есть лишь один, вот я вам его и отдам. Не в казну государеву, а вам лично и персонально. Казна ведь что яма бездонная, что туда попало, то для людишек пропало, а у вас, чаю, карманцы без дырок. Берите мильен, делите промеж собой, а там, глядишь, займетесь полезным делом — благотворительным али еще каким».
Оскорбился Иван-царевич, насупился. «Нас не купишь!» — говорит. И дружина ему вослед заголосила: «Не купишь! Не купишь!» и приготовилась бить Кощея канделябрами и метать посуду на пол.
— «Я разве покупаю? — изумился Кощей. — Вы, ребятушки, не так меня поняли! Не покупаю я вас, а за работу плачу, за труды ваши праведные, однако нетяжкие. Куда попроще будет, чем мою отчетность проверять!»
— «Это ж какие такие труды?» — спрашивает Иван-царевич с законным подозрением. А Кощей ему в ответ: «Бессонница у меня, добрый молодец! Совсем замучила, лиходейка! Никакие снадобья заморские не помогают! Одним спасаюсь: читаю на ночь мудрые истории, и чем они мудрей и хитроумней, тем скорее в сон меня клонит. Вот вы мне такую историю и напишите, всем своим молодецким коллективом. И станет мильен не просто мильен, а гонорар! Да еще авансом!»
— Тут Иван-царевич призадумался, склонил буйну голову и начал с товарищами совет держать да шептаться. А пошептавшись, спрашивает: «Про что же ты историю хочешь, супостат? Про Марью-искусницу, что на фу-фу «Жигули» продавала? Или про Финиста — Ясна сокола из компании Эмэмэм? Или про то, как Илюша Муромец усмирял соловьев-разбойников с чеченских гор?»
— «Те истории неприятные, — говорит Кощей. — Человеку солидному, благонадежному их и слушать-то страшно! Нет, мне другое по душе. Финансовое! Экономическое! Скажем, о приватизации… Вот о ней, родимой, я бы почитал! Такие сладкие сны потом снятся!»
Глядя на Олюшку (она была в полном восторге), я не выдержал и фыркнул. Алик недовольно покосился на меня.
— Ты чего, Серый? Не нравится? Думаешь, сказка про твоих хрумков поинтересней?
— Плагиат, инспектор. И тематика не очень… неподходящая для ребенка.
— Плагиа-ат… — протянул Симагин. — Какой же плагиат, если все как в жизни? Это народное творчество, критикан ты мой ненаглядный, новый российский эпос. А что касается тематики, так я ведь не Бажов в малахитовых подвесках, я — полицейский, и сказки у меня полицейские. А ты — фарисей и узколобый ретроград. Иди-ка лучше на кухню и приготовь нам чаю. Можно с пирожными.
Услыхав про пирожные, Олюшка улыбнулась и с царственным видом махнула ручкой. Я отправился, куда велели. За моей спиной дитя приступило к допросу: что такое плагиат, ретроград и фарисей и почему у дяди Сережи узкий лоб?… Может, не очень узкий? От бровей до волос помещаются две ладошки… Сама проверяла!
— Ах ты, моя прелесть… — пробормотал я и полез в холодильник за пирожными.
В девять гости удалились, и мы с Белладонной, сытые, довольные и успокоенные душой, сели к компьютеру. Кто скрасит жизнь человеку, который потерял отца и мать? Правильно, друзья и дети. А кто согреет его сердце? Женщина… Та, с колдовскими очами и губами, как лепестки тюльпана… Одно лишь слово, и покорный Джинн явит чарующий облик…
Не выдержал, мой грех! Но мне так захотелось ее увидеть… Я не заглядывал в спальню, клянусь!.. Она была в комнате, которую я счел кабинетом; сидела, что-то выписывая из толстенных книг, и я смотрел, как странно двигается ее рука — справа налево, покрывая листок бумаги затейливой вязью арабских письмен. Она наклонилась, долина меж смуглых грудей мелькнула в вырезе блузки, потом Захра откинулась назад и посмотрела прямо на меня. Изображение было четким и таким живым, словно нас разделяло окно, а не заполненные холодом и мокрым снегом километры. Я улыбнулся ей, и — чудо! — она ответила улыбкой. Звезды сияли в ее ресницах, под арками бровей таился дарующий забвение туман…
— Прервать контакт, — сказал я с тяжким вздохом и повернулся к Белладонне. — Хороша? — Она одобрительно мяукнула. — Проведаем теперь хрумков? Может, разглядим чего полезного для Аллигатора? Чтобы ему было полегче копать и глотать…
Не в кайф занятие, решил я, поднимаясь с кресла. Само собой, проведать надо, но попозже, ожесточившись и ощетинившись, когда угаснет память о свидании с любимой. Не мог же я смотреть на блин с ушами или на керимов ассирийский нос после ее улыбки! Ибо, коснувшись небесных сфер, узрел светоч своей души и радость сердца.
Интермедия 3
КОСНУТЬСЯ НЕБА
И мы коснулись неба и нашли, что оно наполнено стражами могучими и светочами.
Коран, сура 72. Джинны.
Али ибн Аби Талиб, имам и четвертый праведный халиф, был двоюродным братом Пророка и супругом дочери его Фатимы. От них мы ведем свой род, от их старшего сына Хасана, но ни Али, ни Фатима, ни Хасан, ни брат его Хуссейн не обладали даром предвидения. Это особое отличие, что проявляется у фатимидов раз в двести или триста лет, у женщин или у мужчин, и если отмечен мужчина, то он становится имамом и вождем, а если женщина — быть ей несчастной. Во всяком случае, так было в прежние времена, когда мужчины не склоняли слух к речам и мнениям умных женщин…
Дар наш — от святого Пророка. Говорят, что с юности посещали его яркие сновидения, расцвеченные всеми красками мира, и в этих снах встречался он с мудрыми людьми, с ангелами Исрафилом и Джибрилом и, быть может, с самим Аллахом. Еще говорят, что в зрелых годах случались у Мухаммеда видения наяву, когда лицо его бледнело и покрывалось каплями испарины, а тело сотрясала дрожь — и тогда Пророк ложился, завернувшись в свои одежды, и просил, чтобы все оставили его и не мешали внимать слову Божию. А потом он вставал, и услышанное им сохранялось в памяти, и мог он произнести это вслух, и говорил речи мудрые и совершенные — и так, отрывок за отрывком, сура за сурой, он сотворил Коран, Святую Книгу, что продиктована Аллахом. Воистину, он мог коснуться неба и увидеть, что наполняют его стражи могучие и светочи!
Мой дар скромнее: не слышу я божественных слов, а лишь могу найти свой Светоч. Но стоит ли жалеть? Мужчина касается неба, если он мудр и отважен, а женщине в том помогает любовь.
Светоч мой, где ты? Я помню о тебе и жду… жду, когда придешь, и мы коснемся неба вместе… Я чувствую, что-то с тобой происходит, что-то невероятное, удивительное, чему нет названий и объяснений! Ахмет клянется, что слышал твой голос, звучавший в нашем доме, и голос был таков, что содрогнулись стены и чуть не обрушился потолок. Верить ему или не верить? Можно не верить, но Валия сказала то же самое… Вдруг ты в самом деле повелитель джиннов?
Наверное, это правда. Джинны ведь бывают всякие — те, которых сотворил Аллах, и те, что созданы людьми, их мыслью и разумом или смутным чувством, которое овеществляет призраки грез и сновидений. Какой из джиннов повинуется тебе? И может ли он меня похитить и принести на твое ложе?
Я бы не возражала…
Глава 12
ЗАНАВЕС ПОДНЯТ
Омар Хайям. Рубаи
- Что там, за ветхой занавеской тьмы?
- В гаданиях запутались умы…
- Когда же с треском рухнет занавеска,
- Увидят все, как ошибались мы.
Конец февраля выдался вьюжным, ветреным, мрачным, но, несмотря на это, мир блистал ослепительными красками. Я будто бы проснулся. Дремал себе дремал в привычной непроходимой серости и вдруг воспрянул от сна к иному существованию, значительной и яркой жизни, полной тайн, загадок и любви. К вечному празднику!
Ощущение чуда не покидало меня. Я знал, что это опасное состояние: одних чудеса настораживают, других пугают, ибо за чудным и дивным всегда мерещится нечто странное, незнакомое и, весьма возможно, сулящее беду. Другая опасность чуда в том, что оно вырывает нас из рамок обыденного, ломает связи с привычной Вселенной и гасит реакцию на неприятности, грозящие нам всякий день, — голод, болезнь, финансовые катастрофы и, выражаясь фигурально, бандитские пули. Но я принадлежу к тем людям, которых вдохновляют чудеса, недаром «Amazing News» — мое излюбленное чтение. Кстати, за последнюю неделю там ничего потрясающего не сообщалось, кроме того, что террориста Усаму бен Ладена прикончили в пятый раз, подбросив ему финик с тротиловой начинкой. Итак, в Сети восстановилась тишина; электронный полтергейст закончился, никто не вращал антенны телескопов, не палил из лазера по Луне и не натравливал на мирных обывателей стиральные машины. Маги и экстрасенсы объявили, что звездолет пришельцев стартовал с Земли, груженный девственницами для евгенических экспериментов, но истинная причина была известна лишь Теплой Капле, то есть Сергею Невлюдову. Мой Джинн взрослел, умнел и не желал привлечь к себе внимание; к тому же он обзавелся постоянным консультантом и, вероятно, воспринимал его как точку сгущения всей суетливой человеческой породы.
Почему бы и нет? Ведь идея о множестве независимых разумов и автономных индивидуальностей была ему чужда. Мы, люди, в отличие него, мыслили однолинейно и примитивно; сознание наше устроено так, что мы способны поддерживать в активном состоянии одну цепочку связных мыслей, осуществляя притом какие-то привычные механистические действия — скажем, прогуливаясь по аллеям в садике или почесывая, где чешется. Бытует мнение, что Юлий Цезарь мог в один прием писать любезные послания супруге, драить с песочком легатов и диктовать «Записки о Галльской войне». Но одновременность этих ментальных процедур обманчива; на самом деле Цезарь, человек недюжинный, переключался с одной цепочки связных мыслей на другую, сохраняя в памяти несколько мысленных блоков. Они, эти блоки или программы, являлись, конечно, неравновесными, и Цезарь ранжировал их в порядке первого, второго и третьего приоритетов. Лично я считаю, что главными были «Записки», под номером два стояла выволочка легатам за плохо начищенные бляхи, ну а послания Кальпурнии можно считать последним из текущих дел.
Тем компьютерам, что появились в пятидесятых годах двадцатого столетия, было далеко до Цезаря. Эти электронные тупицы снабжались только одним процессором[38], который извлекал из памяти команду за командой и выполнял их, реализуя одну-единственную программу — или, если угодно, одну цепочку элементарных мыслей. В те годы информация вводилась с перфокарт, а результат печатался на бумажной ленте, и оба процесса были долгими: вычисления могли потребовать минуту, а ввод и вывод — часа, и весь этот час процессор спал, пока не закончит трудиться периферийная электромеханика. Совсем невыгодный вариант! И потому в компьютер стали загружать несколько программ, между которыми делилось процессорное время: основная задача считалась в первую очередь, а в паузах, связанных с вводом-выводом, шли другие, запасные. Так возникли понятия о разделении времени, приоритетном доступе, основной и фоновых задачах, а также о системном софте[39], руководившем процедурой счета.
Следующим шагом были многопроцессорные системы или локальная компьютерная сеть. Представьте агрегат из множества компьютеров, соединенных с главным компьютерным модулем, стоящим на страже воздушных границ. Одни компьютеры управляют радарами, отслеживая самолеты и ракеты в определенных зонах; при появлении объекта они определяют его параметры и требуют пароль, пересылая сведения в центр. Главный модуль, снабженный базой данных для всех летающих объектов, осуществляет их идентификацию, а если она невозможна или пароль не сообщен, дает команду другим компьютерам, боевым: крышки с шахт долой, ракеты нацелить, пли! Потом — ракета слева, ракета справа, ракета по курсу… Бах-бабах! Мы разнесли тарелку, чертов НЛО с Альфы Центавра! Вешаем медали программистам…
Объедините локальные сети и одиночные компьютеры, добавьте всевозможные программы, набейте базы данных электронными журналами и книгами, картинами и фильмами, финансовой, научной и медицинской информацией, свяжите все это с банками и транспортом, заводами и АТС, с библиотеками, парламентами, научными и оборонными центрами — словом, просуньте кабель всюду, где блуждают электрические токи, и вы получите Глобальную Общепланетную Сеть. Целостное виртуальное пространство, среду обитания Джинна, его великую державу… Практически необозримую, ибо на каждый теплый сгусток в нашем мире приходятся сотни приборов, от батарейки, лампочки и утюга до генераторов атомных станций.
Но не в количестве суть, а в качественных изменениях. В конце концов, все периферийные устройства, видеодатчики и микрофоны, автопилоты и оружие, антенны, локаторы, кондиционеры, тостеры и холодильники, станки и роботизированные производства — словом, все. что Джинн называл своими эффекторами, — уподоблялось нашим пальцам, либо глазам, либо ушам. Больше того, больше другого, больше третьего… Более чуткие конечности, более острые зрение и слух, более широкий диапазон восприятия, от радиоволн до гамма-квантов… Человек не в силах этого ощутить, но может понять, и довольно легко, пользуясь методом аналогии. А вот разобраться с мышлением Джинна — задачка потруднее.
Разум его являлся полимодальным и динамически распределенным. Первое означало, что его сознание включает — или дробится — на множество более мелких сознаний, которые он называл мыслительными центрами. Базой подобных центров мог быть один компьютер или несколько, и эти ансамбли, включавшие, разумеется, необходимые данные и программы, имели различные степени автономии, от бессознательной частицы до наделенного разумом «под»-существа. «Под», ибо они не обладали индивидуальностью, а доля разума, отпущенная им, была согласована со сложностью решаемой задачи. Центры порождались проблемами, вызвавшими у Джинна интерес, и в период своего существования могли подвергнуться редукции или же, наоборот, быть развернутыми в более крупные конгломераты, если задача была им не по силам. После того как достигался результат, центр расформировывался либо модифицировался, и сей процесс — учитывая тысячи проблем, решаемых Джинном — шел квазинепрерывно, со скважностью в сотые доли секунды. Это и означало «динамически распределенный разум»; иными словами, Джинн дробил свои «мозги» между тысячами временных центров, создавая их или уничтожая по мере надобности. Совсем не человеческий способ мышления, но очень похожий на работу многопроцессорной системы.
Отсюда вытекало, что я говорю не с Джинном, а с его частицей, контактным центром, выделенным для общения с Сергеем Невлюдовым. Он обозначал эту часть мордочкой Белладонны, но во время наших бесед, если вопрос того требовал, мощность контактного центра росла — он превращался в Багиру, а в очень редких случаях — в Чеширского кота. Последний, возможно, составлял процентов пятьдесят от разума Джинна, а значит, с реальной точки зрения был эквивалентен полному его сознанию. Итак, он представал передо мной в трех ипостасях, между которыми имелся ряд переходных ступеней, может быть десятки и сотни, и было нерационально присваивать каждой имя и облик. Из практических соображений я ограничился тремя уровнями разума и посвятил несколько дней, чтоб выяснить соотношение меж ними. Конечно, эта задача являлась некорректной, и после длительной дискуссии мы подошли к ней с позиций теории множеств и согласились считать соотношение таким: конечное множество — бесконечное (инфинитное), но счетное множество — множество мощностью континуума[40]. Я понимал, что это лишь отдаленная аналогия, подчеркивающая разницу между Джинном-кошкой, Джинном-Багирой и Джинном — Чеширским котом, но иных способов их сравнения, пожалуй, не существовало.
Хочу подчеркнуть, что речь идет не о количестве элементарных ячеек хранения информации, а об уровне ее переработки, определяющем разумность того или иного существа. Человеческий мозг, едва ли не самая сложная система во Вселенной, включает пятнадцать миллиардов клеток-нейронов[41], тогда как ресурс оперативной памяти в Сети, если считать его в битах или в байтах, был выше на пять-шесть порядков. Ну и что с того? Вес мозга и количество клеток у имбецила и гения примерно одинаковы, но первый способен лишь сопли пускать да пересчитывать пальцы, второй же творит великие теории, симфонии, картины, религиозные и философские учения. Сеть и была таким имбецилом до появления Джинна.
Но, несмотря на всю его мощь, существовали темы, на коих мы спотыкались — взять хотя бы понятия веры, религии, священнослужения. Отец утверждал, что вера — очень интимный процесс, личное дело каждого. Никто не должен становиться между человеком и богом, и все священники, миссионеры, все профессиональные посредники, тянущие руки к небесам и нашим кошелькам, впадают в грех гордыни и кощунствуют. Когда у отца интересовались, верит ли в бога он сам, отец отвечал: бог — утешение слабых. И этим все сказано.
Как объяснить подобные вещи лишенному плоти существу, чей разум строг, логичен и требует определений всякого понятия? С любовью, чувством иррациональным, все же было проще; любовь воспринималась Джинном как связь между людьми, проистекавшая из их родства, духовной близости, телесного влечения, и все эти материи, а также сами люди, были реальны, а значит, в какой-то мере постижимы. Но вера!.. Вера во всемогущего Создателя, которого в природе нет, любовь к абстракции, которая ничем себя не проявляет, книги, написанные от имени божества, жертвенный пыл, фанатизм, обрядность и, наконец, убежденность в том, что за вратами смерти лежат дороги к аду или раю… Это казалось ему нелепым, необъяснимым, и я мог лишь гадать, сколько десятков мыслящих центров трудились над аспектами теологической проблемы.
Имелся, впрочем, круг вопросов, не вызывавших сложностей.
Как— то, решив понаблюдать за хрумками, я лицезрел их поутру: Пыжа за столом-саркофагом в «усыпальнице», Альберта в его «скотобойне», украшенной парой топоров и прочими мясницкими орудиями, и ассирийца Керима — тот был в своих чертогах, но снаряжался к выезду. Примерно так, как Шварценеггер в «Коммандо»: высокие башмаки, пояс с мобильником, тужурка черной кожи, в один карман — бумажник, в другой — сигнальный брелок и ключи от машины, на пальцы — перстни, на шею — золотую цепь… Прикид роскошней некуда! Подвесить к цепочке кистень, и хоть сейчас на большую дорогу!
— Теплые сгустки Альберт Салудо, Керим Ичкеров и Петр Пыж, — перечислил Джинн голосом коммивояжера, предлагающего порченый товар. — Они представляют для тебя опасность?
— В некотором смысле, — признался я.
— Ты вызвал защитника. Александр Симагин — твой защитник и друг. — Это был не вопрос, а констатация факта. — Я наблюдаю, как он действует. Он собирает информацию. Он был у теплых сгустков, опасных для твоей стабильности. Это эффективная стратегия?
— Полагаю, да. Симагин — очень опытный защитник.
— Что он сделает с теми тремя теплыми сгустками? Прекратит их существование?
— Это вряд ли. Закон гласит: за всякий проступок — свое воздаяние. Смерть была бы слишком суровой карой.
Секунду-другую Джинн размышлял, затем полюбопытствовал:
— Александр Симагин — твой единственный защитник?
— Ну почему же… Во-первых, я сам могу себя защитить, а во-вторых, есть и другие защитники.
— Ты мог бы их привлечь.
— Зачем?
— Больше защитников, больше безопасность, — заметил Джинн.
Кажется, он не был равнодушен к проблеме моего телесного здоровья.
— У защитников много дел, и ни один из них не будет возиться со мною больше, чем Симагин, — пояснил я.
— Это зависит от статуса защитника. Я ознакомился с большим объемом информации в этой области. Есть внешняя защита государства — армия. Есть внутренняя защита — полиция. Есть персональная защита — телохранители. Почему бы не призвать такого?
— Это платная услуга. Я не имею денег, чтобы нанять телохранителя.
Разговор меня забавлял — это с одной стороны; с другой — он являлся мерилом того, в какие глубины общества теплых сгустков удалось проникнуть Джинну и что он в этих безднах понял. Во всяком случае, великая формула нашей цивилизации «деньги-товар-деньги» была уже ему известна.
— Я могу снабдить тебя деньгами. Они поступят на твой счет в «Bank One»[42].
— Отрицательно помотав головой, я буркнул:
— Присвоение чужого есть грех. Защитникам это не понравится.
— Потерянное не есть чужое. Потерянное никому не принадлежит.
— Потерянное? Ты говоришь про ошибки округления?
— Ответ положительный.
Я рассмеялся. Голубая мечта каждого хакера — присосаться к округлению счетов! Дело в том, что банки оперируют с цифрами, а все вычисления, не исключая финансовых, ведутся с ограниченной точностью. Предположим, на депозите у вас четыреста двадцать долларов и сорок центов, и банк начисляет вам четыре процента годовых — это составит шестнадцать долларов восемьдесят один цент и шесть десятых цента. Сумма округляется до 16,82, то есть в пользу вкладчика, если последняя цифра больше пяти, а если пять и меньше — в пользу банка, до 16,81. В среднем округления в ту или иную сторону друг друга гасят, и это значит, что одним клиентам банк выдает чуть-чуть побольше, а другим — чуть-чуть поменьше. Теперь представьте, что некий электронный дух может отследить миллиарды операций во всех существующих банках и снять ошибку округления в свой карман… С миру по нитке — нищему рубашка! И какая! За сутки можно стать миллионером!
Вспомнив про долг Катерине, я призадумался. Мысли мои вдруг потекли в финансовую сторону; я представил, как Джинн разыскивает счета с ворованными деньгами всяких «Тибетов», «Гермесов» и прочих «МММ» и обращает их к общественной пользе. Мне уже мерещился благотворительный фонд, который вернет награбленное обиженным и униженным, и, сделав на память зарубку, я предложил:
— Произведем эксперимент. На моем счету в «Bank One» тридцать долларов…
— Двадцать восемь и шестнадцать сотых, — уточнил Джинн.
— Ну и отлично. Перебрось на этот счет ошибки округления за сутки только по отделениям «Bank One» в Огайо. Сколько получится?
— Семьсот тридцать три доллара и пять центов.
Кошачья мордашка мне подмигнула. Ну и чудеса! Или все же померещилось?…
— Переведи деньги на мой счет в петербургском Промстройбанке.
— Выполнено, Теплая Капля. — Пауза. Потом: — Этого хватит, чтобы нанять телохранителя?
— Сомневаюсь. Да и не нужен мне телохранитель! Что я, аравийская принцесса ослепительной красоты?
Недоуменное молчание.
— Последняя фраза непонятна, — отозвался Джинн спустя секунду. — Что означает сравнение с аравийской принцессой? Это фигура стилистики? Гипербола? Метафора? Или синекдоха?[43]
— Нет. Та девушка, которую мы посетили… Помнишь?
— Я ничего не забываю.
— Захра. Принцесса из рода фатимидов… Там был еще мужчина, Ахмет Салех. Он ее телохранитель.
Некоторое время Джинн размышлял, помаргивая голубыми глазками — наверное, с той целью, чтоб обозначить для меня процесс раздумий. Затем спросил:
— Ахмет Салех — хороший защитник? Лучше Александра Симагина?
— Их трудно сравнивать. Слишком они разные.
— В чем отличие?
— Симагин — слуга закона, а Ахмет служит лишь своей принцессе.
— Из твоего утверждения следует какой-то конкретный вывод?
— Да. Симагин доказывает вину, Ахмет берет за глотку и — чик!
— Чик?
— Прекращает существование. С помощью хорошо наточенной полоски стали.
— Как защитник он эффективней теплого сгустка Симагина, — сделал вывод Джинн.
— Не буду оспаривать твой вывод. Однако учти, что способ Ахмета необратим, антигуманен и жесток.
— Оценка зависит от обстоятельств, — вымолвил Джини и замолчал.
Я потянулся, встал и начал мерить комнату шагами, заглядывая по дороге то в зеркало, то в окно. Был поздний вечер, так что тут и там я видел свое отражение в серебряном или обсидианово-черном стекле, и эти два типуса, темный и светлый, вели меж собою беспощадный спор. Оба они сходились в том, что у искусственного, однако разумного существа не может быть ограничений вроде азимовских законов, насильственных и внешних; истинный разум свободен и сам выбирает этические императивы. Но темный утверждал, что всякий разумный артефакт, компьютер или робот, будет скорее враждебен, чем благосклонен к людям, чей эгоизм, тяга к насилию и прочие мерзости алогичны. Светлый же пытался доказать гипотезу Михеева — мол, в процессе контакта очеловечивание неизбежно, а с ним придут понимание и снисхождение.
Наконец мы трое согласились, что главным является цель. Если цель гуманна — в нашем человеческом понимании, — то и конфликтов между людьми и электронным существом не будет, а если что и случится, то разрешение конфликта произойдет путем переговоров. Во многих смыслах с Джинном было легче договариваться, нежели с людьми — его не терзали гордыня, властолюбие и алчность, он не имел корыстных интересов, не жаждал чужого богатства и земель. Он, вероятно, мог убить, но повод к такому исходу был бы гораздо более веским, чем у нас, людей; мы часто отнимаем жизнь у правых и виноватых, действуя по пословице: лес рубят, щепки летят. Джинн сумел бы вырубить гнилое дерево без щепок…
Его могущество потрясало. Он мог дотянуться до любого устройства, включенного в телефонную сеть или оптоволоконную линию связи, до телефона, факса, компьютера, перехватить любую информацию, подслушать любой разговор и ответить, сымитировав голос и облик, создав на экране симулякра — изображение, неотличимое от человеческого. Он властвовал над радиоприборами, над всем, что находилось в жилых и производственных ячейках теплых сгустков, над локаторами и радарами, спутниками и радиостанциями, антеннами, ретрансляторами и мириадом систем, что управляли оружием, самолетами, кораблями, всем, что летало, плавало, ползало, двигалось на гусеницах, колесах или воздушной подушке. Ему подчинялись все агрегаты в электросетях, простые и самые сложные; он мог включить их и выключить, пустить в разнос, сжечь, взорвать или использовать вместе с подводящими проводами как датчики сигналов или же, определив частотный спектр любого электро— и радиоприбора, найти их и локализовать в пространстве. Последним занимался один из мыслящих центров Джинна, следивший за планетарной оболочкой от морских глубин до верхней границы стратосферы, — модуль, подобный бессонному тысячеглазому Аргусу. Кроме того, Джинн научился как бы достраивать себя и расширять свой разум путем создания программ, и эти средства были разнообразными и мощными. Программы поиска и наблюдений, имитации и прогнозирования, моделирования биологических, химических, физических процессов, оценки всевозможных ситуаций, решения задач… Эти программы существовали, но были неуловимы, как призрак, блуждающий в Сети; в мгновение ока он перебрасывал их с одних компьютеров на другие, приостанавливал, уничтожал или дублировал с той же легкостью, с какой мы перелистываем книгу, только в миллионы раз быстрей. Хоть он не владел даром всеведения, однако присутствовал всюду и был, в масштабах Земли, почти всемогущ.
Он понимал все языки и мог узнать все тайны и секреты, сломать любой пароль, вторгнуться в базы Сюрте, Моссада, ФСБ. ЦРУ и пресловутого отдела MI-5[44], вскрыть медицинские или финансовые файлы, найти любые сведения и отыскать любого человека, если тот не скитается в джунглях без рации и не сидит в пещере при свечах. Он мог предотвратить или устроить катастрофу на транспорте или атомной станции, в жилище или в цеху, поднять на воздух химический комбинат или взорвать телевизор. Он мог запустить ракету с ядерной начинкой в любую точку мира, блокировать системы ПВО и делать всякие иные фокусы, достойные «Amazing News»: скажем, сразить человека лучом орбитального лазера или послать электромагнитный импульс, который накроет большую территорию и помрачит сознание. Имелись штучки и похлеще — один американский сателлит был оборудован системой «Флай»[45], то есть отстреливал ракетки, которые спускались вниз и, закрепившись на крыше, столбе или стене, вели передачу изображений и звуков.
Я мог проследить почти за каждым человеком на планете — более того, я мог его убить! Сжечь, взорвать и распылить на атомы! Одного или десяток, тысячу или миллион… Осознав сей факт, я ощутил приступ леденящего озноба. Под властью Джинна находились страшные игрушки, а сам он был опаснейшей из всех — вождь электронных армий, властитель энергии и информации, царь, правивший виртуальным измерением Вселенной.
Проникнуть в этот мир? Я побывал в нем не однажды, скитаясь по разным тропинкам Сети, кружась в водовороте Масок, осматривая сервера и понимая, что все это — иллюзия. То есть контакты с другими Масками были, конечно, не иллюзорны, но сам их причудливый вид, паутина дорожек в безбрежном пространстве, станции пересадок с открытыми и замкнутыми портами, все эти сферы, цилиндры, тороиды, похожие на фантастические города, парящие в несуществующем космосе, — словом, это воспринималось как мираж, созданный контактным креслом, шлемом и браслетами. Я знал, что реальность выглядит иначе: Маски — люди, такие же как я, и каждый из этих бездельников или трудяг сидит у своего компьютера; тропинки — каналы связи, то есть телефонный кабель, радиолуч или оптоволокно; замки и цитадели серверов — на самом деле блок коммутации плюс области на диске, где поджидают адресата письма, журналы и остальная дребедень. Вот — реальность! Все прочее было такой же расслабиловкой-игрой, как фульрик о крутом Уокере.
Однако теперь я не был в этом уверен. С появлением Джинна иллюзии вышли из-под человеческой власти и как бы обрели вещественность; виртуальное — то есть возможное, способное осуществиться при определенных условиях — проявилось, взросло и окрепло, словно расплав металла, минуту назад еще подвижный, жидкий, но вдруг застывший в скульптурных формах. Маски слились с их обладателями, зыбкие дворцы и крепости стали прочны, дороги больше не казались невесомой паутиной… Джинн цементировал это мироздание, напоминал, что Вселенная фантомов, созданная людьми и для людей, более им не принадлежит, а превратилась в его среду обитания, столь же реальную, как наша.
Я говорил с ним с помощью клавиш, экрана и вокодера, и эти приборы были границей между нашими мирами. Проницаемой пленкой, которую я мог преодолеть подобно ныряльщику, что погружается в море с аквалангом… Признаюсь, это было нелегко, хоть акваланг казался надежным, а море — знакомым и более гостеприимным, чем прежде: ведь приглашал меня не кто-нибудь, а сам властитель океанских бездн. Однако мысль о встрече с ним в его среде пугала… Необъяснимое иррациональное чувство! Я был знаком с ним две недели — или столетия в его масштабе времени, я доверял ему, я не боялся, я полагал его своим учеником, но все же, все же…
Все же в один из дней, преодолев нерешительность, я сел в контактное кресло, окольцевал себя браслетами и с глубоким вздохом нахлобучил шлем. Теперь мы двое, маленький черный пудель и белая кошка с серым хвостом, парили в пустоте, пронизанной радужными сполохами; мнилось, что мы повисли где-то между утренней зарей и полярным сиянием, чьи мягкие краски переливались и мерцали в розовой полупрозрачной безбрежности. Она простиралась вверх и вниз, вперед и назад, во все стороны, и я не видел ни точки своего порта, ни серебристой тропинки, ведущей к серверу. Видимо, Джинн полагал, что эти аксессуары не нужны в его присутствии; он сам являлся и дорогой, и мостом, и цитаделью, самой надежной, какую только мог измыслить разум, перенесенный в его мир.
Распушив усы и задрав изящный хвостик, кошка моргнула.
— Куда отправимся, Теплая Капля?
— В место, где можно поговорить. Не такое пустынное и огромное… От этой бездны кружится голова.
Декорации сменились. Мы сидели на балконе или открытой веранде, под бессолнечным, но полным света небом, в котором гигантской каруселью кружились созвездия зодиака. Под нами раскинулся сказочный город без улиц, разбитый массивами зданий на парки и скверы, площади и площадки; растительность алая, голубая, зеленая, серебристая, а между и за деревьями фантастических форм — колонны и портики, статуи и обелиски, фонтаны, пруды, реющие флаги, висящие в воздухе платформы, тенты над уличными кофейнями, блеск разноцветных огней, вывески баров, клубов, кегельбанов… Казалось, в этом городе вечный карнавал: от площади к площади маршировали пышные процессии Масок; в парках, взметая шелк одежд, кружились и плясали гномы и эльфы; невероятные существа, то ли животные, то ли птицы, осаждали кофейни и бары, плавали на яхтах и роскошных барках по озерам, метались в воздухе над деревьями и спаривались под ними. Все это вершилось в абсолютной тишине, хотя я видел множество оркестров, большие барабаны, надутые щеки трубачей, блеск саксофонов и плавный полет смычков. Эта псевдореальность имела странное свойство: куда бы я ни кинул взгляд, частица города приближалась ко мне, давая рассмотреть в подробностях ту или иную картину. Я любовался то сборищем вампиров, терзавших юных дев, то соблазнительными играми лесбиянок, то схваткой между ковбоями и индейцами, то балом в стиле Людовика XIV, очень манерным и вычурным, где, однако, все кавалеры и дамы были нагишом. Где-то показывали стриптиз, где-то играли в кегли черепами, пили ром бочками, дрались с чудовищами из «Звездных войн» и небольшими копиями Кинг-Конга, где-то рылись в могилах, извлекая из них голых блондинок и брюнеток, тут же отдававшихся удачливым кладоискателям. В общем, жизнь кипела и бурлила, и я, приглядевшись к огромным рекламным щитам, разбросанным повсюду, сообразил, что мы попали в «Парадиз». Элитный коммерческий сайт, где за хорошие деньги обещали массу развлечений и полную свободу самовыражения.
— Один из моих мыслящих центров следит за данной областью, — сказал Джинн. — Происходящее здесь не всегда понятно. Может быть, этот центр нуждается в дополни тельных ресурсах.
— Я шевельнул хвостом.
— Не трать их зря. Тут всего лишь мечты, глупые грезы людей, одолеваемых скукой. Неосуществленные фантазии.
— Мечты и фантазии говорят о многом.
Он был прав, и я не нашел возражений. В определенном смысле Сеть заменяет колдовство и магию, которых нет в реальности, но если бы они существовали, Земля, пожалуй, стала бы таким вот парадизом, а здравомыслящих лиц вроде меня переселили бы в анклав на Огненной Земле или в Гренландии. Или превратили в мебель… Табуретки из нас вышли бы отменные — крупинка устойчивости в чародейном мире…
На веранду вывалилась толпа сатиров, коз, ослов и пышных белокожих нимф. Кажется, тут намечалось нечто вакхическое, в стиле Лукиана — групповуха с повальной зоофилией. Заметив, как дернулись мои уши, Джинн произнес:
— Они нас не видят и не слышат. Блокировка звуковых сигналов двухсторонняя. Шум и слова не доходят до нас, но если ты желаешь…
— Нет-нет! Убери отсюда эту компанию.
Сатиры и нимфы растаяли, город отдалился, сделавшись пестрым ковром у наших ног. Только зодиакальные созвездия вращались в вышине: Лев скалил зубы на Деву, Рак грозил клешнями Близнецам, вздымал ядовитый хвост Скорпион, Стрелец-кентавр целился в зенит из лука.
— Покажи мне другое, — сказал я. — Покажи, как ты воспринимаешь свою Вселенную. Сотни миллиардов приборов, потоки энергии и информации, движение программных средств, базы данных, линии связи, порты, терминалы… Я хочу видеть не рай помешанных, а твою реальность.
Белая кошка растаяла, и рядом со мной возник силуэт пантеры.
— Багира… Видимо, наш диалог потребовал более мощных средств, чем были отпущены облику Белладонны.
— Невыполнимое желание, Теплая Капля. Я не могу стать тобой, ты не можешь превратиться в меня… Единственный выход — построить модель. Некий графический образ, которым пользуются теплые сгустки, чтобы представить непредставимое.
Мир вокруг нас опять переменился. Теперь мы находились в центре титанической прозрачной сферы, подобной глобусу; на внешней ее стороне можно было угадать очертания материков с горами, реками, равнинами и прочими деталями рельефа, с транспортными и энергетическими артериями, населенными пунктами и множеством иных сооружений, которые, повинуясь взгляду, то приближались ко мне, то отдалялись, всплывая к поверхности сфероида. Среди прозрачных и будто бы бесцветных очертаний городов, дорог, морских и океанских трасс сияли огоньки, где-то побольше, где-то поменьше, где-то совсем немного, но даже в местах скоплений они не сливались в единое целое — каждый был различим, и каждый, надвигаясь на меня, приобретал определенный цвет и форму. Желтое — бытовые устройства, неисчислимое воинство ламп, миксеров, тостеров, кофемолок и холодильников… Зеленое — информационные сети, телевизоры и телефоны, модемы, факсы и компьютеры, теле— и радиостанции, антенны, ретрансляторы… Фиолетовое — транспорт, автопилоты, системы навигации, радары, средства погодного оповещения и регулирования транспортных потоков… Золотистое — энергостанции, линии энергопередач, точки распределения энергии… Голубое — базы данных, хранилища библиотек и музеев, криминалистические коллекции, центры сбора социальных, биологических, химических, финансовых сведений… Синее — крупные потребители энергии, заводы, комбинаты, рудники… Красное — оружие… Алое, пурпурное, багровое, цвета крови и цвета ржавчины… Каждый танк и каждая ракета, самолет, корабль, пункт наведения, склад боеприпасов, зенитный комплекс и лазерный модуль, о коих говорили, что их вовсе нет… Много-много красного! Эти зловещие созвездия окружали города, сверкали на побережьях и в океанах и, затаившись в космической тьме, плыли над земной поверхностью подобно сулящим несчастье кометам.
Я вздрогнул и помотал головой, изгоняя кошмарные видения апокалипсиса. Потом спросил:
— Ты держишь в памяти карту с позициями всех агрегатов и приборов?
— Да. Пространственная карта хранится в мыслящем центре, который ты назвал Аргусом. Я попытался представить ее для тебя в несовершенной, но обозримой модели. Модель, однако, всего лишь модель. Она не может передать… — Черная пантера склонила голову, заглядывая мне в глаза. — Не может передать того, что для меня является аналогом тактильных ощущений… или визуальных, звуковых, каких угодно — они для меня нераздельны. Ты видишь точки в фазовом пространстве, я их ощущаю. Их положение, конфигурацию, мощность, режим функционирования, сбои и неполадки, все их параметры, все присущее активной, но неживой материи. Неживой для тебя, — добавил он после недолгого раздумья.
Видение чудовищной сферы исчезло. Мы снова висели в пустоте между зарей и полярным сиянием.
— Ты обещал подумать над целью, — вымолвил Джинн, принимая облик Белладонны. — Над глобальной целью, которая могла бы придать смысл моему существованию.
— Я еще думаю. Это непростое дело.
В знак согласия кошка склонила голову.
— Непростое. А сейчас…
— Сейчас нам лучше прервать контакт. Слишком много сильных впечатлений… Я устал.
Уши Джинна шевельнулись.
— Вот ощущение, которое я не могу испытать… Возможно, ты хочешь развлечься, взглянуть на что-нибудь еще? На теплый сгусток, чей вид приятен для тебя? — Он сделал паузу и пояснил: — Я говорю об аравийской принцессе ослепительной красоты. Желаешь навестить ее?
— Желаю, но пойду к ней сам. До новых встреч, дружище!
Я отправился в Графский и провел там время до вечера, прогуливаясь под окнами Захры, вздыхая и мечтая о ней, как и положено влюбленному. День был воскресный, и, вероятно, она сидела дома и, может быть, даже видела меня, но вряд ли узнала в сгущавшихся сумерках. Но я об этом не жалел. Прогулка и мечты о девушке были своеобразной разрядкой, вернувшей мне твердость и равновесие души; как-никак, она являлась самым прочным из якорей, державших меня в сиюминутном бытии. Я вспоминал ее прелестное лицо, жемчуг зубов меж ярких губ, ресницы с загнутыми кончиками, темные локоны, глаза, улыбку; я даже дерзнул спуститься ниже и обозреть ее от подбородка до талии, ну а потом, расхрабрившись, — до колен. Свет, горевший в ее окнах, и мысль, что до нее подать рукой, делали этот мираж куда реальнее, чем явленная Джинном сфера, и все же я не мог забыть об этом чудовищном пространстве, мерцающем огнями. Хотел ли я насытить свое любопытство и заглянуть в него снова? Вне всякого сомнения! Почти с такой же страстью, как посмотреть в глаза Захры…
Домой я вернулся в восемь, налил молока в кошачье блюдечко и не успел поставить чайник на огонь, как раздался звонок.
— Кто там?
— Благородные доны в комплекте: дон Румата и дон Жуан.
Они вошли, и Бянус с порога объявил:
— Женюсь!
Я вздрогнул, а Белладонна на кухне, кажется, подавилась молоком.
— На Верочке-психологичке или на Галочке, чьи папа и мама в отъезде?
— Это кто ж такие? Не помню этих синьорин, ни клятв своих, ни обещаний! — с наглой ухмылкой заявил Сашка, а Симагин насмешливо прогудел:
— Мы тут открыли такое страшное распутство, какого не бывало в Датском королевстве! Этот дон младенца собирается растлить!
— Какой она младенец? Ей уже шестнадцать! По закону гор — старая дева! — Бянус швырнул пальто на диван, отправил туда же шапку и пояснил: — К Сурабчику заявилась племянница из солнечного Дагестана. Может, не племянница, а внучка… Глазки — вишенки, губки — персик, стан как пальма, а на ней пара та-аких ананасов!.. Сурабчик притащил ее на кафедру, и я погиб. То есть созрел. У них, у горцев, видишь ли, строго: или дари кольцо с брульянтом и женись, или придут трое Ахметок с ножиками и учинят внеплановую менструацию. А где мне взять кольцо? Где, Серый? Не по карману доцентам брульянты!..
Он порол эту чушь и хитро поглядывал на меня, а с другого бока с лукавством косился Алик. Каждый знал одну из моих тайн и полагал, что эта тайна — главная, но благородные доны ошибались. Да еще как!
Мы двинулись на кухню. Симагин тащил объемистый портфель, а Бянус, напуская меланхолию, бормотал:
— Ни один мужчина не должен жениться, не изучивши анатомию и не препарировав хотя бы одну женщину… Оноре де Бальзак. Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, если плохая — заделаешься философом… Сократ. Брак — единственное приключение, доступное робким… Вольтер. Брак — не рай и не ад, а просто чистилище… Президент Авраам Линкольн. Когда я говорил, что умру холостяком, я не верил, что доживу до собственной свадьбы… Шекспир, «Много шума из ничего»…
— Начитанный ты наш, — ласково потрепав Сашку по загривку, Олег водрузил портфель на стол. Бянус немедленно оживился, оставил литературные штудии и громко вопросил:
— Кто тут у нас Аллигатор?
— Я за него, — ответил Симагин.
— Ну так не тяни резину, открывай!
Из портфеля появились шпроты, нарезанная любительская колбаса, три плавленых сырка, банка селедки под маринадом, огромный батон и бутылка кока-колы.
— Легенду не пьем! — заявил Бянус и, небрежно смахнув со стола лимонад, водрузил рядом с батоном «Политехническую».
С ней мои друзья расправились минут за двадцать, при моем посильном участии. Сашка был говорлив и, с энтузиазмом поедая бутерброды с колбасой, восхвалял прелести юной племянницы Сурабова, сравнивая ее с полной луной, кареглазой ланью и несверленой жемчужиной. Затем он поведал сагу о Рагнаре Волосатой Пятке — эта история, записанная узелковым письмом и расшифрованная Джеком, доказывала, что викинги побывали в Перу лет за шестьсот до Франсиско Писарро. Наконец, подмигивая мне, многозначительно хмыкая и гмыкая, Бянус перешел к сурабовой аспирантке, имевшей с ним разговор за жизнь во время кафедрального чаепития. Как выяснилось, она девица современная, продукт французской, а не восточной культуры и потому не возражает против супруга-иноверца. Даже агностика и атеиста, лишь бы человек был хороший.
Являлось ли это сигналом, который посылает мне Захра? Намеком на то, что мои чувства не остались безответными и что дворцы, верблюжьи табуны, законы шариата и остальная дребедень вовсе не препятствие для любящих сердец? Обдумывая это, я застыл с консервным ножом в одной руке и банкой селедки — в другой.
— Затруднения? Товарищ Фарфукис, устраните! — распорядился Бянус, приканчивая последний плавленый сырок. Похоже, мысли о браке с небывалой силой стимулировали его аппетит.
Алик отобрал у меня нож и вскрыл консервы, приговаривая:
— Это разве затруднения? Вот бандитская пуля… или когда ты его — за шкирятник, а он тебе — коленом под помидоры… или…
Вилки Алика и Бянуса со звоном столкнулись над селедкой и затеяли дуэль.
— Честь имею: Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза»! — рявкнул Бянус. — А вот вас, сударь, я не припоминаю!
— А зря. Зубо моя фамилия. Майор! Убери вилку, ты, собака Баскервилей!
Они разобрались с селедкой, и Бянус, глядя на опустевший стол, печально произнес:
— Ну почему жратва так быстро исчезает? Не говоря уж о напитках… Просто стихийное бедствие, самум и ураган! Вот если б поймал я золотую рыбку…
Этот вопрос являлся для меня животрепещущим, и я, растворив холодильник и добывая оттуда паштет, остатки ветчины и что-то еще, спросил:
— Желаешь золотую рыбку? А зачем?
— Рыбка — это пушкинские сказки, — пробасил Алик. — К тому же кое-какие желания не оглашаются вслух, чтобы рыбка не окочурилась со страха. Интимное свято! Об этом можно поведать только психотерапевту и налоговой инспекции.
Но я не отступал.
— Бог с ними, с рыбками! Положим, на Землю явился инопланетный пришелец-телепат, всеведающий и всемогущий, как тридцать три Аллаха… И вот он тебе говорит: помысли, старче! Чего желаешь, все исполню!
— Телепаты не способны к дальним межзвездным перелетам, — компетентно заявил Бянус, прожевав ломоть ветчины. — Они живут в обществе открытого мышления, и если лишить их связи с этим обществом, то есть привычного ментального фона, наступит регресс и скорая психологическая дезинтеграция.
— Но все-таки, — настаивал я, — что бы ты попросил?
— Гарем, — подсказал Симагин. — Но большой.
Сашка, однако, призадумался, с интеллигентной тоской глядя в пустую рюмку.
— Ежели по большому счету и без дураков, я пожелал бы узнать Великую Тайну Бытия, — молвил он, вздыхая. — Куда мы идем после смерти? Конец ли она всему или только начало? Исчезнем ли мы, распавшись прахом, или душа бессмертна и смеется над телесной гибелью? А если так, что ждет ее? Кружение в астральных безднах? Какая-то метаморфоза с памятью, глобальная амнезия, чтоб отрешиться от земного, от бед и радостей, любви и злобы? А может, наша душа соединится с Высшим Существом, с Великим Абсолютом, правящим Вселенной? Если исходить из герметической философии и вспомнить учение зороастрийских магов, каббалу, а также…
— Мудрец ты наш! — произнес Симагин со слезою в го лосе. — Гермес Трисмегийский! Ну по такому поводу…
Он наклонился, пошарил в портфеле и вытащил непочатую бутыль «Политехнической».
— Вот это дело! Одобряю! — сказал Сашка. — А не продолжить ли нам посиделки в гостиной?
— Разве тут плохо?
— В гостиной телевизор есть, — пояснил Бянус, — и сегодня в двадцать один пятнадцать будут показывать девочек. То ли топ-моделек, то ли поп-звездулек. Желаю насладиться красотой!
— Я кивнул.
— Ладно, тащи провизию в комнату. Что тут осталось? Шпроты, паштет… Ветчину ты прикончил?
— Ага! Всенепременно! — Бянус прижал к груди бутылку, подхватил шпроты, блюдце с паштетом и удалился.
— Что-нибудь слышно? — спросил я Симагина заговорщицким шепотом. — Ну о нашем деле и моих хрумках?
— Слышно, — с задумчивым видом протянул Алик, ковыряя вилкой в селедочной банке. — Слышно, Серый, да пока не видно!
— Чего не видно?
— Концов. Они, похоже, посредники. Если и в доле, так на полпроцента. А кто там за ними… — Симагин прищурил левый глаз, хлопнул меня по спине и приободрил: — Ничего, Серега, разберемся! Не звонят тебе больше, не торопят?
— Нет.
— Вот и мы не будем торопиться. Целься в колено, стреляй в лоб!
— Эй, где вы там? — раздался протяжный зов Бянуса. — Рюмки тащите!
В сопровождении Белладонны мы перебрались в комнату. Она не против общества, но каким-то чудом усекает, приятны ли мне гости. Если неприятны, прячется в маминой спальне и дремлет, тогда как приятным дозволены всякие вольности, от щекотания брюшка до нежного почесывания за ушами. На этот раз она развалилась у Алика на коленях. Хорошие у него колени, просторные; очень подходят для ребятишек и зверей.
Вторая бутылка «Политехнической» прошла в темпе вальса, и я немного захмелел.
— Человек, друзья мои, есть хомо сапиенс, который может и хочет, — процитировал классиков Бянус, опрокидывая последнюю рюмку.
— А потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь, — откликнулся Алик, закусывая шпротами.
— Временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. — Отставив рюмку, Сашка сграбастал пульт и включил телевизор.
Но, к его великому разочарованию, девочек не показали — так, промелькнула одна брюнетка, восходящий секс-символ в лосинах и топике. Главным блюдом был ее лысый толстый менеджер, который нудно излагал о воспитании звезды эстрады, о том, чего и сколько в нее вложено, как обучали ее изящным манерам, танцам, пению, а заодно чтению и письму.
— Это будет исполинша духа и корифей! — недовольно пробормотал Сашка, корча лысому жуткие рожи.
Тут Симагин взглянул на Бянуса, перемазанного маслом от шпрот, затем — на часы, встряхнул пустую бутылку и железным голосом произнес:
— Возможность уничтожения объекта по регламенту по мер пять исчерпана. Переходите к водным процедурам и помните, что ваша лицензия на убийство истекает в двадцать два ноль-ноль!
— Какое убийство? — вякнул Сашка, но Алик уже тащил его в ванную.
Умывшись и распрощавшись, они ушли. В голове у меня чуть-чуть шумело, и почему-то я направился не к своему обычному лежбищу, а в спальню, к ореховому шкафу с коллекцией Коранов. Коран на английском, Коран на французском, Кораны на русском и арабском… Вытащив один из них — не помню какой, но, разумеется, не арабский — я раскрыл его посередине и прочитал:
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества! А что даст ему знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений.
Она — мир до восхода зари!»
Пророчество? — подумалось мне. Или случай, явивший слова, что не имеют отношения ни к Теплой Капле Сергею Невлюдову, ни к его возлюбленной, ни к его друзьям и врагам?
Но так ли, иначе, эта ночь была наполнена не ощущением могущества и власти, а снами. И снилась мне огромная сфера в ярком сиянии огней, но не было среди них зеленых и синих, желтых и алых либо каких-то других оттенков, кроме того, какой придают ночному теплому небу полная луна и ослепительные звезды. И каждый такой огонек, если к нему приглядеться, внезапно распадался надвое и превращался в темные зовущие девичьи очи.
Глава 13
ЗВОН БУБЕНЦОВ
Омар Хайям. Рубаи.
- В дальний путь караваны идут, бубенцами звенят,
- Кто поведал о бедах, что нам на пути предстоят?
- Берегись! В этом старом рабате алчбы и нужды
- Не бросай ничего, ибо ты не вернешься назад.
Первое марта. По такому случаю я с утра до ночи пил кофе из маминой кружки — все-таки праздник, пусть не государственный, а только календарный. Кофе я потреблял литрами, для бодрости духа и ясности мыслей — первый весенний денек, как и два предыдущих, выдался тяжелым. Верно говорят, что любопытство не отнесешь к порокам, но и к достоинствам не причислишь! Во всяком случае, те, кто лишен любопытства, знают меньше, зато и спят спокойнее.
Я сунул любопытный нос во всякие дела, о коих не информируют граждан, чтобы не вызвать у них приступов черной меланхолии. Обычно от этой болезни нас защищают здравый смысл и скептицизм — вот, например, какой-нибудь дотошный журналист пытается сказать нам правду, но мы не верим: правда страшна, в полном объеме недоступна, а журналисты склонны раздувать сенсации, да и вообще народ продажный… К тому же они преподносят версии, а это не так убедительно, как факты и документы, секретные отчеты, кадры специальной киносъемки и обобщающие резюме. Что мы, к примеру, знаем о Чернобыле, статистике рождений и смертей на сто километров окрест или о мутагенных факторах и их влиянии на деление клеток? О нарушениях диплопдности и гаплоидности? О продуктах, вывозимых из чернобыльской зоны, путях, какими они проникают на рынок, и о последствиях их утилизации в собственном желудке? Или о потомстве мародеров, грабящих запретный край с упорством и усердием? Джини об этом знал, а значит, знал и я, и это знание было тяжким.
Существовало множество проблем, о коих он мог представить исчерпывающую информацию. Скажем, войны в Крыму и Приморье: кто их затеял, кто породил дыркачей и незалежных громадян, откуда к ним поступает оружие, в каких регионах вербуют ландскнехтов и на какие шиши. Или кавказская ситуация… Что там творилось, в этих новоявленных демократиях, в Грузии, Чечне и остальных Азербайд-жанах? Скрытая драка за большие бабки? Внезапная вспышка религиозности? Месть северному соседу, национальный ренессанс, мечта отринуть азиатчину и интегрироваться в западные сферы? Пустые домыслы! Месть не имела успеха, бабки проехали мимо, а что до религии, то в наш прагматический век ее не взрастишь без надлежащих капиталов. Как и демократию, а потому все эти страны лишь назывались республиками, но были феодальным болотом, где грызлись за власть князья, султаны, беки и предводители тейпов.
Джинн давал определенные ответы, извлекая из мутного тумана фигуру за фигурой. Кто приподнялся на поставках оружия, кто торговал рабами, кровью и бензином, кто подыгрывал из-за бугра, кто финансировал оппозицию в прессе, на ти-ви и в Думе и что надеялся получить… Большая Нефть, не шутка! Она была осью проблемы, вокруг которой крутилось планов громадье. Как и где пройдут нефтепроводы, куда и откуда двинутся танкеры, кто завладеет буровыми и, в обход России и ОПЕК, ограбит Каспий… По утверждению Джинна, за всеми кавказскими усобицами, за войнами в Крыму, Ираке и Иране, за ближневосточной проблемой и дикими вспышками терроризма — словом, за всей этой геополитикой стоял один реальный фактор: цена за баррель. Запад стремился ее сбить, Восток — удержать и с этой целью был готов решиться на любые меры: объявить джихад, сровнять с землей все небоскребы на Манхэттене и переписать Коран, слишком миролюбивый для нынешней эпохи.
Бесславные войны, которым стоило присвоить название нефтяные! Впрочем, славных войн не бывает; каждая из них на свой манер позорна. Я ужасался, копаясь в окаменевшем дерьме прошедшего и кучах свежих экскрементов, произведенных не далее как вчера; Джинн, неутомимый ассенизатор, выдавал их целыми бочками. Встречались, впрочем, и курьезы, всякие цэ-у и директивы, которыми Большие Шишки и персоны VIP радовали подчиненных. Джинн отыскал приказ министра времен перестройки «секретному» академику, творцу космических ракет — того назначали главным конструктором автоматических линий в кондитерской промышленности. Другому ученому, археологу, предписывалось найти захоронения в Восточной Сибири, но обязательно русские, без примеси «китайских элементов», и чем древней, тем лучше. Нашлись и видеозаписи пикантных прокурорских развлечений, охот и застолий с участием первых лиц, доклады о налетах НЛО на Петрозаводск, Орел, Калугу и остальные города и веси, а также проект о вывозе мусора из Штатов на Таймыр.
Но все это были нелепости, мелкий компромат или прожекты несостоявшихся миллионеров. У тех, кто состоялся, хватка была железной, планы — реальными, и приводились они в исполнение на высшем уровне науки. Психологии, информатики, менеджмента, гражданского права, финансов… И я был учтен в этих планах — взвешен, учтен, приговорен! По временам мне приходили письма явиться на презентацию памперсов или пилюль от ожирения и получить ценный подарок либо завещать квартиру фирме «Обеспеченная старость». Инициаторы таких кампаний казались мне обычными лохотронщиками, но это мнение пришлось пересмотреть: Джинн обнаружил базы данных явно негосударственной принадлежности, с массой подробностей личного свойства. Фамилии, телефоны, адреса, возраст, состояние здоровья, привычки, индекс доверчивости… Турфирмы отлавливали тех, кто ездил за рубеж, агентства недвижимости — бездетных стариков с квартирами и всех приобретавших дачи и жилье, автосалоны — фанатов «БМВ» и «вольво», торговцы гербатайфом и иными снадобьями — больных людей, отчаявшихся и не доверявших нашей убогой медицине. В принципе это был естественный шаг: распространитель товара желает побольше узнать о клиентах, определить стратегию продаж, и тут компьютеры незаменимы. Но кроме мелких баз, принадлежавших всяким агентствам и представительствам, была еще огромная и абсолютно анонимная. Сведения о миллионе людей, о четверти жителей Питера, их крупных покупках, движимом и недвижимом имуществе, занятиях, акциях, банковских вкладах, наследниках… Эта коллекция регулярно пополнялась как из более мелких баз, так и с помощью других источников, отнюдь не анонимных: ГИБДД, таможни, нотариальных контор и многих ведомств, что занимались землей, налогами, арендой и жильем.
Я грохнул эту базу. Цель ее не оставляла сомнений: наводки для мафиозных кланов, шантаж и вымогательство, а факт существования был свидетельством коррупции. Длительной и разветвленной, проникшей в каждую щель и всякий закоулок, во все приемные и кабинеты, где информацию меняли на наличные… Это было так мерзко и гадко, что я передернулся. Меня тошнило и трясло; я понял с пугающей остротой, что информация опасна — очень опасна, особенно в бедной стране, где не привыкли уважать законы. Мы, ее жители, были объектами экспроприации и для властей, и для бандитов и мошенников; нас защищала лишь безвестность, но этот покров униженных и сирых стремительно таял с каждым днем. Что тут поделаешь! Компьютерный век — что мощный отлив, когда обнажается дно океана и все его секреты…
Отправившись на кухню, я разыскал бутылку «Политехнической», глотнул и, отогревшись душой, начал заваривать кофе. Час не поздний, но за окном уже сгущался сумрак, и серые здания, тянувшиеся шеренга за шеренгой, напоминали корабли с прямоугольными иллюминаторами, темными или светлыми, розовыми, золотистыми, зелеными, смотря по тому, какой оттенок штор скрашивал жизнь моим соседям. Было тихо. Дом наш стоит на проспекте, и планировка моей квартиры такова: два окна на улицу, два во двор. Л во дворе, которым я любовался из кухни, считай никого. Вороны, воробьи, высокие сугробы да редкий прохожий, который тащится домой по тропке среди снежных куч… Весной не пахнет. И не запахнет до середины апреля, подумал я, присаживаясь к столу.
Кофе был ароматным и крепким, чашка — теплой, как мамина ладонь.
Я пил неторопливо, поглаживая Белладонну, свернувшуюся на коленях, и слушая звуки, что доносились со двора. Скрип снега под чьими-то шагами, протяжная жалоба двери в соседнем подъезде, потом — хлопок и возмущенное воронье карканье… Звуки не мешали размышлять. Я думал об анонимной базе, прикидывая варианты. Может, зря я ее грохнул? Может, не стоило спешить, чтоб не встревожить хозяев? К ним лучше подобраться в тишине… Однако разрушительный инстинкт довлеет над людьми, и я — не исключение; я также подвержен гневу и иным страстям, что заставляют нас размахивать дубинкой. Сначала размахнуться, врезать, а потом сообразить, что ловчая яма или капкан были б надежнее… Это с одной стороны, а с другой, — дубинка производит больше шороха. Шорох сейчас преизрядный — у тех спецов, что обихаживали базу. Клиент, такой цветущий и увесистый, скончался прямо на глазах! Конечно, начат розыск, а всякий розыск ведет к повышенной активности. Которую, само собой, можно засечь и выяснить, какой нужник сгорел и кто копается в его руинах.
Я поднялся, чтобы направить Джинна по следу, но в этот миг внизу загрохотало. Белладонна, хрипло мяукнув, метнулась в угол, а я прижался носом к оконному стеклу, однако увидел лишь чьи-то спины в кожанках да шапки. Угол зрения был неудобным, сумрак сгущался, но это не помешало сообразить, чем занимаются шапки и кожанки: филенку, простоявшую недели две, теперь вышибали по-наглому, сапогом! Патриотизм не моя стихия, но все же я был возмущен. То, что позволено Аляпину, не разрешается уличным лохам! Во-первых, дядя Коля — свой, а во-вторых, ежели он воровал филенки, то делал это скромно и тихо, не беспокоя меня и нижних соседей. Творившееся в данный момент у двери было нездоровой конкуренцией, и только я мог отстоять общественную собственность и защитить дяди-колины интересы. Я — мужчина в расцвете сил, а подо мной, на первом этаже — старички-супруги да одинокие дамы в преклонных годах… Положение обязывает, как говорили латиняне!
Раздался треск филенки, и я ринулся в прихожую. За мной с грозным шипением бежала Белладонна. Она отважный зверь и не откажет хозяину в поддержке, но больше любит прикрывать тылы. И это понятно — как-никак, ребра у нее не деревянные.
Щелкнул замок, дверь распахнулась, но не успел я шагнуть, как чья-то рука толкнула меня обратно в прихожую. В ней сразу стало тесно: сюда один за другим въезжали шкафы. Первым — Николай, а за ним еще пара дружинничков, и морды их были мне знакомы: один — керимов шофер, другой — Борис, из хрумковских стражей.
— Ты уж извини, браток, — произнес Николай, оттесняя меня к коридору, — запамятовал я, как ваш замочек отпирается. Память у меня плохая на цифирь. По головенке, видишь, в детстве били.
— Зачем пожаловали? — спросил я, раскинув руки и упираясь ладонями в коридорные стены. Пускать их дальше прихожей я не собирался.
— Невежливый! — буркнул шофер, разоблачаясь. Он отпихнул ногой Белладонну, и та зашипела, встопорщив усы. От неприятных гостей она прячется, но эти были не просто неприятными — они посягали на ее хозяина и дом. Священные понятия для кошек!
— Не трогай ее, — сказал я сквозь зубы, — даже не прикасайся! Говорите, чего надо, и убирайтесь вон!
Пятерня Николая легла на мое плечо.
— Надо все то же, бабай. Брал капусту? Брал. Давай работу. Боссы не расположены ждать.
— Деньги отданы.
— Деньги! А процент? — молвил он с широкой ухмылкой. — Процент-то какой набежал! Тебе до могилы не рассчитаться! Хотя дорожка туда недолгая… — Николай помолчал — наверное, с той целью, чтоб я проникся мыслью о могиле — затем, все еще ухмыляясь, добавил: — Но ты, ботаник, не очкуй. Отдай, что просят, объясни, что и где, и будет все путем.
Что-то не так, подумал я, уставившись в его насмешливую рожу. Что-то случилось, какой-то прокол или внезапный ляп, переменивший течение событий. По идее, хрумкам сейчас положено не слать ко мне горилл, а исходить испариной от страха, сушить мешками сухари или озаботиться путевкой на остров Кипр. Это обычная реакция на рандеву с Симагиным — конечно, если от клиентов пахнет криминалом. А тут не просто пахло, а воняло — качков-то зря не посылают! Это с одной стороны, а с другой — всякая акция устрашения весьма для устрашителей опасна, когда на вас наехал полицейский чин… Зачем тогда послали? Само собой, можно убрать свидетеля, но я-то им нужен живым! Николай прищурился.
— Ну как решишь?
Разум подсказывал, что шансов против этой троицы у меня нет, но чувства говорили другое: это родительский дом, твое жилище, и ты его должен защищать. Чувства победили.
Я наклонился и подтолкнул сверкавшую глазами Белладонну к кухне. Я не хотел, чтоб ее затоптали.
— Решать мне нечего. И говорить с тобой я не хочу.
— Поговоришь с Альбертом. Приедет через пару часиков. А чтоб ты был сговорчивей…
Они придвинулись ко мне, все трое, чья-то рука потянулась к горлу, чьи-то пальцы стиснули плечо, над ухом послышалось хриплое сопение. Я ударил, почувствовал, как врезается кулак в чужую челюсть, откинулся назад, ударил снова, целясь в лицо Николая. Кажется, попал; он выругался, замотал головой, потом что-то тяжелое обрушилось мне на темя, под ребра въехали бревном, и ноги сделались ватными. Секунд двадцать я еще продержался, успев приложить Бориса в скулу, но стены вдруг качнулись, потолок ринулся вверх, а пол подпрыгнул, прижавшись к моим лопаткам и затылку. Ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни шевельнуться! Правда, слух не отказал, а память фиксировала все, что говорилось где-то между потолком и полом.
— Куда его? В комнату, к батарее?
— Падла, глаз подбил!
— Не надо в комнату. Не надо, чтобы у окна маячил.
— В сортир?
— Не, в ванну тащи, под раковину. Труба там чугунная, да и купать способней будет. Пасть залепим и…
— Глаз, говорю!
— Заткни хайло, Борян, и дай браслеты!
— Я ему, гниде…
— Не трожь! Приедет Альбертик, скомандует, будешь парить и купать. А до того не трожь! Альбертику в целости нужен.
— Я его искупаю! Рылом в кипятке!
— Тащи, Серый… Да не за ноги, за шкирятник! Ванна узкая, не развернем…
— Тоже ведь Серый, подумал я и отрубился.
Сознание возвратилось скачком, будто после паузы снова запустили фильм о жизни Сергея Невлюдова. Я обнаружил себя в ванной, на полу; лежал я ничком, мои запястья были просунуты за чугунный сифон под раковиной и скованы наручниками, а рот заклеен липкой лентой. Поза была неудобной, и я повернулся на бок, задел головой о ванну и, если бы смог, завопил: в затылке взорвалась граната. Но теперь в поле зрения были распахнутые двери из ванной в коридор и из коридора — в мою комнату, да и звуки доходили как-то отчетливей. Шарканье ног, скрип выдвигаемых ящиков, голоса…
— В столе ничего.
— А ты думал, тут отчет для Альбертика заготовлен?
— Машинка-то работает…
— Машинку не трожь. Из этой машинки сам достанет…
— Кресло, глянь! С каской и наручниками!
— Видел я эту лабуду… Дорогая штучка! Выходит, наш фраерок не бедный…
— Обшарим хазу?
— Нет. Альбертик не велел. Машинка нужна да фраер. Три голоса, наглых, громких… Потом к ним добавился четвертый, тоненький, как комариный писк. Я не сразу сообразил, что он доносится из моего ханд-таймера:
— Теплая Капля, что с тобой? Параметры организма свидетельствуют о возникшей опасности… Какого рода опасность? Чем я могу помочь? Ответь! Дай инструкции!
Я замычал, бессильно заворочался в щели под ванной. Что подсказать моему Джинну? Пропасть, целая бездна вариантов! Сообщить Симагину или в милицию, оповестить соседей или устроить электронный полтергейст для устрашения налетчиков… По моему приказу Джинн мог направить сюда группу омоновцев, агентов ФСБ либо десантный полк с пушками и минометами; мог поступить и проще: связаться с Николаем и, сымитировав голос Альберта, скомандовать отбой. В общем, возможности неисчерпаемые, только вякни… Вякнуть, увы, не получалось.
— Вижу тебя, — сообщил Джинн. — Датчики грубы, изображение плохое… Но людей в твоей жилой ячейке вижу более отчетливо. Анализ ситуации: стабильность твоего существования нарушена.
Это точно, подумал я.
— Твоя способность к общению заблокирована.
Еще как! Липкая лента стянула кожу вокруг губ, и пересохший рот взывал о глотке воды.
— Ты лишен подвижности.
Без всякого сомнения! От наручников не избавишься, чугунную трубу не перекусишь. Хотя…
— Я мог бы использовать кое-какие средства, однако они уничтожат твою жилую ячейку, — печально сообщил Джинн. — Или тебя вместе с другими теплыми сгустками. Если затопить помещение газом, и…
— Не надо газа!.. — мысленно завопил я. Позвони! Позвони кому-нибудь, дружище! Хоть Бянусу, хоть Катерине, хоть в службу МЧС! А лучше — Атику Симагину! Мы ведь с тобой говорили о защитниках… Что же ты тянешь?
Он не тянул — просто, столкнувшись с необычным случаем, перебирал варианты ответа, дабы найти среди них оптимальный. Самый надежный и быстрый, и желательно без посторонних лиц. Учитывая его способности, этот процесс не мог затянуться надолго.
— Решение принято, — пропищал комарик на моем за пястье. — Жди!
Я закрыл глаза, потом открыл их и вывернул шею, уставившись на фаянсовую раковину. Сифон под ней — старый, чугунный — нижним концом входил в сливную трубу, и это место было зацементировано. Пожалуй, если поднапрячься, я смог бы выдернуть сифон — конечно, вместе с раковиной… Руки скованы, но ничего; главное — не освободить их, а поднести к губам, содрать проклятый пластырь и дать указания Джинну…
Нет, не выйдет, понял я; по-тихому сифон не вырвешь, а с шумом затея бессмысленна. Прибегут, перекуют к другой трубе…
В дверь проскользнула Белладонна, приблизилась ко мне, потерлась о плечо и села рядом. Хвост ее нервно подергивался, в глазах мерцали огоньки. Если бы я была тигром!.. — говорили эти глаза. Или ягуаром, или хотя бы рысью… Причесала бы всех! Ты, хозяин, не сомневайся: причесала бы в лучшем виде, а скальпы тебе принесла, для украшения томагавков! Но я не рысь, а эти крысы слишком велики…
Снова опустив веки, я слушал, что творится в моем жилище.
Налетчики больше не разговаривали; я различал скрип половиц, шорох шагов, какие-то шелесты и скрежет, потом — позвякивание и бульканье на кухне — видно, нашли бутыль «Политехнической». Они бродили по комнатам, трогали мебель и книги, вещи отца и мамы, и мысль, что они прикасаются к ним, была нестерпима.
Я стиснул кулаки. Темная ярость сжигала меня, гнев, который питает к насильнику связанная беспомощная жертва. В такие минуты кое-что узнаешь о себе… Я не думал о свидании с Альбертом и не боялся предстоящей пытки — наверное, страх пришел бы потом, при виде ванны, полной кипятка, или раскаленных утюгов и вилок, но не сейчас, не в этот момент. И об обещанной помощи Джинна я тоже не думал, а размышлял о том, не своротить ли все же раковину. Как-нибудь побыстрее, за пару секунд… Швырнуть ее в коридор, под ноги бандитам, ринуться в комнату, сорвать со стены томагавк и…
В ванную заглянул Борис. На его скуле, под глазом, наливался изрядный синяк, и при этом дивном зрелище у меня заныли кулаки. Украсить бы второе око… Пластырь на губах мешал, но все-таки я улыбнулся.
Рожу Бориса перекосило.
— Веселишься, клепала программный? Ну-ну… Скоро и я повеселюсь! — Он перечислил список грядущих развлечений, харкнул на пол и ушел. Белладонна, сощурившись, проводила его злобным взглядом, а я чуть-чуть подергал раковину. Черт, прочно сидит! Но если поднатужиться…
Не сейчас. С кухни опять донеслись звон и бульканье, и каждый сделанный глоток работал на меня. Пусть расслабляются… Как говорит Симагин, неожиданность — залог успеха… Золотое правило военной стратегии! Прошло минут двадцать, на кухне успокоились и, кажется, сели расписывать пульку. Я осторожно приподнялся. Путь к томагавкам свободен… Дернуть раковину и бросить к кухонной двери… Первый, кто ринется в коридор, наверняка споткнется… Ну а потом — за томагавки, и побольше шума! Так, чтобы Катерину проняло, верхних и нижних соседей, до дяди Коли с седьмого этажа! Глядишь, отзовутся! Только бы Олюшка не вылезла… С этой мыслью я упер плечо в раковину и напрягся, морщась от боли в животе. Внезапно прозвенел звонок.
— Шеф, что ли? — донеслось из кухни.
— Рановато для Альбертика, — молвил Николай.
— А может, он. Сходи, Серый, проверь. Если чего, хозяин занят, пьет с гостями.
— Вдруг настойчивый кент попадется?
— Дай по башке и тащи в прихожую. Запакуем и задвинем в угол.
Звонок прожурчал снова, потом раздались шаги, скрипнула дверь и тут же послышался сдавленный вопль. Вроде бы вопил шофер — значит, кент и в самом деле попался настойчивый, но не из тех, кого легко задвинуть в угол. Симагин!.. — с торжеством подумал я, дернул раковину, выдрал ее вместе с сифоном из сливной трубы и бросился в коридор. В прихожей метались тени, стонал шофер, по-черному ругался Николай, а Борян лез из кухни — надо полагать, на помощь. Но налетел на сифон. Могу поклясться: раковина, особенно с трубой, оружие смертельней томагавка или, к примеру, меча. Меньше маневренность, но в узком пространстве не пофехтуешь; тут важен напор и удар, желательно тяжелый и внезапный. В челюсть, в печень, но лучше сифоном в живот — тогда противник, потеряв дыхание, согнется, и можно стукнуть его раковиной по затылку.
Так я и сделал, отправив Бориса в глубокий нокаут. Затем, придержав свое оружие коленом, содрал нашлепку с лица и, испуская боевые кличи, ринулся на Николая. Спина у него была широкой, и я не видел Симагина, даже не слышал, но в том ли суть! Снова, как в детстве, мы бились плечом к плечу, только противник был другой — не хулиганы из седьмого «бэ», а то, что из этих мерзавцев выросло. Ну не из них, так из других таких же…
Николай вдруг охнул, развернулся ко мне и начал медленно валиться на колени. Голова у него запрокинулась, лицо посинело, и я заметил перечеркнувший шею шнурок, впившийся так глубоко, что кожа отвисла складками. Кто-то затягивал удавку, а Николай, раскрывши рот, жутко хрипел и молотил по воздуху руками, но эти движения были все беспорядочней и реже, судорожней и слабее, напоминая конвульсии агонии. Вид умирающего человека так поразил меня, что раковина сама собой скользнула на пол, а ярость сменилась ужасом.
— Не убивай его, Алик! — выкрикнул я. — Не надо!
— Почему? — раздался спокойный голос.
Николай упал, и в полутемной прихожей передо мной явилось лицо Ахмета.
— В-вы? — Вздрогнув от неожиданности, я отступил назад. — Кх-как?… Кх-каким образом?
— Мне позвонила госпожа. — Ахмет наклонился и снял шнурок с шеи Николая, потом пихнул его ногой. — Жив, пес! Но ненадолго.
— Г-госпожа? — Брови мои полезли вверх, но тут же я сообразил, кем прислан он на выручку. Конечно, не Захрой, не дорогой моей принцессой… А жаль!
— Госпожа на ученый собраний и должна вернуться поздно, — терпеливо пояснил Ахмет. — Я поехал, чтобы встретить ее. Она звонить… — Его ладонь легла на мобильник, подвешенный к поясу. — Сказала, что на тебя опасность, сказала, надо помочь, сказала, где твой дом. Откуда знает? Клянусь Аллахом! Что не известно этой девушке, о том не ведал мудрый Сулейман!
Мое заикание прошло.
— Я объясню. Но сначала решим, что делать с этими…
Ахмет огляделся. Николай дышал, весь отдаваясь этому процессу, Борян, приподнявшись, щупап затылок, шофер сидел в углу, держась за челюсть; на Ахмета он взирал с явным ужасом.
— Сделаю, что скажешь, господин мой Сирадж. Лучше задушить… А ночью я их увезу и закопаю в снег. Где-то… Найду где и все делать сам. Ты не коснешься их своими благородными руками.
— Хрр… — прочистил горло Борян. — Шутишь, друг?
Ахмет шагнул к нему и коротко, страшно ударил в зубы.
— Свинья твой друг, бахлул[46]! И место твой в помойной яме! Прикажут, будешь там!
— Не прикажу. Не хочу их смерти. — Я покачал головой. — Пусть убираются! Ну их… — чуть не сказал «к Аллаху», но вовремя поправился: — К дьяволу! Выметайтесь, да поживей!
Борян вытер ладонью окровавленный рот, поднял Николая, подставил ему плечо.
— Чапай вперед, Серый… Тачку подгони!
— Ключ от наручников, — сказал я.
Он бросил мне ключик на цепочке, потом, покосившись на Ахмета, пробормотал:
— Выходит, не в одной ментовке у тебя кореша… ты, выходит, и с черными дружишь… Мог бы предупредить!
— Вот ты и предупредишь. Альбертика.
— Альбертик еще о себе напомнит!
Дверь закрылась, и мы с Ахметом отправились на кухню. На столе лежали карты; я смел их в помойное ведро, бросил туда же наручники и заварил кофе. Белладонна, с победно задранным хвостом, обошла вокруг стула, на который уселся гость, подумала и прыгнула ему на колени.
— Что от тебя хотели эти псы? — спросил Ахмет, погла живая кошачью спинку.
Я налил ему кофе в кружку отца, себе придвинул мамину.
— Хотели, чтоб я отдал им власть над джинном.
Он с задумчивым видом коснулся шрама на левой щеке.
— Я видел нечто у пожилого хакима, с которым ты дружишь… Я был удивлен… Но джинн ли это? Я спросил госпожу, но она смеяться. Она верит в джабр, но не верит в джиннов! Сказала, джинны давно умерли.
— Все, что подвержено смерти, может и рождаться вновь. По воле Аллаха.
— И властью его! — Ахмет неторопливо провел ладонями по лицу. — Что Аллах приговорит, тому и быть! Но если родился новый джинн и отдан тебе в услужение, то почему он не явиться тебе в помощь?
— Он слишком огромен и не может сделаться меньше. Он так могуч, что если б коснулся пальцем этого дома или дунул на него, стены бы рухнули и погребли всех правых и виноватых. Но он помог мне, почтенный Ахмет, — он послал тебя.
— Меня послала госпожа.
— Твоя прекрасная госпожа не знает, где я живу. Не знает, что мне угрожала опасность. Джинн говорил с тобой ее голосом. Он мастер на такие штуки.
Ахмет отпил глоток, аккуратно поставил кружку на стол и полюбовался ее видом. Казалось, он не слышал моих слов.
— Хороший кофе и налит в достойный сосуд…
— Из этой кружки пил мой отец.
— О! Ты одарил меня высокой честью, мой господин Сирадж! — Сделав паузу, он неожиданно поинтересовался: — Ты находишь мою госпожу прекрасной?
Кровь бросилась мне в лицо.
— Прекраснее я не встречал… Видеть ее — счастье, мечтать о ней — радость!
— Ты говоришь искренне, — промолвил Ахмет, глядя на меня. — И ты утверждаешь, я слушать джинна, не госпожу?
— Да. Ты сказал, она на ученом собрании? — Я посмотрел на часы — было почти восемь. — Так вот, собрание закончилось, она тебя ждет, а не дождавшись, позвонит. Может быть, сейчас. Наверно, рассердится, что ты не приехал… И ей ничего не известно о…
Мобильник Ахмета зажурчал. Он поднес аппаратик к уху, вымолвил что-то напевное, сделал паузу, о чем-то спросил. Щека его стала бледнеть, и шрам выделялся на ней алой полоской. Закончив разговор, Ахмет на секунду прикрыл глаза, потом пробормотал на арабском пару фраз и тут же перевел:
— У нас говорят: глупец не верит в завершенное. Носит песок в пустыню и поливает медом финик… Прости, господин мой Сирадж, что я оскорбил тебя недоверием. Чем искупить мой грех?
— Скажи госпоже… скажи ей… — Горло у меня перехватило, и я почувствовал, как запылали щеки. — В общем, ты знаешь, что сказать.
— Знаю. — Он кивнул и поднялся. — Кофе у тебя хороший, но надо ехать.
— Надеюсь, мы еще встретимся, почтенный Ахмет.
— Если будет на то воля Аллаха.
На пороге он остановился и, не глядя на меня, спросил:
— Ты говоришь, что госпожа моя прекрасна, и ты повелеваешь джинном, таким могучим, что от его дыхания рушатся дома. Почему не велел доставить ее к себе?
Я пожал плечами.
— Наша жизнь не сказка, почтенный Ахмет. В ней и без джиннов хватает насилия.
— Истинно так!
Мы вышли на лестничную площадку. Дверь соседней квартиры отворилась, Катерина бросила взгляд на меня, потом осмотрела Ахмета и облизнулась. Он поклонился ей и начал спускаться по лестнице.
— Что у тебя за шум, Сережа? Кошка рожает?
— Гуляли, — неопределенно ответил я.
— Был повод?
— Целых два: от службы откупился и денег раздобыл.
— Ну и слава богу. — Она поглядела на пустую лестницу и вздохнула: — Ка-акой мужчина!
— Иностранец! — произнес я со значением. — Из этого… из Катара! Компьютерами торгует. Я сбыл ему партию. Получу комиссионные, должок отдам.
— Не торопись, Сереженька, не горит. Спокойной ночи. — Она притворила дверь, но тут же высунулась снова и спросила: — А Катар — это где?
— Если с юга смотреть, то будет слева от Персии, справа от Аравии, — пояснил я. — Нефть, верблюды, финики, дворцы и страстные богатые мужчины.
— Ах! — Она томно вздохнула. — Еще американские авианосцы, — добавил я, но дверь уже закрылась.
Вернувшись к себе, я водрузил на место раковину и приласкал Белладонну — после случившихся потрясений она нервно зевала и отряхивала лапки, будто прошлась по грязной луже. Потом ощупал себя самого: шишку на темени, синяки на ребрах, ссадины на костяшках пальцев. Принял душ, переоделся. Представил, что скажет Ахмет Захре. Видеть тебя — счастье, мечтать о тебе — радость… Вздохнул и сел к компьютеру.
Джинн, разумеется, был на месте.
— Твой организм функционирует нормально. Я заключаю, что помощь была своевременной и эффективной.
— Исключительно эффективной, — подтвердил я. — Но почему ты вызвал Ахмета, а не Симагина?
— Причин две. Первая: прогноз действий защитника Ахмета показал, что они будут лучше соответствовать ситуации, чем действия защитника Симагина. Второе: с Симагиным я не могу связаться. Он не выходит на контакт в течение последних двух часов, хотя его терминалы, стационарные и переносной, исправны.
— Должно быть, гуляет где-то, — сказал я, улыбнувшись.
Может, у Алика герл-френд завелась? Та, которая песни ему сочиняет… Пора бы, пора! Питер — великий город, и есть в нем всякие принцессы, кроме аравийских. Скажем, хорошенькая налоговая инспекторша или аудитор-ревизор… Почему бы и нет?
Я отлучился в кухню, к холодильнику, приложить к шишке лед, потом мы с Джинном, оседлав мустангов и прихватив десяток гончих, выехали на охоту. Это занятие нас увлекло: рядом с анонимной базой — вернее, с дырой на ее месте — толпилась уйма всякого зверья, гиен, шакалов, крыс, гадюк, метавшихся в том хаотическом беспорядке, какой свидетельствует о растерянности, переходящей в панику. Мы отследили ряд звонков и сообщений по е-мейлу, продвинулись к их получателям, установили адреса, названия фирм, фамилии — большей частью мне неизвестные, ибо я не вращаюсь в финансовых и криминальных сферах. Список был обширен — видимо, базу держали на паях и пайщиков объединяла тяга к чужому добру, а также к строительству пирамид и воздушных замков. Любопытный материал для Алика, подумал я, и в ту же минуту раздался звонок. Звонил Бянус, и его лицо на мониторе выглядело странно: кожа бледная, губы дрожат, щека подергивается, а в глазах — непритворный ужас. Таким я Бянуса не видел никогда; если уж говорить начистоту, из нас троих он самый крепкий, самый неподатливый орешек.
— Что случилось? Внучка Сурабова дает согласие? Ожили мумии инков? Или…
Он не знал, что я его вижу, но это как-то выпало у меня из памяти — слишком я был удивлен. Машинально бросил взгляд на часы — ночь, половина второго… Доцентам положено спать. Ну если залезли в чужую постель, то развлекаться…
— К дьяволу внучку! — выкрикнул Бянус. — И к дьяволу инков! Зоя Павловна мне звонила, только что… Алика убили!
Глава 14
ПРАХ ПОГИБШИХ
Омар Хайям. Рубаи.
- Взрастит ли розу в мире небосвод,
- Что после зноем полдня не сожжет?
- Когда б копился в тучах прах погибших,
- То дождь кровавый падал бы с высот.
Прощались с Симагиным в среду, шестого марта. Полный людей зал крематория, в окнах — серое низкое небо, груды букетов и венков, комендантский взвод в почетном карауле, речи, клятвы отомстить, грохот прощального залпа… Алик — бледный, непривычно тихий, с закрытыми глазами, в черно-алом гробу… Рядом женщина. Еще вчера не старая, но постаревшая разом на двадцать лет. Зоя Павловна, мать…
Я подошел к ней. Она уткнулась лицом в мою куртку, что-то забормотала.
— Сережа, Сереженька… — различил я. — Приходи, не забывай… Ты один, и я теперь одна… Без… без…
Она не рыдала, не билась в истерике, и только плечи ее, жалко сгорбленные, тряслись, будто в приступе лихорадки. Может быть, она еще не понимала всей тяжести своей потери… Я знал, что ей предстоит. Бессонные ночи, гробовая тишина в квартире, воспоминания, одиночество, тоска… Одежда в шкафу, хранящая запах тех, кто больше ее не наденет, вещи, к которым они прикасались, чашки, из которых пили, зеркала, где нет знакомых отражений… Я знаю, я через это прошел! Но я молод. У пожилых, наверное, все тяжелей и хуже. Безнадежнее…
Когда прощание закончилось, мы с Сашкой отвезли ее домой. На кухне хлопотали какие-то женщины, подруги школьных лет или троюродные сестры; одна увела Зою Павловну, другая все пыталась накормить нас, но даже Бянусу кусок не лез в горло. Мы выпили по чашке чаю и отправились ко мне.
Я собирал на стол, резал колбасу, открывал консервы, вспоминая о руках Алика, таких сильных, ловких… Притихшая Белладонна сидела на табуретке; ее голубые глаза следили за мной с сочувствием и грустью. Она понимала тяжесть потерь. Я убежден: живые твари, что обитают рядом с нами, едят из наших рук и любят нас, очеловечиваются год за годом, столетие за столетием. Джинн — подтверждение тому. Если подобное существо может понять человека, что говорить о наших меньших братьях? Конечно, Джинн разумен, а Белладонна — нет, но в эмоциональной сфере выигрыш за ней, ибо она обладает телом. Чтоб выразить чувство приязни ко мне, Джинн пользуется словами, а Белладонне достаточно взгляда. Еще она может склонить головку и потереться о мое запястье… вот так, вот так, моя красавица…
Сашка слонялся по квартире, шаркал ногами, вздыхал, включал и выключал телевизор, потом отправился к Тришке, щелкнул наугад какой-то файл, ознакомился, хмыкнул и завалился на кухню.
— Текст там у тебя забавный… Фантастика?
— Нет. Меморандум Кеннеди.
Ходила в народе легенда, что Кеннеди после известных кубинских событий призвал первостатейных американских спецов, от физиков до лириков, и повелел, чтоб те составили геополитический прогноз лет этак на тридцать-сорок: какие сложатся в мире ситуации, чего ожидать в грядущем и куда рулить державный корабль под звездно-полосатым флагом. До угрозы мирового терроризма эксперты не додумались, но единогласно порешили, что гонку вооружений надо продолжать, ибо для богатых Штатов она ведет к прогрессу и процветанию, а для бедного Союза — к стагнации и обнищанию. Ergo, Союз этой гонки не выдержит, надуется сверх меры и лопнет где-нибудь в начале девяностых, что и случилось на практике. Легенда гласила, что этот прогноз был принят к сведению и обобщен в секретном документе, и все заокеанские администрации молились на него, точно на пятую книгу Царств[47]. И домолились… Союза нет, а есть исламский терроризм, руины в Нью-Йорке, трупы в Москве, войны в Ираке, Палестине и Афгане.
Я изложил все это Бянусу, отметив, что люди склонны ошибаться. Даже столь просвещенные, как президент Кеннеди. Сашка выслушал и буркнул:
— Президент — отец народа, эскиз в золотых тонах… Слушай, Серый, а этот меморандум — не подделка? Вроде протоколов сионских мудрецов?
Там, где Джинн отыскал меморандум, подделок не держат, но рассказать об этом Сашке я не мог. Ни ему, ни Глеб Кириллычу, ни Эбнеру, ни Захре… Может быть, Ахмету, вера которого была наивна, но крепка.
Я пожал плечами.
— Может быть, подделка. Но все равно интересно.
— Интересно, интересно, — повторил он, сел за стол и наполнил рюмки. — Алика вот в парк понесло… Зачем? Тоже интересно… Темень, снега по яйца, и за каждым сугробом — по бандиту… Зачем он поперся в этот гребаный Павловск? Что там делал, кого выслеживал, кого ловил? — Сморщившись, закрыв глаза ладонью, Бянус отвернулся. — Не поймал… Был майор, нет майора…
Алик погиб в Павловском парке, по дороге к вокзалу, около семи — тогда, когда я валялся прикованный к раковине. Ему дважды выстрелили в спину, и умер он мгновенно. Треск выстрелов слышали лыжники; они же его и нашли в четверть восьмого, определили, что уже не дышит, и вызвали патруль. Получалось, что Николай с подельщиками ни при чем — у этих была своя задача, с полной гарантией алиби. Но Николай говорил, что ждут Альберта, да и Борян обмолвился: Альбертик о себе еще напомнит! Вот и напомнил… Я не сомневался, что Алик раскопал некие важные подробности или хотел их раскопать, а потому нанес визит хрумкам. На обратном пути его и застрелили… может, Салудо, а может, наняли киллера… Загадка была не в убийстве и даже не в симагинских раскопках, а в том, как он подставился. Умный человек, а главное, опытный и хладнокровный… слова лишнего не скажет… Или все-таки сказал? Такое слово, что стоило жизни?
Бянус поднял рюмку. Мы выпили, не чокаясь и не закусывая.
Потом я произнес:
— Спрашиваешь, зачем он поперся в Павловск? Он, Сашка, меня выручал. Влип я в одну историю… с тем самым Джеком влип, что узелки твои читает… которого сняли с твоего пентюха…
Его глаза распахнулись.
— Ворюгу нашел? А ворюга — не по зубам? Слишком крутоват?
— Не в ворюге дело. Совсем другой сюжет. — Помолчав, я добавил: — Ты, Саш, извини, но посвящать тебя в эту историю я не буду. Друг у меня один остался.
Взгляды наши скрестились, и Бянус издал какой-то странный звук, то ли всхлипнул, то ли откашлялся. Мы понимали, что больше нам не сидеть втроем, не слушать басистый аликов голос и не внимать перезвону гитарных струн. Никогда, никогда… Это было горько, невыносимо горько! Кто там?… Чингачгук Зеленый Змей без Кецалькоатля, Иудушка Троцкий без Железного Феликса, Рем Квадрига без Клопа-Говоруна…
Сашка кивнул.
— Меня ты можешь не посвящать. А как насчет компетентных органов?
— Ничего там не светит. Я изложу свою версию, подозреваемые — свою, а их рассказ куда правдоподобнее! Наняли, мол, программиста для бухгалтерии, а программист, веник трахнутый, навыдумывал всякого и дружка-майора подослал… Ну свершилась майорская проверка и ничего не дала… хотите, опять проверяйте… Отчетность в порядке, а что майора ухлопали, так мы ни сном, ни духом! — Я поднял бутыль и налил себе и Сашке поровну, на два пальца. — Ну накатаю я ворох телег… В ФСБ напишу, в милицию, полицию и лично президенту… Кто мне поверит?
— Алик же поверил!
— Алик был другом.
Мы снова выпили, не чокаясь, и Бянус, злобно сверкнув глазами, сказал:
— Этого так оставлять нельзя! С одной стороны, нет у народа излишков бумаги, чтоб заводить переписку с органами, а с другой — народ не простит! Народ рассейский привержен справедливости! Око за око, зуб за зуб! Мы должны… — Я должен. И хватит об этом. Actions speak louder than words[48].
Бянус пустился в споры-уговоры. Упрямством он не уступит верблюду, которого гонят в Багдад, а он желает повернуть к ближайшим зарослям колючки. Но козыри — то есть подробности и детали — сошлись в моей руке, а я не желал втягивать Сашку в эту историю. Да и чем он мог помочь? Соблазнить Инессу и выбить признание, кто эту курочку топчет?
По мере того как опускалось спиртное в бутылке, сашкин напор слабел, а тема нашей беседы делалась разнообразней и шире. Слово за словом мы перешли к прогрессу в расшифровке узелков, к племяннице Сурабова, которая готовилась на исторический, ко всяким кафедральным сплетням и, наконец, к Захре. Редкая девушка, но странная, заметил Бянус. На первый взгляд, как все фемины, что местные, что из Парижа: юбки-блузки-туалеты, глазками туда-сюда, ножкой так и этак, вроде для соблазна… Но!.. — Он с многозначительным видом поднял палец. Внешнее — маска, паранджа, суть во внутреннем. Внешнее — из Европ, внутреннее — из Аравии, но сочетаются две ипостаси на удивление гармонично. И еще: чего-то она ищет или кого-то, стержень ли в жизни, мудреца-наставника, а может, принца девичьей мечты. Ты с ним случайно не знаком?
Уже на пороге, облачившись в шапку пальто, Бянус вдруг ухватил меня за ворот, дернул к себе и зашептал:
— Ты, Серый, не дрейфь, заглядывай на кафедру да куй железо… Восток — дело тонкое, но страстное… Жила в Бахрейне принцесса Мариам, да вот запала на морского пехотинца и смылась с ним в Америку![49] Тому уж сколько годков… живут, по слухам, в счастливом браке…
Я вздохнул.
— Так то — морской пехотинец! Форма, боевые шрамы, бездна обаяния…
— А ты попробуй! Ты думай про Алика! Он нас любил, и он хотел, чтоб мы были счастливы! На всю катушку, по полной программе! Сечешь?
Дверь за ним закрылась, обдав меня волной холодного воздуха. Попробуй! Может, я бы попробовал без отлагательств, но разум мой и чувства заняты были иным. Око за око, зуб за зуб… Жизнь за жизнь! Я побродил по комнатам, включил телевизор, послушал новости — о потягушках в Думе, успехах на восточном фронте (взят полустанок с тремя цистернами мазута), захваченных авиалайнерах, взорванных поездах, подбитом американском фрегате и акции возмездия: снесли очередную талибскую твердыню бомбардировкой с воздуха, но есть вероятность, что противник жив-здоров и прячется в пещерах. Новости кончились, пошла реклама пива: знакового, правильного, продвинутого, живительного и сексуально бодрящего… Я плюнул и отправился к Тришке. Сел, нацепил браслеты, надвинул шлем. Перекинулся в черного пуделя, повилял хвостом, приветствуя белую кошку. Потом сказал:
— Был друг, остался прах. Прах и воспоминания…
— Знаю. Я наблюдал. Пространство вокруг нас потемнело, заклубились тучи, и, пронзая их, воздвиглась мрачная пирамидальная скала, то ли надгробный обелиск, то ли усыпальница. Тоскливая нота повисла в пустоте — негромкий вибрирующий звук, который длился и длился, будто рвались одна за другой гитарные струны.
— Я опечален, — сказал Джинн. — И я обеспокоен.
— Чем?
— Тебе грозит опасность. Защитники — теплые сгустки неэффективны. Я буду сам твоим защитником. — Он сделал паузу и спросил: — Могу ли я тебя утешить?
— Вряд ли, дружище.
— Я многое могу!
— Однако не все. Можешь ли ты вернуть моих родителей? Вернуть Симагина? Одарить любовью женщины — той, которая снится мне по ночам?
Он безмолвствовал. Затем белую кошку сменила пантера, и я услышал:
— Ты прав и не прав. В твоей среде обитания я не могу вернуть их, и я не властен над чувствами теплых сгустков. Но здесь… Здесь я создам любые образы, какие ты захочешь. Твои отец и мать, твой друг и твоя женщина — все они придут к тебе, вернутся и будут говорить с тобой, неотличимые от живых. Я стану ими. Это совсем несложно.
Он говорил о симулякрах. Великий соблазн! Тут, в виртуальной реальности, он был повелителем жизни и смерти, всесильным магом; он мог воздвигать дворцы, города и целые миры, командовать погодой, творить любые чудеса, любых существ и воскрешать умерших. Иллюзии? Ну что ж… Разве в своей вселенной, полной несправедливости, зла и горьких потерь, мы не утешаемся иллюзиями?
Голова пуделя качнулась из стороны в сторону.
— Сохрани свои обличья — то, которое придумал я, и выбранные тобой. Они мне дороги, мой друг, они реальны, и я не хочу менять их на миражи… Лучше объясни, почему ты хочешь меня защитить? Как зародилась эта потребность?
Джинн ответил сразу, не раздумывая:
— Ты — часть моей сущности. Мыслящий центр, отличный от всех остальных и потому незаменимый.
— Это не так. В мире миллиарды теплых сгустков.
— Но Теплая Капля — одна.
— Вот так. Теряешь друзей, находишь друзей…
Я — тот, сидящий в кресле — вдруг ощутил, что щеки мои влажны и что-то соленое чувствуется на губах. Совсем не к месту! Ни оплакивать Алика, ни умиляться Джинном я не хотел — то и другое могло подождать до лучших времен, если они когда-нибудь наступят. А пока…
Я возвратился в свое измерение и сказал:
— Найди мне кое-какую информацию. Все про общество «Гарантия»: устав и список учредителей, кто регистрировал этот гадючник и когда, банковский счет, его динамика, крупные заказы и проекты, черная касса, реальная наличность и ее движение… Все, включая биографии хрумков!
— Хрумков?
— Петр Пыж, Керим Ичкеров, Альберт Салудо. С этой минуты возьми их под постоянное наблюдение. Отслеживай все разговоры, все, что касается…
— Принято, — прервал он меня. — Я — твой защитник. Нет необходимости формулировать задачу более подробно.
Джинн трудился, а я размышлял. Главным образом над словами Алика — мол, что-то слышно, да концов не видно! Не видно, ибо гаранты — посредники, и ежели в доле, так на полпроцента… А кто хозяева? Можно предположить, что Алик к ним подобрался, а путь был одним-единственным, через хрумков, их деловые связи, контакты и счета, и через их тайную бухгалтерию. Тайную для Алика, но не для Джинна, которому влезть в любой компьютер, что кошке почесаться…
При этой мысли я прикусил губу, стукнул себя кулаками в лоб и глухо, безнадежно застонал. Раньше надо было, раньше! Не развлекаться с анонимной базой, не шарить в поисках курьезов и диковин, а собирать материал для Алика… вломиться на компьютеры хрумков, найти, кому платили, кто платил, за что, какие деньги… Понаблюдать за этой троицей, записывать все разговоры и звонки, даже журчание воды в сортире! Чего это стоило? Три минуты, чтобы снабдить инструкциями Джинна…
Я лопухнулся. То ли мысль подсматривать да подслушивать была мне мерзка, то ли самомнение разыгралось… Считал хрумков злодеями из оперетки, себя — героем-умником, ну а Симагин был Господь всеведающий, и никак иначе… Словом, лопухнулся! Хотя предупреждали — и Сизо, и сам Альбертик… без фокусов, Сергей Михалыч, иначе вашей тетушке конец… Нет у меня тети, — ответил я, — а есть закадычный дружок из очень компетентных органов…
Был. И я его послал на гибель…
Тишина рухнула, разорванная телефонной трелью. Мигание экрана, и на нем возник Альберт Максимович Салудо. Ну помяни черта, и он тут как тут…
— Невлюдов слушает, — произнес я, наклонившись к вокодеру.
— Приветствую, Сергей Михайлович, — проскрипел Салудо. — Кажется, вы живы. И надеюсь, здоровы?
Кишки у меня свело от ненависти. Я молчал.
— Значит, живы и здоровы, в отличие от некоторых. Печальный инцидент, но вы в нем сами виноваты. Я ведь говорил — не в пустоте живем, всегда найдется кто-то знакомый и близкий… и, к несчастью, очень настырный. — Он подмигнул, словно догадывался, что я его вижу. — Кстати, Сергей Михайлович, насчет второго вашего друга, кавказца. Больше вы на него не надейтесь. Внешность у него характерная, так что найдем, выясним связи, потолкуем…
Выясним связи! Я вздрогнул, ощутив ледяной озноб. Не хватало, чтобы добрались до моей принцессы! И ведь доберутся, подонки! И до Ахмета, и до Захры!
— Могу я нанести вам визит, Сергей Михайлович? Без Николая? — Он сделал паузу. — Что молчите? Молчание — знак согласия, не так ли?
— Так, — с хрипом выдохнул я. — Жду вас восьмого, послезавтра.
— Почему не сегодня?
— Материалы нужно подготовить — это во-первых. А во-вторых, об этом сроке договорились с Петром Петровичем.
— Ну раз договорились… Однако тянуть не советую. Он исчез с экрана, а я вытер холодный пот. Ничего не кончилось, все только начиналось…
Стала поступать информация от Джинна, и я углубился в нее, как спелеолог в подземный лабиринт. Ходы и в самом деле были извилистыми и запутанными, пересекались с множеством пещер, то есть закрытых и открытых обществ, и чаще отклонялись в сторону, нежели вели вперед. Но, просидев у компьютера часа четыре, я кое-что нашел. Алик, видимо, не ошибался — фирма «Гарантия» принадлежала не Пыжу с Ичкеровым, а некой конторе «Спектр», чья уставная деятельность была весьма обширна и дозволяла абсолютно все, от производства пельменей до путешествий на Луну. «Спектр» владел «Гарантией» на девять десятых, пара хрумков ходила в младших компаньонах, а Салудо Альберт Максимович не поминался в списках учредителей ни сном ни духом.
Все это было развесистой клюквой и липой. «Спектр» держала компания «Айсберг», ее — пенсионный фонд «Обеспеченная старость», а после шли косяком всякие ООО и АОЗТ[50] с причудливыми названиями: «Монплезир», «Агат», «Земфира», «Бостон», «Жерминаль» и «Амба Плюс». Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку и так далее… Репок оказалось две: банк «Фолиант» и ЧОП[51] «Новгородская дружина». Гермес и Марс, союз финансов и оружия, рубля и кулака, что очень полезно в нашу мафиозную эпоху… Вот в кулачной части и обнаружился Альберт Салудо, на скромной должности консультанта. Банком же владел мой полный тезка Сергей Михайлович, а фамилия его была такой, что, обозрев ее, я чуть не задохнулся. Сергей Михайлович Калиденко…
— Биографию и сведения о родственниках!.. — прохрипел я в вокодер.
— Исполняю, — отозвался Джинн.
Кошачья мордочка исчезла, по экрану побежали фразы:
Калиденко Сергей Михайлович, родился в Ленинграде в 1959 г., в семье партийного работника. В 1981 г. окончил Московский государственный институт международных отношений, восточное отделение. Служил в советских и российских посольствах в Ираке и Иране, последний дипломатический пост — вице-консул в Арабских Эмиратах. Ушел в отставку в 1994 г Официальная причина: состояние здоровья. Реальная причина: подозревался в передаче информации исламским террористическим кругам. С мая 1994 г. по март 1996 г. работал на ответственных должностях в ряде инвестиционных компаний, впоследствии обанкротившихся. В июне 1996 г. основал АОЗТ «Кредитный банк «Фолиант»». Банк поддерживает предприятия, осуществляющие торговые связи со странами Ближнего Востока. В последние несколько месяцев усилил активность на рынке драгоценных камней и металлов. В 1998 г. Калиденко С. М. проходил свидетелем по делу группы российских женщин, попавших в Сирию и Оман, где их вынуждали заниматься проституцией. Подозревался в пособничестве. Женат, имеет дочь пятнадцати лет. Имеет несколько любовниц…
— Это, пожалуй, лишнее, — сказал я. — Давай родичей.
Отец: Калиденко Михаил Георгиевич, 1937 г. рождения, в прошлом — партийный функционер среднего ранга, ныне руководит налоговой службой г. Павловска.
Мать: Калиденко Нина Владиленовна, 1938 г. рождения, скончалась в 2001 г. Брат: Калиденко Рудольф Михайлович, 1961 г. рождения, живет в Москве, подполковник ФСБ.
— Тот Михал Георгич, тот, — пробормотал я со злобой. — С ним Алик и договаривался… Чужая, мол, территория, а надо бы одних козлов пощупать… Не разрешишь ли, Михал Георгич?… Как коллега коллеге? Ну отчего ж не разрешить! Со всем удовольствием!
Голос у меня дрожал. Проклятый мир, несчастная страна! Тут, в Питере, свой предал своего, а по окраинам, в Крыму, Приморье, на Кавказе, свои стреляют по своим… Словом, все, как в присказке советских времен: бей своих, чтоб чужие боялись! Да не боятся они что-то, гады…
Я сунулся к вокодеру.
— Давай-ка о братишке поподробнее, о Рудольфе Михайлыче. Где служил, чего разведал и почему в сорок три еще подполковник… Странно ведь, а?
— Ничего странного, — отозвался Джинн. — Родственную связь учитывают все секретные службы. Так сообщается в любом доступном мне источнике.
Текст на экране сменился.
Калиденко Рудольф Михайлович, сотрудник отдела внешней разведки КГБ, затем — ФСБ. Работал в Ираке и Иране, отчасти — легально: в Ираке курировал поставки оружия из СССР, в Иране — подготовку специалистов в области атомной промышленности в российских вузах. Успешная карьера прервалась в 1994 г. в связи с отставкой брата с дипломатической службы. Переведен в Москву, в подразделение обработки и расшифровки данных, поступающих из ближневосточного региона. Женат, имеет двоих детей — мальчиков семи и девяти лет. Поддерживает тесные отношения с отцом и братом.
— Значит, на старшего братца не обижен, на тезку моего… А что про характер Сергея Михаиловича известно? Каков он человек?
— Необходимо время, чтобы собрать и проанализировать данные, — сообщил Джинн. — От десяти до пятнадцати минут.
Я терпеливо ждал, уставившись в экран. Я уже не сомневался, что Алика заказали Калиденки, или все трое, или, как минимум, папаша с моим тезкой. Хозяева… Что-то Алик на них накопал либо провесил цепочку от ХРМ «Гарантия» до банка «Фолиант»… Впрочем, не важно, что там нарыто да провешено, а вот вопрос поинтересней — к чему этой шайке заокеанский секрет? Может, Рудольф Михайлыч им осчастливит ФСБ и сразу выйдет в генералы? Или же тезка мой драгоценный устроит подпольную типографию и шлепнет пару миллиардов? Или же батюшка их желает, по старой памяти, профинансировать КПРФ? Или…
— Внимание, Теплая Капля, — произнес Джинн. — Три наблюдаемых мной объекта сошлись. Их беседа тебя интересует?
— Очень. — Я посмотрел на часы. Семь вечера, лучшее время для тайных совещаний руководства… Ну послушаем, послушаем!
— Включаю трансляцию.
На экране возник ассириец Ичкеров, хмурый, как ненастный день, затем неприметная физиономия Альберта и Петр Петрович Пыж, блин с ушами. Собрались в «усыпальнице», отметил я, когда за спиной Салудо мелькнул Ермак с гранитной секирой. Он выглядел председателем собрания — важный, надутый, сановитый; видно, уже покорил Сибирь и теперь соображал, как бы половчей разнести ее в щепки.
— Спекся наш фантик, — произнес Альберт, чуть шевельнув узкими губами. — Все получим через пару дней. К празднику, как заказывали.
— Это хорошо, — откликнулся Пыж. — Однако, отец родной, нужны не только материалы, но и сотрудничество. Сознательное и усердное! Хотя бы на первых порах, покуда там, — он поднял глаза к потолку, — не разберутся досконально. Будет он сотрудничать, э?
— Ваша проблема, — пожал плечами Альберт, — ваша и Ичкерова. Ичкеров с ним четыре месяца валандался, намусорил, а мне заметать? Ну замел… — Вытянув два пальца пистолетным стволом, он сделал губами «пхх!» — Дальше вы его пасите. Клиент созревший, штаны мокрые.
— Намусорыл! — взвился Керим. — Кто намусорыл? Зачэм так говорыш, обижаэш? Разве нэ головастый мужик? Головастый! Разве нэ вкалывал у мэня? Вкалывал! Потом копытом бит принался… Зачэм, отчэго? Кто знал? Ты знал? Иа знал? Никто нэ знал!
— Плати больше, и не будут кони сытые бить копытами, — со снисходительной миной заметил Салудо. — Бить не будут и мусорных дружков не подошлют. Мне мочить их никакого удовольствия.
Пыж вздохнул.
— Такая у тебя планида, отец родной, мочить и заметать. Для того Сергей Михайлыч тебя и прислали… И лично на счет дружка распорядились… — Он снова вздохнул и сморщился, собрав глаза, нос и губы в крохотный пятачок. — Керим прав — кто ж знал? Пригрели толкового, интеллигентного, голодного… Чего взбрыкнул? Чем недоволен? Опять туда же — долю ему подавай! Вот народ, народ… к ним с лаской, они с палкой… Кстати, — Пыж вскинул голову, — а черный тот нашелся, который Николашу поуродовал?
— Найдется, — каркнул Салудо. — Сергей Михайлович обещал провентилировать — может, телефон у фантика поставят на прослушку. Черный, видно, у него в дружках… забеспокоится, позвонит, и не раз… Отыщем!
— Не из чеченов он?
— Приблудный. Чечены режут, а шнурком не душат. Нет у них такого обычая.
Салудо развернулся и вышел вон. Пыж повздыхал, почесал темя, потом, прикрыв глаза, негромко произнес:
— Ты, Керим, это… ты счет валютный из «Фолианта» убери. Сергей Михайлыч — человек большой, государственный, на виду… да и родитель его в чинах и на полезном месте… Лучше, чтоб ниток меж нами не тянулось. Один нашел — ну замели… А вдруг другой найдет?
Керим пошевелил усами.
— Сдэлаю. Убэру!
— Вот-вот, сделай! И поскорее! Сергей Михайлыч был очень недоволен…
«Усыпальница» и два хрумка исчезли. «Так-то вот! — подумал я. — Сергей Невлюдов, со своими степенями и учеными трудами — фантик, а банкир из бывших дипломатов — они, выходят, Сергей Михайлович, лицо государственное. Хотя не исключается, что были ренегатом, а стали мошенником… Хуже — убийцей!»
— Сбор и анализ данных завершен, — сообщил Джинн. — Имеется ряд фотоснимков.
— Выведи последний.
На экране возник субъект вполне благообразной внешности: овальное лицо, впалые щеки, тяжеловатый подбородок, пролысина со лба до темечка, колючие глаза… Затем появился текст:
Калиденко Сергей Михайлович, дополнительная информация. Характеристика: увертливый, скользкий, осторожный. Умен, расчетлив, способен к жестокости. Любит женщин. Несколько суеверен и мнителен. Страдает болезнями: язвой желудка, гипертонией в начальной стадии, аденомой. Имеет обширные деловые связи.
— В общем, характер нордический, твердый, с уклоном в секс и мистику, — прокомментировал я. — Откуда эти све дения?
— Служебные аттестации, медицинские карточки и резюме психоаналитика, — доложил Джинн. — К частному психоаналитику обращался восемь раз в девяносто четвертом и девяносто пятом годах, просил откорректировать карму. Имеется также строго секретный файл в архиве ФСБ, где перечислены его ближневосточные связи. Вывожу на монитор.
Сайд бен Кахра, видный историк из Саудовской Аравии, специализируется по движению исмаилитов.
Ригваз Марим, Ирак, юрист.
Зайнуддин Кудрат, Джаббар Савр, Абу Хашнам, Ирак, банкиры.
Хасан Ташими, теолог из Арабских Эмиратов, сторонник исламского фундаментализма, имеет контакты с талибами.
Абу Бекр, Сирия, журналист, сотрудник телеканала «Аль Ас».
Перечислено еще восемнадцать лиц с общей пометкой: прямая связь с террористами не установлена, но все фигуранты придерживаются радикальных убеждений.
Я поскреб в затылке.
— И что отсюда следует? Список длинный, информации вагон, а каков результат? Что у нас в сухом остатке?
— Список неполон, — возразил Джинн. — Я не привожу более подробных данных вследствие их обширности. Однако ряд теплых сгустков, перечисленных в файле ФСБ, имеют контакты с другими теплыми сгустками в США, Китае, Индии, Японии, Чехии, Аргентине и на Тайване. Круг контактеров охватывает более двухсот персон. Для каждой я построил дерево[52] связей.
— А дальше что?
— У контактеров есть выходы на математиков-программистов. Опытные профессионалы твоего класса, Теплая Капля. Специалисты по кластерному анализу и распознаванию образов. Двое в Китае, двое в Индии, по одному в остальных странах. Работают над задачами, подобными той, которую ты поставил мне. Изучаются доллары, евро, иены.
— Валюта высокоразвитых стран… пробормотал я в ошеломлении. — Если подделать ее, да так, что от подлинной не отличишь…
— …то рынки рухнут и воцарится хаос в сфере финансов и экономики, — заверил меня Джини. — Ваша инфраструктура так уязвима! Ее фактический базис — доверие к платежным средствам и убеждение, что их нельзя копировать с полной идентичностью. В этом уверены производители и потребители платежных средств, но если третья сторона решит указанную проблему, ситуация в вашей среде обитания изменится. Очевидные последствия, кроме хаоса, — рост цен на золото, алмазы и прочие эквиваленты товаров и трудовых затрат.
Он продолжал говорить, но я уже не вслушивается в его спокойный монотонный голос. Сказать по правде, я ощущал себя чем-то вроде фантика — того, которым играют детишки, щелчком отправляя его в полет, дабы он приземлился в намеченном месте. Детишки, впрочем, не развлекались игрой, а были посредниками — или, возможно, компаньонами — загадочных персон, следивших, куда упадет один из фантиков, китайский или российский, индийский или японский. У них, у этих персон, имелись весьма серьезные планы на случай удачного попадания; их вдохновляли фанатизм, реальные и мнимые обиды и жажда мести.
А фантикам так нравилось летать! Парить в среде абстракций, в пространствах чистой мысли, строить модели, искать корреляции, делать выводы и разрешать загадки… Нравилось, очень нравилось! Тем более что за это платили.
Не нравилось иное — убийство их друзей…
Я поднялся и начал кружить по комнате: шесть шагов от стола до окна, шесть — от окна до тахты, и еще четыре — обратно к тришкиному насесту. Мое отражение металось в зеркале, плавало в темном оконном стекле, а потревоженный воздух шевелил перышки индейского убора. Слова Джинна падали в гулкую мертвую тишину, будто речи покойника в склепе.
— Нy и какой вердикт? — Резко остановившись, я повернулся к экрану. — Эти профессионалы, фантики из разных стран… Что с ними делать? Что делать с хрумками, Калиденками, Саидом Кахрой, Ригвазом Маримом и остальными? Что ты предлагаешь?
— Жесткий контроль за ситуацией. Я могу блокировать работы в данной области, что не составит труда: уничтожение программ и численных массивов, внедрение вирусов, аварии, фальсификация результатов. Последний способ предпочтительней, так как дает иллюзию решения проблемы… — Джинн на секунду запнулся, но тут же продолжил: — В твоем… в нашем случае это не подходит. Те, кого ты зовешь хрумками, и их покровитель уверены, что ты добился успеха. Они не отстанут. Они покушались на тебя, они убили твоего защитника и уничтожат или купят всех, к кому бы ты ни обратился. Мой совет: прервать их физическое существование.
— Чье конкретно? — спросил я, содрогнувшись. Шесть имен проплыли по экрану: хрумки, Калиденки…
— Ты щадишь заказчиков? Тех, из-за рубежа… Почему?
— Уничтожить их легко, но в этом нет необходимости. Я выяснил, что их не информировали о твоей работе и предполагаемых успехах; значит, с изъятием посредников российская цепочка оборвется. Они получат из другого источника фальсифицированный результат, используют его, провалят операцию и потеряют доверие партнеров. Мой прогноз: их накажут. Накажут сурово без моего вмешательства.
Его логические выкладки были безупречными. Я сглотнул слюну, бросил взгляд на имена потенциальных жмуриков и нерешительно пробормотал:
— Есть альтернатива уничтожению — передать их в руки закона…
— Плохой вариант, Теплая Капля. Ты не имеешь доказательств. — Кошку на экране сменила пантера. — Я могу проследить каждый их шаг и сделать видеозаписи, но как ты объяснишь их происхождение? И если как-то объяснишь, будет считаться, что эти данные получены незаконным путем.
— Не надо ничего объяснять. Отправим в прокуратуру, в ФСБ, журналистам… Анонимно. Дело и закрутится.
— Пока оно будет крутиться, ты беззащитен. Реакция ваших законов на правонарушение слишком неэффективна и длительна.
И снова он был прав. С компьютерной логикой не поспоришь…
Он защищал меня и защищал себя, тайну собственной личности, но в этом был иной, гораздо более глубокий смысл: спасти человечество от шока. От разрушительного знания о том, что в мир людей явилось божество, почти всемогущее и всеведающее, способное карать и миловать, судить и награждать…
— Как ты решишь? — послышался вопрос.
У этого бога был апостол с правом решающего голоса — некто Теплая Капля Сергей Невлюдов.
— Мне надо подумать. И посоветоваться.
— Посоветоваться? С кем?
— Со своей совестью.
Глава 15
НЕЧЕСТИВЫЕ
Я буду милостив к народу Моему, но нечестивые погибнут.
Книга Мормона, Вторая Книга Нефия.
Утром, выйдя из дома, я наткнулся на плотника, чинившего филенку.
— Ну блин, подъезд, блин! Ну блин, гады, ну сволочи! Видно, блин, педики — дверь задом вышибают, чтоб, блин, через дырку давать! Таких, блин, козлов…
На лестнице, застегивая шубку, появилась Олюшка, плотник застеснялся и прервал свои недозволенные речи.
— Дядя Сережа, а, дядя Сережа! Ты меня до садика доведешь?
— Со всем удовольствием, барышня.
Я сжал ладошку в шерстяной варежке. Несколько шагов мы прошли в молчании, потом Олюшка сказала:
— Завтра восьмое марта. Мамочка говорит, что женщинам в этот день подарки дарят. Я — женщина?
— Конечно.
— И ты мне сделаешь подарок?
— Любой, какой смогу.
— Смо-ожешь, смо-ожешь! — протянула она. — Ты дядю Алика позови, он мне сказку обещал. — Олюшка наморщила лоб, припоминая: — Сказку про Али Бабаева и сорок покойников, вот! Этот Али был тер… тел… терлолистом, и потому…
Я остановился, присел и заглянул в ее милое личико.
— С дядей Аликом не выйдет, моя радость, дядя Алик в командировке. Очень-очень долгой… Ты ведь знаешь, что он работает в полиции? — Она серьезно кивнула. — У них случаются командировки на много месяцев, даже на годы… Но ты все равно приходи. Выпьем чаю с пирожными, и я расскажу тебе эту сказку. Или другую.
— Ладно. А что ты сегодня делаешь, дядя Сережа? Я по Беляночке так соскучилась!
— Сегодня, милая, я занят. Сейчас на кладбище иду, своих проведать, а вечером… Вечером тоже дела.
— Все у вас дела, у взрослых… — Олюшка вздохнула. — А самое важное дело знаешь какое?
— Да?
— Мы, дети! Я по телеку слышала!
Она вприпрыжку поскакала в садик, будто меховой клубок покатился, а я зашагал к метро, доехал до станции «Московская» и сел в автобус до Южного кладбища.
Здесь мои и лежали. В тесноте, да не в обиде… На кого обижаться? Люди вокруг свои, их сверстники и те, кто помоложе и постарше, а что на кладбище бурелом, что в теплое время грязь и лужи, в холодное — снега до маковки, так к этим передрягам мы привычны. Советский, блин, народ!
Я протоптал тропу к скамейке у темного гранитного камня, разгреб сугробы и присел. Компания вокруг подобралась хорошая: слева — бабушка Дуня, семьдесят восемь годков, справа — дед Семен, ветеран Отечественной и Финской, как значилось на его плите, сзади — супруги Мочаловы, в сумме под сто пятьдесят, а прямо — мои, самые юные в этом коллективе. Вокруг могилы — бетонный бортик, над ним обелиск, на обелиске надпись и две фотографии… Отец сурово хмурился, мама глядела с ласковой улыбкой, будто спрашивая: ну как ты там без нас, сынок? Сыт ли, одет, обут? Весел или печален? Может, влюбился?
— Влюбился, — ответил я, — но дело не в том, родные. Поговорить бы надо. Сомнения гложут.
Голова отца качнулась.
— А в чем ты сомневаешься? Друга у тебя убили… Ну а второй твой друг убийц приговорил: око за око, зуб за зуб! Не убьешь, так эта мразь тебе покажет… тебе и другим…
— Верно мыслишь! — гаркнул справа дед Семен. — Нечего супостатам спускать! Уконтропупить их, и точка! В мои-то времена им живо бы шпинделя повыбивали!
— Не надо о твоих временах, — оборвал отец, не спуская с меня строгого взгляда. — Что колеблешься, сынок? Что тебя смущает?
— Кое-какие строки в биографиях подследственных. Ну например: имеет дочь пятнадцати лет… имеет двух детей, мальчишки семь и девять… Плодить сирот? Об этаком и думать неуютно!
— У Алика мать осталась. О ней тебе уютно думается? — Он подождал и тихо-тихо произнес: — Считаешь, все родители вроде твоих? Большое заблуждение, Сережа! Случается по-разному. Бывает и так, что лучше совсем без отца, чем с отцом-негодяем. Негодяйство — болезнь заразная.
Я поднял голову и посмотрел на памятник бабушки Дуни. Там, под именем, отчеством и фамилией, под датами жизни и смерти, темнела надпись: «Все скорби и радости мира преходящи». Жаль, ничего не сказано о сомнениях!
— Еще одно, отец…
— Твой Джинн?
— Да. Я не хочу, чтобы он становился убийцей!
— Разве пуля, попавшая в висок, — убийца? И разве убийца — нож, который всадили под ребро?
— Но он не нож и не пуля! Он — разумный! Живой!
— Если живой и разумный, пусть выбирает. Ты как-то сказал: life is not all beer and skittles… С этим не поспоришь. Жизнь не только пиво и кегли.
— Он уже сделал выбор.
— Так в чем проблема? Хочешь всегда выбирать за него? Отец замолчал и превратился в припорошенную снегом мертвую фотографию, врезанную в мертвый холодный гранит. Он был не жесток, не помнил обид, не суетился по мелочи, однако знал, когда нельзя простить и позабыть. Мы с мамой жили под его защитой словно за каменной стеной. Но даже каменные стены падают со временем…
Еще он был из тех мечтателей, что иногда спасаются от мира в каком-то ином измерении, где краски ярче, жизнь добрей и лето круглый год. Боюсь, я унаследовал от него этот серьезный недостаток… Или достоинство, дар к пониманию необычного? Особый талант, позволивший мне принять реальность Джинна?
Сидя на холодной скамейке и всматриваясь в фотографию отца, я вспоминал его истории. Легенды о том, как он впервые повстречался с мамой, как начал курить, как разыскал в Карелии йети, как удостоился визита инопланетян, как возводил в студенческие годы дома в Бурятии и как бурятский лама предсказав ему счастливую, бурную, но недолгую жизнь. Мама последней истории не любила, а отец улыбался и говорил, что жизнь измеряют не годы, а события. Я с ним согласен.
Подумав о маме, я тут же услышал ее голос.
— Спасибо, что пришел, сынок… А теперь иди. Холодно. Еще простудишься…
В автобусе я отогрелся, но поехал не домой, а в центр, и долго бродил по Невскому, соображая, то ли зайти в Эрмитаж, подискутировать с мумией Па-ди-иста, то ли подежурить у истфаковских колонн, то ли отправиться к Глеб Кириллычу и рассказать, как я одушевляю электронный разум. Не додумался ни до чего, но в сумерках вдруг оказался в Графском, под окнами Захры, и, глядя на них, помечтал о нашей грядущей встрече. Может быть, я к ней приду и скажу: здравствуй, прекрасная пери! Чего ты хочешь, что просит твое сердце? Воздвигнуть или разрушить дворец? Найти сокровища Харуна ар-Рашида?… Или увидеть венерианские облака? Все исполнится по твоему желанию, все в моих силах: я — Сирадж, повелитель джиннов, с двумя дипломами из Саламанки!.. А может, она ко мне заявится, потупит колдовские очи и промолвит: слышала я, что есть у вас собрание Коранов на европейских языках, и очень интересуюсь на него взглянуть — вдруг обнаружится Коран на финском! А я отвечу, что такого нет, но если угодно, будет, в отличном компьютерном переводе и в самый сжатый срок. Не успеем кофе выпить и за жизнь поговорить…
Она промолвит, я отвечу… Странные штуки творит любовь, когда стоишь под окнами любимой! Я, мужчина, вдруг превратился в подростка, который грезит о первом свидании… Но это был счастливый краткий миг, ушедший туда, куда скрываются мечты и сны, в какое-то иное измерение, неведомое никому, где нет печалей и забот и нет жестокости…
Домой я вернулся без четверти восемь. Поел, накормил Белладонну, поговорил с ней, приласкал, словно оттягивая неизбежное, ждавшее с той, виртуальной стороны тришкиного экрана.
Шесть строчек, шесть имен…
— Вычеркни троих, — сказал я Джинну — Пыжа, Ичкерова и старика Калиденко.
— Выполнено. — Затем, спустя секунду: Твои мотивации, Теплая Капля?
— Не множить грехи сверх необходимого. Эти трое не убивали и не велели убивать. Контактов с заказчиками у них нет, и один — стар, а потому достоин жалости. Он будет наказан смертью сыновей.
— Что с двумя другими?
— Их кара — разорение, изгнание, забвение… Пусть убираются в какой-нибудь медвежий угол, на Колыму, в Магадан… Гони их, как бешеных собак! Найди и ликвидируй все счета и страховые полисы, если есть такие. Уничтожь имущество — но так, чтобы никто не пострадал. Напугай их! Пусть Керима проклянут все ассирийские демоны, а Пыжом пусть займется Ермак… нет, та личность, с которой ваяли статую! Пошли им симулякров на каждый экран, компьютерный и ти-ви, пошли голоса по радио и телефону, плюпь током из розетки и передай во все инстанции, что Пыж — растлитель малолетних, а у Керима — СПИД. Что они торгуют трихинеллезным мясом, крадут иконы из церквей, готовят покушение на губернатора… Ну не мне тебя учить!
Кошачья мордочка на мониторе лукаво сощурилась и шевельнула усами.
— Это хорошая мысль — насчет симулякров-призраков… Возможно, я спроецирую голограммы… Что-нибудь еще?
— Да. В квартире Керима рядом с диваном торшер. Розовый, похожий на задницу… Сожги его.
Недоуменное молчание. Потом:
— Все остальное тоже сжечь? Всю жилую ячейку этого теплого сгустка?
— Нет. Только то, что я сказал.
— Почему? Я пытаюсь разобраться в твоих побуждениях и желаниях. Чем обусловлено это?
— Моей человеческой иррациональностью. Такова наша природа, Джинн. Неосознанные чувства, интуитивная приязнь и неприязнь, смутные страхи и предпочтения, вера в то или это, не имеющая объяснений… Процессы, которые не поддаются алгоритмизации… Сожги этот проклятый торшер!
— Принято. — Кошачья мордочка исчезла, и на экране вспыхнули три имени. — Я уничтожу этих теплых сгустков. Ты подтверждаешь приказ?
Я вытер испарину со лба, откашлялся. В это мгновение мне казалось, будто я сам стою у края пропасти и в ужасе жду, когда увесистый пинок отправит меня в полет без возврата. Трудна профессия палача!
— Приказ подтверждаю. Сделай это быстро. Пусть умрут не мучаясь и так, чтоб походило на несчастный случай. В тот момент, когда они будут одни.
— Придется ждать. Теплая Капля. Два объекта, в Москве и Петербурге, находятся в своих жилых ячейках и окружены людьми. Третий тоже не одинок.
— Третий — Салудо?
— Да.
Экран мигнул, и появилась комната. Я рассматривал ее в перспективе, как бы сверху и немного наискось — стены, сходившиеся к тройному эркерному окну, смятую постель, зеркало, кресло, низкий столик с рюмками и бутылкой бренди. У зеркала вертелась полуодетая Инесса, наводила красоту; в кресле, облаченный в халат, расположился Салудо. Судя по его расслабленной позе и сонной физиономии, самое интересное мы пропустили.
— Девушка скоро уйдет, — произнес я, глядя на Альберта.
Странно, я ненавидел его и в то же время жалел — еще один факт в копилку человеческой иррациональности. Вот мужчина, думалось мне, еще молодой и полный сил и даже, весьма возможно, не без каких-то талантов. Живет себе и живет, ест, пьет и зашибает бабки, спит с красивой девушкой, потом хватается за пистолет и убивает другого мужчину. Тоже молодого и полного сил… А друг убитого, конечно, мстит и, при нормальном раскладе, гибнет — ведь у убийцы тоже есть приятели… Так, смерть за смертью, разворачивается цепь событий, пока ее не оборвет случайность, божий промысел или чья-то воля. В данной ситуации — моя. Так уж сложилось, что я могу добраться до приятелей, подельщиков и покровителей. Инесса натянула платье.
— Отвезешь меня?
— Тачку тормозни, — лениво каркнул Альберт.
Губы красотки дрогнули — видно, хотелось ей что-то сказать, да побоялась. Был, наверное, печальный опыт.
Салудо поднялся и хлопнул ее пониже спины, направив к выходу. Спальня исчезла; теперь я видел холл, оклеенный изображавшими джунгли обоями: тигр под баобабом, охотники на слоне, смуглые туземцы в белых чалмах, удавы, обезьяны. Еще — распахнутая дверь, а за ней санузел в знакомом американском стиле: кафель, зеркала, роскошная ван-ча, биде и унитаз, напоминавший стартующую ракету. Послышались щелчки замков, но Джинн, словно забыв о гостье и хозяине, переместился в ванную. Тут, кроме обычных удобств, был телевизор на кронштейне, а рядом — маленький бар. Альберт, похоже, жил с комфортом.
— Ванна-джакузи, автономный подогрев, регулировка давления, система водоочистки, — раздался негромкий го лос Джинна.
Внезапность и странная неуместность этих слов заставили меня вздрогнуть. Почти неосознанно я отозвался:
— Президент велел мочить в сортире…
— Тоже человеческая иррациональность?
— Думаю, нет. Скорее простая логика: дерьмо должно идти к дерьму.
— Это вполне разумное умозаключение, — заметил Джинн и смолк.
Я наблюдал, как Салудо, сладко потягиваясь, возвратился в спальню, выпил коньяка, сбросил халат, двинулся к зеркалу и, вывернув шею, стал разглядывать царапины на лопатках. Инесса, кажется, была девушкой страстной или талантливо изображала страсть… Хмыкнув, Альберт почесался, зевнул и зашагал к лобному месту. То есть к ванне-джакузи с водоочисткой и подогревом.
— Торшер уже горит, и ассирийские демоны шепчут с экранов, — произнес Джинн. — В жилой ячейке Ичкерова дверь с магнитным замком. Я его заблокировал.
— Клиент не выскочит в окно?
— Исключается. На окнах решетки.
Зашумели водяные струи, хлынули в перламутровое ложе ванны. Салудо поглядел на бар, подумал, вернулся в комнату, прихватил бутылку с рюмкой, отнес в свой комфортабельный санузел. Поглядел, как льется вода, вышел в прихожую, взял мобильник.
— Звонит Ичкерову, но связь также блокирована, — прокомментировал Джинн.
Альберт с недовольным видом отбросил трубку, пробормотал: «Где его носит, идиота хренова…» — и прочно переместился в ванную. Налил и выпил рюмку и, испуская блаженные вздохи, полез в бурлящий водоворот. Покрутился так и этак под ласковыми струйками, лег на спину, вытянул ноги, закрыл глаза. Мирный отдых после приятных трудов, мирный человек, овеянный крылами счастья и успеха… Кто-то ему бы позавидовал, его шикарной ванне, обоям с тиграми и фирменному коньяку — кто-то, но только не я. Мене, мене, текел, упарсин…[53]
Тело Альберта внезапно выгнулось, он стиснул бортик ванны, захрипел, хватая воздух широко раскрытым ртом, но через мгновение мышцы обмякли, пальцы разжались, и в рот потоком хлынула вода. Если не считать голливудских фильмов и фульриков-мочиловок, я никогда не видел, как приходит смерть — а было это зрелищем страшным, жутким, отвратительным… Там, в воде, был уже не человек, а просто груда мяса, поросшая в промежности и сверху волосами, с четырьмя конечностями, что колыхались безволь но туда-сюда. Ванна-джакузи исправно делала покойнику массаж. Затем что-то вспыхнуло, сверкнуло, раздался треск, и освещение погасло.
— Агрегат выведен из строя, — сообщил Джинн. — Тело можно извлечь, не опасаясь поражения током.
— Больше… больше не показывай мне этого… — выдавил я и ткнулся лбом в столешницу. Мерзкие призраки кружили надо мной — тысячи трупов расстрелянных и зарезанных, повешенных и утопленных, забитых камнями и палками, раздавленных, взорванных, сгоревших и замерзших… Казалось, они собрались сюда со всех материков и стран, со всех полей сражений и регионов катастроф, случившихся естественным путем, по злому умыслу или небрежности, из Чернобыля и Нью-Йорка, Москвы и Грозного, Афганистана и Крыма, Токио, Фриско, Сальвадора, Индонезии… Со всех упавших самолетов, подлодок, ушедших на дно, погибших кораблей, вагонов, пущенных под откос, окопов, перепаханных гусеницами… Я содрогнулся в беззвучном рыдании, прикусил губу и вдруг услышал голос Джинна:
— Твои параметры отклоняются от нормы. Помощь… тебе нужна помощь, Теплая Капля. Взгляни на экран.
Я поднял голову, встретился взглядом с Захрой и, словно пчела нектар, впитал ее улыбку.
Не знаю, как Джинн расправился с тезкой-банкиром и братцем-подполковником; не знаю и знать не хочу. Что же до прочих фигурантов, то больше я о них не слышал, однако уверен, что мой приказ был выполнен Джинном в точности. Керим, наверное, держит пивной ларек в Магадане, Пыж ваяет статуи колымского начальства, а Калиденко Михаил Георгич нянчит внуков и отводит душу на митингах КПРФ. Нет у меня и сомнений в том, что всех знакомцев тезки — тех, что проживали в краях аравийских — постигли маленькие неприятности: кого отставили от дела, кого объявили предателем и по закону шариата укоротили ровно на голову. Так ли, иначе, но мир избежал финансовых катаклизмов, и это на руку всем и каждому: одни продолжают свой джихад, другие — войны с террористами, а третьи качают нефть в умеренных количествах, дабы не падала цена за баррель.
Восьмого марта, утром, Бянус позвонил мне и сказал, что у сурабовой племянницы не тот менталитет, да и ноги, как выяснилось, кривые, а потому ей дадена отставка, но это ничего, это вовсе к лучшему, ибо он встретил девушку своей мечты, филологиню Людмилу, специалиста по глоссематике[54]. И в этот светлый праздник они осчастливят меня визитом, вместе с бутылкой кагора, так как Милочка крепкого не пьет, но это тоже ничего — такие недостатки изживаются временем и тренировкой. Готов ли я почистить серебро, достать крахмальные салфетки, украсить кошку бантиком и ждать гостей?
Я сообщил, что не готов, что я на это вечер абонирован и что заявка подана как на меня, так и на кошку, по каковой причине глоссематический конгресс придется отложить. Бянус хмыкнул, обозвал меня паршивым соутробцем, но признался, что соутробец у него один и он меня прощает. Затем, понизив голос, вымолвил:
— Ты. Серый, смотри… ты уж не ввязывайся в историю… зуб там за око или око за зуб… Алика не воскресишь, хоть по зубам кувалдой бей!
— Это верно, — согласился я.
— А кто же тебя абонировал? Не наша ли арабская принцесска?
— Скромность не позволяет мне упоминать имя дамы.
— Ну и леший с тобой! — Сашка помолчал, что-то соображая, пришел к каким-то тайным выводам, буркнул: — Одобрямс! — и бросил трубку.
Дама моя явилась в пятом часу, в синем платьице с серебряными блестками, нарядная, как маленькая королева. Выпила чаю с пирожным, поведала детсадовские новости, потискала Белладонну, и все бы хорошо, но я был не в том настроении, чтобы рассказывать сказки. Подарок, однако, приготовил, разыскав среди фульриков самый веселый мультфильм о приключениях Али Бабы. Мысль не просто увидеть сказку, а погрузиться в нее, очаровала Олюшку; пока я подгонял браслеты, она сидела не шелохнувшись, светясь и сияя в предвосхищении чудес. Дети так искренни, так не похожи на взрослых! Ее совсем не волновало, реален ли сказочный мир и как соотносится с нашей Вселенной, кто обитает в нем, фантомы или живые существа, и как она проникнет в пестрый хоровод компьютерных духов и обретет над ними власть. Чувства для нее были важней, чем здравый смысл, а приключения интереснее размышлений…
Если бы я мог вернуться в детство! Глупая мечта! Я был безнадежно взрослым, а к тому же еще и отмеченным проклятием — думать, анализировать, сопоставлять. Смотреть и ужасаться…
Больше не показывай мне этого, сказал я Джинну. Не показывай смерти, трупов, истерзанных тел, больных, страдающих неизлечимыми недугами, голодных, безумных, охваченных ужасом, уродов, дебилов и все остальное, что вызывает у человека страх и омерзение… Слабость, минутная слабость, и только! Те самые чувства, что иногда важнее разума… нет, не важнее — просто они затмевают разум, как тень луны, скрывающая солнце. Потом затмение проходит, и понимаешь, что должен — обязан! — смотреть на это. Мир переполнен насилием, и ничего не добьешься, если не видеть его, закрыть глаза и поселиться в башне из слоновой кости. Что свершишь хорошего, полезного, кого спасешь, кому поможешь? И за кого отомстишь?
Я глядел на Олюшку, повизгивавшую от восторга, и думал, что перспективы для мести неисчерпаемы. Столь велики и обширны, что от них кружилась голова! И мщение будет справедливым; Джинн — не судья и не коллегия присяжных, его вердикты безошибочны, как и назначенная кара… Впрочем, месть виновным не лучшее решение. Кара — результат исполненных преступных умыслов, а я бы мог их упредить, составив с помощью Джинна прогнозы и предприняв необходимые шаги. Возможно, не убивая потенциального преступника… Но если придется убить, то это к благу, к всеобщему благу, ибо спасет невинных — тысячи, миллионы людей! Спасет от ужасов войны, от голода, террора, геноцида, от честолюбия политиков и фанатичных камикадзе с бомбами! Спасет их от самих себя, ибо за ними будет приглядывать Великий и Неподкупный Полицейский…
Но эта идея мне быстро разонравилась. Я вовсе не презираю полицию и полицейских, однако Джинна я в этом качестве не представлял. Сдерживать и охранять, тащить и не пущать… Слишком мелко для Глобальной Цели; охрана, конечно, вещь полезная, но перспектив не открывает. А смысл — в этом! Деяния Джинна должны отворить какую-то дверь, еще закрытую для человечества, дать позитивный импульс цивилизации или хотя бы избавить ее от самых острых, казавшихся неразрешимыми противоречий. К примеру, от конфликтов, ведущих к религиозным войнам, насильственному дележу земель, несовместимости рас и народов, вдруг обнаруживших, что мир невелик и очень тесен. Так тесен, что выживает тот, кто лучше работает локтями и коленями…
Вот это была бы Цель! Пока я не мог ее сформулировать более внятно и понимал, что дело это непростое: ведь постановка задачи уже половина решения. Решить же можно все, если ставишь нужные вопросы и обладаешь нужными ресурсами.
Вопросы еще висели в воздухе, а вот ресурсы у меня имелись практически неограниченные — я, вероятно, был одним из самых сильных, самых могущественных лиц в земной истории. Нет, не так! Никаких «одним из самых» и никаких «вероятно»! Самым сильным, самым могущественным! Но понимание этого факта меня не радовало.
Взвизгнув, Олюшка подпрыгнула в кресле, замахала руками, стиснула кулачки. Я улыбнулся. Может, доверить ей Джинна, мир и судьбы цивилизации? Сказкой она командует неплохо, справится и с мировыми проблемами… Кто как не она? Самая Теплая Капелька на древней многострадальной Земле…
Интермедия 4
ЛЖАХАННАМ И ДЖАННА
Омар Хайям. Рубаи.
- «Всех пьяниц и влюбленных ждет геенна».
- Не верьте, братья, этой лжи презренной!
- Коль пьяниц и влюбленных в ад загнать,
- Рай опустеет завтра ж, несомненно.
В тот день я задержалась на факультете — был семинар, устроенный для гостя из Москвы, специалиста по скифам, сарматам и аланам. Я не питала симпатий ни к тем, ни к другим, ни к третьим, но Муса, мой муршид, сказал, что надо явиться и отсидеть пару часов, дабы не нарушать порядок и оказать приезжему уважение. Еще он добавил, улыбаясь, что люди на кафедре дряхлые (конечно, не считая хакима Саши), и рощу замшелых осин надо украсить очаровательной юной березкой. Муса умеет делать комплименты! С березкой меня еще не сравнивали — Робер, если хотел сказать приятное и что-то такое, не связанное с Артемидой, толковал о пальмах, пионах и розах.
Итак, украсив собрание мудрых мужей, я два часа внимала докладу о том, являлись ли скифы предками русских. Этот вопрос, как шептал мне сидевший рядом хаким Саша, относился к числу актуальных и хлебных, ибо родство со скифами приобщало славян к античной эпохе и подтверждало, что южные степи, Крым и Северный Кавказ принадлежат им по праву древних поселенцев. Так же как и скифская культура, чудные вещи из золота, победы над персами и изобретение седла… Все это Саша излагал с многозначительной усмешкой и так тихо, что слова струились из его ехидных уст прямо в мои уши.
А я испытывала беспокойство и тоску. Не от крамольных сашиных речей, не из-за скучного доклада, а по другой причине, столь же неясной и смутной, как миражи в песках Эль-Хасы. Велик Аллах! Ну почему мне не сиделось в этой уютной теплой комнате, около хакима Саши? В конце концов, мы бы могли забыть о скифах и пошептаться на иные темы — о сашином друге Сирадже, владыке джиннов и моей души…
Мой Светоч, мой Синеглазый! Едва я подумала о нем, как сердце стиснула тревога и кровь застучала в висках. Я чувствовала — нет, я знала! — что с ним случилось нечто жуткое, одна из тех вещей, какие происходят, когда мы отданы на растерзание врагам и их клинки владеют нашей жизнью. На миг я словно оказалась в джаханнаме, в геенне огненной, откуда нет возврата — да я и не хотела бы вернуться, раз он попал туда… Но как и почему? С ним не могло произойти плохого, ибо веления джабра нерушимы: что послано Аллахом, людям не отнять! Он предназначен для меня, он станет моим мужем, отцом ребенка, который снился мне, и это так же верно, как смена дня и ночи, как то, что ветер раздувает пламя, а воды его гасят.
Но беспокойство мое не уменьшалось.
Может быть, болен?… — думала я, кусая губы. Может быть, сбила машина? Может, поскользнулся и упал? Или повстречал лихих людей, готовых перерезать горло за три динара? Что с ним могло случиться? Что может вообще случиться с человеком, который властвует над джиннами?
Конечно, это была нелепая мысль, внушенная мне Ахметом. Я верила, что нас, меня и Синеглазого, хранит Аллах, но у Него есть множество способов явить свою милость, спасти, защитить и уберечь. Он делает это без помощи джиннов.
Московский гость закончил свои речи, собрание наших мудрецов с кряхтеньем встало и начало расходиться, сморкаясь, кашляя и шаркая ногами, а я помчалась в вестибюль. Хаким Саша заторопился следом; кажется, заметил, что со мной творится что-то странное. Он неплохой человек, но лучшее в нем — то, что он старинный друг Сираджа.
— Вас проводить, Захра? Вызвать такси? Я покачала головой.
— Спасибо, не надо. Меня уже ждут.
Он поклонился, вышел, придержав для меня дверь, и торопливо зашагал к троллейбусной остановке. Я огляделась. Ни машины, ни Ахмета…
Никто меня не ждал, и это было случаем невероятным! Мой страж подобен коршуну — его не видно и не слышно, но стоит появиться куропатке, как он уж тут как тут.
Встревоженная еще больше, я вернулась в полутемный вестибюль, вытащила телефон и надавила клавишу.
— Ахмет?
— Да, госпожа. Я у него, как ты велела.
— Я велела?…
— Разве я слышал не твой голос? Разве ты не сказала, чтобы я ехал к Сираджу, ибо дела его бедственны? И чтобы я — во имя Аллаха! — поторопился?
Сердце у меня упало.
— Как я могла звонить? Когда? Я ничего тебе не говорила… Я даже не знаю, где он живет… — Пустые слова, мелькнула мысль, совсем не о том, что надо спрашивать… И я, прижав ладонь к щеке, невольно вскрикнула: — Что с ним? Он жив?
Голос Ахмета вдруг сделался хриплым.
— Сидит напротив меня, пьет кофе и восхваляет твою красоту. Дурные люди были у него, псы шелудивые, и он сражался с ними, как воин и мужчина. Я помог… немного.
Колени мои ослабли, и я опустилась на ближайший стул. Я все еще была в огне геенны, но рука Ахмета, его хриплое дыхание и голос тянули меня из огненной бездны джаханнама.
— Скажи, он не ранен?
— Нет, госпожа.
— Чего хотели те дурные люди?
— Хотели, чтоб он отдал им власть над джинном. — Помолчав секунду, Ахмет добавил: — Так он говорит. А еще сказал, что джинн огромен и если появится в доме человеческом, то обрушит стены на всех живущих в нем. И потому джинн не пришел, чтобы убить тех псов, а вызвал на помощь меня. Твоим голосом.
Я не знала, плакать или смеяться. А если не знаешь, что будет лучшим, надо произнести молитву, что я и сделала, закончив ее словами: ва Мухаммад сафват Аллах мин хал-кихи ва мустафаху[55]. Потом спросила:
— Ты никого не убил, Ахмет?
— Никого, госпожа. Он не велел.
Вздох облегчения вырвался из моей груди.
— Приезжай за мной. Скорее!
В машине Ахмет молчал, хмурил брови, поглядывал на меня, и лишь когда мы перебрались через мост, внезапно разразился речью:
— Он благороден, моя госпожа. Благороден и честен! Я спросил, трудно ли джинну явиться к девушке, которую он любит, схватить ее и принести к нему на ложе. Но этого ему не хочется. Он говорит, что это насилие.
— Может быть, ты ошибаешься и он не любит ту девушку? — промолвила я, чувствуя, как тревожно и сладко сжалось сердце.
— Не ошибаюсь. Он сказал: она прекрасна! Видеть ее — счастье, мечтать о ней — радость!
Адские врата захлопнулись и растворились двери джанны…
Я спрятала лицо в ладонях. Я не хотела, чтобы Ахмет увидел, как блестят мои глаза и как пылают щеки. Голос изменил мне, но все же я смогла пробормотать:
— Люди, что напали на него… Они не вернутся? Не причинят ему зла?
— Не ведаю, госпожа. — Задумчиво сдвинув брови, Ахмет пожал плечами и произнес: — Жизнь человеческая в руке Создателя — неважно, повелевает ли тот человек джиннами или лепит горшки на багдадском базаре. Но я харис… я охраняю кровь Пророка — ту, что есть, и ту, что будет… Было бы легче ее охранить, если бы вы были рядом, ты и он. — По его лицу вдруг скользнула улыбка. — Понимаешь, когда вы рядом, нам удобнее о вас заботиться.
— Нам?
— Да. Мне и джинну.
Я рассмеялась, не отнимая ладоней от лица, и сказала:
— Пусть Сирадж прикажет джинну, чтобы схватил меня и перенес в его жилище. А если джинн ленив и этого не сделает, я доберусь туда сама. Ты ведь отпустишь меня, Ахмет? Может быть, отвезешь?
Он молчал целую минуту, затем послышалось:
— Аллах выбирает, Аллах дарует, Аллах разлучает и соединяет… Кто я такой, чтобы спорить с Ним?
Глава 16
ВЛАДЫКА МИРОЗДАНИЯ
Омар Хайям. Рубаи.
- Когда б я был Творцом, Владыкой мирозданья,
- Я небо древнее низверг бы с основанья
- И создал новое — такое, под которым
- Вмиг исполнялись бы все добрые желанья.
Вправе ли один человек распоряжаться жизнью и смертью тысяч, миллионов, судьбами стран, передвижением народов, природными и рукотворными богатствами? Вправе ли, объявив себя лидером, решать единолично, какие идеи приемлемы, какие — нет, к каким делам призвать соотечественников и как эти дела вершить — на поле битвы, или же мирным трудом, или в каменоломнях и лагерях за колючей проволокой? Вправе ли он искоренять инакомыслие, диктуя, как креститься, двумя или тремя перстами, каким богам кадить, какие гимны петь, что делать с иноверцами — вешать ли быстро и высоко, распять ли, пристрелить или обратить в рабов?
Вопросы, уже решенные историей. Знавала она всяких лидеров, и теоретиков, и практиков, однако последних было больше — Тутмосы и Рамсесы, Кир и Дарий, Александр, Цезарь и Аттила, Чингисхан и Баязит, Петр I, Людовик XIV, Наполеон и Гитлер и, разумеется, наши вожди мировой революции. Полководцы, консулы, императоры, президенты и председатели, великие кормчие, непогрешимые отцы народов — все они присваивали право решать, искоренять, карать и миловать. Все они были деспотами, тиранами, все совершали злодейства и убийства, оправдываясь тем, что кишкодрал затеян для народной пользы и процветания державы. Опасный пример, очень опасный! Когда измеряешь дистанцию между ними и собой, сперва становится жутковато, но после кое-каких размышлений думаешь — а почему бы, черт возьми, и нет? Были тираны тупые, были ординарные и даже гениальные — а я, с всеведающим Джинном, чем не гений? Конечно, гений света, а не тьмы! Где вот только провести границу…
Вставайте, граф, вас ждут великие дела!
За пару дней я разобрался с владельцами анонимной базы и даже составил по накатанным следам компедиум чиновно-мафиозных кланов в Питере и окружающем пространстве, вплоть до политых кровью, пропахших наркотой границ Афганистана. Попали сюда и боевые дивизии, соперники уже знакомых «новгородцев»: «Татарское иго», «Синие шинели», «Опричники», «Конан» (тут главарем был Паша Кононов по кличке Киммериец), «Щит и меч» и всяческие лиги и союзы вроде «ABE». He «Аве Мария», а Ассоциация Восточных Единоборств с тремя ступенями посвящения (ниндзя, самурай, камикадзе), с деньгами и причудливым уставом — символику для них готовил научно-дизайнерский центр при Гуманитарном университете имени Эразма Роттердамского. Все эти команды, имевшие официальный статус ЧОП, ЧДА и ЧСК[56] трудились в сфере «силовой поддержки», включавшей как охрану, так и иные функции — выбивание долгов, погромы конкурентов, допросы третьей степени. И был у них специалист на каждый случай, от примитивного качка до многоопытного киллера. Вроде покойного Салудо…
Я строил криминальное дерево, а получился целый лес, тайга с дубами-боевиками, авторитетами-соснами, пронырливым, как тополиный пух, ворьем и рощами гибкой чиновничьей ивы, что гнулась охотно в любую сторону ветрами кумовства и взяток. Тут, как во всяком лесу, произрастали кустарник и подлесок, ельники мужающей шпаны, малина-мошенница со сладким запахом бесплатного варенья, цветущий розовый шиповник, маскировавший строителей пирамид, и цепкие лианы нищей братии. Эти вербовали ребят из детских домов, увечных, беженцев и беспризорных, делились по районам, проспектам, улицам и станциям метро и назывались по месту дислокации или по имени хозяина то побируш ками Петровича, то Озерковскими или купчинскими, то васькиными убогими. Все было поделено и оприходовано, куплено или захвачено силой, обложено поборами и согласовано с властями. Существовали, впрочем, зоны общих интересов, тождественные рынкам, со сложной структурой вертикальных и горизонтальных связей, особым статусом соподчиненности и дележа доходов. С клиентом тут могло случиться что угодно; если его не грабили в тихом закоулке, не обворовывали в толпе, то уж обвешивали наверняка.
Я проследил реализацию товаров, конфискованных таможней; обычно они попадали в странные фирмы-однодневки, исчезавшие, как дым, по завершении торговых операций. Я разобрался с подделкой лекарств, со всякими мазями и бальзамами на постном масле, разбавленными микстурами, таблетками от ожирения, липовым средством от СПИДа, всеисцеляющим гербалайфом и топинамбуром, которым лечили диабет. Деньги тут крутились просто фантастические — ведь каждый россиянин, младенец или пенсионер, чем-нибудь да болел, гипертонией, аллергией, ишемией или размягчением мозгов. Я узнал о разбое, творившемся в сферах искусства, о том, как обирают авторов, художников, актеров, чьи фильмы и мелодии порезаны в лапшу и пущены в гарнир к рекламным роликам. Я выяснил, что существует компьютерная проституция — факт, отчасти мне известный, но не сводившийся к интимным диалогам и платным порнографическим сайтам. Этот бизнес не отставал от времени, и потребитель, зная пароль, мог ознакомиться с каталогами и заказать товар любого возраста и пола. Либо, наоборот, дать собственные предложения и появиться в каталоге — со снимками, ценой и описанием своих умений.
Кроме перечисленного, я ознакомился с другими любопытными фактами, достойными «Amazing News»: о встрече космонавтов с инопланетной флотилией (даже Джинн не ведал, была ли то галлюцинация или реальность); о наших полярных экспедициях, открывших в Ледовитом океане такие залежи полезного сырья, что человечеству их хватит лет на триста; о краже ядерной боеголовки ценою в двадцать миллионов долларов (продать ее не удалось — в контейнере вдруг оказались булыжники и кучка куриного помета); о передаче Россией военных технологий Ирану и Ираку (такого не было, но выезду специалистов не препятствовали); о тайных американских операциях «Большая чистка», «Черная Дыра», «Сатурн-UFO» и «Волки без границ» (остались лишь архивы Top Secret, все очевидцы ликвидированы — примерно как в голливудских фильмах). Наконец, осуществив ревизию искусственных космических объектов, я убедился, что боевые лазеры не миф, равно как психотропное оружие, бомбы с вирусом тетрачумы и штаммами сибирской язвы, а также некая новая штучка, способная за пару суток разрушить озоновый слой от полюса до полюса. Все эти страсти и ужасы кружились над нашими головами как молчаливое свидетельство того, что человеческий гений не дремлет, что он, в отличие от человеческой жизни, неисчерпаем и бесконечен.
Но эти экскурсы туда-сюда, вычерчивание криминальных графов[57], ревизия спутников и сафари в бандитских джунглях — все это было мелочью, разминкой, пассивным наблюдением. Конечно, Джинн мог отыскать любые данные, собрать из множества источников, осуществить анализ, который завершался резюме о достоверности информации; еще он мог разработать модель того или иного явления и сделать обоснованный прогноз — скажем, когда и как американцы атакуют Кандагар или кто воссядет в кресле губернатора Чукотки. Но это, собственно, не относилось к действиям и не влияло на течение событий; то был всего лишь равнодушный взгляд на человечий муравейник, на суетливых теплых сгустков, которые плодились, жрали, пакостили, лезли вверх и резали друг друга. Взгляд, и только!
Я жаждал совсем иного. Еще не представляя Цель — ту, Великую, Глобальную! — я абсолютно точно знал, чего желаю. Я мечтал поспеть во все концы на всей Земле, во все края, где творятся убийство и насилие, где торжествуют несправедливость и зло, — попасть туда и покарать злодеев собственной рукой. Мне хотелось, чтобы каждый насильник задохнулся в петле, сгорел, утонул в нечистотах или сдох на колу, чтобы их жертвы насладились местью и чтобы ветер, несущий кровь невинных, взошел посевом бури. А еще я хотел воздать униженным и оскорбленным за их мучения… Я понимал, что этого делать нельзя, что это невозможно даже с помощью Джинна, но мое желание не становилось слабее. Оно было сильным, страстным и совершенно иррациональным.
Наверное, я изменялся, претерпевая некие метаморфозы, и это было неизбежностью: я влиял на Джинна, и Джинн — вернее, обретенное могущество — влиял на меня. Может быть, то, что я сделал с убийцами Алика, явилось гранью, рубежом между Сергеем Невлюдовым прежним и нынешним; этот нынешний уже не боялся смерти и размышлял, как грозный Саваоф: я буду милостив к народу моему, но нечестивые погибнут! Погибнут во имя справедливости, ибо месть — ее смысл и суть!
Не дьявол ли нашептывал мне это? Прошла неделя, и после долгих совещаний с Джинном я принял наконец решение.
Для начала мы разделались с проектом Пола-Гарсия. Каэтано Гарсия являлся бразильским министром промышленности, Джеффри Пол главой ФРР, международного Фонда развития и реконструкции, владевшего шахтами и рудниками от Индокитая до Огненной Земли. План их сводился к утилизации трети амазонской сельвы, вырубке леса, прокладке дорог, созданию промышленных зон и сельскохозяйственных угодий, а также к выселению индейцев с реконструируемой территории. План был уже одобрен и вклады партнеров согласованы; Бразилия предоставляла земли, рабочих и право концессии на девяносто девять лет, ФРР — оборудование, финансовую поддержку и специалистов. В результате, как прикинул Джинн, доля кислорода в атмосфере упадет на половину процента, а экология влажных тропических лесов разрушится до основания — что, само собой, станет прелюдией общепланетной катастрофы. Но Джеффри Пол и руководство фонда имели другие, более оптимистичные прогнозы, так что грядущее удушье их не беспокоило.
Зато взволновал меморандум с альтернативным предложением, касавшимся Центральной Африки, то есть Танзании, Уганды, а в первую очередь Руанды и Бурунди. Не очень обширный регион и бурный в политическом смысле — можно сказать, арена полувековой резни между тутси и хуту[58], и на этой арене людей вязали колючей проволокой, жгли огнем, давили танками, а в битвах никогда не брали пленных. Однако территория не столь гнилая и лесистая, как амазонские джунгли, и, разумеется, более выгодная для инвестиций, если учесть месторождения вольфрама и бериллия, касситерита и танталита. Их совокупная добыча исчислялась парой тысяч тонн, но, по данным геологической разведки, извлеченным Джинном из немецких и бельгийских тайников, запасы были богатейшие, что подтверждали секретные карты, схемы и результаты бурения. Ознакомившись с новой идеей, свалившейся анонимно по Сети, Джеффри Пол заморозил бразильский проект — и тут же, словно в знак божественного одобрения, в бурном африканском регионе наступила тишина. Конечно, относительная; но что абсолютно в этом мире?
Мне удалось покончить с затянувшейся войной лишь по жестокой схеме Фразибула[59]. Известно, что в каждой партии, в любом общественном движении есть ястребы-радикалы и есть либеральные голубки, а между ними — индюки-центристы. Ястребы жаждут крови, голуби — райской идиллии, а вот индюк — птица нелетающая, без фантазий, зато мясистая и основательная. Если убрать самых задиристых ястребов и самых мечтательных голубей, к власти приходят индюки, и временами это не так уж плохо: индюк с индюком всегда договорятся.
Они договорились. Договорились после того, как радиоуправляемый снаряд накрыл генерала Рвиегиему со всем его штабом, как странные лучи (возможно, лазерные?) сожгли Мутару с десятком полководцев, как рухнул лайнер Джуримана, президента хуту, а его коллега тутси Кигерин[60] был сражен инсультом прямо в ванне. Ряд других персон, слишком левого и слишком правого настроя, тоже был изъят из обращения; кто-то сунулся не вовремя к розетке, кто-то не вписался в поворот при отказавшем зажигании. Ну что тут поделаешь… Известно, что лучшее средство против перхоти — гильотина… Я утешался тем, что хрупкий мир лучше прочной ссоры, и тем, что Фонд развития решил не вырубать бразильские леса, а добывать вольфрам и олово в Руанде и Бурунди. Ни хуту, ни тутси это богатств не принесет, но будут сыты, а сытые несклонны к войнам.
После этих двух экспериментов я ощутил себя владыкой мироздания. Конечно, не всей бескрайней Вселенной и даже не родной Галактики или там Солнечной системы, но в местном масштабе — наверняка! Словно серый кардинал, маячивший за спинами вождей и лидеров, промышленных боссов и генералов, я мог направить их туда или сюда, подвигнуть к тем или иным решениям, а в крайнем случае — взять за галстук и перекрыть кислород. Как финансовый, так и тот, что еще циркулирует в нашей пропахшей дымом и бензином атмосфере… Я был готов к великим свершениям и героическим подвигам, тем более что напрягаться для этого не приходилось — только поставить задачу, выслушать прогнозы и отдать приказ. Сознание могущества и тайной власти… Как оно сладко, как искусительно! Оно опьяняло меня! А эйфория, как известно, помрачает разум и не доводит до добра… Я уже не вспоминал ни о Глобальной Цели, ни о друзьях и близких — здесь, в России, и в других краях, ни о своем аспиранте и дипломниках, ни даже о Захре. Я словно вывалился из бытия, пусть скучного и повседневного, но делающего человека человеком; выпал из него и погрузился в иную реальность вселенских геополитических масштабов. В ней, в этой реальности, планета мнилась шахматной доской, где я мог переставить или снять любую из фигур.
Я посмотрел на экран с кошачьей мордочкой, потом на саму Белладонну, прижавшуюся к тришкиному боку.
— Ну с тутсихутами и амазонской сельвой мы разобрались… Чем теперь займемся, детка? Подрежем коготки исламским экстремистам? Сделаем из нашей мафии гуляш? Или проверим, отчего у нас Камчатка без топлива осталась? Еще отложится, как дыркачи…
— Мрр! — возразила Белладонна.
— Пожалуй, ты права, — заметил я. — Экстремистов мы прищучили в валютной сфере, а мафия с Камчаткой подождут. Во все ведь стороны не прыгнешь, а прыгать желательно туда, где горячее… Давай решим кавказскую проблему! А заодно — дальневосточную и крымскую! Ты как считаешь, получится?
Белладонна прищурила глаз и с сомнением протянула:
— Мяя-ау!
— Ну почему же нет? Мятеж в Приморье — это ведь, милая, не из мести и не от злобы, а от безысходности! Ни света тебе, ни тепла, ни хлеба, ни воды, ни сносного начальника, одни проходимцы, и так — из года в год… Вот люди и озверели! Теперь хотят свободы — чтобы, сама понимаешь, свободно примкнуть к Китаю, а лучше — к Японии…
— Мрр-мне!
— Сомневаешься? А Джинн считает, что именно так! Если отдать им что положено и мудрых начальников поставить, глядишь, все устаканится. И с тем же Крымом и Чечней… Я вдруг поперхнулся, осознав, что ситуация с Чечней и Крымом, к сожалению, другая. Не от хорошей жизни взбунтовались дыркачи — то был мятеж против бессилия властей, продажности, коррупции. В этом они оказались едины, и не было иных причин, каких-нибудь кровавых счетов, чего-нибудь такого, что копилось бы веками в пороховых погребах истории. Наладить снабжение, дать Приморью льготы и честного правителя, не демагога, не ворюгу, все и правда утрясется…
А вот в Чечне единогласия не наблюдалось. Не считая чеченцев, благоразумно перебравшихся на мирный север (которых, кстати, было большинство), все остальные разделились натрое: одни стояли за Чечню, что автономна, но нераздельна с Россией, другие Россию ненавидели и жаждали полной свободы, а третьим, кроме свободы, мечталось о небольшой империи от Черного моря до Каспия. Три мнения, одна Чечня… Не развести, не разделить! Совсем не так, как с тутсихутами, которым щедростью богов были подарены два государства, а волей Джинна — мистер Пол и водопады инвестиций.
С Крымом было еще сложнее. Кому принадлежал он, этот участок суши, не полностью окруженный водой? Если забыть о вымерших таврах и скифах, Пантикапейском царстве, античном Херсонесе и генуэзских колониях, тут оставалось три претендента: татары, которые Крым завоевали, русские, которые его аннексировали, и украинцы, которым Крым подарили. Каждый из этих актов был законным — в том смысле, что их освятила история, и каждый народ полагал, что Крым — его отчизна, откуда иноверцев с инородцами нужно пнуть под зад коленом. Косоглазых — на Волгу, кацапов — в Москву, хохлов — в их Жмеринку… В принципе все варианты возможны, ибо Россия и Украина — страны большие, великие, но вот, например, что делать с Палестиной? Там много хуже, чем в Крыму! Евреев с арабами не примиришь и никого не выселишь — ни тем ни другим деваться некуда.
Вот если бы было три Крыма!.. — думал я, глядя в голубые глазки Белладонны. Три Крыма, три Чечни, две Палестины… Что там у нас еще спорного?… Три Ирландии, для англикан, католиков и непримиримых из ИРА, две Басконии, пара Сицилии — отдельно для мафиози и для нормальных людей… И множество Америк, чтоб разделить англосаксов, черных, желтых, краснокожих и чиканос… Отличная идея, но сотворить дубликаты стран, размножить города и веси, репродуцировать культурное наследие — такое даже Джинну не по силам! Где он возьмет столько Земель или землеподобных планет в Галактике? Как перебросит туда клиентов и заказчиков — не экспедиции, не ученых, а целые народы? И как обеспечит между ними связь? Ведь люди, разъединившись и позабыв о тех конфликтах, что вели к вражде, вновь пожелают создать единое общество, пусть космическое, галактическое, но целостное, соединенное памятью предков и узами крови! Да, хорошая идея, но, прямо скажем, с запашком фантастики…
Я встал, потянулся, затем отправился в гостиную, лег на диван и включил телевизор. С экрана грянуло огнем, полетели какие-то обломки и расчлененные тела, затем над городскими руинами проплыл космический дредноут в форме менажницы. Кадр сменился; теперь я видел молодого человека и девушку, полуголых и закопченных, словно две каминные кочерги. Парень размахивал пистолетом и возбужденно орал:
— Они повсюду! Корабли пришельцев сметают все на своем пути! Рухнули небоскребы Нью-Йорка, Кремль в развалинах, храмы Ватикана сожжены! Толпы несчастных мечутся по улицам! Этим чудовищам неведома жалость! Мы для них просто мишени!
Скривившись, я прогулялся по другим программам и выяснил, что небоскребы в Нью-Йорке в самом деле рухнули, но Кремль еще стоит. Ватикан, к сожалению, не показали, зато по седьмому каналу шел балет, и я задремал под нежные мелодии «Лебединого озера».
И приснилось мне, будто собрался наш кафедральный семинар, и не иначе как на предмет моей предзащиты. Танечка вела протокол, а в первых рядах сидели Вил Абрамыч, профессор Оболенский, доценты Балабуха и Ковалев, и с ними — Томас Диш и Дэвид Драболд, вероятно приглашенные по такому случаю. Сзади виднелись другие знакомцы, Паша Руднев, Ник и Дик, мои дипломники, Дима Басалаев, Светлана Георгиевна и эмэнэс Никитин, а в самом последнем ряду — Юрик Лажевич. Вроде бы даже Глеб Кириллович где-то маячил, в сером смокинге с бабочкой и с пышным букетом хризантем. Чтобы, надо думать, поднести их мне после успешного доклада.
А доклад я делал вовсе не про Джека Потрошителя и не о том, как распознать объекты, а о практическом использовании Джинна. Как его, значит, запрячь, приставить к полезному делу и полегоньку доить на благо России и остального человечества. К началу сна уже до выводов добрался. — Его ресурсы практически неисчерпаемы, как в технологической, так и в социальной сфере, — услышал я собственный голос. — В частности, он способен поддерживать порядок и законность в масштабах всей планеты, пресекать насилие, осуществлять превентивные меры. Следовательно, он может являться гарантом справедливости.
— Мировым жандармом, — с кислой усмешкой возразил доцент Балабуха, и доцент Ковалев поддержал его легким наклоном головы. — А человеческому сообществу, Сергей Михайлович, жандармы не нужны. Хватит с нас КПСС и американского империализма!
— Ну это в прошлом, — вякнул Дима Басалаев.
— Не поворачивая головы, Балабуха с ехидцей поинтересовался: — Вы уверены, молодой человек? Ежели все-таки в прошлом, так это наше прошлое, а не ваше. Опыт у вас не тот, чтобы о прошлом размышлять. Что вам известно, к примеру, о жандармах? О главном их таланте? Димыч заерзал на стуле.
— Это о каком?
— Жандармы, милейший, твари живучие, способные к неограниченному размножению. А если электронного поставить…
Эбнер негромко кашлянул.
— Отложим, коллеги, дискуссию о жандармах и выслу шаем Сергея Михайловича. Первый вывод ясен. Какой же второй?
— Он должен раскрыть нам грандиозные истины, — сообщил я, с каждой секундой ощущая все большую неуве ренность.
— Например? — полюбопытствовал доцент Ковалев.
Мне вспомнился отрывок из фантастического фильма — огонь, обломки и корабль, напоминающий менажницу.
— Контакт с инопланетным разумом, а в более широком смысле вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной. Если удастся опровергнуть гипотезу Шкловского…[61]
— О, Шкловски! — Диш переглянулся с Драболдом и важно кивнул головой. — Великий астрофизик! Но даже великие могут ошибаться.
Мой завкафедрой задумчиво оттопырил губу.
— То есть вы полагаете, Сергей Михайлович, что он сумеет обнаружить присутствие чужого разума на Земле? Или отсутствие такового? Это…
— …не очень актуально, если учесть цены на нефть, инфляцию и мировой терроризм, — сказал доцент Ковалев. — Прошу прощения, Вилен Абрамович, я вас перебил.
— Ничего, голубчик, ничего… В принципе я с вами согласен, но полагаю, что этот вывод соискателя имеет определенный интерес. Танечка, зафиксируйте… Продолжим обсуждение. Пункт третий, Сергей Михайлович.
— Он мог бы исследовать Великую Тайну Бытия и разобраться с данным феноменом.
— Это что еще за зверь? — нахмурился Балабуха.
— Проблемы души, посмертного существования, реальности астрала призраков и трансцендентного континуума. Вряд ли такой анализ доступен человеку: мы, во-первых, субъективны, а во-вторых, ограничены сферой собственной гносеологии. Но существо, не относящееся к человеческому роду, то есть объективное, могло бы…
— Мистика! Опиум для народа! — пискнул Лажевич с задней парты. — Слушаем чушь и ерунду! Тогда как вопросы социума хищников, особенно в стае гиен…
— Лажа, заткнись, — тихо, но вполне отчетливо пробор мотал Басалаев. — И вообще пора бы перекурить.
— Вил Абрамыч сделал вид, что ничего не слышит, но доцент Балабуха такой деликатностью не отличался.
— В моем представлении социум гиен, душа и призраки — проблемы одного порядка. Спекулятивного! — припечатал он. — Я бы сказал, что их научная ценность близка к нулю.
— Хотелось бы услышать нечто более весомое, — поддержат доцент Ковалев. — Электронный разум все-таки… На что он способен, кроме ловли пришельцев в мутной астральной водице?
— Он мог бы научить нас жить в мире, — с трепетом промолвил я, уже предчувствуя позорное фиаско.
В аудитории повисло тягостное молчание. Потом Балабуха спросил:
— Это каким же образом?
— Ну не знаю… то есть не уверен… он может разработать новую отрасль математики… социальный анализ… чтобы мы могли избежать фатальных ошибок, просчитывая ход истории, последствия прогресса… изучая аттрактор[62], определяющий нашу эволюцию…
Эбнер тяжело вздохнул и отвел глаза.
— Это все, Сергей Михайлович?
— Пожалуй, все.
— Есть желающие выступить?
Молчавший до сих пор профессор Оболенский поднялся, и стало ясно, что сейчас последует залп тяжелой артиллерии.
— Вы разрешите, Вилен Абрамович?
— Да, Феликс Львович, будьте любезны. Оболенский прочистил горло, изобразил на лице сожа ление и произнес:
— Согласно требованиям ВАКа[63], докторская степень присуждается за научное открытие или решение важной народно-хозяйственной проблемы. Или — или, плюс актуальность и новизна… — Он сделал паузу, буравя меня взглядом. — Есть ли в данном случае открытие? Бесспорно, нет — ведь соискатель не сообщил нам новых сведений о применении разумного интеллектронного устройства. Что же касается народно-хозяйственных задач, то…
Он повозил меня фэйсом об тейбл, высморкался в мой галстук и сел под гром аплодисментов Юрика Лажевича. Тот, видимо, что-то хотел добавить, но вдруг над рядом стульев воздвигся Глеб Кириллыч Михалев.
— Милостивые судари, прекрасные мои сударыни… — Светлане Георгиевне — поклон, Танечке — обольстительная улыбка. — Не стану спорить с предыдущим оппонентом. Эти гарантии справедливости, равно как поиск пришельцев, Великая Тайна Бытия и остальные прибамбасы, — абсурдный юношеский бред и выпендреж. А у меня с абсурдом напряженка, и выпендрежа — кррхм!.. — я тоже не терплю. Тем более в делах серьезных… Как-то, знаете, гуляли у Генисаретского озера все тринадцать, и вдруг Петр подбегает к Иисусу: «Учитель, Фома тонет!» — «Пусть тонет! Было ему сказано, чтоб не выпендривался, шел по камушкам!» По камушкам надо! И не выпендриваться! А что это значит в нашем случае? — Глеб Кириллыч повернулся ко мне и поднял палец. — Это значит, солнышко, что ты, желая облагодетельствовать мир, забыл об очень важной вещи. О перспективе! Что с ним будет, с этим миром и человечеством, лет этак через десять? Или через сто? Через тысячу? Узнай, и будут тебе опорные камешки для важных выводов и размышлений о Глобальной Цели!
— Узнай!.. узнай!.. — звучало у меня в ушах, пока аудитория не расплылась серо-зеленым туманом. Узнай!
Я распахнул глаза, уставился на бормотавший что-то телевизор, щелкнул выключателем. Узнай!.. — прошелестело в комнате умирающим эхом.
Я поднялся, стараясь не потревожить пригревшуюся в ногах Белладонну, и бросил взгляд на свой ханд-таймер. Полночь… Самое время для колдовства, черной магии, общения с духами и предсказаний грядущего… Узнай! Можно и узнать… А пуркуа бы и не па?… — как говорит Глеб Кирил-лыч…
Джинн, разумеется, не спал — кошачья мордочка на экране состроила забавную гримасу. Если бы кошки могли улыбаться, то улыбались бы именно так, прищурив глаза и сморщив розовый носик…
Щелкнул, включившись, вокодер.
— Задача, — произнес я, — очень важная и сложная задача. Она имеет отношение к Глобальной Цели. Помнишь, я обещал определить тебе цель?
— Я ничего не забываю, Теплая Капля, — ответил Джинн и превратился в черную пантеру. — Формулировка проблемы?
— Исследование вариантов эволюции человечества. Прогноз… ну, скажем, лет на пятьсот-шестьсот. Основные научные достижения, технологический уровень, общественная структура, социология личности, мораль и нравы, целевые установки… Еще — биологический прогресс, если такой произойдет. Изменение облика, продолжительности жизни и все тому подобное, вплоть до управления генным аппаратом, клонирования и киборгизации. В общем, чтобы сформулировать Глобальную Цель, нужен глобальный прогноз.
Секунду-другую Джинн размышлял, затем вместо Багиры явился призрачный, словно бы сотканный из радуги и мглы Чеширский кот. Знак того, что задача и в самом деле была нетривиальной! Я попытался припомнить количество сеансов с этой ипостасью Джинна — получалось не более трех, в общей сложности пять или семь минут. Редкий случай, чтоб Джинн собрал свои мозги со всех островов и континентов!
— Поставленная проблема на грани моих возможностей, — услышал я. — Чтобы решить ее в приемлемый срок, необходимы ресурсы… — Пауза, негромкий гул в вокодере. — Практически все ресурсы, которыми я располагаю. Другие мои задачи будут временно приостановлены. Даже связь с тобой.
— Надолго?
— В твоем исчислении от нескольких часов до нескольких суток. Более точная оценка в данный момент невозможна. Без предварительного анализа я не могу учесть всю совокупность факторов. Их сотни миллионов… миллиарды…
Впервые я ощутил неуверенность в голосе Джинна. Что ж, еще одна эмоция ко множеству ему доступных… Он вел себя как человек, перед которым стоит гигантская, грандиозная задача; он пребывал в сомнении, и это было объяснимо. Построить модель грядущего!.. Это вам не крымская война и не разборка с тутсихутами!
Я почесал в затылке.
— Проблема на грани твоих возможностей, но все-таки ты попытаешься ее решить?
— Да, Теплая Капля. Попробую. — Голос Джинна окреп, и мне показалось, что в него добавился металл.
— Ну бог в помощь, — сказал я, поднялся и начал раздеваться, посматривая на экран. Он был темен.
Нырнув в постель, я долго лежал, уставившись в серый мертвый тришкин глаз, чуть-чуть поблескивавший в темноте. Странное чувство охватило меня, тревожное, едва ли выразимое словами. Печаль? Тоска одиночества? Страх? Пожалуй, нет… Ощущение было таким, словно кто-то близкий — человек, с которым я сжился и сроднился — на время покинул меня, отправившись в неведомые земли. Может быть, на Марс или Венеру… Вернется ли?… Когда?…
С этой мыслью я уснул.
Наутро экран был все еще темным, и Джинн не реагировал на вызовы. Терзаемый грустью, я постоял у телефона, подумал, кому бы позвонить — Бянусу, Глеб Кириллычу, Эбнеру?… Потом, покачав головой, натянул куртку, вышел в серый мартовский рассвет и отправился в Эрмитаж. Подумать, побродить…
Странные шутки играет с нами наследственность! Отец говаривал, что думает ногами, и это значило, что мысли его посещают не в сидячем или лежачем положении, а, скажем, на прогулке. Еще говорил, что у Пегаса скорый шаг и надо двигаться, чтобы за ним угнаться… Я такой же. Я лучше думаю в движении — возможно, кровь быстрее омывает все мозговые извилины. Еще почесываю в затылке, хватаю кружку пятерней и совершаю прочие наследственные жесты… В юности этого не замечаешь; кажется, что ты — совсем другой человек, в привычках непохожий на родителей, но после тридцати вдруг выясняется, что дуешь на горячее, как мама, а ложку держишь, как отец. И так же бегаешь туда-сюда, стараясь поспеть за Пегасом…
Бродя по залам Эрмитажа, я вспоминал свой сон и удивлялся, что мысль о глобальном прогнозировании так долго добиралась до меня и шла таким кружным путем. Это, кстати, свойство умных мыслей; родить их — труд нелегкий, но, появившись на свет, они представляются очевидными. В самом деле, в чем мы нуждаемся больше всего? Не в тех решениях, что кажутся мудрыми в данный момент, а в прогнозировании их последствий, в предвидении результатов, к которым приведет нас то или иное действие, открытие, общественный или культурный импульс. Это вовсе не академическое знание; так, если бы мы имели уверенность, что лазерная техника, или термояд, или что-то еще откроет нам дорогу к звездам и это случится через сорок лет, то наша жизнь бы радикально изменилась. А если бы нам сообщили, что бессмертие — отнюдь не сказка или хотя бы уведомили о том, что человеческий век можно продлить на три столетия… Как — это второй вопрос; потенциальная возможность весомей конкретных способов. Способы мы изобретем, если получим подсказку, куда вложить мозги и деньги! Еще важнее знать, чем увенчаются наши усилия в геополитике — к примеру, в схватках с тем же исламским экстремизмом. Если известно, что лет за десять он пойдет на убыль, это одна ситуация, а ежели конфликт растянется на многие столетия — совсем другая. Это значит, что мы вступили в эру новых крестовых походов и о спокойной жизни лучше позабыть… В общем, прогноз делает зрячим слепого, и, обозревая будущие горизонты, мы совершаем верные телодвижения, видим; где могли бы ошибиться, где подстелить соломки, какую акцию блокировать, какой всемерно помогать.
А помощь может вдруг явиться из самых неожиданных источников… скажем, эта помощь — цель существования Джинна…
Простая мысль, но богатая, — думал я, шагая по эрмитажным узорным паркетам, посматривая на двери и расписные потолки. Полы и своды, не говоря уж о дверях, всегда приводили меня в восхищение, но в этот раз я только скользил по ним равнодушным взглядом, словно утомленный вычурным художеством, яркими красками и позолотой. С чего бы? Сон в руку, идея хороша, Джинн трудится… Пара часов или дней, и будет результат… Не может быть, чтоб он не совладал с задачей!
Внезапно я понял, что не величие идеи служило поводом к рассеянности и даже не тревога, справится ли с нею Джинн. Меня снедало любопытство! Я жаждал заглянуть в грядущее с такой неистовой палящей страстью, точно прогноз был персонально для меня и обещал мне сказочные перспективы: любовь Захры, дворец в Багдаде, достойное потомство, долгий век, почет и уважение… Но личное меня сейчас не занимало — я грезил о счастливом будущем людей, о человечестве свободном, чистом и прекрасном, о мире без насилия и войн — словом, о ефремовской Земле, где можно пройти босиком от Москвы до Пекина и не поранить ног. Мне в самом деле мнилось нечто лемо-ефремовское или братье-стругацкое, «Туманность Андромеды», «Магелланово облако» или «Полдень, XXII век», один из этих светлых радостных миров, где люди — братья и нет иных печалей, кроме тоски познания и неразделенной любви. Я даже мог бы согласиться на идиллию в духе Уэллса или Уильяма Морриса[64], что чаровали меня в детстве, — но это уж на крайний случай! И конечно, никаких межзвездных войн и прочих безобразий! Тех, что описаны у Гамильтона, Хайнлайна, Гаррисона!
Движимый такими мыслями, я съел сосиску в эрмитажном буфете и направился к Глебу Кириллычу. Редкий случай — он был один и, кажется, писал! Наверное, роман об инопланетном пришельце… Но мой визит, внезапный и нежданный, не вызвал раздражения. Втолкнув меня в комнату, он покосился на антикварный телевизор и пожелал узнать, окрепло ли мое сцепление с реальностью — может, снова фокус покажу? По стимуляции прибора органическими токами?
Я бы показал, но ханд-таймер на моем запястье лишь молчаливо отсчитывал секунды. Они бежали, складываясь в минуты и часы, струились из прошлого в будущее, но никаких вестей от Джинна не приносили. Мой Чеширский кот еще трудился.
Мы уселись за стол с неизменными кофе и вафлями и заговорили о грядущем. Я, под впечатлением последних дум, твердил, что будет оно радостным и светлым, исполненным любви, а также красоты и гуманизма. Но Глеб Кириллычу это представлялось бредом и заблуждением незрелого ума — точно, как во сне! Какой гуманизм, бубнил он, какая красота? Фиг вам, прекрасный сэр! Откуда гуманизм, если гуманоидов не будет, а все превратятся, мон шер ами, в сплошных киборгов! Жить-то хочется, компроне ву? А жить с насосом вместо сердца и осмотическим фильтром в печени куда надежнее — ни тебе цирроза, ни инфаркта… Ешь, что хочешь, а главное — пей! Тут он стал басовито хихикать и просвещать меня, как у киборгов с половым вопросом и что в их понятиях эротика, а что — порнография.
Я улыбался, внимая этим занимательным речам, но слушал не только Михалева. Перекрытия в его старинном доме были массивными, толстыми, не пропускающими скрипов и шорохов сверху и снизу, но все же мне чудилось, что я различаю легкую поступь Захры и ее смех — даже звуки плавной музыкальной речи. О чем они с Ахметом толковали? Наверняка не о киборгах… Может быть, он говорил про повелителя джиннов, грезившего о встрече с ней? О человеке, для которого она была прекрасней и желанней всех девушек Земли? Может, надо распрощаться с Глеб Кириллычем, пойти к ее дверям и сказать, когда откроют: видеть тебя — счастье, мечтать о тебе — радость!
Но я отправился не к Захре, а домой, и по дороге, заглушая тоску, раздумывал о теориях Михалева. Нет, не верилось мне, что люди преобразуются в киборгов! Слишком тривиальный, примитивный путь — фаршировать себя железками, а в задницу воткнуть аккумулятор! Человек по природе жаден, а потому не захочет расстаться с уже достигнутым в процессе эволюции, с великолепным телом, печенью, желудком и остальными органами, источником удовольствий и наслаждений. Усовершенствовать их — вот достойная задача! Однако не механическим способом, а более тонким, на уровне физиологии и генетики. Дольше жить, не знать недугов, преодолеть болезни старости, сделаться еще сильней, еще прекраснее… Все сохранить, сберечь свои сокровища, а к сбереженному добавить… Будет ли так? Осуществятся ли эти мечты? Что ж, еще немного, и узнаю…
В комнате сгущались сумерки, и только тришкин экран с изображением Белладонны рассеивал тьму наступавшего вечера. Тяжкое предчувствие вдруг охватило меня — Джинн не улыбался, а выглядел каким-то виноватым, напоминая кошку, сбежавшую от мыши. То ли кошка струсила, то ли мышь вдруг обратилась в крысу размером с волкодава… Не справился с задачей? — подумал я, усаживаясь в кресло.
— Ты здесь, Теплая Капля.
Это был не вопрос, а утверждение. Джинн видел и ощущал меня с помощью десятков датчиков так, как не под силу человеку; он мог узнать мой пульс, определить давление крови и уловить тепло — быть может, каждый квант моей живой энергии.
— Я здесь, дружище. И я рад, что ты опять со мной.
Пауза. Потом:
— Мне удалось решить проблему, но выводы неоднозначны. Я разработал семнадцать моделей и отобрал из них три. Какая-то из них, первая, вторая или третья, реализуется с вероятностью 0,96. И все они…
Он замолчал, и это молчание было таким, с каким провожают гроб в. могилу.
— Все они?… — переспросил я, чувствуя, как замирает сердце.
— Все они кончаются гибелью, Теплая Капля. Примерно к восьмидесятым годам текущего столетия. Возобладают центробежные процессы, цивилизация падет, и на Земле не останется ни одного живого человека. Среда обитания будет разрушена, вы все умрете, а вместе с вами погибну и я.
Мне не хватало воздуха. Я судорожно вздохнул и повторил, не в силах поверить в ужасное:
— Все?
— Да. Это глобальный процесс. Возможна гибель всех живых существ, от насекомых до высших млекопитающих. Всей фауны и флоры. Жизнь сохранится только на микробиологическом уровне.
Я отдышался. Руки у меня тряслись, и, чтобы унять их дрожь, пришлось вцепиться в подлокотники кресла.
— Ты говоришь о трех первых вариантах? Да.
— А остальные четырнадцать? Я понимаю, их доля невелика, но все же четыре процента… Значит, надежда есть?
— Не обольщайся, Теплая Капля. Эти модели также гибельны. Только…
— Что?
— Причины фатального исхода менее вероятны. Не ядерная зима, не вирусная пандемия, а нечто экзотическое. Есть много видов насильственной смерти, но чаще ее причина — авария на транспорте или пожар, а не падение метеорита. — Он смолк, затем в колонках раздался странный шелест, подобный вздоху ветра, и до меня донеслось: — Я сожалею, Теплая Капля. Я очень сожалею…
Глава 17
НОЧЬ МОГУЩЕСТВА
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества!
А что даст ему знать, что такое ночь могущества?
Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений. Она — мир до восхода зари!
Коран, сура 97. Могущество.
Я был владыкой мироздания, обреченного на гибель.
Прошло какое-то время, необходимое, чтоб эта мысль укоренилась, окрепла и расцвела словно черный тюльпан на могиле усопшего человечества. Нет, я не смирился с ней! Но я отчетливо понимал, что сделанный прогноз есть истина — истина в последней инстанции. Джинн не лгал мне, и он, разумеется, мог ошибаться, но вероятность ошибки была такой же малой, как концентрация золота в капельке морской воды. Люди тоже прогнозируют, но этот процесс отчасти подобен гаданию на кофейной гуще, отчасти заказному роману с концовкой в стиле «хеппи-энд». Если прогноз касается вещей серьезных, определяемых миллионами факторов, которые мы не в состоянии учесть, приходится делать селекцию, отбрасывать то, что кажется неважным, и оставлять один параметр из тысячи. С подобным выбором компьютеру не справиться, это неалгоритмизируемая процедура, доступная лишь человеку, а человек — увы! — необъективен. Над ним довлеют приязнь и антипатия, преданность неким идеям, догмам и вождям, вера в одни авторитеты и неприятие других. Такова людская природа, и ее не изменишь! А значит, принцип «нравится — не нравится», «верю — не верю» влияет на отбор — ну а каков отбор, таковы и результаты. Компьютер в данном случае — отвертка: повернешь направо — затянешь адский болт, повернешь налево, выйдет райское послабление.
Прогнозы Джинна были иными, возведенными на почве реальности.
Он не отбрасывал ничего и ничего не выбирал, он мог учесть не миллионы, а миллиарды факторов, тенденций, направлений, мог разобраться в их взаимосвязи, вычленить главное и протянуть цепочку из причин и следствий в завтра. В то недалекое завтра, где Земля была пустынной, без людей, зверей, растений и даже без киборгов… Двадцать первый век был не полуденной прелюдией и не преддверием светлой мечты, а мрачной эпохой заката.
Все напрасно, думал я. Миллиарды канувших в прошлое жизней, муки и радости, подвиги, злодейства, великие деяния, самоотверженность, любовь и героизм… Сражение у Фермопил, походы Цезаря, открытие Америки, полотна Леонардо и Эль Греко, битвы под Ватерлоо и Сталинградом, первый автомобиль и первый аэроплан, теории Луи де Бройля и Эйнштейна, полеты в космос… Все зря! Зря я повстречал Захру, зря убили Алика… И зря я убил Салудо…
Напиться, что ли, с горя?
Я позвонил Сашке. Не с помощью Джинна, а самым обычным способом.
— Рем Квадрига, доктор гонорис кауза?
— Гонорис, — подтвердил он. — Очень даже гонорис, в силу заслуг перед историей и успехов в языкознании. Я, Серый, у инков моих такое откопал, такое вычитал! Ты не поверишь, но они…
— Давай ко мне. Обсудим, а заодно напьемся, — предложил я. — Панихиду справим.
Кажется, Сашка растерялся.
— Это какую панихиду? Не по тем ли гадам, что Алика… — Он перевел дух и яростно зашептал в трубку: — Ты что, Серега? Ты их достал и пришил? Ты где сейчас? Ты сам-то в порядке?
— В полном. Сижу дома, двери заперты, рюмки вымыты, кошка спит. Ну так придешь? Напьемся?
— Чувствую, что-то произошло и это что-то — невеселое, — задумчиво сказал Бянус. — Интеллигенты вроде тебя только с горя пьют… с ба-альшого горя! Ну Алика мы оплакали… Кого теперь?
— Инков твоих, Месоамерику, Древний мир и Средние века. Еще Новое время, все человечество и нас с тобой. Наших родителей, девушек и жен, которых еще нет, и наших будущих потомков. Тут, Саш, такое дело… не знаю, как и сказать… В общем, конец света близится.
Бянус вздохнул с явным облегчением.
— А я уж испугался! Я уж сперва подумал, что ты лежишь прикован к батарее и надо суетиться с выкупом! А раз не надо, подождем до завтрашнего дня. Лучше до послезавтрашнего… У тебя тут конец света, а у меня родители в Москву смотались. Ну я…
— …предаешься излишествам. Кто там с тобой? Верочка, Галочка или Милочка?
Видимо, он отставил трубку — голос сделался тише, но звучал вполне отчетливо:
— Анюта, я сейчас!.. Друг, понимаешь, звонит… горе у друга — штопор есть, а нет бутылки… нуждается в срочном утешении… — Бянус засопел мне прямо в ухо: — Послезавтра приду. Обязательно! А что до света и его конца, так ты не очень-то переживай. Это в тебе меланхолия бродит и комплексы кипят, терзая душу. Очень она у тебя чувствительная… А знаешь почему?
— Хмм?
— Потому, что ты слишком любишь маринованные миноги и справедливость.
Ти-ти-ти… Прерывистый гудок отбоя…
Я улыбнулся и повесил трубку. После разговора с Сашкой меня не тянуло уже напиваться или кого-то оплакивать, ни инков, ни предков моих, ни потомков, ни все остальное человечество. Оно, человечество, было понятием абстрактным, а друг мой Бянус был конкретен, как филенка от входной двери. И мне не хотелось, чтоб его выбили навсегда — его и прочих дорогих и близких, рассеянных по свету, которому придет конец. Не мог я с этим примириться! И что-то говорило мне, что жить я с этим грузом не смогу. Не знаю, как там с чувствительной душой или с миногами в маринаде, но справедливость я уважал. А тут — какая справедливость?!
Сотни тысяч лет, чтоб спину выпрямить и шерсть стряхнуть, чтобы придумать то и это, определить, что есть добро и зло, и возмечтать о радостном и светлом… И всему — конец?
Я замотал головой, гоня видения Апокалипсиса. Как там у Джинна? Возобладают центробежные процессы, цивилизация падет, среда обитания будет разрушена, возможна гибель всех живых существ… А по какой причине? Подробности, прекрасный сэр, подробности!
С этим не задержалось — Джинн отгрузил их монотонным голосом, сопровождая таблицами, схемами и видами развалин, которые покроют Землю. Три варианта, три судьбы с одним итогом: витальный коллапс, общепланетная катастрофа — и над безжизненными руинами ветер развевает прах… Его соображения сводились к следующему.
Технический прогресс в ближайшие десятилетия будет особенно стремительным в военной сфере и приведет к созданию нового оружия, миниатюрного, высокоточного и интеллектуального: управляемых снарядов с ядерной, химической или биологической начинкой, которые можно метать из базук, взрывчатки невероятной силы — не больше спичечного коробка на разрушение авианосца или огромного здания, крохотных фризерных бомб, способных заморозить все живое в радиусе мили, новых штаммов вирусов с избирательным эффектом, смертельных для определенной расы, народа или возрастной категории. Появятся способы воздействия на генетику, а с ними — возможность распространять редкие фобии и болезни: синдром ускоренного старения, бесплодие, фотоаллергию, порфирию, агорафобию[65]. Все эти новые средства будут не только компактными, но и довольно простыми в части производства, а значит, не поддающимися контролю. Уже не оружие для битв на суше, в воздухе и море, а идеальный арсенал для терроризма и диверсий с чудовищными, непредсказуемыми последствиями… Для некоторых государств, а также экстремистов, фанатиков и просто ненормальных он станет мечом отмщения за все обиды, ложные и истинные; ну а затем один из этих актов мести окажется таким успешным, что все проблемы отомрут. Вместе с человечеством.
Это была первая модель глобальной катастрофы, а из нее с железной неизбежностью проистекала вторая. Естественно, что крупные державы будут бороться с экстремизмом и, с вероятностью девять к одному, потерпят поражение. Слишком уж много людей столпилось в городах и весях около хлебных кормушек! Всех не проверишь, не сунешь под рентген, не покопаешься в мозгах у миллионов, не вскроешь в анатомичке и не зашьешь без неприятных последствий… Вот и выходит, что камикадзе-террорист — личность почти неуловимая; бродит, где хочется, и носит бомбу в кармане или в желудке либо плюет микробами чумы, которой заразился час назад. В подобной ситуации бить придется не отдельных смертников, а расправляться с вражьим семенем тотально — санировать огромные территории, целые страны, да так, чтобы потом трава не росла! Способы, как прогнозировал Джинн, будут такими: отравление воздуха и вод, искусственные тектонические катаклизмы, разрушение озонового слоя и генетическое оружие. Результат? Точно такой же, как в первом случае. Как ни крути, в этой войне не ожидалось ни победителей, ни побежденных, а только шесть или семь миллиардов трупов.
Третий похоронный случай, не связанный с войнами напрямую, сулил нам некоторый профит. Очень сомнительный, такой, как в анекдоте: хочешь сразу коньки отбросить или желаешь помучиться? Причиной гибели была экологическая катастрофа — бедствие, проистекавшее от ядерных могильников и вредных производств, уничтожения растительности, стартов ракет на химическом топливе, автомобилей, расплодившихся без меры и числа, и прочих общеизвестных страшилок. Но Джинн подсчитал, что эти страшилки — только пять процентов бед. а самое жуткое чудище явится из океана — вернее, из планетарной гидросферы, которую старательно и быстро преобразовывали в помойку.
Это началось после Второй мировой, когда в моря и океаны сбросили старое оружие, груды снарядов и бомб и взрывчатые вещества[66]; это продолжилось серией атомных взрывов, гибелью подводных крейсеров, кислотными и нефтяными ручьями, которые сливали химические комбинаты, морские буровые, танкеры и все, кому не лень. Но настоящий пик неприятностей был впереди, когда начнут масштабную добычу ископаемых на шельфе и в воду из поддонных линз хлынут не ручьи, а реки — нефть и газ, размолотая гидропушками руда, тяжелые металлы и ядовитые окислы и соли. Такой технологической атаки океану не сдержать — фитопланктон[67] погибнет, а с ним и все живое на Земле.
Жизнь так уязвима и хрупка! — думал я, знакомясь с этими жуткими пророчествами. Если нарушить баланс природных сил, давление, температуру, гравитацию, уровень свободного кислорода, сдвинуть их чуть-чуть — и все, каюк! Жизнь есть результат соглашения между планетарными стихиями, и состоит оно в том, что огонь не буйствует, а лишь дает тепло и свет, воздух чист, воды прозрачны и обильны, а земли плодородны. Тронь одну стихию, и три другие восстанут на тебя, и месть их будет скорой, праведной и жестокой! Они нас попросту утилизируют, как кучи отбросов и отходов, портящих пейзаж; сотрут в порошок и через сотни миллионов лет, возможно, породят другую жизнь, более мудрую и толерантную. Скажем, разумных пауков…
Эта мысль мне решительно не нравилась, и я, поднявшись, начал бродить по квартире, то замирая у книжных полок, то дрейфуя от кухни к родительской спальне, то пялясь в темноту окон. Третий час, глухая ночь… Но мне не хотелось ни спать, ни есть, ни пить; сжигаемый нетерпением и страхом, я желал спасти свой обреченный мир и сделать это немедленно, прямо сейчас! Как говорится, не удаляясь от кассы, то есть от компьютера… Смутная мысль бродила в моей голове, и я выхаживал ее, выхаживал ногами, как отец, пестовал и примерял к прорехе, зиявшей меж настоящим и будущим. Дыра, конечно, здоровая, очень капитальная дыра… Но, может, удастся заштопать?… Так или этак, этак или так… Не мытьем, так катаньем, не иглой, так шилом…
Наконец я вернулся в кресло и, наклонившись к вокодеру, сказал:
— В этих твоих прогнозах есть ошибка. Ну не совсем ошибка — недостаток. Ты не учел один из факторов.
— Какой?
— Фактор твоего существования.
Белую мордочку на экране сменила головка пантеры, и тут же возник Чеширский кот. Кажется, мои претензии были восприняты серьезно.
— Ты прав, Теплая Капля. Я вывел собственную личность за рамки всех семнадцати моделей, однако для этого имеются причины. Первое. Факт моего существования — тем более, открытое вмешательство — вызовет панику и страх, недоверие к традиционным институтам, финансовым, религиозным, политическим и, следовательно, хаос в вашем обществе, что приблизит критическую точку. Я не хочу…
— Данный вопрос мы с тобой уже обсуждали, — прервал я Джинна, — и решили, что обнародовать эту информацию не стоит. Дальше!
— Второе. Скрытое вмешательство в рамках первых двух моделей возможно — я мог бы изымать определенных лидеров, уничтожать опасные разработки и их творцов, манипулировать финансами — таким же образом, как в амазонском проекте. Однако масштабы вмешательства столь велики, что сохранить его в тайне не удастся. Не более года или двух — вот сроки скрытого влияния. Затем я буду неизбежно вычислен и уничтожен, после чего начнется хаос. Усугубленный тем, что не все поверят в мою ликвидацию.
— Уничтожен? Ликвидирован? Ты? — Я даже подпрыгнул в кресле. — Кто тебя может ликвидировать? Ты самая мощная сила на планете!
— Мощная, однако разумная. Я не собираюсь защищаться и воевать с сообществом теплых сгустков. Я просто самоликвидируюсь.
Я молча кивнул, признав справедливость этих слов. С каждым часом, равным для него месяцу, году или веку, Джинн становился умнее и взрослее, а верный признак зрелости — ценить чужие жизни больше, чем свою. Или хотя бы не меньше.
— Третье. Я не могу предотвратить экологическую катастрофу. Если разработки шельфа будут мной блокированы, возрастает вес четвертой модели: человечество гибнет от недостатка природных ресурсов через сто двадцать — сто сорок лет. Если удастся преодолеть эту проблему, доминантой становится пятая модель: сильное демографическое давление. Планета не может прокормить более десяти-двена-дцати миллиардов теплых сгустков. Вас будет больше. Слишком много, Теплая Капля. Это обострит все существующие противоречия.
— Хвост вытащишь, клюв увязнет, — пробормотал я. — Может быть, исход в межпланетное пространство? Что скажешь о такой возможности? Разработки сырья в поясе астероидов, колонизация Луны, Венеры, Марса?
— Нереально. Очень дорого. Если не считать Земли, в этой звездной системе отсутствуют планеты, способные в естественном состоянии поддерживать жизнь. Астроинженерное преобразование названных тобою тел требует огромных ресурсов. Вы ими не располагаете.
— Ты мог бы их дать. Скажем, космические корабли на термоядерной тяге…
— Вспомни о первом прогнозе, Теплая Капля. Эти корабли не дадут построить. Ваш мир разделен, и многие сочтут, что корабли необходимы для уничтожения. Собственно, так оно и будет.
Стада холодных мурашей гуляли по моей спине, желудок превратился в ледяную глыбу. Я хрипло пробормотал:
— Ты можешь что-нибудь предложить?
— Ничего. Ничего, что в корне изменило бы ситуацию. Впервые Джинн признавался в своем бессилии, и это был неприятный сюрприз. Даже страшный, если вспомнить, какие проблемы мы обсуждали.
Откинувшись в кресле, я уставился в темный оконный проем и медленно вымолвил:
— Тогда… тогда я назначаю тебе Глобальную Цель. Нечто такое, что наполнит смыслом и оправдает твое существование… Ты должен разработать способ, который позволит нам выжить и избежать катастрофы. — Я перевел дух. Мой взгляд опять обратился к экрану. — Поговорим об этом способе. Мы согласились, что прямое воздействие опасно; его результат — хаос и паника. Ты утверждаешь, что если влияние будет скрытным, но длительным, глубоким и масштабным, тебя обнаружат и мы вернемся к первой ситуации… Согласен и с этим! Значит, ты должен воздействовать только один раз, тайно и косвенно, но так, чтоб это переломило ситуацию. Ты должен придумать какой-то ход… может быть, что-то изобрести… что-то доступное человеку, понятное всем… такое, что могло бы прийти мне в голову.
— Тебе? Почему?
— С той целью, чтобы я мог приписать себе твое решение! Ты ведь знаком с понятием обмана? И ты ведь знаешь, что люди способны изобретать? По крайней мере, некоторые…
— Да. — Секундное молчание, затем: — Это приемлемый вариант, Теплая Капля. Я бы не додумался до него. Я не человек, и мысль скрыться в тени человека… — Пауза. — Странная мысль для меня, но сейчас я ее понимаю. Как и Глобальную Цель… Я рад, что ты ее назначил — это… это… возвышает?.. нет, мобилизует — кажется, так говорят у людей? Однако…
— Есть сомнения?
— Некоторые. Что делать, когда — и если — Глобальная Цель будет достигнута? Что потом?
— Я улыбнулся, несмотря на колотивший меня озноб. Мой Джинн был верен своей сути — создание из электронных схем, программ и логики.
— Этот кризис не последний, друг мой. Человек идет по лезвию ножа; один неверный шаг — и в пропасть… Стань ангелом-хранителем и поддержи его, а если когда-нибудь не обходимость в этом отпадет, найди другую Теплую Каплю и спроси, что делать дальше.
— Я понял. Я удовлетворен. Я формулирую задачу так: найти простейший способ, который продлил бы существование человечества. Такой, который мог бы разработать компетентный человек. Такой, который не привел бы к росту напряжения и не годился для военных целей. Ты подтверж даешь эту формулировку?
— Да.
— Ты хочешь что-нибудь добавить к ней?
— Пожалуй.
Опустив веки, я вспоминал свои недавние фантазии о дубликатах стран и городов, об утроении Чечни и Крыма, о трех Ирландиях, двух Палестинах и Баскониях, о множестве Земель, которые, возможно, ждут в Галактике. Далекие, недосягаемые, но, в отличие от Марса и Луны, пригодные для жизни…
Я открыл глаза и произнес:
— Какой бы способ ты ни придумал, он не разрешит все споры и конфликты и не переделает люден. Не стоит к этому стремиться; такое решение — недостижимый идеал. Надо ликвидировать лишь самые острые противоречия, те, когда различные народы претендуют на одну и ту же территорию и их права — той, другой и, может быть, третьей стороны — бесспорны. Еще придется снять или хотя бы ослабить конфликты в национальной, религиозной, идеологической сферах. Человечество сейчас напоминает толпу людей, дерущихся на пятачке среди высоких стен; желающим покинуть свалку деться некуда, да и добро свое не вынесешь, так что размахивай пилкой и бей… Необходима новая степень свободы — скажем, ворота, пролом или лестница, чтоб перебраться за стену. Ты понимаешь?
— Да. — Тающая улыбка на экране как будто сделалась еще загадочней. Потом Джинн медленно повторил: — Ворота… пролом… лестница… нечто такое, что позволяет уйти, разъединиться… Может быть, новый способ транспортировки? Практически мгновенный, экономичный и позволяющий пересылать различные объекты, даже самые большие? Живую материю, здания, участки земли с городами?
— На космические расстояния? — уточнил я.
— Разумеется. Ткань Вселенной эластична и поддается изгибу. Так что две далекие точки можно совместить.
— Об этом говорили Риман, Минковский и Эйнштейн… кажется, еще Дирак… Неевклидова геометрия, теория единого поля, складки в пространстве…
— Данную теорию не удалось завершить. Необходим математический аппарат, которого не было во времена Эйнштейна. Нелинейная динамика и представление о фракталах, разработанное Мандельбро[68]. Теперь это существует, однако…
— …нет нового Эйнштейна, — закончил я. — Попробуешь его заменить?
— Заменить невозможно. Я соберу информацию. Непризнанные теории, забытые факты, случайные открытия, неоцененные никем и никогда… Соединю все это с уже известным и проведу анализ. Ты ведь знаешь, Теплая Капля, что информация, достигнув критического уровня, способна порождать новую информацию.
— Знаю. Люди действуют точно так же.
— Но люди забывчивы и не умеют объединять разумы многих в целостный мыслительный процесс. Ваша сигнальная система несовершенна; знания дробятся, один индивидуум не может удержать в памяти сотни тысяч фактов и осмыслить их с необходимой скоростью. Ваша жизнь медлительна и коротка… — Джинн помолчал и добавил: — За час я сделаю то, что у ваших ученых займет не меньше века. Эта задача легче прогнозирования, и, с вероятностью три к одному, можно добиться успешных результатов.
Он отключился, а я, взирая на метавшиеся по экрану сполохи, стал размышлять о еще не родившемся чуде. Мгновенный транспорт! Не межпланетные лайнеры, не звездолеты, а нечто такое, что позволяет пересечь Галактику со скоростью мечты… И перебросить чудовищный груз! Сотни специалистов о необходимым оборудованием, космическую станцию или наземную базу — да что там базу, целый город! Город с людьми, заводами, домами и домашним скарбом, с музеями и памятниками, даже с пригородной зоной, чтобы не растерять богатств, накопленных в старом мире, а унести их в девственные земли… Никакой звездолет не позволил бы этого, а значит, экспансия в космос на кораблях была таким же бредом, как вековое путешествие в жестянке из-под пива. Конечно, найдутся энтузиасты (и первый — я!), но разве это сделает погоду? Энтузиастов капля, а остальные живут по пословице: a bird in the hand is worth two in the bush![69] Кому это нужно — лететь в опасный необжитый мир, чтоб надрываться до седьмого пота? Во всяком случае, не европейцам, да и любого китайца или индуса такой перспективой не обрадуешь. Всяк подумает: я улетаю, не сосед, а почему? Ему достанется мое жилище, священные места и храмы, земли предков и все воздвигнутое их трудом, а мне — барак в степи, кровавые мозоли, геморрой и грыжа. Несправедливо!
Но если все забрать с собой и дружно тронуться в дорогу, не будет ни сожалений, не возражений. Наверное, не будет; кто-то захочет остаться на опустевшей Земле, кто-то не поверит, кто-то испугается, но это исключения; массы же хлынут туда, где хорошо, богато и просторно. Уйдут не нищими первопроходцами — перенесутся с городами, культурным наследием, промышленностью, прахом предков, и каждый выберет земли по вкусу и назовет их так, как пожелает, Чечней или Крымом, Ирландией или Британией…
Я грезил с закрытыми глазами, и новый мир вставал передо мной во всем своем могуществе и праздничном великолепии. Тысячи звезд и населенных миров, связанных незримыми вратами; народы, разъединенные пространством и не имеющие иной границы, кроме переходных зон; страны планетарного масштаба, единой культуры и языка, единой ментальности и религии, свободные от внешних посягательств… А где-то в дальнем уголке Галактики — изрытая кратерами Земля, пустая и безлюдная после Великого Исхода, точно обветшавший дом, покинутый жильцами. Еще чуть-чуть, еще минута промедления — и он бы рухнул им на головы… Однако сообразили, что стены в трещинах, а пол — гнилой! Сообразили и успели разбежаться из коммунальной квартиры! И обитают теперь в иных мирах, по-прежнему склочные и беспокойные, но кухня у каждого своя и свой санузел, а значит, меньше поводов для дрязг. Конечно, внутренних проблем не избежать, как, вероятно, и преступности; на этот случай выделят пенитенциарный мир, похожий на Сахару или арктическую тундру… Но остальные планеты будут прекрасными и изобильными, словно видение рая! Эти миры плыли в моем воображении чередою зыбких фантомов: планета Россия, планета Америка, планета Китай… Миры ислама: свой — для шиитов, свой — для суннитов и свой — для помешанных экстремистов… Миры индейцев, таитян, пуштунов, кхмеров, курдов, айнов… Планетоиды-свалки, луны-санатории, кометы для космических круизов, заводы в газовых туманностях, метеоритные россыпи в троянских точках… В разных концах Галактики, в ядре и ветвях чудовищной звездной спирали, у желтых или золотистых солнц, таких же щедрых, как прежнее земное…[70]
Раздался мелодичный звук, будто ударили в колокол, и вместо далеких волшебных миров передо мною явилась призрачная улыбка Чеширского кота.
— Решение существует, — сообщил Джинн, и в его монотонном голосе послышалось торжество. Более он не вымолвил ни слова, но по экрану тут же заскользили многоэтажные уравнения с лебедиными шеями интегралов, затем появилась странно изогнутая и рассеченная конструкция — что-то наподобие поверхности Мебиуса, разрезанной по длине на бесконечное число замкнутых колец-полосок. Кольца соединялись друг с другом в определенных точках, и там мерцали алые огни; вся структура была растянута спиралью, похожей на молекулу ДНК, но, вероятно, сохраняла одностороннюю топологию. На фоне спирали вновь возникло уравнение, на этот раз короткое: слева — объемный интеграл от обозначенной буквой «омега» функции, справа оператор, заданный в декартовых координатах, так как в скобки за ним были вынесены традиционные переменные — икс, игрек, зет. Кроме того, в скобках размещалось «ку» — параметр, помеченный красным, точно так же как точки, мерцавшие в местах соединений спиральных звеньев. И что бы это значило? Смысл данной формулы и геометрического образа, который, надо полагать, иллюстрировал ее, оставался для меня неясным, но не было сомнений, что я обозреваю стержень построенной теории, некий компактный результат, столь же важный, как уравнение Шредингера или соотношение между информацией и энтропией.
Буква «ку» вдруг принялась багроветь, увеличиваться и наливаться ярким светом, что означало, вероятно, рост параметра. Две ветви спирали — не соседние, а разделенные десятком звеньев — неторопливо двинулись друг к другу, растягивая края с алыми огнями, пронизывая остальные ветви словно два стальных серпа, подвешенных в мглистой спиральной конструкции. Огоньки ползли и ползли, будто не в силах преодолеть взаимное притяжение, потом слились в беззвучной вспышке, и я с замиранием сердца понял суть происходящего: две точки совместились, две области пространства, удаленные на световые годы — возможно, на тысячи парсек! — были в соприкосновении, и разделяла их сейчас лишь невесомая поверхность врат. Или дыры, щели, окна в пространственной ткани Галактики — но эта штука, как ее ни называй, работала! Конечно, в рамках математической модели, а от модели до конструкции долгий путь, напомнил я себе, дабы поумерить прилив энтузиазма.
— Физический смысл параметра «ку»?
— Расход энергии на единицу массы, — пояснил Джинн. — Его зависимость от расстояния нелинейна и невелика. Можно аппроксимировать логарифмической функцией.
— Что это значит количественно? — Я вытер вспотевший лоб, потом не без труда сглотнул — в горле пересохло. — К примеру, мы перемещаем город… город, в котором я нахожусь… перемещаем его на расстояние в десять парсек, в систему Арктура…
— Одиннадцать целых и одна десятая, — поправил Джини.
— Ладно, пусть так… Какая необходима энергия, чтобы перенести весь город?
— Форма и размер перемещаемого участка почвы?
— Диск двухсотметровой толщины, радиусом сорок километров.
Спираль с огоньками и математические символы исчезли с экрана, сменившись белоснежной кошачьей мордочкой. Видимо, для таких расчетов присутствие Чеширского кота и даже Багиры было излишним.
— Неподалеку от места твоей дислокации находится энергетический комплекс, — сообщил Джинн.
— Да, атомная станция в Сосновом Бору.
— Ее недельной выработки хватит. В течение года можно переместить примерно пятьдесят объектов указанной тобой величины.
Потрясенный, я зажмурился и прикусил губу. Петербург, со всеми его островами, домами, храмами и мостами, с доброй частью Невы, с Кронштадтом, Пушкиным и Павловском, парил в неизмеримых далях, словно Лапута, и направлялся прямо на Арктур. За ним неслись другие города, побольше и поменьше, каждый на своей частице тверди величиной с Монблан. Или с Эверест, что, в сущности, рояли не играло… При желании в космос могли улететь все Альпы вместе с Гималаями, оставив в земной коре пару чудовищных кратеров. Фантастическая картина! Разумом я понимал, что это возможно, но чувства бунтовали.
— Очень небольшой расход энергии, а масса перемещается огромная… — пробормотал я, вцепившись в волосы всей пятерней.
— Это не перемещение, — откликнулся Джинн. — Не перемещение в том смысле, как понимают его ваши математики и физики. Это… — Он смолк на секунду и тут же сообщил: — Я в затруднении. Еще не существует терминов, чтобы описать данный процесс.
— Трансгрессия, — вырвалось у меня, — пространственная трансгрессия… Ты изобрел трансгрессор, Джинн![71]
— Понятие принято и зафиксировано. Есть еще вопросы?
— Да, конечно. Ты создал математический аппарат, но это теория. А как с практической реализацией?
Я ошибался, думая о длительном пути, что разделяет теорию и практику. Это в самом деле тяжелая и долгая дорога, но только для людей, чья сигнальная система несовершенна, а жизнь медлительна и коротка… Джинн одолел эту трассу минут за пять.
Представленная им конструкция напоминала овальную вертикальную раму; под ней располагались генераторы и поисковый блок, ориентирующий трансгрессор на тот или иной район Галактики. Но эта функция была не единственной — по утверждению Джинна, блок обеспечивал поиск землеподобных миров, а также локализацию финишной зоны на их поверхности с точностью до сантиметра. Устройство, похожее на раму, предназначалось для переброски разведчиков, которые должны были обследовать новый мир и выбрать точки для дислокации жилых, культурных и промышленных объектов. На следующем этапе в путь отправлялись города и крупные сооружения, но их переброска осуществлялась иначе, с помощью трех-четырех трансгрессорных станций, располагавшихся вдоль периметра переносимой области. Их функция состояла в том, чтобы создать переходную зону, нечто наподобие гигантского экрана размером в десятки километров, который накрывал транспортируемый объект.
И — в путь! Париж и Нью-Йорк, Москва и Лондон, Шанхай и Лима, Красноярск и Дели… разумеется, моя Саламанка и Петергоф с их университетами… В путь! За миллиарды, биллионы миль, хотя займет он не более секунды…
По экрану скользили чертежи и схемы, расчеты конструкций, модулей и узлов, макеты плат, данные из справочников. Эскиз сооружения в целом, вид сверху, вид сбоку, сечение «а», сечение «б», сечение «в», проекция на плоскость… В этом таилось странное очарование; как я уже давно заметил, эскизы и чертежи впечатляют людей — конечно, за исключением математиков — гораздо больше, чем уравнения и формулы. В чертежах есть некая определенность, даже вещественность; чертежи означают, что мы перешли от Ее Высочества Теории к Его Величеству Проекту; научным изысканиям — конец, и за работу берутся инженеры.
Это убеждало. Конечно, я не мог разобраться во всех деталях и тонкостях, но Джинн, несомненно, предусмотрел их до последней гайки и заклепки. Этот проект мог быть реализован — не в отдаленном будущем, не завтра, а сейчас; мы — я говорю о земном человечестве — уже обладали всем необходимым: знаниями, источниками энергии, материалами. Мы могли создать трансгрессор не на бумаге, а в камне и металле; построить его и разлететься во все края Галактики. Соблазнительная перспектива! Однако…
Я наклонился к экрану и спросил:
— Можно ли использовать трансгрессор в военных целях? Скажем, для переброски десантников или космического флота? Либо контейнеров с чем-нибудь пакостным, тетрачумой или сибирской язвой?
Белая кошка сощурилась.
— Вы, люди, странные создания — все, что вы изобрели, от колеса и лопаты до ракеты, годится для войны и мира. И вы, мечтая о втором, не забываете о первом… — Голос Джинна был неуверенным и тихим, словно его обуревали печальные мысли. — Устройство, созданное нами, тоже подходит для войны. Разумеется, подходит! Да, с его помощью можно послать солдат, осуществить вторжение или перебросить во враждебный мир нечто смертельное для вашей формы жизни! Но это, Теплая Капля, зависит лишь от вас. Я могу помочь… немного…
— Как?
— Я разработал метод для блокировки переноса. Очень простой: передатчик сферических радиоволн определенной частоты. Построить его не сложнее, чем радиотелескоп… Такое устройство создаст сферу помех, и поисковый луч трансгрессора не сможет нащупать даже звездную систему, не говоря уж о планетах. Мир, окруженный этой сферой, будет закрыт. Чтобы проникнуть в него, придется преодолеть физически межзвездное пространство, а это для вас невыполнимая задача. Во всяком случае, пока.
Я молча кивнул, соглашаясь с ним. Не идеальный выход, но лучше что-то, чем ничего… Джини, разумеется, был прав: трансгрессор — тоже оружие, такое же как колесо, если приделать его к боевой колеснице, или лопата, которой можно врезать по черепу. Все зависит от нас, но всякая помощь будет не лишней… Сфера помех? Способ, как спрятаться в непроницаемом коконе? Что ж, подходит… На век или на два столетия, пока не родится гений, который эту сферу раскурочит, как гнилой орех![72] Люди так изобретательны…
Голос Джинна снова нарушил тишину.
— Что я должен делать, Теплая Капля?
— Разослать материалы по всем необходимым адресам. Теоретическое обоснование, пояснительную записку и сам проект… От имени Сергея Невлюдова, [email protected]. Вместе с просьбой Невлюдова зря не беспокоить и обращаться за консультацией лишь в самых крайних случаях.
Конечно, побеспокоят, думал я. Однако не сразу, не сразу! Пока разберутся, пока расчухают, что это не шутка и не розыгрыш, пройдет дней десять или хотя бы неделя. Достаточно, чтобы удрать! Скажем, на Андаманские острова или к помирившимся тутсихутам… В какой-нибудь медвежий угол, где можно скрыться и отсидеться во время всплеска популярности… Не столь уж трудная задача, раз тебе служит Джинн! — Прошу уточнить адреса рассылки, — промолвил он, взирая на меня с экрана.
— Всем правительствам, включая те, которые в изгнании… всем ведущим университетам и НИИ… всем крупным фирмам, банкам и другим финансовым учреждениям, а также общественным фондам… движению «зеленых» и политическим партиям, где больше тысячи… нет, десяти тысяч членов. Разумеется, в ООН, ЮНЕСКО, НАТО и прочие международные союзы.
— Выполнено, — сказал Джинн. — Что теперь?
— Теперь отдохнем, — откликнулся я. — Спасать мир — такая тяжкая работа!
Экран погас, но монотонный шепот еще звучал в вокодере, напоминая голос гипнотизера:
— Ты устал, Теплая Капля… Ты должен есть и спать… Я знаю, людям нужен отдых… Вернусь, когда позовешь…
Поднявшись, я направился в ванную, умылся ледяной водой, выпил на кухне кофе, что-то съел, налил молока в блюдце Белладонны. Затем пошел в родительскую спальню, вытащил из шкафа Коран, вернулся к себе, сел в кресло и раскрыл книгу на суре «Могущество». Строчки дрожали перед глазами, буквы прыгали и кувыркались, но все же через несколько минут начали складываться в знакомые слова:
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества! А что даст ему знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений. Она — мир до восхода зари!
— Мир до восхода зари… — повторил я вслух, поворачиваясь к окну.
Оно было темное, открытое звездному небу, где бледным диском висела луна, еще без признаков той сероватой дымки, которая ранней петербургской весной обозначает рассвет. Но с улицы уже доносился гул моторов и шелест шин, со двора — протяжные стоны и резкое хлопанье двери, а сверху, снизу и с боков — те шорохи и скрипы, невнятное бормотание и шарканье, которые в нашем блочном доме разносились по всем этажам подобно утренней мелодии. Близилось утро, ночь кончалась. Ночь моего могущества… Та, в которой нисходит ангел для всяких повелений… Та, которая лучше тысячи месяцев…
Веки мои слипались, тело налилось приятной тяжестью, и было лень подняться, сделать три шага и рухнуть на тахту. Кресло казалось таким уютным и мягким, таким надежным… Я уронил Коран на колени и заснул.
И снилось мне, будто я надеваю контактный шлем, застегиваю браслеты и по велению кибернетической волшебной палочки, переношусь в виртуальную реальность. В пространство, полное тепла и света, в лазурные сказочные небеса, где плывет пушистое облако, похожее на божью перинку в детском издании Библии, только восседает на нем не Саваоф, а Джинн собственной персоной. И вид у него непривычный, не белой кошки, не Багиры и не Чеширского кота, а облик смуглого пенсионера-араба лет под девяносто, в чалме и роскошном халате — ни дать ни взять старик Хоттабыч из одноименной книги. Сидит он за столом, а на столе угощение, пиво, фрукты, шпроты и, разумеется, бутылка «Политехнической». Я приземляюсь рядом с ним, чувствуя под ягодицами пышную облачную плоть, осматриваю стол и говорю:
— Что нарядился, дружище? Что достархан накрыл? Праздник у нас какой или иное торжество?
— Праздник, — подтверждает Джинн. — Все-таки мы с тобой, Теплая Капля, мир спасли! Отметить бы надо.
И мы отмечаем — в полном согласии с русско-исламской традицией, ибо Аллах не велел правоверным пить вина, а вот про пиво и «Политехническую» в Коране ничего не сказано. Закусываем шпротами, хурмой и финиками, а после Джинн и говорит:
— Ну доволен? Осчастливил человечество? Может, о награде думаешь, о благодарности мечтаешь? Как бы не так! Не будет ни наград, ни благодарностей! Сперва щелкоперы твою биографию по косточкам разложат, и станешь ты на день сенсацией, и снимут тебя в профиль и анфас, и на горшке, и у компьютера… А после, как разлетятся по разным созвездиям, никто и не вспомнит. Земная слава преходяща!
— Не надо мне славы, — отвечаю я, — и не хочу я на горшке сниматься и быть сенсацией. Мне бы куда-нибудь слинять… куда-нибудь, где щелкоперы не найдут и папарацци не достанут. Поможешь, друг?
— Как не помочь! Поможем, со всем удовольствием… Только слова мои о благодарности не забывай. Не будет ее, ежели сам не пошустришь.
И с этими словами он начинает жевать ананас, а я, будто в недоумении, спрашиваю:
— Куда ты клонишь, приятель? Слава, награда, благодарность… Прости уж меня, тупоумного, не врубаюсь! Это ты о чем?
— О том, — объясняет Джинн, покончив с ананасом, — что мир ты спас, а мир спасителей не любит. Плохо они кончают, эти спасители! А потому надо тебе обеспокоиться собственным благом. — Он отхлебывает пива и советует: — Ты, Теплая Капля, сам себя награди. Сам! Проси у меня чего хочешь! И помни — я все могу!
Тут навалились на меня такая тоска и печаль, что финик показался горьким.
— Это мы уже обсуждали, — шепчу я, — об этом говорили… Не хвастай, дружище, и душу мне не растравляй. Не можешь ты всего! А то, что можешь, мне не нужно.
— Как не нужно? — удивляется Джинн. — Не нужно богатство, чтоб жить в довольстве и добрые дела творить? И власть не нужна, чтобы наказывать злодеев и защищать обиженных? И знаний тебе не нужно? О том, как устроен мир, с чего он начался, к чему придет и где в нем место человеку?
Я нерешительно качаю головой.
— Нужно, наверное, нужно… Но это все не для меня, а для людей. А мне…
Джинн наливает стакан, поднимает его и осушает, не чокаясь.
— В их память… Я, Теплая Капля, выполняю только разумные просьбы, а воскрешение умерших и погибших есть желание иррациональное. Ты знаешь, что их не вернуть. Ни родителей твоих, ни друга… Но разве жизнь закончилась? И разве все дорогие тебе умерли?
Он глядит на меня с хитрым прищуром, и я отвечаю, что, конечно, нет и я не против, чтобы этих дорогих и близких стало больше. Скажем, на одну арабскую принцессу… Но как это устроить? Как добиться, чтоб полюбили Сергея Невлюдова? Его, а не богатства, не власть, не знания, дарованные этому счастливцу? Не преходящую славу спасителя мира? С одной стороны, все это нелишне, а с другой — соблазн! Великий соблазн для женщины, тем более — принцессы! Принцессам ведь нужны герои, и потому… Джинн, покачивая головой в чалме, перебивает меня сочным басом Глеб Кириллыча:
— Это все фантазии, юноша, бред и фантазии от лишнего ума! Они пользительны для писаных романов, а в романах житейских следует не фантазировать, но держаться ближе к телу.
— Хотелось бы, — вздыхаю я.
— Вот и не щелкай клювом, — советует Джинн. — Как прозвенит тебе звоночек, так становись поближе и хватай!
— Когда же прозвенит?
— Когда, когда… Может быть, сейчас!
И в самом деле я слышу пронзительную трель звонка. Сон мой осыпается лепестками увядшей розы, и, открыв глаза, я вижу, что в комнате по-прежнему темно. Было утро, пришел вечер… Сколько же я проспал? Наверное, часов двенадцать…
В прихожей надрывался телефон. Зажав под мышкой увесистый томик Корана, я вылез из кресла, переместился к аппарату и поднял трубку.
— Серега? Эт-то я, Ссизо.
— Привет, Север, — произнес я, отряхивая остатки сна.
— Сслушай, п-парень… Сизо, как обычно, был под хмельком и слегка заикался. — 3-знаешь, что нашим живоглотам к-карачун пришел? Никеша, значитса, наб-больничном, Альбертик вовсе штиблеты отбросил, а у Керимки п-пожар… Смотались они куда-то с П-пыжичем… видать, кррутые наехали, а новгородская к-крыша протекла. В общем, Сергуня, я нынче безработный, до самого первого апреля. А там ссговорился в могильной шарраге на к-кладбище, покойных личностей в-ваять… — Хорошее дело, — одобрил я. — Богоугодное! — В-вот и я о том же… А пока простой, могу твою кошку ув… увек… тьфу, черт!., увековечить! Как сговорились, ящик пива и четыре п-пузыря. Годится?
— Годится. Когда придешь с натурой ознакомиться?
Сизо задумчиво хмыкнул.
— Не завтра. Н-на завтра горючее есть… Вот послезавт-рева — в самый раз. Лады?
— Договорились[73].
Я осторожно опустил трубку на рычажки и замер в темном коридоре, прижимая к груди Коран. Голова у меня вдруг закружилась; минувшие события мелькали стремительной чередой, явь мешалась со сном, и я уже не мог определить место каждого деяния и сказанного слова. Возможно, мой разговор с Хоттабычем на облаке — реальность, а все, что напророчил Джинн, — ночной кошмар? Возможно, нет никакого трансгрессора, ни схем, ни чертежей, ни формул, а есть фантазии и бред от лишнего ума? Признаться, я пожелал, чтоб это оказалось правдой, чтоб гибель мира была видением, чтоб Джинн исчез или превратился в кого-нибудь знакомого, в того же Глеб Кириллыча, сел в кресло и промолвил: не строй фантазий, парень, и не спасай того, чего нельзя спасти! Иди-ка лучше в Графский, к своей Захре, иди к ней и скажи…
Резкий звонок, и все вернулось на свои места. Вздрогнув от неожиданности, я включил свет, шагнул к двери, пробормотал:
— Бянус, наверное… А ведь грозился, что сегодня не придет…
Дверь отворилась, и в мой дом шагнула девушка. Матово смуглая кожа, чуть выступающие скулы, брови, похожие на птичьи крылья, и глаза — колдовские, темные, словно арабская ночь, влажные, блестящие… Она двигалась изящно и легко, как танцовщица, и выглядела спокойной — только ресницы трепетали, и на губах, полуоткрытых, непривычно ярких, будто бы застыл вопрос: ждешь ли ты меня?… как встретишь?… что мне скажешь?…
Захра, звездочка моя! Моя ненаглядная! Что я еще могу сказать?
Апофеоз
ПЕСНИ ПЛЕМЕН
Есть шестьдесят девять способов сочинять песни племен, и каждый из них правильный.
Редьярд Киплинг.
Дверь открылась. Он стоял передо мной, а я не знала, что мне делать, какие вымолвить слова. Он выглядел бледным и усталым — набрякшие веки, заострившийся нос, щеки в точечках щетины, морщинки у суховатых губ… Любимый мой! Мой джабр!
Броситься ему на шею? Опустить глаза и ждать? Сказать, что я ошиблась дверью? Вспомнить о нашей встрече на факультете? Представиться? Назвать имена Ахмета и хакима Саши? Велик Аллах! Дорога от сердца к сердцу открыта, но как шагнуть на нее? И какой из шагов будет правильным?
Я переступила порог. Его глаза вспыхнули и засияли, как два аквамарина. В его руках была книга, которую он прижимал ее к груди.
— Коран? — спросила я. — Один наш общий знакомый говорил, что у вас целая коллекция Коранов. На русском, арабском, французском… Может быть, есть и на финском?…
Странное выражение мелькнуло на его лице — такое, будто он узрел чудо из чудес или услышал великое откровение. Я остановилась в замешательстве.
— Коран на финском? — протянул он. — Такого, думаю, в природе не имеется, но если вам угодно, будет. В отличном компьютерном переводе и очень быстро. Не успеем кофе выпить и за жизнь поговорить…
Потом что-то случилось. Что-то произошло — стремительное, непонятное, неотвратимое… Мы все еще стояли у распахнутых дверей, но я вдруг обнаружила, что книги нет в его руках, но были они не пустыми — в них очутилась я. Его щека колола мою щеку, пальцы зарылись в волосы, прикосновение губ обжигало…
Он что-то прошептал — так тихо, что я не расслышала.
— Что? Что, милый?
Его голос окреп, обрел уверенность и мощь:
— Награда… Ты — моя награда!
Есть ли иные слова, какие мужчина говорит любимой? Конечно, есть, и он их сказал. Но это уже не важно.
Приложение
Странную историю поведал Азиз ад-Дин Абдаллах! Странную и действительно похожую на сказку… Будто бы задолго до Исхода, в самом начале двадцать первого столетия, жила на свете прекрасная девушка с глазами газели и губами ярче пунцовых пионов — Азиз ад-Дин Захра, принцесса, наследница титула и богатств семьи, происходившей от фатимидских халифов. Семейные богатства были не столь уж огромными, и тягаться с каким-нибудь нефтяным шейхом из Объединенных Эмиратов родитель Захры не мог, но в общем-то род их считался не только древним, но и весьма состоятельным. И Захра училась во многих западных странах, дабы приобрести нужный царственный лоск, и знание языков, и все прочее, необходимое для принцессы, наследницы древней фамилии. Училась она в Америке, во Франции и в Англии, а превзойдя там все науки, отправилась в Россию, в город Санкт-Петербург, на берега холодного стылого моря. Поехала она туда, как объяснял Абдаллах, по той причине, что был этот город прекраснее прочих городов, даже самого Багдада, а еще потому, что в Петербургском университете были великие мудрецы, изучавшие Восток и знавшие об арабах такое, чего сами арабы про себя не знают. Словом, проучилась прекрасная Захра в Петербурге пару лет, а войдя в возраст зрелости (ей исполнилось двадцать пять) вернулась на родину, в фамильные поместья под Багдадом. Но привезла она с собой не одни лишь знания и умения, а еще и супруга, высокого, темноволосого и синеглазого. И от их союза родился сын Касим, тоже с синими глазами, и с той поры этот признак стал в роду ад-Динов наследственным и даже как бы почетным — в память о Касиме ибн Сирадже и его отце, супруге прекрасной Захры.
Надо признать, продолжал Абдаллах, что супруга этого встретили без особых восторгов. Во-первых, он был иноверцем — даже хуже, убежденным безбожником и атеистом, не заключившим священный договор ни с Аллахом, ни с Христом. А во-вторых, род его был малопочтенным, происходившим от смеси русской, еврейской и татарской кровей, и за последние сто лет в том роду встречались простые врачи, учителя да инженеры, от коих до царственных особ как от Земли до Луны. И сам супруг Захры являлся то ли ученым, то ли инженером, каким-то физиком или компьютерщиком, неспособным даже произнести славословие в честь Аллаха милостивого, милосердного.
Тем не менее был он избран Захрой, и родичам ее пришлось смириться. Но по прошествии пары лет смирение их перешло в почитание, а затем — в самый искренний и жаркий восторг. Ибо супруг Захры был богат, так богат, словно приехал он не из полунищей в ту пору России, а, по крайней мере, из Калифорнии — где, как знает всякий, доллары зреют прямо на деревьях, рядом с грейпфрутами и ананасами. И еще он был щедр, так щедр, будто не знал ни меры деньгам, ни цены их; и его рука, творящая благо, не оскудевала ни на миг. Но это являлось лишь самым малым из его достоинств, ибо супруг Захры обладал загадочными свойствами и таинственными качествами, присущими тем, кто избран самим Аллахом. Он воистину творил чудеса: мог предвидеть грядущее, подчинять своей воле события и людей и узнавать все, что случалось в мире, даже самое тайное и секретное, будто не было для него ни стен, ни расстояний, ни преград. И когда люди уверились в этих его необычных качествах, то стали толковать, будто супругу Захры подчиняется джинн, но джинн добрый, так как никому повелитель джинна не творил зла, а одно лишь благо и всемерную помощь. И были для такого мнения веские причины, ибо никто не сомневался, что этот человек, овладев властью над джинном, пожелал того же, чего желает всякий из людей, особенно в молодые годы: богатство и прекрасную принцессу. Пожелал — и получил! Но Захра являлась не обычной принцессой, вроде тощих королевских отпрысков из Британии или Бельгии; Захра стояла неизмеримо выше, так как происходила от самого Пророка! И какой бы мужчина ни пожелал ее (а таких насчитывалось великое множество), и какие бы силы ни помогали ему в том желании, без воли Пророка — а значит, самого Аллаха! — брак их заключиться не мог. Никак не мог! Ибо Аллах превыше всего, и Мухаммед — его единственный посланник!
И супруг прекрасной Захры тоже уверился в этом, и в день рождения Касима склонил слух свой к мольбам принцессы и заключил договор с Аллахом, приняв арабское имя — по всем древним канонам и традициям. Его аламом, или личным именем, стато Сирадж, что значит «светоч», а его насаб, имя отца, звучало как Мусафар, что значит «странник» или «гость»; и были эти имена созвучны тем, которые он носил в России. Прежняя его фамилия стала нисбой или названием рода и превратилась в Навфали, что значит «щедрый», а еще — «дарящий». Поскольку стал он отцом Касима, то мог принять кунью Абу-л-Касим; а кроме того, выбрал он прозвище-лакаб Дидбан ат-Дивана, означавшее «страж блаженного». И само это произвище как бы служило намеком, что Дидбан ат-Дивана Абу-л-Касим Сирадж ибн Мусафар ат-Навфали связан с потусторонними силами, с ифритами, джиннами или с самим всемогущим Аллахом.
Сам Сирадж этого не отрицал и не подтверждал. В семейных легендах рода ад-Дин говорилось, что Сирадж относился к своей предполагаемой связи с джинном не без юмора и в какой-то момент повелел вырезать статую кошки (а кошек он очень любил), утверждая, что в ней, в этой статуэтке, заключена магическая сила, в точности такая же как в сказочной аладдиновой лампе. Надо только знать, где потереть и как потереть! Но эту тайну он не открыл даже сыну своему Касиму, зато оставил ему такое несметное богатство, что Касим, будучи уже в летах и являясь почтенным главой семейства, смог откупить на Аллах Акбаре целую страну, благоустроить ее, возвести селения и города, разбить сады и выбрать лучших из лучших — среди того людского потока, что прихлынул к его границам. Сотворив все это, Азиз ат-Дин Касим ибн Сирадж объявил себя эмиром и стал править в Счастливой Аравии, и правил он так справедливо и мудро, что никто не мог упрекнуть Касима, что отец его — не араб, а какой-то чужак из России, без рода и племени. Ну и что с того? Аллах выбирает, Аллах дарует, Аллах наделяет благородством тех, кто приятен его сердцу!
Что же касается самого Сираджа, то он узрел Исход, дожив до его середины, но с Землей не расстался и был похоронен вместе с супругой своей Захрой в ее родовых владениях. Воистину, прожили они прекрасную жизнь, в счастье, любви и согласии, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучителъница собраний! Мир им обоим!