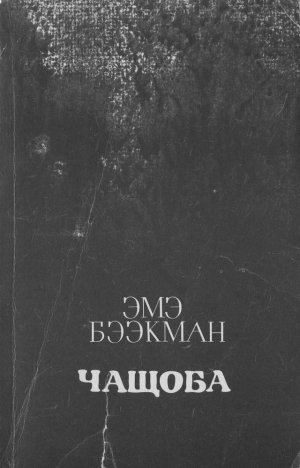
Эмэ Бээкман
Чащоба
1
По лестнице гурьбой скатывалась шумная ватага. Разом все равно бы не уместились в лифте — кому охота оставаться? Возвышенные мгновения действуют подобно вибрации, уплотняя в единую массу разрозненных людей: все в едином порыве провожали хорошего коллегу до машины. Встречные останавливались и прижимались к стене. Уступив дорогу, они с добродушной улыбкой смотрели вслед оживленной компании. И остальные работники проектного института знали, что сегодня провожают на пенсию не кого-нибудь, а старого галломана. Сопровождавшие несли подарки: корзины цветов, букеты роз и гвоздик и еще желтую дыню, ее, несмотря на уговоры новоиспеченного пенсионера, не разрезали на скромном застолье, устроенном прямо в служебном помещении. Главное сокровище — шкатулка из отборной дубовой клепки, в которой лежало довольно солидное собрание пластинок с записями французской музыки, — подскакивало в такт шагам на плече у какого-то мужчины. Подарок привел старого галломана в умиление. В самом деле, на такое царское внимание он не смел и надеяться. В летнее время — цветы? Ни беспокойства, ни забот, в любом киоске завернут приглянувшийся тебе чудесный букет; зато пластинки были добыты коллегами считай что из-под земли, поштучно и с трудом. Никто в отделе не считал за обузу эту дополнительную нагрузку: кто в течение последнего года оказывался в дальней или ближней командировке, тот не забывал ознакомиться с выбором пластинок на месте. И Лео при последней поездке в Москву кое на что набрел.
Лео вертел на пальце ключи от машины и тоже озорно поскакивал по ступенькам, хотя и не подбодрялся шампанским. Ты довезешь его до порога и поможешь отнести подарки — так распорядились коллеги. Напрасная трата слов, все и так само собой разумеется: в последние годы Лео обычно оказывался тем, кто возил, привозил, отвозил, — частенько требовалась срочная помощь, и он никого не посылал к черту. Он был не единственным в отделе, кто ездил на работу на машине, но выделялся среди других своей мобильностью. У него не было привычки рассуждать о целесообразности предстоящей поездки, никогда не выражал он на лице недовольства, если его отвлекали от рабочего стола. Лео нравилось быть дружелюбным, быстрым и хватким. При таком поведении ни у кого не возникает вопроса: а сколько же, собственно, этому шалопаю лет?
Когда старый галломан в разгаре торжества вытащил из недр корзины для бумаг, из-под мусора пузатую, с золотистой наклейкой бутылку коньяка — что по сравнению с этим шелковые платки и кролики, которых фокусники извлекают из черных ящиков, — то и Лео захотелось пропустить рюмочку. Но он тут же подавил это желание. Небольшой отказ можно было принять за долговую расписку, на право позднейшего наслаждения. Всегда хорошо, когда имеешь основания ожидать чего-то приятного. Обуздание себя являлось, возможно, большей свободой, чем что-то другое. Лео был не из тех, кто вдруг, ни с того ни с сего, под благовидным предлогом то ли ветреной, то ли дождливой погоды, исчезал на полчаса из учреждения, чтобы, переметнувшись на зеленый свет через улицу, ввалиться без оглядки в бар, протягивая руку известно за чем. За минутное удовольствие обычно больно расплачивались: вечером приходилось оставлять карету на стоянке и ехать в переполненном автобусе, в то время как у самого кошки скребли на сердце — вдруг моя машина приглянется какому-нибудь автоугонщику?
Наконец пошли поцелуи. Машину Лео завалили подарками, старому галломану пришлось устраиваться среди корзин с цветами. В свое время, до войны, в почете были спортивные машины, в их задней части откидывался люк над дополнительным сиденьем — тещиным ящиком. Сейчас бы он сгодился. Как бы это было здорово: теща с румянцем во всю щеку восседает сзади, разукрашенная искусственными цветами шляпа надвинута на лоб, на коленях у нее базарная корзина, и ветер гудит в ушах, и вызывающе, будто взмывает в небо самолет, ревет мотор спортивной машины.
Лео дал возможность всем излить свои эмоции, сам же забрался в машину, потеснил цветы, пристегнул ремнем безопасности положенную на переднее сиденье шкатулку с пластинками — никогда не знаешь, когда кому заблагорассудится вдруг вынырнуть у тебя перед носом и преградить дорогу, — тогда спасет лишь резкое торможение. Веселая компания на предосторожность Лео отреагировала взрывом смеха.
Кто-то за спиной Лео пробормотал:
— Теперь наш пенсионер начнет у себя дома строить макет воздушного замка.
— Все лучше, чем вычерчивать свинушник, — прошептали в ответ.
На мгновение Лео охватила досада, она совпала с появлением знойного облачка удушливого газа, которым пахнул ему в лицо взявший с места автобус. Лео показалось, что к бровям и ресницам прилепились мельчайшие невесомые комочки сажи и их никак нельзя было стряхнуть.
Он усмирял свои чувства, разум призвал его к порядку: в этих случайных фразах не было злобы. В любой компании время от времени вновь и вновь намекали на извечный и грустный факт о том, что почти каждый лелеет свой тугой воздушный шар мечтаний, который с годами, к сожалению, оказывается обмякшим. И вини кого хочешь. То ли шип времени проткнул тонкую оболочку, то ли собственная беспомощность была виной тому, что искрящийся простор мечтаний обратился в горстку мусора. Легко ли смириться? Это достойно проклятья: бессмысленная сутолока, парализующие клетки мозга мириады пустых слов, обыденная, лишенная творческого начала, работа. В результате всего этого свежая мысль устает и глохнет — человека приходится отсылать на пенсию, что означает — в безвестность.
Старого галломана без конца чмокали: видимо, они все же крепко поднабрались, настолько доставало им бьющей через край сердечности. Все заверяли: мы не забудем и ты не забывай, заходи навещать, мы придем к тебе (никто не отважился назвать точную дату), послушаем вместе хорошую музыку; может, и дома у тебя найдется какая-нибудь корзина для бумаг, откуда удастся выколдовать…
Лео стало немного не по себе. Они перебарщивают. Ишь, развезли. Кубок переживаний у старого галломана на сегодня переполнен, рука его дрожит, того и гляди прольет нектар, и не будет уже тех милых слов, в которых потом можно было бы рыться. Хуже того, будучи прямодушным человеком, он уже сегодня приготовит украшенную звездочками бутылку и, к величайшему изумлению жены, спрячет ее в корзину для бумаг.
Лео хотел пощадить коллегу, рассусоливание пора было кончать… Он протиснулся в круг хохотавших людей, постучал ногтем указательного пальца по стеклу своих часов. Увы, намек не был уловлен, все подумали, что Лео в свою очередь собирается их потешить. В гнетущие дни конца квартала, когда сроки сдачи проектов нарастали с чудовищной скоростью, пулей выскакивали из-за горизонта, начальник имел обыкновение проходить с многозначительной медлительностью по всему отделу и, как бы в рассеянности, постукивать указательным пальцем по стеклу часов. Гомон стихал, случайные фразы, которыми люди перебрасывались, внезапно обрывались, все звуки вдруг вытравлялись, сотрудники словно бы оказывались под звуконепроницаемым куполом, где с жуткой и подавляющей громкостью звучал один-единственный звук — жесткий, искусственный стук сердца. Многие признавались, что в те мгновения у них сводило внутренности, уж лучше бы начальник бурчал или же прибегал к высокопарным фразам, стремясь вдохновить подчиненных на трудовые подвиги, все было бы терпимей, чем столь безжалостным образом напоминать о течении времени.
Тут, в сутолоке улицы, они могли и посмеяться над таким постукиванием по стеклу часов, конец месяца только что миновал, а до конца нового квартала улитке еще предстояло переползать китайскую стену. Сегодняшнему рабочему дню осталось оттикать всего четверть часа — можно ли придумать лучший миг для смеха? И вообще перспектива мерцала в приятном мареве: начиналось время отпусков.
Лео с завтрашнего дня был свободным человеком.
Хоть задирай голову и хохочи вместе со всеми.
Он не собирался менять своего решения: в семь часов утра повернет ключ зажигания, разбудит под капотом своей машины табун лошадей и понесется.
Старый галломан опустился на заднее сиденье, он подбрасывал в руках дыню. Она отзывалась гулкой спелостью. Две осы бились о стекло автомашины — как только они попали сюда на пропитанную бензиновым чадом улицу?
Коллеги по очереди втискивались в дверцу машины, похлопывали свежеиспеченного пенсионера по плечу, возможно, элегантный, мушастый твидовый пиджак, галломана от этого дружеского излияния чувств несколько и пачкался, только о житейских пустяках в такой день, когда человек обретает безграничную свободу, не пристало задумываться.
Лео достаточно перевидел уходивших на пенсию людей, в большинстве они в день проводов выглядели какими-то сдержанно-плаксивыми, может, сотрудники отдела потому и любили галломана, что он всегда говорил о пенсионной поре как о лучезарной вершине своей жизни. Его непоколебимое убеждение в том, что старость является в жизни человека периодом, наиболее достойным наслаждения, поднимало настроение окружающих. Значит, у всех у них, хмурых, нервных, отупевших от суеты, обремененных тяготами жизни, измученных болезнями, впереди маячило нечто возвышенное — собственная светлая высота, свой покрытый альпийскими гвоздиками и защищенный горными уступами луг.
Неслучайным оказалось и то, что галломан проработал два года сверх пенсионного возраста. Кое-кто считает жизнь и людей непостижимыми, он же верил, что существование во времени не зависит от собственного произвола и случайностей, путь каждого как бы прочерчен пунктиром по земле. Уже некоторое время тому назад стали замечать учащавшиеся ошибки в проектных расчетах галломана, и ему не раз делались прозрачные намеки по поводу светящейся вершины, до которой, пожалуй, рукой подать. Возмутительные придирки вскоре прекратились, галломан обладал искусством усмирять всякого рода доброхотов. Он поведал им простодушную байку, вынудив отвернуться от неловкости — к черту трезвость, все расчувствовались. Казалось невероятным, но тем более умиляюще действовала его история; в душе старого человека, который половину своей жизни посвятил проектированию подстанций и подгонке мощностей трансформаторов к линиям высокого напряжения, властвовала мистическая вера в предопределенность любого шага. В молодости цыганка будто бы нагадала ему, что он проживет на свете семьдесят семь лет. Так как солнечное детство продолжалось у него пятнадцать лет — потом жизнь взвалила на него заботы, — то пусть для наслаждения свободой на склоне лет останется такой же срок. Симметрия является одним из залогов гармонии, — воздев палец к потолку, заверял он. Убежденность галломана-фаталиста вызывала у людей умиление — какой цельный человек! В свете этой непогрешимой жизненной программы становилось неловко думать о собственных ничтожных страхах.
Хотя казалось негоже опускаться до споров, все же какой-нибудь умник, бывало, бурчал, мол, что там могла знать какая-то допотопная цыганка о процессах загрязнения среды, о нарушениях экологического равновесия, о принесенных цивилизацией болезнях, которые подтачивают человека и способны опрокинуть любую предначертанность. Галломан отсутствующе и блаженно усмехался на все эти доводы, и любая неуютно чувствовавшая себя перед лицом современных проблем личность могла здесь же, в отделе проектного института, в очередной раз убедиться, сколь трудно человеку нести свой крест, если нет веры.
Провожающие потянулись в здание, и все же что-то вынуждало их продлить момент ухода, они задерживались на институтском крыльце, в стеклах парадной двери отражались проезжавшие машины, наплывы теней словно бы выливались в укоры: и чего они скопом застыли там, с усмехающимися масками на лицах!
Лео вклинился в движущийся поток и тут же оказался в очереди перед светофором; прежде чем красный свет замигал, он успел определить свой маршрут. Артерии движения страдали острой недостаточностью пропускной способности, но это было бедой большинства старых городов, не все обладали подкрепленной гигантскими капиталами смелостью японцев, чтобы соорудить магистрали на эстакадах и поднять их над людьми и над домами. Здешним проектантам явно, кроме лучших возможностей, недоставало еще и одаренности.
Да ладно, пусть эти столь часто обсуждаемые повседневные проблемы катятся на все четыре! Отпуск у Лео начался с той секунды, когда он свернул с институтской стоянки на улицу; оставалось последнее рабочее задание — докатить галломана с его подарками до порога, и тогда он сможет дать свободу своим мыслям. Как чудесно представлять: мысли — словно вырвавшиеся из тесного загона зебры где-нибудь в безбрежной зеленовато-желтой саванне. Травинки шуршат на теплом ветру, полосатые лошадки разбегаются, и никто не пытается их обуздать.
Лео приходилось то и дело притормаживать на узких улочках и выискивать не перекрытые дорожными знаками свободные направления, чтобы довезти галломана до дому. Свежеиспеченный пенсионер молча ушел в себя. Видно, они и впрямь утомили его. Лео частенько посматривал в зеркало заднего обзора, сейчас неуместно было уставиться в лицо старому коллеге, пусть успокоится, не чувствует стеснения, может, ему неловко, что в его взгляде выражается душевное переживание.
Машина остановилась, галломан шустро вылез, просеменил по неровной булыжной мостовой, скрылся в маленькой боковой двери закрытого сводчатого проезда, через минуту громоздкие, округленные поверху створки ворот начали расходиться. Заводя мотор, Лео засомневался, ему почудилось, что его вынуждают въехать в дом. Перед тем как погрузиться в темный тоннель, он заметил над воротами два ряда окон. Ему почему-то показалось святотатством, что в предназначенные для пешеходов места лезут машины. В действительности же здесь не было ничего особого, любые виды старого города всегда щекотали воображение Лео. Машина медленно ползла по выбитому цементному полу, въехала в продолговатый двор, словно судно в узкую шлюзовую камеру, налево была стена дома, направо каменная ограда, к которой прилепились жалкие сарайчики, этакие увеличенные скворечники, видимо, там хранили ненужное барахло, навряд ли топливо. Насколько Лео помнил, сюда уже давно была проведена теплоцентраль. Возле выстроившихся в ряд сарайчиков стояли большие прогнившие бочки, в них людям было впору мыться — кто знает, как попали сюда эти атрибуты пивного производства.
Галломан шагал впереди машины так, будто ему по случаю важного кортежа требовалось выстроить в шпалеру народ, а на дворе ни души. Вот тебе и перенаселенность центров! В действительности эти изъеденные временем закопченные здания отпугивают жильцов своими толстыми стенами. Лео было больно думать, что вскоре уже никто не захочет навсегда связывать себя с этими домами. Тут же Лео забеспокоился, каким образом развернуть тут машину. Выехать задом на оживленную улицу? Удивительно, что вышедший на пенсию коллега закрыл оставшиеся позади большие ворота, в зеркале заднего обзора вырисовывался черный провал.
Раз уж подавать к крыльцу, так подавать. Двор как начинался, так и оканчивался темным крытым проходом, колеса вкатились на дощатый настил. Останавливая машину, Лео учел массивный уличный кран, который на конце тоненькой трубы примерно на полметра выступал из стены. Лео намеренно дал мотору еще немного потарахтеть, опустил левое стекло, и с удовольствием прислушался к сложному звуковому эффекту под аркой. Долго наслаждаться необычными звуками было нельзя — в темном каменном мешке не годилось ухудшать и без того застоявшийся воздух. Пришлось вылезать из машины, чтобы выполнить свое последнее предотпускное задание. Он по чистой привычке так и подумал: задание. Это возвышенное, содержавшее изрядную долю суровости слово прекрасно могло служить заслоном от ненужных расспросов в любом случае жизни. Под прикрытие этого неохватного заслона прекрасно умещались все до единого частные дела. Чтобы государственная работа и впрямь подвигалась, нужно было держать в порядке персональный тыл.
Лео помог галломану внести подарки в дом. Глаза его не желали свыкаться с сумраком расчлененной прихожей, через каждые несколько шагов он спотыкался об очередную толстую циновку; в общем-то по ним было приятно ступать, казалось, что ноги угождают на поросшие густым мхом кочки, но не было времени попружинить на них, Лео продвигался к видневшемуся впереди свету.
В середине высокой жилой комнаты белел овал покрытого белой скатертью стола, на котором стоял канделябр с зажженными свечами, рядом красовалась серебряная ваза с темными фиалками. Лео смутился, не зная, куда положить шкатулку с пластинками. Почему-то бросил взгляд в потолок, над ним, высоко вверху, висела люстра, он бы с удовольствием включил полный свет, если бы видел, где находится выключатель.
Галломан разрешил озадаченность Лео. Взяв у него пластинки, он исчез с ними в дебрях шкафов и соф; тут же вновь появился перед гостем и движением руки предложил сесть. Лео опустился на мягкую обивку и стал подыскивать подходящие слова, чтобы вежливо удалиться через пару минут.
Лео вздрогнул: седовласая дама появилась столь неожиданно, что казалось, будто эта сухопарая женщина по-детски, с замирающим сердцем, присела на корточки за постаментом, чтобы, улучив подходящий момент, испугать его. Остановившись на миг и кивнув, дама принялась быстро и легко передвигаться по комнате, ее необычное, словно бы из рыбьей чешуи, платье одновременно облегало ее и свободно ниспадало. В комнате раздавался едва различимый шорох. Поставила поднос на стол — в маленьких чашечках дымился кофе; протянув Лео руку, она бегло улыбнулась.
Краем глаза Лео приметил, что галломан зачарованно смотрит на свою жену.
Лео маленькими глоточками отпил крепкий кофе, наконец глаза его начали лучше различать предметы: слева от пола до потолка возвышался стеллаж с книгами, с верхних полок книги можно было доставать лишь с помощью лестницы. Единственное продолговатое окно в комнате глядело в какой-то переулок. Лео вытянул шею, через дорогу домов не было, кусок городской стены древней каменной кладки скрывал небо.
Супруга галломана, извинившись, поставила свою чашечку на поднос, Лео опять различил едва слышимое шуршание, которое почему-то тревожило его, и все же он удерживался от искушения следить за дамой, возившейся в темном углу комнаты. Тут жена галломана с розами в руках вышла на свет. Она встала перед окном и, казалось, растворилась в светлом прямоугольнике. Лео зажмурился, снова взглянул, обмана не было: гибкие руки женщины методично взмывали вверх и вниз, будто дирижировали незримым оркестром, — она ставила цветы в большую напольную вазу.
Закончив свое занятие, дама на мгновение застыла на месте, раскинув руки, словно крылья, возможно, эта была ее обычная поза для выражения своего восхищения.
Приведенный в замешательство, Лео осторожно поднялся и импульсивно поклонился спине жены галломана. Что же тут в действительности происходило? Ритуал ожидания зимы? Или нечто будничное?
Слегка потоптавшись на месте, Лео поклонился также в сторону галломана и направился к двери. Ударился носком о ступеньку; странно, входя, он ее не заметил.
Галломан уже услужливо стоял возле него и, словно извиняясь, проговорил:
— Отсюда никуда не выйдешь.
К чему же тогда аккуратно крашенная белая дверь, две устланные ковриком ступеньки?
Проклятая темень! Человеку его профессии не пристало терять в помещении ориентацию. Стыд-позор! Лео взял себя в руки, ну разумеется, арка находится справа, там стоит его машина. Зато белая дверь находилась в оконной стене и должна была открываться в узенький проулок перед городской стеной. Явно, что дверь эта не предназначалась для повседневного пользования. И только сейчас Лео заметил, что от косяка к косяку пролегает железная накладка, которая так же, как скоба и висячий замок, были покрашены в белое, чтобы не бросались в глаза.
— Там за ней — пустота, — усмехаясь, сказала пожилая дама и бросила через плечо, покрытое рыбьей чешуей, на Лео высокомерно иронический взгляд.
— Вернее, лужайка, — мягко поправил жену галломан.
«Дурачатся», — сердито подумал Лео. Но, несмотря на это, заставил себя еще раз галантно поклониться, кому или чему было обращено это почтение, двери или людям, — не все ли равно.
Теперь, во всяком случае, он пошел в правильном направлении и окунулся в темную переднюю, под ногами ощущал знакомые кочкообразные циновки. Из-под арки тянуло отдававшей бензином сыростью. Усевшись в машину, Лео почувствовал, что вновь пребывал в знакомом, надежном окружении. Скользнув взглядом в сторону, он заметил, как из лепившегося к стене медного крана, набухнув, сорвалась капля. Когда Лео завел мотор, в лицо ему ударил яркий свет. Галломан открыл в конце арки ворота, оказывается, продолговатый двор был проезжим.
Лео отпустил сцепление, машина медленно двинулась, деревянный настил загрохотал, наверное, какие-то половицы отстали от балок и качались. Галломан, согнувшись, стоял у створа ворот и подавал рукой знак, что надо повернуть налево. Едва машина успела выкатиться на улицу, как ворота тут же закрылись, случайным любопытным просто так не проникнуть было в крепость галломана.
Лео почувствовал облегчение оттого, что сумел избавиться от галломана, захотелось немного приглядеться к улочке, зажатой между домом и городской стеной. Он не стал выходить из машины, это выглядело бы неуместным, как будто он все еще находится на территории, ревниво оберегаемой галломаном. К тому же никак не унималась какая-то невнятная тревога, ему словно бы что-то грозило, он должен был оставаться за рулем в полной готовности, чтобы в случае надобности мигом сорваться с места и исчезнуть.
Верхней кромки городской стены Лео не видел, но там ничего особенного быть и не могло, может, лишь свисают из расщелин живописные ошметья трав, возможно, тянется к свету какой-нибудь хилый березовый прутик и даже не предполагает, что никогда ему не вырасти в большое дерево.
Машина Лео стояла как раз за стеной квартиры галломана.
Теперь бы он уже смог набросать приблизительный план того, что было поблизости. Только что он смотрел из комнаты в единственное окно глухой стены. Все ясно, и отсюда, с улицы, виднелись красные розы, рдеющие за занавеской. Но куда все же ведет эта дверь под железной накладкой и висячим замком? Наметанный глаз Лео исследовал стену в месте расположения двери. Нет и намека на то, что в стене замурован какой-нибудь пролом. Не было никаких признаков обновления, выкрошившиеся по углам камни были равномерно покрыты копотью времен. Наваждение? На лбу у Лео выступили капельки пота. Или он отупел? Ему хотелось взять кирку и разломать каменную стену. Он только не знал, какой в этом смысл. Что его больше волновало: то ли неуловимая истина, то ли собственное бессилие?
Какой-то мальчишка на велосипеде проехал мимо автомобиля, и Лео вздрогнул. И все же проскользнувшая тень отрезвила его.
Лео собрался с духом. Логика и знания призваны всегда служить человеку опорой.
По оконному проему можно было определить шестидесятисантиметровую толщину стены. Дверь вместе с косяком составляет едва ли не треть этой толщины. Древняя кладка, к тому же из плитняка, не могла быть тоньше сорока сантиметров, более тонкая при таком массивном строительном материале была бы невозможна. Что же там оставалось — между дверью и стеной? Там и мышам не уместиться! Пустота? Лужайка?
Возможно, там висит картина с изображением горного пейзажа, с вершин в ущелье сползают глетчеры. Два старых человека громыхают по вечерам железной накладкой и висячим замком, открывают дверь и смотрят на свое непонятное алтарное изображение. И быть может, впадают в ожидании озарения в глубокое раздумье.
2
За свои пятьдесят шесть лет Лео успел кое-чему научиться, временами он пытался убедить себя, что ему посчастливилось освободиться от накопленного опыта, но тут же, к сожалению, ловил себя на мысли, что на самом деле ноша все еще волочится за ним по пятам. Многие лелеяли багаж своих воспоминаний, заботились о нем, подгоняли былые факты, создавали более стройную систему, прямо-таки боготворили свое прошлое, лучшую часть своей жизни.
Лео не хотелось оглядываться назад, и все равно у него было достаточное представление о своем бремени, которое сознание старательно укрывало выгоревшим и латаным брезентом. Порой, шагая по улице, Лео думал, что все люди видят этот бугристый серый ворох, который был приторочен размочаленным канатом к торопкому и самоуверенному виду мужчине. С годами Лео все чаще пытался внушить себе, что в какой-то момент он с печальной улыбкой сможет освободиться от своего груза, ибо то, что хранилось у него за душой, все меньше подходило сегодняшнему дню. Ведь сам он стал другим, и что когда-то имело место, того, считай, все равно что и не было.
К сожалению, у размочаленной веревки оказался поразительный запас прочности.
Иногда Лео подмывало выкрикнуть: наконец-то я все же хочу жить ради сегодняшнего дня, ради будущего. Если бы это слышал какой-нибудь самоуверенный молокосос, он бы бесцеремонно поглядел на Лео и с издевкой спросил: ради будущего? Это в вашем-то возрасте? Тот, кому море по колено, а жизненный опыт умещается в лежащем в кармане носовом платке, непременно будет кругом прав. Горизонт у желторотого не поднимается выше подола девчонки, от него не следует и ожидать, чтобы поле воображения было густо заселено.
Как раз в последние годы Лео, вопреки всему, начал верить, что достиг какого-то давно желанного равновесия и что в этом чертовски неустойчивом мире нет большей ценности, которую можно было поставить рядом с устоявшимся самосознанием. Нестерпимо долго давление всевозможных обстоятельств угнетало Лео, нынешняя атмосфера вселяла надежду, что на былых перекосах можно поставить крест. Все сущее следует принимать как само собой разумеющееся, — лучшего вывода Лео сделать не смог.
Он вошел в переднюю, швырнул портфель к стенке и громко провозгласил:
— Нелла, иди взгляни на свободного и радостного человека!
Лео открыл дверцу стенного шкафа, нашел для пиджака вешалку и понял, что его хорошего расположения духа Нелла не воспринимает.
По другую сторону дверцы шкафа послышался приглушенный вздох:
— Утром тебя и след простынет.
Лео удивился, что ему никогда не приходило в голову сравнить Неллу с хмелем. Жена распространяла ароматные, притягивающие к ней флюиды, которые действовали освежающе, вместе с тем она умела огорчать его существование.
— Ты избавишься от обязанностей и домашних забот, — примирительно сказал Лео.
Нелла что-то буркнула.
— Я знаю, ты считаешь меня рутинным человеком, который не способен придумать чего-нибудь захватывающего, каждое лето все тот же Вильмут.
— Да, — Нелла приняла отчужденный вид. — Не надо торговаться, я не в состоянии оценить его общество.
— Ты и не сможешь этого сделать, твой отпуск начинается лишь через две недели.
— Я знаю, что ты не хочешь поехать вдвоем куда-нибудь подальше.
— А мне и поблизости хорошо.
— Просто в голове не умещается: ты и Вильмут — да что у вас общего?
— В его компании мозги отдыхают.
— Я обременяю тебя своим интеллектом? — Нелла звонко рассмеялась. — Может, попытаться стать кудахтающей квочкой?
— Не стоит насиловать свою природу. В жизни и без того хватает фальшивого и условного.
— А в обществе Вильмута ты себя чувствуешь естественно? — Нелла не впервые удивилась этому.
— У тебя железная логика, ты постоянно ставишь меня в тупик, — парировал Лео. Он знал, что Нелле нравится пусть даже не непосредственное признание ее интеллектуальных способностей.
— Ты всегда избегал духовной общности, — грустно отметила Нелла.
— Мы уже столько с тобой прожили, и я все еще тебе чужой?
Лео и сам не знал, то ли он действительно поражен, то ли притворяется.
— Твое самообладание иной раз приводит меня в ярость! — выпалила Нелла. — Я с нетерпением жду, когда ты будешь по-настоящему потрясен и у тебя не хватит сил заслониться маской.
— Не желай мне плохого, — с тревогой произнес Лео.
Он сразу же ощутил, что разговор их далек от обычной перепалки, и ему стало не по себе. Тем более что упреки Неллы выматывали его душу. На мгновение он представил себе сухопарую жену галломона, которая с едва различимым шорохом передвигалась в закоулках полутемного помещения. Лео охватило отвращение к своей современной квартире с ее рациональной планировкой. Даже проблемы на всех девяти этажах, наверное, одинаковы. Во время отпуска надо будет отправиться куда-нибудь подальше!
— Попробуй оценить то, что есть, — почти умоляюще произнес Лео. — Самообладание требует напряжения, я держал себя в руках и никогда не беспокоил тебя. Неужели тебе больше нравилось бы, если бы я охал, брюзжал и плакался, изливал бы на тебя свои горести! Вообще-то мы могли бы дискуссию здесь, в передней, закончить и продолжить ее на кухне. Я ужасно голоден.
— Да, — насмешливо произнесла Нелла, — я подам тебе сейчас к супу газеты.
Лео вымыл в ванной руки, посмотрел на себя в зеркало, выглядел он усталым. Однако надеяться — звучало модно, и Лео тоже надеялся, что отпускные дни снимут серый налет с лица, изношенная прошлогодняя оболочка сменится новой.
Целый долгий год он вынужден был терпеть душные помещения — на работе и дома, носить опрятную, сотканную из синтетических волокон одежду и страдать от ее неудобства. Повсюду в городе, будь то в помещении или на улицах с их загрязненным воздухом, он просто ощущал избыток положительных ионов, угнетавших человеческий организм. На выматывающих собраниях, в повседневной горячке на работе, в клокочущем котле уличных заторов все труднее становилось верить в себя как в устойчивую личность, которая умеет наслаждаться буднями и с надеждой смотрит в будущее. Он с ужасом заметил, что даже стойкая и славная Нелла подчас вызывала в нем отвращение, как вызывала иногда чувство уныния и его прилежная дочь, которая, наверное, и в пионерском лагере следует сейчас преподанным матерью урокам и делает все точно так, как положено.
Он как будто желал, чтобы спокойное течение семейной жизни сменилось мутными водоворотами. Только что он увещевал Неллу ценить устоявшиеся ценности. А что же он сам?
Усталый человек беззащитен, и чувство дискомфорта с легкостью запускает когти в его мозг.
После ужина Лео закурил сигарету и попытался развеять Неллу беглым пересказом проводов галломана на пенсию. Сказал, что подвез старого коллегу вместе с его подарками домой. Но ни словом не обмолвился о белой двери и таинственном пространстве за ней.
Нелла безразлично кивала, видимо, пребывала во власти своих переживаний. Она тоже устала от положительных ионов и рутины.
— И что же этот бедняга будет теперь с собой делать? — с некоторым сочувствием спросила Нелла.
Лео задел подтекст ее вопроса: и у него оставалось не так уже много времени до сверкающих вершин пенсионного возраста — какое будущее он готовит себе?
— Я думаю, он найдет себе применение, — сухо откликнулся Лео.
Нелла убирала в шкаф посуду и громыхала больше обычного.
Воздух был наэлектризован.
Сейчас они отправятся в свою устланную синтетическим ковром гостиную, включат телевизор или радио, и незаземленное электричество примется с тихим треском и шипением кружить по плинтусу, словно заточая их в замкнутое пространство, делая обоих расслабленными, безынициативными, и они довольно безрадостно проведут вечерние часы в мягких креслах. Станут перебирать скопившиеся за день мелкие обиды, вспомнят про доставшиеся на их долю уколы и не найдут ни одного приятного переживания, которое бы разметало этот будничный сор.
Скорее бы уж утро!
— Сегодня я с сожалением подумал о нашей старой квартире.
— Да? — оживилась Нелла.
— Там мы жили, тут мы функционируем.
— Там, в той дыре? — вызывающе засмеялась Нелла.
— Конечно, дом бы мог быть постарше и в лучшем стиле.
— А не купить ли нам деревенскую развалюху и не зажить ли вновь полнокровной жизнью среди крыс и короедов? — насмешливо произнесла Нелла.
Лео хмыкнул.
— Я горожанка, и мне нравится функционировать.
— Ну и функционируй, я вижу, ты получаешь от этого истинное удовольствие, — сказал Лео.
О чем бы он ни пытался говорить, Нелла все равно заводила их разговор в тупик. Ничем, кроме как тем, что она огорчена, Лео не мог объяснить строптивость Неллы. Она блистала ясным умом, но что за этим скрывалось? Острый ум не лишал ее женственности. Неллу ужасно задевало, что Лео уже в течение ряда лет предпочитает проводить отпуск с Вильмутом и оставляет на произвол судьбы собственную жену. Вполне возможно, что Неллу понуждал ненавидеть Вильмута и некий странный комплекс соперничества. Видно, ей приходится крепко держать себя в руках, чтобы злость не замутила глаз: тоже мне сравнимые величины — она и пошлый Вильмут! Может, Нелла полагала, что именно из-за существования Вильмута Лео не посвящал жену в свою духовную жизнь. Достаточно сверстника и друга детства в том далеком захолустье.
Лео почувствовал, что жена украдкой следит за ним. Может, она ждала в нем внезапной перемены чувств, какого-нибудь потрясающего предложения, которое бы развеяло скопившуюся за долгое время притупленность и внесло бы в их душную комнату свежий порыв новых надежд.
Лео стало жаль жену, однако, к сожалению, он ничего не мог поделать с собой.
Вполне возможно, что Неллу растравляет и вовсе какая-то детская зависть. Всегда бывало так, что если человек не умеет вжиться во что-то такое, что дарит другим хотя бы малейшее развлечение, то он впадает в ярость. Неллу раздражало как раз то, что приносило успокоение Лео: надоедливое жужжание мух в комнате чужого сельского дома, отдых в саду меж кустов крыжовника, кружка пива в бане, ранние утренние прогулки по берегу реки с мокрыми по колено от росы ногами. Что мог поделать Лео, если Нелле действовали на нервы наигрывание Вильмута на гармошке и его треньканье на гуслях.
Скудость духовной общности, словно болезненное наваждение, сидела в мозгу у Неллы. Обнажать перед женщинами душу было особенно опасно, они умели, взяв за основу некий побочный факт, поставить с ног на голову истинные соотношения. Тем более что в них гнездилось непреодолимое стремление перевоспитать человека в лучшую сторону и навязать свою систему оценок. Многие мужчины подобным образом превращены в жалкие придатки. В нынешнем подогнанном под стандарт мире независимость является единственной формой существования, чтобы сохранить хотя бы видимость целостности своего «я».
Вообще стало модой размышлять о своей семейной атмосфере, это казалось способным создавать питательную среду для неврозов, но не для гармонии. В свое время душевные перекосы вконец измучили Лео, теперь ему хотелось жить просто и естественно. Ведь может же человек когда-то и от чего-то устать?
— Я не жалею о нашей старой квартире, жалею о другом, что ушло.
— А именно? — притворно поинтересовался Лео.
— Как раз в той старой квартире мы опустили руки и не сделали ничего для будущего.
— Как же это? — удивился Лео.
— Видишь ли, — неуверенно проговорила жена, — до того как мы сошлись и стали жить в том старом доме, у тебя были кое-какие дружки и у нас с мужем — свои друзья, с кем мы общались. Известно, что при разводе круг старых друзей распадается. Всем как-то неловко, никак не решишь, кого предпочесть. Вот они и уходят в кусты.
— Ты утешалась в то время тем, что в будущем мы созовем в новую квартиру новых друзей и забудем о потерянных.
— Теперь их неоткуда взять. Время упущено. В нашем возрасте можно обрести разве что случайных знакомых.
По мнению Лео, это не было каким-то несчастьем, но он не посмел огорчать жену своим суждением. Ему хватало и повседневной суматохи, пестрого ряда лиц, бесчисленных мимолетных контактов — еще и перед сном в ушах звучали сказанные в рабочем помещении фразы, покой и отрешенность как раз и составляли блаженство вечернего мгновения.
Молчание Лео вывело жену из себя.
— Конечно, тебе хватает Вильмута, — очень тихо, но с глубочайшим упреком сказала Нелла.
Лео прикусил язык, чтобы не подливать масла в огонь.
Нелла подвинула под голову диванную подушку и закрыла глаза.
Нелепый вечер, время тянулось.
Надо было оставить машину на ночь под темной аркой и нагло усесться за стол галломана. Там бы он мог потягивать коньяк и обмениваться редкими фразами с хозяевами. Чтобы вконец развеять отчужденность, он мог бы перевоплотиться в страстного меломана и шепнуть доброму коллеге: «Дебюсси». Новоиспеченный пенсионер вскочил бы со стола и стригунком поскакал бы сквозь меблированные дебри своей сумеречной комнаты, чтобы вытащить на свет божий все пластинки, связанные с этим очаровательным именем.
Лео поймал себя на мимолетном порыве зависти: у него никогда не было преобладающего постоянного увлечения, в которое бы он мог в любой миг самозабвенно погрузиться.
И у Неллы — тоже. В противном случае у нее не оставалось бы времени на самоистязание.
Лео мельком глянул на жену — из-под закрытых ресниц по щекам катились одинокие слезинки.
Лео отгонял от себя надвигавшийся порыв сочувствия. Что-то мешало ему вскочить и обнять жену, успокоить ее. Тогда ему пришлось бы что-то пообещать, уступить и послать к черту свои планы на отпуск. Он старался ухватиться за трезвые рассуждения. Еще лучше, если бы удалось вспомнить какое-нибудь пустяковое происшествие или смешной случай. Это ему почти удалось, хотя он и сосредоточился на жене. Прическа Неллы! В продолжение всей их семейной жизни она неизменно делала венцовую завивку, и шапки сидели у нее на голове, словно колеса посередине венка. Лео никогда не допытывался, но был уверен, что такая форма прически шла из девчоночьей поры. Возможно, первый ее поклонник, который решился проводить Неллу домой со школьного вечера, промямлил что-нибудь о красоте ее кудрей, и его неловкое признание в любви навеки въелось в ее душу. Менялись времена и моды, Нелла давно уже достигла среднего возраста, развелась, вновь вышла замуж, вырастила дочь-подростка, но свой венец на голове носила по-прежнему, как предписанный святой нимб. Возможно, что прическа эта помогала Нелле сохранять иллюзию собственной неизменности? Надо отдать должное Нелле — ей это почти удалось, женщину, лившую слезы, трудно было назвать увядшей.
Сейчас было самое время похвалить жену, восхититься ею, внушить желание не меняться и дальше — какая польза от усилий, если их не замечают?
Лео смягчился. Ведь случалось и раньше, что заиндевелая полоса ничейной земли между ними вдруг исчезала, жена подлезала к нему под мышку, подбирала под себя ноги и, глубоко вздохнув, несмотря на неудобную позу, словно ребенок, мгновенно засыпала, даже щеки под слоем пудры начинали розоветь.
Нет, сегодня Лео останется закоснелым эгоистом. Завтрашние его планы не должны рухнуть, в противном случае накопившаяся усталость снесет преграды приличия и кто знает, что все это повлечет за собой.
Лео не смог бы, дожидаясь начала отпуска Неллы, пребывать в роли праздного хранителя очага, который бродил бы по комнатам, натыкаясь на мебель и нагнетая напряжение. В этой квартире Лео умел лишь функционировать. Несомненно, Нелла попыталась бы по-своему забавлять его, позванивала бы через каждые два часа домой, чтобы отдавать мужу мелкие распоряжения. Может быть, Лео плюнул бы в телефонную трубку и заорал бы не своим голосом. Он бы сам себе стал противен и вечером встретил бы жену с горящими от гнева глазами. Конвейер функционирования был выключен с началом отпуска. Новое нажатие на кнопку вызвало бы короткое замыкание. Одно лишь представление о том, как в ушах вибрируют ненавязчивые, но настоятельные советы жены, словно бы Нелла разговаривает с вернувшейся из школы Анне, уже вызывало ощущение, будто он в ссоре с целым светом.
Тем более что у Неллы должно бы хватить разума понять: пока человек стремится к чему-то, пока ему не дают покоя какие-то желания, то лучшие годы у него еще не остались бесповоротно позади. Моложавость Лео и ей самой на благо. Вряд ли Нелле понравилось, если бы ее муж превратился в дрыхнущего на диване старичка, который время от времени кряхтя поднимается на ноги лишь за тем, чтобы попользоваться самым укромным в квартире заведением.
Нелла сдавленно всхлипнула. Лео подыскивал какой-нибудь компромисс. На весь отпуск останется камень на сердце, если ему не удастся изменить настроение Неллы. Могла бы жена все-таки уразуметь, что муж устал от дипломатии, ибо чем иным является работа среди множества людей, как не беспрестанным приспособлением. Мы должны уметь приспосабливаться, уверяют многие, в противном случае мы погибнем. Демагогия! Сами только и делают, что взрывают, вспыхивают, мечут молнии. Почему-то современные люди все время испытывают какие-то необъяснимые комплексы и жалуются, что другие топчут их достоинство. Собственная ущемленность вызывает подспудное желание и других загнать в тупик. Именно так эти цепные реакции ущемленности и вырываются наружу. Кто-то заметил: кожа у всех словно бы в ссадинах.
— Нелла, и у тебя кожа в ссадинах? — с невинным простодушием спросил Лео.
— Изнутри, — всхлипнула жена.
— Не надо придумывать себе трагедий. Разумнее сохранить собственные силы на случай настоящих испытаний.
Нелла сверкнула на мужа взглядом широко открытых глаз.
— Мы взялись поедом есть себя и перестали наслаждаться маленькими радостями. Будто дурман ударил людям в голову, все требуют для себя какой-то совершенной жизни.
— Не умствуй! — фыркнула Нелла. — Скажи лучше, что тебе до меня и дела нет.
— Что бы я ни сказал, сейчас ты мне не поверишь, — устало ответил Лео.
Лео продолжал пристально вглядываться в мутный рыбий глаз телевизионного экрана, отчаянно пытаясь вышелушить из будничных наслоений тот миг, когда он в последний раз почувствовал к жене нежность, такую, от которой, словно от укола, защемило бы сердце, чтобы вызвать этот миг на серую стеклянную поверхность. Он мог без конца заверять себя, мол, жена у меня приятная, хорошая и умная, но все это не становилось даже суррогатом чувств.
Светлое переживание, казалось, находится рядом, оно должно было вот-вот всплыть в сознании — Лео был возбужден, на лбу выступила испарина. Не может быть, чтобы серые будни в таком огромном количестве производили прах забвения, который смог бы скрыть под своим безликим завалом все захватывающие дух мгновения.
Вряд ли Нелла поняла бы, почему в один из метельных дней прошлой зимой Лео вдруг остановился как вкопанный, чтобы украдкой проследить за собственной женой, увязавшей в снежном месиве. Сама Нелла, пожалуй, и не вспомнила бы этот момент. В лучшем случае пожала бы плечами, мол, чего там особенного, обычная собачья погода, да еще и руки были заняты поклажей, даже волосы с лица не смахнуть было.
Метель вьюжила меж домов, задувая ветер, мокрый снег слепил глаза, Нелла, пригнувшись, упрямо шла вперед. Ее коронообразная прическа намокла, волосы свисали прядями, налипавшими на лицо, шапка обмякла; на сквозняке между домами Нелла выставляла вперед плечи и вжимала в грудь подбородок, не выбирая дороги, шла напрямую через подтаявшие наметы. Встречный ветер относил в сторону сумки и выворачивал руки назад, казалось, конечности не поспевали за согбенной фигурой. Временами Нелла то ли уставала, то ли от бьющего в глаза снега лицо ее нестерпимо зудело и саднило — раза два она подставляла ветру спину и так брела по направлению к дому. Все же, невзирая ни на что, она не упускала цели из виду. Промокшая шуба сбивалась комом над стремительно поднимавшимися коленями — мелкий вьюжистый снег покрывал чулки белым налетом, — Лео скорее знал это по своим детским ощущениям, нежели видел, наблюдая за удалявшейся Неллой.
В этот момент изнеженная горожанка Нелла была ему до боли близка.
Снежные вихри размывали очертания каменных ящиков, Лео подумал о своей квартире: мой дом. Все вдруг обрело равновесие: Нелла входит в переднюю и смеется в зеркало над своим видом — ну прямо мокрая кошка.
В тот же вьюжный вечер Нелла завалила своего мужа упреками.
Нет, это вовсе не было платой за то, что Лео не позволил сегодня жене одержать верх. К утру Нелла проспится и избавится от своей хандры.
Было бы опрометчиво думать, будто человеческая жизнь с возрастом становится проще. Страсти, увлечения, ярость и радости сглаживаются и не изводят человека с прежней силой. В действительности же вся эта морока лишь загоняется глубже и внешне проявляется не столь часто, как раньше. К сожалению, тащить этот воз становится все тяжелее. Беспечность и забывчивость — это светлые кудесники молодости, может, с годами именно их и следует оплакивать? То, что современный человек порывает с воспоминаниями и хмелеет от дыхания грядущего, — пустой звук. Человеку, вообразившему себя способным приспосабливаться, начинают нравиться лозунги, лишенные глубинного содержания.
Нелла, от жалости к себе и оттого, что не добилась своего, могла сейчас со злости подумать: у моего мужа каменное сердце. Зачем я только сошлась с таким типом?
Обманувшиеся в своих мужьях жены всегда думали так. Вот и Нелла, несмотря на всю свою разумность, не смогла открыть чего-то нового.
3
У Лео не было привычки давить на педаль газа. Когда среди мужчин заходит разговор о манере езды — об автомашинах и езде говорили часто, своя карета все еще считалась чудом цивилизации, что предопределяло благоговейное к ней отношение, — всегда непременно находился человек, который подтрунивал, что пожилые люди, известное дело, и поумеренней, и поосторожней. Лео никогда не был сторонником бездумного риска, он этого и не скрывал. Тем более что долгие годы работы проектировщиком приучили его все взвешивать, сопоставлять, сравнивать — с логарифмической линейкой в руках, теперь с более удобным прибором, микрокалькулятором, и этот укоренившийся обычай выводить проценты и коэффициенты позволял ему легко находить оптимальные решения и в повседневной обстановке. Лео ощущал известное превосходство по отношению к людям, не умевшим предвидеть результат своего действия. Поэтому он считал всякого рода метания признаком малоразвитого ума. Отсутствие логики у ретивых лихачей его просто смешило. Шмыгавшая из ряда в ряд машина обгоняла его автомобиль, но перед светофором, дожидаясь зеленого света, они все же оказывались рядом. Даже на глазок оценивая потоки транспорта, и без подсчетов можно было уяснить, что для забитых машинами улиц подходит спокойная и размеренная езда, избавлявшая от резких торможений и стрессовых ситуаций.
На больших междугородных магистралях повторялось то же самое, что и на отрезках городских улиц перед светофором. Плотность движения никому не давала разгуляться, машины были вынуждены двигаться колонной. Но все равно находился кто-то, считавший ехавших впереди себя набитыми дураками и рохлями, и, надавив на газ, принимался обгонять нескончаемую вереницу машин. Вскоре встречный поток вживал его обратно в свой ряд, и ему приходилось вклиниваться, всю колонну пронзала судорога, следовавшие сзади машины вынуждены были тормозить, чтобы одарить проезжим пространством самого умного среди себе подобных.
С детских лет Лео, как истинный эстонец, испытывал гордость за отличительные черты своего народа. Он радовался, что он из тех, чье трудолюбие, сдержанность, усердие и неприхотливость находят общее признание. Шоссе ставило с ног на голову эти старые, милые сердцу представления. Может, из-за векового гнета народ доселе не мог показать своего истинного лица? Откуда исходила эта южная порывистость? Обточенный временем остов характера словно бы переломился, и шипы вылезли наружу. Это огорчало Лео. Он бы ничего не имел против того, чтобы национальный характер изменялся в целом: все стали бы деятельнее, решительнее — меланхоличность и медлительность уже не довлеют над всеми, цивилизованный человек развивает и формирует себя сам, чтобы не оказаться в общем стремительном потоке на мели. Лишь бы хватило на все расторопности! К сожалению, прибавляли только обороты мотору, на своих же ногах и в работе преспокойно можно было плестись. Объяснить разумом поселившееся в исконном характере недоразумение было нельзя. Стоило страстно пожиравшему на шоссе километры ездоку попасть на какую-нибудь пирушку, как тут же он начинал скучать. Возможно, когда люди сходились вместе, их начинала соединять некая тайная связь с пращурами, под сопровождение призрачного варгана люди начинали толочься на месте или терпеливо и неподвижно высиживали за столом, пока под утро не набирали силу. Но стоило снова усесться за руль, как сонная муха преображалась в тореадора — а ну, берегись!
Впереди ехал авторефрижератор, Лео подладился к его скорости, и машина-малышка превратилась в спутника катящейся крепости. Сегодня Лео хотелось получить удовольствие от езды. Он был свободен от обязанности вести с кем-то беседу, никто, нервничая, не ожидал его, так что он мог считаться только с самим собой. Он собирался сделать привал, купить газеты, посидеть где-нибудь в безлюдном парке маленького городка на скамейке, почитать новости, забрести в какую-нибудь столовку, сжевать пару дежурных котлет, выпить стакан молока: эти простые действия должны были повлиять как-то раскрепощающе и живительно. От Вильмута он уже долгое время не получал писем, едва ли тот днем окажется дома, куда спешить? К тому же некоторую неловкость порождало обстоятельство, что он не был знаком с новой спутницей жизни Вильмута. Поближе к весне Вильмут перебрался к этой женщине, ничего, кроме адреса, о новом доме старого друга Лео не знал. Снова иду в услужение к бабе, написал Вильмут в своем давнем письме. В последнее время люди часто сходились по довольно странным мотивам, может, избранница Вильмута — молодая и пригожая женщина, однако Вильмут оставался самим собой: в услужение к бабе — и все.
Впереди был долгий день, лишь к вечеру Лео заедет во двор нового пристанища Вильмута.
Пока все шло, как было задумано.
Выбравшись из центра маленького придорожного городка, машина затряслась по булыжной мостовой узкой, застроенной деревянными домиками улочки. Стрелка указывала, что здесь лишь одностороннее движение, скоро должен был пойти асфальт, затем круг, который развяжет дорожный узел, а после бензоколонки до шоссе останется километра два. Снова придется окунуться в густой поток машин, и опять плавность движения во многом будет зависеть от того, у кого ты окажешься в хвосте. Как раз оказался просвет за экскурсионным автобусом со школьниками. Лео удалось прошмыгнуть в этот прогал. Он ровно газовал, водитель автобуса дело свое знал, машину не дергал, дорога была сухой — ехать одно удовольствие. В небе плыли кучевые облака, то тут, то там над полями проглядывали ослепительно яркие окна, залитые солнечным светом ржаные поля издали выглядели обманчиво желтыми.
Может, у Вильмута и не будет в достатке времени для Лео, небось в который уже раз возится с каким-нибудь комбайном, чтобы тот работал как часы, когда начнется кутерьма уборочной страды.
У Лео не было и малейшего представления о том, какой работой, при множестве своих занятий, обременен этим летом Вильмут, вообще-то где он только не работал, и нигде он особо не задерживался. Прошлым летом Вильмут похвалялся, что найдет себе богатую жену, которая бы не запрещала в рюмку заглядывать, и вовсе перестанет работать. Он, все равно что ветеран, изъеден хворобой, вот возьмет и объявит себя увечным, будет каждый месяц получать на прокорм, много ли ему там надо? За всю жизнь не сумел набить кубышку. Он бы и не знал, как быть, если бы сотенные хрустели за пазухой. Да и что там могут эти деньжатники со своей мошной? Кое у кого в избе бревна законопачены купюрами, но разве от этого они счастливее его, Вильмута?
Автобус заморгал стоп-сигналами. Лео в свою очередь нажал на тормоз и глянул в зеркало, ехавшие сзади тоже сбросили газ. Автобус еще больше замедлил ход, Лео не мог видеть, что там за препятствие. Автобус прямо-таки полз, будто ехал по ухабистой проселочной дороге, стоп-сигналы вспыхнули снова — вся колонна остановилась.
Встречная полоса была свободна, в эту сторону машин не было. Ничего не поделаешь, приходилось набираться терпения. Ехать за большими машинами по-своему беззаботно, но зато сидишь, будто в мешке. Лео приоткрыл дверцу и высунулся, чтобы поглядеть вперед. Голова колонны уходила за поворот. Нетерпеливые водители сигналили в хвосте. Когда начнется движение — вот попрут. Люди не хотят понять, что чем выше блага цивилизации, тем крупнее и недочеты. Возможно, когда-то раньше человек и не затрачивал столько времени на ожидание, как сейчас, в эпоху огромных скоростей и головокружительных темпов. Прежний человек, который ценил свой труд, не имел обыкновения исчезать под настроение на неопределенное время, с тем чтобы другие сторожили его пустое рабочее место и, томясь из-за своих несвершенных дел, гробили дорогое время. Будни все чаще требовали от человека собранности, и постоянное дерганье действовало на многих, как наждак на оголенные нервы.
Лео старался относиться к повседневным невзгодам спокойно. Всегда, когда он оказывался среди нервничавших людей, он думал: вы бы не раздражались и не исходили негодованием, если бы представляли себе, что значит действительно долгое, убийственное ожидание.
Такое ожидание, которое должно бы продлиться день-другой, пусть месяцы; но выясняется, что гнетущее неведение продолжится год — силы на исходе, — и в действительности ты вынужден еще десятки лет жить на пороховой бочке. Поймешь — радуйся — это время тебе подарено, но горло перехвачено, о восторге не может быть и речи.
Вдруг, словно из-за плотины, прорвался встречный поток машин. Они проносились мимо, водители напоминали роботов, никаких оглядок или жестов. Будто вырвались из нагонявшей ужас зоны солнечного затмения, и требовалось время, чтобы приспособиться к обычному свету.
Пронеслось, пожалуй, с полсотни машин, горячий ветер перегаром пахнул в окошко, так же неожиданно противоположная полоса дороги опустела.
Шофер автобуса завел мотор, машина тронулась, Лео пополз следом за автобусом. Жизнь вдавливала в причудливые системы людей, сколько их было вынуждено пребывать над серой лентой дороги, разобщенные жестяными коробками машин люди продвигались черепашьим шагом, меняя постепенное свое местоположение. По обе стороны дороги раскинулся лес, но никому не было дела до освежающей прохлады под деревьями, люди принадлежали к движущемуся конвейеру, было бы немыслимо действовать обособленно. Наполненный смрадным духом воздушный коридор магистралей стал для многих само собой разумеющейся средой обитания.
Шоссе повернуло влево, перед Лео вдруг открылось поле обозрения. Впереди, видимо, произошло несчастье. Мигалка стоящей наискось милицейской машины предупреждающе вспыхивала, какой-то гаишник махал жезлом и направлял сквозь тесную горловину поток машин.
Все усиливающийся звук сирены словно бы наваливался сзади. Водитель автобуса нажал на тормоз. И машина Лео рывком остановилась. Машина «скорой помощи» — одна и другая. Лео стало не по себе.
Может, о ком-то скажут: умер на шестьдесят седьмом километре. Его вечность началась среди пожухлых былинок на обочине дороги. И кто-то из близких скончавшегося будет еще много раз, в течение ряда лет умирать вместе со своим родным, единственным на этой обочине среди пожухлых травинок и все же, понуждаемый жизнью, поднимется на ноги, чтобы занять свое место на конвейере.
Гаишник снова принялся вращать жезлом: проскакивайте побыстрее! Пробка все увеличивалась и увеличивалась, когда она еще рассосется! Статистику дорожных происшествий публиковали, не скупясь, порой под ее впечатлением Лео приходил в замешательство и думал: больше я за руль не сяду. Это противно. Такое решение все приняли бы за шутку, кому выпало счастье в виде автомашины, тот обязан колесить непрестанно. Более ретивые готовы мчаться на колесах даже туда, куда цари пешком ходили. Лишь Вильмут умел противостоять велению времени, подгоняй ему к порогу хоть самый модный и сверкающий лимузин и начни уговаривать, мол, будьте любезны, сударь, — он отвернется. Отказаться от своей свободы? Поезжай туда, поезжай сюда, отвези того-другого, все тобой командуют, каждому надо что-то отвезти или куда-нибудь съездить. И то верно, теперь у Вильмута уже давно не было никого, кто бы им помыкал, он уже изрядное время пребывал в одиночестве, словно лист лопуха посреди парового поля, кто знает, насколько серьезно следовало относиться к его совместной жизни с новой женой, которую Лео не знал.
Лео придвигался все ближе к месту происшествия. Все другие мысли заволокла какая-то мерцающая пелена.
Мельком Лео заметил в автобусе с учениками двух мельтешащих взрослых; видимо, уговаривали детей отвернуться от окон.
Почему самосвал со щебнем вынесло на встречную полосу, где он подмял легковушку? Человека укладывали на носилки. Выброшенная из кузова гранитная щебенка толстым слоем покрывала шоссе. Эти темные пятна там — масло или кровь? Дверца легковой со стороны водителя была распахнута, и оттуда свисала рука. Бессильная или безжизненная? Последнее впечатление погибшего: страшный взрыв, в воздух взлетает гранитная глыба, осколки бьют по стеклу и крыше.
Полосатый жезл промелькнул перед глазами Лео, он чуточку прибавил газу. Ему не хотелось смотреть в зеркало, он приклеился взглядом к медленно катившемуся автобусу, разглядывал вибрировавшую выхлопную трубу, пытался зачем-то запомнить номер автобуса, но цифры путались. В заднем стекле автобуса появилось детское лицо, светлое пятно за запыленным стеклом.
Нога Лео дрожала на акселераторе.
На протяжении своей жизни он неоднократно осознавал всю жестокость безвозвратности. Только что увиденное потянуло мысли на потайные тропинки.
Неужели случай доставил Нелле возможность отомстить?
Утром, уходя, Лео коснулся губами щеки Неллы. Жена делала вид, что крепко спит, ее сжатые веки дрожали. Поведение ее было глупым и мелочным. Все трещины в мире берут начало в непомерном человеческом самолюбии. Слишком поздно люди приходят к пониманию того, что сдерживание себя в любой ситуации является по сути единственной возможностью существования.
Хватит! Когда едешь, то уместны более деловые мысли. Мир цифр, статистика — эти спасательные круги Лео всегда держал под рукой. В пределах республики в дорожных происшествиях в день в среднем погибал один человек. В данном случае, учитывая дневное время и плотность движения, катастрофу и ее результаты видели по меньшей мере человек двести. Принимая в расчет вечерние, а также ночные происшествия, количество свидетелей снижается на несколько десятков процентов. Если немного поманипулировать этими цифрами, то оказывается, что с погибшим тем или иным образом, помимо близких, общались, по крайней мере, полста человек. За месяц жуткая картина запечатлевается в памяти примерно тысячи пятисот человек. В год их может набраться восемнадцать тысяч, тех, кто начнет отыскивать вурдалака в собственной душе. Словно все эти люди побывали на войне, видели искореженное железо и кровь.
Машины прибавили скорость, колонна поредела, впереди шоссе из-за возникшего затора зияла пустота. Машины рвались все дальше от места происшествия. Картины, от которых стынет кровь в жилах, неизменно делят людей на две категории. Одних смерть и запах гари с неодолимой силой притягивают к себе. Будто ищет выхода некая атавистическая страсть истребления. Поезд сошел с рельсов, половодье разрушило мост, рухнул дом — подобного рода события становились украшением бедной впечатлениями жизни и служили бальзамом против досады — я знаю: обуздать ничего нельзя. Лео принадлежал к другому лагерю, однако он не был от этого лучше. Лео стремился бежать от всего этого подальше. Перед собой не было надобности позировать, это было просто малодушием. Едва ли он думал на месте происшествия, что ему хочется бежать потому, что надо сохранить веру: все же мир гармоничен.
Очень хорошо, что Неллы не оказалось в машине. Она бы надолго застыла в неподвижности и с мертвенно-бледным лицом уставилась бы в серый асфальт. Чья-то мимолетная ошибка и неизбежный конец — это ни у кого не умещалось в сознании.
Взгляд Лео на мгновение скользнул по рукам, и он откинулся на сиденье. Пальцы, вцепившиеся в руль, были старчески сухопарыми, белесоватыми, с острыми костяшками.
Лео попытался расслабить плечи, повертел головой, чтобы размять шею, осторожно и нерешительно снял с руля левую руку, расстегнул воротник.
Такие несчастья случаются каждую секунду и повсеместно на земле, убеждал он себя. Возможно, только путешествуя по пустыне на верблюдах, не увидишь подобных картин.
Вся беда заключалась в том, что, предпринимая увеселительную поездку, человек освобождался от трудовых забот, но его не оставляли посторонние думы. Совершенно явно, что большинство водителей, ехавших впереди и сзади, проклинали задержку, которая перепутала их дневные планы. Ни начало рабочего дня, ни его конец, ни обеденный перерыв Лео не подгоняли. Он никуда не спешил. И без того большая часть дороги была уже позади, а солнце только еще начинало клониться к закату. Было бы как-то неловко до окончания трудового дня стучаться в дверь новой обители Вильмута. Здравствуйте-здравствуйте, сказал бы городской вертопрах жене Вильмута, меня зовут Лео, у меня начался отпуск. Здравствуйте-здравствуйте, ответила бы та, только какое мне до вас дело? Вне всякого сомнения, что оглядела бы с подозрением Лео; она приняла в дом Вильмута, а его собутыльники пусть остаются за порогом. После такого вступления нелегко было бы наладить хорошие отношения и остаться на ночлег. Раньше Лео никогда не пускался в дальний путь наобум и на авось. Чего это вообще его тревожит? Неужели с возрастом все труднее приспосабливаться? Собственно, уж как-нибудь обошелся бы. В любом случае он не собирается разворачиваться и возвращаться обратно.
Вскоре проселочная дорога свернет направо, там, должно быть, найдется подходящее место для остановки.
Лео заблаговременно помигал стоп-сигналом, вот уже одна, вторая и третья машины с шумом обогнали его. Прежде чем свернуть с обочины под уклон, Лео внимательно посмотрел на исчезавший меж деревьями прогал. Топей и луж вроде бы не было. Магистрали и его обкатали на вполне современный лад, как только приходилось на свой страх и риск выбирать направление, тут же забывался внутренний протест против шоссейного коридора с его загазованным воздухом; все, что оставалось в сторонке, казалось подозрительным и, чего доброго, даже сулило опасность. Вот ему и пришлось подбадривать себя: он не застрянет с машиной, не будет в одиночку барахтаться в какой-нибудь колдобине, таскать сучья и устилать ими дорогу. Разумеется, в багажнике у Лео хранились про запас необходимые предметы: маленький топорик, брезентовые рукавицы, лопата, два домкрата, несколько обрезков доски, канистра бензина на тот случай, если вдруг потечет бак, и пластмассовый бачок со свежей водой, чтобы помыть лицо и руки. Лео раздражало, если нельзя было немедленно отмыть липкие ладони. В багажнике хранилось и кое-какое другое имущество, при надобности Лео мог махнуть рукой на новое жилье своего друга и спать на открытом воздухе. Крыша над головой и хлеб насущный при себе: маленькая палатка, спальный мешок, надувной матрац, небольшая сумка с консервами, хрустящими хлебцами и котелком, даже пачку чаю и сахар не забыл прихватить. В нашем плотно перенаселенном мире человек чувствует себя как-то увереннее и независимее, если он все необходимое везет с собой. Лео даже пришлась по душе мысль — колесить по Эстонии и ночевать там, где застанет вечер.
Заехав примерно на километр в лес, Лео свернул с дороги и остановился на открытой полянке.
Постепенно человек становится автоматом, подумал он после того, как натянул резиновые сапоги, снял с ветрового стекла дворники и засунул их в ящичек, включил потайной замок и закрыл дверцы и багажник. Как раз там, за кустом, засели потрошители машин, пошутил он над собой, у них только что прошел односторонний телепатический сеанс, и они получили ценную информацию: какой-то горожанин собирается припарковать сюда свою машину.
Лео хмыкнул себе под нос.
Опасное притупление приспособляемости? Аутотренинг оставался единственной возможностью избавиться от склеротического кретинизма.
Сделав несколько шагов по пушистому мху, Лео застыл на месте и засунул руки в карманы. В ушах звенела тишина. Неожиданно его охватило неодолимое стремление помчаться вперед, он представил себя лесным зверем, который несется напрямик через буреломы, ельник и ныряет с головой в кусты, словно бежит от слепней. Но прежде чем сучья бурелома начали его хлестать, у него кончились силы. И все же в теле струилось тепло, в сознании всплывали какие-то приятные обрывки воспоминаний, но у Лео не было желания ухватиться за них. Он вообще отрешился от любых усилий. Брел, покачивался ради забавы, волочил ноги, размахивал руками и шлепал ладошками по стволам сосен. Шершавая кора щекотала кожу. Лео откинул голову назад и смотрел на раскачивающуюся макушку корабельной сосны. Ему казалось, что он раскачивается вместе с нею. Возможно, его одурманивал смолистый дух.
Почувствовал, как бьется сердце. Может, это был обман чувств? Может, удары доносились изнутри ствола? Жизненная сила мощного дерева дает о себе знать: соки земли ритмически поднимаются к верхушке. Лео оперся спиной о дерево и, обдирая чешуйки коры, сполз вниз. Он чувствовал себя уверенно. Дерево словно бы защищало его. Лео положил руки на колени, повернул их ладонями вверх и закрыл глаза.
Казалось, он пребывал в парящем состоянии, сейчас должны были политься смолистые капельки и начаться звездопад, невесомый дождь из звездной пыли сверкает и золотится. Вдруг все становится пустым и несущественным, кроме спокойного дыхания, где-то в глубине начинает что-то проясняться, из невидимых жил наружу прорывается прозрачный родник, журчащая вода дышит свежестью и прохладой.
Голова у Лео склонилась, казалось, он задремал. Лицо опустилось на ладони. Какая-то малюсенькая букашка просеменила между пальцев и исчезла. Видно, взлетела. Сосновая крона сыпала редкими иглами, сквозь отрешенный покой Лео ощущал их едва уловимые уколы, когда они застревали в волосах.
Он сольется с природой. Иглы и сосновые чешуйки покроют затылок и плечи, он будет невидимым. Станет принадлежностью и частицей леса, веточки черники вытянутся выше его бровей, перед лениво прищуренными глазами, среди просвечивающихся на солнечном свету маленьких листочков висят ягоды, которые все набухают и чернеют.
Нет никого, нет ничего. Однажды какой-то нервозный горожанин запер подле проселочной дороги машину. Это было очень давно.
Лео вздрогнул, резко вскочил. Сердце бешено заколотилось. Что это — померещилось? Или было наяву? Ружейный выстрел! В этой тиши? Такой неуместный грохот, рассекший клубок безмолвия.
Галлюцинации?
Лео охватило волнение. Он посмотрел на часы, стрелки почему-то дрожали. Он зашагал без цели, не знал, в какую сторону идти, чтобы выйти к машине. Остановился, попытался успокоиться и сориентироваться. Почему он не оставил на своем пути заметы? Трезвый человек вел себя с опьяненным легкомыслием, шел и раскачивался, петлял по-заячьи, прикидывался мальчишкой, кривлялся, будто придурковатый. Что он будет делать, если заблудится и останется на ночь в лесу без ничего?
Лео возмущенно подумал: я до мозга костей испорченный человек. Недоросль цивилизации. Всегда в руках должна быть какая-то ручка, которая вселяет уверенность: а я мигом вскочу в машину, в квартиру, в контору, под крышу.
Девственный лес? Лео сплюнул. Едва он ступил с дороги в сторонку, как с врожденной сентиментальностью обитателя бетонной коробки уже представил себя частичкой безбрежного леса. Никакой мистики, там, за чахлыми елочками, должна стоять машина, его личная катящаяся крепость. Лео рассерженно зашагал к поляне, шел между деревьями и с ходу поддевал носком резинового сапога сушняк. Глаза стали различать окружающее, стрелки часов показывали, что самое время отправляться в путь. Поздним вечером неудобно сваливаться людям на голову.
Лео вновь принялся деловито возиться с машиной. Привычные движения: в руках тряпка, он протер ветровое стекло. В багажнике нашлась другая, более грязная ветошь, которая годилась, чтобы протереть от дорожной пыли стоп-фары. Отыскав под деревьями подходящую деревяшку, он с ее помощью отжал до конца тормозную педаль и проверил, горят ли сигналы, — запасные лампочки и предохранители у него всегда были при себе. Установив на место дворники, ему оставалось вымыть руки, и можно было ехать.
Осторожно разворачивая машину, Лео проследил, чтобы нижние сухие еловые ветки не поцарапали краску на кузове.
На прямой Лео прибавил газу, то и дело поглядывая налево и направо. Между деревьями никого не было видно. Настроение оставалось каким-то муторным: случайные пули, случайные типы. Лео хотелось поскорее выбраться из леса, здешние места вдруг показались ему враждебными и чреватыми опасностями. Шальные типы постреливают шальными пулями. Нет, обман чувств исключался, он был в этом уверен. Треск угодившей под ноги какому-нибудь лесному жителю ветки не пронзил бы так его слух.
При выезде на шоссе Лео притормозил, почувствовал облегчение, когда увидел мчащиеся по дороге машины. Он старательно присматривался, чтобы выбрать в потоке нужный просвет. Вдруг на него опустилась тень — неужто снова обман чувств? Двое мужчин в форме встали перед капотом. Лео выключил зажигание и опустил стекло. Мужчины взяли под козырек и попросили его выйти из машины.
— Мы хотим заглянуть в вашу машину, — сказал тот, что пониже.
— Вы можете протестовать, — добавил другой. — В таком случае поедем вместе в отделение милиции.
— Нет, я не собираюсь возражать, — буркнул опешивший Лео, — только предъявите ваши служебные удостоверения.
Тут же он смог убедиться, что пристали к нему вовсе не жулики. На всякий случай Лео запомнил их фамилии.
Он открыл все четыре дверцы и поднял крышку багажника.
Проезжавшие машины сбавляли скорость. Ехавшие с любопытством поглядывали на то, что происходило при выезде на проселочную дорогу.
Мужчина ростом пониже привычно сунул руку между подушками заднего сиденья, поднял резиновые коврики на полу, ощупал низ машины. Лео стоял с глупым видом и не знал, что и думать обо всем этом. Второй мужчина копался в багажнике, вытаскивал канистры, переставлял и прочие вещи, затем сложил все обратно на свое место, резко захлопнул крышку и сказал:
— Извините за беспокойство.
— Скажите, наконец, что вы ищете?
— Пропавшее ружье.
— Я никогда не стрелял в животных, — громко засмеялся Лео.
— Доброго вам пути, — пожелали они и отдали честь.
Включив зажигание, Лео глянул в зеркало заднего обзора. Один из мужчин держал в руках записную книжку, видимо, записывал номер машины.
Отъехав на некоторое расстояние от проселочной дороги, Лео снова рассмеялся — это был явно отзвук недавнего хохота. Поистине нелепая картина: человек в одиночестве сидит в машине — и смеется. Неуместное ребяческое торжество по пустячному поводу, будто намеренно провел за нос должностных лиц.
Видно, гоняются за каким-то отъявленным браконьером. Задние рессоры у машины Лео были подозрительно осевшими, милиционеры надеялись найти в багажнике тушу косули. Или впопыхах освежеванную дымящуюся лосиную ляжку.
Может, ищут опасного убийцу? Улизнувшего преступника? Браконьеры действуют повсюду. Чтобы выследить их, не хватит никаких охранников.
Лео посерьезнел. Отпуск его начался довольно необычно. Собственно, на такие факты не следовало обращать особого внимания. Вильмут махнул бы рукой. Беда крылась в самом Лео. Переживаемое десятилетиями состояние настороженности обострило его восприятие. Он все время старался избегать тревожных обстоятельств. И неблагоприятных совпадений. О бездумности своей юношеской поры он мог лишь мечтать.
В последнее время он по любому пустячному поводу закусывал удила. Тысячи раз объяснял себе, что у него все меньше причин бояться чего-то, но ведь таким образом не вытравишь из сознания того, что въелось туда с течением времени.
К счастью, никто не знал, что от былого Лео на самом деле остались одни отрепья. Вильмут лучше выдержал испытание временем, хотя и выглядел рядом со статным Лео тщедушным стариком.
В свое время ни у кого из них не было недостатка в жизненной силе, они не ждали смиренно, пока окажутся между молотом и наковальней.
Осенью сорок четвертого года он и Вильмут поняли, что прорехи в своем прошлом им не залатать, в действительности их игра закончилась вничью, нет смысла ждать, пока кто-то укажет пальцем и начнет болтать, — самое время смазывать пятки. В молодости они по своей глупости верили, что мутная вода быстро отстоится, вскоре они опять будут дома. Умные головы советовали: уходите в город, учитесь какой-нибудь серьезной профессии, работайте усердно, вкалывайте вовсю, может, и выйдете сухими из воды. Они поняли, что человек растворяется в чужой среде так же, как кружка колодезной воды в болотной ямине. Это им и требовалось — ни друзей, ни врагов, которым было бы до тебя дело.
Так они и нырнули в город, каждому оттягивал руку деревянный чемодан со шматами сала и домашними караваями. Какой-то родич Вильмута пристроил неотесанных деревенских парней на автобазу — обучаться слесарному делу. Самолюбие свое они оставили под домашней крышей, при помощи послушания и усердия им удалось завоевать доверие старых рабочих. Их хвалили, мол, настоящие ребята, если прикажут, вылижут и уборную. Работа и без того была тяжелой и грязной, к вечеру оба оказывались по шею вымазанными маслом и солидолом. В конце рабочего дня они еле плелись домой, колени подгибались, ноги отказывались нести их на улицу Катусепапи, где они жили в каморке под бог весть когда смоленной крышей.
К весне они настолько пообвыкли, что смогли показать себя в еще более лучшем свете, и начали посещать курсы шоферов. В сиреневых сумерках летних вечеров на ухабистых окраинных улицах они упражнялись в езде. Коробка скоростей скрежетала, тормоза то визжали, то рвали: учебная машина была еще той развалиной. Эта сработанная топором и заезженная вдрызг громыхалка будто назло останавливалась как раз на перекрестке и на трамвайных путях, приходилось до седьмого пота накручивать заводную ручку, а водитель трамвая своим нетерпеливым позваниванием словно потешался над угодившим в беду шоференком. Машина времен царя Гороха своими выходками вконец измучила их с Вильмутом, случалось, они вымещали зло пинками по скатам и обзывали тарахтелку старым боровом. Наконец это настолько вывело их из себя, что они пошли на прием к директору автобазы: пусть им разрешат, они прихватят воскресенья и отремонтируют развалину. Инициативу парней одобрили, старые рабочие посмеялись, отыскали припрятанные на черный день запасные части и помогли приспособить для мотора. Их начинание обратилось почти что удовольствием, треклятый боров набрал приличные обороты и перестал заниматься свинством. Лео и Вильмута на собрании похвалили, пригласили газетчика, чтобы увековечить это великое достижение. Газетчик поставил их с Вильмутом по обе стороны машины, и они оперлись руками о крылья. Парни что надо, оба с надвинутыми на лоб козырьками. Лео эта неожиданная слава была не по душе. Тоже мне кружка воды в болотной ямине! К счастью, бумага в ту пору была паршивой и печать никудышной, фотография в газете получилась размытой, вдобавок опечатка исказила фамилию Лео.
К осени оба стали шоферами и начали мотаться с заготовителями по республике. В большинстве в кузове у них лежали туши животных, которые отправлялись в колбасный цех, по окончании рейса Лео и Вильмут обычно сидели в кругу колбасников, вместе выуживали из котла теплое мясо и с хрустом заедали луком терпкую пищу. На карточном довольствии они бы не выдержали этих изнуряющих поездок. В ноябре началась перевозка картофеля. Световой день был коротким, бывало, что небо вообще затягивала сумеречная пелена дождя; проселочные дороги раскачивали машину на расплывшихся рытвинах, шоссе к ночи становилось настоящим катком. Они с Вильмутом старались ездить в паре, чтобы в случае беды под рукой была подмога.
Однажды непроглядной ночью они с Вильмутом тащились друг за дружкой к городу. Уже с вечера не было никаких надежд на тормоза, холодная изморозь покрыла асфальт коварной коростой. Когда наступила ночь, стало еще хуже, машина скатывалась, словно сани, не имело значения, что руки судорожно сжимали баранку. Красноватый отсвет слабых фар рассеивался в двух шагах. Глаза от напряжения резало, на ухабах метались обманчивые световые круги. Далеко впереди, будто светлячок, едва виднелся хвостовой огонек машины Вильмута.
Вдруг и этот светлячок погас. Лео помнил все повороты на шоссе, здесь такого не было. В то время шоссе вихляло между хуторскими наделами, но именно тут асфальтовая лента была напрямик, будто по шнуру, протянута через болото. От знающих людей Лео слышал, что болото поглотило гору гравия, лишь на шестиметровой глубине лежало твердое основание. Кажется, проще было построить мост.
Лео сбавил газ, боясь, что ненароком проедет в кромешной темноте мимо своего попавшего в беду друга. Он опустил стекла, стараясь навострить свои чувства, и сумел-таки остановиться возле сползшей в кювет машины. Не выключая мотора — кто знает, удастся ли потом завести, — он пошарил за сиденьем и извлек оттуда трос: из такой-то беды крепкие ребята выберутся. Поскальзывая и хватая руками воздух, Лео кинулся к машине Вильмута — неужто уснул, что не подает голоса? Вильмута в кабине не оказалось. Лео забеспокоился о заготовителях, натянув овчинные тулупы, они решили втроем протрястись весь путь в машине Вильмута среди мешков с картофелем. Понятно, почему они держались вместе и отвергали теплые кабины: когда прикладываешься к бутылке с самогоном, то и путь становится короче. В тревоге Лео забрался в кузов осевшей набок машины и принялся на ощупь тормошить мешки с картофелем — вдруг сдвинувшийся груз придавил мужиков? Он звал их по именам, откуда-то из-под какого-то вороха послышалось бормотание и стон, ну прямо хоть плачь, положение было хуже некуда. Лео возился изо всех сил, пока один из пьяных заготовителей не гаркнул:
— Черт, не стаскивай одеяло, холод пробирает.
Разозленный Лео послал их к дьяволу, то и дело оступаясь и едва не падая головой вперед, в темноту, он наконец нащупал сапогом край борта и спрыгнул. Удачно удержавшись на ногах, он все же посчитал за нужное позвать Вильмута.
Никто не отозвался.
Наконец какому-то пьяному заготовителю надоел голос Лео, и он пригрозил:
— Получишь по шее, если не дашь поспать.
Растерянный Лео понял, что не в его силах что-либо предпринять, забрался в кабину, свернулся клубочком на поскрипывавшем клеенчатом сиденье и решил дожидаться рассвета.
Осеннее утро не торопилось с приходом. Лео то и дело просыпался, прислушивался, вглядывался в темноту — мир вымер.
Невозмутимость Вильмута и раньше не раз возмущала Лео. Обычно они возвращались с работы вместе и топали по скрипучей лестнице вверх в свою каморку под крышей. Иногда Вильмут весьма искусно отставал от друга, неожиданно Лео замечал, что говорит сам себе. Оглядывался — и духа Вильмута не было. Они были одногодками, но Лео все же считал необходимым приглядывать за другом и выговаривать ему. Он отвечал за них обоих, снять с себя этот груз он не мог. Вильмут все чаще выкидывал паскудные шутки: напивался где-то в забегаловке до риз, вваливался поздно ночью в комнату, ворочался в сапогах на своей скрипевшей железной кровати, со стоном поднимался с нее, шел, громыхая и спотыкаясь, за дверь и рыгал над помойным ведром, туда же оправлялся по-малому, а брякнувшись снова в кровать, принимался хныкать, словно ребенок. Рассерженный Лео вынужден был утешать его. С похмелья Вильмут грозился повеситься на чердаке. Решимости у него не хватало, дело никогда не доходило до того, чтобы приниматься искать веревку. Наоборот, обрушив на Лео свои страшные слова, несчастный Вильмут как-то сразу обмякал и становился еще более жалким: не иначе, воображал, как его тщедушное тело болтается в петле. Лео знал, как подводить черту: доставал припрятанную бутылку водки и давал другу глотнуть на поправ души. Но Вильмут и после этого не желал засыпать, его охватывала болтливость, и он нуждался в слушателе. Он с благоговением вспоминал о родимом хуторе, обласкивал словами каждый уголок двора и каждый закуток в постройках; медленно подбирая краски, он рисовал картину отцовского дома, словно забыв, что они с Лео из одной деревни и все там обоим одинаково хорошо знакомо.
Вдоволь повздыхав, Вильмут перестраивался на другой лад. Он обрушивался на город, где нет ничего, кроме грохота и гари, проклинал войну, погубившую его жизнь. Теперь он словно листок на ветру. Вильмуту страшно нравилось представлять себя пожелтевшим листком, мощный порыв ветра носит его, и он не в силах ему противиться.
Им обоим было тогда всего по двадцать три года.
Перед тем как наваливался сон, Вильмут имел обыкновение говорить об отце. Начинал тихо и задумчиво, но тут же голос его наполнялся бахвальством. Причина для гордости у него имелась: отец его прошел две войны и вернулся домой без единой царапины, с наградами на груди. Глаза Вильмута загорелись: пусть Лео назовет еще кого, кто заслужил бы и Георгиевский крест, и Крест свободы[1]! Лео энергично тряс головой, выражал таким образом признательность как Вильмуту, так и отцу его. Сам же думал при этом о превратностях жизни: человек с наградами слыл в округе известнейшим во все времена горем луковым. Вильмут гнул свое. А мы с тобой? Война вываляла нас в грязи, и теперь мы живем в щели, будто тараканы. Возражать другу было бессмысленно.
Излив душу, Вильмут с храпом засыпал.
В таких случаях сон у Лео был окончательно испорченным. Утром он с трудом заставлял себя подниматься на звон будильника, сгонял холодной водой дрему, оставлял Вильмута отсыпаться, а сам с завернутым в газету куском сала под мышкой несся со всех ног к знакомому врачу. С докторской справкой, которая на этот раз вновь выручала Вильмута, Лео мог спокойно идти на работу.
Уже в те далекие времена Лео пытался жить будущим, перетасовка прошлого бередила душу и заводила в тупик. У человека нет возможности перематывать нить времени в обратную сторону и обращать в небыль свершенное. В те времена, возможно, каждый второй хотел бы умчаться назад в предвоенные дни, чтобы немного собраться с духом и, обретя миг спокойствия, отправиться затем более зрелым и здравым сквозь грязь и огонь предначертанной дорогой.
На том осеннем шоссе, когда утро все медлило выходить из-за горизонта и дрожавший от холода Лео крючился на водительском сиденье, перед ним вновь и вновь возникала одна и та же картина: туман и темнота разом рассеиваются — и на суку хилой, вросшей в мох сосенки болтается тело Вильмута. Картина была удивительно ясной, как бы в раме, словно бы кто нарисовал ее острым и твердым карандашом. Лео отчетливо видел сапоги на вяло повисших ногах Вильмута, подметки были подбиты двумя рядами светлых шпилек. Те же галифе, Вильмут еще жаловался, что дерюжная материя дерет тело. Купленная на толкучке поношенная кожанка, видно, еще до войны кого-то грела и на плечах повытерлась.
Лео нащупал во сне свою кепку, хотелось обнажить перед другом голову.
«Я бы помог тебе!» — безмолвно крикнул Лео и проснулся.
Он выбрался из кабины, слава богу, рассветало. Ледяной воздух влился в легкие, пробирала дрожь, Лео засунул окоченевшие руки глубоко в карманы. Обошел вокруг машины, стукнул сапогом по скату и, поскользнувшись на обледенелой дороге, грохнулся на спину. Поднявшись, потер горевшие огнем локти и вдруг ужасно обозлился.
Охваченный до этого страхом, он теперь стремительно сошел с дороги, перепрыгивая с одной пружинившей кочки на другую, и стал оглядываться по сторонам.
Полог тумана был накинут на все болото, верхушки чахлых сосен словно бы плыли в воздухе, земля в нескольких шагах утопала в молоке. Подернутые изморозью травинки шуршали, под кочками, утыканными ледяными иглами, хлюпала вода — а что, если Вильмут угодил в какую-нибудь яму.
Постепенно злость улеглась, успокоившись, Лео поискал ногами более твердую почву, перепрыгнул через ржавую полоску воды и обломил себе для опоры сухой сук. Чем дальше от шоссе, тем гуще становился туман и тем призрачнее все вокруг.
Лео едва не столкнулся с Вильмутом. Пыхтевший Вильмут тащил на загорбке овцу.
— Несчастная скотина! — сплюнул он. — Мужики слабо связали ноги. Когда машина сползла в канаву, она и высвободилась. Полночи на нее положил.
Эта болотная история обсуждалась потом не раз. Вильмут любил вспоминать ту ночь. О том, как он заблудился в темноте, наощупь ломая ветки, сложил из них себе сухое сиденье; чтобы разжечь костер, не было спичек. Под утро овца сама пришла к нему, пресытилась свободой и стала искать человека. Когда постаревший Вильмут вспоминал об этом, глаза его увлажнялись. В тот раз, везя в кузове овцу, Вильмут преследовал лишь интересы желудка, баранина ему очень даже нравилась. Удивительно, но потом Вильмут уже не помнил, то ли он в городе засолил мясо, то ли сбыл овцу живьем.
Тогда, на болоте, Вильмут поразил Лео — он ощутил в друге некую извечную прародительскую стойкость: человек, скрученный из сосновых корневищ, невозмутимо тащит на спине жертвенную овцу. Лео понял, что судьба не уготовила роль сильнейшего безраздельно ему. В глубине слабостей Вильмута скрывалось крепкое ядро. Сам Лео ни за что бы не стал из-за овцы бродить в темноте по болоту, искать в стоге иголку.
Позднее, при повторявшихся в течение многих лет приступах страха, когда жизнь укладывалась в цепенящее ожидание и Лео верил, что его постигнет крах, потому что сейчас — всего лишь миг! — и навалятся неведомые ему, но прозорливые, копающиеся в наслоениях прошлого люди, выделят из неразберихи событий какой-нибудь один момент — и они с Вильмутом, словно букашки, станут метаться по листу белой бумаги, — в этих случаях воспоминание истории с овцой помогало освободиться от проплывавших перед глазами кровавых кругов. Вильмут, с давно съеденной овцой на загорбке, выглядел человеком твердым, который в решающий миг не сробеет и не станет ныть и мямлить.
4
Первый миг встречи с вековым деревом? Страх заползал в душу — почти полвека тому назад. Лео сидел в телеге рядом с отцом. Бесконечная белая лента дороги вилась с пригорка в лощину и взбиралась на бугор. Отец повел разговор о дереве задолго до того, как можно было разглядеть вдалеке верхушку исполина. На всю жизнь запомнилось, как отец подогревал ожидание, подготавливал Лео к большому переживанию.
Возможно, возраст дерева исчислялся сотнями лет, множество раз по весне корни его словно бы начинали шевелиться в оттаивавшей земле, чтобы вобрать в себя соки жизни и погнать их вверх с такой силой, которая бы донесла пробуждение до кончика каждого самого тоненького росточка, до сердцевины судорожно сжавшейся с зимы почки. Вдруг — это всегда происходило в одну ночь — пробуждалось оцепенение темнеющей кроны, с некоторой угрозой выставлявшей свои ветви, и смягчалось нежной зеленой вуалью.
Несчетное множество раз суровый мороз губил его сучья; но вновь приходило лето и упрятывало засыхающие ветви в шелестящую крону до тех пор, пока жестокий осенний шторм не начинал трепать дерево, не обламывал с треском ненужные ветки и не откидывал их.
Дерево перевидело всякие времена и разных людей, но в особенности множество птиц: если бы все отдыхавшие за десятки лет на его ветвях пернатые несметной стаей разом слетелись и опустились на дерево — шишковатые, твердые, как камень, сучья не смогли бы удержать эту массу, если бы все певшие десятками лет в его кроне птицы взялись хором щебетать, свистеть, заливаться трелями, щелкать, каркать, курлыкать — жилистая древесина векового дерева не вынесла бы такого пронзительно громкого звука и, брызнув соком, разодралась бы на части, как если бы молния вбила клин в самое ее сердце.
Таким старым было это дерево, и столь необозримым был его жизненный опыт.
Дерево видело, как менялся ландшафт: росший поодаль лес погиб и народился вновь: деревья рубили, трубы дымились, рощи и перелески слизывались расширявшимися полями — деревья все отступали, дали все больше прореживались, корчевали даже поросль возле пней. Вскоре тут уже отфыркивались, переполняясь весенним буйством, лошади, тянули плуг, переворачивали землю. На колеса времени натягивали тракторную гусеницу, жаворонки заливались над дымными облаками; но грохочущие машины объезжали вековое дерево и запахивали его разметанные ветром листья, удобряя ими землю.
Они с отцом сидели под деревом и слушали шум его необъятной листвы: Лео до сих пор помнил чистоту и благоговейность этого момента. Странное ощущение, будто прикосновение вечности. Было удивительно прекрасно чувствовать: мир к тебе столь великодушен. Редкие мгновения детства так ясно запечатлелись в памяти Лео.
Теперь за рулем, и уже кто знает в какой раз приближаясь к дереву, Лео испытывал тревогу. Холм еще скрывал дерево, от предстоящей встречи щемило сердце, и все же нетерпение подгоняло Лео. Еще несколько мгновений, и впереди возникнет крона дерева. Она самоуверенно вставала на фоне неба, словно утверждая: в мире все можно расставить по местам, великое и мелкое. Вековое дерево высится над жизненными дебрями. Оно подавляло своим совершенством. Его существование вынуждало стыдиться собственной жизни.
Лео не знал, в силу чего он ощущал над собой власть дерева.
Ему не хотелось там задерживаться. То, что принадлежит детству, пусть в нем и останется. Ушедшее мгновение невозможно пережить вновь.
Тогда они с отцом оставили лошадь далеко в стороне и побрели к дереву по высокой траве.
Со временем дорога все больше смещалась к вековому исполину, будто ее белесые изгибы были силой согнуты в дугу и постепенно стремились принять свою первоначальную форму; оптимисты уверены, что всякую кривизну нужно выпрямлять, этого требуют все законы бытия.
Вытянутая изгибами дорога постепенно словно бы стягивалась, становилась все короче и шире. Дерево, казалось, притягивало к себе дорожное движение. Возможно, виноваты были люди, эпоха подогревала страсть причастности, все таинственное и загадочное должно было стать подвластным разбору — почему это завораживающее дерево не находится под рукой? Существуют тысячи неписаных правил жизни, как разумных, так и парадоксальных, они то и дело меняются между собой местами в переднем ряду.
Удовлетворяя всеобщую страсть познания, человек все реже заглядывал в самого себя.
Совершенство векового дерева подавляло Лео.
Рядом с лучистым мгновением детства поставить было нечего.
К настоящему времени шоссе настолько придвинулось к вековому дереву, что обочина, словно стенка, подпирала корни исполина.
Люди, наверное, верили, что они не причинили дереву зла; возможно, лишь с одного края пострадало необъятное подземное корневище, охапка корешков никакая не потеря. Зато в землю забили кол, на котором красовалась дощечка с изображением листочка этого же дерева.
Под деревом то и дело останавливались люди на машинах или автобусах, с восхищенными возгласами рассыпались они под мощными ветвями; взявшись за руки, обмеряли охват дерева. Порой — что редко случалось — садились под шелестящей кроной и предоставляли отдых усталым ногам. Особенно часто задерживались у дерева затем, чтобы выстроиться в ряд перед ним. Едва щелкнув затвором аппарата, тут же спешили обратно в машину. Что за беда, если при этом утаптывалась земля под деревом, у запечатленного мгновения жизни тоже имеется своя ценность, свое достоинство и неповторимость.
Сменялись люди, средства передвижения; тракторы, которые проводили борозды на раскинувшихся вокруг дерева полях, с годами становились другими. Асфальт покрывался выбоинами, и на него накладывали новый жирно поблескивающий слой — шоссе все выше поднималось над землей. Казалось, что вековое дерево вдруг постарело и ссутулилось. Появлявшиеся у дерева люди расколупывали ногтями и без того потрескавшуюся кору, будто надеясь отыскать под корой таинственные письмена. Жизнь почему-то становилась все более скучной, все ждали сюрприза.
Дорога, будто стрела, устремлялась по взгоркам к дереву. Исполин приближался с устрашающей быстротой. Еще ненадолго он скрылся за бугром, топорщилась одна макушка; затем машина вырвалась из последней низины, крона исполина потянулась кверху, будто взлетела. И вот уже великан в полной красе высился на своем извечном месте, на фоне безбрежного неба, и казался столь мощным, будто это было не живое дерево, а память о дереве.
Лео вцепился в руль — возле дерева с ним должно было что-то случиться, — нет, пронесло, исполин остался позади…
Сегодня Лео был не в лучшей форме. Вильмут рядом с ним вроде бы дремал. Вековое дерево и необъяснимая тревога! Чего вздор несешь, сказал бы Вильмут. Природа действует на человека успокаивающе, вот так! Чувство долга? Перед кем? Перед самим собой? Разумные люди занимаются лишь теми долгами, которые можно выразить в деньгах.
Лео расслабился и сразу же ощутил усталость. Эти несколько часов, которые он проспал, не освежили его. Наверное, и хмель еще не совсем выветрился. Вечером они себя не ограничивали.
Вильмут встретил его с распростертыми объятиями.
Он стоял на непривычном месте, на чужом крыльце, над ним, прильнув к навесу, извивался дикий виноград, светло-зеленые молодые побеги которого щекотали давно уже голую макушку Вильмута. Вильмут радостно смеялся и переступал по цементной ступеньке, будто выбивал ногами дробь на барабане. Он провел гостя через веранду в комнату, на пороге Лео помедлил, чтобы проверить свое беглое впечатление, — да, в самом деле, множество комнатных цветов на продолговатом столе под окном словно ожидали чего-то. Цветы стояли почему-то вперемежку, чахлые и роскошные, высокие и низкие. Они явно были снесены сюда давно, со всего дома, то ли для пересадки или чтобы выбросить. Лео понял, что новая подруга жизни Вильмута уже не молода и что она отсутствует. Лео почувствовал себя неуютно, ему хотелось сказать семенившему по комнате в толстых носках другу: давай-ка зададим стрекача. Его охватывало ощущение, что оба они без спроса вторглись в чужой дом. В самоуверенном хозяйничании Вильмута чувствовалась неестественность. Он играл в этом доме роль хозяина. Прежде чем он нашел нужные столовые приборы, хлопнули дверцы нескольких шкафчиков. Еда тоже оказалась случайной. Вильмут извинился; жена в больнице, а сам он пользуется столовой. Собрав скудный ужин, Вильмут посчитал нужным посетовать на женщин, постоянно выдумывающих себе болезни и ложащихся в больницу именно тогда, когда следует сажать в печь пироги, чтобы принять редкого гостя.
Пропустив первые рюмки, они почувствовали себя уютнее.
Лео с аппетитом жевал холодную буженину и старался внушить себе: настали отпускные радости.
Очень хорошо, что между кухней и комнаткой не вышагивала супруга Вильмута, чьи пытливые взгляды он ощущал бы затылком. Наконец-то он мог чувствовать себя свободно: ни условностей, ни предубеждений, ни вынужденных приличий. Уж Вильмуту не придет в голову следить за его словами, чтобы выбрать подходящий случай поиронизировать. В городе интеллигентные подначки считались приправой к беседе, и Лео это основательно приелось.
Мимоходом, хоть и с известным превосходством, но все же сочувственно поведав о своей жене, Вильмут перевел разговор на засуху. Все сохнет? Вянет? Столько времени не было дождя! Лео не выказал своего удивления, увы, он и не заметил, что последний месяц был таким скупым на дождь.
Однако Вильмуту засуха причиняла просто боль. Казалось, его собственные жизненные соки иссякали и кожа высыхала подобно травинкам и листьям деревьев.
Вильмут без конца рассказывал о летней жаре, угнетавшей все и вся. На обочине гравийной дороги под клейким слоем пыли поникли кусты, этот груз можно было стряхнуть лишь силой. Земля все более ссыхалась, голой ногой и не ступишь по комьям, спекшаяся поверхность была такой же колкой, как обожженная глина. Высыхали колодцы, на огороде даже сорняки не росли. Наши люди привыкли к влаге, объяснял он Лео, как далекому гостю, когда ветер поднимает с поля тучу пыли, забивает рот и глаза, начинаешь исходить злостью. Мужики только возле магазина и торчат. Когда привозят водку, ящики мгновенно опустошаются. Тут же за домом, между пыльными лопухами, бутылка идет по кругу, но, несмотря на выпивку, задубевшие лица мужиков остаются мрачными. Чертыхаются, то и дело набиваются на ссору.
Вильмут рассказал, как два здешних мужика средь бела дня и на прямой дороге столкнулись тракторами лоб в лоб, как будто хотели протаранить один другого. Начальство в отчаянии, кто кроет на чем свет стоит, кто ходит к магазину упрашивать: мужики, бросайте бутылку, беритесь за работу. Когда загорелся склад травяной муки, у зоотехника случился инфаркт. Вильмут все удивлялся — и чего зоотехник принял так близко к сердцу. Это под директорским задом горячие угли разожгли. Дело начальства, сам бог велел им изворачиваться. Если бы они догадались набраться терпения, все пошло бы на лад. Пару хороших дождей — люди бы успокоились и дальше бы вкалывали.
Они все сидели и выпивали, даже у Лео после рассказа Вильмута пересохло в горле, перекаленный воздух вызывал кашель. И ему начало мерещиться то блаженное утро после долгожданного дождя. Чтобы можно было натянуть резиновые сапоги и надеть на голову кепку. И идти — куда? Просто топать по мокрой траве, пусть ведут ноги, главное, вволю надышаться пахучим воздухом.
Над столом кружила и жужжала назойливая муха.
Лео украдкой поглядывал на своего старого и уставшего друга и грустно думал: так, значит, это мы о засухе говорим.
Лео вдруг оживился, за окном послышался легкий шорох, будто по жести пробежался осторожный и робкий воробышек. Порыв ветра тут же распахнул створки окна, вскинул занавески, свежий ворвавшийся ветер привел в движение застоявшийся воздух, где-то за холмом загрохотал гром, и тут же зашуршал дождь, принялся оживленно плескать, и через несколько мгновений на землю уже просто низвергалась вода. Дом утопал в рокоте, все отступало перед шумно стекавшей водой, с небес разверзся гигантский водопад.
Лео и Вильмут распрямили спины, жадно уставились друг на друга, будто только что встретились, на лицах проступила улыбка: а славную мы выкинули штуку — накликали дождь. Ливень словно бы размыл в них нечто, разное образование и жизненный опыт в этот момент не имели ни значения, ни веса, все углы сгладились, груз прожитых лет слетел, они вновь стали деревенскими мальчишками, чьи души горели жаждой действия, и нечего было бояться разногласий. В этот миг их словно бы направлял один и тот же мозг, подававший обоим одинаковые команды. Они метнулись к окнам, захлопнули створки, вода стекала в комнату; энергично защелкнули запоры. Затолкали стулья под стол, будто бушевавший за окном поток мог подхватить их и унести с собой. Не сговариваясь, стянули с себя рубахи, стащили с ног носки и швырнули их без оглядки в угол. Затем сбросили брюки и выбежали на улицу, шлепая голыми ступнями, выскочили на середину лужайки и отдались на милость ливню.
Дождь лил будто из ведра, заставляя их пошатываться, они от удовольствия покряхтывали, растирали ладонями плечи, грудь, руки. Затвердевшая от засухи земля сперва не принимала потоков, во дворе образовалась лужа, грозившая превратиться в пруд. Они шлепали по луже и ногами поднимали волны. Возле ступней извивались травинки, будто водоросли.
Вдали по шоссе полз одинокий грузовик, его огни едва пробивали стену воды, снопы света расплывались в мутные пятна. Свет фар напомнил Лео о его машине, он подбежал к ней и принялся тереть ее. С мальчишеским азартом он распластался на капоте и стал обмывать ветровое стекло, лик машины должен сиять. Лео никак не хотелось прекращать своего занятия, особенно приятно было водить рукой по выпуклому стеклу.
Вильмут стоял посреди лужи и корчился от смеха, живот его трясся. На том и кончились их общие действия, они снова стали каждый самим собой.
Покружив напоследок по луже, ноги волоком, они наконец пресытились уже поклевывающим по шее дождем и потащились по ступенькам крыльца наверх, постояли под навесом, перевели дух, лениво подрыгали ногами и потрясли руками, дали воде стечь с себя.
В комнате они приняли еще по стопке-другой, чтобы согреться, а потом заснули праведным сном, отдыхая от вина, дождя и дружеской встречи.
Утром Лео проснулся от громыхания. В глаза ударил яркий свет. Охватило какое-то угрызение совести, болела голова. Чем-то придавило ноги. Лео глянул, это была не кошка, а вышитая подушка, свалившаяся на него со спинки дивана. Тут же, возле стола, убиралась какая-то женщина в стоптанных мужских туфлях, хлюпавших при ходьбе. Женщина двигала по столу плетенную из прутьев корзинку и собирала в нее бутылки, остатки еды, чашки и тарелки, ножи и вилки — все вперемешку. У Лео вспыхнула неприязнь к незнакомой женщине, в нем неожиданно заговорила хмельная злоба. Именно подобной породы женщины стали вдруг всюду плодиться. Резко очерченный рот, всегда кудлатые волосы, помятое сзади платье, уродливые, открытые чужому глазу складки на подколенках, они словно бы упрекали: смотрите, я все время должна гнуть спину, нет у меня времени выпрямиться, все только обихоживай вас. Таких можно было встретить на вокзалах и в магазинах, их было в избытке в общественных учреждениях с их пыльными полами, и им доставляло особое удовольствие, накинув на швабру изодранную тряпку, волочить ею по людским ногам. Всегда равнодушный взгляд этих женщин выражал глубокое презрение как к своей простой работе, так и ко всему необъятному человечеству. Там, где они боролись за порядок с помощью своей швабры, распространялся кисловатый запах нечистот.
И эта убиравшая стол женщина не догадывалась распахнуть окна, хотя и раздвинула занавески, — пускай свет как ножом режет раскрасневшиеся глаза пьянчужек, так им и надо! Не должно быть так, чтобы человек чувствовал себя уютно.
Женщина стремительно прошла на кухню. Лео втянул голову в плечи. Через мгновение ему показалось, что он слышит грохот и звон, — корзина опоражнивается в мусорное ведро.
— Перестань, Аста, — шепотом попросил Вильмут. — Ну что ты можешь иметь против того, что ко мне в гости приехал друг?
Аста не удостоила Вильмута ответом.
Гремучая змея вновь появилась в комнате, лежавший на диване посторонний человек был для нее ничто, она не могла прервать свою неотложную работу, мало ли что кто-то хочет подняться и натянуть штаны. Длинная щетка шаркала по полу. Тряпки на ней все же не было. Еще имелась возможность пополнить в будущем свою методику. Перед телевизором она дернулась и, расставив ноги, застыла, принявшись растирать правой рукой крестец, левой сняла со шкатулки залетевший туда вчера носок и сбросила его перед щеткой.
Полуодетый Вильмут прислонился к косяку, надкусил огурец и, жуя, попросил:
— Аста, не бросай носки под плиту.
Лебезящий тон Вильмута не смягчил суровости Асты.
Железная дверца открылась и захлопнулась. Едва ли Аста при этом подумала: мир кишит людьми, если можешь, устрой другим ад, тогда себе самой обеспечишь больше простора.
Пыл у нее почему-то погас, Аста не стала опорожнять корзину, шумно прошла через комнату, подтолкнула стул бедром к столу, при этом она все время что-то бурчала, но гневной речью так и не разразилась.
Хихикающий Вильмут поставил на стол глиняную чашку со стручками обмытого ночным ливнем гороха, разгладил скатерть и выразил сожаление, что бутылки все пустые.
Пережевывая горох, он поведал о своих житейских горестях, речь лилась как-то привычно, видно, Лео был не первый, кому он изливал душу.
Дескать, Аста, бывает, наведывается еще на зорьке, заходит в спальню, оглядывает подушки — нет ли на них другой вмятины. Всего несколько недель как хозяйка дома лежит в больнице, а ее сестра уже вынюхивает следы распутства, ни капельки не доверяет Вильмуту. Он уже несколько раз предлагал ей: приходи, ложись рядом, сомнем все эти подушки, чтобы ты успокоилась. Она лишь шипит в ответ. Будь Аста поумнее, можно было бы выбить из нее злость, но эта баба доброго совета не принимает, все раздувает свою злобу. Изо дня в день Аста все больше грызет Вильмута, хочет научить плясать медведя — и комната, мол, не прибрана, и дверь не заперта. Сразу, как только Вильмут остался в доме один, она заявилась сюда, пошарила в столах и комодах и унесла хозяйкину цепочку и кольцо, чтобы хранились в надежном месте. Аста не стеснялась распахивать дверцы шкафа, чтобы пересчитать одежду. Это больше всего раздражает Вильмута, будто он способен унести чужие вещи и пропить их. Вильмут уже не дождется, когда его толстушка вернется из больницы домой. У полного человека доброе сердце, подчеркивал Вильмут достоинства своей супружницы.
Заговорив о женщинах, Вильмут уже не мог остановиться, начал перебирать давнишние истории. При упоминании об Эрике Лео едва подавил дрожь. Вильмут принялся оживлять в памяти женщин, которые, не дав опомниться от смерти Эрики и поминок, тут же начали бесстыдно к нему приставать. Приходила то одна, то другая, кто хватал поварешку и принимался варить суп, кто направлялся в хлев ухаживать за скотиной, кто стирал белье или поливал огурцы. Наперебой выставляли они напоказ свое усердие и прикидывались добренькими. Кое-кто, заработавшись, задерживался допоздна. Одна принялась сетовать, что ушел последний автобус, ее Вильмут повез ночью домой на тракторе, хотя у самого схватывало сердце и душа уходила в пятки, что-то будет, если наскочит на инспектора. Наконец сыновья избавили Вильмута от напастей. Своими выкрутасами они прекратили бабьи набеги. Избавиться-то он избавился, но без женской руки жизнь все же стала постылой. Возиться со скотиной было сверх его сил. Прежде всего зарезали подсвинка, избавили бедную животину от голодной смерти. Куры пошли друг за дружкой в котел. Корову продали соседу. В хлеву воцарилась тишина, и навоз уже не вздымался до потолка.
Однако прошло время, и сыновья разлетелись кто куда.
Бабы снова начали одолевать Вильмута. Кто приходил к нему приласкать его, кто у себя устраивал в его честь праздничный ужин. Все хотели, чтобы он их приголубил. Вечеринки с выпивкой утомляли Вильмута. Он так и сказал: надеешься на лучшее, на выпивку хотя бы, — а тут тебя насилуют развратнейшие бабы. Вильмут прямо-таки зарифмовал свои напасти. Дома жизнь шла под гору. По углам скреблись мыши. Крыша протекала. И желудок начал доводить — долго ли продержишься без горячего. Вот и пришлось Вильмуту позвать на помощь свах. Угодить бы под надежную крышу да на теплую печку. Вильмуту делали роскошные предложения. Он мог королем прошествовать в барские хоромы, где было пять больших комнат и всего один мальчуган. В хлеву мычали три коровы, во дворе уложены в поленницу сорок кубометров березовых дров, наготове держались деньги на машину, и ни одна болячка не мучила молодую вдовицу. И все же Вильмут решил, что всего этого в его возрасте чересчур много. Затем на горизонте появилась более выигрышная особа, эта водила его с одного званого вечера на другой. Игра продолжалась две недели. Больше Вильмут не выдержал, скрылся и принялся отлечивать свое тело, размариваясь на банном полке.
Вильмут, казалось, забыл, что Лео уже наслышан от него обо всем этом.
Наконец Вильмут нашел себе покладистую и тихую женушку. Он не мог нахвалиться своей толстушкой. Не было у нее ни детей, ни скота. Даже собачонки. Лучше бы Аста отправилась в больницу вместо сестры — это было его единственным желанием.
Лео скользнул взглядом по Вильмуту, преспокойно дремавшему рядом с ним на сиденье. В который раз он удивлялся другу — его необыкновенному умению отрешаться от забот. Хвастаться тоже надо уметь. Это делает человека беззаботным. Он, Лео, не смог бы похваляться. Жаль! Это маленькое достоинство не приносило ему счастья.
Сказать по правде, от слов Вильмута ему стало муторно. Он едва не нагрубил другу. Хорошо, что сдержался. Будто он не знал его. Столько лет ладили — чего теперь-то придираться? Делить им больше нечего. Время многое сгладило. Именно теперь они могли быть друзьями независимо ни от чего. Теперь они, возможно, могли даже забыть о существовании друг друга, настолько изменились обстоятельства.
Печально, что ощущение внутренней свободы человек обретает лишь в преддверии старости.
Наверное, это было впервые, когда Лео не хотелось дольше оставаться в компании Вильмута. Поэтому он не раздумывал, когда друг подал знак заводить машину, ладно, посмотрим, что он решил предпринять такого удивительного. И без того было ясно, что непримиримая Аста вышибла бы его из нового обиталища Вильмута. Они поколесят с Вильмутом, потом пожмут руки, похлопают друг друга по плечу, как принято у приятелей — до встречи. Упакованная в багажнике палатка и запас продуктов позволяли Лео чувствовать себя увереннее.
Лео краешком глаза глянул на небрежно расставленные ноги Вильмута. Жалкие сандалии, сползшие носки, бесформенные, в пятнах, брюки. Толстушка Вильмута, видать, еще не успела вырядить своего долгожданного супруга. Что из того, что он, Лео, внешне отличался от Вильмута, оба они были одинаково пропащими. Хотя Нелла по обыкновению и расставляла их по противоположным концам мерила добра и зла. Амурные похождения Вильмута привели бы Неллу в ярость. По ее разумению, достойно уважения лишь движение по прямой. Каждый смотрит на жизненные зигзаги другого со своей колокольни. Порок это или сметка — зависело от того, кто оценивает.
Поглядим, какое такое мановение волшебной палочкой сделал томящийся с похмелья Вильмут.
Удивительно, что у него вообще хватает сил что-нибудь предпринимать.
Другое дело в былые годы.
В тот послевоенный год, когда оба они крутили баранку и перевозили тяжелые грузы из деревни в город, история с овцой была далеко не единственной, в которой Вильмут обнаружил скрытые черты своего характера.
Той же осенью, когда Вильмут свалил в кювет машину с картофелем и Лео подумал, что теперь его неуравновешенный друг приведет в исполнение свою угрозу и повесится, — и Лео искал его на болоте и боялся найти висящим на суку, на самом деле именно тогда Вильмут был как никогда далек от намерения покончить с собой.
По просьбе сына мать прислала Вильмуту из деревни приобретенную в обмен на шерсть полосатую ткань для костюма, и ретивый молодой человек отыскал портного, к которому и направился. Крохотный старичок уселся на столе, велел развернуть материал, помял его, презрительно, со страдальческим блеском в глазах, оттолкнул отрез, его мертвенно-бледные щеки печально обвисли. Лео готов был бежать со стыда, однако Вильмут браво стоял возле своего добра. С хозяйской усмешкой на лице он вдыхал исходящий от утюга угольный чад и не собирался опускать глаза долу. Поглядев на заказчика, старик слез со стола и, поднявшись на носки, стал снимать с Вильмута мерку. Старорежимный портной сшил им обоим шикарные пиджаки, выпуклогрудые и с накладными ватными плечами. Не хватало разве что боксерских перчаток, чтобы выглядеть атлетом.
Повешенные на стенку костюмы не остались там пылиться. Однажды вечером Вильмут многозначительно подмигнул Лео, они натянули свои белые свитеры, одели сверху роскошные пиджаки — такой крик моды могли позволить себе лишь отпрыски зажиточных хозяев — и окунулись в водовороты жизни. На самом деле у Лео и понятия не было, куда Вильмут собирается его потащить. Во всяком случае, не в церковь, так как Вильмут сунул за пазуху бутылку ликера.
Они махнули рукой на разболтанный трамвай, на подножках которого гроздьями висли люди, и направились по выбитому тротуару. Недавно выпавший снег словно сахаром посыпал убогие деревянные домишки, покосившиеся заборы, огрызки развалин и болтавшиеся на холодном ветру редкие фонари. Шаги сами по себе стали легкими; если бы им встретились орудовавшие в то время в городе головорезы, которых народ окрестил «черными кошками», они бы с голыми руками пошли на вооруженных пистолетами разбойников и намяли бы им бока.
Они уже основательно проветрили легкие, прежде чем Вильмут остановился в проулке, у двери стоявшего в глубине двора дома, Лео следовал за ним тенью.
В темной прихожей Вильмут зажег спичку, чтобы определить, куда идти. Ощупью, спотыкаясь, они поднялись по узкой винтовой лестнице на второй этаж. Все попрятавшиеся по своим закуткам жители этого убогого домика должны были бы всполошиться от их топота. Гости? В то время это вызывало смех. Дом словно затаил дыхание и со страхом прислушивался: что там за люди? Вильмут постучал в дверь и шепнул, мол, сейчас увидишь мою невесту. В притихшем доме послышались живые голоса. Раздался кашель, прервавшийся разговор снова возобновился, где-то снова принялись разминать картошку.
Они вошли в узкую, перегороженную комнату.
В этой части города в очередной раз не было электричества, в комнате горела свеча.
Невеста Вильмута вскочила из-за стола.
Впоследствии Лео не смог уже ни изменить, ни дополнить свое первоначальное впечатление от невесты Вильмута. Он до сих пор не понял, была ли девушка красивой или дурнушкой. Свеча горела низко, и свет искажал ее лицо. Зато осталось в памяти ярко-розовое ситцевое платье с белым воротником, это детское одеяние словно бы висело посреди сумеречной комнаты, на серой стене распустилась веточка яблони.
И вновь в доме затихли голоса. На этот раз не от страха, а из любопытства. Во все времена люди жаждали знать: а что дальше? Видимо, невеста Вильмута хотела успокоить обитателей дома — в смутные времена можно было всякое предположить — она завела патефон и опустила иголку на пластинку. Предвоенная молодецкая песня разнеслась по всему дому. Все должны были радостно вздрогнуть и почувствовать облегчение.
Лео получил возможность осмотреться. Взгляд скользнул по застеленным солдатскими одеялами кроватям — и вдруг Лео ощутил себя в капкане: на краю кровати сидел седой старый человек и усмехался уголком рта. Благородное лицо старика лишило Лео всякой бравады, он вдруг почувствовал себя скверно, будто у него рукава оказались слишком короткими. Лео кивнул, но это скорее дернулась от испуга шея. Серые глаза мужчины отсвечивали глухой затянувшейся грустью, хотя он по-прежнему старался сохранять дружеское выражение лица. Из-за перегородки вышла старая женщина, рука ее легонько скользнула по щеке, будто у нее болели зубы. Она не отвела за уши свои растрепавшиеся волосы. Ее мрачный взгляд перескакивал с одного молодого человека на другого. Лео и Вильмут встали и поклонились. Женщина поставила на стол чашки; Лео понял, что к его другу здесь относятся уважительно. А поэтому держался прямо и старался не подвести Вильмута.
Невеста Вильмута предложила карамель в стеклянной вазочке — конфеты выдавались взамен нормированного сахара, к чаю они вполне годились. Сиплая музыка патефона — слова жизнерадостной песни все кружили по лунному свету и лестнице, что вела на сеновал, — вызывала воспоминания о былых деревенских гулянках, и Лео почувствовал себя еще более стесненно.
Вильмут был тут далеко не впервые.
В паузах между музыкой и громкой песней он хвастливо рассказывал о своем богатом хуторе. Словами из школьной хрестоматии Вильмут описывал свою мать, у которой, кроме работящих рук, было золотое сердце. Не забыл при этом заметить, что ему пора брать в руки бразды правления, отец стал прихварывать.
Лео с любопытством слушал друга. Небо над родным краем было затянуто мрачными тучами, но тамошних людей, казалось, уже не терзали страдания, сомнения, и жизнь у них все более преуспевала. Самоуверенные байки Вильмута одним махом выкашивали тернии бытия. Он и не заикнулся о том, что сложные обстоятельства изгнали его из дома и вынудили затеряться среди городского люда. Нет, лишь жажда познания толкала молодого человека взглянуть на мир, еще успеется посидеть на хозяйском троне у себя на хуторе. Несмотря на свое красноречие, Вильмут не напускал тумана, здешней семье должно быть ясно, что у Вильмута вполне серьезные намерения. Он бы давно махнул рукой на город, если бы в его родных краях нашлась подходящая девушка, достойная того, чтобы восседать рядом с ним на кожаной подушке в рессорной коляске.
Лео держал язык за зубами и со страхом вопрошал себя: что это Вильмуту взбрело в голову? Куда он думает девать жену? Зачем он охмуряет этих тихих людей?
Ощущение неловкости парализовало Лео. Губы одеревенели, словно это он вместо Вильмута молол чепуху и был за это наказан. Умудренный старик, сидевший на краю кровати, смотрел на Вильмута с нескрываемым презрением, будто видел перед собой пошлый базарный балаган. Нахрапистость Вильмута ошеломила Лео, друг, казалось, приторговывал в корчме служанку, которая возбуждала его и которой он надеялся обладать. Или он действительно втюрился по уши, что утратил чувство реальности?
Лео видел, что эти люди не принадлежали этому дому, война пересадила их в чужую среду. Чувствовалось превосходство старика, от него исходила вселявшая робость одухотворенность, он не показывал своей подавленности. Его словно бы не трогало, что он находится в этой бедной комнате и вынужден из-за тесноты сидеть на покрытой серым солдатским одеялом койке. Будь он простолюдином, он бы принял участие в разговоре и заявил: так ведь и мы в свое время… Теперь плачемся по прежней жизни.
Старик молчал и следил за представлением. Зато старуха украдкой тронула Лео за локоть и подала глазами знак следовать за нею. Заметив нахмуренные брови своего мужа, она отвернулась, но запрету его не вняла.
Лео вышел вслед за ней в коридор, они направились по скрипучим, выщербленным половицам к окну, откуда едва просачивался свет. Она стояла к Лео затылком и шепотом говорила что-то в оконное стекло. Лео напряг слух. Женщина просила не осуждать ее. Пусть молодой человек не отвечает, если не хочет говорить правду. Ей важно знать, выдумал Вильмут родовой хутор или нет. Лео не пришлось лгать, подтверждая, что Вильмут действительно происходит из богатого родового хутора.
Позднее Лео не раз вспоминал этот момент.
Его удручало, что человек цеплялся за предполагаемый кусок хлеба. Война словно бы продолжалась, хотя фанфары победы давно отзвучали.
Больше женщина ничего не выпытывала. Лео не мог угадать ее мысли. Она просто стояла, дышала в стекло и сосредоточенно смотрела, как мутное пятно постепенно высыхало и исчезало.
Они вернулись в комнату. На столе уже играли гранями маленькие рюмочки. Вильмут твердой рукой разливал ликер, тень бутылки на стене отбивала поклоны. Лео никого из этих людей не обманывал и все же чувствовал себя виноватым. Ему захотелось рассказать всю правду. Хотелось кричать: оставьте свою глупую игру! К сожалению, он не посмел пойти на откровенность. По своему легкомыслию, естественному для его тогдашнего возраста, он еще не уяснил для себя, что ему вообще придется всю жизнь держать язык за зубами. Лишь баловни судьбы могли позволить себе откровенность.
Пожилая женщина возилась с чайником. Когда в чашках задымился чай, она с нескрываемым интересом принялась следить за Вильмутом. Тот почувствовал происшедшую перемену и еще больше напыжился.
В душе матери прорастала добрая надежда. Она хотела поверить в этот хрупкий росток. Наверное, устала от бесконечной цепи унижений. Может, наконец-то кончатся невзгоды?
И Лео тоже устал оттого, что был вынужден кривить душой.
Он осушил рюмку до дна. Вопиющая потребность быть откровенным постепенно угасала. На счастье Вильмуту. Пусть приводит свою невесту в их чердачную каморку, Лео найдет себе жилье в другом месте. Только в этом ли весь вопрос.
Вильмут разрумянился. Он был опьянен своим успехом.
Старик тоже сел за стол и отведал ликера. Видно, и ему хотелось хоть на чуточку позабыть о своей мудрости, отказаться от скептического настроя. Умные люди, как известно, завидуют простодушным и легковерным, у которых нет за плечами свинцового груза знаний. Быть может, вообще порой следует, хотя бы для разнообразия, оделять признанием сусальные иллюзии. Едва ли чистая правда в состоянии согреть человека и принести ему утешение. В то же время каждый нуждается хотя бы иногда в небольшом удовольствии. Лео понял, что у него нет никакого права осуждать друга. Возможно, этих попавших в нужду людей изо дня в день грызло сознание: мы потеряли жизнеспособность. Вильмут помог им восстановить уверенность в себе. Разве это преступление?
По дороге домой Вильмут мурлыкал под нос какую-то песенку. Лео не осмеливался расспрашивать своего бедового друга, хотя его и распирало от любопытства. Его расспросы спустили бы Вильмута с облаков на землю. Он и сам бы не прочь побродить по воздушным замкам.
У Вильмута в тот вечер оказался в запасе еще один сюрприз; на углу он распрощался с Лео. Удивление его он отмел одной небрежной фразой:
— Душе — свое, но не поститься же телу.
Лео вновь почувствовал себя скверно. Его огорчало, что он не мог идти в ногу с другом.
5
Еще стояли белые ночи, можно было разобрать, не включая света, который час. Лео проспал не больше часа. Что его разбудило? Заботы? Обязанности? Тревожная тишина? Лео вздохнул и потянулся. Чем старше человек становится, тем меньше его мозг подчиняется приказам. Бесполезно наставлять себя: отдыхай, ночь дана для сна. Какие-то отзвуки и желания берут вверх, организм не хочет подчиняться регулярному, полезному для здоровья ритму. Полезному для здоровья — с каких это пор его лексикон пополнился такими словами? Самоирония не вязалась с безмятежным погружением в дрему.
Лео полагал, что Вильмут поселит его у какого-нибудь одинокого старого человека, жаждавшего хотя бы на время приблизить к себе то ли тень, то ли живую душу.
Этому предположению, казалось, суждено было сбыться, когда Лео, подавив недовольство, по подсказке друга свернул с шоссе и поехал между деревьями. Не люблю я на своей таратайке катать по лесам, мрачно подумал он. Хотя предыдущий день остался где-то далеко позади, ружейный выстрел не стерся из памяти. Свяжешься с кем-нибудь и уже в зависимости, однако не годилось возражать Вильмуту, ведь тот не желал ему плохого.
Вялые объяснения — развилок здесь нет, пусть Лео гонит себе вперед — Вильмут выдал без запинки, и глаза его снова слиплись.
Лео перевел машину на тихий ход, колеса мягко перекатывались через обнажившиеся корни деревьев, уставший друг не трясся на сиденье. Большие редкие деревья остались позади, перед Лео встала темная стена зарослей, можно было подумать, что там, между черемухой и орешником, вьется через низину узкая тропка. Лео с опаской въехал в зеленый тоннель, но тут же оставил свои опасения и прибавил газу. Густая листва поглощала свет; покачиваясь в уютном полумраке, Лео испытал жгучее любопытство, это давно забытое чувство щекотало и оживляло его. Он надеялся на необыкновенные виды, на блуждание в причудливо расчлененной и напряженной среде, не симметричное пространство в его воображении начало скачкообразно множиться, образуя завораживающие лабиринты, — возможно, там, в конце обрамленной зеленью трубы, возникнет скопление совершенных по пластике строений под сводами-оболочками.
И тут же крылья его воображения поникли.
Он вновь спустился на обивку сиденья своей стандартной машины. Пластмассовый руль прилипал к его вспотевшим ладоням. В лицо ударил свет. По обе стороны дороги жалкие лоскуты вырубок, в зарослях сорняков тонкие высокие пеньки, будто лесорубу было лень нагнуться и он вырубал кустарник нехотя. Или здесь сознательно создавали именно такой вид? За раскидистым кленом дорога вывела на лужайку.
Настоящая, солнечная, исполненная покоя поляна. Здесь действовал нормальный масштаб, простор не был стиснут стеной и заперт за дверью в чьей-то квартире. Манящая поляна? Собственно, обычный хуторской двор: протоптанные в траве дорожки, колодец — надземный глазок прохладных глубинных вод, на цветочных грядках львиный зев, незабудки и ярко-красный шалфей. Для разочарования не было ни надобности — какое ему дело до чужого жилья, — ни причины: странно, тут стояла не обычная приземистая хуторская постройка, а возвышался господский дом под четырехскатной крышей.
Лео подался вперед, уперся грудью в руль и принялся с интересом оглядывать здание. Этот ладный дом на поляне производил столь же неожиданное впечатление, как человек во фраке посреди леса. Лео оценил гармоничные пропорции дома и оригинальной формы окна, подчеркнуто парадный вход — навес опирался на толстые резные столбы, которые в верхней части плавно соединились со сводами. Мансардные выступы повторяли в уменьшенном виде архитектурные детали парадного входа. Стену дома расчленяли выступы, когда-то эти вертикальные плоскости были выкрашены в белое.
Лео был не в состоянии отвести глаз от дома, словно мог за короткие минуты вобрать в себя главную идею человека с созидательными способностями, который когда-то проектировал здание. Было это очень давно. Хризантема в петлице осыпалась, блеск лацканов потускнел, да и человек, носивший фрак, незаметно превратился в скелет.
Поодаль, под кряжистыми яблонями с замшелыми стволами, разгуливали куры. То и дело они исчезали в своем курином лесу: буйная сныть и стебельник простирались над ними.
Вильмут выбрался из машины, походил по лужайке, размялся, потянулся, широко зевая. Он всюду чувствовал себя дома. Лео в нерешительности топтался возле машины, будто в траве возвышался воображаемый порог, через который нельзя было переступить.
В дверях показались обитатели дома. Ошеломляющая картина: три еще полные сил, по-городскому одетые женщины старательно улыбались гостям. Они не торопились выходить из-под входной арки, предпочли еще немного побыть в тени, оставаясь таинственными существами неопределенного возраста. По-разному одетые, все трое носили маленькие кокетливые переднички, будто знак общности.
Разумеется, женщины эти знали Вильмута, иначе они бы сюда и не приехали. Но то, что они не стали обращаться к Лео на «вы» и знали его имя, поразило Лео.
Все же это не было какой-то наигранной жеманностью, когда женщины, освежая память Лео, заявили, что все присутствующие приблизительно полвека тому назад встречались между собой. Они произнесли эту цифру с такой легкостью, будто человеческий век измерялся столетиями. Лео почувствовал, как его руки неприятно похолодели.
Их имена — Хельга, Урве, Сильви — не вызывали в нем и малейших ассоциаций.
Лео отчаянно выискивал в памяти точки опоры, чтобы расставить этих женщин в человеческих дебрях. Возможно, слова его прозвучали избитым комплиментом, когда он попытался возразить, что возраст женщин не позволяет мерить время полустолетиями.
У трех сестер девятикратная память, посмеялись они в ответ и обещали развеять сомнения Лео. Они за него все решили, тут лучшее место для отдыха. Потом как-нибудь улучат время, чтобы поговорить о былом.
При виде сиявшего от радости Вильмута настроение у Лео упало. Закралось недоверие, неожиданная ситуация нисколько не радовала, — может, они сговорились, чтобы одурачить его. Просто злило, что он никак не мог начать свой долгожданный отпуск. Он даже не знал, как на этот раз должна была выглядеть его праздная жизнь, — каждый год приходят новые желания, — оказаться под чьим-то произволом он считал наихудшей из возможностей. Ему хотелось восстановить стершийся защитный слой своей психики, чтобы потом, когда он вернется домой и на работу, все неприятности и невзгоды будут словно бы утыкаться в ватную обивку и до сознания, в лучшем случае, дойдет только их слабый отголосок. Жизнь надо было как-то прожить, и в кишащем событиями и людьми мире следовало ослаблять толчки.
Сели за стол. Вкусная еда помогла утратившему было равновесие Лео вновь обрести его.
Он может оставить их с носом. Ключ зажигания у него в кармане. Одно движение — и он помчится, куда только ему вздумается.
Сначала он распрощался лишь с Вильмутом, который отказался от предложения подвезти и предпочел отправиться домой на автобусе. Лео предоставили мансардную комнату, где он сейчас и лежал на софе с высокой спинкой: руки сложены на отвернутом пододеяльнике, взгляд устремлен на белеющий прямоугольник двери, будто в ожидании визита полуночного домового. Утверждать, что досада и неудобство мешают сну, он не мог.
За обеденным столом сестры объяснили, почему они перебрались жить в лес. Жаловаться никто из них не любил, они скорее рассказывали о сложностях жизни, как о чем-то постороннем, которое их словно бы и не касалось. Просто так, шутки ради, старшая из сестер Хельга откликнулась на объявление в газете о продаже дома. Как раз в это время она и поняла, что чего бы там ни говорили о всеобщем демографическом взрыве — подняться над землей и оглядеть сверху человеческий муравейник было невозможно, — во всяком случае, в ее собственной семье рост народонаселения достиг критической отметки. Все ее три чада, дочь и два сына, в последние годы обрели свои семьи. Вслед за цепной реакцией женитьб последовала череда деторождений. За короткое время Хельга стала трижды бабушкой. На новоиспеченную пенсионерку навалили кучу обязанностей. Любезные молодожены подарили счастливой бабушке хозяйственную сумку на колесиках и поучительную книгу по уходу за малышами. Семеро взрослых за столом, детские кашки, пюре, рожки. Сажать на горшок, стирать пеленки, не было времени даже газету почитать. Молодые семьи нуждались в отдельных комнатах, и Хельга вынуждена была переселиться в бывший закуток для прислуги, который уже многие годы использовался под кладовку. При той жизни ни в чем, кроме койки, на которую обессиленно падала глубокой ночью, чтобы соснуть на часок, она и не нуждалась. Рано утром снова начиналась повседневная карусель. Вот так попавшая впросак Хельга и вырвалась из клещей. Молодые люди, два брата, которые продавали доставшийся в наследство дом, сунули ей в руки ключи, велели осмотреть жилье. Заброшенная, развалившаяся хоромина просто ждала, чтобы кто-то явился и приложил руки. Этим человеком случайно оказалась Хельга. Молодые люди не собирались наживаться на сделке, и покупка была оформлена быстро. Дома у Хельги разразился скандал. Вселенский плач и стенания, сердитые слова и жалостные мольбы — все вперемежку. Зять принялся обвинять дочь, мол, теща белены объелась. Принялся за мать и младший сын, пытался отговорить ее. Ему казалось, что мать совершила нечто такое, что человеку в ее годы не пристало. Его жена обещала отдать свекрови свои ковбойские штаны. Знаменитые джинсы, лишь бы та отказалась от своего намерения. Натиск этот ни к чему не привел, Хельга смотрела на них и думала: никак они не возьмут в толк традиций моего рода. Начиная с праматери, мы всегда восставали против гнета. Эгоистичное поколение пусть варится в собственном соку.
Потом, когда Хельга обрела ключи от дома, она попросила прежних хозяев, чтобы те освободили помещение от вещей, — кому охота жить среди чужого хлама. Услышав их ответ, Хельга подумала, что эти мастера увиливать дадут ей, человеку, оставившему свою квартиру трем молодым семьям, сто очков вперед. Пришлось оказать на молодых людей давление, подыскивала слова, которые запали бы им в душу, грозилась злом и сулила добро: может, в доме остались важные памятные вещи, может, там обнаружатся семейные реликвии, неужто им не дороги бумаги и история их рода.
Но упрямцы уперлись и продолжали гнуть свое. Пусть их оставят в покое и не лезут с поучениями. Современным людям некогда возиться с раскрошенными воспоминаниями и трухлявым барахлом. Они не желают нагружать себя всякой дребеденью, их идеал — альпинист. Человеку нужен лишь заплечный мешок, в котором умещается самая необходимая еда и обиходная одежда, чтобы при восхождении на вершину сохранить в теле жизнь. Молодые люди просто-напросто укрылись от Хельги и наврали по телефону, что их нет дома. В конце концов они прислали бумагу с подписью, которая свидетельствовала, что они отказываются от домашних вещей: пусть новый домовладелец выбросит весь хлам в окно и подожжет его во дворе.
За кофе Хельга попросила сестер продолжить разговор. Но Урве и Сильви оставались довольно сдержанными, они не стали разъяснять свои семейные мотивы, вынудившие их сменить место жительства. Заумничали, что им надоел город, что захотелось тишины, толковали о загрязнении воздуха и прочих подобных вещах, о чем сегодня говорят почти в каждой компании. С усмешкой на губах Сильви напомнила гостю, что теперь в городе многие грозятся податься в деревню в лесники. У всех теснит грудь тоска по природе. Хвастунов, конечно, хватает, но и повседневную рутину ломать нелегко. Они втроем, возможно, смогут приспособиться в новых условиях. Это как свидание с детством, когда-то они хорошо ладили между собой.
Вечером, приглядевшись к дому, Лео подумал о легкомыслии сестер. Смелость, конечно, похвальна, особенно в старшем возрасте, но сумасбродство опасно. Что они станут делать тут зимой? Им и в голову не приходит, как неприютно бывает, когда вокруг нет ни души. Плакальщики по заброшенным хуторам сами предпочитают жить на освещенной улице, с телефоном под рукой и с продуктовым магазином за углом. Только других взвинчивать они и способны.
Состояние дома оставляло желать лучшего, по потолкам было видно, что крыша протекала. Кубатура просто страх нагоняла; восемь или девять жилых комнат — Лео сбился со счета, — коридоры, переходы, подсобки и кладовки сверх того. Каждое помещение было с пола до потолка завалено несусветным хламом. Лео начал понимать бездушных альпинистов, которые махнули рукой на воспоминания и на барахло, — пусть все горит синим пламенем. Содержать этот дом все равно что идти на позапрошлогоднее пепелище жарить жука. Может, лишь невероятное женское упорство способно свершить чудо.
Сестры делали вид, что они счастливы на новом месте.
Кто знает, чем они пренебрегли, какие разочарования пытались скрыть, когда с жаром говорили о своих новых обязанностях. Их уже заранее приводил в восторг осенний грибной лес и заготовка дров. И в городе обстоятельства склоняли людей к натуральному хозяйству — очень многие превратились в собирателей лесных даров и в огородников, — и сестры полагали, что они вовремя приобщаются к общему течению. Тогда уж лучше, если огород и лес с ягодниками у тебя под боком.
Рассеянно слушая сестер, Лео подумал, что всяк, у кого осталось хоть немного сил, пытается выправить свою перекошенную душу. Вдруг Лео сам себе показался наивным: ведь и он, отправляясь в отпуск, надеялся забыться и освободиться от чувства угнетенности — будто у него и не было предыдущего опыта. В действительности он мог полагаться лишь на одно реальное обстоятельство. Он находился вдали от дома и работы, и тут его никто не сможет найти. Наверное, это было все, что человек вообще способен сделать для своего блага: временно обрубить привычные нити, за которые тебя без устали дергают, как марионетку. Увы — это невозможно сделать навсегда.
Чувствовалось, что Хельга именно потому снова и снова обращалась к своим домашним баталиям, что не оставила свои печали в городской квартире, насовсем. И все же делала вид, что просто наслаждается удачным коленцем, которое она выкинула. Со слезами радости на глазах вспоминала те крепкие словечки — молодые, всего-то под тридцать, а уже такие нервные! — которые выплескивали ее отпрыски и их супружницы с супругом, пренебрежение, предательство. Все-то они вьюны, держащиеся опоры, хотя голова у них и варит.
Стоит их упрекнуть в чем-нибудь, они тут же свалят свои слабости на эпоху. Им пришлось многое испытать. То, что было до них, не стоит и разговора… Война, убийства, голод, страхи, разброд, недоверие, подозрительность — все это достойно лишь того, чтобы пожать плечами. Предыдущие поколения должны подумать о своей вине перед ними: консерватизм позволил противоречиям обостриться настолько, что все бросились наперебой испытывать атомные бомбы. Каждый самый пустячный дождичек в их детстве нес с собой подчас губительную, или хотя бы причиняющую вред, радиоактивность. Каждая морковка и каждое яблоко, любой кусочек колбасы и глоток молока были отравлены ДДТ. Не упрекайте нас в нетерпении и вялости, в нетерпимости и эгоцентризме — какое еще поколение вынуждено было в раннем возрасте расти в столь неблагополучной жизненной среде? Пусть старшие не оправдываются работой, на которой они надрывались в детстве. Когда они родились и росли, то хотя бы пили чистую воду, дышали незагрязненным воздухом и ели не тронутую химикатами пищу. Те же, кто родился в царские времена, пусть и вообще возрадуются, несколько войн, что они пережили, их только закалили: кого природа с детства оберегла, тот до ста лет доживет. Рост средней продолжительности жизни человека — это чистый трюк, теперь даже в мертворожденных вдыхают жизнь, только что за люди из них впоследствии получатся.
Охарактеризовав мировосприятие младшего поколения, Хельга вдруг предложила: а вдруг мы преувеличили свои страдания. Кто убит или казнен, тому все равно, но оставшимся-то в живых и в самом деле не пристало роптать, да и к чему человеку брюзжанием портить себе единственную-преединственную жизнь?
Лео сомневался в искренности Хельги, однако в напористости этой женщине трудно было отказать. Возможно, жизненная энергия человека и есть тот самый вечный двигатель, машина работает, сама себя подгоняя.
Никто из сестер не подавал виду, что жизнь выбила их из колеи. И все же они сбежали сюда, в лес, в изгнание. Глупая привычка всюду отыскивать четкие грани. Смелость и робость стоят рядом, грани их соприкасаются.
Могли сестры и намеренно ломать комедию: плачься они в своем жалком одиночестве, Лео сбежал бы от них. Но зачем он был им нужен? Это предположение Лео в какой-то степени отражало поверхностность суждений испорченного современными нормами жизни человека. Почему общение обязательно должно оборачиваться кому-то на пользу? Неужели люди не бывают просто необходимы друг другу, как необходимы друг другу воздух и свет, почему принято считать странным общение, которое не предполагает никакого заднего плана? Лео был насквозь пропитан прагматизмом, царившим в атмосфере проектного института, наверное, даже одежда его пропахла им. Молчуны молчали повсюду и погоды не делали. Красноречивые всезнайки без устали предлагали все новые варианты перемещения шахматных фигур. Безошибочно угадывалось, кто чей враг, кто к кому благоволит. У кого есть надежда возвыситься, кому черед скатиться ниже. Предубеждения, конфликты, истоки симпатий и антипатий, неожиданно возникшие на чьем-либо пути препоны — все подчинялось логическому объяснению. Уступка пустой прихоти считалась уделом никчемного человека. Легкий сор позволяет потоку увлечь себя кто знает куда, а потому подобный этому сору индивид в жизненной борьбе в расчет не принимался. Кому в этой борьбе хотелось оказаться побежденным? Кому было охота очутиться в водовороте и позволить себя утопить? Эмоции подлежали усыплению, иллюзии заглушению, прежние ребяческие фантазии разъедались насмешками. Рассудительность и трезвость определяли ориентиры и облегчали существование. Лишь редкие чудаки оставляли в душе непоколебимым заветный уголок, однако и они ревниво оберегали свою неоскверненную поляну и прятали ее от чужих глаз за железными засовами и висячими замками.
Тут, в этом старом причудливом доме, который утопал в серой пелене ночи, Лео вдруг ощутил мучительную тоску по своей прежней, жадной устремленности вперед. После крушения надежд определенная цельность в нем еще продолжала по инерции сохраняться. За многие годы Лео почти удалось забыть о том, что ему хотелось вымести из головы и сосредоточиться на будущем. Теперь это уже не удавалось. Наверное, нет. Временами он просто куражился перед собой и шутки ради строил воздушные перспективы.
Может, сестрички эти из другого теста? Скепсис не давал ему поверить в их жизнеутверждающий пыл. Почему они сбежали в этот лес? Понадеялись на освежающее воздействие новой среды? А сейчас страдают от недостатка общения. Ради компании они его сюда и затащили.
И вновь на весы были брошены все плюсы и минусы.
Возможно, и они не были свободны от извечного желания человека хотя бы изредка перед кем-нибудь покрасоваться.
Сестры ждали от Лео восхищения по поводу их предприимчивости.
Завтра он постарается в подходящем месте вознести им хвалу.
Лео глядел в потолок, с которого слоями облезала вековая краска, из трещин свисала клоками пыль.
Лео напрягся. Он не видел, но почувствовал, как мимо открытого окна пролетела большая птица с распушенными перьями. Возможно, в соседней комнате гнездится нечисть?
Или на миг прилетела болотная сова детства? Одеялом из мха сейчас откуда-то с потолка начнет разворачиваться и опускаться сон. Где-то за этим удивительным домом должно лежать болото. Среди трясин и кочек высится остров. На заросшем кустами взгорке тянутся к темному небу толстые деревья, в их шишковатых стволах бесчисленное множество дупел, откуда после захода солнца появляются совы, лениво помахивая крыльями, почти бесшумно, будто это шелестящее дыхание листвы, поднимаются они над островом, летят через топи и ольшаники, знают, куда лететь, и не кружат бесцельно. В детстве Лео спокойно засыпал, если бывал уверен, что совы прилетели. Каждый вечер эти неуклюжие птицы опускались на липы и вязы, плотным строем окружавшие хуторские постройки и двор. Совы почтенно сидели на ветвях и, охраняя покой, лишь ворочали головами. И только в ветреные ночи они изменяли своему обычаю, прилетали, с колокольчиками на шее, и сквозь шум ветра подавали весть о себе. Даже в дом доносились позванивание и медный гул.
Эта воображаемая картина почему-то долгое время внушала Лео спокойствие — до тех самых пор, пока все не кончилось столь прозаичным образом. Взрослые обнаружили, что Лео выбирает из мышеловок мышей и развешивает их по ветвям деревьев, и приказали зарыть падаль. Еще и отругали: разве сова станет есть мертвечину.
Лео долгое время чувствовал себя виноватым и боялся, что отвадил сов от хутора. Позднее, вспоминая об этом, он чувствовал себя неловко, со временем история эта почему-то приобрела непристойный оттенок. Он никому не рассказывал о таком пустяке, кроме сестры, да и то повстречавшись с ней через многие десятилетия. Возможно, он рассказал об этом потому, что был убежден в том, что они с сестрой уже никогда не встретятся. Пораженный действиями сестры, он подсознательно ощутил потребность сблизиться с нею, развеять возникшую скованность и сделал это с помощью рассказа о детской нелепости.
Сестра известила его о смерти отца и прислала ему вызов, Лео несколько недель колебался, прежде чем собрался с духом и начал оформлять бумаги. Нелла ругала мужа: чего тянешь? Ей виделись только внешние связи: отец, сын, похороны.
И Лео выехал в Стокгольм.
Естественно, он не думал, что через три месяца после чьей-то смерти придется еще кого-то хоронить. Сходить на могилу отца — это он предполагал.
Подавив чувство растерянности от встречи и душевное волнение, они вышли с сестрой из здания аэровокзала и сели в машину. Нырнув в движущийся поток, сестра сочла нужным заметить, что теперь наконец можно будет разослать приглашения и провести похороны. Она деловито заметила, что, видимо, Лео не смог приехать раньше из-за срочных дел.
У Лео загудело в голове, заявление сестры относительно похорон почему-то привело его в замешательство. Всю дорогу до города он молчал и делал вид, что с интересом рассматривает окружающую природу и рекламные щиты. В тот же день они с сестрой сходили в часовню в крематории, постояли за стеклянной стеной, там, в морозильной камере, покойник дожидался кремации. На улице их встретил пронизывающий ветер, и они сжались. Сестра шла на шаг впереди, громко цокая каблуками своих кавалерийских сапожек по бетонным плитам, будто собиралась их продолбить. Широкое пальто надулось парусом, и казалось, что сестра вот-вот оторвется от земли, замашет руками, набирая скорость, и взлетит в серые тучи над шхерами. Мучительное одиночество угнетало Лео. Было такое впечатление, что все прошло и исчезло, не было ни детства, ни прошлого, лишь чужой старик за стеклом стерильной морозильной камеры, тень чего-то минувшего; и эта женщина, что долбила каблуками бетон, в раздувшемся для полета пальто, и была она ему чужая, просто некая надменная буржуйка, следом за которой, по какому-то недоразумению, он шел.
Он надавил изо всех сил на плечо сестры, будто хотел удержать ее на земле, оба сбились с шага. Остановились на миг, ветер доносил от стоянки едва уловимый приторный запах бензина — впервые за многие годы сестра заглянула в глаза брату. Порыв ветра откинул ее волосы назад, оголив лоб, веки заморгали, и она заплакала. Они прислонились друг к другу, безутешное горе на мгновение сблизило их.
Усевшись в машину, Лео закурил сигарету, закрыл глаза, глубоко затянулся и принялся рассказывать сестре о пушистых совах.
В течение всех проведенных в Швеции дней — а они находились с утра до вечера вместе и успели о многом переговорить — между ними больше ни разу не возникло того мгновения близости и привязанности, которое они пережили неподалеку от стоянки возле крематория. Приятная беседа, неспешные воспоминания — слышал ли о судьбе такого-то или такого-то? Ах, уже умер? Занимается наукой — интересно, никогда бы не подумала! Известный механизатор? Что означает — известный механизатор? По вечерам они с мужем сестры Якобсоном пропускали по рюмочке, однажды тот повел его посмотреть ночную жизнь столицы. Улла не захотела идти с ними — сестра Юлла стала за границей фру Улла, — и мужчины пошли одни, лопотали по-немецки, который оба знали одинаково плохо, но все же, несмотря на языковый барьер, чувствовали себя гораздо большими приятелями, чем в присутствии Юллы, пытавшейся переводить. Они вошли в раж и обошли несколько увеселительных заведений. Моросил дождичек, булыжная мостовая на узких улочках поблескивала, сдержанно стилизованные архаические вывески и уютно светившиеся окна манили заглянуть. Прежде всего они попали в популярный, битком набитый пивной бар — в эпоху отчужденности людские сборища приобретают притягательную силу, — они с Якобсоном стояли посреди толчеи с кружками в руках. Над головой на невидимых нейлоновых лесках свисали причудливые декоративные детали. Оригинальное оформление, — заметил Якобсон и поклонился, словно желал высказать признательность неизвестному дизайнеру. Действительно, оригинальное, под потолком свисали шаткие детские коляски времен первой мировой войны, а также вошедшие в обиход во время второй мировой войны в Европе обтекаемой формы возки, на никелированных пружинах, — всесильная мода не обращала внимания на катаклизмы, — остальные вещи не вызывали особых ассоциаций. Чего только не было над головами у этой толпы людей. Ржавые, помятые жестянки, потускневшие медные чайники, кочерги, щипцы, каретные колеса с выломанными спицами, обшарпанные кисти, гигантские цветные пластмассовые воронки, — возможно, это были вышедшие из употребления абажуры. Заглянув в один, в другой бар и понаблюдав за невинной игрой в рулетку, где денежные ставки заменялись жетонами, они незадолго до полуночи зашли в ресторан фешенебельной гостиницы. После старого города, с его полутемными помещениями, яркий свет здесь, казалось, ударил по глазам, будто оглоушил. Просторно, невесть откуда исходил прохладный воздух с запахом соснового бора, было полно свободных столиков. На паркете отплясывали шотландцы в клетчатых юбках, партнерши — в элегантных вечерних платьях. Часть высокого зала была занижена напоминающим гигантский балдахин подвесным потолком, под его голубым навесом, окаймленным золотыми кистями, играл большой оркестр, не посрамивший бы, пожалуй, и оперного театра.
Больше всего внимание Лео привлекла стеклянная шахта лифта в углу зала, сверху уже спускалась ярко сиявшая прозрачная кабина. Кристальный многогранник опускался из-под потолка на пол, плавно остановился, открылась дверь, и вышла пожилая пара. Годы их порядком ссутулили, женщина зябко куталась в белую дорогую шубку, шлейф вечернего платья из тяжелого шелка скользил по мраморному полу. Не успели они прождать и минуту, как уже подошел с подносом официант, поставил перед ними на стол крохотные чашечки с кофе и налил в высокие фужеры молоко.
Лео устыдился своего любопытства, он отвел взгляд от старичков, хотел было извиниться перед Якобсоном за свое неприличное поведение, однако зять, улыбаясь, следил за пританцовывающей певичкой, напевавшей в микрофон. Лео потягивал из бокала, разглядел упрятанные в светло-голубые бархатные чулки несущие тросы подвесного потолка и подумал, что именно покойный отец позволил ему, деревенщине, взглянуть на эту великосветскую жизнь.
Дни перед возвращением домой были будничными и деловыми. Отец оставил завещание, треть его денег принадлежала теперь Лео. Юлла объяснила, что в здешних краях не принято хоронить покойного раньше, чем соберутся все наследники и договорятся об издержках. Юлле было неловко, что отец в свой смертный час не посчитал их за равных. Чтобы смягчить положение, она часть расходов решила взять на себя. Хотя Лео пытался закончить неприятный разговор, Юлла хотела выяснить все до конца. А когда же еще? В самом деле — когда же еще? Она пыталась обосновать решение отца тем, что дочь была ему поддержкой в старости. Юлла заверила, что отец ни в коем случае не мог исходить из того, что он в свое время признал Лео сыном. Несмотря на старость, отец не был мелочным — тем более в здешней либеральной атмосфере, — какое имело значение, что сын родился до свадьбы! В прошлом предрассудки усложняли взаимоотношения. Жизнь деревенских людей была ограничена явлениями одной волости, в этих пределах люди и копались в чужой жизни, выискивали грехи, а если не находили, то выдумывали их. Так Юлла толковала завещание.
Якобсон в этом не участвовал, и все же Лео казалось, что фру Улла мысленно поглядывает через плечо и проверяет, одобряет ли муж ее слова или осуждающе покачивает головой.
Естественно, Лео так и не разобрался в отношениях Юллы и Якобсона, при Лео зять рассказывал про шведское житье-бытье, освещал политику находившейся у власти партии, ругал налоговое управление и галопирующую инфляцию и сразу же вслед за последними телевизионными новостями отправлялся спать, чтобы рано утром подняться: его небольшая фабрика по производству пластика находилась за городом — и на дорожные заторы уходил целый час. Лео и не думал, что нынешние цивилизованные люди начали бы за здорово живешь распахивать души, даже Юлла все, что касалось отца, улаживала в отсутствие Якобсона. Да и что мог понять принадлежавший к среднему классу швед в тревожных воспоминаниях раскиданных по свету сестры и брата. Может, ему показалась бы нелепой дележка оставшихся скудных вещей покойного.
Утром, в день отъезда, Юлла вытащила из кухонного шкафа карманные часы с потертой крышкой, два царских золотых червонца — покойный, будучи еще молодым человеком, получил в наследство от своего отца и сумел, несмотря на трудности переселения на чужбину, сохранить до самой смерти — и портсигар с монограммой, который покойный купил незадолго до войны на свое сорокалетие.
Юлла молчала, предоставив Лео возможность смотреть на оставшиеся от отца вещи и собраться с мыслями, затем подвинула брату одну монету. К ней, после небольшой заминки, добавила карманные часы, на цепочке которых висел вычурный ключик.
Юлла извиняюще сказала, что портсигар, по справедливости, должен бы достаться брату, но она хотела бы оставить его себе. Развалины замка в Вильянди, выгравированные на крышке, дороги ей. Лео может полюбоваться ими и наяву.
По дороге в аэропорт Юлла сказала:
— Странно, эти золотые монеты, наверное, лет семьдесят или даже восемьдесят находились вместе, теперь они разъедутся.
Лео невольно подумал о том бородатом старике, которого он видел всего раз, в гробу, и чье квадратное окаменевшее лицо нагнало на него страх. Здесь, вблизи Стокгольма, на скоростной автостраде, ведущей в, аэропорт, в шикарной машине, ему стало вдруг невыразимо жаль того крупного костлявого старика, который когда-то, на заре века, тяжелым трудом заработал эти рубли. Лео почти видел его бредущим с подкашивающимися ногами рядом с возом по грязи, с вожжами в руках.
Перед тем как выходить на посадку, Лео сунул золотой в руку сестре и сказал:
— Пусть тебе будет и от меня память.
Дома Нелла, выслушав историю с золотыми, решила, что Лео поступил правильно, — вдруг на таможне случились бы неприятности!
Оторопев от трезвости суждения Неллы, Лео подумал о дочери. Вырастет ли и она такой же, как мать? Каким образом он должен вмешиваться в ее воспитание? И не смог ничего придумать. Он не мог сказать своему кровному ребенку: будь сорванцом, лазай по деревьям, чтобы одежда летела в клочья, гоняй мяч, стой на голове, в жизни есть еще и нечто другое, кроме порядка и логики, будет жаль, если все это тебя минует.
Лео промолчал, так и не высказав своих мыслей.
Позднее Лео не терпелось спросить у жены: неужели ее нисколько не тронула судьба золотых монет? Или она скрыла это?
Он не стал расспрашивать Неллу.
Было неразумно ставить жену в тупик. Она была занята своими проблемами: мир вокруг нее плохо устроен.
Достаточно того, что Лео сам стал богаче на одно разбередившее душу воображение. Одряхлевший старик протягивает сыну со своего смертного одра две золотые монеты. Все их прежние распри разом становятся ничтожными. Отец с его патриархальным образом мыслей чувствует, что исполнил свой долг. Он думает, что проложил сыну дорогу в будущее.
Возможна ли в наше время подобная трогательная вера?
6
Проспав несколько часов глубоко и без сновидений, Лео проснулся под утро. Солнце еще не поднялось, за открытым окном шелестела густолистая береза, в комнату вливалось какое-то забытое благоухание. Между покачивающимися ветвями проглядывало заштрихованное нежно-розовыми полосами небо. Затаив дыхание, Лео вслушивался в тишину. Может, именно в эту ночь вдруг вымерли все автомобили, машины и моторы — возможностей катастрофы куда больше, чем человек в состоянии себе представить, даже мастодонты некогда прекратили свое существование. Странно подумать: в одно далекое утро в живых не оказалось ни одного гигантского мамонта. Лео пытался настроиться так, чтобы насладиться тишиной, за проникновение в сущность покоя приходилось платить бессонницей, и это отнюдь не было непомерной платой.
Вдруг Лео стало жаль Неллу, как раз на рассвете жену больше всего беспокоил городской шум: она металась в кровати, сдерживала вздохи, ее тело исходило жаром, по комнате разносился запах ночного крема. Маленькая подушечка, которой она вечером прикрывала ухо, конечно же опять куда-то исчезла. Нелла свешивала руку через край кровати и шарила по полу, найдя подушечку, сдувала с наволочки возможную пыль.
Но Нелла не переносила также лесной тишины и деревенского покоя. В глухом месте ее настроение через несколько дней портилось, ей страшно недоставало тысячи оставшихся дома мелочей, в том числе, естественно, горячей воды и чистой кровати, — то, что она по утрам, измученная шумом, не находила себе места, в счет не шло. Исконная горожанка, Нелла не привыкла к городской суматохе, но и деревенская жизнь была не для нее.
В свое время, когда Лео с Вильмутом обосновались в городе, более всего в новой обстановке ему нравилось это скопление зданий. Свободные минуты он тратил на прогулки по старому городу, его восхищало то, что на каждом шагу менялись виды, когда он прищуривался — дома казались ему живыми и пластичными; двигался он, начинали двигаться и они, одно отступало от другого, взору открывались какая-нибудь башня или ниша. Особенно он любил туманные и метельные утра: небо исчезало, здания словно бы излучали из себя тайны, и от этого восприятие становилось особенно чутким.
Лео не уставал бродить по внутренним дворикам, эти каменные колодцы были бесконечно разнообразны: в вечерние часы, когда он задирал голову, небо, казалось, уплотнялось в сито, через которое просачивался фиолетовый отсвет. Зато солнечным летним утром чья-то беспечная рука бросала на стену каменного колодца с его тусклыми окнами единственное ослепляющее яркое пятно, которое полыхало на серой стене огненно-желтым цветом, и все окружающее меркло.
Раньше Лео не мог и представить себе, что беспорядочное нагромождение строений может столь одухотворяюще действовать на человека.
Тогда в центре города разбирали развалины военного времени и за несчастьем пытались видеть везение — там и тут будут заложены парки, газоны, лужайки. Эта жажда простора вызывала у Лео растерянность, каждая брешь в шеренге домов удручала его. Прореживание старого города и открыто падающий свет как раз и изгоняли тот дух, который был присущ крепостной тяжеловесности застройки. Однако люди радовались воздуху, простору и птичьему щебету. По мнению Лео, одинокие деревья в старом городе служили только декоративными элементами, и это заставляло думать, что созданные человеческим гением и простоявшие столетиями стены и здания по сравнению с мимолетностью существования живых форм выражали извечное начало.
Поразительное многообразие стен, контрафорсов, ниш, скульптур, карнизов, крыш, башен и фонарей в старом городе приводили Лео в восторг. В нем вновь вспыхнула жажда знаний, которую он испытывал в последнем классе гимназии. Он взялся нагонять упущенные годы. Мальчишечья страсть к открытиям пробуждала у двадцатичетырехлетнего рабочего человека одновременно некую робость и в то же время удовлетворение. Иногда он разглядывал свои руки, заскорузлые от нагара без конца чинимого мотора, и ему становилось не по себе. Знай свое место, пытался он сдержать собственное рвение. И все же он начал по воскресеньям ходить на барахолку, до самозабвения рылся в грудах растрепанных книг, и постепенно ему удалось собрать приличную литературу по архитектуре, а также альбомы и наборы открыток с изображением Таллина. За короткое время Лео сумел постичь строительные стили, бывший любитель, наслаждавшийся видами и строениями, теперь мог классифицировать дома по периодам. Взгляд обострялся, он уже умел различать позднейшие перестройки, уродовавшие исторические здания; было даже немного жаль, что его предыдущий безоговорочный восторг дал трещину.
По утрам, идя на работу, он бормотал себе под нос термины, которыми была забита его голова. Сонный Вильмут шел следом и бурчал: каннелюра, что это за инструмент?
Когда Вильмута не было дома, Лео доставал из-под койки школьный блок для рисования — желтая шершавая бумага просто съедала графит — и пытался срисовывать с картинок городские виды. Беспомощные рисунки приводили его в отчаяние. Лео стыдился своей безнадежной страсти. Заслышав на лестнице шаги Вильмута, он в панике, торопясь, прятал блок в чемодан. Ранней весной Лео еще до первых петухов отправлялся в центр города, где на пустынных площадях хохлились стаи голубей, а дворники скребли метлами водостоки, и, остановившись под сводом или спрятавшись за углом, пытался набросать в записной книжке какой-нибудь вид. Неуклюжие линии огорчали его, однако со временем рука обрела твердость, и что-то стало получаться.
Вильмут ничего не знал об увлечении Лео. Он был занят самим собой.
С бутылкой ликера в кармане он то и дело отправлялся в тесную пригородную квартиру, куда он однажды привел Лео. Наверное, похвальба его приелась, во всяком случае, Вильмут иногда возвращался домой рано, с кислой миной. Кто знает, что там у него не клеилось, может, наседали, торопили в зятья, как бы там ни было, но однажды в сердцах он выпалил:
— По крайней мере, старуха всегда ждет не дождется, и пол вымыт, хоть катайся по нему, и в комнате стоит запах мокрой тряпки.
Хотя он и был не в ладах с самим собой, его по-прежнему тянуло туда. Бросалось в глаза, что Вильмут старается выглядеть все лучше. Он заказал себе свитер с оленями, рогатые красавцы неслись через грудь Вильмута, снег летел из-под копыт, белые хлопья опускались на живот. В то время внешность Вильмута укора не заслуживала, животик еще не округлился, и лысина на макушке была еще в далеком будущем. Свитер с оленями делал его еще внушительнее, никто не должен был сомневаться — этот парень сметет любые преграды на своем пути. Вскоре Вильмут приобрел себе гусли, благодаря хорошему слуху он скоро научился играть простые мелодии. Из вечера в вечер он страстно разучивал вальсы и польки; чтобы избавиться от этого, Лео уходил бродить по городу. Была снежная зима, на фонарях лежали пышные шапки, валило как из мешка. Ветер сдувал с крыш сугробы, церковные шпили расплывались за снежной пеленой, возможно, их верхушки простирались над тучами и заглядывали в звездное небо. Когда начинал пробирать мороз, Лео отсиживался в читальном зале библиотеки: там стояла такая же сырость, как в доме невесты Вильмута, — посетители наносили ботинками снег.
Лео нагромождал перед собой кучу книг и журналов и пытался разобраться в мистерии тектоники. Его радовало, что он уловил узловой вопрос архитектуры, которую он увлеченно изучал. И у него, так же, как у Вильмута, вполне может быть хобби. Никаких планов он не строил и надежд ни на что не возлагал. Ушла забота: я опоздал. Возникли другие непреодолимые препятствия.
Дочери исполнилось всего одиннадцать лет, когда Лео поехал в Швецию. И все же она попросила, чтобы отец привез ей оттуда полный каталог жукообразных.
Еще будучи малышкой, Анне осторожно брала в руки жучков и ласкала их так, как другие ребятишки ласкают котят. Наверное, букашки эти были ее судьбой.
Игра на гуслях, которая не особенно услаждала слух Лео, в дальнейшем открыла Вильмуту не одни запертые ворота. Еще неизвестно, что вообще следует понимать под победой. Поражение — близнец победы. Кто во что верит, это зависит от того, в какую сторону склоняется чаша весов внутреннего чутья. Однако шкала внутреннего чутья у каждого своя. Во всяком случае, Вильмут был охвачен пленяющей силой своих гуслей, извлечение звуков одухотворяло его. Во время игры Лео не узнавал друга: Вильмут молодел, превращался в стыдливого конфирманта, его взгляд туманился, становился таинственным и мягким. Лео тоже хотелось забыть как о пронизывающем ветре, громыхавшем за стенкой на чердаке, так и о мыслях по поводу своей зашедшей в тупик жизни, которые иногда просто парализовали его.
В один из студеных вечеров Вильмут снова собрался из дому. Он завернул гусли в тряпку и даже не подумал о том, что придется тащиться по скрипучему снегу из одного конца города в другой, видимо, почувствовал себя готовым играть завораживающие мелодии своей возлюбленной в розовом платье. Лишь в полночь на лестнице послышались громкие шаги, дверь распахнулась настежь, волосы Вильмута заиндевели; тут же кристаллики льда стали таять, заискрились, все это очень шло его довольному, раскрасневшемуся, как у рождественского Деда Мороза, лицу.
Забравшись в постель, он со сладостным вздохом сказал:
— Ну, теперь все!
Захрапел, тут же проснулся и предупредил Лео:
— Учти, если увидишь на дверной ручке газету, не вздумай барабанить, а мотай на цыпочках ко всем чертям.
Гусли свое дело сделали. Впоследствии газета столь часто торчала в дверях, что Лео невольно уже начал подумывать о новом жилье. Сперва он решил набраться терпения: может, у них поубавится пыл. Было не так просто уйти от Вильмута. И не только потому, что они между собой ладили, вовсе иные обстоятельства связывали их. Отход друг от друга мог стать роковым, еще меньше они могли позволить себе ссору. Ярость Вильмута оказалась бы запалом для бомбы, кто знает, какой силы взрыв мог последовать. Когда-то в детстве Вильмут чуть было не убил однокашника Ильмара: с пеной у рта, с налившимися кровью глазами набросился он на него с палкой. Пришлось повозиться, чтобы оттащить его от жертвы. После они допытывались у дрожавшего Ильмара, чем же он так взбесил его, — да ничего особенного, назвал отца Вильмута засранцем.
До сих пор им с Вильмутом удавалось держаться единственно возможного и оберегающего их курса. Удрав из родной деревни, они выучились на слесарей, потом сели за руль машины, стали нужными людьми, выполняли работу, которая ценилась: почти незаметно влились в городскую жизнь, временами казалось, что для обоих прошлое покрылось дымкой забвения. Временами Лео даже представлял себе, что его жизнь вообще началась здесь, в городе, что он родился взрослым человеком, а все предшествующее — смутный и бессвязный ребус; можно было надеяться, что и Вильмут пришел к такому же выводу. Можно, хотя натуре друга и была чужда самодисциплина. В то же время Лео никуда не мог бежать от сознания, что защитная скорлупа самообмана полна скрытых трещин. К тому же Вильмут был мастер на сюрпризы: жизнь обязана держать в напряжении и щекотать нервы.
После снежной зимы, в течение которой Вильмут подчинил своей воле как струны гуслей, так и девицу в розовом платье, он еще раз огорошил Лео.
Однажды ранней весной, воскресным утром, они вдвоем отправились на рынок. Посреди площади расположились крестьяне из пригородных деревень — на телегах, со скудным товаром, брюква да картошка, у некоторых на сиденьях корзинки с яйцами. Они с Вильмутом сновали между возами с каким-то необъяснимым чувством пробуждения в душе, ноздри щекотал приятный с детства запах лошадиного навоза и талого снега. Навалилась тоска по дому, как там сейчас хорошо! С елей горохом скатываются капли, снег на глазах отступает под сень деревьев, по болоту можно ездить на лодке, ольшаник подернуло лиловым налетом.
И вдруг они столкнулись лицом к лицу с муракаской Амалией. Понятно, что она была без лошади, из такой далекой деревни в город ехали поездом, дальнюю дорогу и возможную перемену погоды всегда имели в виду. Амалия была запахнута в толстое зимнее пальто, за плечами набитый вещмешок, обшитые кожей валенки явно промокли, можно было догадаться, что голова ее в толстом платке, концы которого были завязаны сзади узлом, вспотела.
Раскрасневшееся лицо Амалии засветилось радостью, она подняла руки, готовая всплеснуть ими; но прежде чем варежки коснулись друг друга, Лео с ходу повернулся и, втянув голову в плечи, исчез из виду.
Решил, что и Вильмут последовал его примеру.
До самого вечера он с тяжелым сердцем лежал на койке.
Чувствовал себя скверно. Вдруг устал вытравлять в себе прошлое, ему хотелось с жадностью впитать новости, которые знала Амалия. Не могла же большая деревня после ухода Вильмута и Лео впасть в летаргию. Приложив доселе немало усилий, чтобы превратить для себя родные края и знакомых людей в нечто призрачное, он с волнением дожидался Вильмута и перебирал невеселые мысли: почему все должно было случиться так, что он угодил под жернова истории, теперь он вынужден следить за каждым своим шагом и своими руками обрубать собственные корни.
Спустя многие годы, находясь у сестры в Швеции, Лео явно представил себе тот жалкий послевоенный рынок, вспомнил и свою тоску по дому, и муракаскую Амалию с парусиновым заплечным мешком, от которой он бежал сломя голову. Этот внешне пустячный и столь давний случай отождествился с чем-то существенным в поведении сестры. У нее должны были найтись к Лео тысячи вопросов. Юлла видела, что брату не терпится отвечать и объяснять, потому шведская госпожа и изобразила интерес к их общим знакомым, однако расспросы о близких людях остались поверхностными. Мимоходом и словно бы нехотя она справилась о последних годах жизни матери и не стала вдаваться в детали. Старалась уйти от своих душевных мук. Ведь и Юлла умертвила в себе прошлое, состояние сестры было Лео знакомо, и он ограничился беглым рассказом. Мать сломала ногу, ослабела, и воспаление легких свело ее в могилу. Наверное, было достаточно и этой малости, чтобы растревожить душу Юллы. Нестерпимо больно было слышать задним числом о бедах и трудностях близких. Это непростительно: тебя не было рядом и ты ничего не взял на свои плечи.
В то воскресенье Вильмут вернулся на закате, с оплывших сосулек, свисавших с крыши над окном, уже перестало капать.
Вильмут принялся с жаром рассказывать новости, Лео как мог притворялся: почесывал живот, зевал, вяло отмахивался рукой, будто друг молол чепуху. Ах, этот деревенский треп, кинул он напоследок.
Вильмут обиделся, в глазах его вспыхнул зловещий блеск, чуть было не дошло до ссоры. Ради примирения Лео достал бутылочку. Они молча тянули водку, пока Вильмут не выпалил, что в этих житейских дебрях сам черт сломает ногу.
Лео прочел другу долгую проповедь. Среди прочего он подчеркнул, что пусть Вильмут не забывает, у них единственная возможность — раствориться среди городского люда, быть тихими, маленькими и старательными рабочими муравьями и ждать, когда минуют тревожные времена. Вильмуту, жившему мгновением и верившему, будто жизнь и состоит из того, что видится глазу, было довольно трудно вникнуть в суть неустанной работы суровых учреждений по сортировке людей и понять то, как с механической последовательностью из среды чистых отбираются нечистые. Стоит кому-либо указать пальцем или ради спасения собственной шкуры свалить вину на Вильмута и Лео, как их тут же схватят за шкирку — неужто Вильмут забыл, что происходило незадолго до войны?
Лео призывал друга к осторожности, требовал от него сдержанности и чтобы он всегда держал язык за зубами. Говорил, говорил и уже видел перед мысленным взором «черного ворона», который подъезжает к дому. Их вытащат из постелей, спихнут с лестницы, громыхая костями, они скатятся на крыльцо. Потом поведут по бесконечным коридорам, оденут в полосатые одежды, состригут волосы и разлучат друг с другом. Ночами бедолаги будут сидеть на допросах по разным кабинетам. Мрачный человек в мундире направит в лицо свет — из глаз можно тоже высверлить истину, — и посыплется град вопросов. Совпадут ли их ответы, сойдется ли их молчание?
Разыгравшееся воображение довело Лео, во рту у него пересохло, подкатывала тошнота, но он обязан был вдолбить Вильмуту, что они не должны попадаться на глаза бывшим знакомым; тоску по дому нужно было подавить, лучше, если даже у близких не будет представления, где они, собственно, живут и чем занимаются.
Хотя Лео перешел на полушепот — будто за стеной мансарды могли прятаться соглядатаи, — слова его были все же исполнены такой внутренней силы, что даже его собственная, зашатавшаяся было программа жизни обрела новую опору.
Позднейшие события подтвердили обоснованность опасений Лео. Ведь они не были навсегда и безвозвратно отрезаны от родной деревни, к обоим матери изредка приезжали в город, с домашним хлебом и маслом в котомках, и привозили самые свежие новости.
В том же Мурака власти провели облаву, хозяйский сын сидел за столом, ел горячий суп с клецками, автомат на скамейке под рукой. И тут — дух перехватило — забарабанили в дверь, в те времена громкий стук, как ночные кошмары, разносился по деревням, и звук этот зачастую оказывался началом конца; беда не миновала и хутор Мурака. Эрнст был принципиальным и яростным бойцом, он не потерял головы, прошил дверь насквозь. В короткой жестокой схватке погиб один из облавщиков, но и Эрнсту пришел конец.
В тот раз они с Вильмутом подумали одно и то же: родной дом — не спасение, а мышеловка.
На некоторое время от Вильмутовой удали остались одни ошметки. Он оставил свое намерение поехать в отпуск домой. Бабы с осенней пахотой не справятся, вздыхал он то и дело, и отец болеет.
Они оба крепко запили. Напрасно невеста Вильмута приходила искать своего жениха. Легкие шаги на лестнице, робкий стук — со стаканами в руках друзья затаивали дыхание и благодарили бога, что уплотнили дверь полоской войлока, — свет в коридор не проникал. Они пили каждый вечер, пока не стали дрожать руки.
От собственной одури помощи не было, и ночи не проходило без страшных сновидений. Повторялась одна и та же картина: он ползает на хуторе Мурака вокруг Эрнста, который лежит на спине, и из груди у него хлещет кровь, которую он, Лео, пытается остановить разными способами. Хватает возле печи бересту, ударяется головой о ведра и котлы, находит под вешалкой галошу, придавливая рану, однако струя крови настолько мощная, что ее не удается сдержать, она выбивается, как родник из-под ольхи, на который в старину мужики, интереса ради, наваливали камень. Не могли они одолеть воду, подземное давление, словно играючи, откатывало глыбины.
Постепенно, оправившись от потрясения, — помимо детских и юношеских лет, их с Вильмутом и Эрнстом связывало в тугой узел еще и другое, — Лео смог подавить в себе непристойную радость. Наверное, самая большая опасность миновала? Может, именно Эрнст, ценой жизни, предоставил двум землякам возможность удержаться на плаву? От этой страшной мысли Лео в мгновение ока постарел и впервые почувствовал, как он устал от жизни. Он еще долго вздрагивал по ночам: что бы произошло, если бы Эрнста взяли живым? Чего только у него бы не выпытали! В народе шушукали о жестокости властей, схваченные бандиты не вызывают жалости — вполне понятно, кровь за кровь, — у большинства сдают нервы, и они выкладывают все и даже больше того, лишь бы избавиться от мук. Вскоре после событий в Мурака арестовали и Амалию, которую на долгие годы услали туда, где мороз раскалывает живые деревья.
Когда им с Вильмутом случалось после этого бывать на рынке, они бродили между лошадей и телег, брали в руки клок сухого ломкого сена — стебельки приятно щекотали ладонь, — и можно было пялиться вокруг сколько угодно, теперь уж не попадется им на глаза муракаская Амалия в подшитых кожей валенках, в завязанном узлом на затылке клетчатом платке, с брезентовым заплечным мешком, никелированная пряжка которого блестела между лопатками Амалии, как некий пуп земных сокровищ.
Никак не укладывалось в голове, что Амалия угодила под колеса времени. Разом полный хаос: ни мужа, ни сына, ни дома, ни даже взятых в войну приемных дочерей, до одной лишь старости рукой подать.
Спустя годы за тысячи верст Амалия притащилась назад, опять оказалась в исходной точке пути и плакала от радости на пороге своего опустошенного и полусгнившего дома. Постепенно объявились и приемные дочери, которые привезли своих детей под присмотр бабушке. Быстротечная человеческая жизнь иногда предстает ужасающе долгой, даже если смотреть со стороны, и то повороты судьбы, кажется, всю силу вытягивают.
Что же до приемных дочерей Амалии, то в войну они прославились на всю волость. События на хуторе Мурака давали повод чесать языками, но не было самого хозяина, у которого можно было выпытать истину. Муракаский Абель в сорок первом ушел добровольцем на войну. Перед этим в Мурака между отцом и сыном вспыхнула страшная ссора. Чуть крыша с дома не сорвалась от злобной ругани. Сын и слышать не хотел, чтобы отец встал под одну шапку с красными и на их стороне начал бы палить из винтовки. Старый Абель твердил в ответ, что немцев он не переносит, и потому пойдет хоть с самим чертом заодно, — кто знает, чьи прародительские рубцы от порки на мызной конюшне саднили на его спине. Эрнст пообещал посадить отца в амбар под замок, пока тот не наберется разума. Отец оказался половчее сына, сунул ключ от амбара в карман и схватил брезентовый вещмешок — мешков этих с пряжками и кожаными ремнями в Мурака было бесчисленное множество: до войны Абель частенько наведывался в город, с одним рюкзаком отправлялся, другой прикупал, нес на руке, всегда оказывалось много покупок, — положил туда кусок солонины, каравай хлеба с чурбан величиной — муракаская Амалия выпекала в здешних краях самые большие караваи, сама смеялась, что, мол, от лени это, — не забыл захватить смену белья, шерстяные носки да ложку, и был таков.
Потом Амалия рассказывала, что Абель отмахал прямо через картофельное поле к волостной управе, просочившееся сквозь рюкзак соленое пятно разошлось по пиджаку, мясу-то стечь не дали, Эрнст скрипел от злости возле матери и клялся, что не простит этого отцу.
На второе военное лето в воротах хутора появилась какая-то женщина, ведущая за руку маленькую, светловолосую девочку. Сказала, мол, Абель, перед тем как отправиться на грузовике в Россию, велел, если будет туго, привести ребенка на прокорм в Мурака. Амалия не знала, то ли ей плакать, то ли смеяться, Эрнст уставился на маленькую сводную сестренку, что бычок на новые ворота, он так и не привык к ней и обходил стороной. Оправившись от растерянности, Амалия решила: ребенок не виноват в том, что ее Абель ходил кобельничать в город. Однако на этом испытания муракаской хозяйки не кончились. Едва прошел месяц, как притопала другая бабенка из города и повторила те же слова, что и предыдущая. К маленькой сестренке Эрнста добавилась еще одна, чуточку постарше, крепкого сложения, темноволосая, и все удивлялись, что девчушка как две капли воды похожа на Амалию. Что ей оставалось делать, кроме как взять под свое крыло и второго ребенка. Девочки быстро пообвыкли, хорошо между собой ладили, они бегали за приемной матерью на покос и на выгон, и вскоре Амалия уже говорила про них: милые мои цыплятки. Муракаская хозяйка не стеснялась бывать с девочками на людях, ходила с ними в церковь, в поселок или на праздник поминовения погибших в освободительной войне — к бронзовому солдату, возле которого деятели из самоуправления в иванов день с трибуны, украшенной березками, произносили речи. Вскоре Амалия уже похвалялась деревенским бабам, какие хорошие у нее девочки: и грядки выпалывают, и овец из одного загона в другой перегоняют. Амалия не переставала удивляться, мол, у ее городских ребятишек работа сидит в крови, а она-то думала, что на булыжных мостовых вырастают одни лишь вертихвостки.
И все же для соседей не осталось не замеченным, что хозяйка Мурака то и дело бросает озабоченные взгляды на дорогу, боясь, видимо, не пожалует ли еще какой отпрыск Абеля.
Прослышав о черных днях хутора Мурака, Лео, придавленный первым кругом усталости от жизни, с чувством стыда подумал о человеческом недоброжелательстве. Появление внебрачных детей Абеля кинуло деревенским кость в зубы. Когда медлительные люди входят в раж, они без устали талдычат об одном и том же. Амалию поддевали и высмеивали, кто как мог. То и дело по поводу хозяйки отпускались глупые шутки. Просто удивительно, что Амалия не сбежала от людей на болотный остров. Деревенский люд копался в мусорном ящике памяти, припоминались старые истории, говорили, что Абель и до женитьбы был охоч детишек стряпать, только пусть Амалия не беспокоится, великодушно утешали ее, те дети уже взрослые и на своих хлебах. Перемывали косточки и Вильмутовой матери, всяк знал, как Абель в свое время осаждал ее, ходил по ночам под окно спальни пугать молодоженов, хотел отбить у отца Вильмута его жену. Тот схватился в сердцах за ружье и вынудил Абеля отступиться. Тогда хозяин хутора Мурака и посватался к первой попавшейся девушке, даже не взглянул, прямые ноги у Амалии или кривые. Этим люди задевали ее больное место, литые ноги Амалии и впрямь были колесом. Случалось, что Амалия уставала от людской злобы, и все же она не обдавала насмешников руганью. Ее охватывали слезы, коренастая, средних лет женщина, словно ребенок, терла кулаками глаза и, всхлипывая, бубнила, что угораздило же Абелю запропаститься с красными в России, теперь нет никого, кто бы постоял за нее. Эрнст стыдился деревенских пересудов, он открыто страдал, лицо его каменело. Было видно, что его трясет от ярости, но он не давал свободы чувствам, воспитывал в себе железную волю, на защиту матери не вставал, давая понять, что он выше людской низости.
Только на вторую осень после окончания войны, за несколько недель до той роковой ночи, когда на хуторе Мурака загремели выстрелы, городские мамочки увезли своих маленьких девочек. Дети держались за юбку Амалии и плакали — они не хотели расставаться со своей муракаской мамой. Но побочные жены Абеля были непреклонны, девчушкам привезли из города по зимнему пальто и насильно заставили отправиться в дорогу. Амалия запрягла лошадь, зачастила в амбар, приготовила каждой из девчушек котомку с провизией и отвезла мамочек с их детками на станцию.
Судьба распорядилась разумно — дети не увидели муракаского побоища.
На первый взгляд, у двух столичных рабочих, у Лео и Вильмута, не было никаких связей с убитым бандитом Эрнстом. Ничего у них неподеленным не осталось. Давным-давно разошлись их пути: лояльные к новой власти рабочие парни растворились в обществе, приложили руки к заглаживанию следов войны, никому из них и в голову не приходило связать свои мысли с наводящим страх расхожим понятием «вредительство», они честно, не жалея сил, вкалывали. Вроде бы просто делить людей, проводя черту между разными группами, слоями, массами. Враг народной власти Эрнст держал палец на спусковом крючке и вместе с себе подобными таился по лесам и зарослям. Такие, как он, верили, что дождутся белого парохода и очистят отечество от красных. Вильмут и Лео конечно же были в глазах Эрнста предателями, подонками, которые махнули рукой на высокие идеи и приспособились к новому строю. В переломные времена люди словно бы надевали маски, белые и черные. Полутонов не существовало. Игры случая никто и в расчет не хотел брать.
Мужики постарше, да и сами они — Эрнст, Вильмут и Лео — не отказывались при немцах от удовольствия подразнить власти. Сын батрака с маслобойни Оту Кукк, верзила из простаков, был горазд собирать глупые присказки. Ему-то и набили башку всякой дрянью, и Оту страсть как гордился этой подобранной мудростью. Целыми днями ездил верхом на белом мерине маслобойни по поселку, орал непристойности и добавлял к каждой из них имя Гитлера. Чего греха таить, и стар и млад тешились горлопанством Оту: устами дурачка изливали свою затаенную вражду, словно бы сами отделывали немцев и таким образом становились причастными к политике.
Однажды в поселок явились полицейские, они поехали на машине вслед за скачущим Оту, настигли его за мостом на речной пойме, там и пристрелили. Досталась пуля и его мерину, словно и лошадь потешалась над Гитлером.
Смерть Эрнста рассеяла висевшую над Вильмутом и Лео угрозу. Часть горя свалилась с души, но легче от этого не стало, пустое место заполнилось тоской. От нее Лео и по сей день не освободился полностью. Во всяком случае, осталось ощущение неоплатного долга.
Будь Эрнст в живых, Лео не посмел бы и глянуть в сторону института. По весне, после смерти однокашника, Лео обзавелся учебниками, взрослый человек принялся изучать книги, предназначенные для детей. Необходимо было уяснить себе современные взгляды на историю и общество и осветить в памяти точные науки, предвоенное свидетельство об окончании гимназии в новых условиях не имело полной цены. Странно, правда, но когда ему надоедала зубрежка, да и потом, в институте, на архитектурном отделении, в моменты усталости — учеба, казалось, шла через силу, и появлялось желание послать все к чертям и посвятить жизнь привычной баранке, — он снова и снова вспоминал Эрнста. Со временем давно покоившийся в земле школьный товарищ стал неким прибежищем, туда стекались его разбредающиеся мысли — самоощущение выравнивалось и хандра отступала. В такие безнадежные мгновения Лео внушал себе: чего терзаешься, Эрнст пожертвовал собой и ради тебя. Лео давал себе отчет в парадоксальности этой связи — и все же? В конечном результате все трагедии свершаются ради тех, кто остался в живых.
В Швеции, на похоронах, уставившись на урну с прахом отца, Лео вспомнил давний момент, когда он стоял перед мандатной комиссией института, которая решала: быть ему студентом или нет. Перед другими подобными ему деревенскими ребятами у него, возможно, было даже преимущество. Не один сокурсник, прошедший по волоску в институт, говорил, что у Лео завидная анкета. И действительно, не за что было ухватиться; почти бедняцкое происхождение. Отец — по профессии столяр, впоследствии — арендатор хутора. За два года до войны оставил хутор и переселился с сестрой Лео в город. Но что стало с ними в войну, об этом у Лео сведений не было. Ах да, пропали без вести, эта формулировка пришлась комиссии по душе. Мать — долгие годы батрачка, затем хозяйка арендного хутора, крестьянским трудом занималась и после войны. Сам он — известное дело, учился. По мобилизации в сорок первом году в армию не попал, потому что находился в уездной больнице — была повреждена нога. Удивительным образом у Лео по этому поводу сохранилась даже врачебная справка, а дни удалось немножко подогнать. После войны — слесарь, потом шофер автобазы, где работал и во время вступительных экзаменов. Оккупационная мобилизация? Естественно, от службы в фашистской армии уклонился, в родных местах хватало болот и лесов, где можно было укрыться.
Возле урны с прахом Лео подумал об удивительных зигзагах жизни: словно заботясь о будущих интересах сына, отец незадолго до войны оставил семью.
При поступлении в институт Лео мог и не знать, что отец убежал с сестрой в Швецию. Все равно что скрыл его существование.
В благодарность отец оставил ему наследство.
На эти деньги Лео приобрел себе машину. На ней же он подъехал к укрывшемуся в лесу старому господскому дому. Без машины он бы сюда и не попал, чтобы спать на полуразвалившейся плюшевой софе с прохудившейся обшивкой, то и дело просыпаясь и вспоминая про отца, от которого отрекся, и других покойников.
Жизнь знай себе посмеивается над человеком.
7
Лео изучал нижний этаж старого дома — сестры хорошо ориентировались в здешних хламовках и кладовках и нашли ему рулетку, молоток и стамеску. Совершенно очевидно, что прежде чем капитально к чему-то приступать, следовало составить основательный план дома. Чертить схемы старых домов труда для Лео не составляло — когда его освободили от работы в министерстве, он на несколько лет устроился в ремонтную организацию. Лишь профану кажется невозможным ориентироваться в расположении балок и различать несущие стены и переборки, видеть за позднейшей перестройкой первоначальное расположение помещений. Лео нравилось проникать в строительные тайны, снимать наслоения. Бесчисленные ремонты — в большинстве избирается путь наименьшего сопротивления — с течением времени наращивают на все свою коросту. Как правило, в старых домах потолки, стены и полы покрыты слоями картона, бумаги, обоев и фанеры. Ничего удивительного, если какая-нибудь прорезанная в деревянной стене дверь впоследствии окажется замурованной кирпичом. Лео доставляло удовольствие нащупывать первоначальную поверхность, в очередной раз можно было убедиться, что зданию причиняют вред не только вода, ветер и жуки-точильщики; именно человек является самым большим врагом дома. При перестройке жилища, преследуя какие-то свои интересы, разрушают саму идею архитектора, теряются ясность и гармония сочленения — искажается чья-то творческая мысль.
Время от времени, задумавшись, Лео опускался на какую-нибудь скамейку, в старом доме имелись десятки причудливых мест для сидения, начиная от кресел в стиле югенд и до крепко сбитых крестьянских лавок. Лео проверял свои наброски, вновь перемерял какой-нибудь отрезок стены, тут же вскакивал, простукивал молотком перегородку, ставил стремянку, забирался под потолок и колупал угол стамеской — прежний облик дома постепенно вырисовывался в его воображении.
Весь нижний этаж, кроме кухни, кладовок и лестничной клетки, оказался единой просторной и когда-то, видимо, роскошной комнатой, вернее, залом. Еще накануне, при беглом осмотре дома в сопровождении сестер и Вильмута, Лео обратил внимание на очевидную странность: пятиугольная, с декоративной нишей печь выглядела в тесной комнатенке навязчиво громадной. Изразцовая площадь обогрева не сочеталась с кубатурой помещения. За этой явно перетапливаемой комнатой находилась чудная, вытянутая комнатенка, с единственным окном в конце. Рядом еще одна подобная кишка, на этот раз с тремя высокими окнами в продольной стене — странный светлый коридор, который кончался тупиковой стеной и никуда не вел.
Все эти несуразные комнаты были результатом более поздних реконструкций. Перестройки явно предпринимались постепенно, по мере уменьшения потребностей былых хозяев в просторном жилье. Люди старели, менялись времена, перестали устраиваться приемы, здесь давно уже не танцевали — зал утратил для них смысл. Жизнь сама собой поутихла, меньшее помещение казалось приветливее огромного зала, и первая поставленная перегородка отрезала от зала три расположенных один возле другого и смотревших на запад окна, но западные ветры в этих краях преобладают, и через щели рассохшихся рам начал задувать холод. Стареющие люди радовались: легче стало переживать зиму, печь съедала меньше дров. Мелочи быта становились существенными, тем более что во время войны положение с березовыми дровами резко ухудшилось, крестьяне больше не подвозили к сараю звонких поленьев.
Старость с грустной радостью оглядывается назад — вот были времена! — и с горестью смотрит вперед. Жизненный круг все сужался. Тем временем общественные хозяйства завладели хуторскими лесными покосами. До сих пор они требовали постоянного прорежения и давали топливо. Государственный лес подчинялся производственным планам, оттуда сюда, в захолустье, ничего не перепадало. А кровеносные сосуды старичков в господском доме все сужались, сердце перегоняло кровь со все большим трудом, а осени, зимы и весны, по сравнению с прежними, казались все холоднее. Даже летом, в дождь, было приятно развести в печи огонь, это тоже слегка оживляло.
Потом размеры бывшего зала уменьшили еще и другой перегородкой, так что огромная печь обогревала теперь совсем маленькую комнату. Лео представил себе этот господский дом погруженным в зимний сон посреди нетронутого снега. Единственный признак жизни — узенькая тропка от двери до колодца. И уже никто не нуждался в отгороженных от зала помещениях, не говоря уже о верхнем этаже. Лишь в центре дома теплилась замедленная жизнь, тут же возле печи стояли кровать, обеденный стол, два стула с высокими спинками, на которых можно было и вздремнуть.
В молодости кажется, что потребности развиваются лишь в одном направлении, они беспрестанно растут, лишь бы успеть скорее сгрести в охапку мир. Позднее незаметно подступает момент отступления, человек начинает от всего отстраняться, отвоеванный у мира для себя простор уже страшит, много ли нужно, хватит и закоулка.
Мать Лео в последние годы тоже пользовалась только кухней, комнаты стояли пустые. Она словно бы и не чувствовала себя дома, будто ютилась во временном жилье. Лео упрекал ее в неприхотливости, ну почему она должна спать на кухне, на убогой койке, если в комнате стоит большая кровать с шелковым одеялом и горой подушек. На недовольство сына мать смущенно и виновато улыбалась, она не могла объяснить, почему она избегает чистых и застеленных кружевными простынями и скатертями комнат и только изредка заглядывает туда, словно в безжизненные музейные покои.
Похвально, что три сестры еще ценят ощущение простора.
И Лео захотелось стать союзником старого дома. Хотя бы из почтения к творчеству неведомого ему коллеги. Подумать только, в зале был кассетный потолок, который потом забили фанерой. Лео не считается со временем, чертит планы этажей, на которых отмечает подлежащие слому ненужные перегородки, указывает, где под картоном и обоями упрятаны двери, обращает внимание на потолок зала, чтобы освободить его от позднего покрытия. Он внушает сестрам, что их владение может стать архитектурным памятником, подогревает их тщеславие, может, у них хватит упорства на реставрацию.
Если бы Нелла оказалась в компании сестер, она бы нашла подтверждение своему убеждению, что основная масса людей хорошая, деятельная и старательная, не похожая на недостойного друга Лео Вильмута. Рассуждения сестер за утренним кофе прозвучали бы для ушей Неллы музыкой. Дом, его окружение поднимают у сестер тонус. Они говорили о распределении труда между собой, принципы ведения планового хозяйства были ими хорошо усвоены. Постепенно они собирались открыть в хлеву скромную животноводческую ферму: корова — ее назовут Белладонной, — плюс свинья и с десяток овец — неприхотливость этой скотины общеизвестна, — куры уже поклевывают во дворе. Лео осторожно поинтересовался, каким они располагают транспортом — и услышал гимн велосипеду и лыжам. В социальном смысле сестры считали себя во всех отношениях положительной группой. Чем больше окажется тех, кто сам производит для себя пищу, тем меньше будет забот у государства. Они не были равнодушными к собственным интересам, это особенно подчеркивалось, когда речь шла о корнеплодах. Они увеличат количество грядок и в будущем станут потреблять лишь выращенные ими самими, не отравленные химикатами овощи. Продаваемая на городском рынке морковка обычно пахнет керосином. Уж у них-то хватит терпения, чтобы прополоть грядки, а не обливать их каким-нибудь вонючим составом.
У сестер был разработан план почти на десять лет вперед. В него входили и теплица и пасека. Возделать полоску земли и посеять ячмень было бы тоже неплохо. Можно будет иногда сварить пиво.
Наконец они дружно расхохотались.
Лео освободился от скованности. Слушая сестер, он печально думал, что столь оптимистичных людей ему трудно вынести. Или это был просто спектакль современных бабушек? Наконец-то явился зритель, которому можно было выдать за звонкую монету все что угодно. О сестрах Лео ничего не знал. Одни предположения и то, что видно с первого взгляда. Старшая Хельга несомненно выступала в роли ведущей. Такие женщины привыкли командовать. Еще неизвестно, на самом ли деле она бросила свою большую семью на произвол судьбы или же просто надоела молодым и ее выставили за дверь? По виду она была старомодной добродушной хуторянкой, хоть печатай портрет на обложке крестьянского календаря. Умеренная полнота деловитого и здорового человека, рыжеватые редкие и ухоженные волосы, чрезвычайно подвижные руки. Время от времени в желтоватых глазах Хельги зажигалась своеобразная готовность к действию, подобный взгляд бывает у людей, которые рьяно устремляются в бой, если кто-то ненароком затронет их права. Лео был уверен, что товарищи по работе вздохнули свободнее, отправив ее на пенсию. Такого рода люди, как Хельга, считают само собой разумеющимся, что их рабочий стол находится в наилучшем по освещенности месте; в то же время неудобно сидеть спиной к двери: не видишь, кто входит и зачем. Главное — прочное главенствующее положение в своей среде. Такие, как она, и не стремятся взлетать выше, чем крылья поднимают.
Если бы сестры, знакомясь, не выстроились по возрасту, Лео посчитал бы Урве самой молодой. Этой даме, видимо, раньше никогда не приходилось хлопотать возле закопченной плиты и носить из колодца воду. Несмотря на утреннее время, она была слегка накрашена. Хотя она и поддакивала сестрам, хохоча с ними наперебой, с ее лица не сходило высокомерие. Бросалось в глаза, что она озабочена своими руками: при малейшем действии пользовалась перчатками, они у нее были разные, и кожаные и простые. Резиновые перчатки она хранила от солнечного света в бумажном мешочке. Припудривала их после употребления тальком и ловким движением выворачивала наизнанку. Зато Сильви, младшая наверное, до того как поселиться в деревне, вообще не вела упорядоченной жизни, ее манера держаться выдавала несобранность и лень. Все время забывала, что за столом следует сидеть прямо, с удовольствием переставляла локти по обе стороны тарелки и не обращала внимания, если под локоть попадалась ложка или вилка. Старшие сестры явно занимались перевоспитанием младшей. Лео казалось, что Сильви любит по ночам бодрствовать и, подперев рукой подбородок, читать в постели романы. Видимо, иногда ранним утром она ни с того ни с сего вставала, натягивала теплый халат, варила себе крепкий кофе, всматривалась в темноту за окном, думала о бренности жизни и снова забиралась в постель, чтобы сладко и беззаботно проспать до позднего утра.
Почему все же сестры велели Вильмуту доставить его сюда?
Могли бы сразу сказать, что нужно составить поэтажный план дома. Лео отлично знал, как трудно в нынешнее время получить квалифицированную услугу; чтобы найти соответствующего специалиста, приходилось изворачиваться и хитрить. Но к чему здесь напускать дурацкую таинственность? Какое-то странное знакомство пятидесятилетней давности. Хорошенькая компания: шестилетний Лео, сестры, соответственно, трех, четырех и пяти лет. О чем они только могли философствовать, чтобы так запомниться друг другу!
Чем старше становится мужчина, тем меньше он выносит женские хитрости. Если есть что сказать, пусть выкладывают напрямую. Подразнивание выглядит просто нелепо. Лео не собирался ни с кем из них заводить шашни, он уже не в том возрасте, чтобы ворковать голубком, сестры — тем более.
Мысли Лео снова перекинулись на Неллу. Будь она тут, взаимоотношения сразу бы определились. Все бы уложилось в привычный масштаб: есть отдыхающие, которые, к примеру, снимают на верхнем этаже две комнаты, договариваются с хозяевами о столовании, обязанности и границы установлены, никаких путаных отношений.
Человек и без того постоянно заходит в тупик со своими мыслями и чувствами, и чем старше он, тем чаще. Ориентироваться в своем внутреннем мире становится все сложнее. Повседневная жизнь должна быть проще. В противном случае смешивается внутреннее и внешнее напряжение, и человек превращается в несносного недотрогу. И себе беда, и другим забота.
Лео дошел со своим планом до второго этажа. Он начал с комнаты на северной стороне, расположенной над кухней. Одну стену разделял громоздкий дымоход. Возле него стояли комоды, справа светлый, слева темный. У части ящиков отсутствовали ручки. На комодах в изобилии громоздился всякий хлам: выщербленные по краям вазы, старомодные фаянсовые кувшины для умывания, украшенные синими мельницами и крестьянскими девушками, угольные утюги. Один из них, тот, на который капала с потолка вода, был покрыт ржавчиной. Повсюду лежал толстый слой пыли, годами тут никто не прибирался. Лео поискал место посвободнее, куда положить свои бумаги. На хромой плетеный столик — неужто у него одна ножка усохла? — также была навалена всякая всячина. Бутылки и банки, журналы послевоенных лет, на развалившихся стопках журналов валялись пожелтевшие от времени бумажные самолетики. Со светлого комода свисал краешек какой-то красной ткани, после небольшого колебания Лео решил использовать ее как тряпку, чтобы стереть пыль. Он взялся за этот краешек, осторожно потянул — если мыши устроили там гнездо, то пусть уберутся на лучшие угодья. Тряпка тянулась и тянулась, пока не соскользнула на пол. Лео понял, что держит за рукав хламиду рождественского Деда Мороза. Белый ватный воротник был в целости, мыши не растащили его по своим норам. Расставив ноги, Лео застыл посреди кладбища старой мебели, среди бутылок и банок, старой одежды и прочего тряпья, чувствовал себя паршиво. В воображении своем он уже освободился от оцепенелости, натянул на себя красный халат, нацепил обнаруженную в комоде бороду из пакли и направился через солнечную лужайку, прошел под шелестевшими березами, вошел в кусты, перепрыгнул через заросшую канаву и достиг густого темного леса. Впереди должна быть поляна, где падал разлапистый снег вперемешку с мягкими варежками и носками, шарфами и перчатками. Мать была очень молода и хохотала посреди поляны. Смешило, что все, что падало с неба, ей предстояло еще связать и раздарить.
Когда-то в школьные годы, перед рождеством, они впятером — Вильмут, Ильмар, Эрнст, Вальтер и конечно же он сам — скатали из талого снега на болоте множество снежных баб. Тайком притащили из дома армяки и жилеты, картузы и обвислые шляпы и вырядили во все это снежные фигуры. Они так разукрасили болото, что в сумерках от зрелища захватывало дух.
Но мало того. Разрезали на половинки целую корзину брюквы, выдолбили, залили овечьим жиром, вставили фитили — позвали рождественским вечером на болото девушек. Люди всем миром благоговейно молились в церкви, а по болоту разносились озорные вскрики и визги. Зажженные плошки из брюквы горели, свет их манил и отпугивал: разряженные снеговики казались одушевленными привидениями, выбравшимися на простор из болотных дебрей.
Кто-то привел с собой маленькую Эрику, Лео в тот рождественский вечер не обратил даже внимания на укутанную малышку.
Спустя много лет Эрика припомнила эти снежные фигуры и огоньки. Было жутко и красиво, так она сказала.
Лео давным-давно уже не вспоминал свое детство. Он считал признаком старческого маразма откапывать свой далекий душевный трепет. Тем более что юность его не была столь светлой, чтобы умиляться ею.
Всегда и во все времена именно дети больнее всего ударяются о безжалостное требование жизни: ты должен подтвердить свое право на место под солнцем. Должен заботиться о том, чтобы оставаться среди людей. Детство Лео прошло на воле, для мальчишки были открыты поля, рощи, поляны; он жил в просторном доме. И все же Лео еще мальчишкой почувствовал, что он словно бы и не принадлежит той среде, в которой жил; не то чтобы он существовал по чужой милости, однако ему никак не удавалось целиком втиснуть себя в свод привычных обычаев, укоренившихся в сознании людей. Господствовавшие в то время понятия как бы уязвляли его, делали его ощущение простора зачастую обманчивым и мнимым. Со временем все упростилось, уклад жизни демократизировался, старые предрассудки в большинстве своем рассеялись, новые условности не были столь непоколебимыми, как прежние. Вообще с течением времени растворилось столько старых и непреложных норм, что понемногу стало даже недоставать некоторых из них; расплывшиеся очертания канонов усугубили трудности приспособления, что вызывало какие-то странные, неопределенные страдания.
За несколько недель до отпуска Нелла однажды вечером чуть ли не силком потащила Лео в гости.
Уговаривая мужа, Нелла охарактеризовала свою племянницу как примерного человека. Родственница Неллы, отмечавшая свое двадцатипятилетие, работала, училась заочно, растила двоих детей. Чего еще можно было требовать от современной молодой женщины?
Почему-то Нелле до сих пор казалось, что и Лео оценивает людей в зависимости от их деловитости и старательности.
Никогда раньше Лео не бывал в доме племянницы. Свадьбу молодой родственницы справляли давно, ее праздновали в ресторане. Там сидело в ряд несчетное количество тетушек; Лео оказался поблизости от них и попал в фокус их изучающих взглядов. Тетушки то и дело наклонялись друг к дружке и шептались. Они не простили Нелле, своей любимице, того, что она сменила первого мужа на Лео. Поступок Неллы остался для них непонятным. Предпочесть молодому и видному мужчине человека гораздо старше себя! О чем она только думала?
Неприязнь к Лео так и осталась навсегда.
Поездка Лео в Швецию вроде бы чуточку приподняла его в их глазах. Ах, вот как, у него, оказывается, за границей родственники, почтительно удивлялись тетушки. На погоны национальной принадлежности ему нацепили звездочку.
Естественно, Лео хотелось увильнуть от присутствия на дне рождения племянницы Неллы. У него не было желания видеть за столом усевшихся в ряд достопочтенных тетушек, у всех седые волосы уложены в прическу по последней моде, на груди дорогие броши, а в глазах пристальный интерес — и как только такой, как ты, пролез в нашу родню!
Лео подавил в себе враждебность, ему не хотелось огорчать Неллу. Послушно повязал самый лучший галстук, засунул в нагрудный кармашек платочек — ладно, он готов вытерпеть ее тетушек.
Они свернули на разбитую улицу, на кромке выщербленного тротуара между каменным крошевом прорастали сорняки. В коридоре повидавшего на своем веку деревянного дома Лео по примеру Неллы старательно вытер о коврик ноги; позвонив, они очутились в крошечной передней, Лео едва не ударился о колесо подвешенной к потолку детской коляски. Это его развеселило. Неужто крик европейской моды дошел и сюда?
Увы, здесь все говорило о крайней тесноте.
Элегантные тетушки сидели, сгрудившись на кушетке, с недовольными от неудобства лицами. Новорожденная стояла спиной к единственному окну, словно собиралась перевеситься через подоконник. Ее поникший вид ясно говорил: зачем вы все пришли и вырядились! Племянница вытянула вперед руки, приняла цветы, протиснулась между круглым диванным столиком и коленками тетушек, прошла к дверям и втянула голову в плечи, не глядя на гостей. Где-то за стенкой из крана зажурчала в вазу вода.
Гости держались как можно теснее, никто никого не хотел стеснять и задевать, и все же передача кофейных чашечек напоминала потасовку. Нелла проявила заботу о муже, освободила возле себя у теплой стенки место. Лео держал чашечку, отпивал кофе и разглядывал сооружение у противоположной стены. Двойные детские нары в тесной комнатке выглядели невероятно громоздкими, будто в ней поставили каркас карликового домика. Сами дети оставались настолько безмолвными, что Лео просто вздрогнул, заметив, что друг над другом сидят две маленькие девочки. Девочка с нижней полки ерзала, обстановка еще не успела сковать ее живую натуру, но наверху сидела уже маленькая измученная старушка. Свесив ножки с нар, она крепко прижимала к груди детскую сумочку, украшенную отвратительно размалеванным цветком. Видно, в этой клеенчатой сумочке она хранила какое-нибудь платьице для куклы или какую другую девчоночью мелочь — все свое богатство.
Ребенок медленно раскачивался из стороны в сторону и не проявлял ни малейшего нетерпения. Изучая девочку, Лео почувствовал, как его мускулы заныли. Теснота приучила ребенка к неприхотливости, он усвоил, что его пространство кончается краем нар. Лео представил себе, как девочка, испугавшись чего-нибудь, взбирается по лесенке с тремя перекладинами наверх и прячется в постельке. Только там она не попадала никому под ноги, там она никому не мешала. Полка с ватным матрацем была ее истинным домом.
Лео не терпелось пробраться между гостями и снять с верхних нар себе на плечи маленькую раскачивающуюся фигурку. Убежали бы они из этой затхлой комнатушки, поехали бы за город, остановились бы на краю поляны и побежали бы наперегонки. Его подогревало нетерпение узнать, способен ли этот ребенок вообще ликовать и кувыркаться или радость жизни в нем уже угасла. Лео поискал свободное место. Он представил себе прощающихся тетушек: с блюдечками в зубах, ложечка и чашечка позвякивают на блюдце, левой рукой они нащупывают на вешалке плащ, правую протягивают имениннице. Лишь за дверью освобождаются от посуды, ставят ее в коридоре на табурет.
Мгновением позже его втянули в разговор. Он должен был поддерживать беседу. Нелле не нравилось, когда муж показывал свою замкнутость. Лео говорил как-то механически, по-прежнему поглядывая на девочку на верхних нарах. Маленький измученный ребенок никогда не узнает, что кто-то хотел порезвиться с ним на просторе и услышать его смех.
Лео скомкал пыльный халат рождественского Деда Мороза и со злостью швырнул его в угол, шумно сдвинул нагроможденные на комоде предметы и разложил на покоробившемся уголке свои бумаги. Результаты обмеров он успел забыть, пришлось еще раз растягивать рулетку. Забравшись на табурет и измерив высоту комнаты, Лео с некоторым удовлетворением подумал, что ему, собственно, ни метр, ни рулетка больше не понадобятся, при определении на глазок ширины и высоты он ошибался всего на полдюйма. Он свой глазомер давно выверил. Тем более что и эти два сантиметра всегда оставались спорными, обои на стенах старых домов всегда отвисали, а прибитый к обшивке картон округлял углы.
Решимость сестер взяться за капитальный ремонт старого дома позволяла строить разные предположения. Оторванность от жизни? Непреодолимая страсть к простору? Комплекс тесноты, проистекавший от многолетней скученности и нуждавшийся теперь в компенсации? Наверное, лишь птицы смиряются с клеткой и не в состоянии представить себе большего. Видимо, человеческие устремления невозможно подавить окончательно. А может, сестры просто хотели утвердиться в глазах ближних.
Каждое лето к ним будут съезжаться кучи родственников, которые, млея, примутся благодарить за великолепную возможность отдохнуть. Спокойствие, тишина — наконец-то они смогут провести отпуск на лоне природы. Ребятишки начнут бегать по лестницам вверх и вниз, заберутся на чердак, станут прыгать по старой мебели, а молодые мамы и папы примутся истязать транзисторы и портативные магнитофоны. Остальные соберутся в кружок, будут чесать языками или загорать под яблонями — и все будут довольны жизнью. Сестры же станут ходить и пыжиться от гордости: смотрите, что мы смогли для вас устроить.
Пусть делают, что хотят, Лео стало как-то жаль Неллу, она словно бы терзалась на узеньких нарах, подобно той маленькой девочке. В будущем году они поедут отдыхать вдвоем к теплому морю. Кажется, со здешним краем все кончено. Вот и Вильмут спихнул друга, как постороннюю вещь, в лесную глушь — чтобы не стеснял его. Видно, Вильмуту надоело, что Лео по укоренившейся привычке все еще за ним приглядывает. Вполне могло осточертеть. Пришло время жить, заглядывая вперед. Они незаметно состарились. Сыновья у Вильмута взрослые, у дочки, по слухам, уже у самой дети.
И Лео обессилел от цепей, которые он носил все эти десятилетия. Нелла не знает, что его, казалось бы, нерушимая дружба с Вильмутом навязана обстоятельствами. Быть может, соединяющие звенья проржавели? Видимо, мера страха переполнилась.
Завтра Лео сядет в машину, нажмет на газ и устремится в зеленый туннель лесной дороги.
8
Но еще в тот же день Лео сел за руль, завел мотор и свернул со двора в сумеречную теснину. Ветки орешника скользили по ветровому стеклу и крыше. Хельга, восседавшая рядом с Лео на переднем сиденье, вскользь заметила, что они собираются обрезать эти ветки секаторами. Особенно трудно ехать по этой дорожке на велосипеде, ветки бьют в лицо, и приходится склоняться над рулем, подобно гонщику.
Лео усмехнулся. Ну и ну, дамы собираются подстригать лес садовыми ножницами.
Однако же он не уехал отсюда в одиночестве, как собирался, — человек полагает, бог располагает, — все три сестры сидели в машине. Они держали в руках букеты цветов, в сумках термосы и еда.
Всего лишь час тому назад Хельга заявила, что им нужно немного поездить по округе. Она и мысли не допускала, что Лео может заартачиться. Ладно, раз человеку нравится командовать, пусть потешится. Со своей поклажей сестры пешком далеко бы не ушли.
Выехав на шоссе — машина как раз набрала скорость, — Хельга сказала, что скоро надо будет свернуть налево. Приказ есть приказ, и они поползли по дрянной, выщербленной гравийной дороге, позади их столбом стояла пыль. Случись кто навстречу, Лео придется прижиматься к колючей проволоке, ограждающей выгон, иначе не разминешься. Современные женщины привыкли считать себя в любом деле смекалистее мужчин, они то и дело стараются быть вожаками и хватаются за вожжи, но зачастую им не хватает ума понять, что в объезд скорее прибудешь на место. Можно ли не знать эти магистрали и проселки, эти родные края детства! Наверное, каждый в своем воображении время от времени, как бы с высоты птичьего полета, с грустным сожалением оглядывает родной пейзаж: удивительно, что все аллеи и тропинки сбегаются в одну точку — к родному двору.
Правда, после смерти матери Лео несколько лет не был в этих краях и, возможно, забыл про какую-нибудь кучу камней в поле или какой ольшаник, но только не дороги.
Уважаемые дамы могли бы назвать место назначения. Лео и без указок довез бы их туда. А то приказывают, как таксисту, первый день сидящему за рулем в чужом городе, — налево, направо.
Нет, женская самонадеянность не стоила того, чтобы портить себе настроение. Тем более что Урве и Сильви не в чем было упрекнуть, они не спешили поучать, смирно отсиживались.
В поселке машина снова пошла по асфальту, можно было опустить стекло, пыль не забивалась в салон. Сельскохозяйственные машины местами нанесли на дорогу землю, по обочинам валялись упавшие с возов клоки зеленого корма, в последний раз Лео что-то не приметил здесь фермы. Перед магазином тарахтели два трактора, видимо, трактористы запасались пивом. Тут же, возле покосившейся коновязи, обрызганной давным-давно ушедшими на лучшие выгоны лошадьми, были прислонены несколько велосипедов, на рамах сумки, набитые до отказа буханками хлеба. Старухи не торопились домой, они стояли кучкой и судили-рядили. Лео ехал медленно, изборожденные морщинами загорелые лица поворачивались, разглядывая машину. Лео никого из них не знал. Когда расстаешься с родными местами в молодости, остается обманчивое впечатление, будто время там останавливается. В действительности даже те, кто поселился в тихом деревенском захолустье в дни войны, успели уже состариться. Почему-то верилось, что спустя и десятилетия найдешь бывших старушек, точно время их не берет и они вечны.
Дверь народного дома по-прежнему была забита досками, крыша скособочена, видимо, потолочные балки истлели от дождя. Здание возводилось всем миром перед первой мировой войной, и теперь уже никому не было дела, чтобы сломать эту развалюху. Лео знал, что за последнее десятилетие жителей в поселке стало намного меньше, да и в окрестных деревнях проживали только отдельные старые люди. Многие прежние добротные хуторские постройки стояли пустые и умирали медленной смертью забвения. Все это наводило грусть, Лео бывал в этих краях лишь по крайней необходимости. Обстоятельства, отводившие его от родных мест, на сегодня ушли окончательно в прошлое, посыпаны пылью времени и в расчет не брались. Шведская госпожа, фру Улла, интересовалась, как там поживают в нашей старой родной деревне, и, наверное, зареклась спрашивать. Лео утомил ее длинной лекцией о перемещении экономических центров в другие места. Прежние разбросанные деревни не увязывались с сегодняшним крупным хозяйством, новые поселения вырастали, как грибы, люди хотели жить в современных домах, так, чтобы и врачебная помощь, всякого рода услуги, культурные мероприятия и транспортные средства были под рукой. В нынешние времена и деревенский житель непременно стремится утолить жажду общения, подчеркнул Лео. Юлла молча, с сумрачной грустью во взоре, слушала объяснения брата. Улучшение жизни деревенских людей привело ее в какую-то безутешность. Естественно, она держала в уме не здешних людей, а только лишь собственные воспоминания. Значит, всего, что она в себе хранила, уже не существовало. Происшедшие перемены Юлла не в состоянии была себе представить, оставалась пустота. И тоска по отчему дому обратилась в ничто, грустно было расставаться с горькими чувствами. Дом, этот извечный для каждого столп, сохранялся только в навязчивых снах.
Хельга попросила остановиться возле старого кирпичного здания, в бывшей школе теперь обосновался дом для престарелых. В палисаднике, перед окнами, шеренгой росли крупные красные бегонии. Лео решил, что он посидит в машине, подождет, пока сестры вернутся. Хельга пообещала, что они долго не задержатся. Навестят знакомую, отнесут гостинцев, родные у старушки живут далеко, у них свои заботы и семьи, редко они сюда наезжают.
Сестры на цыпочках, гуськом, вошли в калитку, оставляя следы на только что приглаженной граблями дорожке. У Лео появилась неприязнь к степенной торжественной умиротворенности, на которую настраивали сестер это здание и его окружение. Ребятишками они стаей вываливались здесь во двор, пихали друг друга в сугроб, устраивали свалку, и корпели над книгами — и вновь уходили в темень и приходили в метель, из полуприкрытой двери школы проглядывал домашний желтоватый свет; настоящие парни, они не блуждали в этом стылом мире и впросак не попадали. Являлись, топая по ступенькам крыльца, стаскивали шапки, выколачивали снег. В прихожей, которая одновременно служила и залом, топилась печь, со стен смотрели Крейцвальд и Койдула.[2]
Те же самые выщербленные каменные ступени и филенчатая наружная дверь с латунной ручкой. Лео вслед за сестрами вошел в сумеречную прихожую. Все то же квадратное помещение, белые высокие двери, и печь на прежнем месте, хотя выглядит меньше и беднее в своей новой жестяной обшивке.
Ни одна из дверей в классы не была замурована, никто в этом доме не удовлетворял свою страсть к перестройке. Наверное, наверху, в бывших учительских квартирах, живут сестры и санитарки. В детские годы Лео немало приходилось слышать о строительстве школы. После революции девятьсот пятого года начали возводиться красные каменные стены, царь искал-де примирения с крестьянами через новые очаги просвещения. Те, кто считали злом любую власть, рассказывали о небывалой буре, разрушившей и церковную колокольню, и школьную избенку, крыша приземистой развалюхи с грохотом обвалилась — новое здание и должно было заменить старое, окрестным жителям пришлось раскошелиться.
Немыслимо давно стояли они, ребятишки, кольцом в тесном школьном зале, при мерцающих свечах рождественской елки, пели «Святую ночь», и запах смазанных салом сапог смешивался с восковым чадом. Все это вместе напоминало сладковатое пивное сусло, от которого перед праздником животы отвисали.
Дородная женщина, то ли заведующая, то ли медсестра или санитарка, вышла к гостям. Поприветствовала всех за руку, словно старых знакомых, и сказала громким, радостным голосом воспитательницы детского сада:
— Я сейчас ее приведу.
Вскоре она вновь появилась в высоких белых дверях, но теперь подвигалась к гостям мелкими шажками и скорее несла, чем вела сухонькую сгорбленную старушку, чье серое почти до пола фланелевое платье скрывало семенящие ноги. Старушку усадили в кресло, она принялась оправлять свою одежду, пыталась поднять до середины локтей широкие, завернутые рукава платья, которые все время спадали. Три сестры взялись с воодушевлением ухаживать за старушкой, причесывали ее встрепанные волосы, справлялись наперебой о здоровье, беспокоились, не холодно ли ей, нахваливали принесенные с собой пироги.
Дородная женщина тактично стояла в сторонке. Сложив на груди руки, она не спускала с подопечной глаз — хорошо ли ведет себя, уж не выкинет ли глупость!
Отголоски разговора в зале доходили до классных комнат-палат, забытые голоса жизни пробуждали заизвестковавшийся мозг у других обитателей, манили их подняться и потащиться к дверям — где-то что-то происходит. Старушки поодиночке высыпали в зал, они не стали таиться у стены и прислушиваться к чужим речам, просто у каждой из них сейчас было здесь дело, требовалось пощупать холодные бока печи, разыскать соседку из другой палаты, они заглядывали через порог в столовую, интересовались, — может, там накрывают столы? Старушки тенями двигались вдоль стен, не разговаривая между собой, — все уже переговорено, — тугие уши их старались уловить слова гостей, отзвук внешнего мира пробуждал что-то необъяснимое, причинял, наверное, боль и, возможно, вынуждал нашептывать какое-нибудь столь близкое когда-то имя.
Дородная женщина поманила Лео за собой: открыла дверь одной из палат, предоставив возможность взглянуть, какая тут чистота и порядок. Действительно, все было как в казарме. Ни разбросанной одежды, ни башмаков, ни оброненных газет — кровати застеленные; у тех, кто ходит под себя и хотят полежать днем, поверх одеяла расстелена клеенка, на ночных тумбочках белые салфетки, пол чистый, хоть шары катай, стены безупречно гигиеничные, покрашены блестящей масляной краской, в центре побеленного известью потолка лампочка под матовым абажуром. Нижнюю часть окон закрывают марлевые занавески.
Лео благодарно кивнул, упрекнуть было не в чем, вероятно, даже самый придирчивый санитарный инспектор или работник социального обеспечения не смог бы заметить тут ничего предосудительного. Лео попятился обратно в зал, старушки по-прежнему прохаживались вдоль стен взад и вперед, будто плели своими телами хрупкий черно-серый орнамент. Одна из старушек украдкой дотронулась до рукава халата дюжей опекунши, хотела что-то шепнуть на ухо, может, ее интересовало происхождение гостей, а может, надеялась услышать какое-нибудь давно забытое имя, чтобы хоть на миг в утратившейся памяти вспыхнула радужная картина воспоминаний.
Лео горел желанием исчезнуть отсюда.
Сестры разговорились, они больше беседовали между собой, словно нечаянно встретились здесь после долгого времени, предоставив молчавшей старушке впитывать их слова. Но старушка и не слушала их, ее ясный взгляд беспокойно метался, увидев посреди зала Лео, она поднесла руку к щеке и еще больше согнула свой и без того скрюченный указательный палец.
Видно, хотела ему что-то сказать.
Лео пригнулся совсем близко к старушке, на него дохнуло кисловатым запахом старости, и он услышал шепот:
— Послушай, парень, ты помнишь моего сына?
— Конечно, помню, — не раздумывая, ответил Лео, хотя у него не было и малейшего представления, о ком идет речь.
— Тогда ты хороший человек, — облегченно пробормотала старушка. Положив свою горячую, легкую, как пушинка, руку на запястье Лео, она улыбнулась, подбирая слова, и едва слышно выдавила: — Пойди принеси из магазина папиросы.
Лео не сразу понял, о чем речь. Старушка чуть приподняла одну бровь, вытянула губы трубочкой и дунула.
Лео кивнул.
Язык жестов старая, видно, усвоила. Прежде чем Лео собрался уходить, он увидел, как скрюченный палец поднимается к губам: смотри, парень, не проболтайся.
Лео хотел бегом броситься с крыльца, однако он умерил свой пыл и пошел шагом по заляпанной землей асфальтовой дорожке. Прислоненные к коновязи велосипеды по-прежнему дожидались своих хозяек, болтовня у магазина продолжалась.
Продавщица удивилась просьбе Лео, пожала плечами, сказав, что в этих краях в ходу сигареты, давным-давно уже не заказывали папиросы, одну минуточку, она посмотрит на складе, там, на подоконнике, бог знает с какой поры валяются две коробки; Лео нетерпеливо топтался на месте, выполнить желание старушки стало для него едва ли не вопросом жизни. Лео повезло, продавщица вернулась с двумя невзрачными пачками, сам Лео никогда не дымил этим, посвященным строительству Беломорского канала куревом. Только бы папиросы не оказались заплесневелыми.
Продавщица заверила, что склад у них сухой, даже слишком, мешки с сахаром трудно хранить, теряют вес. Кто покроет разницу?
Собравшиеся уходить сестры стояли посреди зала, старушка лишь теперь стала проявлять интерес к гостям и пыталась их удержать. При появлении Лео старушка напряглась. Лео было бы не по себе, вернись он с пустыми руками. У кого большие потребности, тот может остаться и без ничего, того же, кому нужна всего капелька, — обманывать нельзя. Старушка двумя руками вцепилась в полу пиджака Лео, три приветливо улыбавшиеся сестры кивком попрощались с престарелыми, застывшими возле стены перед печью и в дверях палат, — их заметили, они не воздух.
Лео передал папиросы.
— А спички? — пропыхтела возбужденная старуха.
К счастью, у него в кармане шуршала начатая коробка.
Лео принялся пожимать горячую руку старушки, когда подошла дюжая опекунша и, покачав головой, сказала:
— Чего нельзя, того нельзя.
Легким движением она взяла у старушки папиросы и вернула их Лео. Коробку спичек старушка благоразумно успела спрятать в отвернутый рукав своего обвислого платья.
Лео почувствовал себя перед этой дородной женщиной так, будто он разом уменьшился в росте до метра, словно суровая рука учителя схватила его, мальчишку, за вихор.
Уши у Лео зарделись, он собрался с духом и попросил:
— Не запрещайте папиросы.
— Что станет с нашим домом, если мы будем нарушать заведенный порядок? — воскликнула опекунша.
Ее назидательные слова были обращены и к другим обитателям.
— Глядишь, иной и бутылку водки в тумбочке припрячет!
Добродетель здесь почиталась, а тех, кто грешил, презирали.
— Я прошу, — произнес Лео ледяным тоном.
Он обязан был сломить сопротивление этой высоконравственной женщины. Обстоятельства то и дело вынуждают человека быть в проигрыше, на этот раз Лео решил заупрямиться. Добиться для старухи разрешения курить стало для него вопросом чести.
— Пройдемте в мой кабинет, — предложила дюжая женщина и смяла в кармане своего халата какую-то бумагу. На глазах у старушек спорить не годилось.
Один старичок прислушивался с особым интересом, приложив к уху ладонь, с блестящими от удовольствия глазами и со злорадной усмешкой.
Лео последовал за женщиной в кабинет бывшего директора школы. Те же марлевые занавески на окнах, что и в палатах, скудная мебель и та же чистота, только обшарпанный письменный стол оставался здесь с прежних времен. Лео мог бы указать место на столешнице, где когда-то неизменно стоял вздернутый на серебряный флагшток трехцветный шелковый флажок.
Лео сел, закинул ногу за ногу. Он готов был слушать нынешнее начальство.
— Вы приходите и уходите, а мне с ними возиться и за них отвечать. За дом и за порядок тоже. А если она вдруг подожжет папиросой свое платье или постель? Тогда я до конца дней не смогу искупить свою вину. Одно время она не могла подниматься с кровати, и слава богу, что забыла про курево. Я-то надеялась, что и вовсе забыла. Вот те раз. Старых людей невозможно переделать.
— Им следует уступать, — произнес Лео.
— И угораздило же ее приобрести в России эту отвратительную привычку! — измученно вздохнула заведующая.
— Когда это она в России побывала? — спросил Лео.
— Давно, лет уже двадцать как вернулась. Но время дурной привычки не угасило.
— За что же ее туда гоняли? — с усмешкой спросил Лео.
Он и раньше встречал людей, которые для красного словца выдумывали себе сложное прошлое. Очевидно, и эта старушка страдала старческим слабоумием, возможно, она чьей-то другой судьбой пыталась приукрасить свою однообразно прожитую жизнь.
— Да уж в меру и вина нашлась. Напрасно никого не увозили, — сказала заведующая. — Ее сын был в здешних краях известный бандит. У себя в доме, при матери, говорят, целое сражение устроил и кровь пролил. Обоих противников так и похоронили поблизости друг от друга — на погосте за церковью.
Чтобы скрыть растерянность, Лео потребовалось напрячь волю. Он не смог признать в той бесцветной тени муракаскую Амалию. Догадалась ли старушка, кто перед ней. Или спросила наобум: мол, помнишь ли моего сына?
— Мне ее очень жалко. Жалко всех стариков, живущих под этой крышей, — сказала заведующая и подперла руками подбородок.
— Я не смею ничего просить. У вас тут строгие порядки, — пробормотал Лео.
— Да уж я не знаю, чем это однажды кончится, душа болит, — тихо пожаловалась заведующая. — Я им и раньше уступала. — Она сунула папиросы в нижний ящик своего стола. — Позову Маали сюда, в свой кабинет, когда никого не будет. Пускай подымит. Прослежу, чтобы несчастья не случилось.
Лео поднялся, поклонился. Он не терпел старомодных обычаев, но на этот раз невольно поступился своими привычками и коснулся губами руки заведующей.
Лео прошел длинным шагом через зал к выходу. Не взглянул ни налево, ни направо. Не знал, стояла ли муракаская Амалия среди других старичков или вернулась после утомивших ее гостей в палату отдыхать.
Лео сел в машину, страшное нервное потрясение смяло его. Он положил руки на руль, вцепился пальцами в липкий пластмассовый круг — все еще не удосужился надеть чехол, — почувствовал отвращение к охваченному ладонями искусственному материалу и все же старался судорожным сдавливанием унять в руках дрожь. В сущности, эти неприятные физические ощущения были не главными, он в очередной раз подумал, что, к сожалению, одно из самых больших душевных страданий, которыми жизнь тебя наказывает, — это отвращение к тому или другому человеку. Он ощутил какое-то странное раздвоение: было жаль старушку, эту хрупкую тень крепкой муракаской Амалии, и в то же время его злило, что пришлось еще раз встретиться с этим человеком. Еще раз он вынужден был вспомнить, каким оказался ничтожеством, — они с Вильмутом откололись от школьных товарищей, да была бы хоть идея, ради чего-то большого, — просто старались уберечь шкуру, скрылись в городе, ловкачи, сумели выкрутиться в сложные времена, не оставив на себе зарубки.
Прослышав в свое время об аресте Амалии, не был ли он даже благодарен властям? Что увезли ее с глаз долой; его собственное прошлое опять немного очистилось — чем меньше людей о нем знает, тем меньше и опасность. Еще под одним человеком подвели черту; в те времена шептали, что из далеких краев никому никогда не вернуться. Он мог быть спокойным, когда случалось идти на рынок и расхаживать между телегами: ниоткуда не шла ему навстречу раскрасневшаяся муракаская Амалия, с брезентовым рюкзаком за плечами.
Помнит ли старушка, эта рассыпающаяся тень Амалии, как она однажды ранней весной в воскресное утро приветливо улыбнулась знакомым деревенским ребятам? К ее изумлению, Лео с ходу повернулся и исчез среди мельтешивших людей, как в воду канул.
К тому времени Амалия уже была в известной мере потрепана жизнью, но не утратила присутствия духа. Возможно, потому и сохранила стойкость, что не могла осознать эпоху в целом. Да и кто в то время мог разобраться в происходивших событиях? Ей было явно больно встретить их с Вильмутом, — свободные люди, расхаживают в свое удовольствие, хотя сами не лучше и не хуже ее Эрнста, который волком прятался за кустами и на которого устраивали облавы. Но Амалия все же виду не подала. Конечно, она все знала про них с Вильмутом, навряд ли Эрнст удержал язык за зубами, только Амалия не бросилась проклинать школьных товарищей своего сына, а смирилась с тем, что именно ее кровинка стала жертвой времени.
Выходит, муракаская Амалия жива. Наверное, теперь ее одолевал лишь табачный голод. А папиросы находились под замком.
Душу разъедают такие встречи, которые оживляют старое, напоминают о прошлых связях: самоуверенность бывает поколеблена. И все же, если бы напрочь отсутствовали подобные напряжения, жизнь была бы довольно пустой, поверхностной, будничной. Раздражает, что нет накладки на руле? Хватит ли еще в баке бензина? В какую сторону придется ехать?
Вот уже беседовавшие в палисаднике дома престарелых сестры забрались в машину.
Лео завел мотор.
Пусть приказывают.
С этими женщинами у него не было давних связей.
Они инертные. Гелий.
Пожалуй, самое беспощадное, до мозга костей, отвращение вызывала в Лео его собственная личность. Он не мог выбраться из своей шкуры и все изводил себя. Он устал от своей впечатлительности. И во сне как настороже, разве это отдых! Мог бы вкалывать не разгибаясь — лучший способ убить навязчивые мысли. И вот опять. В разгар лета, в ясный солнечный день, хлопья пепла сыплются с неба. Никакая крыша не спасает. Слоем ложатся они на голову, на плечи. Ужасно, как длинна, оказывается, прожитая жизнь! Как много воспоминаний! И все же оставалось чувство, будто настоящая жизнь еще и не начиналась. Неужто правда, что некогда молодая муракаская Амалия приняла в свой дом двух маленьких девочек, о которых городские бабы судачили, что это внебрачные дети ее мужа Абеля; неужели когда-то Амалия на закате дня звала своих цыпляток домой с огорода.
Когда еще была в живых жена Вильмута Эрика, то и она успела надоесть Лео. В присутствии Эрики его охватывала странная истома. Ее взгляд, голос, даже шаги за стенкой выматывали его. Необычная усталость разбивала его, у него появлялось желание куда-то провалиться. Он пытался внушить себе: Эрика — пустое место. И все же его влекло к ней, чтобы снова мучиться, испытывая одурманивающее и обессиливающее отвращение. С какой-то неприязнью, но все же зачарованно следил он за тем, как по лбу суетившейся Эрики скатывалась капелька пота; следил за ее сильными пальцами с коротко стриженными ногтями, когда она подавала на стол глиняную миску с дымящейся картошкой. Удивительно гибкими казались ее руки, будто она и не таскала всю жизнь котлы, ведра, подойники.
Эта в какой-то мере неуклюжая женщина притягивала Лео своей скрытой, сохранившейся с девичьей поры силой. Со временем, начитавшись кое-чего и помимо специальной литературы, Лео пытался объяснить себе, что при виде Эрики в нем оживают животные инстинкты, они таятся в каждом мужчине, грубое обладание прельщает мужчин больше, чем завлекание изнеженных и капризных женщин. Неженки не способны на сильные страсти, они бесконечно плачутся и лепечут о каких-то пустяках, то и дело льют слезы и стараются изо всех сил походить на фарфоровых куколок.
В молодости Эрика сумела потрясти Лео, и он не желал вытравлять из памяти тот миг, хотя все сопутствующее и было достаточно грязно и отвратительно. Как бы время ни трепало Эрику, как бы ни черствел сам Лео, все же их соединяла прозрачная стеклянная нить, которая даже от дыхания болезненно звенела.
Находясь у Вильмута, он готов был до утра пить с другом, пока тот, пьяный и вконец разбитый, не повалится рядом с женой, не в состоянии и рукой пошевельнуть.
Отвращение, смешанное со сладко журчащей усталостью. Иногда он трезво и сурово спрашивал себя: почему Эрика должна еще пребывать на свете? От нее следовало держаться подальше. Но он чувствовал, что потрепанная временем Эрика в душе остается прежней. Лео не сомневался, что в какой-то непроглядной глубине Эрика сохраняет их общее воспоминание, и это не было мертвой залежью.
И вдруг все кончилось.
Эрика угодила на неосвещенной проселочной дороге под грузовик.
Вильмут через день ездил на поезде в районную больницу навещать жену. Она так и не пришла в сознание. Каждый раз при возвращении, дожидаясь обратного поезда, Вильмут пил в вокзальном буфете, там же, в станционном кабаке, на краю грязного столика, он всегда писал Лео письмо. Он царапал свои скудные строки на случайной бумаге, каракули выдавали, что Вильмут вдрызг пьян. На письмах отсутствовал адрес отправителя, даже имени своего Вильмут избегал, заканчивал одними и теми же словами: твой несчастный друг.
Вильмут детально извещал о состоянии Эрики. С содроганием Лео читал о том, что Эрике можно орать на ухо, но она и не шелохнется; Эрику разбил паралич, глаза пустые, никого не признает. В следующий раз отчаявшийся Вильмут известил, что, представь себе, моя крепкая баба ходит под себя, как беспомощный ребенок. Как же это возможно, чтобы человек так вдруг потерял всю свою силу. Даже телом своим не способен владеть.
С ужасом открывал Лео письма Вильмута. Легче было бы, не вскрывая конверта, сжигать их. Но он не смел этого делать, хотя бы в мыслях он должен был до конца идти с Эрикой.
С каждым днем надежды Вильмута на выздоровление Эрики убывали. Ей подают питание в вену и держат на кислородной подушке, выводил свои каракули Вильмут. Два дня почтовый ящик Лео пустовал, затем пришла телеграмма.
После похорон Вильмут отозвал Лео в сторону, дольше он не мог хранить при себе этого: с момента несчастного случая у Эрики функционировало только сердце, память отшибло сразу. Врач-анатом сказал, что мозг у Эрики был весь желтый.
В то время Лео беспокоило душевное здоровье друга. Могла сказаться наследственность, его сестру Эвелину считали чокнутой. Вильмута, видимо, мучили кошмары, он то и дело повторял: желтый мозг. И пил беспробудно. Раза два Лео был у директора предприятия, где работал Вильмут. С превеликим трудом им удалось устроить его лечиться от алкоголя. Через два дня Вильмут вернулся домой, снова поставил бутылку на стол и соврал, что его место в больнице заняли высокие господа.
Смерть Эрики явилась ударом не только для Вильмута и его детей, Лео тоже был надолго выбит из колеи. То и дело он просыпался по ночам, пробирался в ванную и вел там себя совсем уж по-идиотски. Стоял как столб перед умывальной раковиной, уставившись в зеркало, корчил рожи, самому себе казался гадким и старым, жадно втягивал сигаретный дым, так что щеки вваливались, всякий раз, стряхнув пепел в раковину, тут не смывал его водой, разминал в пальцах окурок с фильтром и тоже спускал его в канализацию.
Однажды он увидел в зеркале рядом с собой еще одно бледное лицо, собирался было вскрикнуть, но сжал губы — на него смотрели бесконечно усталые глаза Эрики.
На самом деле за спиной стояла Нелла.
— Ты болен? — в тревоге спросила жена.
— С чего ты взяла? — удивился Лео.
— Весь дрожишь?
— Да?
— Я тебя испугала? — участливо спросила Нелла.
— Да, — согласился он.
— Если захотелось курить, посиди лучше на кухне, не к чему стоять в ванной.
— Я не хотел никому мешать.
— А кому бы ты помешал ночью на кухне? — удивилась Нелла.
Без долгих расспросов она увела его на кухню, усадила возле теплого радиатора, вскипятила на газовой плитке чай, заставила выпить две рюмки коньяку и просидела с мужем до тех пор, пока его не одолела зевота.
Хорошо, что Нелла умела подавлять любопытство и, невзирая на долгую совместную жизнь, мирилась со скудными сведениями о прошлом Лео, — все-то они уместились бы в графах анкеты.
Они поженились уже в зрелом возрасте, когда люди бывают достаточно умудренными, чтобы опасаться деталей, относящихся к прошлому. Им нравилось воображать, что они начинают совместную жизнь с нуля. К чему еще прошлое? И без того им было трудно приспособиться друг к другу.
9
Обросшие густым мхом камни создавали обманчивое впечатление. Легкие зеленые шары — равномерно округлые, ни впадин, ни выступов. Время долго, может, сто или даже двести лет крепко вдавливало их в низкую, без раствора сложенную ограду кладбища, которую, пожалуй, нелегко было бы сломать.
Поблизости отсюда, там, где поворачивала кладбищенская стена, когда-то сверкнула на миг слава Лео. Мог ли он мальчишкой подумать, что вообще один только раз, да и то на короткий срок, его имя окажется у всех на устах. Одноклассники с завистью повторяли: ну и повезло же Лео.
История началась довольно буднично. В который уже раз их молодая лошадь перемахнула через изгородь и убежала. Лео получил строгий наказ: садись на велосипед и ищи. До заката гонял он по окрестным дорогам. Лошади нигде не было. Решил: найти во что бы то ни стало. Не оберешься попреков, если вернешься без коня. Лео все больше удалялся от дома, вытягивал шею, звал; то и дело оставлял велосипед на откосе канавы, брел по высокой траве — вдруг лошадь прячется именно за теми кустами. Целую ночь накручивал педали, немного отдохнув, брел по чужим пастбищам, снова садился на велосипед. Короткая летняя ночь быстро минула, к восходу солнца Лео подъехал к кладбищу. Усталость будто рукой сняло, когда он неподалеку от заросшей мхом ограды, на обочине дороги, увидел ярко-красный шар, казалось, это из-за леса выкатилось солнце. У Лео захватило дух, осторожно, стараясь не шуметь, опустил он на землю велосипед и на цыпочках подкрался к находке. Он нашел выпущенный в небо при открытии Берлинской олимпиады воздушный шар, с черной свастикой и разными надписями.
В тот же день они вместе с ребятами написали в уездную газету заметку. Слух быстро разошелся, и повалили окрестные люди, чтобы глянуть на диковинку. Даже школьные учителя не посчитали за труд прийти через поле к дому Лео, чтобы глянуть на такую редкость. Пастор и тот пожелал стать свидетелем происшествия. Они с ребятами отправились к церкви. Лео с шаром в руках. Пока герой дня находился у пастора, другие дожидались за дверью.
Из газеты пришел ответ: они уже писали о подобной находке, мол, благодарствуем.
Вскоре шар обмяк, Лео пытался было надуть его, но красная оболочка лопнула. Лавры Лео увяли.
Сестры решили не идти в обход, ворота кладбища находились далеко от того места, где остановилась машина, они легко перешагнули через низкую ограду, здесь и до этого приминали ногами мох. За каменной оградой, в траве, на длинных стебельках покачивались лиловые колокольчики. Лео направился вслед за сестрами по тропке, которая вела к аллее, обсаженной вековыми деревьями, — за ушедшие годы строй старых лиственниц поредел. Всегда без единой травинки, твердая как камень дорога была окаймлена нарезанным дерном.
Сестрам кладбище, похоже, было хорошо знакомо, они возлагали цветы то на одну, то на другую могилу. Лео не пошел с ними, он разглядывал деревья, декоративные кусты, надгробные плиты. Как обычно на старых деревенских кладбищах, и здесь часто повторялись одни и те же фамилии, в прежние времена люди жили сравнительно оседло, поколения сменяли одно другое, в конечном итоге рядом или поблизости покоилась целая родня.
Лео не хотелось, чтобы сестры начали у него что-нибудь выспрашивать и вынудили бы рассказать о своем прошлом, поэтому он принял скучающий вид, — на могилу матери он придет сам по себе, в другой раз. Он знал, что могила Эрнста находилась за живой оградой из туи, но и туда он не пошел. Не каждому школьному товарищу устанавливают в изголовье плиту. Говорили, что Ильмара ранили в бою. Весной пятьдесят второго года, в распутицу. Из последних сил он отступил к болоту, бросился на потрескавшийся лед топи и пустил себе пулю в лоб. Кто это видел? Откуда пошел этот слух? На совести Ильмара было много загубленных жизней, вот он и не мог сдаться. Кто считал его выстрелы и подсчитывал жертвы? Лео сомневался в истинности этих слухов, он знал одно: к весне пятьдесят второго года Ильмару не было еще и тридцати и что более четверти своей недолгой жизни он провел в лесах.
О Вальтере ходили и вовсе противоречивые слухи. Будто после мобилизации сорок третьего года его завербовали в Германию, в разведшколу; оттуда он сбежал и вскоре опять бродил в окрестных лесах родного края. И только в сорок пятом перебрался на лодке в Швецию. Лео не знал, что обо всем этом и думать.
Листая в Стокгольме у сестры телефонный справочник, он наткнулся на фамилию Вальтера. Конечно, это мог быть и однофамилец. Лео следовало бы позвонить — только зачем?
Сестры позвали Лео.
Они стояли, сгрудившись, возле куста шиповника, Хельга оттирала тряпкой прикрепленную к черному чугунному кресту медную дощечку, остальные с торжественными, серьезными лицами следили за ее действиями. Не оборачиваясь к Лео, Сильви спросила:
— Вспомнил? Посмотри на эту надпись.
Лео нагнулся, чтобы прочесть выгравированные слова.
Ява?
Редкое имя было у этой женщины, которая умерла в весьма преклонном возрасте осенью двадцать восьмого года.
Лео ощущал на себе взгляды сестер. Почему-то им непременно надо было ткнуть его носом в детство.
Лео знал этот крест, помнил наделавшие шуму похороны, но прикинулся, что ему безразлично.
— Мне было всего три годика, но похороны прабабушки мне хорошо запомнились. Народ валом валил. Толпы людей направились через раскисшее поле в церковь. Играл оркестр, на колокольне все время звенел колокол, — начала вспоминать Сильви.
Ну и что, подумал Лео. Во все времена устраивались пышные похороны. И если в массе людей оказались три девчушки — что из того? И чего тут умиляться? Были такими маленькими, надо же, и вдруг состарились.
Равнодушие Лео вывело из себя даже уравновешенную Урве. Она выпалила:
— Как же ты не помнишь? Сам еще хотел во время похорон застрелиться.
«И это они помнят», — устало подумал Лео.
— Глупая ребячья выходка, чего там, — сказал он.
— Этот случай потом много раз вспоминали, каждый на свой лад.
— Неужто сделали из пацаненка шести лет самоубийцу? — спросил с иронией Лео.
— Нет, — веско сказала Хельга. — Чехвостили Йонаса, твоего отца.
— Моего отца?
Лео вымученно усмехнулся.
— Праведные родичи возмущались, что он не признал тебя своим сыном. Все сходились в одном: ты — вылитый Йонас.
Лео захотелось повернуться и послать сестер ко всем чертям. Пусть оставят в покое его покойную мать, а также отца, которого он ездил хоронить в Швецию. Уж в наши-то дни люди могли быть выше тех сплетен, которые когда-то распускались по деревне.
— Да, немало прошло времени, пока Йонас набрался смелости и признался во всем.
— Кому он это сказал? — ледяным тоном спросил Лео.
— Нам, родственникам. Йонас желал очистить душу и напоследок так трогательно заботился о твоей матери.
— Меня он подобными заявлениями не обременял.
— Он и не собирался этого делать, вполне разумно объяснял, что не пристало на старости лет навязываться сыну.
У Лео в ушах зашумело. Если они сейчас же не перестанут его терзать, он кинется бежать по аллее, перескочит замшелую ограду, сядет в машину и рванет. Пусть они там в тиши кладбища хоть криком кричат, он зажмет свое сердце в кулак и оставит их со своими кофейными термосами чесать языки. Возвышенные души! Примиряют мертвых и восстанавливают истину! Еще в детстве имя Йонаса постоянно жужжало у него в ушах, вполне возможно, что именно из-за этой молвы отец перед войной бросил хутор и оставил мать. Видимо, сестры все-таки поняли, что кладбище не место, чтобы перебирать грехи и добродетели давно усопших людей, и, к счастью, умолкли.
Хельга воткнула свечу перед чугунным крестом, крепко охлопала ладонями землю, кротко и как-то виновато взглянула на Лео и пробормотала:
— Свечку-то на могиле своей прародительницы ты все же мог бы зажечь.
Лео машинально порылся в карманах, черт возьми, коробку со спичками он оставил в доме для престарелых муракаской Амалии. Теперь придется разжигать фитилек зажигалкой.
Он затеплил свечу и подумал о только что произнесенных словах Хельги.
Самоуверенные дамы, сказано было без тени сомнения: зажег бы свечу на могиле своей прародительницы. Вот они и воздвигли фундамент, значит, своим существованием он обязан далекой Яве, о своенравии которой ему в детстве доводилось слышать удивительные истории. Милостивые дамы подарили ему мощные корни, значит, в этот мир он пришел не из пустоты.
Видно, сестрам не терпелось отвести Лео и на могилу Йонаса, смотри, родившийся наперекор всему человек, здесь покоится твой настоящий отец; его покладистость ценили все, нерешительность, возможно, была его единственным недостатком. Не скажут: малодушие. Воспользуются более обтекаемым словом, которое не задевает слух.
Уж не от Йонаса ли он унаследовал свою робость.
Куда подевались упрямство и смелость прабабушки?
В некоторых кругах снова в моде поиски генетического древа.
Катись они к дьяволу, эти бабы.
Лео все больше раздражался.
Он торопливо направился к воротам кладбища, пусть женщины догоняют его.
Шагая вдоль замшелой ограды, Лео почувствовал, как постепенно досада его рассеивается, разговоры сестер больше не раздражают. Перебирать прошлое — не мужское дело, успокаивал он себя, хотя именно прошлому он посвятил все эти дни. Бывшие люди, все эти отношения и события образовали в представлении Лео стремительный поток, который пенился и несся дальше. Как будто ему не терпелось поскорее утвердиться в этом непостоянном движении.
Лео охватила тоска по городу. Как легко было жить среди совершенно чужих людей, оставаться без корней, без прошлого, без связей, никому не было до тебя никакого дела. В пять часов гасишь на рабочем столе свет, идешь размеренным шагом к лифту, кивнешь одному, улыбнешься другому — мимоходом и дружески, — спустившись вниз, распахнешь холодную стеклянную дверь, сбежишь по крыльцу на улицу, откроешь дверцу машины, заведешь мотор, выедешь со стоянки, дождешься перед светофором зеленого огонька. Рядом, в другой такой же машине, сидит подобный тебе человек, и он следит лишь за мельканием сигнальных огней — сейчас дадим газ, и каждый поедет своей дорогой. Никому не придет в голову кротко глазеть друг на друга и говорить — зажги свечу на могиле своей прародительницы.
Запыхавшиеся сестры забрались в машину.
Они примчались вприпрыжку, будто горели желанием вцепиться в человека, которого только что объявили своим кровным родственником.
— Куда теперь? — холодно спросил Лео.
— После моста свернем в парк пастората и закусим, — предложила Хельга.
Этот отрезок пути они проехали молча.
На берегу реки, на пригорке, сестры усердно захлопотали. И чего только у них не было с собой! На траве расстелили клетчатое одеяло, середину которого покрыли белой скатертью. Из пластмассовых коробочек выудили яйца, огурцы, бутерброды — даже солонку и ту не забыли. Каждый получил по чашечке ароматного кофе и бумажную салфетку на колени. Лео почувствовал, что голодный желудок делает его перед этими женщинами безоружным.
Несколько робея, они старательно обхаживали его, будто обслуживали почетного гостя. Ему предлагали лучшие куски, и голодный Лео с аппетитом уплетал все подряд.
Сытый человек, если он выпил крепкий кофе и дымит сигаретой, не может быть злым. Подразнить сестер — это он мог.
— Подчеркивать общее происхождение — это сегодня какой-то атавизм. Для людей, кажется, важнее духовное родство.
Изумление и сожаление — что еще можно было увидеть в их взглядах. Может, лишь ироническая усмешка в уголках рта Сильви действовала оживляюще.
Высокомерное лицо Урве и ее гладкая шея как-то вытянулись, когда она, свертывая бумажную салфетку, произнесла:
— Прошлое — это наша настоящая судьба, наше богатство, которое никто не в состоянии отнять. Чего бы стоил наш народ без своих корней? Ничтожная песчинка под ногами упорно продвигающегося вперед человечества.
— Не перебарщивай, — усмехнулась Сильви.
Ухоженные руки Урве слегка дрожали, когда она поднесла ко рту чашечку с кофе.
— Так разъясни ты получше, — защитила Хельга Урве.
— Вы, конечно, правы, — согласилась Сильви и с любовью посмотрела на сестер. — Жизнь становится как бы теплее, когда знаешь о своих предках. Историю переиначивают так и эдак, что-то возносится до небес, о чем-то умалчивается, будто этого и не было. Но прошлое какого-либо рода непоколебимо, никто из чужих не сможет перебрать и истолковать его на свой лад. Возникает определенная иллюзия свободы, когда вспоминаешь об устремлениях предков, которые никто не в состоянии вульгарно разложить по полочкам в свете расхожих истин.
— Очарование субъективной трактовки истории, — буркнул Лео.
— О да, — вмешалась Хельга, — естественно, всяк из нас по-своему оценивает жизненный путь членов нашего рода, мы судим о предшественниках со своей колокольни, и все же прошлое родни сливается с нашим собственным опытом.
— Времена так изменились, былое уже отмерло, приходится самому ориентироваться, наставлений ждать не от кого, — возразил Лео.
— Мы стали высокомерными, — пожаловалась Хельга, — говорим о предках лишь в связи с хуторским идиотизмом, человеческой скованностью, ограниченностью мировосприятия.
— Но в них было больше страсти и силы! — вызывающе воскликнула Сильви.
— Кое-кто, возможно, и сражался с судьбой, а в общем-то господствовала тупая серость, рутина, — спорил Лео.
— Зато наша жизнь — ну прямо карнавал, — с издевкой произнесла Урве.
— И все же мы знаем о мире больше, чем наши прародители, — не сдавался Лео.
— И это тоже мерило счастья, — подтрунивала Сильви.
— Мы отклонились, — сказала Хельга. Она сорвала два листочка подорожника, прикрыла ими веки, откинула назад голову, чтобы солнце светило прямо в лицо, и продолжила свою мысль: — Наши предки частично уже предопределили нашу судьбу, это, наверное, и есть та истинная пуповина, которая никогда не рвется. Мы не можем стать выше себя. Через собственную тень не перепрыгнешь.
— Не слишком ли фатально? — усмехнулся Лео.
— Я согласна с Лео, — вмешалась Урве, — нельзя забывать о роли случая.
— О, да, — рассмеялась Сильви. — Хотя бы крутой поворот судьбы в жизни нашей бабушки Марии!
— А кем доводилась Мария Яве? — спросил Лео.
— У тебя нет и малейшего представления о родословном древе, — вздохнула Хельга, не скрывая возмущения. Она отбросила листочки с глаз и посмотрела на Лео.
— Мария была дочерью Явы, — быстро объяснила Сильви.
— А Йонас, — набравшись тем временем терпения, произнесла Хельга, — приходится внуком Яве. И ты, Лео, доводишься нам троюродным братом.
— А мы тебе — троюродными сестрами, — добавила Урве.
— А во главе рода стоят Адам и Ева, — поддел Лео. И опять его возмутила самоуверенность сестер, так и норовят связать его с Йонасом.
Сестры помрачнели и обиженно умолкли.
— Что же перевернуло жизнь вашей бабушки? — притворно поинтересовался Лео, он искал примирения с сестрами.
— Наша бабушка на пороге столетия перебралась из Медной деревни в город и вышла там замуж за дедушку, который тоже был вчерашним селянином, — нехотя проговорила Хельга. — Не знаю, может, и тогда людей изводили трудности вживания — да и вообще что в этом мире нового, — во всяком случае молодые решили вернуться назад в деревню. В Ляянемаа, в дедушкиной деревне, появилась возможность арендовать хутор. Поздней осенью они там и поселились. На рождество под звон бубенцов поехали в церковь: молодые впервые выехали на люди. На обратном пути у околицы их поджидали две женщины, молодая и старая, каждая из них высыпала перед санями на дорогу по картофельной корзине костей. Лошадь испугалась, вскинулась на дыбы, но все же под понукание перетащила сани через вываленные кости. Бабушка сразу догадалась, что эту злобную выходку совершила бывшая дедушкина невеста.
— Должна же была отвергнутая девица каким-то образом освободиться от своих мук, — пошутил Лео.
— Шутки шутками, — вмешалась Сильви, — в старину в этих краях случалось и похуже. Ты, конечно, слышал про злоключение на похоронах Явы. Глянь на этот невзрачный деревянный мостик, и у него есть своя история. По этой дороге покойную везли на кладбище, но лошадь заупрямилась, не пошла через мост. Кому теперь придет в голову привозить нужники и привязывать их к перилам, чтобы вонью отпугнуть лошадь? В тот раз пришлось распрячь коня и перевести его вброд, телегу мужики перекатили на руках.
— Нынче каждый занят сам собой, даже на дурацкие выходки люди не способны, — вынесла Урве приговор инертности сегодняшним людям.
— Автомашины сами воняют и на дыбы не встают, — заметил Лео.
Сестры улыбнулись.
— Но кости, брошенные под ноги лошади, оказались плохой приметой, — продолжила напористая Хельга свою незаконченную историю.
— Но ваши-то прародители не разошлись, иначе бы мы не сидели тут на пригорке, не любовались бы знаменитым мостом и не пили бы вместе кофе, — назло сказал Лео.
Хельга не дала сбить себя с толку.
— Вываленные кости накликали на скотину порчу. Коровы оставались яловыми. Если у какой и рождался теленок, то был он либо бычком, либо появлялся на свет хвостом вперед и, вместо того чтобы расти, начинал чахнуть, день ото дня хирел, и скотины из него все равно не получалось. Из разных волостей привозили поросят на развод, но откуда бы они родом ни были, обязательно заболевали; вынужденный забой стал обычным делом. У кур выпадали перья, у овец была редкая и грубая шерсть, может, только на носки и годилась. Когда же бабушка собралась разрешиться, то повисла между жизнью и смертью; ребенок родился весь синий, повивальной бабке с трудом удалось вдохнуть в него жизнь. Так наша мать и осталась в семье единственным ребенком. А ведь наша бабушка происходила от плодовитой Явы, подумать только — десять детей!
— Благодаря ворожбе на костях, заказавшей держать хутор, мы уже горожане во втором поколении, — объяснила Сильви.
— И все равно вас потянуло в деревню, — дружелюбно заметил Лео.
Сестры умолкли. Обескураженные своей внезапной разговорчивостью, они принялись собираться в дорогу. Коробки, термосы и скатерти снова уложили в сумки. Лишь примятая трава говорила о том, что здесь шла беседа.
Лео рассеянно смотрел на хлопотавших женщин и чувствовал себя довольно странно. Новые родственники? Что ему до них — ни тепло ни холодно? И все же было трогательно, что кто-то пожелал причислить его к своему роду. Сегодня, скорее, проходят мимо друг друга, в отношениях между людьми господствует отдающая горчинкой деловитость, связи по работе все усложняются, учитываются всякие подводные течения, подсматривающий взгляд превратился в нечто обычное. Когда время чревато большими бедами, люди больше держатся друг друга. Если жизнь катится мирно и без социальных потрясений, то тут же засекаются скрытые рифы. Жизнь без лишений становится словно бы безвкусной. Даже семейные связи становятся хрупкими, люди предпочитают быть угловатыми и неуступчивыми. Черт знает, почему у человека на душе обязательно должно быть беспокойно.
И вдруг — как непривычно! — тебя хотят причислить к своему кругу. Было бы несправедливо подозревать сестер в наличии мелкой задней мысли. Лео не был выдающейся личностью, способной украсить большую родню. Скорее родня обогащала его. Едва ли в сегодняшнем, наполненном грохотом и сутолокой, мире найдется много людей, которые имеют возможность пройти по старинным, торжественным аллеям на кладбище и зажечь свечу на могиле прабабушки, которая родилась — о боже! — в начале второй трети прошлого столетия.
Происхождение Лео обрело более четкие очертания, прошлое в его воображении вдруг широко раздвинулось, голова пошла кругом. Что можно было противопоставить подстегивающему любопытству: кто еще принадлежит теперь уже и к его кругу?
Лео плелся вслед за сестрами по направлению к машине. Вдруг, ошеломленный, он остановился. Так, значит, и Вильмут его родственник.
10
В молодости Лео частенько видел прабабушкиных отпрысков, их мужей, жен и детей; они ценили родительское гнездо, край, болота притягивали их к себе, город и в то время утомлял. Они вышагивали в летний зной через поле, женщины в шляпах, но с туфлями в руках — привычка детства? — видать, хотели ощутить голыми пятками дорогую сердцу заросшую тропку отчего края. Перед рождеством на снежной равнине появлялась куча одетых в шубы людей, потом под звон бубенцов все ехали в церковь. Лео не любил эти шумные компании, которые валили в гости к соседям. Завидев чужих, он бурчал дома: опять на Россу стая налетела. Чужие? Теперь оказалось: родственники.
Мать качала головой: они дают Йонасу деньги взаймы, не то бы хутор прогорел.
После смерти хозяина Россы соседское хозяйство пошло под уклон. Значит, дедушка Лео умел содержать хутор, а вот его отец оказался недотепой.
Не глядя в зеркало, Лео знал, что лица прикорнувших на заднем сиденье сестер выражают недовольство, ведь сестры обманулись в нем. Возможно, ждали умиления, искреннего порыва, согретых теплом воспоминаний. Может, и они, несмышленые девчушки в ту далекую масленицу, когда Лео во время озорной игры в снежки очутился у соседей, были на хуторе Росса вместе с городскими гостями? Вдруг и его снежок угодил за шиворот визжавшим барышням? Или они хотели еще раз поспешить в вечерних сумерках на болото, чтобы катать из синеватого снега шары? Может, для сестер имело большое значение, чтобы кто-то предался с ними общим воспоминаниям.
Сестры поникли, и их, наверное, переполняли грустные мысли: Лео тоже, поди, человек без изюминки, бесцеремонный и равнодушный. Он не задумывается о том, откуда пришел, куда уйдет. Все такие черствые — что станет с нашим маленьким народом? Нынче люди живут ради вздорного преходящего мгновения. И Лео избегает идти вглубь. Конфликт поколений вполне понятен, но осознавать различность восприятия мира сверстниками — это больно.
Они считают Лео обычным ветрогоном.
На самом же деле в нем уже что-то начало чуть слышно звенеть. Видимо, в этой прерывистой и тихой музыке было множество оттенков, сейчас в них преобладал один-единственный: предки его приблизились к нему на шажок, ему казалось, что он стал понимать их лучше прежнего. И кажется, впервые подумал о Йонасе с некоторой теплотой, ладно уж, по всей видимости, от него именно он унаследовал это проклятое свойство всегда все взвешивать. С другой стороны, ему надлежало благодарить судьбу за свой осторожный характер: будь он ура-человеком, давно бы уже превратился в прах под какой-нибудь кочкой.
Многие годы они с Вильмутом не наведывались в родную деревню, однако поздней осенью пятидесятого вынуждены были поехать.
В то время Лео жил в отдельной конуре; опять мансардная комнатенка с непременной плитой, одежда вешалась на стене на гвоздь, зато под окном хватало места для чертежного стола. Лео как раз был занят очередным проектом, когда вошел Вильмут. Несчастный и подавленный, он забыл даже поздороваться, от него несло водкой и жареной картошкой. У Лео внутри как огнем обожгло, будто и он в отчаянии хватил слишком большой глоток, Лео чутьем уловил, что в родных краях произошло что-то ужасное. То ли сгорело полдеревни или вышли из леса старые школьные товарищи, приняли бой в открытую и полегли все до единого.
Вильмут горько заплакал, взрослый человек размазывал по щекам слезы и гаснущим голосом выдавил, что умер отец.
— Убили?
— Нет, хворь доконала.
Лео стало стыдно, что это печальное известие не подействовало на него особенно удручающе. Деревня стояла на прежнем месте, родные края не были ни осквернены, ни порушены; рождение и смерть были естественным явлением круговорота жизни.
Было неуместно утешать в этот момент Вильмута трезвым рассуждением, не горюй, твоего отца захоронят на родном кладбище, он прожил долгую и счастливую жизнь. Не раз его могли увезти, но он избежал мыканья. Что ни говори — хозяин большого хутора, кавалер Георгиевского креста и Креста свободы. В большинстве именно такие мужики и сгинули в безвестности.
Лео предполагал, что хозяин хутора Виллаку не случайно выпал из поля зрения, бывшего героя войны в округе считали чокнутым. Уже давно он не вызывал даже зубоскальства, его никто не вспоминал, о его существовании словно забыли. Будто виллакуский хозяин и не ходил двумя ногами по земле, а висел где-то вблизи хуторских построек на паутинке — таким легковесным его считали. На самом деле отец Вильмута и впрямь еще до войны стал походить на тень; когда ему случалось задержаться на огороде, птицы принимали его за чучело, одежда на нем висела словно на сколоченной из палок крестовине.
Отец Вильмута не чурался людей, Лео помнил его на предвоенных толоках: в белой рубашке, в новой шляпе, он будто являлся для того, чтобы руководить другими. К тяжелым работам его не допускали, как бы не надорвался. На вывозке навоза был возницей наравне с мальчишками, на молотьбе ходил с граблями, сгребал рассыпавшиеся колоски. Может, поэтому и не было у хозяина богатого хутора врагов и завистников, что он ни перед кем не заносился. Бессловесное существо, которого и на трезвую-то голову покачивало, никого не раздражало.
Вильмут всхлипывал, как беспомощный ребенок, вдруг оставшийся на земле без защиты и без крыши над головой, он смотрел на Лео заплаканными глазами и удивлялся:
— Его, казалось, и не было, не выпячивался он, никогда не повышал голоса, упаси боже орать; бывало, как дух просачивался сквозь стены, чтобы не мешать; он никому не доставлял хлопот. И все равно у меня такое чувство, будто там целое поле провалилось в бездонную глубину, оставив за собой страшную дыру, а я стою, как букашка на краю, и не знаю, что делать.
Лео не хотел выглядеть последним подлецом, поехал вместе с Вильмутом на похороны. Перед поездкой он целую ночь ворочался и не сомкнул глаз. Мучил страх, ему не хотелось и носа показывать в родной деревне. Все еще охотились за лесными братьями, легко могло статься, что кто-нибудь из деревенских жителей укажет на него пальцем. Вон преступник, арестуйте его, освободиться бы уж от вечной слежки. Люди бесконечно устали, небольшая, но кровавая война, без передовой и тыла, все продолжалась, кое у кого могло кончиться терпение — уберите всех подозрительных, может, тогда прекратятся ночные перестрелки. Человек не в состоянии почти десять лет подряд дрожать за свой дом и за свою семью. Дайте жить спокойно!
Лео боялся потерять обретенное с таким трудом. Он все еще не мог до конца поверить, что, вопреки обстоятельствам, стал студентом, отваживавшимся время от времени подумывать о дипломном проекте.
Глупый и непредусмотрительный шаг мог оказаться роковым. И все же он не мог отпустить Вильмута одного в деревню, вдруг тот, отчаявшись, в порыве душевной боли, наговорит бог знает что и впутает себя в какую-нибудь историю. В трудный момент рядом должен находиться человек со здравым умом.
Хорошо хоть время года оказалось подходящим. Солнце появлялось и тут же гасло, холодный туман наползал на поля и собирался в низинах, покрывая все инеем. Под ногами похрустывал ледок, ветер срывал с деревьев сухие веточки — при такой погоде похороны соберут немного людей. В те времена люди вообще жили обособленно. По вечерам на хуторе свет гасили рано, некоторые завешивали окна толстыми одеялами, чтобы и лучик не вырвался. Мало ли какой ненавистник или забредший гонимым волком на хутор бандит возьмет тебя на мушку.
Вильмут и Лео в вечерней темени протопали через поле на хутор Виллаку, они избегали разговора, лучше было не обнаруживать себя. Лео подумал о невинных историях с привидениями, наводивших в детстве ужас: бродит в округе барышня в кружевной шляпке и сбивает людей с дороги. Теперь выдуманные истории заменились явными, и позабытая всеми барышня и в самом деле могла в отчаянии заламывать руки.
Дверь была заперта. Вильмут крикнул в окно: мать, это я. Лео прислонился к стене и уставился в темноту. За миг до того, как открылась дверь, ему показалось, что кто-то под яблоней кашлянул и щелкнул затвором.
Мать Вильмута подняла фонарь высоко над головой, провела их первым делом в пустую комнату, где лежал покойник, и тихо сказала:
— Его дорога кончилась.
Вильмут опустился на колени возле полатей, подпер голову руками и начал раскачиваться. Хозяйка опустила фонарь, повернулась, чтобы уйти, тени взметнулись от пола к потолку. Вильмут хотел побыть с отцом наедине и остался в темноте.
Лео опустился в кухне на скамейку, взгляд его блуждал по темным углам. На вешалке полушубки, кофты; возле двери башмаки и сапоги. Рядом с плитой на гвоздях — торба с солью и связка лука, на вешалке для поварешек сушились сита, под ними перевернутые горшки и закопченный по бокам синий эмалированный кофейник. Поблекшие краски повидавшей на своем веку кухонной утвари, казалось, согревали душу Лео; все было так же, как раньше. Мать Вильмута сидела возле плиты на чурбаке, рядом с корзиной, и чистила картошку. Картофелины через короткие промежутки времени шлепались в большую глиняную чашу, из комнаты доносилось тиканье ходиков. Лео раздумывал, перейти ли еще раз поле, чтобы постучаться к своей матери. С какой стати пугать ее в поздний час? К тому же здесь ночевать даже надежнее, люди понимают, в дом с покойником ни лесные братья, ни облавщики не сунутся. Мертвый словно бы защищал всех, кто находился с ним под одной крышей.
В чулане кто-то копошился, наверное, Эвелина. Именно она и пришла оттуда, волоча ноги, платок на плечах, с грудой чашек, прижатых обеими руками к груди. Увидев Лео, повернулась спиной и покосилась на него через плечо. Красноватый огонек керосиновой лампы заставлял щуриться, Эвелина что-то пробормотала, стопка чашек колыхнулась, она с грохотом поставила их на край плиты. Младшая сестра Вильмута выглядела даже старше своей матери. Еще до конфирмации об Эвелине в деревне говорили, что эта дылда жениха себе не найдет. Привычки у Эвелины были словно отлитые раз и навсегда, она неизменно поворачивалась спиной, даже если в дом входил знакомый-презнакомый человек из своей же деревни, она все равно косилась на него, вывернув шею, взглядом, полным изводящего недоверия.
Кто-то постучал костяшками пальцев по оконному стеклу. Эвелина согнулась, будто приготовилась взвалить на себя мешок зерна, и юркнула в комнату, где лежал покойник. Видимо, наткнулась на стоящего на коленях Вильмута. Брат и сестра зашлись возбужденным шепотом.
Зато хозяйка, казалось, никакого страха не ведала, она открыла дверь — на кухню прошмыгнула какая-то девушка с цветочным горшком в руках. Крохотные суховатые листочки подрагивали при порывистых движениях девушки, видимо, это был мирт.
— Меня будто из лука выпустили! — неподобающе громко воскликнула запыхавшаяся девушка.
Лилит кивнула. Эвелина стояла на пороге комнаты, прислонив к косяку голову.
Девушка смутилась, принялась дуть на цветок, видимо думая, что можно отогреть замерзшее растение; а может, пыталась теперь уже подчеркнуто кротким поведением смягчить свою недавнюю шумливость. Она скинула с ног калоши, неслышно засеменила в шерстяных носках по широким кухонным половицам, осторожно поставила горшок с цветком на край стола и увидела сидевшего в полутьме на скамейке Лео. Девушка уставилась на него широко открытыми глазами, медленно нагнулась к нему, без стеснения, с близкого расстояния разглядела его лицо и мягко, с полувздохом пробормотала:
— Лео!
Спустя мгновение зрачки ее глаз словно бы разошлись. Казалось, она смотрела одновременно вперед и в сторону, рот открывался и закрывался, в горле пересохло. Теперь уже Лео не нужно было напрягать память. Бывший ребенок за это время превратился в девушку.
— Эрика, — полушепотом произнес он. — Ты что, сразу и не узнала меня?
— Не думала, что ты когда-нибудь еще вернешься домой.
Мать Вильмута окинула их пристальным взглядом, и снова в воду шмякнулась картофелина. Эрика все еще стояла, наклонившись к Лео, и никто не мог видеть ее влажные глаза. Лео боролся с чувством неловкости, ему хотелось отодвинуть девушку чуть-чуть назад. Догадалась бы уж сесть и перестала бы пялиться на него! Эрика на какое-то время забылась, сунула Лео в руку свою теплую ладошку — воспитанный ребенок здоровался с дядей.
Непринужденность Эрики поставила Лео в тупик. Чего это она так опешила? Девушка выпрямилась, затянула узел платка, приподняла воротник и что-то затараторила о волках за выгоном.
— Не зайдут они в деревню, — предположила Лилит. Увидев, что Эрика, поводя плечами, нехотя подвигается к двери, она неуверенно предложила: — Может, Лео тебя проводит?
— Нет у меня ни ружья, ни ножа, — отнекивался Лео, он почувствовал, как заколотилось сердце.
— Ружья ни у кого и быть не должно, — вставила виллакуская хозяйка, будто повторяла заученный приказ. — Возле дверей хлева стоят вилы, возьми с собой.
Ненавязчивое предложение матери Вильмута как бы подталкивало Лео выйти из дома. Понятно, ей нужно было поговорить с сыном наедине, чужие уши были лишними.
Во дворе Лео и в самом деле начал ощупывать стену, чтобы найти вилы.
— Брось, — прошептала Эрика, потянула Лео дальше от дома и взяла его под руку.
Она шла как можно медленнее.
Глаза ничего не видели, они сбились с тропки, и ветки какого-то куста скользнули по лицу.
— Как хорошо, что ты вернулся, — глухо прошептала Эрика.
— А тебе-то что, — буркнул Лео.
— Все эти годы я ждала, что ты приедешь.
Слава богу, что темнота не позволила ей заглянуть Лео в глаза. Эрика привела его в замешательство, казалось, перевернула все с ног на голову: школьник оробел перед самоуверенной женщиной. Перед глазами встала картина из прошлого: девчонка Эрика с исцарапанными коленками носится по деревне.
— Чего же это ты меня ждала, — буркнул Лео и почувствовал себя дурачком.
Эрика остановилась, положила руки Лео на плечи и поднялась на цыпочки. Волосы девушки щекотали лицо Лео. Эрика произнесла покорно, будто жаловалась на свою печальную судьбу:
— Ты уже давно прикипел к моему сердцу.
Искренность Эрики поразила Лео. Казалось, целый мир загудел и стремительно опустошил его сознание. Молнией сверкнула мысль: еще никогда никто не признавался, что пристыл к нему сердцем. Он дожил до таких лет — и все впустую. И теперь — невероятный, яркий проблеск в кромешной тьме.
Лео обхватил Эрику и прижал к себе.
Было хорошо затаить дыхание.
Они уже дошли до ворот хутора Клааси, а Эрика все не хотела уходить.
Чтобы опомниться, Лео нужно было одиночество и время.
Он пробормотал что-то об обязанностях, о Вильмуте и хуторе Виллаку.
— Я приду потом, — прошептала Эрика.
— С ума сошла, — выдохнул Лео.
Возбужденная Эрика подыскивала слова, сбивчиво объясняла, где и когда, и Лео понял, что ему следует пойти спать на сеновал виллакуского хлева.
Эрика убежала. Огорошенный Лео стоял, прислонившись к воротам. Дверь в доме Клааси хлопнула.
Лео, пошатываясь, возвращался знакомой тропкой, полы его пальто трепал ветер, опьянение и стыд сшибались в его душе. Казалось, он так и не сможет успокоиться.
Махнул рукой на опасности, закурил сигарету, к обветренным губам больно прилипала тонюсенькая папиросная бумага и рвалась. Лео жадно втягивал дым, в рот лезли крошки табака, огонек сигареты пылал в бескрайней темноте, будто горящая головешка. Пусть, кому хочется, смотрят на светящуюся точку. Пусть целятся в него хоть из десяти винтовок — Лео остановился, бросил сигарету на землю и затоптал огонек.
Взрослый мужик за полчаса позволил девчонке окрутить себя. И вместе с тем было несказанно приятно чувствовать себя окрученным. Конечно, в городе у Лео было несколько мимолетных знакомств. Будто киносеанс — потом натягиваешь шапку, уходишь и забываешь. Эти грубоватые крепкие девицы слов на ветер не бросали — иногда приходилось позволять себе такие мгновения, чтобы забыть горести, — рядом с естественной физической близостью томные нежности казались даже неуместными.
Эрика отстояла от них так далеко и с каждым шагом приближалась к Лео.
Во дворе виллакуского хутора Лео добрел до колодца, пошарил между пустыми ведрами, пока не наткнулся на полное корыто воды. Проломив ледок, он погрузил в нее руки с растопыренными пальцами. Приятный холодок привел его в себя. Он поднес ладонью воду ко рту, припухшие губы словно бы отошли. Обмыв лицо, он дал ему просохнуть на ветру.
Больше не годилось задерживаться, он должен был войти в дом и выдержать взгляды матери Вильмута и его сестры.
К счастью, вся семья сидела за столом. Вильмут с матерью уткнулись в тарелку. Одна Эвелина отложила вилку и изучающе покосилась на задержавшегося возле двери Лео. Чуть заметно усмехнулась. Не такая уж она бестолковая, подумал Лео.
Хозяйка любезно пригласила:
— Садись есть, Лео.
Ужинали молча. Чтобы не показаться прожорливым, он подавил проснувшийся вдруг волчий аппетит. Приходилось разыгрывать печаль, хотя внутренне никакой грусти он не ощущал. Он сознавал свою низость, но ничего с собой поделать не мог. После долгих лет впервые не хотелось быть таким, каким должно. Мера принуждения переполнилась, он надеялся хотя бы немного освободиться от него и наслаждался своим влечением к Эрике.
Хорошо, что лампа стояла на выступе плиты, освещая бурлящий котел, а не лицо Лео.
Сидящие за столом копались в тарелке, кусок не лез в горло, будто ели по принуждению.
Время от времени хозяйка откладывала вилку, опиралась локтями о стол и уставлялась в бревенчатую стену, будто ей таким образом легче было держать открытыми опухшие веки.
— Не приедут они из города, — сказала Эвелина.
— Да уж наверное, — рассеянно произнесла Лилит, количество людей на похоронах ее вроде бы и не трогало.
— Пусть говорят, что хотят, но я отцу сыграю на гуслях, — выпалил Вильмут и громко высморкался.
Отголосок семейного разговора доносился до Лео как бы издалека.
Он дожевал ломоть, поднялся, поблагодарил и сказал, что полезет на сеновал, переспит, а то еще напугаешь ночью мать.
Эвелина принесла из комнаты одеяло, подала с вешалки и шубу и сказала куда-то в сторону:
— Жарко не будет.
Лео кивнул, натянул кепку и направился через двор в хлев. Так оно и бывает, в городе у тебя и понятия нет, спит ли твой сосед за тонкой дощатой перегородкой на нарах или в белой лакированной кровати. Висит ли его одежда на стене на катушках из-под ниток или покоится на вешалках в ореховом шкафу за выгнутой дверцей — в деревне же каждый все знает про чужое хозяйство.
Сколько бы лет ты ни отсутствовал, можешь пойти и с закрытыми глазами безошибочно отыскать знакомую с давних пор лестницу или лаз на сеновал. Возможно, что шуба эта когда-то согревала Лео, разве упомнишь, что надевали, когда ехали на дровнях на мельницу или когда лес валили.
Лео забрался вверх по лестнице и почувствовал, что огромный хлев пустой. Всего одна корова вроде и дышала поодаль, да еще подсвинок, наверное, похрюкивал за перегородкой, сколько разрешали держать овец, это Лео как-то пропустил мимо ушей.
Он устроился в дальнем углу чердака на куче сена, овчинная шуба словно бы поглотила его изнуренное тело, усталость сморила.
Эрика сидела верхом на соломенной крыше дома на хуторе Клааси, держалась за перекрещенные жерди, раскачивалась взад и вперед, жерди под ее руками гнулись, готовы были вот-вот сломаться.
Лео вздрогнул и проснулся, кто-то шуршал сеном и приглушенно звал его.
Лео поднялся и сел, теперь эта негодная девчонка на гребне крыши растрезвонит его имя на всю деревню — Эрика свалилась ему на руки.
Она прижалась головой к подбородку Лео, куснула его за шею, сон сменился осязаемыми грезами — Эрикой.
— Как хорошо, что ты пришла, — настал черед Лео вздохнуть.
Спустя десятилетия, обладая умом и опытом зрелого человека, Лео мог и так и эдак оценить тогдашнее поведение Эрики, ее безрассудство можно было объяснить по-разному. Та лучистая радость давным-давно уже угасла, осталось воспоминание, которое все еще приводило в испуг, хотя и поддавалось трезвому объяснению.
Разгоряченная Эрика стояла перед ним голая и беззащитная. Долгие годы войны и лесных схваток люди жили придавленно, словно под перевернутым горшком, который к тому же зловеще гудел; обстоятельства ограничивали даже самую невинную свободу, дальше лесной опушки боязно было и ногой ступить, все держались ближе к дому. В деревне оставалось все меньше народу, почти из каждого окна на дорогу смотрела увядшая за ночь женщина, мужики или исчезали куда-то навсегда, или торчали, как привидения, в увязших в грязи дровнях, в которых не было лошади. Поля становились залежью, злость разрасталась, как сорняк. Рты закрывались на замок, опускались руки, ветер рвал крышу и уносил дранку.
Все жаждали покоя и света.
И вдруг перед Эрикой возник образ из прежних времен — наваждение: молодой человек, настоящий мужчина, студент из города! Лео не явился, пробираясь из чащобы, не брал силой, по-скотски, встретившуюся женщину, он вообще не был навязчивым, скорее оставался растерянным, робким и нежным — давно забытое качество: благопристойный мужчина.
Эрика прижалась к этому человеку, который, казалось, видел среди хаоса цель. Едва ли она догадывалась о его истинном состоянии: я в этом мире отверженный. Девушке и в голову не приходило, что благодаря именно ей Лео познал теплое чувство привязанности к дому, ощутил принадлежность к парализованной темнотой и страхом деревне.
А может быть, Эрика просто перезрела.
Возможно, она и не думала ни о чем, просто существовала, затащила в круговорот своих ощущений и его и позволила в свою очередь затянуть туда себя.
Или ее все же охватило то удивительное неповторимое чувство, по поводу которого сказано столько слов и объяснить которое не могут, да и не нужно.
Именно так оно и было, и в отношении Лео тоже. Более общее представление о пережитом появляется в сознании человека позднее. В ту ночь на сеновале виллакуского хутора Лео ни о чем не думал. Прикосновение рук Эрики удивительным образом снимало напряжение. Лео вдруг разом перестал быть одиноким, стесненным неопределенностью своего положения существом. Эрика щедро оделяла нежностью: великодушие — единственное средство, которое возрождает захиревшую душу.
В начале той холодной осенней ночи, на чердаке виллакуского хутора Лео ощущал себя сильным и счастливым.
И вдруг брякнулся навзничь, как жук. Грубая земная жизнь вступила в свои права.
Наслаждаясь состоянием расслабленности, Лео услышал во дворе осторожные шаги, затем стук в окошко, скрип двери, сдержанный разговор. Кто-то не вошел в дом, а направился к воротам хлева, на некоторое время шаги затихли на соломенной подстилке, нащупывающая рука похлопала по боковине лестницы, перекладины заскрипели под чьими-то ногами. Неизвестный взбирался наверх.
Лео в порыве злости хотел было крикнуть, неужто людям и впрямь нет больше места в полупустой деревне, обязательно надо сбиваться в кучу! Сеновалов на конюшнях и хлевах, амбаров, сараев и сарайчиков было не счесть. Почему кому-то понадобилось явиться именно сюда и разрушить мгновение, когда нежность и опьянение вырвали их с Эрикой из отвратных будней?!
Лео сжал зубы, он почти затаил дыхание, руки Эрики вцепились в него, она издала едва слышный стон, уткнувшись ртом в овчинную шубу. Они застыли и почувствовали, как холодеют их тела.
— Эй вы, гости похоронные, — сдавленно донеслось откуда-то от лаза. — У меня в кармане погремушки и в руках автомат. Когда начнется штурм, уносите ноги, я их перебью. — Мужчина хохотнул и закашлялся. — Вас пощажу, не изрешечу. Ясно? — крикнул он наконец и замолк.
Гости похоронные. О боже!
Лео и Эрика притаились, как мыши.
— Спите, спите своим невинным детским сном, — пробурчал незнакомец презрительно.
Ночлежник зашуршал где-то в стороне сеном, наверное, вертелся, как собака, выбирая место, а может, искал свою шубу. Эрика коснулась губами уха Лео, но благоразумно ничего не шепнула. Видимо, знала, с кем придется иметь дело. Здешних лесных братьев узнавали по шагам. Голос и Лео показался вроде бы знакомым.
Он прерывисто дышал, так же, как и Эрика.
Лео хотелось еще немного побыть в райских кущах. Рука его медленно скользнула по груди и животу Эрики.
Издали стал доноситься трескучий храп.
Эрика словно бы вздрогнула, но все же придвинулась к Лео. Не испугалась.
В ту ночь они были самыми смелыми людьми на свете.
Когда Лео пришел в себя, странная мысль пришла ему на ум: мертвецки спавшего лесного брата можно было легко схватить, связать по рукам и ногам и положить в телегу. Измученный вояка, наверное, и не проснулся бы раньше, чем колеса загромыхали бы по мостовой в поселке.
Эта неожиданная мысль показалась смешной, но она была скорее неуместной, состояние удовлетворенности и расслабленности отодвигали сочувствие и понимание, ведь Лео и сам мог оказаться в точности таким же гонимым в безысходности волком. Вдруг там спит кто-то из однокашников. Он никогда не узнает об этом. При дневном свете их пути не скрестятся. Оно и лучше, если не заглянут друг другу в глаза.
Ночной хмель удовлетворенного любовника рассеивался в сером рассвете осеннего дня. Мучило сожаление: почему время загнало людей в угол, опустошило их? Сколько можно с еловой макушки вглядываться в небо, все надеяться на избавление?
Эрнст давно погиб. А кто еще? Кто в земле, тот не ходит ночевать по окрестным хуторам.
Сколько еще ночей придется вот так храпеть и сопеть этому лишенному своей постели человеку?
Жизнь снова показала свое жуткое лицо.
Лео не помнил, когда уснул. Проснувшись, увидел, как из лаза сеновала просачивался свет холодного осеннего утра. Видимо, выпал небольшой снежок. Внизу, в коровнике, журчало в подойник молоко.
Лео приподнялся на локти, кроме него, здесь уже не было ни души. Как знать, кто из них раньше замел следы — Эрика или лесной брат.
Лео мог еще дрыхнуть, помедлив, погладить постель и поверить, что сохранилось тепло от тела Эрики. Когда хозяйка кончит доить корову, то придет конец и его разнеженности. Он пойдет через поле и войдет в родной дом. Лео угнетала лишь мысль об укоризненном и одновременно боготворящем взгляде матери. Зачем ушел, оставил меня здесь одну мыкаться! Как же это хорошо, что ты выбрался отсюда, тут бы тебя затянули в лес и накликали бы гибель.
Мать всегда оставалась для Лео загадкой. Когда рушилась семья, когда отец, ругаясь, собрал вещи, взял за руку Юллу и еще раз примирительно остановился в дверях — почему мать не удержала его? Они могли бы поселиться где-нибудь еще, но ведь эти разбросанные хутора с их полями и выгонами, эта деревня Медная отнюдь не были пупом земли. Мать не признавала другого места для жилья. Или это упрямство рано состарившегося человека? Хотя, когда уходил отец, ей было всего тридцать восемь лет. Сегодня бывшая хуторская приверженность считается тупым фанатизмом. Все вроде бы сходилось: с большим трудом мать стала хозяйкой, и она не разменивала добытое на мелочи — на угол в городском доходном доме! Что еще? Было ли у Лео право вершить над ней суд? Взять перейти поле, распахнуть дверь и спросить: почему ты так поступила?
А если пойти и впрямь спросить.
Отец давно уже в земле.
Сейчас спросил бы иначе: неужто Йонас и в самом деле удерживал тебя тут?
После ухода отца и сестры мать переменилась. Раньше она помыкала сыном и понукала его, случалось, что и прикрикивала, после распада семьи в ней появилась какая-то мягкость. Она оставила свою прежнюю властность и обращалась только с неназойливыми просьбами. То и дело старалась доставить сыну приятное. Урывала от денег, полученных за молоко, чтобы Лео мог заказать себе в поселке костюм из английской шерсти и купить самый модный велосипед. Частенько печалилась и неприятно, по-старчески, повторяла: ты моя единственная опора и радость. К тому времени Лео закончил в Вильянди гимназию и слыл на хуторе за хозяина. Мать давала сыну возможность принимать решения по хозяйству, а сама все отходила в сторону. Лео получил в руки вожжи, но никакой признательности не проявлял; скорее раздраженно ворчал и выказывал неудовольствие. Образованный молодой хозяин становился все более самоуверенным, просто заносчивым. Мать на это и внимания не обращала. Видимо, угадывала в Лео свое зеркальное отражение и радовалась, что сын с арендного хутора принадлежит к кругу богатых хозяйских сынков.
Возможно, они оба с матерью думали, что поднялись на гребень волны. Справлялись и без отца. С Юллой было сложнее. Ночами мать пробиралась в кухню и перечитывала при свете коптилки письма дочери — кто знает, в который раз — и беззвучно плакала. Днем она стыдилась проливать слезы над детскими каракулями.
И все же мать старалась внушить себе и Лео, что у всех свои трудности и что им тоже не пристало роптать.
Никто из них не смог встать над собой, чтобы увидеть нелепость своего жизненного уклада и устремлений. Конечно, это было печально, но нисколько не смешно. Кто и когда смог подняться над своим временем? Жизнь переплетается случайностями, и случай придает ей свое лицо.
Лео следовало благодарить случай, что тогда, на похоронах отца Вильмута, осенью пятидесятого года, он остался в живых.
11
— Лео, ты проехал! — воскликнула Сильви. Он слишком резко нажал на тормоз. Привязной ремень оберегает рассеянных: Хельгу кинуло вперед, ремни натянулись.
Лео глянул в зеркало, сзади приближалась вереница машин. Два самосвала, бензовоз. Пришлось подождать, пока они промчатся мимо, чтобы развернуться.
Вскоре это удалось. Лео потихоньку съехал с шоссе, машину покачивало на бугристой, проросшей корнями дороге, скоро они въедут в зеленый тоннель, мечащиеся солнечные блики польются сквозь лиственный свод золотым дождем на ветровое стекло, пока не отступил полумрак, сросшиеся кусты не поредеют и не покажется впереди залитая светом поляна — двор старой усадьбы.
Как редко случается в жизни, чтобы кто-нибудь тебя предупредил, придержи, проедешь мимо. Люди ничтоже сумняшеся сворачивают со своей дороги в полной уверенности, что именно этот путь ведет к цели. Почему-то человек любит намечать цели, но не замечает, что, торопясь куда-нибудь, он разбрасывает и теряет больше, чем обретает. Не хочет быть букашкой, которая блуждает между травинками. В действительности зачастую скачут на мертвых конях и принимают глину за булки. Кое у кого собственная убежденность столь велика, что даже кусты, гарь или валежник принимаются ими за зеленый тоннель, где солнечные блики сыплются под ноги золотым дождем. И все же они сохраняют уверенность, что, продираясь вперед, доберутся до залитого светом простора, до самой прекрасной лужайки своей жизни.
В ту пропитавшуюся ржавым дождем осень, когда они с Вильмутом ехали в родные края на похороны хозяина виллакуского хутора, Лео по разным поводам вспоминал истории о привидениях и призраках в Медной деревне. Приземистые хуторские постройки, размокшие поля, разбитые дороги, стонущие на ветру деревья не просто так раскинулись под серым небом. Шел шабаш ведьм, и в лицо летела колдовская соль. Кое у кого из людей под ногами открывались зеленые сверкавшие топи, других до смерти пугали раскачивающиеся над полем огненные венки, третьи завороженно кружились возле пылающего шара и теряли голову. Под мрачный погребальный настрой начинали звенеть колдовские бусинки, они нацеплялись на шею и обращались Эрикой. Запретный любовный пламень, они с Эрикой не задумывались ни о времени, ни о месте, их обоих словно подменили.
После погребения народ побрел с кладбища под моросящим дождем по грязи на хутор Виллаку. Все были пешие, взятую с колхозной конюшни лошадь после того, как покойного увезли на кладбище, отвели назад в стойло. На открытом поле покачивалось множество темных человеческих фигур. Они то и дело поскальзывались на глинистой земле, женщины в больших платках, удерживая равновесие, раскидывали руки в стороны — огромные птицы махали крыльями, но никуда не летели. Месил грязь и новый пастор. В этих краях он появился недавно. Прежний пастор сбежал за море, и люди несколько лет обходились без духовного наставника. Говорили, что Йонас на похоронах читал Священное писание, люди и сейчас бы смирились с ним, потому что нового пастора боялись. Какой духовной поддержки можно ждать от того, кто и сам с собою не в ладах. Известный в уездном городе пастор не отправился бы в глушь, не вздумай он попытаться повеситься, что и замарало его имя.
Разглядывая долговязую фигуру пастора, Лео вдруг с удивительной ясностью открыл для себя принципиальные и бесповоротные перемены жизни. Возможность для такого вывода предоставляли многие события последних лет, однако особое значение приобретает именно какая-то несущественная мелочь. С плеч пастора свисало тонкое, в елочку пальто, сшитое невесть когда и для более солидного человека. Его овчинная ушанка местами вылезла, а резиновые сапоги были залатаны красными заплатами из довоенной велосипедной камеры.
Эрика шла где-то позади. Лео чудилось, что она, как тень, следует за ним, ему хотелось оттеснить ее. И все же Лео всякий раз охватывало жаром, когда ему казалось, что Эрика рядом и дышит ему в затылок. Он засунул руки глубоко в карманы, оттягивал полы пальто и внимательно смотрел под ноги, чтобы не угодить в промоину. Ущербные чувства вселяли тревогу; люди заглядывают ему в душу и осуждающе качают головой. Куда это годится, в ушах звучала музыка, Вильмут играл на гуслях, и мягкие звуки вовсе не были предназначены его покойному отцу, которого сын сопровождал в последний путь. Нет, Вильмут бренчал на летнем лугу, пышная трава медленно колыхалась, будто под водой, Лео и Эрика неспешно ехали на велосипедах по обсаженному черемухой прогону, белые лепестки осыпались дождем на землю и благоухали.
В Виллаку приглашенные выпростались из тяжелой одежды. Возились долго и, пригладив волосы, боязливо жались у стены. После долгих уговоров расселись по скамьям. На стол поставили чашки с дымящимся картофелем, граненые рюмки наполнили желтоватым самогоном — Лео был оторван от родных краев и не знал, кто из деревенских жителей гнал сейчас сивуху, — пили за память усопшего, оконные стекла помутнели, будто самогон вливали не внутрь, а распыляли в облако — и он оседал на окнах. Гости подкреплялись, опорожненные глиняные чашки снова наполнялись картофелем, из чулана подносили в чашках студень, женщины сами разливали самогон, мужчин для этого дела не хватало.
Голова разгорячилась, хмель приятно ударил в голову, и Лео ощущал себя словно в бане, шум человеческих голосов усилился до рокота. Самогон избавил людей от подавленности, языки развязались, вспомнили о прославленных ратных подвигах хозяина хутора Виллаку; вдова пустила по кругу знаки доблести, большинство людей впервые держало их в руках. Гости взвешивали на ладонях кресты и рассуждали о том, что прежние войны все же не были столь жестокими, как последняя, сейчас уже на пальцах обеих рук не перечтешь всех погибших в родной волости мужиков. На этот раз будто косой косили, погибшие раскиданы по всему свету, скопом окрестные мужики и не поместились бы на здешнем кладбище, пришлось бы сломать старинную ограду и перенести ее в поле, чтобы предоставить кому-то место. Почтительно говорили о дедушке Вильмута, который надрывался за троих. Такие люди всегда были опорой нации. Не забыли помянуть и прабабушку Яву, которая во имя справедливости могла схватиться с кем угодно. Гости вспоминали пышные похороны Явы, сожалели, что на этот раз не приехал никто из городских родичей.
Естественно, за тем столом Лео и в голову не приходило, что Ява и ему доводится прабабушкой. Еще с мальчишеской поры он отвергал любые сплетни про мать и россаского Йонаса и относил все за счет людской зловредности. Но похороны Явы он помнил. В то время они жили в соседней волости. Тамошний хозяйский сын признал мальчонку батрачки своим отпрыском, уже готовились к свадьбе. И все же невеста с ребенком против воли жениха решила отправиться на похороны Явы в Медную деревню. Лео не забыл тогдашнюю перепалку, старики отнеслись к выбору сына без всякого сочувствия, пытались сломить упрямство блудливой невесты. Мать показала характер, взяла Лео за руку, наперекор всему отправилась в дорогу, не обратив никакого внимания на дурные слова, сыпавшиеся ей вослед. Лео тоже пытался изменить решение матери, хотел от всей души прийтись по нраву ее жениху. Такого сильного и дружелюбного отца ни у кого не было, и он боялся, что из-за маминого упорства лишится его.
Лео упирался, всю дорогу оглядывался; втайне надеялся, что хозяйский сын запряжет коня, поедет вслед за ними, силком усадит их и повернет домой. Лео хныкал и артачился до конца, так ему не хотелось идти в чужую Медную деревню, где людей поджидали какие-то опасности; взрослые утверждали, что чье-то имя будет там опорочено и кто-то станет людским посмешищем.
На поле возле Медной деревни у Лео подкосились ноги, где-то под самым небом загудела труба, это не могло предвещать ничего хорошего, мать поняла, что ребенок устал, она подбадривала его, мол, осталось немного, вот перейдем Долину духов — и мы на месте. Долина духов! Сейчас стоящий вдали ельник разом рухнет, выпуская в поле скопище изготовившихся к прыжку вурдалаков.
Они свернули на проселок, и между картофельными бороздами поднялась одна колдунья, которая зло оглядела их, Лео понял, что пришла погибель, они в ловушке и никогда уже отсюда не вырвутся.
Лео не помнил, о чем он думал, когда на похоронах Явы приставил к животу самопал и нажал на курок. Все время ждал, что сверкнет молния и охватит боль, пусть бы уж все разом кончилось. После выстрела Лео отвезли в поселок — все же это был Йонас, который натерпелся с ним лиха, — потом его отнесли в какой-то дом, глаза то и дело заволакивало туманом, одно лишь ясно осталось в памяти, как старый солдат извлек из-под кожи свинцовую пульку. Старый солдат оказался сыном Явы, значит, Лео получил помощь от своего старого дядюшки. Знал ли старик, что помогает маленькому родичу?
На поминках отца Вильмута, когда Лео почувствовал себя окутанным парным облаком и был занят собственными мыслями, он не придал никакого значения тому, что немногословный россаский Йонас сидел рядом с его матерью. В опустевшей деревне старые, одинокие люди держались вместе, сетовали друг другу на свои беды, судили о переменах погоды и беспокоились о несделанной работе. Людей, у которых уже истощились соки жизни, интересовало еще только, как сохранить душу в теле.
Смешно, ведь мать была тогда моложе, чем Лео сейчас.
В пределах пристойности Лео поглядывал также в сторону Эрики. Конечно, пределы пристойности у напившихся самогоном людей весьма сомнительны. И другие были во хмелю и для поминок излишне шумливы. Что они там могли заметить.
Глаза Эрики горели в полутемном углу. В какой-то миг она сделала головой едва уловимое движение в сторону двери. Лео протрезвел, напрягся, улучая подходящий момент, чтобы встать.
Поодиночке и незаметно они исчезли из-за стола. Лео вышел из двери и словно провалился в темноту. Беспомощно остановившись, он дал глазам пообвыкнуть. Через мгновение Эрика сунула ему в ладонь свою теплую руку.
— Пойдем к нам, — прошептала она. — Наши будут здесь горланить до утра.
Нерешительный Лео позволил девушке увести его за собой. Только что думал о страхах Медной деревни, теперь же он не боялся самого черта, хотя и опасался домашних на хуторе Клааси.
— До полночи им и в голову не придет встать из-за стола, — угадала Эрика его мысли.
Похолодало. Небо уже не было затянуто тучами, частенько проглядывала луна, жестко посверкивала Полярная звезда, звезды поменьше, казалось, мерцали и раскачивались между клубами облаков, будто находились во власти ветров. Посреди поля Лео остановился и оглянулся. Темные постройки хутора Виллаку сливались с отдаленным лесом, из крыши дома вырастали острые маковки елей. Нетерпеливая Эрика поторапливала Лео. Она не считала нужным навострять уши и прислушиваться. Чувствовала себя свободной и хотела быть беззаботной. Принималась без причины смеяться, пробегала несколько шагов, в шутку подталкивала Лео, забегала вперед и подзадоривала ловить себя.
Неужто человек должен всегда чего-то бояться? Можно ли желать большего: легкие с шумом наполнялись бодрящим воздухом, застывшая земля гулко гудела под ногами, и Лео держал за руку Эрику. Можно было скакать и улепетывать, как в детстве.
У ворот хутора Клааси они, запыхавшись, остановились. Смотрели в небо, будто ждали живительного ливня, но время теплых дождей давно миновало. Лео прищурил глаза, звезды метали лучи и искры, они запутывались в ресницах Эрики и утопали в ее глазах.
Переводя дыхание, Эрика осторожно открыла ворота. Лео снова позволил повести себя. Они исчезли в кромешной темноте гумна, но Эрика словно бы по веревочке прошла до переходной двери. Щелкнул замок, Лео споткнулся о порог, они очутились в натопленной кухне.
Эрика зажгла лампу.
На окнах висели толстые одеяла, скрывая свет и тайны дома. И все же по спине Лео пробежали мурашки, он почувствовал себя почему-то неуютно, будто его выставили напоказ. Посреди кухни слабо теплилась керосиновая лампа, набитые кухонной посудой шкафы возле стен словно бы наклонились вперед, стоит сделать неосторожный порывистый шаг по продавленному полу — и все разлетится на осколки. В помещении царило тревожное напряжение, казалось, единство вещей и дома должно было вот-вот нарушиться. Ну и пусть, Лео сделал все же несколько длинных шагов, половые доски прогибались, посуда позвякивала, и распахнул настежь полуприкрытую дверь в комнату.
Из темноты послышался издевательский смех.
Это не было слуховой галлюцинацией. Иначе бы Эрика не устремилась туда со всех ног.
— Ты не бойся лампы, она не кусается, — сердилась Эрика и тащила кого-то через порог на кухню. — Кто тебе разрешил заявиться сюда? — возмущенно спрашивала она. Таким тоном разговаривают с лохматой дворняжкой, которая без спроса забралась в дом и улеглась на чистый коврик.
Эрика выволокла обросшего и ссутуленного мужичонку на свет.
— Так я и подумал, — прошепелявил он, — что нечего мне дрожать. Девка хочет мужика, и больше ничего. — Он принялся хрипло хохотать и закашлялся.
Лео узнал Ильмара. Знакомый захлебывающийся кашель, значит, в предыдущую ночь оба они спали на чердаке хутора Виллаку.
Ильмар сплюнул в помойное ведро, немного отдышался и сказал совершенно безразлично, будто они все эти долгие годы и не находились друг от друга вдалеке:
— Ах, это ты, Лео.
Лео не знал, что сказать и как вести себя.
Ильмар опустился на край скамейки, по-старчески сложил на груди руки и осторожно прислонился к столу, словно боялся стукнуть по дереву костлявыми костяшками своих пальцев.
— Знаешь, Лео, жизнь моя пошла коту под хвост.
— Ильмар, ты лучше уходи, — с нетерпением в голосе молила Эрика.
— Ночь впереди долгая, он еще успеет обротать тебя. Лучше неси самогону, дай мужикам поговорить.
Чураться старого приятеля, как прокаженного, не годилось, и Лео уселся напротив Ильмара.
Эрика громыхнула дверцей шкафа, поставила со стуком на стол бутылку и стаканы.
— Ломоть хлеба тоже, — попросил Ильмар. Повернувшись к Эрике, попытался было свысока посмеяться и утешил: — Не бойся, сегодня ночью они прочесывают окрестности хутора Виллаку. Покойник в земле, опять можно сводить счеты с живыми. Думают, что лесные братья сидят вместе со всеми на поминках. Сюда они не сунутся.
— Кому ты нужен, — сердито бросила Эрика, но все же положила на стол краюху хлеба и кусочки жареного мяса.
— Ты, девка, заткнись! — вспыхнул Ильмар. — Ничего ты не смыслишь. Но на носу себе заруби, что если пулю получит один мужик, то и на следующем отметину поставят. Конца не будет.
— Будет, когда всех вас перестреляют, — буркнула Эрика.
— Вот видишь, такие они люди, — повернулся Ильмар к Лео. — Отдаешь за их жизни и хутора свою душу, а они потом норовят на тебя же плюнуть.
— Послушай, Ильмар, ведь ты еще не мертвый, — Лео сделал попытку остановить перепалку Ильмара и Эрики.
— В следующий раз, когда наведаешься домой, я уже буду на небесах. Воткни тогда в мою могилу маргаритку. Знаешь ли ты, черт, — да ни хрена ты не знаешь! — Ильмар откусил мясо, запил самогоном, будто водой, и продолжил разговор. — В прошлом году, в феврале, я наблюдал издали, как они подбирают трупы наших мужиков. Бой прошел на рассвете, ну и морозище стоял, лес трещал, рубаха под мышками примерзла к телу, руки совсем закостенели, на спусковой крючок не нажать. А им что, сытые мужики и с тепла пришли. А наши валились в сугробы и в смертельных судорогах хватали зубами снег. В тот раз меня не задело, но как магнитом тянуло снова глянуть. Несколько раз возвращался кругами назад, смотрю, друзей уже снежком присыпало, глаза остекленели. Лишь под вечер приехали за ними на санях, в оглоблях справная сивая кобылка в яблоках, попона на спине, светлая, будто шелковая, грива, да пофыркивала, ноздри в инее. Дровни пустые, не было там и клочка сена. Никто и охапки чертям не дал. Брали вдвоем наших ребят, как деревянные колоды, и швыряли в дровни. Всякий раз, когда тело грохалось в дровни, кобыла вздрагивала и косилась через оглоблю назад. Я сидел в молодом ельнике и поглядывал из-под веток. Никого издали не узнал, но могу об заклад побиться, что Виллу был среди них. Меня жаром обдало, зубы сжал, хотелось крикнуть: подлец ты, Виллу, твоя пуля еще в засоле! В сорок первом мы с ним дрались у волостной управы. Когда наши мужики побежали к лесу, я увидел Виллу в окне. Не боялся, черт, перегнулся через подоконник, смотрел нам вслед. Я лежал за камнем, пуля в стволе, не знаю, какая жалость меня одолела, что оставил ему душу в теле. Немилость судьбы, потом довелось увидеть, как он моих мертвых друзей швырял в дровни. Наверно, догадывался, что я где-то подглядываю, но не могу выстрелить, — они бы меня оравой тут же придавили бы, во всяком случае, Виллу хотел показать свое великодушие. Другие топтались на месте, охлопывали себя руками и дымили самокрутками, пока Виллу маленьким топориком срубал с болотных елочек ветки и укрывал ими свою страшную поклажу. Считал все же и нашего брата за людей, поди, чьи-нибудь стеклянные глаза были ему знакомы.
— Вышел бы из кустов и сдался бы Виллу. Долго ты будешь вот так, — неосторожно сказал Лео.
— Ну, знаешь, — бессильно прокряхтел Ильмар. Он отхлебнул самогона, со стуком отставил стакан и вперился в Лео. Тот с ужасом смотрел в большие и пустые глаза обезумевшего школьного товарища. Постепенно в углу рта у Ильмара появился слюнявый пузырь, он раскрыл рот, будто хватнул воздуха, Лео успел заметить, что зубы у нестарого еще мужика порядком поредели. — Ну и падло же ты! — выпалил Ильмар. — Лучше помру здесь, чем в Сибири! Я покажу стервецам, что есть еще эстонцы, у кого поджилки не трясутся. Знай, Лео, прежде чем они меня укокошат, в яму зароют кучу красных! Ну, дьявол! — Ильмар закашлялся, он щурил глаза, на лице появились глубокие морщины, и по ним ручьем катились слезы.
На жалкого и пьяного школьного товарища было больно смотреть, Лео боялся, что Ильмар скоро сникнет, повалится на стол и заснет, застонет во сне, примется скрипеть зубами, засучит от ломоты ногами по полу, и все-то ему будет нипочем. И вдруг именно сегодня придут с облавой? Что станется с хуторской семьей и с Эрикой, если здесь найдут Ильмара! Что сделать, чтобы спасти их? Может, опрокинуть обессилевшему однокашнику в глотку еще стакан самогона, оттащить в лес, бросить в кустах на кочки — знай свое место, не суйся к честным людям!
Чувство безысходности давило. В то же время он презирал себя за бесчеловечные мысли — гляди, какой чистенький нашелся, готов человека как падаль уволочь в лес, лишь бы с глаз долой.
Лео беспомощно метнул взгляд на Эрику, стоявшую как изваяние у плиты, ее возбужденность и веселье давно улетучились. Возможно, она кляла про себя время, в котором не умещалась ее молодая радость. Едва выбралась из детства, как жизнь запуталась и пошла сплошными узелками.
Ильмар передернул плечами, нагнулся вперед так, будто хотел переместить обжигающий расплавленный свинец из-под груди в другое место, чтобы было не так больно.
Только теперь Лео заметил прислоненный к шкафу автомат Ильмара.
Пустое дело, мысленно усмехнулся Лео, вскакивай, хватай автомат и под дулом отведи друга в поселок и сдай властям.
Потом люди в Медной деревне скажут, что в бою все по-честному, а вот Лео — тварь затаенная, не сказал, что снюхался с красными, свершил-таки иудово дело. Неужто люди еще не набрались ума-разума? Может, хватит предательства? Род человеческий и вовсе сгинет, если не будет милосердия, один указывает пальцем на другого и велит убрать. В злобе и ненависти только и живут. Скоро уже не останется человека, у кого бы душа не была поганой.
По какому праву он смеет вершить суд над Ильмаром? А начнут рыться и копаться, глядишь, какой-нибудь пытливый лучик проникнет в темные закоулки прошлого самого Лео, кто знает, что там высветится!
Значит, прежде всего ему дорога своя шкура.
От возбуждения у Лео зашумело в голове, ему показалось, что люди в тяжелых сапогах притопали к воротам — сейчас разомкнутся в цепь, окружат дом, руки вверх, враги народа! Осиное гнездо следует очистить.
На Эрику и смотреть не хотелось. Куда подевалась ее напористость? Почему она ничего не придумает? И впрямь время обрело новый лик, в старину царила ясность, библия повелевала: грехи родителей да воздадутся детям вашим. Теперь все подрагивало в нетерпении, судьба не соблаговоляла дожидаться следующего поколения. За каждый проступок тут же следовало наказание! Почему они с Эрикой впали в жаркое безумие? Они тоже были нетерпеливы — дети судного дня, — опрометчиво забрались на сеновал виллакуского хутора. На том же хуторе покойник дожидался своего погребения, домашние бродили по двору, тяжесть мыслей о вечности сгибала их, а они с Эрикой улетали на крыльях блаженства в райские кущи и выметали из души земные горести.
Ильмара одолел кашель, он не спеша жевал мясо, ел так медленно, будто последние оставшиеся зубы отказывали. Без конца запивал самогоном. Был уже совсем тепленьким, даже разговаривать не хотел, наверное, скоро свалится под стол комом.
Видимо, Ильмар был на хуторе Клааси частым гостем. Заявляться домой, чтобы согреться, он не смел. Эрнст угодил в ловушку как раз на кухне, когда хлебал суп. Питаться дарами леса? Можно было предположить, что один вид клюквы на болоте вызывал тошноту. Убить лесное животное и развести костер, чтобы зажарить мясо, — полное безумие, это значит позволить взять себя без особого труда на мушку.
Были свои черные дни и у Лео, настоящую беду пришлось пережить в лодке, когда он бежал от немецкой мобилизации в Финляндию. Посреди моря отказал мотор, весенний шторм нарастал, льдины скреблись о борта, мокрая одежда примерзала к телу. Может, их спасло от холодной смерти лишь то, что они выполняли тяжелую работу, налегали на весла и держали лодку носом против ветра. Полупьяный рыбак матерился на чем свет стоит и гремел гаечными ключами. Лишь на рассвете мотор затарахтел. Впоследствии Лео видел сны: его мертвое тело раскачивалось в волнах, вокруг шеи намерз лед и держит, словно поплавок. После объявления немецкой мобилизации Лео тоже держался подальше от дома и бродил по лесу. Собственно, это можно было считать долгими прогулками. К вечеру собирались на каком-нибудь отдаленном хуторе, и шла гулянка, пили и горланили — в то время люди еще были сравнительно беззаботными, своим эстонским парням не запрещали спать в сараях и на чердаках, на каждом сеновале лежали наготове одеяла и шубы.
Пока не пошли мрачные слухи: немецкая полевая жандармерия прочесывает леса, кого схватят, расстреливают на месте.
Они с Вильмутом решили бежать за море.
Им повезло, они избежали встречи с немецкими пограничниками.
Не один беглец получил пулю и застыл на родном берегу.
В то время они, по крайней мере, действовали, были предприимчивыми, к чему-то шли. А Ильмар годами находился в лесу, будто на страже, боялся каждого шороха, с колотящимся сердцем убегал, поддавая ногам жару, или таился за деревом и снова целился в кого-то. Чтобы жить, он должен был убивать, только убивать. Каждое утро одна и та же мысль: может, сегодня мой черед отправляться к создателю? Дороги назад не было — кровная вина, — любая тропка вела навстречу пуле.
Хотя эти вечные пряталки и заячье петлянье могли и без пули душу вынуть. Человек не может приспособиться и стать лесным зверем.
Лео сумел каким-то образом из всего этого выпутаться — неужели он теперь влип?
У него должно было хватить решимости, чтобы еще раз спасти себя.
Он поднялся из-за стола и твердо сказал:
— Мне нужно возвращаться в Виллаку.
Голова Ильмара дернулась от тарелки вверх, он поморгал, смахнул тыльной стороной ладони крошки с губ, хохотнул и сказал:
— Иди, иди.
Эрика неслышно вышла на середину кухни, печаль в ее глазах стала рассеиваться и сменилась странным блеском, словно в ней зрела такая мысль, которая должна была всех радостно удивить.
Лео надел пальто, натянул на глаза кепку и спиной почувствовал, что Ильмар напряженно следит за каждым его движением.
Пусть идет ко всем чертям, пусть катится к дьяволу, мысленно повторял Лео. Дороги с бывшим школьным товарищем давно разошлись, он не станет из-за него плакать, не будет обниматься со своим старым приятелем — каждый сам должен делать выбор. Прошло много времени, люди стали другими, Лео давно уже не думал, что разбросанные отряды лесных братьев могут изменить государственный строй. Бесхитростные юношеские идеи перемешались с навозом. Восторженность братства по оружию, воздыхание по своей, эстонской, свободе, патриотическая стойкость, до последней капли крови — все чепуха. Давно пора понять, что в действительности кроется за простыми внешне словами: большая сила и малая сила. Мышь способна лишь пощекотать пятку медведя.
Лео вышел в прихожую, но подумал, что, не попрощавшись, уходить неприлично, приоткрыл дверь, кивнул Эрике и Ильмару и сказал:
— Будьте здоровы.
На полевой дороге Лео остановился и вздохнул полной грудью, почувствовав наслаждение от свежего воздуха, настроение поднялось. Он вовремя взял ноги в руки, неопределенных положений и отношений у него уже хватало по горло. И все же предусмотрительность и теперь была не лишней. Засунув руки в карманы, он прислушивался и думал, что же предпринять. Надо ли ему еще раз заходить на хутор Виллаку? Или сразу топать на станцию? А Вильмут? А мать? Он не мог уйти, не предупредив друга и не попрощавшись с матерью. Трудно вести себя достойно и поступать прилично, он почему-то верил в предупреждение Ильмара: сегодня ночью на хуторе Виллаку начнется пальба. Годами таившийся по зарослям, всегда ускользавший от облавы, Ильмар, должно быть, обладал обостренным чутьем, не подводившим его. Если драпать наобум, можно угодить в лапы преследователей. Хотя у Лео был в кармане паспорт честного человека, он ни за что бы не хотел попадаться на глаза представителям властей в своей деревне. Мерзкая картина: прерывающимся от волнения голосом он начинает доказывать, кто он такой, кем работает и где учится. К сожалению, Лео не обитал вне своего времени, недоверие расстилалось подобно густому осеннему туману в низинах, окутывая и его. Слепое братоубийство вынуждало относиться с недоверием к любым удостоверениям.
В темноте послышались шаги.
Неужели сейчас накинут сеть.
— Руки вверх! — хрипло выкрикнул кто-то.
Ильмар! Удивительно, что обмякший лесной брат не захрапел под столом.
— Брось свои шуточки, — произнес Лео, когда начал различать его приближающуюся фигуру.
— Руки вверх! — гаркнул Ильмар. — Или хочешь схлопотать пулю? Мне один черт, на одну жизнь больше или меньше, уже не в счет.
Ильмар подошел к Лео совсем близко, он не шутил, держал автомат на изготовку.
Подняв руки, Лео поболтал ими, как стоявшая на задних лапках собачонка, он был уверен, что паясничанье вернет Ильмару разум.
— Чего тебе? — спросил Лео.
— Ничего особенного, — бросил Ильмар. Он жевал что-то, видимо, у него за щекой оставался кусок мяса.
— Послушай, разбойник с большой дороги, — бодро проговорил Лео. — Водки у меня нет, с деньгами тебе делать нечего, чего это мы торгуемся.
— А мы и не торгуемся, — сказал Ильмар и сглотнул. — Ты повернешься спиной и пойдешь впереди меня в лес. Наши ряды поредели, у друзей глаза остекленели, я в бункере один как перст, не с кем словом обмолвиться. Гранат, винтовок и другого снаряжения у меня завались, снова напомню тебе про военное искусство. Когда-то ты был резвым малым, не думай, что я запамятовал.
Лео остолбенел. Он понял, что Ильмар говорит всерьез.
— За каждого отправленного на тот свет красного получишь разрешение пойти на одну ночь побаловаться с Эрикой, — хихикнул Ильмар. — Если будешь хорошим патриотом, то и пряник получишь.
Неужели Ильмар до этого притворялся пьяным? Или он сейчас бодрится и вояку разыгрывает?
— Послушай, Ильмар, я хочу у тебя кое-что спросить, — миролюбиво произнес Лео.
— Так спрашивай, — беззаботно ответил Ильмар.
Лео по-прежнему держал руки на высоте плеч — боялся выстрела — и подвигался, не отрывая пяток от земли, поближе к школьному товарищу. Стремительно пригнувшись, он головой ударил Ильмара в живот.
Ильмар не ожидал нападения и шмякнулся наземь. Лео навалился на него всем телом, вспыхнувший глухой гнев тут же унялся; отдавая себе отчет в своих действиях, Лео сдавил пальцами горло Ильмара. Лишу его сознания, совершенно трезво думал Лео и ощутил отвращение, но не от самого Ильмара, противен был исходящий от него запах. От шапки несло горелым, будто ею только что гасили огонь, от пальто исходил затхлый дух, сверх того разило самогоном и запахом давно не мытого тела.
Ильмар постанывал, в его легких что-то хрипело, он был не в состоянии сопротивляться. Руки бессильно обмякли.
— Лео, не убивай его!
Он отпустил Ильмара.
Опять Эрика.
Ильмар подогнул ноги и с противным храпом хватал воздух.
У Лео перед глазами поплыли круги. Спустя мгновение он почувствовал, как по щекам катятся слезы. Хладнокровный убийца? Эрика схватила его за локоть, встряхнула и потребовала:
— Мы не смеем оставлять его здесь.
— Может, он мертвый? — спросил Лео.
— С ума сошел, — охнула Эрика.
Она опустилась на колени рядом с Ильмаром, приподняла ему голову и зашептала:
— Ильмар, Ильмар!
Ильмар закашлялся. Между порывами кашля он со свистом втягивал воздух.
— Помоги, — приказала Эрика.
Лео поднял Ильмара, тот едва стоял на ногах.
— Доведем его до леса, пусть отойдет, — распорядилась Эрика.
Лео взял Ильмара под мышки, двинул под зад коленкой, заставляя идти. Ильмар покачивался, спотыкался, но все же продвигался вперед. Лео скорее догадался, чем увидел, что Эрика подобрала автомат и шла рядом с ними.
Лео честно помогал бывшему однокашнику. Рыцарь — убийца? Он тащил его все дальше и дальше от хутора, вспотев от напряжения. Его грызло отчаяние: ну что мы за люди стали? Он не мог обратить случившееся в шутку. Это было бы глупо. Может, он должен был кричать в темноту: божьи ангелы, посмотрите, какой я добрый христианин? Разве не все мы, эстонцы, невероятно добрые христиане? Найдутся ли на свете благороднее нас?
Наконец они дошли до опушки. Лео усадил Ильмара под густой елью, прислонив спиной к стволу. Хорошо, что не сказал: отдыхай, друг, здесь так уютно, как на руках у родимой матери.
— Оставил на шее следы от пальцев, — прохрипел Ильмар и обмяк.
Эрика положила автомат возле Ильмара, схватила Лео за руку, больно сжала его пальцы и прошептала:
— Давай уносить ноги.
12
Машина остановилась на залитом солнцем дворе. Лео положил руки на руль и уставился на старый дом, будто это вовсе и не здание, а мираж; сейчас огромное зеркало небес повернется, и марево исчезнет. На втором этаже за открытым окном стоял Ильмар, он пытался сдвинуть в сторону тяжелую в складках портьеру, занавесь еще не должна была опуститься. Мертвенно-бледное лицо Ильмара было на самом деле просто белым пятном: светлые брови и бескровный рот оставались почти незаметными. Зато хромовый сапог прямо-таки сверкал — Ильмар перекинул ногу через подоконник, наверное, собирался спрыгнуть вниз. Не делай этого, хотелось крикнуть Лео. Ты давно уже истлел и рассыплешься на куски!
Сильви заглянула в машину и озабоченно спросила:
— Лео, тебе что, плохо?
— Нет, нет, — поспешил заверить Лео.
— Мы натянем гамак между яблонями, можешь там отдохнуть, — пообещала Сильви.
Хельга и Урве сложили сумки на крыльцо и тоже вернулись к машине.
— Просим прощения, — сказала Хельга.
— Человек приехал отдыхать, а мы требуем от него план дома и чтобы катал нас. Прямо неловко, — упрекнула Урве сестер и саму себя.
— Поверь, мы постараемся исправиться, — торжественно пообещала Сильви и приложила руку к сердцу.
— Хочешь, испечем тебе блины? Или желаешь рюмочку коньяку? — предложила Хельга.
— Не беспокойтесь, все в полном порядке, — отвел он обхаживания сестер.
Они явно не оставят его в покое, если он и дальше будет продолжать сидеть в машине. Лео вынужден был подняться на ноги. Лучший способ успокоить сестричек — шустро хлопотать вокруг машины. Лео принес из колодца в пластмассовом ведерке воды, намочил губку и протер от пыли стекла, фары и номерные знаки.
Вне всякого сомнения, самочувствие увлеченно работающего человека бывает в норме, и сестры успокоились.
Лео хмыкнул. Печалиться ему или радоваться, что он всю жизнь вынужден водить женщин за нос. Плутовать или лукавить, вольно или невольно, нечаянно или намеренно; сусальное золото было в ходу и по пустякам, и в поворотные моменты, когда на чашу весов бросалась вся последующая жизнь. Обстоятельства всегда оказывали свое воздействие и подталкивали его; наверняка и крупные жулики не сами собой распоряжаются, не говоря уже о подобной ему мелюзге.
Защитная маска со временем пришлась по нраву и самому Лео, оно даже лучше, если не позволять любопытным женщинам заглядывать в душу. Случись им обнаружить твои чувствительные струны, они постараются это использовать, потом не оберешься неприятностей. Годами вытренированная прохладная манера даже импонировала женщинам, его считали мужественным, слегка загадочным человеком. Он благоприятно выделялся среди той сильной половины человечества, которая при каждой возможности с удовольствием выворачивает себя наизнанку, ноет и брюзжит. Сами они и не были в этом до конца виноваты: нервы истрепаны, одна головомойка за другой, кошмарное суесловие на собраниях, работа считалась делом побочным, сосредоточенность на чем-либо становилась вожделенной роскошью — все некогда было. Психологическую неустойчивость мужчин и их женственные повадки можно было объяснить, равно как и участившуюся раннюю импотенцию. К тому же почти каждый из них носил за пазухой черный сосуд несбывшихся желаний, куда то и дело вдобавку стекал деготь горечи. Возможно, никогда раньше мужчины не ставили перед собой столь больших и недостижимых целей, научно-техническая революция манила, грандиозность начинаний создавала иллюзии о беспредельных возможностях; на самом же деле многие застревали в клубке интриг и зависти — фронт устремившихся вперед был широким и способы сдерживания конкурентов утонченнее, чем когда-либо раньше.
Лео не думал, что он принципиально и выгодно отличается от других мужчин, просто он не ориентировался на беспочвенные надежды. Естественно, и он летал на крыльях фантастической птицы, он увековечил свой архитектурный перл на бумаге, его блистательное творение состояло из исполненных тушью чертежей и папок с расчетами; лишь в воображении он расположил свое здание на местности и отстроил его. В действительности это было невозможно, время выплюнуло предложение Лео, как вишневую косточку. Он свое творческое горение воплотил, свои возможности проверил и этим удовлетворился. Жизнь рано научила его мыслить трезво: не стремись хватать с неба звезды, постарайся прожить без больших провалов. Разумеется, и его уголки рта были облагорожены резкими складками горечи. Однако жаловаться он не смел, да и не хотел.
И он бы мог с какой угодно основательностью роптать на собственную судьбу, ругать и проклинать время, приспособление к которому потребовало от него серьезных усилий. Но ведь он остался в живых — что может быть выше этого? Его неудачи и затруднения укладывались в терпимых пределах, никто не подводил его под монастырь. Может, лишь горстка людей проживает свою жизнь, дыша полной грудью, и с детства до самой старости неуклонно шагает от одного успеха к другому.
Точно так же совершенно ничтожное количество людей умирает без мук, падает на ходу.
Видимо, со временем защитная маска Лео стала его подлинным лицом. Иначе было невозможно. И все же полностью он ничем не был обойден. Давно угасшая Эрика все еще освещала своим светом Лео. Поздней осенью пятидесятого года в короткий миг встречи с Эрикой он был искренен; те недолгие часы, которые в памяти сжались до мига, не содержали никакой фальши. Разве каждый бывает осчастливен подобным чистым порывом? Если бы у них тогда хватило времени на более продолжительные разговоры, может, это был бы единственный раз, когда Лео раскрыл бы свою душу, — настолько они без остатка принадлежали друг другу. Мгновение такого просветления уже никогда не повторялось.
Впоследствии Эрика могла бы с улыбкой выслушать его, но поверить Лео она бы уже не смогла.
Искренние мгновения? Что мешает ему сейчас быть искренним? Почему он не скажет этим трем любезным сестрам, своим новоявленным родственницам, так трогательно заботящимся о нем, — смотри-ка, Сильви уже вешает гамак, чтобы барин отдохнул, — вы действуете на меня угнетающе, почему-то ваше присутствие вызывает ненужные воспоминания. Лучше я уеду. Сестры оскорбились бы. Мы что, вели себя нетактично? Или задели самолюбие? Лео вынужден будет признаться: отнюдь нет. В чем же дело? Лео не смог бы объяснить. Вообще женщины уверены, что если мужчина здоров, если его холят и создают ему уют, то нет причин испытывать беспокойство.
Ладно, он примет любезное приглашение и полежит в гамаке. Отпуск для того и предназначен, чтобы человек мог заняться чем-нибудь необычным. Например, разглядывать высокое летнее небо вместо панельного потолка своей спальни и слушать шелест деревьев. Радостное мгновение! Ни один транзистор и магнитофон не играл, никакого шума моторов. Не было слышно даже человеческих голосов, будто сестры сидели за печкой старого дома, приложив палец к губам.
Кроны старых яблонь почти срослись. Ветви, как пальцы, касались друг друга. Казалось, хотят поведать о своей жизни. Чудно, когда-то десятки лет тому назад нас привезли сюда, мы были как тростиночки и в одной связке. Нас рассадили и подрезали, чтобы мощнее росли корни. Целую вечность мы стояли порознь, пока снова не соединились. Неужто круг завершен? Было время, когда мы украшали крону цветами и давали плоды, и совсем забыли, что все мы — дети одного сада, даже не глядели друг на друга.
Человек поневоле становится чувствительным, когда смотрит в небо сквозь крону яблонь. Высокий голубой купол заштрихован перистыми облаками. Сведущие люди говорят о загрязнении космоса и ионосферных дырах. В старину говорили: воздушный океан. Подразумевали: первозданно чистый и вечно недостижимый. Внизу, у земли, стволы старых яблонь обросли мхом, на ветках немного плодов, но и их подстерегают черви.
Совершенство существует лишь в воображении.
Лео отталкивается, гамак начинает раскачиваться. Он закрывает глаза.
Ведь у него отпуск. Он расслабляет тело. Ветер несет от дома запах горелого жира. Он не может создать себе необычный мир, чтобы жить в одиночестве на плавучем острове, который раскачивался бы на поверхности безбрежного озера.
И все же он пребывает на парящем острове посреди темно-синего озера, переменчивый ветер своенравно гоняет кусок земли от одного берега к другому. Лео бродит по пожелтевшей осоке, он бессилен управлять своим судном, то и дело раскачивающийся остров утыкается в кочковатый берег, из которого выступают узловатые корни деревьев, будто крючки, они стараются зацепить движущийся кусок земли, мочки корней стремятся врасти в раскачивающийся под ногами остров, одна земная поверхность стремится соединиться с другой; таким же образом манят его к себе поселившиеся на берегу люди из воспоминаний. Возбужденно хихикая, они зовут следовать за ними в сумеречную чащобу, светлые руки протягиваются из-за темных кустов — иди в укрытие, иди сюда, где нас никто не видит; будем опять прежними, без груза лет и нажитого опыта, пошепчемся там между собой, не раздумывай, иди же наконец на обетованную землю, где никто не сможет воздвигнуть между сущим и небытием пограничные столбы.
Лео увертывается, упирается каблуками в чавкающий дерн, он выскальзывает из захвата и устремляется в противоположную сторону, взгляд его блуждает по окрестности, где-то должна быть поляна: ясность, независимость, свет. Призраки боятся солнечного сияния.
Длинными прыжками скачет он по пружинистым кочкам, где-то в глубине, под ногами, клокочет, в лицо брызжет ржавой водой — в какой же стороне поляна? Повсюду встает чащоба, там, в полутьме, под чьими-то ногами трещит хворост, кто-то мечется в дебрях, сухие ветки с треском отрываются от ствола, макушки гнутся, шумят; ветер укрощается, сквозь дрожащие ветви, будто вздох, проносится шелест, в сумраке дебрей слышится шепот, приглушенные ликования, хихиканье, всхлипы.
Лео размахивает руками в воздухе, ему хочется вытащить этих существовавших некогда людей на поляну, где пышно растут зонтичные травы, дайте посмотреть на себя, здесь вас хоть глаза различают; но время свершило свое безжалостное дело, люди стали воздушными и невесомыми. Лео пятится, прислоняется спиной к податливому стволу, прислушивается к гиканью и возгласам, кто это взвизгивает с такой болью? В стороне, уткнувшись в землю, лежит Ильмар, под рукой автомат. Лео не в состоянии влезть в его трухлявую шкуру. Это за пределами человеческих возможностей. Поэтому он не ощущает, как впитывается в одежду сырость земли, покрытое гусиной кожей тело грубеет, суставы, застывая, становятся неподвижными. В ноздри бьет запахом тлена от прошлогодней листвы и цветов, несет вонью собственной немытости и грязной одежды. В кармане — набитый махоркой кисет, он давит на бедро и обостряет ломоту.
В тот раз, когда они с Эрикой бегом удалялись от лесной опушки — подальше от Ильмара, оставшегося, задыхаясь, сидеть под деревом, — Лео ощущал лишь презрение к школьному товарищу. Переломные моменты именно потому и страшны, что все разделяют надвое. Молния разрывает небо на две половины, земля раскалывается — с обоих берегов враждебно глядят друг на друга; постоянно проводятся мысленные и всамделишные границы, отрывающие людей друг от друга. В сложные времена некогда углубляться и расследовать, знай порют горячку: выбирайте — плюс и минус, плюс и минус. Это трудно, человек не вычислительная машина, тем более что многие не желали быть односложно запрограммированными. Царила растерянность, собственная программа износилась, была ущербной, изъеденной молью сомнений. В темноте и неразберихе, наверное, человека чаще всего направлял примитивный и извечный инстинкт самосохранения. Нюансы человеческих взаимоотношений проявлялись гораздо позже, спустя годы, когда бури утихали. В те времена достаточно было грубого расчета на первого-второго — он подвергает меня опасности, значит, он мой враг. Я должен быть настороже, чтобы не допустить его до своего горла. Хватка моих рук должна быть сильнее и пальцы крепче, чем у него. Чаши весов все клонились: он может меня предать, значит, я должен опередить его, чтобы он не навредил мне. Даже тех, кого считали верными друзьями, частенько ощупывали сомневающимся, изучающим взглядом: не переметнулся ли он в другой лагерь?
В тот раз, когда они с Эрикой, взявшись за руки, бежали от опушки леса, Лео и не пытался представлять себе, о чем мог думать хрипевший и кашлявший под деревом Ильмар. Ломал ли он вообще над чем-нибудь голову, ведь и не напрягая мозги, было ясно: Лео мой и наш враг. Он отверг нас. Никогда уже он не вернется к нам и в удобный момент выдаст. Следовательно, его нужно уничтожить, прежде чем он даст затоптать нас.
Поэтому Лео и бежал в сторону хутора Виллаку. Эрика попыталась было еще раз зазвать его к себе домой, но Лео не послушался ее легкомысленного предложения. Было бы глупо надеяться, что они смогли бы, забывшись, забраться там в постель. Еще до того, как они переступят порог задней комнаты, капкан захлопнется. Из каждого угла полутемной кухни, из чулана и сеней выползли бы мрачные, заросшие лесные братья, и Лео был бы убит там же, между темными шкафами и столом. Он не успел бы даже пикнуть, разъярившимся мужикам и в голову не пришло бы выслушивать его объяснения и заводить разговор об общем прошлом и мальчишеских годах. Когда злоба вгоняет людей в дрожь, для салонной болтовни нет места. Лео был в их глазах куда злейшим врагом, чем красные облавщики, волостные парторги или примерные председатели колхозов. У этих для оправдания своих действий могли быть какие-то мотивы, Лео же — просто паршивый предатель.
Влюбленные — сумасшедшие, влюбленные не думают — Лео мог бы опровергнуть эту древнюю мудрость. Никогда раньше, а может, и потом — в зрелом возрасте все по-другому, тут уж не сравнишь — ни от кого не загорался он столь внезапно и отчаянно. Когда они вдвоем, в темноте, спешили к хутору Виллаку, Эрика так крепко держала его за руку, что их ладони и пальцы растворились друг в друге, девушка стала частью его самого. Впоследствии было трудно вызвать ту душевную дрожь, которая охватила его на стылой проселочной дороге; во всяком случае, он хотел защитить и уберечь Эрику. Ни в коем случае они не должны были угодить вместе в руки лесных братьев, тогда бы и Эрике не было пощады. Да и себя он должен был сохранить прежде всего для Эрики.
Опасность, казалось, подстерегала со всех сторон. Приблизившись к постройкам хутора Виллаку, Лео придержал Эрику и замедлил шаг. Может, и впрямь не обмануло Ильмара чутье гонимого лесного зверя, возможно, облавщики уже явились в Виллаку? Их соображения были бы во всех отношениях логичными: похороны притягивают людей, среди них могут оказаться и подозрительные типы, они могли тешить надежду, что поочистят этот уголок земли от бандитов. Оставшихся к тому времени лесных братьев давно уже называли бандитами. Они устраивали наглые опустошительные набеги на магазины, и окольные дороги по ночам были всюду и для всех опасными, пусть там шла даже старушка; достаточно было шороха кустов, и путника уже парализовывал страх.
Разумно ли было им входить в дом? Может, вооруженные облавщики выстроились в ряд возле стенки; каждый по очереди должен предстать перед ними и выдержать град вопросов. Конечно, их обыщут — только этого не хватало, — отправляясь в деревню, Лео на всякий случай сунул в карман револьвер. Что если сейчас потихоньку выбросить его в груду камней? Никто не станет допытываться, зачем ты носишь с собой пушку, — в острог, и делу конец.
Послать Эрику на разведку? Еще испугается и наговорит бог знает чего. Годами людей повсюду подстерегали опасности, все были в напряжении, в темноте глаза у страха велики, в любой миг у каждого могли сдать нервы. И достаточно было небольшого толчка или случайного слова, чтобы рухнула плотина, — лишь бы освободиться от напора! Все бы с рокотом унеслось: правда, слухи и воображение — все вперемешку.
Лео остановил нетерпеливую Эрику и принялся вглядываться в темневшие поодаль постройки. Чужой человек не смог бы догадаться, что за старательно занавешенными окнами сидит на поминках множество людей. Сквозь толстые бревенчатые стены не пробивались звуки, но там разговаривали, роняли слезы, пили и клевами носом. Утром отправятся домой, обиходят скотину и лягут спать. Живут совиной жизнью, темное время дано, чтобы бодрствовать, особенно теперь, когда закончились полевые работы.
Эрика прижалась к Лео. Они обнимались и целовались. Любовный порыв и чувство безысходности одновременно было почти невозможно вынести. Лео покачивался и готов был рухнуть. Прижался бы лицом к мерзлой земле, чтобы собраться духом. Но он не смел показать Эрике свою слабость. Присутствие девушки требовало от него мужества. Он взял Эрику за плечи: прижимал к себе и одновременно опирался на нее. Влюбленные обычно ходят в обнимку!
Они обошли хуторские постройки и уже подходили к дому. Поблизости от двора чужих не было видно, при облаве обычно оставляют караулы. Предположение Ильмара не подтверждалось. Видимо, его представления отстали от жизни. Прежние тактические приемы в течение многих лет лесной борьбы устарели.
Лео попросил Эрику вызвать Вильмута в сени.
Сквозь приоткрытую дверь в прихожую просачивался свет. Напористая Эрика кротко стояла где-то здесь же, в темном углу. Лео и Вильмут почти неслышно перешептывались, дышали друг на друга сивушным перегаром. Сбиваясь и торопясь, они в ту ночь, не отдавая себе отчета, заложили основы своей будущей жизни. Лео боялся, что Вильмут начнет отговаривать — ну куда ты, ночью? Ничего подобного. Смерть отца, видимо, потрясла Вильмута, наверное, именно на поминках он ощутил необходимость начать самостоятельную мужскую жизнь. Чтобы не ходить в парной упряжке рядом с Лео. Беспечной гульбе был положен конец. Вильмут объявил, что вернется в город только за расчетом, но сегодня никуда не поедет. Он говорил медленно, перескакивая с одного на другое; в доме нужен хозяин, нельзя все трудности взваливать только на женские плечи. В МТС таких, как он, будут на руках носить, кого ему бояться, страх следует подавить, деревня обедняла людьми, колхоз еще не встал на ноги, на трудодни из сусеков сметают мышиный помет.
Лео пробормотал что-то о лекциях, о неотложных работах, что отсюда до станции дорога неблизкая, расписанию верить нельзя, нужно идти загодя, садиться за стол он больше не станет, пусть Вильмут позовет в сени его мать. Прежде чем тот повернулся уходить, Лео обнял друга, похлопал по спине и шепнул на ухо: помни, что бы ни случилось, будь твердым.
Через минуту, здесь же, в темных сенях, он распрощался с матерью, обнял и ее, пообещал писать и наведываться. Мать ни о чем не спрашивала, давно уже ничего у сына не выпытывала, время научило людей, женщин особенно: осведомленность — свинцовая тяжесть.
Эрика пошла провожать Лео. Она повисла у него на руке. Постепенно жизнерадостность снова вернулась к ней, она подскакивала, теребила молчаливого Лео за рукав. Но Лео не мог освободиться от напряженности. Взгляд его блуждал по кустам и деревьям, изгородям, колодцам, поленницам и скирдам соломы: ему хотелось проглядеть все, что чернело вокруг. Лео напрягал слух, и все же ему не хотелось прерывать разговорившуюся Эрику. Про себя он клял время, которое не позволяло расслабиться, у людей будто и не было права наслаждаться своим крохотным мигом счастья и быть беззаботными. Словно они с Эрикой, эти две темные человеческие фигурки посреди открытого поля, выглядят занозой в глазах у всего мира. Поблизости не было ни души, и все же казалось, что они у других под ногами.
Лео хотел идти поселком, мало ли что дома безглазые, все же он чувствовал себя защищенней поблизости от жителей, оставшихся в пределах законности, которым и в голову не придет брать на мушку себе подобных. Однако Эрика предпочла окольные дороги. Ее словно бы тянуло из темноты туда, где было еще темнее, с проселка на потайную тропку.
Они спотыкались на кочках, брели по вздутому льду, который оглушительно трещал, — может, даже лесные звери вскакивали из-под кустов, — собственный слоновий топот действовал Лео на нервы.
То ли они отпугивали кого от себя, то ли давали своим преследователям карты в руки — две возможности.
Эрика остановилась у черневшего строения. Она сжала локоть Лео, словно хотела заставить его слушать себя. Он боялся, что она начнет громко разговаривать, дескать, смотри, раньше здесь был лесной покос хутора Клааси, теперь деревья выросли и кустарник разросся. Держать в этом сарае сено больше нельзя, крыша как решето.
Эрика молчала, и Лео понял ее мысли.
Она догадалась и о его сомнениях, шепотом велела подождать; напрямик пошла к покосившейся развалюхе и скоро исчезла в ее темной пасти. Лео укрылся за толстым деревом, сунул руку за пазуху и нащупал револьвер: кончики пальцев и металл были одинаково холодными. Лео понял, что, несмотря на оружие, он оказался бы в бою беспомощным. Не сравниться ему с опытными лесными братьями. Счастье еще, что Ильмар был пьяным и обессилевшим, может, даже больным.
Спустя мгновение он осознал суть своих мыслей: ведь ему пришлось бы стрелять в здешних парней, может, и в школьных товарищей. «Храня красу отечества», — дружно пели они когда-то и верили, что так и будет всегда.
Не так-то уж давно это и было.
Эрика просто с ума сошла. Из сарая донесся ее выкрик:
— Юку! Роби! Где вы? Этс! Отзовись хоть ты!
По спине Лео пробежали мурашки. Вдруг они на самом деле там? Чем она объяснит свое вторжение? Лео снова нащупал револьвер, встал покрепче. Нелепость! Детская игрушка! Лесные братья вооружены до зубов. Убить кого-то? Про себя можно сколько угодно хорохориться, все равно он ни в кого не выстрелит.
Они увели бы его в лес, заставили бы действовать в своей шайке, по вечерам вязали бы по рукам и ногам и вливали бы в глотку самогон, чтобы не сторожить его. Он представил себя бегущим по полю, покрытому скользким льдом. И шагу не сделаешь. Они же, развевая полами полушубков, все приближались.
Но Лео мог еще улизнуть. Пусть Эрика потом бродит по кустам и ищет ветра в поле. Он застыл на месте. Жалкая душонка! Он не мог оставить ее одну здесь, на темной лесной дороге. Страшные картины накатывались на Лео. Лесные братья выходят вслед за Эрикой из сарая, чтобы схватить ее кавалера. Но когда выясняется, что никого нет, с издевкой хохочут — вот подвезло, — затащат девушку в угол, на тряпье, и по очереди надругаются над ней.
Лео стонал про себя. Сумасшедший мир! Взаимоотношения можно улаживать только с помощью пули.
— Лео! — крикнула Эрика от сарая.
Волоча ноги, он потащился на ее голос.
— Сарай в нашем распоряжении! — гордо объявила Эрика. — Я от стены до стены протопталась по сенной трухе, никого здесь нет.
Крепко держась друг за дружку, они пробрались между покосившимися воротами в сарай, Эрика твердой рукой вела Лео вперед, будто она была кошкой, которая все видела в темноте. Два человеческих существа свили себе ложе на земляном полу. Крыша с прогнившим гребнем могла вообще рухнуть, они бы этого и не заметили.
На рассвете оба, обессиленные, выбрались из сарая. В эту ночь злой лик времени на миг отвернулся и предоставил им полное забвение. Им оставалось благодарить милосердную судьбу. Оказывается, они вовсе и не были сиротами рода человеческого.
Лео понуждал Эрику идти домой. Девушка вымаливала себе разрешение проводить его еще несколько шагов. Расслабленно, полуприкрыв веки, она призналась:
— Я люблю тебя давно, целую вечность. Когда была еще девчонкой. Но ты и не замечал меня.
— Я вернусь, — пообещал Лео. — Приеду на рождество и на крещение. И еще, и еще, и еще.
— Буду ждать тебя на землемерной вышке. Оттуда далеко видно. Смогу побежать тебе навстречу.
Они тихо засмеялись.
— Знаешь, Лео, — доверительно сказала Эрика. — Я всегда ходила за тобой по пятам. Я пряталась за кочками, иногда осока, как пилой, проводила по коже. Я видела, как вы перед войной с ребятами на болоте возились. Я всегда знала, где ты был, что делал. По крайней мере, летом. Я ни одной душе об этом не говорила, хотя порой готова была кричать на всю деревню: Лео приехал из поселка на велосипеде домой.
Ты и не знаешь, Лео, даже не догадываешься, а ведь я тоже была там, на виллакуском выгоне, в зарослях, когда вы с Вильмутом караулили за большим камнем.
— Когда ты была там? — испугался Лео.
— Ну, в тот раз, в начале войны, — Эрика стала вдруг немногословной.
Лео хотелось закричать на Эрику, однако он едва слышно спросил:
— Как ты там очутилась?
— Я все видела, — устало подтвердила Эрика.
Лео будто онемел. Слова, которые Эрика еще роняла, едва ли доходили до его сознания. Наконец она остановилась, начала пятиться, помахала рукой, повернулась к дому и торопливо исчезла в голых кустах вербы. Лео не помнил, как он выбрался из леса. Одно лишь осталось перед глазами: то, что по чернеющим полям бежали белые полосы изморози и эти ломкие струны готовы были в любой миг оборваться.
13
Кто-то теребил Лео за плечо. Где же это он! Склероз! Ах, Сильви.
Она отступает от гамака, опирается руками о ветку яблони и говорит что-то об ужине, мол, ждали, наконец она решилась и вот пришла будить его.
Лео становится неловко, что он дрыхнет тут без задних ног. Он опускает ноги на землю, пышная трава в саду приятно прохладная и сыроватая, солнце клонится к закату. Лео шевелит ступнями, мясистые одуванчики щекочут подошвы, и его вдруг охватывает давно забытая радость поры сенокоса, тело зудит, в жилах словно что-то зажурчало. Как хорошо, когда человек знает, чего ему в данный момент особенно хочется, еще лучше, если он может немедля последовать своему желанию. Ничто не мучает человека больше, чем сознание неосуществимости желаний. Лео улыбается.
— Наверное, снились прекрасные сны? — спросила Сильви.
— Я ощущаю блаженство, когда просыпаюсь от страшных снов: это было не наяву.
Лео плетется следом за Сильви в дом. Сестры успели за это время вымыть полы и окурить комнаты можжевеловым дымом — они усердно изгоняют из старого дома дух затхлости. На столе постелена свежая скатерть и стоят в ряд старинные, в фиалках, кружки, Хельга достает из духовки полное блюдо блинов.
Лео протягивает ноги под столом, прислоняется к уютно поскрипывающей спинке стула и признается:
— Мне больше и не хочется уезжать в город.
Сестры улыбаются.
— Кабы уметь быть более внимательными к своим радостям, — оживляется Урве.
Впечатление такое, что она внушает себе эту мысль изо дня в день. Чуть надменное и обычно неподвижное лицо ее приобретает выразительность, небольшие складочки в уголках рта красят его, взгляд становится вдруг открытым и лучистым, брови поднимаются, эта приятная перемена означает, что Урве явно осенило нечто оригинальное. Известно, что человека дряхлит не старость, а безразличие. Лео очень бы не хотелось услышать сейчас от этой женщины какую-нибудь банальность.
Уши бывалых и поизносившихся людей забиты расхожими истинами и обиходной болтовней, видимо, именно поэтому в старости и ценят уединенное существование, так легче избегать неловких моментов: некоторые едва открывают рот — и ты, расстроенный, уже отворачиваешься от него.
Урве выпрямилась, посмотрела в окно и сказала:
— Мы все время познаем мир вокруг себя, следим за изменением малых или больших систем, ругаем то, что нам не нравится, не хотим мириться с тем, что во всех сферах жизни проявляются периоды спада, почему-то человек не склонен допускать перемен, он жаждет, чтобы все было жестко расставлено по местам. Так же ошибочно он предполагает, будто и сам он — достаточно стабильное явление. Отсюда мой интерес: в какой степени мы способны ориентироваться в себе? Осмеливаемся ли мы замечать свои взлеты и падения?
— Сложный вопрос, — осторожно обронил Лео.
— Человек — лучший себе адвокат. Он способен оправдать все свои выкрутасы, хитрости, даже бесчестность и цинизм. Он и не пытается взглянуть на себя со стороны, — предположила Сильви.
— И, по-моему, лучше — не докапываться до правды в самом себе, — присоединилась к Сильви Хельга. — Так или иначе жизнь нужно прожить. Когда же я уясняю себе, что мой звездный час уже давно позади, мне становится просто страшно. Печалься в углу и думай: вся моя ценность — прошлое. Не остается ничего другого, как помахать на прощанье.
— Ну, зачем так мрачно, — возразила Урве. — Неужели мы приехали в этот уединенный дом для того, чтобы потихоньку угасать? Ведь мы надеялись взбодриться. Собирались вновь придать смысл собственной жизни.
— Миг совершенного существования как раз сейчас и наступил, — съязвила Сильви.
— Быть может, — сказала Урве и попыталась скрыть свою обиду.
Светозарный миг ее жизни был осмеян. И расплата не заставила себя ждать. Со сдержанным бесстрастием она сказала Лео:
— В действительности Сильви у нас самая старшая, хотя по паспорту она — младшая.
Сильви зарделась.
— Да, я ожесточившееся ничтожество, — гордо заявила она.
— Оставьте свои упреки, — примиряла Хельга сестер. Голос ее был по обыкновению ласковым — мурлыкающий тон матери большого семейства, — она привыкла выправлять покосившиеся взаимоотношения, заземлять напряжение раздраженных домочадцев. — Наибольшая беда людей состоит в том, — мягко продолжала Хельга, — что они не в состоянии поспевать сами за собой. Время и перемены в нас самих убегают вперед, осознание же этого обстоятельства сродни тому, как если бы строптивую животину приходилось изо всех сил тащить за собой на аркане. Но вообще-то лучше не думать о своих разочарованиях и утратах, жалость к себе — это на самом деле все усугубляющаяся наркомания.
— Имей в виду, Лео, — сказала Сильви, — когда твоя жизнь зайдет в тупик, приходи к Хельге исповедоваться.
— Благодарю, — ответил Лео. — Если позволите мне встать из-за стола и дадите в руки косу, вы увидите довольного жизнью человека.
— Берите пример с Лео, — поучительно сказала Хельга. — Урве права, надо ценить исполнение своих маленьких желаний.
Сильви фыркнула, Урве улыбалась краешком рта, а Хельга расхохоталась. Они поставили свой начатый на полном серьезе разговор с ног на голову.
Лео почувствовал, что покраснел.
Неужто сестры, сговорившись, все вместе потешались над ним? Водили попадавших к ним людей за нос и придавали таким образом остроту своей ну прямо-таки идиллической жизни. Или закидывали удочку, — может, попадется? Удастся ли вызвать Лео на откровенность? Небольшие интеллектуальные игры — как варенье к блинам.
Лео не подал виду, что его задело поведение проказливых сестер. Он легким шагом спустился с крыльца, беззаботно насвистывая, вытащил из крапивы точило, достал из машины тряпку, разодрал на полосы, заткнул щели рассохшегося корыта и принес из колодца воды.
Сильви тут же приготовилась крутить точило.
Урве уселась в гамак и принялась издали наблюдать, как постепенно начинала блестеть коса.
Из-за дома, держа в протянутой руке оселок, вышла Хельга и лукаво спросила:
— А с этим предметом ты умеешь обращаться?
— Посмотрим, — пообещал Лео.
Наконец коса была заточена, и Лео направился к яблоням. На лицах сестер появилось выражение торжественности, сложив на груди руки, они на почтительном расстоянии последовали за Лео.
— Пошла! — задорно крикнул он и вжикнул косой по высокой траве.
Почувствовал нечто вроде сценической лихорадки: может, я выставляю себя на посмешище? Наверное, лет десять — пятнадцать он не держал в руках косу, с тех пор, как в последний раз помогал матери. И все же работа спорилась. На мгновение он останавливается, оглядывается через плечо, за спиной ровный, зеленый ковер, почти как в городском парке прямо как косилкой кошено.
— Ой! — восклицает Сильви. — Мне тоже хочется попробовать!
— И мне! И мне! — хором, словно нетерпеливые дети, кричат Урве и Хельга.
Они загорелись косьбой, может, притворяются, но все же лишают Лео его сенокосного удовольствия. Он вынужден проявлять терпение. Горожанки желают научиться косить, ну что ж, милости просим. Лео объясняет, как держать косу, чтобы она не утыкалась в землю. Сестры наперебой, старательно переспрашивают, мол, так или эдак. Неумело сбивают траву, там и тут остаются метелки. Но, несмотря ни на что, работа их притягивает, они забывают о позе, отдаются косьбе душой, сменяют друг друга, терпеливо дожидаются своей очереди. Хельга чуть ли не толоку готова устроить, она исчезает в пристройке и победно возвращается оттуда с добычей — нашла еще одну заржавленную косу. Теперь Хельга крутит точило, Лео снимает ржавчину и с этого полотна — пусть сестры развлекаются. Он может покурить.
Вечернее небо багровеет, за домом сгущаются тени, они становятся все гуще, скоро начнут свои беззвучные полеты летучие мыши. Лео почему-то ощущает страх перед приближающейся ночью. Вдруг его охватывает ощущение незащищенности. Будто нет у него ни одного близкого человека. Хотя нет, это женщины там, под яблонями, душевно неприкаянны. Мужчина обязан быть сильным. Возможно, всех их тут же в саду время от времени грызла безутешная мысль, пришло время и нашему поколению шагать в передней шеренге к своему последнему берегу. Пока еще жив кто-то из родителей, то словно стена стоит перед вечностью. Но вдруг защитная перегородка падает. И вот уже время самим быть старыми. Радостно восклицающие под яблонями сестры — какие мы моложавые — наводят на горькие мысли. Ведь каждое поколение отказывалось вступать на дорогу, посыпанную известью старости. Отбрыкивалось — вдруг удастся обмануть: давайте хохотать, сверкать потухшими глазами, вскинем голову, встряхнем поредевшими волосами; и все же слышится предательский хруст шейных позвонков.
Треклятые бабы там, между яблонями, закат освещает их лица — фальшивый румянец. Может, сестры все-таки не виноваты в том, что в этот умиротворенный миг на Лео взирали вымазанные черные рожи. Давно ли это было, собственно, перед войной, когда Лео брал по вечерам косу, заворачивал штанины и шел босиком в сад. Срывал на ходу пальцами ног головки одуванчиков и подбрасывал их вверх, прохладная густая трава ласкала ноги. Он косил с наслаждением, прокос получался широким, плечи, — казалось, добрый шорник набил шкуру мускулами — не уставали; потом сгребал скошенную траву, запихивал в большущий мешок, тащил на себе в хлев и опоражнивал душистую ношу в ясли коровам.
Он всегда верил, что человек сам собой обретает равновесие и ощущает совершенство жизни, когда именно в одиночку выполняет какую-нибудь приятную работу. Всплывают светлые мысли, пространство словно бы раздается, все отвратительное исчезает за бескрайностью. Чей-нибудь возглас мог подействовать как щелчок кнута и заставить согнуться. Возвышенный миг скажется убитым, тебя застали за запретным наслаждением.
Когда Лео услышал признание Эрики, что в детстве она везде и всюду кралась за ним: в кустах на выгоне, возле болота, на берегу речки среди черемухи и ольхи, видела их с Вильмутом даже за виллакуским выгоном, возле большого камня, его охватило смутное ощущение краха. Ему, конечно, льстила эта давняя привязанность Эрики, пугающая и необычная в своем постоянстве, она способна была вызывать опьяняющие мгновения самолюбования. И все-таки искреннее признание девушки вызвало в нем негодование, Лео встревожило, что кто-то, без разрешения подсматривая, принимал участие в его жизни. Многие, хотя и пустячные, дела приобрели иную окраску. Лео был вынужден взглянуть на свои прошлые деяния со стороны. Какие-то невинные поступки задним числом обретали гораздо большее значение, потому что за ними наблюдали, их оценивали. Лео словно был обязан напрягать память и перебирать дни своей юности, многие пустяки были затенены ненужной и тревожной таинственностью. На поверхность всплывали мгновения, когда треск какого-нибудь прутика представлялся странным или покачнувшаяся в тиши ветка вызывала подозрение. Всегда боявшийся рысей больше, чем волков, — хотя в здешних краях их никто никогда не встречал, Лео при каждом непонятном звуке вздрагивал: вот и появились пятнистые. А это была всего лишь Эрика. Подумать только: справляешь под кустом нужду — и кто-то следит за этим. Вдруг и такое случалось?
В юношеские годы Лео считал жалкими неудачниками тех парней и девушек, которые в несчастной любви поддавались неумолимым обстоятельствам и не настаивали на своем. У двух жизнеспособных людей должно было хватить мужества смести все препятствия и, презрев предрассудки, стать мужем и женой. После признания Эрики Лео понял упрощенность своих представлений. Имущественные сложности, психологическая несовместимость родителей, даже вражда — хорошие предлоги, чтобы без особого труда покориться судьбе. Судьба не реяла тенью над человеком, а сидела в нем самом, гнездилась на жалком клочке, где почва перемешана с щебенкой и нет надежд на хороший урожай.
Признание Эрики пробудило в Лео робость, он вновь ощутил подавленность. Неожиданная и возвышенная принадлежность друг другу, казалось, многократно увеличивала жизненные возможности. И тут же мнимый простор сужался до спирающей тесноты, после парения над буднями, когда развеялось опьянение, он почувствовал себя гораздо беззащитнее и бесприютнее, чем раньше.
Глупая откровенность девушки зазвучала в его мыслях предостережением. На горячую голову не следовало предпринимать ничего существенного. Там, в полуразвалившемся сарае, он представлял Эрику своей женой, другого будущего он для них и не предполагал, навечно вместе, любовь до гроба и все такое прочее. Потом, когда он бесприютным серым утром широким шагом направлялся к станции и снова и снова в ушах его звучало признание Эрики, упоение улеглось и он подумал: какое странное происшествие! В то утро он уже отдалялся от Эрики с устрашающей быстротой и сам сгорал от стыда. «Неужели я подлец?» — вполголоса спрашивал он себя у придорожных столбов. Он еще чувствовал тепло Эрики, но уже вступил на путь предательства. Сжав в кармане кулаки, прибавил шагу. Увидел перед собой счастливую Эрику, бежавшую домой; она неслась через пни и канавы, глаза как фонари. Она верила Лео и не представляла, что он натянул на глаза кепку, потухшим взглядом смотрит в бледное небо и почти поддался пораженческому настроению.
На булыжной площади за железнодорожной станцией Лео уселся на коновязь, закурил и попытался освободиться от гнетущего состояния. Что, если вернуться назад? Может, у них с Эрикой осталось недосказанным самое существенное? Может, они должны вместе пройти через чистилище, освободиться от недостойных мыслей и погасить далекие страшные воспоминания, чтобы достичь божественной гармонии, которая продолжалась бы вечно. Почему так быстро улетучилось чувство общности? Какое право имеют картины прошлого заглушать его? Ладно, Эрика видела их с Вильмутом на том проклятом, заросшем кустами пастбище возле большого камня. Всесильная любовь должна выжечь это воспоминание, обратить в пепел. Эрика видела его с Вильмутом и их винтовки. Что в этом особенного? Редко кто в сорок первом году ходил в лесу без оружия. И не только в сорок первом, но и в последующие годы ходили с оружием в руках или в кармане и с пальцем на спусковом крючке.
Разве это вина Лео, что грозные события связали его со школьными товарищами в один узел, их будто сбросили в незнакомую реку, и течением прибило всех к болотистому берегу, где они увязли. Единственное желание: ощутить под ногами твердую почву. Однако тверди этой больше не существовало. Все колыхалось. Людей растаскивали то туда, то сюда, один рассуждал так, другой эдак. Ничего не разобрать было в гомоне. Вначале казалось, что следует напрямик устремиться вперед, впоследствии Лео уже и не знал, по чьему совету поступать, так, чтобы оставаться порядочным патриотом и честным эстонцем.
Именно Эрика стала причиной очередного душевного кризиса Лео. Из-за этой любвеобильной и, быть может, глупой девчонки узловые вопросы надвинулись вновь, они заползали за пазуху, бередили душу.
Думай: к кому ты принадлежишь? Его жизнь с детских лет сопровождали двусмысленные намеки. Подростком его, правда, принимали в компанию хуторских ребят, но давали понять: вознесли чересчур высоко. После смерти отца Вильмута и после Эрики Лео не угнетала неопределенность его происхождения, так же было бы смешно думать о спеси бывших хозяйских сынков, мучило совсем другое. К кому он принадлежал по своему умонастроению? В идейном смысле он был на птичьих правах. Вернее сказать — отверженный.
В ту зиму он искал в потоке жизни место, которое было бы по нему. Свое место в жизни — под этим обычно имели в виду работу или сферу интересов, людей могло объединять также поле деятельности. Однако он жаждал прийти к ясности, с кем он был душой. В ту зиму он часто думал об их должной дружбе с Вильмутом и пришел к заключению, что в действительности их неразрывное соединяющее звено берет начало от того безумного случая, который произошел за пастбищем виллакуского хутора, возле огромного валуна, в остальном их объединяла лишь повседневная жизнь, а также привычка, потребность помогать друг другу в обыденных делах, чтобы устоять в борьбе за существование и не дать затоптать себя. Лео все яснее сознавал, что если бы он сошелся с Эрикой, то постепенно и их бы тоже связал, наверное, крепче всего тот же самый случай на виллакуском болотистом и заросшем кустарником пастбище, в критические моменты у обоих перед глазами вставала бы общая картина воспоминаний. В порыве ярости Эрика могла бы чувствовать себя всесильной: берегись, я знаю твою тайну; это могло оглушить Лео, он бы сжался и вновь ощутил в горле горячий комок страха, ему пришлось бы унижаться, стоя на коленях, искать примирения. Неизбежно пришлось бы подлаживаться к общему жизненному укладу, он не смог бы изо дня в день юлить и заискивать в четырех стенах перед собственной женой.
Было мукой перебирать ломкие нити будущих возможностей, они рвались и не выводили его из дебрей на безветренную поляну. Он думал, что примирился с безысходностью, только кто же умеет все предвидеть. Время — неутомимый мучитель.
Хотя Лео и старался волей и разумом отодвинуть от себя Эрику, он вскоре понял, что усилия его напрасны.
Он любил Эрику.
Днем, в аудитории на лекциях или когда он корпел над чертежами и проектами или трясся в трамвае, в его подсознании работал молот, который с методической последовательностью разрушал заполненный Эрикой сумеречный осенний день и непроглядные ночи. Вечерами, уставший от работы, охваченный сокрушающим безумием, он бухался в кровать, и ему казалось, что наконец-то все разбито на осколки. Пылкая девушка, оставшаяся в стылой осенней деревне, выметена из памяти. К сожалению, это был жалкий самообман. Лео часто просыпался среди ночи, тусклая луна заглядывала сквозь морозный туман на виллакуский сеновал и в сарай хутора Клааси. Во время тяжелого сна кто-то вновь собирал воедино куски и полностью восстанавливал разбитые картины. Больше того, в ночной темноте картины эти становились более объемными, и все представлялось в движении. В ушах звучали слова Эрики, слышались возгласы гостей на поминках, застывшая земля гудела, как барабан, деревья шумели, шепот и вздохи хлестали по барабанным перепонкам. Подавленный, Лео барахтался, собирал в кулак волю, пытался выбросить все из себя, охватившее его напряжение отождествлялось в воображении с гидравлическим ударом, будто в его силах было обрушить огромную массу воды на воспоминания, чтобы затопить их. Однако все с удивительной ясностью вновь всплывало на поверхность.
Штудируя архитектуру, Лео тренировал силу своего воображения, теперь она работала против него. Он беспрестанно попадал в галерею своих воспоминаний и никак не мог оттуда выбраться, бился, как муха о стекло. Его место было возле Эрики, на болоте, среди леса, на полях Медной деревни, и все же он не мог принадлежать им.
Но ведь каждый человек должен кому-то или чему-то принадлежать.
Тогда он начал подыскивать ту среду, которая бы соответствовала его умонастроению, чтобы не переживать постоянных надрывов. В конце концов судьба его не была каким-то исключительным явлением, смутные времена во множестве порождали ему подобных.
Вильмут приехал ненадолго в город, рассчитался с работой и уехал навсегда в деревню. Он, будто заведенный, повторял: в доме обязательно должен быть мужчина. Лео не отважился спросить: а как же лесные братья? Возможно, Вильмут сумел договориться с ними, может, пообещал посильную помощь, и лесным братьям было полезно, чтобы кто-то из сочувствующих, как честный человек, ходил свободно по земле. Соберет новости, сможет предупредить. Возлагать надежду лишь на робкую бабью рать не приходилось. Видимо, они относились к Вильмуту с большим уважением, чем к Лео: хозяйский сын родового хутора, да и происхождения вполне благопристойного. Происхождение Лео было туманным, и своего хутора за плечами он тоже не имел. Ему пришлось бы слушаться бродивших по лесу хозяйских сынков: пусть побочный сын батрачки знает свое место и подчиняется нашей воле. У Лео в сравнении с Вильмутом были и другие минусы, одичавшие мужики потребовали бы от него проявления идейности: у него было истинное эстонское образование, Вильмут же в гимназии не учился. Кто еще обязан был служить опорой отчаявшимся душам и находить оправдание их злодеяниям? Вильмут оставался человеком будничных забот, от него, может, и не ждали, чтобы он задумывался о более общих вещах и подкреплял упавший боевой дух. Когда-то он с оружием в руках выступил за свой хутор — тот не человек, кто не защищает родной очаг, — но сегодня все это стало бессмысленным, и замаранные кровью лесные братья находились в страшном тупике.
Лео всегда понимал, что Вильмут лучше его способен вживаться в любую обстановку. Он завидовал присутствию духа и общительной натуре Вильмута. Непривычная среда его не пугала, он не смущался, если случалось выглядеть среди других чужеродным телом, оставался естественным — такое уж он созданье, хотите — любите, хотите — казните. В доме бывшей невесты Вильмута, у барышни в розовом платье, Лео со страхом наблюдал за иронической усмешкой отца девушки, но Вильмут подобных повисших в воздухе знаков и взглядов не замечал — его счастье. Лео ясно представил, как Вильмут не раз сидел там за столом с простодушной улыбкой на лице, пальцы на струнах гуслей, убежденный, что принес в жизнь этих людей спокойствие и уверенность и что всем должно быть радостно от его присутствия. Настраиваться на чужую волну он не желал.
Да, Лео завидовал цельности Вильмута. В их продолжавшейся до сих пор дружбе было много граней, волнообразных и просто кривых, зазубренных и надтреснутых, но одна кромка была словно бы отполирована и на века не тронута пылью — Лео чувствовал себя в обществе Вильмута самим собой.
Может, следовало постоянно брать пример с Вильмута и посылать к черту сомнения. Но, может, и Вильмут не смог бы жить столь свободно, если бы он отмахнулся от советов и предостережений друга! Лео был всегда готов подать Вильмуту свой фонарь. Во имя того, чтобы никто из них не спотыкался.
После того как Вильмут насовсем покинул город, Лео почувствовал себя крайне одиноким. Он то и дело спрашивал себя: к кому я все же принадлежу?
Подошло рождество. В этот зимний солнцеворот, когда дневного света кот наплакал, а сумерки и темнота способствуют наплыву мыслей, Лео думал только об Эрике. Наверное, она ждала его, вздрагивала от каждого стука двери, приподнималась ночами в постели на локтях и прислушивалась, — может, в окошко постучался Лео?
Соединяющие их потайные нити натянулись.
На первый взгляд, чего проще: сесть на поезд, продремать ночь в вагоне, сойти утром на перрон, прошагать в ожидании радостной встречи большими шагами по нетронутому насту в Медную деревню и заключить в объятья Эрику.
Чудесно — и невозможно.
А что потом? Дальше?
В эти последние дни года Лео всей душой рвался домой. Как ребенок, он готов был расплакаться: хочу домой.
Навязчивая идея делала жизнь невыносимой. По вечерам Лео сидел в кафе, слушал душещипательные звуки скрипки и презирал себя за свое слезливое состояние, от которого он не мог освободиться.
Даже чужие муки не утешали Лео.
В те годы, рядом и совсем далеко, в сердцах многих людей жила тоска: домой! И не меняло дела, было ли препятствие воздвигнуто насильно или человек сам обрекал себя на затворничество.
Боль была одинаковой.
Может, удастся клин вышибить клином?
Лео отправился на факультетский вечер.
Самодеятельность ставила какую-то пьеску из западной жизни — по сцене ходили распузатившиеся при помощи подушек толстосумы с бутафорскими сигарами во рту и навязчиво проповедовали свое человеконенавистничество. Лео пропускал слова мимо ушей и думал, что искусство всегда служило своему времени. Когда-то и они в гимназии разыгрывали сценки. Ребята изображали смелых защитников отечества, потели в овчинных шубах, шагали по снегу из белой ткани и ваты, на покрытых испариной лицах горел багровый отсвет утренней зари, они стреляли из деревянных ружей по красным врагам; противники в отрепьях и обмотках валились в ряд перед хромовыми сапогами. В финале, под звуки торжественной песни, вздымались сине-черно-белые флаги, развеваемые вентиляторами.
На факультетском вечере, после спектакля, стулья в большой аудитории сдвинули к стене, распорядители с важным видом на лице вышагивали между сценой и залом, оркестр занял свое место, и джазовая музыка загремела. Лео вздрогнул. Возможно ли еще когда-нибудь, чтобы Йонас забрался на землемерную вышку и заиграл бы там на трубе? Залихватская музыка пробрала Лео, мелодия саксофона звала, соло барабана подгоняло. Куда? В своих мыслях Лео ходил лишь по одной дороге, по той, которая вела через открытое поле. Вот он уже там: Эрика дрожит в кустах, она устала от ожидания. Ильмар сидит под елью, с автоматом поперек колен. Падает густой снег. В церкви горят свечи, под низко плывущими облаками висят колокола и время от времени позванивают. Какой-то деревенский дурачок навесил бубенцы на шею собачонке и спустил ее с цепи.
В аудитории погасли потолочные огни, зажглись прожекторы с красными фильтрами.
Первые пары вышли на круг, Лео жадно следил за виртуозами, демонстрировавшими высший класс. Приводящая в трепет чистота стиля! Какие стройные ноги! Вызывающие позы! Может, новая мода? Робкая душа и смелое тело! Вечера в гимназии были какие-то школьные: хороводные игры при свете яркой люстры.
Лео были больше по душе чисто подметенные земляные полы на деревенских танцульках. Вот уж где топали! Гармонист растягивал мехи, под рукой пивная кружка. Плотные девчата кружились, подолы платьев развевались, ветер трепал волосы; парни отплясывали польку, так что рубаха взмокала. На натертом паркете они бы не чувствовали себя столь раскованно.
Лео стоял возле стены аудитории и напрягал память. Он отыскивал среди собиравшихся на деревенских гулянках военных лет знакомые лица. Надолго ли еще останутся дома молодые парни — гуляли напропалую, народ валил из соседних деревень и даже из поселка. Велосипеды скучивались возле стены и кустов сирени в несчетном количестве, некоторые дожидались утра в крапиве. С восходом солнца укатывали домой, у каждого парня на раме девица. Лео узнал среди танцевавших всех своих старых друзей, — может, они как раз отплясывали последнюю в своей жизни польку? Уж не Эрика ли там девчонкой подглядывала в воротах гумна? Еще никому не приходило в голову схватить ее в охапку и повести на танец.
В аудитории, под джазовую музыку, танцевали другого рода девушки. Красивые, пышные прически, узкие юбочки обтягивают бедра, на ногах дорогие сапожки, сшитые частными мастерами в каком-нибудь закутке, где их делали из бог весть какой ворованной кожи.
Лео оглядел танцующую в адских отблесках публику и понял, что в этом обществе он чужой. На их факультете часть студентов были уже людьми взрослыми. Пришедшие из средней школы пацаны слегка стеснялись этих серьезных трудяг, которые упорно и кряхтя шли к своей цели. Зато здесь, на вечере, мальчишки чувствовали себя в своей тарелке.
Нет в жизни большей удачи, чем как можно позже появиться на свет.
Тем, что постарше, пришлось биться как рыбе об лед. Вдруг — невероятно — мирное время. Теперь нужно было браться за все разом, чтобы наверстать упущенное. Вдруг уже стали переростками? Удастся ли завести семью? Но когда же еще? Приводили в каморку жену, вскоре появлялась орава детей. Повседневные заботы приковывали к себе хозяина семьи. И все-таки — в один из дней или ночей в голову ударяла давно забытая мечта молодости, вынуждая ерошить поредевшие волосы, — как же так, неужто моя жизнь должна пойти насмарку! Мозги еще не притупились, может, смогу понестись наперегонки со временем. Отупевшие трудяги загорались огнем, жены пусть не брюзжат, талант надо развивать и возделывать. Вот так и вкалывали, зарабатывали случайным трудом семье на хлеб и протирали вместе с молокососами школьные скамейки.
Разумеется, эти работяги не пришли на танцы, может, они лопатили в порту уголь или разгружали товарные вагоны на станции. Пусть сопляки веселятся, им это в удовольствие.
Удастся ли Лео приноровиться к факультетским молокососам? У него не было ни жены, ни детей, этих всесильных повелителей и запретителей. Лео набрался смелости и поклонился довольно привлекательного вида девушке, ее дерзкая лисья мордочка вертелась туда-сюда, будто собиралась ужалить кого-то взглядом. С половины танца девушка уже повела Лео. Шаги становились все плавнее, время от времени, словно бы нечаянно, бедра их соприкасались. Лео был удивлен легкостью скольжения девушки. Он и сам начал чувствовать себя более гибким, деревенская неуклюжесть исчезла.
Настроение Лео поднялось. После того как оборвалась музыка, он принялся громко хлопать. Девушка без стеснения разглядывала его, глаза ее словно бы стреляли вопросами. Лео косился в сторону, поглядывал, может, и другие девушки так же таращатся на своих партнеров. К счастью, оркестр снова заиграл. Теперь Лео принялся разглядывать поверх пышных волос девушки красные прожекторы. На лбу выступила испарина, шаг сбивался. Он боялся, что девушка ошеломит его каким-нибудь откровением. В то время стеснялись говорить о больших бедах, но швырялись мелкими пошлостями.
К счастью, пронесло: оба смолчали.
Однако то, что случилось в антракте, отрезвило Лео и поставило его на место. Он как раз пробирался к выходу из аудитории, чтобы покурить у окна в прохладном коридоре. Протискивался за спиной девушки с лисьей мордочкой, она стояла в кругу своих подружек, и все с каким-то восхищением смотрели на нее, видимо, считались с ее мнением. На этот раз лисья мордочка была в роли вопрошающей, она громко допытывалась у своих подружек, знает ли кто-нибудь из них того старика, который только что проволок ее по паркету. В голосе лисьей мордочки слышалась нотка гордости: видите, даже взрослые мужчины льнут ко мне!
Лео спустился по лестнице вниз. Он зашел на факультетский вечер случайно, просто так, шутки ради танцевал с этой рано созревшей школьницей, но когда потом дал тягу и лишь на улице, в снегопад, закурил сигарету — в одиночестве на бульваре, под обнаженными деревьями, — это уже не было случайностью.
14
Понятно, что в городском шуме и суете мозг, естественно, начинает требовать возможности спокойного размышления. Все системы стремятся к упорядоченности.
Неужели так и не удастся по-настоящему выспаться за отпуск? Вроде бы пытаешься следовать основным правилам ухода за собой, но поди ж ты! Видимо, прошло еще слишком мало времени, чтобы городские привычки развеялись. Вообще ночные пробуждения Лео в последнее время носят странный характер: Лео просыпается вдруг, словно от электрического удара, и в голове тотчас же устанавливается полная ясность, никакого сонливого состояния. Будто мозг заведен еще до момента физического просыпания, чтобы в один миг, когда колесики его достигли полных оборотов, выполнить непререкаемый приказ: внимание, сознание пробудить!
В городе он мог найти достаточно объяснений подобному самоуправству. За день накапливалось множество впечатлений, произнесенные слова, рассуждения, незавершенные мысли; разум участвовал в двигательных процессах: пространство можно было преодолеть на колесах и пешком, по вертикали и горизонтали, все перемещения постоянно контролировали настоящие и мысленные светофоры. Будто некая ЭВМ выбирала вместо тебя модели поступков, без конца загорались красные и зеленые огоньки: молчи, разумнее держать язык за зубами и придать лицу глубокомысленное выражение. Или: смело говори дальше, твоя правда ясна как божий день, у всех на лицах отражается благосклонность, именно такого мнения и ожидали от тебя, аналогичное высказывание вертелось у многих на языке, обнародуй свое решение проблемы первым; ведь всегда считали умными тех, кто делает всеобщим достоянием также невысказанные мысли других.
Во время отпуска повседневные раздражители устранены. Будто призывая к порядку мозг, Лео уже в который раз внушал себе, что обитательницы старой усадьбы, три сестры, совсем ненавязчивы. Они сами затачивают или притупляют шипы в своих душах и не принуждают Лео принимать в этом участие.
Лео находился в сумерках летней ночи в полном одиночестве, на всем верхнем этаже не было никого, за окном покой, в комнату струился ласковый воздух. На расспросы товарищей по работе Лео мог бы ответить: у меня для сна были самые благоприятные условия.
В ночное время лучше, чтобы голова отдыхала, однако мозг пребывал в ожидании: подкинь-ка какое-нибудь сложное уравнение! Будто мало в последнее время было праздных моментов для наведения порядка в мыслях. Может, как раз наоборот: времени полно, знай себе просеивай песок прошлого. Уже не один бугор и холм просеян, а горизонт все еще дыбится горками.
На этот раз память соизволила вновь вернуть его в Стокгольм. Лео знал, в какую гору он теперь воткнет свою лопату. Дрыхнул бы себе, зачем мучиться! Он уперся пятками в подлокотник, деревянная рама под обивкой затрещала. Старые предметы действовали порой Лео на нервы. Пожалуй, целых два поколения прожили с этой софой, ни моль, ни мыши не смогли ее доконать; запас прочности у этой вещи завидный. Дело рук человеческих намного пережило своего создателя.
Они с фру Уллой вышли из кафе вместе, стеклянные двери за спиной с шелестом закрылись. Каждый пошел своей дорогой. Бросили друг другу: до встречи вечером. Еще не наступил день расставания, чтобы в какой-то миг удрученно отвести глаза и понять: наверное, навсегда.
Лео не спросил у сестры, куда она торопится. Сам он никуда не спешил, он мог со спокойной душой болтаться по чужому городу. Добрел до Сенного рынка, там, на площади, между высоких зданий находился целый скамеечный островок для отдыха. Лео пристроился на свободное место, осмотрелся, стал разглядывать семенивших по площади женщин, поудивлялся их стройным фигурам, будто вымуштрованная армия манекенов. Пронизывающие осенние ветры не достигали этой площади, окруженной высотными зданиями, находиться здесь было приятно. Взгляд в любую сторону упирался в стеклянные витрины, находившиеся отсюда на расстоянии сотни метров. Хотя был будничный день, у Лео возникло ощущение, что он разглядывает предпраздничную сутолоку. Прозрачные двери были нараспашку, люди входили и выходили с покупками в цветных пакетах из пластика. За стеклянными стенками верхних этажей эскалаторы переносили человеческий муравейник вниз и вверх, между домами, в полутьме торговых рядов, пестрела неоновая реклама.
Лео надоело сидеть, он побродил по Сенному рынку, повернул налево, потом направо. Он не отдавал себе отчета, сможет ли выбраться из этого лабиринта. Если понадобится, таксист позаботится о том, чтобы сориентировать его. Лео вышел к книжному магазину, который тянулся на целый квартал. Он медленно продвигался вперед, уставившись глазами в витрины, разглядывал выставленные книги, любовался элегантностью академических фолиантов и был задет безвкусицей обложек массовых изданий. В одной из витрин он увидел великолепные альбомы по искусству и возле них богатый выбор книг и журналов по архитектуре. Ноги сами понесли его в магазин, он чутьем отыскал в огромном расчлененном зале отдел, который его интересовал. Остановился зачарованно у стенда, перед которым были навалены журналы. Раскрыв первый из них, он тут же понял, что сюда он себя пригвоздит и роскошные тома по истории архитектуры на этот раз не останутся неперелистанными. В каком направлении движется в сегодняшнем мире архитектурная мысль? Любопытно! Попробуй угадать, где скоротечная мода или штукарство, а что является принципиально новым и поворотным.
Он листал один журнал за другим и просто вбирал в себя увиденное, технически безупречно напечатанные снимки выглядели почти объемными, едва ли у Лео, углубившегося в рассматривание, мелькнула какая-нибудь посторонняя мысль, разве что та, что коллеги не могут встать у этого стенда и оказаться соучастниками этого процесса.
Лео забыл о времени и о том, чтобы сменить положение, ноги были налиты свинцовой усталостью, но он не ощущал неудобства, все несущественное выветрилось из сознания, он не замечал сновавших в магазине людей и продавцов. Не слышал, говорили поблизости от него громко или так же, как он, сопели под нос.
Позже, вспоминая свое выключенное состояние, Лео осознал всю необычность и красоту того ненасытного момента восприятия. Он был даже слегка тронут своей способностью увлечься, будто мальчишка, который застывает в упоении: какой разнообразный и богатый мир! Лео удивился, что в его возрасте человеческое равнодушие способно разом отпасть. Новая и в какой-то мере забавная грань самопознания. Такими вот мыслями он впоследствии тешил себя.
Там, возле стенда, он в одно мгновение понял, что мир в действительности очень крохотный, обточенная ветрами пылинка в бескрайности, и люди между собой куда больше связаны, чем это угадывается в повседневности. Он взял очередной журнал, раскрыл его наугад посередине и угодил на серию снимков, которые потрясли его.
Лео следовало бы бежать, однако он остался на месте, лишь расставил пошире одеревеневшие ноги, тело, удерживая равновесие, судорожно напряглось: иллюзия землетрясения продолжалась, может, секунду, а может, и целую минуту. Освободившись от неприятного ощущения, он почувствовал нестерпимое желание закурить, достал из кармана сигарету и зажигалку, автоматически приготовился уже прикурить, но в последний момент, перед решающим движением, осознал, где он находится.
Благоприятные условия — это воздух, пробормотал Лео пересохшими губами и расстегнул пуговицу на воротничке под галстуком. Я — гений, гигант, поднимались из бездонного омута его сознания переливающиеся цветами радуги пузыри. Взгляд жадно охватывал отпечатанные на мелованной бумаге снимки. Тут же ему захотелось, скривив губы, с презрением посмеяться над собой, странно и неприятно было раздваиваться; его внешняя оболочка отлетела куда-то в сторону, он стал тем, другим, который смог воплотить в реальность плод его фантазии. Ему представилось, что над серией снимков напечатано его имя и что это тот, другой, стоит, расставив ноги, случайно оказавшись в книжном магазине перед грудой журналов, и таращится на цветные виды, которые чертовски точно совпадают с тем, что создано им, Лео, на бумаге и что ему не удалось воплотить наяву. Именно тот, другой, был обескуражен, хватал ртом воздух, качал головой, у того дрожали коленки — возможно ли вообще такое совпадение полета фантазии? Мистика? Мираж? Сон? Галлюцинация? Нет, временного совпадения не существовало; как явствовало из пояснительного текста, тот, другой, создал свой проект лет на десять позже. Может, кто-то украл идею Лео? Может, он где-то говорил об этом, описывал или даже обнародовал наброски? Глупость! Проект Лео и дополнительные материалы по сегодняшний день хранились дома в футляре, тетрадь с выкладками валялась где-то на книжной полке, он просто по инерции хранил эти чертежи и бумаги, наконец ценности они не имели. Лео не припоминал, чтобы он перед кем-нибудь хвастался своими проектами; по крайней мере, специалистам, которые могли оценить грандиозность его замысла, он ничего не показывал. Свой каменный корабль он воплотил на бумаге, чтобы определить границы собственных возможностей и фантазии. Эта работа была пробой самого себя, моменты творческой страсти с лихвой окупили перенесенные тяготы.
В минуты творческой радости было удивительно легко отказаться от многого, что делало будничную жизнь человека приятной, ночи пролетали без сна. Стоило вечером сесть за какой-нибудь справочник и убедиться в скудости своей эрудиции, как до самого утра не оторваться было от книги, когда он изучал теорию мостостроения, казалось, что череп расходится по швам. Сегодняшние архитекторы в большинстве своем сбросили с плеч заботы о конструкциях: Лео не хотелось давать лишь художественное изображение, все должно быть подтверждено точными расчетами и осуществимо. Сотни эскизов, перед тем как вычертить здание, от вычислений источили грани логарифмической линейки. Будто он должен был представить все это совету экспертов, состоящему из высокообразованных и весьма придирчивых людей, и поэтому ни одна мелочь не могла считаться несущественной. Никогда раньше или позже он так не трудился ни над одним из своих проектов, свой шедевр он в доведенной почти до предела совершенной форме зафиксировал на ватмане. Труд жизни, хотя и знал — грезы, но это был все-таки его след, который не стыдно было оставлять на земле.
Теперь, когда он пялился на фотографии и все больше убеждался, что его неосуществленный проект и это, в другой части света выстроенное здание до ужаса походили друг на друга, ему стало как-то жутко. В свое время, изводя бесчисленное количество бумаги, он, несмотря на юношеский максимализм, а также порывы творческого воодушевления, умел время от времени быть все ж достаточно ироничным: ребячливость! Бедной, в развалинах стране это не понадобится даже через полстолетие. Сейчас, разглядывая снимки и читая под ними высокопарные комментарии на английском языке, он подумал: все же я был очень талантливый архитектор, с большой творческой потенцией! По крайней мере — микрогений.
К этому выводу он пришел, когда ему было уже за пятьдесят, в Швеции, где он очутился в связи с похоронами отца.
Было странно в довольно-таки зрелом возрасте сознавать, что твои возможности оказались полностью нереализованными, просто не нашли себе применение. К тому времени он уже смирился, свыкся со своей позицией рядового человека, не было у него проектов, которыми бы он мог похвалиться. Никогда ни один специальный журнал, будь то крупный, иль не столь значительный, не писал о нем, в общем-то ему и не казалось странным, что он занимается безделушками: проектирует так называемые вспомогательные строения, в отношении которых превалировала целесообразность, — сойдут, большего от подобных дешевых коробок и не требовалось. Правда, Лео хвалили: у него хорошие пропорции, они сливаются с ландшафтом и остаются незаметными, словно и не засоряют землю.
Просто поразительно, уже будучи пожилым, видеть себя в какой-то момент в новом свете, самооценка поднимается на несколько делений, и в то же время понимаешь, что в действительности это лишь мираж, воспоминание о прежнем, еще не захиревшего дарования, человеке.
Когда Лео разглядывал в журнале фотографии, его охватило нервное напряжение, сердце колотилось, будто ему кто-то злобно пригрозил. Хоть смейся, хоть плачь — он не мог позволить себе ни того, ни другого. Сквозь завораживающие фотографии он на мгновение заглянул в прошлое, в те дни, когда корпел над своим звездным проектом. Аналогичный замысел, только воплощенный, знаменовал теперь взлет архитектурной мысли. Когда он сидел за чертежами и создавал единственно возможную тектонику своего каменного корабля, завороженный его внешней скульптурностью, и, не робея, добивался пластичности форм, искусно соединяя с плавными объемами крышу-оболочку, одновременно служившую и гигантской смотровой площадкой, местом обретания душевного настроя перед тем, как спуститься по широкому пандусу в основное здание, — в те времена строили безвкусные и массивные, будто затянутые в униформу, дома. Эти каменные глыбы украшались башенками, пилястрами, розетками, балюстрадами, декоративными балконами, полукруглыми колоннами и прочим подобным хламом, глумившимся над архитектурной гармонией. И окна должны были нарезаться по золотому сечению, неважно, что высокие помещения оставались при этом полутемными.
Потом наступила эпоха сверхрациональных и производимых индустриальным методом коробок, началось размножение домов — почкованием, — фантастический проект Лео впору было высмеять, схватившись, за животики и утирая слезы.
Лео не мог оторваться от здания, имевшего такое сходство с его проектом. Постепенно его охватила ярость, по спине будто прошел горячий ток. Он сжал зубы, чтобы не вскрикнуть. Чертовы богатеи, не знают, куда деньги девать! Вон какие у них материалы на руках! Неужто не могли обойтись с ними более разумно! Огромная часть человечества голодает и живет в трущобах, люди болеют чахоткой и рахитом, все еще вспыхивают эпидемии: теснота, антисанитария; а они, чтобы поглумиться над бедностью, строят увеселительные заведения, знай расточительствуют и прожигают жизнь. Любопытно: искусственная среда начинена неожиданностями, необычно расчлененное и неестественное пространство предусмотрено исключительно для того, чтобы человек как можно скорее обретал новые возвышенные настроения. Удовлетворяют жажду развлечений. Пробуждают возникновение ассоциаций. Воздействуют на подсознание. Во всяком случае — наркотическая архитектура; пребывая среди таких плавных, причудливых форм, человек не способен оставаться прикованным к будничным мыслям.
Лео проклинал про себя изображенное на снимках здание и свой утопический проект.
Естественно, его гнев был не что иное как ядовитая пена зависти.
Глубоко вздохнув, он наконец все же оторвался от снимков.
Попавшие в поле зрения полки увеличивались в размерах и приближались, чтобы тут же, уменьшаясь, исчезнуть в бездне. Переплеты стоявших в ряд на соседнем стенде томов на мгновение покоробились и тут же снова разгладились и стали аккуратными.
Осторожно оглядевшись, Лео заметил, что в магазине никого нет. Единственная продавщица стояла на лесенке и раскладывала на самой верхней полке книги. Девушка посмотрела на Лео и изобразила на лице умоляющую улыбку. Лео понял, что магазин закрыт.
Почему они такие угнетающе деликатные, сердито подумал Лео, направляясь к выходу. Его давно уже следовало выгнать с громким криком. Таким образом они уберегли бы его от душевного кризиса. За спиной Лео щелкнул замок. Выхлопные газы застилали прозрачный прохладный осенний воздух. Бесцельно бредущий Лео остановился и закурил сигарету, на перекрестке хвостовые огни ожидавших машин казались гирляндой красных фонарей, парящей в сумраке над асфальтом.
Лео завернул за угол, заметил, что пошатывается, пришлось сосредоточиться, чтобы не столкнуться с торопливо шагавшими навстречу людьми. У витрины цветочного магазина он остановился и тупо уставился на нее. Постепенно пестрые помпоны цветов расположились по своим стеблям. Посреди витрины красовался величественный букет желтых хризантем, над ним в корзиночках висели божественные орхидеи. Лео вспомнил, что журнал в книжном магазине остался некупленным. Он даже не поинтересовался названием. Выветрилось из памяти также имя того архитектора, который сумел воплотить в реальность идею Лео. Выходит, я не в состоянии действовать сообразно обстановке, поразился Лео перед витриной цветочного магазина. Я не способен также больше быть великодушным, понял он. В добрый час! Кому-то должно и повезти. Хорошо, когда где-то кто-то вообще сможет продраться сквозь чащобу.
Лео вошел в магазин, рассеянно огляделся и указал пальцем на цветок фламинго. Его привлек большой, красный и эксцентричный лепесток, рядом с которым обособленно торчала желтая тычинка. Лео пристально уставился на причудливый цветок, который умело заворачивали в целлофан. Он поклонился, вышел на улицу, остановился под фонарем и стал рассматривать цветок в прозрачной упаковке. И снова ему показалось странным: в возрасте уже человек, а еще никогда не дарил сестре ни одного цветка. Наверное, о таких мелочах следует думать больше, чем о своем потерянном даровании?
Лео знал, что, если он будет лежать без сна в этом старом доме, на этой скрипучей софе и начнет по-прежнему пялиться в потолок, еще десятки раз встанут перед глазами те красочные снимки, так и придется ему бесплодно гадать: как же могло случиться, что одна и та же идея захватила воображение двух, столь далеко находившихся друг от друга, таких разных людей? Хотя Лео уже на выходе из магазина забыл имя того удачливого и, наверное, счастливого архитектора, он почему-то очень ясно представлял себе этого человека. Лет на десять моложе, ассимилированный американец — в этом не было сомнения, — один из его родителей был или испанцем, или итальянцем, человек из простонародья, который и в чужой среде сохранил свой язык, оставаясь до конца верным своим обычаям и традициям, общался лишь с представителями своей национальной группы, избегая и презирая всю эту мишуру цивилизации, которая, по его мнению, нарушала естественность жизни. Далекий и незнакомый коллега Лео с детских лет ощущал разрыв между царившими в доме бесхитростными истинами и рекламируемыми повсюду социальными идеалами. Он рано понял, что родители не смогут быть для него трамплином, придется самому проявить усердие и собственными силами пробиваться выше. В бедной среде быстро выработался инстинкт самоутверждения: юноша стал более приспособленным, мобильным. В то же время обострилась наблюдательность. Он хватал знания на лету и откладывал на всякий случай, про запас, как зерно, так и плевелы.
Лео сел и опустил ноги на прохладный деревянный пол. Вот он стоит, его знаменитый соперник, прислонился беспечно к комоду. Самоуверенный мужчина золотых средних лет. Смуглое лицо в ночной полутьме выглядит темнее обычного, жесткие волосы слегка взъерошены. Полы пиджака распахнуты, галстук сбит набок — ах, эти мелочи, — в одном кармане слава, в другом — гарантия грядущего, еще большего, признания — заказ на новый проект, предлагая который ему в числе прочего сказали: никаких ограничений мы вам не ставим. Мужчина сумел блестяще утвердить себя, собственная напористость и желание трудиться подпирали его. Он получил безупречное образование, использовал без лишней скромности пособия всевозможных фондов и стипендии, много путешествовал и видел.
Иногда талантливые люди торопятся, раньше времени задирают нос, он же не считал зазорным стажироваться у знаменитостей, выполнял простую работу и мотал все на ус. У него хватало ума избежать преувеличенной самооценки неоперившихся специалистов: я созрел для деяний, потеснитесь, дайте место поиграться, скоро заткну за пояс всех знаменитостей.
Больше Лео не хотелось оставаться с глазу на глаз со своим призрачным соперником. Он оделся и с некоторым волнением подумал: давно я не бродил по летнему ночному лесу.
Он прошел на цыпочках до порога, оставил дверь приоткрытой и потихоньку спустился по лестнице. В ночной тишине старого деревянного дома потрескивания, поскрипывания и похрустывания могут обратиться настоящим концертом. Пройдя на кухню, Лео изумленно остановился: Сильви сидела у светлого окна и курила, перед ней стояла пустая рюмка из-под вина.
— Извините, — сказал Лео.
— Мне что-то не спится, — заявила Сильви. — Зимой отосплю то, что недоспала в белые ночи.
— Да, разумеется, — пробормотал Лео и шмыгнул на крыльцо.
Ему было недосуг задерживаться тут, наслаждаясь ночным покоем и благоуханием. Его беспокоило, что Сильви может из окна подглядывать за ним, возможно, не спят и другие сестры, высматривают, лица их белеют за темными стеклами, будто маски висят в воздухе: крадущиеся шаги Лео вспугнули их птичий сон и привнесли тревогу. Лео исчез среди яблонь, побрел по скошенной траве и отыскал тропку, ведущую через окружающие сад кусты в лес. В ольшанике под ногами захлюпало, Лео поскользнулся на размякшей почве, ухватился за хрупкие ветки, выломал себе прутик, хотя и не знал, будет ли он отмахиваться им от комаров или примется отпугивать лося, если тот, случаем, встанет на дороге.
Какой считать эту землю — хорошей или плохой, если все так удивительно перемежается: Лео уже шел посуху. Будто этот крохотный лоскуток создавался в хорошем расположении духа, и землю разбрасывали, доставая пригоршней из передника: направо побольше песка, налево — гравия, вперед — глины, назад — торфяной трухи.
Лео брел по папоротнику, ветки похрустывали под ногами, и он был уверен, что скоро, словно обрезанный, оборвется ельник, он окажется на краю клюквенного болота, и белое дыхание земли будет наплывать на него.
Когда люди селятся на новом месте, они искренне верят, что смогут основательно исследовать окрестности и тогда, по крайней мере в радиусе десятка километров, будут знать все как свои пять пальцев. К сожалению, лучшие свои намерения человек по большей части реализует лишь в воображении, в будничной жизни все до самой смерти топчутся на крохотном клочке земли. Лео надеялся в тишине ночного леса освободиться от подавленности, к сожалению, этого не произошло: мысли его продолжали спотыкаться на тесной вырубке, словно и не было раздольных полей.
Лео стало зябко, он засунул руки поглубже в карманы и остановился в нерешительности: ему вдруг надоела ночная сырость. Душа его ничуть не захмелела. Он и не собирался внушать себе, что вступил в святилище природы и охвачен благоговением. Мысли насильно увели его к тайной тропке: в чащобе между густыми ветвями стоит Ильмар. На обоих плечах, будто на вешалке, дулами вниз повисли автоматы. Смотри, как долго пришлось тебя дожидаться, слышится из беззубого рта удивленный возглас. Впалые щеки Ильмара залатаны высохшим свиным пузырем. Ильмар проводит рукой по своим ребрам, они стучат, словно деревяшки. На этот раз Лео без сопротивления принимает протянутый автомат, хотя ему ничего не стоит опрокинуть хилого Ильмара на землю и, не оборачиваясь и насвистывая, удалиться. Да, Лео взял бы автомат, чтобы нацелить его на самого себя. Тогда бы у Ильмара выдался радостный день, пергаментные щеки окрасились бы в свекольно-красный цвет. Он бы нетерпеливо топтался и шепелявил: ну, нажимай, не тушуйся, покажи, что ты эстонец и крепок, как сам черт.
Лео поворачивается спиной к елям и, подминая папоротник, спешит к дому. Он вынужден придержать себя, чтобы не налететь с размаху на дверь.
Затхлый воздух в этом старом доме спирал дыхание.
Между тем Сильви устроилась поуютнее, протянула ноги на другой стул, полы халата сложены на коленях.
Видимо, выхода нет, придется заводить разговор.
— Не утомляет ночное бдение?
— Знаешь, Лео, я боюсь умереть во сне, вот и сторожу свою жизнь, — усмехается Сильви.
Лео пожимает плечами. Эти страхи его не волнуют, он только что в чащобе в очередной раз стрелял в себя.
Он садится, прикуривает сигарету и разглядывает свои руки, при ночном свете они кажутся красивыми и молодыми — Лео перенял привычку Урве.
— От тебя тянет смоляным духом, ходил в лес, — говорит Сильви.
— Курильщики все не чувствуют запаха, — увертывается Лео.
Неловко тут же уходить, когда ты только что присел.
— Днем я не курю, лишь ночью, иногда, — извиняется Сильви, становясь как-то стеснительнее, и убирает ноги со стула. — Запахи влекут, придают человеку изюминку, позволяют угадать его тайны, — добавляет она через мгновение.
— Впечатлительные люди ищут в дымке ладана бога, — усмехается Лео.
— Не смейся, это очень серьезно.
— Да, конечно, кое-кто видел и летающие тарелки.
— Этим уже никого не удивишь, — говорит Сильви и принимается засучивать рукава халата. Она с таким старанием заворачивает скользкий шелк, словно это сейчас самое неотложное и важное занятие. Когда рукава наконец закатаны по локоть, она указывает большим пальцем в потолок и доверчиво добавляет: — С ними невозможно говорить о серьезных делах.
Лео искоса, краем глаза следит за Сильви.
Повсюду свои лагери, враждующие стороны.
Ему не хочется вмешиваться во взаимоотношения сестер, и он молчит.
— У них совесть чиста, дрыхнут, как мишки, — посмеивается Сильви.
Лео понимает — это мы вдвоем грешные.
— Связь явлений и запахов — не мое открытие, — замечает Сильви.
Почему-то ей представляется, что это его интересует.
— Мир слишком стар, чтобы в чем-то быть первооткрывателем, — вяло роняет Лео.
Вызывающее озабоченность явление: в последнее время ему все реже удается быть равнодушным до мозга костей. Вновь в ушах звенит необъяснимое напряжение. Хватит сожаления! Он не первый из тех, кто сокрушается о том, что творческий порыв остался позади. Мало ли что его блестящий проект существует только на бумаге. Никому не ведомо, сколько в мире ценностей, созданных человеческим разумом, которые по той или другой причине вынуждены пылиться в ящиках столов. Лео чувствует себя несчастным оттого, что его идея спустя десять лет пришла в голову другому человеку. Но, возможно, он и сам не был первооткрывателем? Может, кто-то раньше, например, в безнадежное и мрачное военное время изобразил на бумаге свой каменный корабль и этим возвысился над отупляющими серыми буднями и гнетущей бедностью. Творческий процесс сам по себе является платой за труд, придает жизни страсть, содержание, позволяет улетать туда, куда способна унести на своих крыльях одна только мечта, дает возможность приземлиться даже в другом, более гуманном и разумном временном измерении. Вообще: что значит первооткрыватель? Пустой звук! Блестящие идеи подобны космической пыли, которая более или менее равномерно опускается на многих людей. Все остальное — чистая случайность, как благоприятная атмосфера, так и определенная агрессивность личности, выступившей со смелым замыслом и пробившей его. Эти обстоятельства не подвластны воле.
— Страсть к запахам мне привил муж, — продолжала Сильви развивать свою тему. — Видимо, я не умела выбирать парфюмерию, которой ради его удовольствия пользовалась. Он постоянно ощущал в нашей квартире запахи закисания и плесени. Я стала чувствовать себя какой-то ущербной.
— Потому и разошлись? — удивился Лео.
— Нет, это была лишь дымовая завеса. Ему нужно было придумать какой-то предлог. Развод — это очень медленный и почти необъяснимый процесс, который начинается за многие годы до действительной разлуки и продолжает длиться даже после оформления документов. Пока ты не можешь существовать без воспоминаний о нем, ты еще окончательно не оторвалась от него. Да и быт, который теснит нас со всех сторон, не дает возможности разом кончить эту историю. Суд признал нас чужими, но мы продолжали по-прежнему жить в одной квартире. Тогда нас обоих начали раздражать запахи воспоминаний.
Лео со страхом подумал, что теперь, когда Сильви нащупала нить, пойдет долгая исповедь. Видно, это ее конек — заставлять людей слушать себя. Многие выходят из такого положения просто: берут разговор в свои руки, начинают без остановки молоть — все равно что, — у собеседника уши от болтовни закладывает, нет возможности вставить слово, лишь губами шевелит, будто рыба насуху.
— Запахи воспоминаний гораздо хуже запахов яви, — походя замечает Лео.
— О да, — оживляется Сильви. То ли от расслабленности или грусти она все время сидела, уставившись в одну точку. — В каждой потере скрыта крупица блага. Обостренное восприятие запахов, которое я переняла от мужа, расширило мое восприятие мира. Не странно ли? Например, объяснилось вдруг одно смутное воспоминание. Ты ведь слышал про нашего родственника Яана?
Наш родственник? Все равно! Лео не стал перебивать Сильви расспросами.
— Видишь ли, этот Яан в пятидесятом году, после долгого отсутствия, вернулся на родину.
Как и у всех других, наша родня тоже привязана к своим — своя кровь, держись вместе, — что, однако, не исключало мелочности и трений; вот наша мама и решила позвать на юбилей оторвавшегося от нас Яана, бабушке исполнилось семьдесят пять, все-таки племянник. С хлеба на квас в то время уже не перебивались, но до сегодняшних излишеств было еще далеко. И все же на стол старались подать все лучшее. Помню эти приготовления: стол раздвинули на три половинки, накрахмалили до хруста скатерть, устроили горчичную ванну для хрусталя, — как водится, на столе больше было красы, чем еды. Яан заявился, о его прошлой жизни у нас представления не было. Знали только, что он направлен сюда по распоряжению Москвы возводить крупный завод. Как только он вошел, я сразу поняла, что вряд ли этот человек вольется в нашу родню. На нем было мешковатое кожаное пальто, достававшее почти до пят, на голове странная кепка. Повесив пальто, он вытащил из его внутреннего кармана какую-то свернутую бумагу и засунул ее в нагрудный карман пиджака военного покроя, и пуговку застегнул, явно боялся, что кто-то проберется в переднюю и стащит важный документ. За столом он оставался весьма немногословным; я заметила, что время от времени он скользил взглядом по рассевшимся родственникам, и на его суровом лице витала отнюдь не дружественная усмешка. Он отвечал на вопросы столь скупо, что всем стало ясно его отношение к родне: меня с вами связывала Катарина, моя мать, она умерла, и теперь мы чужие. Вскоре он извинился, что у него времени в обрез. Больше я с ним не встречалась. Теперь и он уже на том свете. В свое время мы часто встречали в газетах его имя. Родственники думали, известное дело, большой начальник, с такими, как мы, ему не подобает знаться. Впоследствии я много раз вспоминала эту короткую встречу, возможно, мы даже и полсловом не обменялись, — жаль, так и не поговорили, — и все равно он оставил в моей памяти глубокий след. Я пыталась так и эдак подобрать к нему ключик: привыкший к другой жизни человек, он попал в педантично чистую мещанскую квартиру, родичи показались ему скучными и ограниченными, он и не захотел обременять себя такой родней. Может, боялся, что ему, как человеку, наделенному большой властью, начнут досаждать всякими просьбами. Его могли насторожить также взгляды собравшихся на юбилее людей, хотя в то время никто не осмеливался хаять государственную власть, все же в настроениях можно было кое-что уловить. Вдруг за столом сидит какой-нибудь лесной брат с фальшивым паспортом? В те времена на каждом выискивали пятна.
Вот я и подбиралась к нему с разных сторон, чтобы объяснить это его несколько высокомерное поведение.
— Это что, тот самый Яан, который принимал участие в восстании первого декабря и потом исчез в России? — попытался Лео найти подтверждения давнишним слухам.
— Вот именно. Наверное, чувствовал себя среди родственников неуютно еще и потому, что боялся разговоров о брате. Юри служил до войны на торговом пароходе, после переворота сорокового года его «Каякас» в родной порт не вернулся. Если душа в теле, то Юри живет и по сей день в Канаде. Несколько лет назад его навещала дочь. Она рассказывала Хельге, что у отца худенькая жена, намного моложе его. Однако в пятидесятые годы Юри не должен был существовать, по крайней мере для Яана. Не иначе, и он в анкете записал своего брата пропавшим без вести, так поступали многие.
Лео усмехнулся и сунул в рот сигарету.
— А какое Яан имеет отношение к запахам?
— Именно с помощью запахов, и только после его смерти, я поняла, что это за личность. Запахи воспоминаний и воспоминания о запахах: от длинного кожаного пальто Яана в передней распространялся своеобразный, резкий душок, — который долго не выветривался. Это не был запах свежевыделанной кожи, тем более что пальто было довольно поношенное, только новая кожа пахнет по-особенному, со временем запах полностью исчезает. От своего мужа я слышала, что запахи выдают род деятельности человека, так сказать, помещают личность в ту естественную среду, с которой он слился, и вдруг меня осенило: Яан принес с собой дыхание пустыни, запах степей и прерий, дух зачинателя и первопроходца, дым костров, головешек и горящих углей. Там, за старательно накрытым столом, за мелочными разговорами, у него могло возникнуть ощущение стесненности и недостатка воздуха. Можно предположить, что в какой-то миг эта теснота породила клаустрофобию, поэтому Яан вскочил и покинул родню — навсегда.
— После такой короткой встречи несправедливо считать человека нестоящим.
— А я и не сужу о нем, был ли он справедливым или предвзятым. Мы все довольно часто решаем по первым впечатлениям, просто Яан чувствовал, что его резкий запах не созвучен нашей атмосфере.
15
Засыпая, Лео почувствовал, как обостряется обоняние. Все благоухало. Человек в забытьи не в состоянии проверить соответствие своего подсознания реальности. Ему казалось, что рядом на блюде сочатся медом соты, наливаются колосья ржи, покачиваются спелые яблоки и лежат в траве приторно-сладкие дыни. Постепенно запахи исчезли, теперь набирало силу тепло, оно растекалось по конечностям, мускулы словно размякли.
Он проснулся от звона стекла. Вовсю сияло солнце, Лео все утро проспал в гамаке. Он приподнялся, опустил ноги. Видно, у сестер что-то разбилось на крыльце, они стояли там сгрудившись. Криков слышно не было, люди с высокой культурой общения не станут поднимать скандала по пустякам. Лео поболтал ногами, пошевелил пальцами, травинки щекотали подошвы. Поистине отдых: во сне вдыхаешь запах дынь; а когда просыпаешься, то лениво покачиваешь ногами и разглядываешь многоцветную зелень, которая со всех сторон понемногу придвигается к хозяйскому дому, ветви деревьев того и гляди скоро врастут в открытые окна. Лео был доволен, что двор и сад пришлись ему по душе: значит, он начинает привыкать. Говорят, что в наше время отдых не дает того результата, что раньше. Человек, привыкший к быстрому ритму жизни, тратит свободные дни просто на то, чтобы обрести новый настрой. Он по привычке нервничает из-за бесцельно ускользающих часов (современный рациональный человек старательно удерживает в поле своего зрения коэффициент полезного действия) и возвращается из отпуска порядком измученным. У кого как, Лео, во всяком случае, чувствует, что за то время, которое он продрыхнул в гамаке, его нервная система укрепилась, — возможно, внутренние силы организма были еще не столь скудными.
Настроение у Лео поднималось.
Чем бы ему порадовать трех прелестных сестер? Они все еще стоят носом к носу на крыльце. И чего они так долго разглядывают эти осколки? Никогда не стоит горевать из-за вещей, даже когда разбивается что-то нужное и разрывается цепь будничных дел.
Они не мелочны. И не препираются, Сильви уже сметает со ступеньки в совок осколки и с грохотом высыпает их в железное ведро. Если не окунаться в повседневные дела и смотреть на чужие хлопоты со стороны, то букашечья человеческая суета может показаться незначительной, но именно из подобной суеты в большинстве своем и состоит жизнь.
Лео решается оторвать сестер от их хлопот.
Они подпирают метлой дверь и от всей души смеются над этой милой деревенской привычкой. Лео обещает разобрать увесистый ржавый замок, почистить и смазать его, что за дом, если ключ приходится поворачивать с усилием!
Машина снова покачивается в зеленом тоннеле, золото солнечных бликов осыпает ветровое стекло и капот.
Едва Лео открыл рот, как сестры тут же бросили все свои хлопоты и решили проведать Эвелину.
Возле магазина они попросили Лео остановиться. Обещали купить коробку конфет и бутылку красного десертного вина. Эвелина от него не откажется. Лео все равно. Разве обойдутся бабы без хлопот, так уж повелось. Вот они уже возвращаются с набитой покупками сумкой. В их походке появилось что-то крестьянское: травка, пешеходные тропки и мягкая обувь повлияли на осанку.
Забравшись в машину, сестры тут же принимаются оживленно рассуждать о том, как там поживает Эвелина, сколько лет не виделись. Как хорошо, что подвернулся случай съездить в Медную деревню. Жалко, что нет с ними Вильмута. Интересно, ездит ли он помогать своей одинокой сестре?
Они сворачивают на разбитую полевую дорогу, на рытвинах и ухабах машину подкидывает, несмотря на сухую погоду, приходится ехать по грязным лужам. В старину окрестные хозяева засыпали дорогу гравием из карьера, но навезенный когда-то гравий уже исчез в бездонных лужах. Наиболее подозрительные ямины Лео объезжает по обочине, машина кренится, сестры хватаются за скобы и перестают щебетать.
На взгорке с землемерной вышкой уже вполне сносно, собственно, тут и нет дороги, одна лишь заросшая извилистая полоска, которая становится все уже.
Приятная нежность закрадывается в душу Лео. Он позволяет машине катиться очень медленно. В центре Долины духов Лео всегда охватывало благоговейное чувство. Именно на этом месте он снова и снова убеждался: доехал. Словно бы по середине поля пролегала какая-то невидимая граница: впереди тихое уютное местечко, за спиной огромный и презренный мир. Удивительно, что отдельные впечатления детских лет западают в память на десятилетия, будто можно разложить раз и навсегда по полочкам добро и зло, печаль и радость. Или в Медной деревне недоставало зла?
Странно, что местные жители называли поле долиной, на самом деле рельеф этого большого куска земли напоминал собой множество гиперболических параболоидов. Ни одна старинная героическая сказка не связывалась с этим местом, хотя причудливость здешнего рельефа можно было бы легко объяснить действиями неких исполинов, разбросавших гигантские седла. Окрестные люди, правда, любили легенду о барышне в кружевной шляпе, на нее валили все страхи и блуждания по Долине духов. Конечно, нервы щекотало больше, когда думали о злой порхающей барышне, нежели когда отчетливо сознавали, что очертания земной поверхности математически определены и своеобразием поля остается меняющийся через каждые несколько десятков шагов горизонт. Только что были на виду те или другие хутора, а через мгновение они уже исчезают с глаз, словно в болото провалились. Вот и попробуй тут сориентироваться, скажем, в снегопад!
Лео тормозит. Они подъехали к воротам. Уже хлопает дверь, Эвелина бежит по тропке им навстречу. Ее крупную фигуру обтягивает тесноватое выгоревшее ситцевое платье. Толстые колени как будто выталкиваются из-под подола, вообще движения у Эвелины резкие, и она почему-то сжимает кулаки.
Прежде чем кто-то успевает выбраться из машины, слышится крик:
— Не нужно мне вашего страхования! Я сама берегу свой дом и добро!
Эвелина налетает грудью на ворота, они подрагивают от толчка, и обеими руками хватается за обруч — пусть кто попробует проникнуть во двор.
— У Эвелины всегда были свои фокусы, — примирительно говорит Хельга и первой выходит из машины.
Она радостно улыбается, протягивает вперед руки и идет успокаивать Эвелину. Та кричит еще громче, в городском доме ее голос слышался бы на несколько этажей:
— Кто вы такие?
Спокойная Хельга размеренным шагом приближается к разъяренной Эвелине, громко говорит о ней. Эвелина решается снять с обруча правую руку и приложить ее к уху. Хельга наклоняется над воротами, по всей видимости, женщины почти касаются друг друга лбами; переговоры продолжаются довольно долго. Наконец Эвелина снимает с ворот обруч — дорога гостям открыта.
Сильви освобождается от напряжения, смеется и говорит:
— В свое время, когда приходили подписывать на заем, говорят, Эвелина выгнала уполномоченного из дома горящей головней. Потом Лилит тайком от дочери ходила в контору и подписалась.
— Человек живет в полном одиночестве, — грустно и с сожалением заметила Урве.
Они гуськом направляются к воротам хутора Виллаку, заходят во двор и недоуменно останавливаются: Эвелина со всех ног бежит в дом и с ходу захлопывает дверь. Гостям становится неловко. Сестры поглядывают друг на друга и пожимают плечами. Никто не отваживается войти в дом без приглашения, чтобы найти занятие, они ходят по двору и разглядывают цветочные грядки под окнами, где вперемешку посеяны ноготки и многоцветные травянистые растения, которые в народе называют американским чудом. Под стрехой на веревочке сушатся лекарственные растения, Урве осмеливается их потрогать. Берет один пучок, дает понюхать сестрам, что-то объясняет. Обычное дело, думает Лео, пожилые люди начинают верить в чудодейственную силу трав. Делают настойки и отвары, охотно обмениваются рецептами. Все же Урве, наверное, истинный знаток, уж не профессиональный ли она фармацевт? Сильви даже как-то намекнула об этом. Он, во всяком случае, плохо знает своих вновь обретенных родственников.
Родственников?
Люди, которые докапываются до кровных уз, выглядят в наши дни чуточку странными. В своей быстротечной жизни человек все больше нуждается в духовном родстве, в единомышленниках. Когда-то Лео искал среду, к которой он мог бы твердо приписаться. Теперь ему предлагали эту возможность: и он был одним из стволов в этой чащобе, которая взросла из семян мощного материнского древа.
Если верить сестрам, то и Лео доводился родственником Эвелине. Все та же могучая Ява стояла в начале всех начал. Может, и самодурство Эвелины происходит от далекой праматери? Глупость! Будто люди, которые обретают родство потом, уже не имеют никакого значения. Лео никогда не видел Яву. Даже в гробу, хотя и пришел за ручку с матерью в Медную деревню, на знаменитые похороны. С того времени, когда Лео приставил к животу самопал и вогнал в тело свинцовую пульку, прошло почти полстолетия.
Кажется, Эвелина собиралась вновь предстать перед гостями. В сенях слышится стук, словно она готовится к выходу. Дверь все еще не открывается. Лео уже надоели чудачества Эвелины. Естественное и простое общение действует кое-кому на нервы. Гости терпеливо ждут выхода Эвелины. Ну, наконец-то! Вот она появляется в дверях, но не одна, а за ручку с двумя маленькими девочками. Старшая, наверное, лет трех-четырех, младшая и вовсе с ноготок: она еще еле переставляет ножки. Дети разнаряжены, в белых носочках, в новых платьицах, даже складки не разглажены. Может, всего минуту назад как оторвали бумажные этикетки. Обе девочки темноголовые, никакой захолустной застенчивости, смотрят на чужих широко раскрытыми глазами.
Сестры на радостях разражаются восклицаниями, хватают детишек на руки, допытываются, как звать. Прилежные дети отвечают на вопросы: старшая Яана, младшая Мерике. Лео невольно усмехается: модные имена, имена моды. Люди не задумываются, что их преемникам придется с этими именами жить, может, лет восемьдесят и не раз удивляться господствовавшей некогда лихорадке моды. Недавно один товарищ Лео по работе назвал своего ребенка странным именем: Кийдо. Лео не осмелился спросить, мальчик родился или девочка. Яана и Мерике — чудесные простые имена, сами дети тоже милы. Интересно, кто же это доверил своих малышей этой неприветливой, глуховатой женщине.
Эвелина важно стоит на ступеньке крыльца, она успела позаботиться и о своей внешности. На ней зимнее, с длинными рукавами выходное платье вишневого цвета, ослепительно белый платок укрывает посеребренные волосы. Сколько же Эвелине лет? Лео вспоминает и подсчитывает. На четыре года младше Вильмута. Значит, и моложе его, Лео, на четыре года! Он подавляет вздох и сутулится. Выходит, что и он давно уже старый человек? Лео пристально вглядывается в лицо Эвелины. Глубокие морщины хмурого человека, задубевшая на солнце и ветру кожа. Сейчас она улыбается — необычное явление, — и на ее лице появляется белая сеточка, расправились незагоревшие складочки.
Сестры запыхались от возни с детишками. Они переводят дух и смотрят вопросительно на Эвелину. Та не дождется, чтобы гости начали кричать о своем любопытстве ей на ухо.
— Это дети Хелле, — объявляет она громко, будто стоит на трибуне и в зале полно народа. — Нет у них ни отца, ни матери, одна я! — добавляет она, почти криком.
— Это наша милая, милая Эвелина, — радостно подскакивает старшая девочка и с улыбкой смотрит на чужих теть в ожидании похвалы.
Посерьезневшие сестры дожидаются от Эвелины разъяснений.
Эвелине стыдиться нечего, она говорит то, что есть.
— Сперва Хелле принесла ко мне маленькую Яану, девочка только сучила ножками и ела с соски. Возьми себе, сказала она. Поди, не последняя. Как в воду глядела. Через два года явилась снова, принесла Мерике. И хорошо, что принесла. Вдвоем им расти дружнее. Они ведь у нас на всю деревню одни крохотульки-сопульки.
Эвелина громко смеется.
— Эвелина — паинька, — гордо заявляет Яана, и Мерике, пытаясь подражать сестре, тоже что-то лопочет.
Лео сует в рот сигарету.
Лица сестер вытягиваются.
Поразительная мягкая улыбка на суровом лице Эвелины исчезает, она щурится, о чем-то задумывается и решает:
— А теперь поищем чего поесть. Дорога-то дальняя.
Сестры будто избавляются от оцепенения, они спешат к крыльцу — есть так есть, придется приложить руки.
Лео широким шагом подходит к Эвелине, которая стоит взявшись за дверную ручку, и кричит ей на ухо:
— Я пойду погуляю с девчонками!
— Иди, иди, — неожиданно тихо и как-то насмешливо говорит Эвелина.
Лео берет детей за руки, и они выходят за ворота. Полевица на краю тропки достает маленькой Мерике по грудь. Кузнечики стрекочут, где-то далеко вяло тарахтит какой-то мотор. Стоит благодатный размаривающий летний день. Поодаль, в одной из седловин Долины духов, цветет картофельное поле, белое раздолье раскинулось на фоне темнеющей еловой изгороди хутора Росса. Посаженные в стародавние времена хозяином ели вымахали густой стеной, зазубренный край которой, кажется, касается облака. Лео не знает, кто живет теперь на этом хуторе, во всяком случае, ни один из потомков не пожелал поселиться в разваливающемся доме.
Старый хозяин хутора Росса был отцом Йонаса, значит, дедушкой Лео! Посаженные дедом ели. О ком бы тут ни подумал — родственник. Повсюду в округе земля проросла корнями Лео.
То и дело маленькая Мерике спотыкается о кочки и падает. На этот раз Яана не хочет приглядывать за сестренкой, она задумчиво и важно вышагивает рядом с Лео и преданно держит его за руку. Лео видит, что младшая устала, и сажает ее на закорки. Восхищенная неимоверной высотой Мерике начинает хватать воздух. Яана хмурится и со вздохом говорит:
— Я тоже никогда не ездила верхом.
— Ты уже большая, — отвечает Лео.
Да и маленькая нелегкий мешочек. Отдохнув, Мерике принимается шалить, она теребит Лео за уши и вскрикивает.
Возле землемерной вышки Лео опускает Мерике на землю. Прислонившись спиной к толстой опоре, он вдруг сникает.
Детишки бегают вокруг и играют в пятнашки.
Вот уже их темные головки замелькали в овсах, но Лео не останавливает их, хотя они и топчут хлеб.
Давно уже душа у него не крестьянская.
Такой ли уж грех затоптать горсть овсяных стебельков!
Стоит один из самых погожих дней в разгаре лета.
И в раю человеку не избавиться от самого себя.
Дети вскрикивают где-то за спиной Лео.
Ему тоже хотелось бы крикнуть во весь голос, чтобы разнеслось по всему полю:
«Эрика, где ты?»
Лео закрывает наполненные слезами глаза, на землю легли заморозки, замерзшие дорожки поля Медной деревни гудят от шагов бегущих, кажется, они рядом, но так и не приближаются. Это Эрика, которая бежит кругами, как стригунок.
— Сейчас я примчусь к тебе! — кричит она в ответ, а у самой прерывается голос. С неба падают ледяные иглы, поодаль, на стену церкви, будто короста соли, ложится иней.
«Где ты, Эрика?»
Она все еще кружит. Да и куда ей было бежать, когда Лео так и не приехал?
Ильмар стоит в чернеющей стене еловой ограды и смотрит, как изводится Эрика. Она не забивалась жалобно в угол. Все бежала, все мчалась и все равно не могла убежать от отчаяния; оно преследовало ее по пятам, протягивало к ней железные пальцы, чтобы ухватить Эрику за горло и удавить. Безнадежность все углублялась.
Эрика с нетерпением ждала Лео. Он нарушил слово. Не приехал ни на рождество, ни на крещенье, ни позднее. Когда однажды, спустя многие годы, он появился, было уже слишком поздно.
Когда-то Вильмут рассказывал своему другу:
— После смерти отца я не так уж долго и прожил дома, как в один из холодных и ясных крещенских дней к нам пришла Эрика.
От мороза трещали стены, снежная белизна слепила глаза, с крыши сполз снег и навис над окном; смотрю, кто-то идет со стороны хутора Клааси, в долгополой санной шубе, подол волочится по снегу. Гадал и гадал, воротник поднят, даже кончика носа не видно было, подумал, кого это черт несет.
Вошла Эрика, шубы не сняла, лишь распахнула полы и заплакала.
Наши бабы перепугались, взялись утешать, думали, что на хуторе Клааси беда случилась. Может, ночью была облава и кого-нибудь убили, мало ли что можно было подумать. Эрика всхлипывала и попросила, чтобы я поиграл ей на гуслях.
Что ж, взял и поиграл. Моя мать Лилит и сестра Эвелина сидели на скамейке, по одну и по другую сторону Эрики, и тоже лили слезы. У меня больше не было сил, но я все равно продолжал играть. Понял, что иногда люди просто должны выплакать все, что у них на душе. Кто же живет на свете без печали и боли?
В ту далекую весну они и поженились. Эрика и Вильмут. По своей душевной доброте Вильмут позвал друга на свадьбу. Лео, естественно, не поехал. Летом родилась Хелле.
Года два назад полупьяный Вильмут вспомнил Ильмара. Несчастный человек, пожалел его Вильмут. Перед сном, осоловев, он признался, что Ильмар был без ума от Эрики. Еще перед их свадьбой Ильмар вслух при Вильмуте предлагал Эрике выйти замуж за него: увешанная шишками елка будет им люстрой, а небо — потолком.
Вильмуту и в голову не приходило, что Хелле — дочь Лео.
Раздорной и сложной выдалась семейная жизнь Вильмута и Эрики. Хотя они все время, казалось, перли против ветра, Эрика даже в гневе не назвала отца Хелле… Кто знает, где подобрала, когда-то в сердцах бросил Вильмут Лео. Он, конечно, имел в виду Ильмара. Только что взять с мертвого человека?
Со стен церкви срываются соляные кристаллики, порыв ветра швыряет в лицо Лео целую горсть инея. Он безмолвно, обессиленно кричит — где же ты, Эрика!
На самом деле яркое солнце залило светом Долину духов. Лео опоздал со своим криком на четверть века. Эрики давным-давно уже нет в живых. Вильмут живет в чужом доме с новой женой. Внебрачная дочь Эрики Хелле обитает неизвестно где, живет бог знает какой жизнью и привела на хутор Виллаку двух девочек, которых растит полуглухая и нелюдимая Эвелина.
Неужто она такая и есть, человеческая жизнь? Неповторимая и мимолетная? Будто просверк молнии, по обыкновению говорила прародительница Яава. И все же только просверк, хотя она прожила на земле больше девяноста лет.
Маленькие девочки бегают по овсяному полю, овсяные метелки хлещут их по лицу. Может, и нет у них матери Хелле, зародились они тут, в этой земле, росли вместе с полевыми цветами, сорняками и хлебами, и на их темные головки садились отдыхать бабочки. Эвелина собрала их с поля в передник и унесла к себе. Да и захотят ли девочки узнать о своем действительном происхождении, о корнях своих! К чему им мертвые узлы прошлого? Если бы Лео попытался спросить у них, кто такие лесные братья, они бы в один голос воскликнули: конечно, знаем — это гномики, у которых бороды из мха.
Потому-то для каждого человека его детство и остается столь неповторимым и лучистым, радостным и красочным, что все земные беды были до него, где-то там, за черной стеной.
Вот они бегают, две маленькие девочки.
Внучки Лео.
Две новые жгучие точки прибавились в его сознании.
Но для этих девочек он обычный городской дядя, который едва ли останется в их памяти.
Хотя как сказать, он все же привел их за ручку в Долину духов и не запрещал шалить. Мерике может прокричать на ухо полуглухой Эвелине:
— А я каталась на закорках!
Это произойдет в один из следующих дней, когда Эвелина снова наденет свое выцветшее, короткое ситцевое платье, которое оставит неприкрытыми ее большие коленки. Когда она поймет, что ей прокричала на ухо Мерике, то уставит руки в боки, откинется назад и громко засмеется своим богатырским смехом:
— Ха-ха-ха-а!
Эвелина явно захочет вытравить из сознания девочек чужого городского дядю, перебить козыри случайного гостя: она сама должна будет навсегда запомниться детям и устроит девочкам в сумерках летнего вечера такую потеху, которая никогда ими не забудется. Проберется тайком на кукурузное поле и выйдет оттуда на радость детям верхом на метле; примется размахивать кнутом, оставшимся после потомственного хозяина Иоханнеса, прокричит на всю Долину духов — но-о! Словно это горячий виллакуский жеребец пробудился к жизни из далекого детства Эвелины и хозяйская дочь, пользуясь случаем, гонит так, что ветер свистит в ушах.
Лео вылавливает из овсяного поля девчушек, опять он держит две крохотные теплые ручонки — и он, Лео, не должен угаснуть в их детской памяти. Какие честолюбивые эти взрослые, какие они ревнивые. Он уводит девчушек на край болота.
Вовек не пошел бы туда один. Там в каждой пяди земли лежат воспоминания, словно археологические находки, того и гляди вылезут на поверхность. Может быть, дети защитят его от боли утраты?
Он же способен о них лишь позаботиться, проследить, чтобы никто из них не разбил носа, не сбил палец на ноге и не сел на пастбище на чертополох. Столь ограничены возможности взрослого и так велика у детей сила радостного порыва.
Они идут по заросшей дороге в сторону Нижней Россы. Лео знает, что хуторских построек там больше нет. После смерти матери Лео в доме с продавленной крышей поселились какие-то бродяги, пока не сожгли жилище. Об этом Лео рассказал Вильмут. А также о том, что Эвелина свезла к себе на дрова оставшиеся подсобные постройки. По старой памяти Нижняя Росса принадлежала хутору Виллаку, и совершенно естественно, что бывшее фамильное добро теперь возвернулось долей дров.
Девочки не жаловались на усталость и мужественно тащились рядом с Лео. Может, они унаследовали эту энергичность от своей бабушки Эрики?
Скоро они выйдут к болоту. Потом усядутся на траву во дворе бывшего хутора Нижняя Росса, послушают, как шумят вековые вязы и ясени, в старину летом в доме струился зеленоватый свет. Мать все жаловалась, что деревья слишком разрослись и не пропускают света, только вечернее солнце и заглядывало со стороны болота, не то бы в их жилье завелась сырость.
Лео остановился, оторопев от незнакомого вида.
Из окружающих подворье вековых исполинов не сохранилось ни одного дерева. С выгона можно было разглядеть дома в поселке. Полжизни прожившему тут Лео и в голову не приходило, что казавшийся дальним поселок может быть с подворья виден как на ладони.
Против воли Лео направился в сторону провалившегося колодезного сруба.
Напрасно он сюда пришел. Изменившийся до неузнаваемости ландшафт дышал на него холодом.
Магистральная канава была проложена вплотную у подворья. Лео предоставил детей самим себе и взобрался на насыпь, походил туда-сюда, топча торфяную крошку и комья глины, и уставился на дно канавы, словно бы выискивая там что-то. Что он надеялся увидеть? В канаве струилась мутная вода, местами обнажались уступы плитняка. Наконец-то раскопали тайну здешней земли. Пусть отступят легенды, порожденные таинственностью болота. Канаву провели недавно, откосы не успели еще зарасти сорняком. Видимо, вскорости будет готова и дренажная сеть, болото вспашут, поля засеют, удобрят с самолета, чтобы плодоносили. Кости тщедушного Ильмара осядут где-нибудь поблизости от болотного островка еще глубже в бездонную трясину, последние составные части его разложившегося тела будут вместе с водой вынесены по дренам далеко отсюда, и столь же скоро развеется и память о нем.
Лео показалось, что он прожил на свете уже целую вечность. Как странно, он все еще существует. Наверное, в тысячный раз стоит он здесь, на краю болота, сейчас, правда, на бровке только что прорытой магистральной канавы, вдавив каблуки в комья глины. Вновь он стал соучастником очередной перемены. Той родимой стороны, того края, во имя которого гибли его школьные товарищи, уже и в помине нет.
«Это — мое!»
«Это — мое!»
Лео спустился с насыпи, побрел по давно не кошенной траве бывшего подворья и направился к девочкам. Обе выбрали себе по здоровому пню и забрались на них. Стоят, будто на полу, и радуются, что сразу стали выше и видят далеко. Они поднимаются на цыпочки — пусть огляд будет еще шире, — обнаруживают куцую колокольню церкви и указывают на нее пальцем.
На закате солнца машина Лео снова покачивается в Долине духов. Три сестры жмутся на заднем сиденье, на переднем сложены подарки, банка меда и мотки пряжи, их Эвелина принесла в последний момент; затем закрыла ворота, положила руки на обруч и посмотрела вслед удаляющейся машине.
Изнуряюще долго сидели они за столом, за компанию женщины одолели и бутылку вина. Детей между тем уложили спать, потом пили чай, пока гости тоже не устали и не начали собираться домой.
За столом Эвелина сама вела разговор — родственникам можно было довериться, — а сестры все кивали. Да они и не умели говорить столь громко, чтобы Эвелина услышала их. Зато, когда машина тронулась, принялись тараторить так, будто хотели расквитаться за навязанное им молчание.
Лео понял, что разговоры, которые женщины вели между собой на кухне, теперь повторяются для его ушей.
— Эвелина сказала, что денег у нее навалом, дети не будут ни в чем нуждаться.
— Деньги-то у нее, может и есть, только они не заменят детям семьи.
— Они еще маленькие, не понимают, чего лишены.
— Сейчас, летом, еще ничего, страшно подумать, что они станут делать там в долгую темную осень.
— А случись, заболеет Эвелина?
— Хоть криком кричи, никто не услышит.
— Окрест ни души.
— Того и гляди, дети и в развитии отстанут.
— Телевизора и радио Эвелина тоже не признает.
— Я ей посоветовала, так она только рукой махнула и сказала, чего это зря мелькать будет.
— У меня мурашки побежали по спине, когда Эвелина сказала, что, уходя на работу, запирает детей на замок.
— Почему?
— Боится, вдруг свалятся в колодец.
— А если у них в руках окажутся спички?
— Да уж лучше и не говори.
— И зачем было Хелле рожать детей, если они ей не нужны.
— Видно, лень было что-то делать, будь что будет.
— Но сейчас у Эвелины хоть смысл жизни появился.
— Забот больше, чем прежде.
— Но она не жаловалась и Хелле тоже не поносила.
— И Вильмут в Виллаку носа не показывает.
— Чего уже там Вильмут!
— Ему бы только гусли, бутылка да бабы. Вольный казак.
— Не станет Вильмут беспокоиться о Хелле и ее малютках.
— Он никогда не был привязан к Хелле.
— Так она вовсе и не его дочь.
— Мог бы все же быть поучастливее.
Эти фразы, как ножи, вонзались Лео в спину.
Он удержался, чтобы не выпалить какую-нибудь грубость. Смотри, какие умные! Все разложили по полочкам, знают в точности, что каждый должен делать, чего не делать. Какие у кого обязанности. А сами-то они умели жить? Повисли между небом и землей, сбились с испугу в кучку, поселились в старом доме. Теперь думают, что оправились от ударов судьбы, могут самоуверенно поучать других. Пусть копаются в собственном прошлом да сожалеют о своих ошибках.
Но на это они ни за что не осмелятся.
16
Лео решил внушить себе, что нельзя взваливать на свои плечи все земные горести. Две маленькие девочки, две внучки, не будут счастливее или несчастнее, если он начнет болеть душой за их судьбу. Они вообще ничего не знают о своем происхождении, о прошлом и будущем; все общие и абстрактные понятия еще надолго останутся в кругу осязаемого: еда, сон, игры. Нет у них еще сожаления об ушедшем и печали о будущем. Они никогда не слышали шума вековых деревьев на хуторе Нижняя Росса, их восторг вызвали большие пни, на которых можно было попрыгать.
В старину предков и потомков связывали крепкие узы. Самое малое приходилось делить, и кров и еду, родители помогали детям стать на ноги, о чувстве благодарности никто никогда не смел забывать; теперь всяк улетает туда, куда хочет, и никто никого не попрекает куском хлеба. Лишь сестры, живущие праздно, пекутся о своем происхождении, да и то ради собственной забавы и успокоения души, чтобы не изводить себя мыслями о приближающейся старости. Просто восхитительно! Обнаружили свежего родственника. А раньше им было до Лео дело? Теперь щебечут об общей прародительнице. Все-то им известно наверняка. Стояли небось со свечами в руках и все подмечали. Какой-нибудь болтун в родне, может, и в старину без конца судил-рядил о прижитом Йонасом сыне, так все для того, чтобы порассуждать о власти хутора над человеком: из-за хутора Росса хозяйский сын не смог жениться на бедной девушке. Не так просто было распутать чужие тайны. Возникали тысячи препятствий, притом непредвиденных.
Йонас не взял Лео под свое крыло, и отцом для него стал другой человек. То же самое повторилось и с ребенком Лео: Хелле родилась в семье Вильмута. В свою очередь детей Хелле растит Эвелина, которая вообще не является им родственницей по крови. Это не мешает ей любить Яану и Мерике. Главное, пусть другие не суются, неосторожное слово способно посеять отчуждение. Разве все это не отражает углубляющегося демократизма человеческих отношений? Или это просто распущенность и упадок нравов?
Бесполезно определять пути развития человеческих взаимоотношений, у каждого своя колокольня, и угол зрения перекошен.
Может, поэтому в пожилом возрасте жизнь и становится столь трудно переносимой, что прежние простые истины, помогавшие раньше отыскивать в запутанном ребусе жизни четкие контуры, со временем становятся все более смехотворными. Быстротечное изменение пути жизненных явлений то и дело порождает неразбериху, попробуй тут сориентироваться в буреломе человеческих взаимоотношений.
В последний раз Лео видел Хелле много лет тому назад на ее свадьбе. Девушка только что отпраздновала совершеннолетие и могла тут же выскочить замуж. Эрика устроила дочери пышную свадьбу, как водится в деревне, о вместимости помещений не задумывались, часть гостей рассадили в саду за сколоченным на скорую руку столом, а гости все валили, запахи разносились, слова взлетали ракетами и гасли в общем шуме; без конца кто-то сновал на кухню и обратно, носил еду, представлял гостей, дарил подарки, оттаптывал ноги, кто-то пролезал за чьей-то спиной — Лео чувствовал себя в этом кавардаке лишним. Нелла не поехала — оно и лучше, — хотя в обществе жены было бы естественнее отстраниться от этого клокочущего суетливого котла, чтобы поговорить и подождать, пока всем найдут места и воцарятся хоть какая-то ясность и порядок. Лео не оставалось ничего другого, как бродить, позволять толкать себя, перекидываться случайными фразами; когда он попытался было завести разговор с Вильмутом, тот лишь развел руками. Вильмут важно разносил кружки с пивом, сам постоянно в пенных усах; тут же он присаживался на приступок крыльца и принимался наигрывать на гуслях. На свадьбе все время должно было что-то происходить.
Лео топтался на дворе посреди людской толпы, заложив руки за спину, оглядывался по сторонам и удивлялся: смотри-ка, моя дочь выходит замуж, а поздравляют-то все Вильмута. Собрались какие-то чужие люди — чьи это знакомые? Чьи родственники? Лишь одна Эвелина служила неким мостом между Лео и другими гостями. Эвелину украшал большой, в кружевах и сборках, передник, она таскала блюда из дома во двор, суетившиеся люди невольно толкали ее, иногда от толчков дюжая Эвелина покачивалась, однако не сердилась на бесцеремонность. Лицо ее как-то помолодело и просветлело, время от времени она останавливалась, опускала руки, вытягивала шею и выискивала среди скопления людей невесту. Хелле парила то тут, то там, Эвелина не уставала следить за ней. Когда невесте случалось оказаться поблизости, на лице Эвелины появлялось умиление, от полноты чувства она готова была разразиться слезами. Но Эвелина сдерживала себя, хотя казалось, что она всерьез борется с подступающим потоком слез. И все же она не отказывалась искушать судьбу, сопереживая чужому счастью, она словно бы наслаждалась своим душевным трепетом.
Следуя Эвелине, и Лео начал следить за Хелле. Его поразила ее непринужденность, граничащая с легкомыслием. То и дело она чмокала в щеку кого-нибудь из мужчин, ей хотелось быть в центре внимания. Она словно бы подчеркивала, что празднество устроено только ради нее. Жених оставался и вовсе в тени, он понуро бродил по задворкам, давая себя толкать, пихать и наведывался к тестю тянуть из кружки пиво. Чем больше Лео наблюдал молодую пару, тем более странным казалось ему их решение пожениться. Стеснительного вида парень выглядел моложе невесты, хотя и успел уже пройти военную службу и обрести профессию сварщика. Вильмут гордо объявил: у зятя в общежитии гостиничного типа есть комната, во всех отношениях самостоятельный и преуспевающий в жизни человек. И все равно он в чем-то еще оставался ребенком, краснел до ушей, когда счастливая невеста кого-нибудь обнимала или, подхватив подол платья, пускалась пританцовывать среди гостей. Кто кого сосватал? Хелле без конца кокетничала: позванивала тоненькими браслетами на запястье, длинная фата развевалась. Когда с поздравлениями являлись новые гости, Хелле все же не забывала про своего новоиспеченного спутника жизни; продираясь сквозь толпу, она отыскивала жениха и тащила его за руку. Хелле действовала столь привычно, будто так и должно быть, что она ведет мужа туда, куда нужно.
Поздним вечером все притомились от еды и питья; посреди двора покачивалась на проводе электрическая лампочка под тарелочным абажуром, освещая прохаживающихся гостей. Все были очень разговорчивыми и нетерпеливыми: едва успевали образовываться группки, как тут же распадались. Какой-то молодой человек уселся под березой и тянул из аккордеона танцевальную музыку. Несколько пар уже принялись топтаться в освещенном электрической лампочкой кругу.
Лео побрел по подворью, огорченный своим дрянным настроением, водка не шла ему в глотку, а еда вызывала лишь отвращение. Вдруг он увидел светлую фигуру под яблоней; белая фигура застыла в странной позе — руки подняты вверх, тело откинуто назад. Боль пронзила Лео: что случилось с Хелле? Ничего, кроме пошлости. Густые сумерки скрывали одетого в черное рослого молодого человека, обнимавшего невесту.
Лео бросился к дому. Вдруг все показались ему оскверненными: он сам, Эрика, да и Хелле. Хелле, спустя годы, словно опозорила тот пронизывающий ноябрьский день и украденные ночи, когда Эрика и Лео принадлежали друг другу.
Лео искал Эвелину. Неуклюжая и глуповатая сестра Вильмута в этот момент казалась ему здесь, на свадьбе, единственным человеком, который не был оскверненным. Лео хотелось побыть немного в ее отсвете, чтобы собраться с духом.
Он не смог пробраться к Эвелине, хлопотавшей вместе с другими женщинами у плиты. Пьяный в стельку жених задержал Лео на пороге кухни. У парня между пальцами торчала рюмка, он, видимо, забыл, что держит ее вместо сигареты; размахивая рюмкой, он встал перед Лео и во что бы то ни стало решил поговорить.
— Скажи, что ты думаешь о моей невесте?
Лео молчал и ждал, пока тот отпустит его пуговицу.
— Да нет, ты скажи, — канючил новоиспеченный муж.
Лео посмотрел в его грустные глаза и оторопел: уж не потому ли Хелле пристроилась к нему, что ожидала случайного ребенка?
Однако так просто жизненные круги не повторялись.
Под утро Лео собрался уходить, во дворе он столкнулся с Эрикой. В тот миг — единственный раз за многие десятилетия — Эрика вызвала у Лео неприязнь. Лео беспокойно ерзал и поглядывал на часы, показывая этим, что спешит на первый автобус. Эрика поняла, что Лео почему-то не в себе, это ее задело, и в глазах сверкнул недобрый огонек. У нее не было причины лебезить. Она сказала спокойно, даже безразлично:
— Я провожу тебя до дороги.
Они шли молча, пока Эрика не выпалила:
— Теперь можешь выбросить все из головы. Нет больше ребенка, есть замужняя женщина.
Лео не мог не понять, как многого хотела Эрика сказать этими словами.
Почему человек должен подчиняться своим настроениям! Почему он не способен вырвать себя из мутного водоворота данного момента, чтобы рассмотреть явление в более общем плане? Хорошо, Хелле замарала их с Эрикой. Но в чем виновата Эрика? В этот момент Эрика была ему не по нутру. Ну и что? Один горький миг и вся долгая жизнь, полная тайной тоски по Эрике. Может ли пылинка перевесить гору?
Как смел Лео забыть великодушие Эрики? Почему он не попытался войти в ее положение? Откуда брала Эрика силы быть неизменно благородной? Ни одного дурного намека за все эти годы, когда Лео влез в семью Вильмута и стал своим человеком. Может, Эрике было больно снова видеть Лео, но она выдержала. Как перенесла и многое другое. О разладе в ее семье Лео лишь догадывался. Во всяком случае, сосуд разочарований был переполнен.
Теперь Лео оставалось лишь сожалеть о своем молчании и безучастности.
Превыше всего блага и настроения собственного я! Когда-то время вынуждало все взвешивать, ради того чтобы выжить, можно было и поюлить. Но чем объяснить все позднейшее?
Уже невозможно высказать того, что осталось несказанным.
Очень долгое время Лео то реже, то чаще думал об Эрике. Многие годы Эрика как бы возвышалась над другими женщинами. Лео преданно любил ее, но в решающий момент оказывался не в состоянии выразить это. Миг грустной нежности, он бы согревал обоих до последнего вздоха; теперь он переживал надлом. В тот утренний час, когда они вдвоем медленно шли к шоссе, дул свежий предрассветный ветерок. Что мешало ему обнять Эрику, поцеловать ее натруженные руки, погладить по волосам. Теперь ему так недостает этого: они стоят с Эрикой рядом, держатся друг за друга, молчат. На небе гаснут теплые августовские звезды, солнце еще не взошло и не начался будний день с его заботами и привычками, принадлежностью кому-то или чему-то.
Нелепая свадебная пьянка и гомон остались где-то далеко позади; они могли бы вообразить себя на поляне своих желаний, которая была для других за семью замками. Это была бы утешительная остановка, перед тем как продолжить навязанный жизнью путь. Один период времени кончился, неистовый шторм далеко позади, они могли бы ощутить свое благородство: быть выше того, что было. Может, именно поэтому они ценят и берегут друг друга больше, чем когда-либо раньше. Если бы их осенила мысль: они всегда значили друг для друга невероятно много. Разве не здорово, если они это поймут? Немногие люди осенены подобным светлым пониманием. Скорее походя проживают жизнь. Все мимо, мимо, мимо. Куда?
Ожидание Эрики упиралось в отчужденность Лео. Иначе почему бы она, не доходя до дороги, безмолвно повернулась и, не попрощавшись, поспешила домой.
Почему Лео не побежал за ней?
Почему люди боятся в своей искренности показаться смешными себе и другим?
Ну почему он все-таки не побежал за Эрикой!
Почему он не сотворил прекрасного воспоминания для них обоих?
С того дня им больше всего нравились бы свежий ветер летнего утра и гаснущие звезды. Они оказались бы на кроху богаче: случается, что жизнь бывает милостива к человеку. Пусть хоть на мгновение.
Теперь можно было лишь представить несвершившееся, умозрительная картина — это бездушная тень, которая в недосягаемой дали ускользает прочь.
От свадьбы Хелле в памяти Лео осталась горстка мелочей. Будто он приехал туда для того, чтобы набраться чепухи и не увидеть главного. Почему-то он обратил внимание, что многие женщины носили отвратительные кольца с красными камнями. Поставленные возле двери березки стегали ветками по лицу, когда кто-нибудь входил в дом. Невеста совала подаренные цветы в ведро, стоявшее неподалеку от крыльца, и кто-то из мужчин не глядя бросил туда окурок. Глаза у Эрики были красные от бессонницы, и она все время моргала, будто хотела согнать песок усталости. Пиджак Вильмута был запачкан пивной пеной.
Почему память зафиксировала подобную дребедень?
Примерно на рождество — со свадьбы не прошло и полугода — Хелле позвонила Лео и скучающим голосом сказала, мол, мама просила передать, что она, Хелле, развелась с мужем. Не сошлись характерами. Разводу препятствий не чинили, детей у них не было. Слова Хелле прозвучали как-то заученно, на манер попугая; она обращалась к Лео на «вы», хотя ребенком говорила «ты», — отчуждение свойственно разведенной женщине.
— Могу ли я чем-нибудь помочь тебе? — спросил оторопевший Лео.
— Да нет, — почему-то рассмеялась Хелле. — Подумаешь, незадача! Работа и жилье у меня есть. Я не жалуюсь.
И положила трубку.
Для Лео так и осталось загадкой, почему Эрика велела Хелле позвонить ему. Возможно, за этим скрывался какой-то намек? Может, Эрика хотела сказать, мол, смотри, ты разбил мою жизнь, я была вынуждена выйти за Вильмута, с которым так и не ужилась: дома у нас то и дело собиралась гроза. Хелле вышла замуж, чтобы вырваться и вздохнуть свободнее. Теперь молодая девушка помечена. Разведенная. А в начале этого ряда стоишь ты.
После свадьбы Лео много лет не видел Хелле. Возможно, лишь мельком, прошлой зимой. Он не был в этом уверен. Машина остановилась перед светофором, люди валили мимо. Внимание Лео привлекла женщина в заячьем полушубке. Странно, он так и остался в сомнении, была это Хелле или нет. Лео проводил взглядом молодую женщину, он с таким напряжением следил за заячьим полушубком, что сидевшая рядом Нелла удивилась — кого это ты там увидел!
Глупо было признаваться, мол, знаешь, смотрю и думаю, уж не моя ли дочь там идет. Может, все-таки она? Мог ошибиться.
Нелла приняла бы это за неудачную шутку.
Лучше не увлекаться сомнительными шутками. Нелла знает, что у Лео — единственная наследница: их общая дочь Анне, хорошая, тихая девочка, рожденная в законном браке, которую отец и мать безумно любят и которая, в свою очередь, любит живую природу, особенно жучков.
Теперь груз тайн Лео в очередной раз потяжелел. Нелла не знает, что у него есть взрослая дочь, но еще меньше ей могло прийти в голову, что у ее мужа имеются две внучки.
Интересно, что бы Нелла предприняла, если бы однажды его тайна всплыла наружу. Этого не должно случиться.
О происхождении своего первенца Эрика никогда никому не заикалась. Это было видно по всему, прежде всего по отношению Вильмута и Хелле к Лео. Даже на смертном одре Эрика не смогла исповедаться. Ее нашли на обочине без сознания. В больнице она никого не узнавала и не произнесла ни одного вразумительного слова.
Как-то перед свадьбой Вильмут за глаза поносил Хелле, мол, крутит с парнями, того и гляди с пути собьется, в подоле принесет дите, возьмет пример с матери.
Вообще-то Вильмут старался быть справедливым и не отделял Хелле от сыновей. Под пьяную руку, правда, забывал благородные принципы равенства, сомнения всплывали и терзали его. Странное дело, но чем дольше они с Эрикой жили, тем более ревнивым он становился. Выпивая по ночам с Лео, Вильмут вспоминал лесных братьев, и, хотя он, случалось, даже пускал по ним слезу, в душе его в то же время начинало что-то вскипать. От его жалости до ярости был всего один шаг. Он размахивал кулаком и ругался, что, если бы он встретил того, кто наделил Эрику ребенком, он бы этой морде показал! Всякий раз Лео приходилось делать над собой усилие, чтобы остудить Вильмута, вразумить его и напомнить, что с мертвыми счеты не сводят. Успокоившись, Вильмут впивался остекленевшими глазами в стену и извиняюще бормотал: ладно, друзья и без того по-глупому сгинули, хорошо, если хоть после кого-то осталась на земле живая искорка. Нечего и мечтать, чтобы прожить свой век, не зная горестей. Добро уже то, что душа в теле осталась, подумать только, какие времена пришлось пережить.
В те серые ночи, когда Лео в компании Вильмута глушил водку, ему всегда становилось жалко связанных с поездкой хлопот и того, что глупо убивает время. Развеяться? Непринужденность и раскованность, о чем он мечтал в городе — ничего подобного. Неужели смена одного отчаяния другим и есть обновление в сегодняшнем понимании?
Конечно, пьяная хандра Вильмута, его взрывы озлобленности и непонятная ревность были просто отвратительны. Чем старше Вильмут становился, тем чаще он приходил от вина в ярость, в прошлом, под хмельком, он, бывало, бренчал на гуслях и болтал чепуху.
Иногда Вильмут представлялся Лео просто мерзким, и все равно его снова неудержимо влекло наведаться к другу. Увидеть мельком Эрику? Она с полночи уходила на ферму и возвращалась поздно вечером.
Зачем он только лез в семью Вильмута? Наслаждаться своим страданием? Копаться в себе?
Ведь он жил в городе пристойной и трезвой жизнью, у него жена и дочь.
Наверное, чего-то в его жизни не хватало.
Теперь Лео очутился в старой усадьбе, под покровительством трех сестер, однако и в солнечном покое этого дома ему не удалось найти удовлетворение. Снова и снова он перебирал свои отношения с Вильмутом, покойной Эрикой, внебрачной дочерью Хелле, а теперь еще и с ее детьми.
Может, Лео в своем сознании просто раздувает мыльный пузырь?
Возможно, правы были те, кто связывал происхождение Хелле со сгинувшими лесными братьями.
Глуша с Вильмутом водку и следя за его озлоблением, Лео всегда со страхом думал, что стойкость друга начала опасно сдавать. Вильмут частенько прикладывался к горькой, надо думать, что не в одиночестве, — чего он там мог наплести при других?
Может, и сам Лео тоже не помнит, что лопочет под пьяную руку.
Сейчас уже, в общем, не боялись говорить о прошлом. Быть может, Вильмут настолько ослаб духом, что однажды возьмет и брякнет где-нибудь за выпивкой, а вы знаете, когда мы в сорок первом взяли с Лео винтовки и подались на виллакуское дальнее пастбище…
Будь проклят этот миг в их жизни!
Сотни раз Лео внушал Вильмуту: есть вещи, о которых до самого смертного часа и пикнуть нельзя.
Не все были такими стойкими, как Эрика.
На следующий год после свадьбы Хелле и ее развода, Эрика присутствовала в качестве свидетельницы на судебном процессе, наделавшем много шуму. Не подтверждалось утешение, что время залечивает все раны.
В августе сорок пятого лесные братья провели наглую вылазку в поселок. Учинили настоящий разбой. На втором этаже магазина убили семью заведующего кооперативной лавкой — сам он, правда, был тяжело ранен, его потом вернули к жизни. Разграбили дочиста магазин, подожгли сельсовет, а уполномоченного милиции, выбежавшего из своей квартиры, просто изрешетили из автомата. Того самого, не знавшего эстонского языка русского парня, который без лишних расспросов подмахивал удостоверяющие личность документы, — не одна подозрительная личность восстанавливалась в правах с его помощью. За добро и раньше платили злом.
Эрика обладала способностью всегда оказываться свидетельницей потрясающих событий.
Вот и на этот раз. Около полуночи она возвращалась через поселок домой с какой-то свадьбы и не думала, что ей придется рассказывать об этом на суде спустя почти четверть столетия. Бандиты знали о свадьбе, воспользовались тем, что туда сошлось полсела. Подходящий момент для вылазки — люди далеко, гуляют где-то на гумне, уши оглохли от музыки, а сами разомлели от самогона.
Эрика тогда была еще девчонкой, только этим и можно было объяснить, что она послушно, ближе к полуночи, поплелась домой. Другая бы со страху бросилась бежать, но Эрика не испугалась, осталась стоять на месте. Пули бояться не умела. Или же стрельба и для нее была обычным явлением.
Сразу после случившегося она могла и не знать, что наблюдала за убийством и поджогом. Когда ее стали расспрашивать, ответила, что было темно и она никого не узнала. Столько-то у нее разума хватило, чтобы никого не называть, иначе и ей бы скоро пришел конец. В тот раз история на том и кончилась. Лесные братья на какое-то время исчезли из окрестностей Медной деревни, даже бункер на болотном острове пустовал. Неизвестно, в каких далеких пущах они прятались во время участившихся облав. Явно старались замести следы, через два месяца снова повторили вылазку, на этот раз напали на магазин в другом поселке и там убили семью заведующего, но это произошло в соседнем уезде, и у властей должно было создаться впечатление, что действует бродячая банда.
Прошло более двадцати лет, когда оставшийся в живых заведующий кооперативной лавкой случайно столкнулся с одним из бандитов. Лесной брат за это время сменил имя и жил среди людей верноподданной жизнью. Но ниточка отыскалась, и старую историю вытащили на свет божий.
Тогда-то Эрика и стала свидетельницей на судебном процессе. Несколько раз ездила в город. Вильмут упоминал об этом в письме к Лео; видать, снова заволновался и почувствовал страх. И у Лео захолонуло под сердцем, но он не стал поджидать Эрику у дверей суда и узнавать, что и как. И без того было ясно, что уж теперь начнут перебирать людей в их краях, изучат жизненный путь каждого человека, при расследовании деталей того налета может всплыть и другое.
В те напряженные дни Лео не хотел попадаться на глаза Эрике; лучше, если она забудет о его существовании, пусть минует смутное время. И все же они нечаянно встретились, чуть было не столкнулись на людной улице, не было возможности увильнуть в сторону. Не было даже кепки на голове, чтобы приподнять и вежливо прошагать дальше. И без того было неловко, что Лео никогда не приглашал Вильмута и Эрику к себе переночевать, хотя сам жил у них иногда по неделям. Нелла, понятно, не терпела Вильмута. Глупейшего положения Лео не мог себе и представить: он спит возле Неллы, а в другой комнате, за тонкой панельной стенкой, лежит Эрика. Если уж сойти с ума, то именно в таком случае.
Так что для Лео его дом оставался вроде бы крепостью.
Они с Эрикой свернули с главной улицы и пошли в маленький зеленый скверик между домами, где прохаживались взад и вперед по короткой, покрытой кирпичной крошкой дорожке.
Лео ни о чем не осмеливался расспрашивать. Будто разбиравшееся на процессе дело и не касалось родного края и знакомых людей.
И у Эрики не было настроения говорить.
— Многие не могут сейчас спокойно спать. Да и ты, наверное, тоже, — сказала она устало.
Лео кивнул и поспешил заверить:
— В то время я был уже в городе, и Вильмут тоже.
— Ну, конечно, — вяло усмехнулась Эрика. — Странно, о мертвых принято говорить хорошее. Я же на суде говорю о покойниках и только плохое. Ни одного живого я не тронула. Но когда я закрываю за собой тяжелые двери, выхожу на улицу и оказываюсь в людском потоке, то с ужасом думаю, что у этих мертвецов остались родственники. Чего не видела, о том не говорю, ничего не солгала, другое дело, что оставила при себе. И все равно такое чувство, будто я измызгалась в луже перед свинарником.
17
На свете нет ничего ранимее человека и ничего более хрупкого, чем человеческие взаимоотношения. Лишь в детстве, когда сознание пребывает еще в мире фантазии и беззаботности, можно верить, что чья-то судьба подобна идеально отшлифованному шару, который катится в заданном промежутке времени по жизненному ландшафту, чтобы в какой-то миг навсегда исчезнуть за горизонтом. В действительности нет ни начала, ни конца. Человек не помнит своего рождения, и едва ли он сознает свой последний вздох. Умерший человек лишь физически покидает мир, его личность еще долго излучает свой свет, влияет на деяния и умонастроения окружавших его людей, позволяет им использовать его опыт в ситуации собственного выбора. Небесное тело еще долго продолжает светиться после своего угасания.
Так же и Эрика.
В последние годы Вильмут говорит о ней больше, чем когда-либо раньше. Когда она была жива, о ее существовании иногда можно было просто и забыть.
Жизнь Эрики давала повод для воспоминаний, зачастую ее поступки оставались для других непонятными, у ее внутренней пружины были какие-то особые витки; первозданная женственность и острый ум поразительно переплетались в ней, и все же у ее несколько неясной натуры был нержавеющий, отливающий прозрачной синевой стержень. Он помогал ей держаться своей линии, иначе как бы смогла она вопреки всему плохому, что причинили ей Лео и Вильмут, не предать их обоих. Ярость не возникает там, где царит равнодушие. В отношении Лео и Вильмута Эрика никогда не была безучастной, это было бы невозможно, Хелле — дочь Лео, двое сыновей от Вильмута; именно из-за этих болезненных связей ее возмужание в какой-нибудь кризисный момент должно было прорваться неимоверным взрывом. Лео десятки лет боялся этого, да, пожалуй, и Вильмут, но лишь временами, поскольку его открытая натура позволяла ему отмахнуться от всего и забыться, особенно если на горизонте появлялись какие-нибудь соблазны.
Будучи человеком, который в продолжение своей сознательной жизни лишь планировал и проектировал и привык полагаться на исходные данные и конечные результаты, Лео пытался и человеческие отношения замкнуть в какие-то воображаемые контуры. Глупость, конечно. Если сравнивать соединяющие людей нити с паутиной, то последняя плетется просто из конопляных веревок. И все же вряд ли кто способен разбрасываться в своих чувствах — от одного порыва к другому, — к чему тогда вообще разум? Всякие рассуждения о душевных невзгодах, в глубине которых бушуют темные силы, казались Лео противными. Спасательный круг для поверхностных и бесхребетных людей: оттуда-то, из темной расщелины протягиваются извивающиеся щупальца, хватают жертву и толкают ее от одного необъяснимого поступка к другому. Потом человек может с легким сердцем и не утруждая себя угрызениями совести воскликнуть: и почему это именно со мной должно было так случиться?
Нормальный человек вменяем. В неразрешимых ситуациях мало пользы от бездонных душевных пропастей. Удерживаться на плаву человеку помогают смелость и хитрость либо же предосторожность и робость.
После похорон отца Вильмута Лео совершенно сознательно искал возможности избежать удручающего одиночества, угрызений совести и снедающей тоски по Эрике. Он хотел, чтобы кто-то занял место Эрики, — это был бы выход. Спустя годы выяснилось, что такая надежда была с самого начала обречена: никогда никто не занял место Эрики. Другие женщины, которые на короткое или более продолжительное время сближались с ним, испуганно шарахнулись бы от него, если бы узнали, что в мыслях Лео они не обрели равнозначного места с Эрикой, лишь их доступность и реальность унимали его великую тоску.
Лео оторопел от такой мысли: едва ли все это можно положить на чаши весов. Возможно, теперь, задним числом, его привязанность к Эрике становится фанатичнее, воображение может оказаться ярче действительности. Ведь и другие женщины кое-что значили для него. Особенно Нелла. Словно какой-то крайне необходимый для существования элемент, отсутствие которого вызывало бы трудно переносимые сбои.
В свое время и Айли не была пустым местом.
Эту женщину он знал даже дольше, чем взрослую Эрику, не говоря о Нелле. Хотя уже давно не желал о ней ничего знать.
Айли вроде была рядом уже тогда, когда ранней весной сорок четвертого года Лео бежал в Финляндию.
После принудительной мобилизации, которую объявили немцы, жизнь стала адом. В сорок первом появилось понятие: лесной брат; впоследствии было удобно объявлять себя лесовиком и бродить по лесам — на всякий случай, — чтобы увиливать от работ и забот. В холодное время все забирались в теплое гнездышко под родной кров. Когда немцы обнародовали свой приказ, лесные сеновалы снова стали убежищем, туда пробирались по сугробам, в овчинных шубах и в валенках: неуклюжие фигуры, которые вновь должны были обрести чутье и сноровку лесного зверя. Вообще над головой сразу повисла темная туча: повсюду шныряла немецкая полевая жандармерия, люди перестали доверять друг другу, боялись предательства — мало ли было хозяйских сынков, которые еще совсем недавно у себя на хуторе в чистых комнатах выпивали с немцами и устраивали гулянки, а с грамофонных пластинок неслась песенка про Лили Марлен.
Вдруг кто-нибудь из них стал доносчиком?
Так и бродили в одиночку, боялись чужой тени, они с Вильмутом все же держались вместе, по крайней мере можно было соснуть. И добывать еду легче было вдвоем, женщины с того и другого хутора приносили съестное на условленное место.
Вдруг прошел слух, что в соседней волости жандармы схватили в лесу двух мужиков и на месте расстреляли. От этой вести захолонуло сердце. И все же им с Вильмутом и в голову не приходило идти в немецкую армию, истинные патриоты отказывались становиться под чужое ружье.
Благодаря хлопотам и стараниям женщин, к тому же за большую цену — на хуторе Виллаку и на Нижней Россе резали свиней и обращали мясо в царские золотые десятирублевки, — их взяли на каменистом мысу северного побережья в лодку. Начался путь среди ледяного крошева в Финляндию. В перегруженную лодку набилось с десяток человек, и каждому приходилось жилиться за двоих, чтобы живыми перебраться на другой берег. Мотор отказал, льдины шли на таран лодки, просачивалась вода, к тому же темнота накинула мешок неведения, — к счастью, никто богу душу не отдал.
Среди других в лодке находился также Рауль, брат Айли. Может, он назвал имя Айли, а может, и нет. Во всяком случае, когда он отпихивал багром льдины — темная фигура на носу лодки, с развевающимися на ветру полами пальто, — он страшно ругался и орал сквозь шум, что взял у сестры золотое кольцо на дорожные расходы и вовсе не собирается со всеми потрохами идти ко дну.
Так он подбадривал себя и других.
В Финляндии они держались уже втроем — Рауль, Вильмут и Лео.
Еду делили по-братски, поддерживали взаимно волю к жизни, а когда снова оказались перед очередным выбором, вместе поддались кампании — ну черт возьми, или мы не мужчины! — защищать родину и сели в Ханко на пароход. Правда, они не торопились брать в руки оружие и вернулись в Эстонию в числе последних. Но и они прошли строем по пыльной дороге и горланили песни, как настоящие вояки.
И раньше сомнения спасали людей. Многие из тех, так же, как они, входили в состав 200-го пехотного полка и вскорости сложили на реке Эмайыги свои головы.
Они не торопились хвататься за горячее и втроем дали деру, сбежали из военного лагеря в Мяннику — заводилой был Рауль, который жил поблизости и обещал спрятать друзей, пока не прокатится война.
Вот тогда-то Лео впервые и встретился с сестрой Рауля Айли.
Девушка словно ждала беглецов, чтобы спрятать и заботиться о них. Она с ходу поняла, что надо делать. Потащила парней в прачечную, приволокла туда кучу одежды, натаскала из поленницы дров, отыскала банные шайки и ковши, велела мундиры тут же сжечь, отмыться от копоти боев и натянуть на себя мирные тряпки. Звучало смешно: мирные тряпки. Однако издалека доносился орудийный гром, и повсюду распространялся резкий смрад пожаров. И все же начиненная надеждами Айли верила, что сейчас, вот теперь, в одну из мягких августовских ночей, должна начаться новая жизнь; едва ли она представляла себе — какая.
Она явно гордилась своей миссией — спасать от смерти людей. Когда шли войны, всегда были в ходу высокие слова и восклицательные знаки, надо думать, что и Айли загорелась, и ей теперь представилась возможность проявить себя сильной и находчивой.
Предприимчивости ей было не занимать.
Переговорив с одинокими старыми людьми, жившими в Нымме на тихой дальней улочке, Айли пристроила каждого спасенного молодого человека в надежном месте. Лео поместили в подполье полуразваленного павильона, в заросшем сорняком и кустарником саду.
Даже самый пронырливый шпик не смог бы догадаться, что в развалюхе, с истлевшей крышей и выбитыми стеклами, под скрипучими половицами находится прекрасный каменный, обшитый досками, подвал, просторный, сухой и чистый. Лео дали ватный матрац, серое солдатское одеяло и подушку от софы и предоставили отсыпаться за все свои бессонные ночи.
Днем Лео разрешалось открывать люк и читать. Айли принесла ему довоенные журналы, пожелтевшая бумага крошилась по краям; Лео читал любовные истории о графах и красавицах и с легкой грустью думал, что его детство и школьные годы остались очень далеко, за огненной стеной. В вечерней темноте Айли приносила скудную еду: сухари, подслащенный сахарином чай в термосе, иногда немного луковых перьев и пару морковок — можно было удержать душу в теле. Лишь после полуночи Лео мог выбираться ненадолго из своего убежища, чтобы размять ноги и воспользоваться упрятанной за кустами сирени уборной.
Всякий раз, когда Айли открывала люк, чтобы спуститься по лестнице в подвал, Лео охватывало неприятное возбуждение. Айли не уставала ждать, ее посещения все удлинялись, может, возник азарт: неужто не сломает сопротивление этой дубины? Если бы в эти безмолвные мгновения блеснул свет, Айли увидела бы мертвенно-бледного и оцепеневшего Лео, на лице которого отражалось глубокое страдание.
Лео даже начал побаиваться приходов Айли. Он не умел выказывать благодарность — было бы уместно одаривать комплиментами и рассказывать веселые байки. Ему бы следовало подогревать ее благосклонное отношение, ведь девушка была избавительницей, Лео находился от нее в зависимости.
Он оказался не в состоянии избавиться от своей скованности. На ее вопросы Лео отвечал односложно, ловил в собственном голосе отчуждение, невольно намекал, чтобы она шла скорее своей дорогой.
Лео внушал себе, что он не совсем нормальный, так поступать с благодетельницей неприлично. Однако преодолеть себя не мог. Темный подвал способствовал рождению воображаемых сцен: сумрачные стены были покрыты непристойными изображениями греховной жизни Айли. Несчетные дезертиры в разных темных норах. Айли по очереди ходит ко всем с сухарями и сладковатым чаем. Никто из мужчин от нее не отказывается, седлают с большой охотой, но Айли никак не может насытиться, ей нужен еще Лео. Когда она приходила, он пытался уловить запахи других мужчин, и в голове начинало шуметь.
Лео отдавал себе отчет, что продолжительная изоляция осложнила его восприятие, однако сознание этого ничего не меняло: все равно появление Айли оставалось для него мукой. Возникали странные рефлексы: стоило Айли, в охотку болтая, шмякнуться рядом с ним на ватный матрас — движения девушки становились все более вызывающими, — и Лео охватывало непреодолимое желание броситься за кусты сирени в туалет.
Наконец настал час избавления. Айли открыла люк и крикнула в подвал, что русские танки вошли по Нарвскому шоссе в город. Казалось невероятным вылезти на свет, слезы так и потекли ручьем.
Вечером они по-человечески сидели в квартире за обеденным столом. Мать Айли опустила на окнах светомаскировку и поставила посреди стола свечу. После воображаемых картин было странно видеть на стенах вполне пристойные, вставленные в рамки картины: пейзажи, цветы, натюрморты. За стеклом в шкафу стояли в ряд книги; сердце Лео почему-то заколотилось, когда он подумал: может, на них лежит еще довоенная пыль. Удивительно, этой квартиры словно бы и не коснулась война, ничто не было запущено: на полу лежал ковер и стол украшали красивые чашки; из хрустальной сахарницы серебряными щипцами брали таблетки сахарина и клали в злаковый кофе. Праздник так праздник. Все смеялись, болтали наперебой, отведали ягодное вино и немецкий эрзац-коньяк, и ни у кого не было желания задумываться о будущем, Лео старался быть дружелюбным и благодарным, целовал ручку Айли и матери, произнес прочувствованную застольную речь, изображал великосветского юнца из выпускного класса довоенной гимназии. Обе женщины с одобрением смотрели на него. Захмелевший и опьяненный избавлением Лео просто блистал остроумием.
Проспав день, они с Вильмутом на следующий вечер отправились в путь. Они заверили любезное семейство в своей непреходящей благодарности, пообещали сделать для них все, если они — избави бог — попадут в беду. В один голос пригласили на отдых в деревню — это вышедшее из обихода слово прозвучало смешно, — но ведь можно было надеяться, что жизнь опять потихоньку войдет в прежнюю колею.
В этот миг они словно бы забыли о разрушениях, человеческой бесприютности, разобщенности семей, об убитых, раненых и о том, что война еще далеко не закончилась.
Известно, что благодарность — это такой груз, от которого стараются как можно скорее избавиться.
Когда они осенью того же года спешно покинули Медную деревню и обосновались в городе, они уже не соблаговолили навестить милую семью. Их с нею и случай не свел. Да ведь всех и не оделишь поклонами, кто в трудные времена протянул тебе руку помощи. Может, они с Вильмутом и не думали столь цинично, скорее ими руководило желание похоронить свое прошлое; разумнее было обрезать нити, связывавшие их с ним.
Жизнь надо было прожить, приходилось держать нос по ветру и подлаживаться к тому, что есть.
В те времена Лео изо всех сил старался влиться в новую обстановку, был занят в основном заботами о хлебе насущном. Как прекрасно уравновешивает человека подстегивающая его забота о хлебе насущном! Как легко преодолимы и другие скромные заботы: чтобы в холод была теплая одежда, имелось бы жилье, куда прийти и уронить на постель уставшее тело.
В те дни Лео не приходилось сетовать на приспособляемость; его организм и в особенности мозг еще не подавали признаков износа, ему удавалось довольно хорошо ориентироваться в повседневной суете. В те времена, пожалуй, легче жилось тем, у кого не было знакомых, друзей и родственников. Человек существует ровно в том умножении, в сознании скольких людей сохранились сведения о нем. Чем более чужой ты был среди людей, тем безопаснее. В те времена кое-кто пользовался сведениями из чужого прошлого, словно козырной картой, и если не хватало порядочности и на первый план всплывала личная выгода или жажда мести, то эти сведения использовались во зло. Поэтому Лео вместо друзей и приятелей предпочитал шапочное знакомство; кивок был, пожалуй, самым безопасным способом общения.
Оставался лишь один неразлучный друг Вильмут.
Постепенно Лео привык быть замкнутым и неразговорчивым.
Иногда по вечерам, когда он, до смерти усталый, заваливался на кровать, ему перед сном представлялся тот, другой, довоенный Лео. Он частенько катил на велосипеде в поселок, в народном доме именно он становился в любом деле незаменимым заводилой или, по крайней мере, рьяным участником. Может, и он содействовал тому — запасшись гимназическими примерами, — что примитивность сельских гулянок понемногу стала меняться; кроме танцев до упаду, запевок и гармошки нашлось и нечто другое, не столь отталкивающе пошлое. По инициативе Лео стали декламировать стихи известных поэтов, возник и мужской квартет, раза два удалось поставить одноактные пьесы и даже, к всеобщему изумлению, устроили бал-маскарад.
Задним числом, конечно, трудно определить побудительные мотивы собственной ретивости. Возможно, ему хотелось покрасоваться перед девушками, может, сказывался просто молодой задор, пришлась по душе и возможность покомандовать сынками богатых хозяев. Его происхождение оставалось сомнительным, и жил он на арендном хуторе — приходилось чем-то восполнять свои минусы. Его признавали равным среди равных — в их зажиточном краю (маленькая Дания) почитали просвещенность, а откровенных неучей можно было перечесть по пальцам одной руки, — и никто не проявлял зависти, когда Лео стал верховодить. В целой волости он почитай что со всеми был знаком.
Когда уставший до смерти работяга валился на кровать и возвращался в мыслях к прошлому, его будто окатывало мутной волной: воспоминание о прежних временах вызывало одновременно сожаление и горечь. Он как-то еще острее чувствовал суровость нового жизненного настроя, который диктовал: ты и не хочешь никого допускать в свое окружение.
А дома, на Нижней Россе, валялись альбомы, на картонных листах множество фотографий: в зале народного дома стояли или сидели организаторы очередной вечеринки, и всегда Лео находился в центре. Милые все люди: опрятные, хорошо одетые — стройные девушки и юноши. Старательно отпечатанные с пластинок снимки были словно бы сделаны для воспроизведения в будущей книге по истории.
Чем дальше отодвигалась предвоенная юность и чем больше накапливалось бездумно отрубленных дней, тем чаще Лео ловил себя на том, что испытывает к прошлому какую-то смутную враждебность: его обманули. Подогреваемый в гимназии патриотический настрой сейчас годился разве что кошке под хвост. На школьной скамье им вдалбливали, что каждому найдется достойное место под солнцем родины. Главное: усердие, предприимчивость, верность идеям и дружелюбие по отношению к согражданам. Эти поучения попросту отпечатались в сознании, он жаждал жить гармонично. Он пытался с легкостью воспринять даже самое болезненное событие того времени — уход отца вместе с Юллой. Он не хотел ожесточаться, становиться колючим. Самоуверенно внушал матери, что они и без отца сумеют держать хутор в порядке и дальше будут жить зажиточно и беззаботно. Тоже мне утешение! Он старался смягчить горе матери: решил поступить в университет. Тогда, с высоты своей молодости, ему казалось, что женщине средних лет и не нужно другого счастья, кроме как сознавать: из сына выйдет ученый муж.
Но тут жизнь полетела вверх тормашками. Большая война гремела еще где-то вдалеке, а болезненная и коварная братоубийственная война уже шла на месте. Идейность, устремленность — курам на смех. Внезапно он словно бы поглупел. У поколения Лео отсутствовал опыт войны. Власти всегда играли именно на чувствительных душевных струнах молодежи, чтобы формировать из них простаков-подданных. Ведь и Гитлер пользовался этим иезуитским методом при впрыскивании фанатизма. Однобокое гимназическое воспитание не давало и малейшей опоры. Им следовало бы внушать скепсис и объективистский настрой. Тогда бы они не поверили простодушно, что милая, маленькая отчизна — это тихое озеро, на поверхности которого вечно суждено цвести белым кувшинкам.
Лео провели за нос. Не его одного.
Вот так и появились мрачные, немногословные люди, с недоверием относившиеся к своим ближним.
Замкнуться в себе — в этом виделась возможность выживания.
Вполне закономерно, что они с Вильмутом забыли об Айли, Рауле и их матери. Дьявол их знает! Пусть выкарабкиваются на свой страх.
Тогда Лео еще не успел понять, что в жизни приходится за все платить. Едва ли он, собственно, был способен радоваться даже тому, что миновал войну благополучно: в здравом уме и руки-ноги при нем.
18
Снова солнце склонилось к закату, половина отпуска у Лео осталась позади.
Он неспособен был прикинуть резервы своих сил и не знал, восстановлено ли то, что было исчерпано нервной городской жизнью, или нет. Во всяком случае, сейчас он был измучен и вконец вымотан. Спина ныла, руки отваливались — зато над крышей господского дома белела новая труба и Лео, опершись спиной о клен, мог любоваться ею.
Утром из поселка пришли три старика, уселись во дворе на траву, закурили и принялись разглядывать усадьбу. Оказалось, что сестры наняли их ремонтировать дом. Услышав об этом, Лео без долгих слов принялся сворачивать себе из газеты шапочку. Сестры пришли в ужас, замахали руками, боже упаси, они об этом вовсе и не думали; пусть Лео отдыхает, для него натянули в саду гамак, пусть загорает, подремлет, отдохнет, делает, что хочет; они ничем не хотят обременять своего дорогого гостя. В свое оправдание указывали на ясное небо, сейчас вот вёдро стоит, скоро могут зарядить дожди, а крышу надо обязательно залатать, да и труба наполовину развалилась, пожаром грозит. Заодно они хотят вернуть гостиной прежний вид. Эти нелепые, расчленяющие помещение перегородки и вовсе излишни, их следует убрать.
В начале отпуска, составляя план дома, Лео объяснил сестрам, что великолепное помещение испорчено позднейшими перестройками; его слова, видимо, запали обитательницам дома в душу. Теперь созрело решение: пусть все будет в соответствии с давнишним проектом, пусть исчезнут ненужные перегородки. Хорошо и то, когда кто-то уважает идею архитектора.
Лео не стал спорить с сестрами. Черт их знает, пускай себе лелеют иллюзии, что сфера их обитания все еще должна раздвигаться и расширяться. Пусть верят в свои силы, в будущее и во что угодно. Но чтобы зимой никого не ругали, когда из окон в торцовой стене начнет задувать холодный ветер и уже не будет защитных перегородок, которые не давали бы печному теплу так быстро улетучиваться.
Может, им все равно, как дом станет хранить тепло. Сейчас легко похваляться, небось, как пойдут осенние дожди, тут же сбегут назад в город. И молодым-то трудно менять свой жизненный уклад, не выйдет из трех пожилых горожанок деревенских жителей. Пусть верят, что и им передалась выносливость мощной прародительницы Явы, в действительности же в последующих поколениях вся эта мощь растворилась и развеялась по ветру, распродана по крохам за блага цивилизации.
В сравнении с матерью Мильдой так же жалок и ее отпрыск Лео.
Старики, поселковые пенсионеры, — не из любопытства ли они и взялись за ремонт? — во всяком случае показали себя усердными работягами. Двое из них решили заняться внутренними работами, третий, самый худой, должен был приняться за крышу. Ему-то в напарники Лео и напросился. Вокруг изъеденной дымом, ветром и дождем полуразвалившейся трубы они установили леса, потом развели в ящике раствор, отобрали в сарае кирпичи покрепче, отточили полотно печницкого молотка, и работа пошла. Им тоже пришлось сперва заняться разборкой, остатки старой трубы они покидали вниз. Потом мастер уселся на леса, а Лео пришлось слезать с крыши на землю и взбираться обратно. Он затащил наверх кирпичи, то и дело подтаскивал ведром раствор, разыскал по указанию старика куски жести и смастерил из них козырек для споро поднимавшейся трубы. Старик напевал себе под нос и хвалился, что хорошо сложенная труба продержится лет пятьдесят, не меньше.
Теперь, когда рабочий день кончился, труба была возведена и леса убраны, Лео увидел, что мастер не очень-то усердно работал с отвесом, новенькая с иголочки труба стояла, чуть покосившись, будто наклоняясь против ветра, натянув на лоб кепку.
У оживленных сестер не было ни времени, ни желания замечать эту небольшую промашку. Уставшие от работы, разморенные ужином и рюмкой водки пенсионеры нетвердой походкой отправились домой; сестры продолжали хлопотать. Одетые в выцветшие от стирки халаты, в перчатках, в туго повязанных косынках, они убирались в доме и выносили остатки перегородок, Лео оценил их практическую смекалку; доски складывались под стрехой сарая, старые обои, макулатуру и опилки они снесли в кучу посреди двора и подожгли. Вызванное необходимостью сжигание мусора на самом деле превратилось в любование костром: сестры принесли себе скамеечки, сидели, смотрели на пламя, на дым и на угли. Все молчали. Можно было думать о прошлом и будущем, может, кто-то из них пришел к мысли, что от вчерашнего к сегодняшнему перекинуты шаткие мостки, идешь по ним и каждый раз, когда прогибается доска, осознаешь себя во временном пространстве, и то, что осталось позади, собственно, никуда не исчезает, а придает напряженность дальнейшему продвижению.
Теперь Лео мог снова вытянуться на скрипучей софе в мансардной комнатушке, от костра во дворе осталась куча золы, под ней скрытый жар. И все равно казалось, что он продолжает идти по мосткам. Закат угас, навстречу Лео наползал густой туман, впереди светились мутные огоньки; он идет к своему звездному творению, каменному кораблю. Он ласково называл это здание морской скрипкой.
Как много лет тому назад это было! Свое фантастическое сооружение Лео взялся проектировать как-то спонтанно. Сперва все было как бы шутки ради, он забавлял себя набросками; человек скептического умонастроения, получивший реальное образование, он относил это к области детских забав. И все же первоначальное пренебрежительное отношение вскоре рассеялось. Эскизы на бумаге словно бы выжигали из него иронию, контуры будущего здания становились какими-то самонадеянными и властными, в них проявился упрямый характер. Иногда Лео испуганно вскакивал из-за стола, отступал, утыкался спиной в стену — никуда ты не убежишь! — со страхом в душе смотрел на чертежные листы с расстояния: неужели возможно, чтобы плод моей собственной фантазии начал повелевать мной и подгонять меня!
Проект развивался дальше как в его воображении, так и на бумаге. Он все разрастался, требовал все большего места в мыслях и на рабочем столе. Снятые с кульмана и свернутые в рулон чертежные листы занимали чуть ли не полкомнаты; из расплывчатых контуров фантазии начал вырисовываться определенный образ — входящее в воду бетонное здание походило в некотором роде на скрипку, одновременно это был гигантского объема каменный корабль. В обтекаемой и штормоустойчивой наружной оболочке укрывалось многоэтажное здание, разделенное на большие и малые помещения, бездну коридоров, тоннелей, искусственных ландшафтов: откосы со стекающими по ним струями воды, наклоненные плоскости, низины с прудами, через которые были перекинуты миниатюрные сводчатые мосты. Среднюю часть строения составлял самый существенный акцент каменного корабля — не разделенное этажами пространство; ниспадающий из гигантского решета искусственный водопад — с параллельно падающими струйками, — рядом, на тросах повисли рестораны-гондолы, на фоне выступающих из бетонной стены морских раковин, где располагались оркестры.
Вдохновенно трудясь над проектом каменного корабля, его создатель все более детально разрабатывал его: виды, сечения, конфигурации и функции помещений. Прежде всего Лео приводила в трепет оригинальность здания, причудливость его привязки, железобетонное строение уходило в морской залив, с сушей его соединял гибкий висячий мост: гриф скрипки опирался на береговые скалы. Позднее Лео начал обосновывать концепцию здания, он сочинил защитную речь — неизвестно только, перед кем ее произносить? Он говорил о человеческой страсти к поиску — даже ночью во сне он размахивал руками и убеждал скептиков, — всякое мыслящее существо ощущает порой необходимость вырваться из угловатых объемов обыденной жизни, освободиться от душевных стереотипов; обитая в переменчивой среде, где на чувства воздействуют все новые импульсы, его мозг ищет живительной освежающей струи. Лео рассказывал воображаемым оппонентам, что один лишь путь в морскую скрипку создает у человека благоприятное настроение: пенные брызги под висячим мостом, впереди вырисовывается темная таинственная масса обтекаемого здания. Щекочет нервы ощущение неопределенной опасности и сладостное любопытство: уходящее в воду каменное здание — как только оно не погрузится в бездну волн? Из условных акустических отверстий условной скрипки на переходный этаж ведут широкие пандусы, оттуда лестницы опускаются в глубину. По пути с палубы каменного корабля, — разумеется, у строения не было крыши, подвала и этажей в традиционном представлении — к середине здания освещение коридоров имитировало цвета спектра, холодные тона переходили в более теплые. Будто опускаешься в ад: иллюзорный тепловой эффект разрушает падающая сверху распыленная струя, брызги остужают пылающее лицо достигшего глубины здания человека. Вверху, вблизи так называемых акустических отверстий, выступают над морем многоступенчатые смотровые балконы.
Побродив по палубе каменного корабля и побывав внутри его, человек может в самой нижней части здания любоваться сквозь стеклянное окно в полу морским дном. Правда, в северных водах нет коралловых рифов и мельтешащих радужных рыбок, но даже салака в своей естественной среде является достопримечательностью. Почему бы не собрать за стеклом приметы прошлых времен: штевень засыпанного песком судна викингов, кожух мины первой мировой и торпеды второй мировой войны. Морская скрипка должна была вызывать у человека перемежающиеся душевные состояния, пронизываемые светящимися пунктирами, переброшенными во мрак минувшего, они освещали забытые мгновения, что-то давно утраченное снова становилось горьковато-щемящим, родным и близким; снова в сознании всплывали ощущения детства, предполагавшего, что мир потрясающе увлекателен. Огромное разнообразие каменного корабля понуждало встрепенуться и озариться, волшебство здания помогало человеку возродить способность заглянуть в самого себя, эмоциональный процесс тонизирующе действовал на душу.
Естественно, концепция Лео не была чем-то потрясающе новым — создатели культовых зданий прошлого также опирались на учитывающие психологические факторы моменты; разнились цели: вместо кротости и покорности — самообретение.
Чем отчетливее и детальнее вырисовывался проект уходящего в море бетонного здания, тем больше Лео верил в возможность его осуществления — в техническом смысле, к тому времени в мире успели распространиться оболочные конструкции и предварительно напряженный железобетон. Имена Фрейсине, Дишингера и Нерви были известны и в здешних краях. Будто намеренно Лео вытравил из сознания свое тогдашнее убогое житье и невеселую действительность. С войны прошло еще не так много времени, правда, груды развалин в основном уже исчезли, однако из приглаженной земли тут и там выступали остатки бывших фундаментов — будто знаки погибших миров. Лео верил, что любая архитектурная форма является замкнутой системой, обособленной вселенной. Люди жили в изнуряющей тесноте, немало еще ног топтало скрипучие лестницы запущенных посадских деревянных домов, и уже вовсе недосягаемым казался достаток, который позволил бы строить громадные и с прагматической точки зрения бесполезные здания. Хотя и говорилось о величии времени, о колоссальных успехах поступательного движения, в подтверждение этих звонких лозунгов были возведены лишь отдельные до смехотворного помпезные дома. Эти украшенные завитушками каменные ящики, несмотря ни на что, выполняли какие-то функции: в жалкие, плохо освещенные громады можно было вместить и самую необходимую для человеческого жилья мебель, и конторские столы для служащих, складывавших цифры и составлявших отчеты.
Лео пытался увлечь воображаемых оппонентов концепцией, лежавшей в основе его проекта, но за спиной сомневающихся в его идее коллег стояли конструкторы и строители, — может быть, самые земные среди реалистов люди, — на чьих посеревших от забот лицах появлялись окаймленные никотиново-желтыми зубами провалы — взрыв хохота — плывущее бетонное здание!
Лео освоил профессию архитектора в то время, когда наряду со способностью архитектора к внешнему оформлению и внутренней разбивке здания существенно ценились также инженерные знания, поэтому в пространных выкладках он доказывал реальность конструктивной части своего проекта и составил строительно-методическую экспликацию. Он оговорил особые, относящиеся к разным этапам строительства условия, для бетонирования оболочки здания он предложил оригинальный вариант, в котором нашли применение кессоны, понтоны и даже ледовая обстановка. Принцип анкерного закрепления здания объясняли специальные чертежи, были точно определены даже сечения тросов висящего массива, соединяющего строения с берегом; никакой шторм и никакое обледенение не могли их оборвать. Системы водообмена в фонтанах и прудах были дублированы, насосы защищены шлюзовыми камерами, при отключении электричества было предусмотрено аварийное освещение.
Три года жизни отдал Лео своему объемному и оригинальному проекту. В это время все другое было несущественным или относительно несущественным, во всяком случае, настолько второстепенным, что утром требовалось усилие, чтобы сконцентрироваться на выполнении намеченных на этот день служебных обязанностей.
Однако совсем другой человек за океаном воплотил в жизнь идею Лео.
Одно лишь воспоминание о пережитом творческом упоении было бесценным духовным богатством. Забывались моменты депрессии и приступы скепсиса, когда разум злобно издевался над созданным. Немногим выпадает счастье испытать свой звездный час а также простирающуюся через годы неослабную душевную привязанность. Лео мог констатировать: я лишился столь многого, я ничем существенным в своей жизни не был обделен. Эрика и морская скрипка — было бы грешно желать себе большего.
И сейчас еще через него перекатывалось пьянящее эхо тех мгновений, слабое остаточное колебание того далекого потрясения, которое докатилось через безбрежный океан. И Лео и его каменный корабль содрогнулись, бутылочно-зеленая волна накатилась на иллюминаторы и с шумом схлынула, иллюминаторы словно бы моргнули веками, чтобы освободиться от воды, которая замутила взгляд. Лео снова все ясно видел. Он шел с матерью по пандусу, они спускались по лестнице, дошли до основания каменного здания; пахло скошенным клевером. Откуда-то пробивался солнечный свет, яркий луч упал на лицо матери. Она натянула на лоб платок, будто белый козырек, защищая глаза от слепящего солнца. Лео стоял в полутьме и ловил свет материнских глаз. Но Мильда не глядела на сына, она ласкала взглядом их знаменитого племенного быка Куку, купленного за немалые деньги. Не пошла прахом куча крон, это можно было прочесть по лицу матери. Окрестные люди решили улучшить племенной состав дойного стада, все жаждали молочных рек, которые, пенясь, должны были протечь в нержавеющие чаны молокозавода; бочки экспортного масла лишь катились в Таллинском порту в трюмы пароходов, кроны со звоном падали в кошельки прилежных хозяев. Клевер цвел и благоухал, пчелы гудели, и в глазах быка Куку отражались лица хозяек с натянутыми на лоб белыми платками. Много вмещалось их в глазах Куку, будто белые паруса в безбрежном морском просторе. Бык Куку очередной раз справился со своей задачей по улучшению породы; Мильда достала из кармана передника куриное яйцо, оно было нежно-коричневым, словно выдержано в отваре луковой шелухи. Бык вытянул голову, жировые складки на загорбке разгладились. Куку знал, что его ждало. Мильда продавила большим пальцем скорлупу, ловко сложила ладони чашечкой, из скорлупы вылился белок, и на его поверхности, будто бычий глаз, всплыл желток. Куку высунул язык и слизнул лакомство. Пустые половинки скорлупы упали на бетонный пол и с едва слышным хрустом разлетелись на осколки.
Куку было все равно, что там разбивалось или трескалось. Он стоял на своих крепких ногах, делал свое дело и ожидал вознаграждения — куриного яйца. Мало ли что о нем в округе рассказывали легенды и всякие непотребности. Ему было ни жарко ни холодно оттого, что его водили в уездный город на выставку, хотя дорога и была долгой, вели с кольцом в носу и привязывали к задку телеги, как простого бычка. Хозяйка шла следом, с прутиком в руках, ступала мягко, в шерстяных носках и в поршнях, в этой давно забытой обувке бедного люда; узелок с туфлями и люстриновым жакетом лежал под сиденьем в телеге.
У Лео сжалось сердце. Снова мать вела Куку по висячему мосту, они спускались в глубину морской скрипки; и опять благоухало клевером. В кармане передника у матери подскакивало яйцо. Но Мильда видела лишь Куку, своего любимца. Ей и дела не было до того, что кругом пластически обтекаемые стены, фонтаны, искусственные водопады, гондолы-рестораны и еще сотни прочих достопримечательностей: Куку был тем лесом, который застилал для матери остальной мир.
Лео раскидывал руки, ему не хватало воздуха. Вон там карабкается отец. Мать и его не замечает. Отец в чужой черной тройке, а на руке у него промокшее от морской воды и пропахшее солью пальто, в свободной руке он держит карманные часы, он их протягивает и предлагает всем встречным; он нуждается в кронах этой страны, потому что идет в носках, ботинки потерялись на пароходе, может, кто-то из заболевших морской болезнью в отчаянье выкинул их за борт. Следом за отцом ковыляет хнычущая Юлла. Ей стыдно, что отец вот так, в одних носках, сошел на землю королевства. И без того жизнь все время заставляла испытывать обидную неловкость и жгучий стыд, а теперь еще и отец, едва ступил на берег новой родины, как стал продавать карманные часы. Но никто не вышел из красных богатых домов, их ярко-белые оконные рамы, казалось, призывали к порядку, словно за стеклами грозили пальцами. Никто не желал менять кроны этой страны на отцовское сокровище.
Лео пытался помешать действиям своих родителей. Он хотел оторвать внимание матери от Куку, мучился от негодования в душе и от боли в теле; казалось невозможным свести вместе всех троих: отец плелся своим чередом, на лице фальшивая, смиренная улыбка. Он все еще протягивал свои серебряные часы, предприимчивый человек, он хотел немедленно почувствовать себя здесь, на этом берегу, уверенно, пока что он нуждался только в обуви, чтобы натянуть ее на прохудившиеся на гальке носки. Юлла безутешно плакала, в который уже раз она готова была провалиться от стыда сквозь землю. Мать и Куку уставились друг на друга, в выпученных глазах быка отражалось множество белых застывших парусов.
Лео проснулся.
Над ним висел темный потолок.
Очертания морской скрипки, место, где она находилась, открытое море — все дышало ночной сыростью и печалью.
Чертежи вершины творчества Лео до сих пор лежат свернутыми в футляре: ненужная история неродившейся архитектуры.
Лео не поделился своим потрясением с сестрой, даже не заикнулся о том, что он обнаружил в журнале в книжном магазине и что это значило для него. Фру Улла не поняла бы переживаний брата. Почему ты не послал вовремя свой проект в какую-нибудь фирму, которая строит увеселительные заведения! Успел бы опередить будущего конкурента, — пожалуй, простодушно удивилась бы она. Неужто не уразумел, что в бедных и разоренных уголках света редко строят звонницы и покрывают золотом купола! В конъюнктурных ситуациях и в рыночных изъянах необходимо мгновенно ориентироваться! Из-за неблагоприятных обстоятельств вовсе незачем губить талант.
Возможно, так бы она и принялась рассуждать.
Лео пожалел, что был с сестрой столь замкнутым.
Жизнь приучила его все взвешивать и до того, как открыть рот, задаваться вопросом: а есть ли в этом какой смысл?
К тому же фру Улла не отличалась особой разговорчивостью. Перед отъездом Лео она все-таки разок доверилась брату.
Отец был уже похоронен, а сестра все еще возвращалась в мыслях к покойному. Внешне самоуверенная фру Улла, запинаясь и подыскивая слова, призналась, что хотя о мертвых говорят только хорошее, она не может не вспомнить, как во время оккупации девчонкой собиралась убежать от отца и вернуться в деревню. Колебалась и вдруг устрашилась, что мать не примет ее, не сможет простить того, что она, Юлла, держалась отца и перебралась с ним в город. Она никогда ранее не чувствовала себя такой одинокой, как в то время, когда увидела, что отец отходит от нее, и боялась матери, которая могла упрекнуть ее в предательстве. Удивительно, она умела ходить на деревянных подошвах так, что они не стучали. Чтобы ходить мягко, ей приходилось так напрягаться, что на лбу прыгала челка. Все ее мышцы словно подрагивали, и мне казалось, что ее тело как-то непристойно вихляется. Когда она шла своим легким шагом, то смотрела только под ноги, но я знала, что она видит меня в прихожей, будто умела смотреть ушами или схватывать происходящее ртом и переваривать в мозгу.
Она проскальзывала в столярную мастерскую, дверь защелкивалась, и мне чудилось, что весь дом, затаив дыхание, ждет, когда заскрежещет в замке ключ, чтобы, вздохнув, сказать: ну, теперь пошел разврат. Я никогда не видела этого, но я знаю, что они валялись за верстаком на куче стружек. Когда отец поздним вечером входил в комнату, на плечах у него были мелкие витые стружки, будто ангельские завитки. В эти ужасные вечера я сидела в комнате, словно парализованная, книжка, которую я пыталась читать, то и дело падала на пол, иногда от напряжения начинала дрожать.
— Что же ты сторожила?
— Мне казалось, что вот-вот снизу, сквозь пол, прорвется пронзительный ликующий смех этой женщины. Этого никогда не случалось, и все равно я горела ожиданием. Этот раскатистый смех должен был замкнуть цепь предательства. Я ушла от матери, отец предал меня. Та женщина обманывала какого-нибудь хромоножку, который не мог побежать за ней, чтобы удержать ее. Я придумала этой женщине в мужья несчастного калеку, который, мучаясь ревностью, катается по полу и колотит тростью по ножкам стульев. Конечно, все это во время войны, у большинства женщин не было мужей.
— И чем эта история закончилась?
— До сих пор не знаю. Просто однажды вечером она не пришла в мастерскую. На второй и на третий вечер тоже. Так и отстала. Но беды мои на этом не кончились. Однажды, когда я вошла в мастерскую, я застала отца за полировкой больших гнутых спинок кровати, отделанных красным деревом. Я просто онемела. Красное дерево в то время было очень редким, конечно же этот материал сохранился еще с довоенной поры и мог использоваться лишь для особо важных заказов. Сердце у меня заколотилось. Я подумала, ну вот, теперь эта крадущаяся женщина потребовала себе кровать из красного дерева! В своем представлении я видела ее сидевшей, скрестив под собой ноги, на этой проклятой кровати красного дерева, плечи ее отражались и изгибались волнами на полированной поверхности, она показывала мне язык, красневший между перламутрово-белыми зубами, и вынимала из волос шпильки, светлая челка спадала на лоб, пряди налезали на глаза.
— Кому досталась эта кровать красного дерева?
— Одному немецкому полковнику.
Лео расхохотался.
Юлла сохранила прежнюю озабоченность.
— Теперь моя дочь уже в переходном возрасте, а я и понятия не имею, каким представляется ей взрослый мир. То ли она видит и воображает его таким же отвратительным или нынче дети другие?
Лео так и не узнал, почему фру Улла доверила ему свое детское переживание.
Морская скрипка была опрокинута, морская трава проросла сквозь бетон, свисала и опутывала Лео.
19
Со временем вечно заскорузлые от масла и грязи шоферские руки посветлели, на ладонях сгладились покрытые некогда роговым слоем мозоли, подушечки пальцев стали мягкими и приняли прежнюю форму; самой тяжелой ношей министерского служащего был полупустой, в гармошку портфель с металлическими уголками. Бывший неизменный головной убор, овчинная финская шапка, валялась невесть где. Лео давным-давно носил чуть набок модную велюровую шляпу. Вот такой городской господин однажды и очутился на одной дорожке с Айли.
Лео увидел, как она остановилась поодаль. С мгновение поколебавшись, Айли сделала несколько пританцовывающих шагов, впечатывая следы полукружьем в тротуар, будто собиралась возвести плотину.
Спустя годы Лео пришло на ум, что Айли, возможно, разузнала место его работы и, видимо, частенько прогуливалась по этой улице, лелея надежду с ним встретиться.
Тогда же, в октябрьских сгущающихся сумерках, под изморосью, Лео на одно мгновение, пожалуй, даже испытал чувство благодарности по отношению к судьбе, столь непринужденно устроившей ему эту встречу. Почему бы не возобновить старое знакомство? Минувшие обстоятельства вместе с зависимостью от спасительницы Айли ушли в далекое прошлое, едва ли их стоило даже припоминать, и все же сохранилось нечто объединяющее. У Лео все еще было мало знакомых, он сознательно ни с какой средой себя не связывал, однако жить неизменно, как древо божье, тоже становилось утомительным. И тут — на тебе вдруг, Айли! Тем более она вовсе не казалась навязчивой, скорее была застенчивой, робко протянула худую и прохладную руку. Насколько позволяли увидеть сумерки, щеки ее мило зарделись. Из-под шляпки смотрели грустные серые глаза, постепенно в них появился радостный блеск, — может, это она глянула в сторону зажженного неподалеку фонаря.
Чувствовалось, что из пошловатой некогда девчонки получилась кроткая и деликатная женщина.
Они зашли в кафе, уселись за маленьким круглым столиком, под люстрой со стеклянными висюльками; разглядывая на стеклянном покрытии стола отражение электрических лампочек, Лео вдруг понял, что он уже и не смог бы сидеть за громоздким хуторским обеденным столом. Странно было сознавать: он окончательно укоренился в городе.
Они болтали о разной чепухе. Айли и полусловом не обмолвилась о том, как Лео укрывался в подвале оранжереи. Их разговор был каким-то воздушным, будто легкая тень скользила по городскому пейзажу, не оставляя следа, навевая беззаботность, оркестр играл тихо и задумчиво — лишь задним числом человек понимает, насколько коварными бывают подобные мгновения.
Потом они гуляли по бульвару, Лео держал Айли под руку, она ступала легко и молчала, ничем не обременяла. Неожиданно она выпалила:
— А Рауля увели.
Лео почувствовал, как Айли вздрогнула от своего признания, будто сказала непозволительное. Лео охватили горечь и сожаление, а также чувство вины, на этот раз перед Айли. Элегантная велюровая шляпа, казалось, жгла кончики ушей. Другие страдают, он же всегда выходит сухим из воды. Под фонарем они остановились, Лео нагнулся к Айли, увидел в ее глазах слезы. Он обнял Айли, коснулся губами ее губ и погладил вздрагивающие плечи. В этот миг Айли была самым беззащитным существом. Лео хотелось отвести от хрупкой женщины земное зло. Его охватило смутное понимание того, что именно через Айли он сможет усмирить свою совесть. Он чувствовал спиной, что где-то за голыми деревьями, под изморосью стоят в ряд его школьные товарищи, те, что уже мертвы. Может, в отдалении ковыляли также и те, кто оставался в живых, хотя их, должно быть, осталось немного. Мертвые школьные товарищи стояли неподвижно, расставив ноги, скрестив на груди руки, натянув на глаза шапки, чтобы истлевшие лица не пугали случайных прохожих. И все же они выразили общее одобрение, когда Лео крепко прижал к себе худенькую Айли; сердце ее колотилось так, будто из-за пазухи вырвалась маленькая птичка.
Дождь пошел сильнее, он привел их в чувство. Схватившись за руки, они побежали напропалую через лужи, пока им не посчастливилось остановить такси. Всю дорогу Лео держал в ладонях руку Айли, пальцы ее постепенно отогрелись и перестали дрожать.
Перед домом Айли он попросил остановиться и сделал таксисту знак подождать. Распрощавшись с Айли, он постоял с мгновение молча, внутренне напрягшись. Айли не задала ни одного вопроса, возможно, именно это и восхитило Лео. Когда он вновь опустился на сиденье, ему захотелось петь; поведение Айли превзошло все его ожидания. Хотя глаза и вопрошали: может, еще, только где и когда, — она сумела промолчать, точно воды в рот набрала.
Добравшись до своей конуры и закинув на крючок промокшую шляпу, возбужденный Лео принялся ходить взад и вперед по тесной комнатке, остановился, постучал носком полуботинка по чемодану, угол которого выглядывал из-под койки, и беспричинно расхохотался, — возможно, все-таки не напрасно, — может, придется собирать манатки, чтобы уйти отсюда.
Когда Лео растянулся на кровати, бездумное опьянение начало отступать. Видимо, он произвел на Айли благоприятное впечатление: доверительный, непринужденный и готовый защитить. Он старался вести себя безупречно. Айли сейчас могла думать: Лео все эти годы хранит меня в своем сердце. Глупость! Можно ли делать выводы из мимолетных мгновений? А Эрика? Тоска не угасала. Не рассеивались терзания из-за того, что поддался сомнениям и не смог одолеть страха. Боль, правда, порой утихает, но лишь затем, чтобы снова набрать силу. К тому же было бы глупо полагать, что у Айли никого нет. Может, просто жалость к брату заставила ее снести объятья Лео. Встреча с Лео пробудила печальные отзвуки: Айли невольно вспомнила Рауля и мыслями своими вернулась в далекую девичью пору, когда она отважно прятала беглецов.
Очень возможно, что именно в эту минуту муж отчитывал Айли — где шлялась? А дитя в соседней комнате хнычет и зовет к себе мать.
Лео помрачнел. Он только что радовался, что Айли не пыталась его связать и ухватиться за него, — она и не хотела больше встречаться. Случайно проведенным вместе вечером все и ограничилось.
Судьба отплатила Лео за его трусость. Будто наяву подступила к нему Эрика, грустно усмехнулась, вытянула губы и прошептала: а я ведь считала тебя человеком. И была права. Лео так и суждено жить в одиночку, ведь ему уже за тридцать. В комнатушке царит дух запущенности. Ощущение какого-то временного пристанища. Так оно и есть, его свобода и независимость — сегодня золото, завтра сколото. Что там еще думать об этом? Одному хорошо есть, вдвоем хорошо спать. Жалким выглядело его существование. Не нужно было и света включать, чтобы увидеть на потолке желтое пятно, крыша протекала. Теснота отпечатывала на его теле синяки — он то и дело на что-то натыкался. Стул с отваливающейся спинкой, шаткий, с точеными ножками стол, вместо платяного шкафа — пятидюймовые гвозди в стене, будто уставленные в ряд зубья бороны: на углу плиты закопченная сковородка, и, наверное, он опять забыл помыть молочный бидончик.
Глупости! Какое все это имело значение! Почему его мысли приблудились к преходящему? Что взять с разрушенного города! Многие и вовсе жили в подвалах, где прежние мастерские и мелочные лавки были кое-как приспособлены под жилье. Или он выродился в мерзавца, что связывает в своих мыслях женщин с разными удобствами, которые они в состоянии ему предоставить! Уж не собирается ли он, как ленивый кот, разлеживаться на чужом диване!
Хотя они выпили в кафе всего по бокалу вина, Лео мучился так, словно страдал от гадкого самогонного похмелья.
В последующие недели Лео был охвачен сознанием собственного ничтожества, опять перед ним вставали невыносимые картины прошлого, ноябрьская темень и ветры то и дело подбивали его на борьбу с самим собой. Лео обдумывал разные возможности, но трясина его терпения никогда не затягивалась, вновь и вновь он проваливался в незамерзавшую топь и барахтался там. В голову лезла ерунда: съездить бы на два дня в Медную деревню, пробраться под покровом темноты на Нижнюю Россу, да так, чтобы никто не узнал о его приезде, подрыхнуть бы в комнате, послушать, как тикают старинные ходики, поесть бы с матерью за выскобленным добела столом поджаренной солонины, послушать ее сетования на подступающую старость, на костолом, на трудную колхозную жизнь — за работу дают горсть зерна и корзину картофеля. Мать поплакалась бы о своей милой скотине — прозябают впроголодь, без присмотра в колхозном хлеву. Опять бы услышал он о человеческой жестокости — дорогого Куку посчитали слишком старым, сказали, мол, нахлебники нам не нужны, и отвезли ценного племенного быка на бойню. Мать пожаловалась бы, что к руководству колхозом пробрались пьянчужки и загребалы, об улучшении жизни и думать нечего. Наверное, многие тревоги ее оправданы, но чем мог Лео ей помочь? Стало бы матери легче, если бы сын провалялся пару дней на кровати, покрытой полосатым одеялом! Если бы мать спросила, что ты, сын, там, в городе, делаешь, он бы ответил: сижу за столом, пишу бумаги, подсчитываю, провожу экспертизу. Мать кивнула бы и подумала: видно, за этими словами скрывается что-то очень плохое, — уж не кляузником ли стал ее сын?
Могла ли подобная встреча принести кому-либо из них облегчение?
Потом бы Лео побрел по сугробам Медной деревни, чтобы снова сесть на поезд, его продолжала бы грызть совесть: ни на волосок не облегчил он материнских забот. Брел бы по снегу и раздирался бы надвое: хоть бы Эрика встретилась по дороге — дай бог, чтобы не попалась на глаза! После похорон отца Вильмута Лео не видел Эрики. Из редких и коротких писем друга он узнал, что родилась Хелле, а вскорости подряд появились еще и двое сыновей — Пээт и Майдо.
Может, ему вообще стоит поехать в гости к старому другу? Вошел бы в дом с приветливой улыбкой на лице, возившиеся на полу ребятишки застыли бы на месте и уставились бы на него исподлобья. Эрика, Лилит и Эвелина улыбнулись бы и стали ободрять детей, мол, не бойтесь, это добрый городской дядя пришел к нам в гости. Потом Вильмут взял бы со шкафа гусли, сыграл бы что-нибудь, а Эрика все унимала бы теперь уже расшалившихся детей. И мать пришла бы на Виллаку с Нижней Россы, уселись бы все вместе и принялись бы обсуждать вселенские новости. В глазах у Эрики нет и капли враждебности, рожая детей, она забыла о прошлой мимолетной любовной истории, замужняя женщина стерла в своей памяти прошлый девичий пыл и свое легкомыслие.
Светлые и идиллические картинки, разыгрывавшиеся в воображении Лео, не достойны были даже иронии.
Вызывая перед глазами эти и подобные им вероятные сцены, Лео в очередной раз убедился, что он ни к кому не пристал. Хуже того, он начал бояться принадлежать к кому-либо. Так же, как и прежде, он и теперь завидовал Вильмуту, их судьба была во многом схожей, но вот гляди ж ты, Вильмут жил словно играючи. Ладил с лесными братьями и не попадал впросак с властями. Умел обходиться и с теми и с другими. Ни для кого бельмом на глазу не был, чтобы кто-то на него пожаловался и его сослали бы в далекие края. Казалось, Вильмут за один присест сумел отмыться в бане от всего. Отхлестался веником, окатился водой, смыл осклизлое прошлое и предстал перед своими домашними, а также перед всем остальным миром розовым и пышущим здоровьем. Ни у кого не вызывало сомнения, почему к такому хорошему и чистому парню все благоволят. Какой удивительной силой наделен Вильмут, что к нему не приставало зло?
По крайней мере, в то время Лео со стороны казалось, что Вильмуту все удается без малейшей запинки.
Перед Новым годом Лео опять встретился на улице с Айли. Она вся засветилась, ну не чудно ли, что они опять ненароком встретились. Протянув Лео руку, Айли сказала, что судьбу испытывать негоже, — пусть Лео придет к ним проводить старый год. Они с матерью были бы рады.
Они с матерью — Лео навострил уши, значит, Айли до сих пор одна. Лицо ее в этот миг было прекрасным: она от растерянности заморгала светлыми ресницами, милый вздернутый носик был старательно напудрен, чувственные губы слегка бантиком. Из-под широкополой, с цветочком из перьев шляпы на плечи ниспадали волнистые волосы. Чем не дама: в довоенной телячьей шубке, — видимо, доставшейся от матери, — и в новеньких ботиках на каблуке, а когда Айли поправляла под мышкой сумочку, Лео заметил ярко-белые кружевные перчатки.
И опять они сидели в полупустом кафе, под люстрой со стеклянными висюльками, слушали задумчивую музыку, пили вино и болтали о всякой всячине. Удивительно, правда, но это обычное тогда времяпрепровождение сейчас было приятно вспомнить, в душу вливался какой-то покой ушедших лет; город еще не начал разрастаться, у людей еще не было надобности и привычки штурмовать увеселительные заведения так, как средневековое войско осаждало вражескую крепость.
В последний день старого года, когда Лео собирался уже идти домой, у входа в министерство его остановила какая-то старая женщина, половину лица которой скрывал пушистый клетчатый платок. Лео вздрогнул — неужели какая-нибудь старушка из Медной деревни — и принялся изучать худенькую сгорбленную фигурку, просто утопавшую в обвислом пальто из черного сукна. Старушка таинственно шепнула, что пусть господин выслушает ее. Хотя Лео не знал старушку, он все же боялся плохих вестей. Кто ее послал? Эрика? Вильмут? Мать? Старушка дружелюбно улыбнулась, обнажив ярко-белые вставленные зубы, — неловко, что он ее не узнает.
И все-таки человек из родной деревни не назвал бы его господином. Поняв это, Лео постепенно успокоился. Он равнодушно взглянул на старушку, чтобы отмахнуться от нее и идти своей дорогой. Видимо, хочет что-то навязать, в то время по закоулкам и в подворотнях шныряли темные личности, занимаясь жалкой коммерцией. При появлении милиционера они разлетались, как воробьи. Однако старушка не предлагала пирогов, у нее был нежный, боявшийся мороза товар, и она указала господину на соседний дом, там в слабо освещенном гулком помещении, где провода были выдраны из штукатурки и на куче каменного крошева валялся моток кабеля, старушка принялась снимать с корзинки тряпку. Наконец она вытащила из мятой бумаги что-то продолговатое, освободила это нечто от одной, потом и от другой газеты, развернула шелковую бумагу и протянула Лео благоухающий, в крошечном глиняном горшочке, гиацинт.
Старушка смотрела на Лео сияющим взглядом, будто наворожила незнакомому мужчине одно из чудес света, возможно, это и был, учитывая эпоху и время года, почти что сказочный цветок — с изысканными декоративными растениями Лео не очень-то сталкивался: с полевыми цветами он был на «ты», знал пеларгонию, которая украшала подоконники жилых комнат на многих хуторах в Медной деревне.
Запах гиацинта словно бы соперничал с коридорной сыростью и тленом; Лео заплатил запрошенную цену, велел снова завернуть цветок в бумаги — и не пожалел.
Когда он вечером протянул Айли прямой, как штык, цветок с плотным соцветием, восторгу не было предела. Гиацинт не смотрелся бы в каморке Лео, зато в этой квартире был к месту.
Над белоснежной скатертью обеденного стола чуть слышно позванивали стеклянные трубочки абажура, они как просвечивающие карандашики свисали в несколько рядов, и обычная электрическая лампочка отсвечивалась в них перламутром.
Окна были завешаны толстыми гардинами, находившиеся в комнате люди отделены от остального мира как-то особенно надежно. Неужели его, Лео, снова укрывают и его пребывание здесь необходимо любой ценой сохранить в тайне? Может, он вообще вечный дезертир, на котором, по велению судьбы, незаметно и сама собой нарастает защитная оболочка, поскольку только в ней он и может сохраниться.
Они сидели за столом в обществе Айлиной матери, предлагали с подчеркнутой вежливостью друг другу закуски, пили из маленьких рюмочек холодную как лед водку и опять тихо беседовали о разных мелочах, избегая тем, которые хотя бы в малейшей степени затрагивали сложности жизни. Взгляд Лео задержался на стоявшем в полумраке книжном шкафу, там за стеклом он заметил фотографию двух молодых людей. В одном он вроде бы признал Рауля; однако о потерянном сыне в этот вечер разговора не было.
Казалось, все трое в одинаковой мере наслаждаются и мигом спокойствия, и своей тактичностью, большие горести они оставили за порогом. Растворявшиеся в полутьме стены создавали представление, что собравшиеся парят в безвоздушном пространстве, лишь ножи, вилки и рюмки были теми магнитами, которые удерживали их в реальности, белоснежный овал стола, как островок, объединял их.
После полуночи мать Айли встала из-за стола. Лео проводил ее взглядом. Возможно, хозяйка спешила куда-нибудь в гости? Навряд ли она вырядилась ради Лео: прическа, черное облегающее платье, на шее сверкало какое-то ожерелье. На лакированных каблучках отражался лучик света, задержавшись на миг на пороге, хозяйка нащупала на стене другой комнаты выключатель.
Лео тоже собрался было уходить, он уже изготовился по-великосветскому откланяться — вечер начался редкостным гиацинтом, достойным образом следовало и удалиться. Однако Айли звонко рассмеялась и сказала, что под новый год не подобает ложиться столь рано. Будет еще ликер и кофе.
И вот уже зазвенели чашечки на диванном столике, усевшись рядом, между подушек, они отпивали кофе и бесцветный ликер. Лео расслабился на мягком сиденье, отодвинулся от желтого света торшера и признался неожиданно даже для себя самого:
— Да мне и не хочется уходить.
Айли склонила голову к его плечу и прошептала:
— Ты и не должен уходить.
Может, лишь на мгновение Лео стало не по себе. Первоначальная строгая сдержанность и теперешний кошачий уют порывались отождествляться со сценами какого-то приторно-слащавого репарационного фильма.
Лео поморщился, закурил сигарету. Айли, видимо, уловила холодок, исходивший в этот момент от Лео; она сухо сказала:
— Такие, как мы, должны держаться друг друга.
Айли как бы отмела всю приторность.
Может, и она ощущает себя в этой жизни дезертиром? Вдруг ее тоже сковывает неспособность приспосабливания и собственная совесть? Что там у Айли за спиной? Неужто Лео для нее лишь средство, помогающее вырваться из мертвого круга?
Странной была их совместная жизнь с Айли.
В эти дни Лео часто просыпался на рассвете, чтобы в очередной раз спросить у себя: неужели я и впрямь останусь тут? С того нового года сомнения уже не покидали его: первое сомнение, пробудившееся наутро после свадебной ночи, стало повторяться и углубляться. Но в то утро Лео, не колеблясь, принял решение, перенес свой чемодан к Айли и признал ее дом своим. Можно было предположить, что его неустойчивость — явление временное, порожденное необычностью. Со временем вопрос, который он себе задавал, начал казаться смешным. Он жил у Айли уже год. Время бежало с невероятной быстротой. Минуло полных три года. Куда уж теперь? Несмотря на это, его порой парализовала мысль: тут я и останусь. Стоило этой мысли укорениться, как Лео охватывало какое-то необъяснимое чувство человека, втиснутого в клетку, хотя его ни в чем не стесняли и не пытались вершить над ним власть. Ему не на что было роптать. Айли не требовала официального оформления их отношений, хотя Лео и чувствовал, как она мучается из-за своего двойственного положения. Сам он тоже не знал, почему не спешит устраивать свою жизнь согласно всем правилам. В общем, они с Айли ладили — много ли вообще бывает браков, отличающихся страстной любовью!
Как-то среди товарищей по работе зашел разговор о тех, кто живет механически, потому что жить нужно, — их истинная суть осталась в предвоенной поре, когда они в последний раз вдыхали полной грудью. О таких обыкновенно говорили: бывшие люди. Лео напряженно слушал эти разговоры и чувствовал, как тело охватывает оцепенение, даже мышцы щек деревенели. Он не смог принять участие в беседе. Бывшие люди? Может, и сам он относится к числу бывших? Не мертвый ли покой царил и в квартире Айли, где к внешнему миру относились с вялым безразличием! Но разве Лео годился бы для другой среды? Что он сделал для того, чтобы пробудить к жизни бывших людей?
Возможно, представления его были обманчивыми, вытекали из какой-то неосознанной неудовлетворенности? Плохо, что его стала раздражать доверчивая обворожительность Айли, ее нежные слова, послушность во всем. Любит ли она его на самом деле? Или играет в любовь? Почему его вообще волновали проблемы искренности и фальши? Прежде всего ему следовало бы упрекнуть самого себя; к сожалению, человек обычно ищет причины собственных бед в других.
Изъян крылся в самом Лео, который, несмотря на продолжительную совместную жизнь, не стремился душевно слиться с Айли; он отдавался душевной лени, ограничивался страхом предположений и увязал в нем. И все время шарил в темноте, где-то очень близко находилась решетка воображаемой клетки. Он боролся с собственными мыслями, это было привычное состояние, оно требовало, возможно, меньшего напряжения, нежели слияние с другими. Достаточно было причислить Айли и ее мать к бывшим людям, объятым летаргическим сном. Классификация эта была произвольной, скорее он проецировал на других состояние собственной души. Айли и ее мать должны были принадлежать к ожесточившейся группе, ведь Рауля арестовали, — естественно, что у них засела заноза в сердце. Никогда никто не смирялся с несправедливостью, происшедшей по воле случая. Они могли думать: ведь Лео был с Раулем в одном пехотном полку, а вот поди же, ему дали возможность окончить советское высшее учебное заведение, направили на работу в министерство, будто его прошлое было чистым, как родник.
Разумеется, Айли и ее мать никогда не упоминали о том, какие грехи в действительности были на совести Рауля.
Может, они вовсе и не считали его спасение несправедливостью, возможно, представления Лео вскармливались просто иллюзиями. Наверное, Айли все же любила его. Ведь женщины относились к неразрешимым вопросам тех времен проще и теплее. Мать Айли когда-то сказала, что хорошо, если остался хоть кто-то из того жестоко прореженного поколения. Эти слова не были в устах матери Айли пустым звуком: в начале войны она потеряла младшего сына. Младший брат Рауля пошел в одиночку, и по собственной воле, навстречу приближавшимся немецким войскам. Где-то за городом он выстрелил из револьвера в немецкого мотоциклиста. С отчаянным юношей быстро покончили. Когда он ринулся из дома, его последними словами были: он должен выполнить долг эстонца перед своим отечеством. Тогда никто не предполагал, что он в слепой ярости, в одиночку, бросится в огонь. На следующий день мальчишки принесли матери Айли весть, что нашли труп ее сына. Город был охвачен густым дымом и пожарами, четкой линии фронта не было, тут и там возникали перестрелки, люди прятались. Айли пошла вместе с матерью, перед восходом солнца они направились с тележкой в указанное место, чтобы привезти мертвое тело. Рауля заперли в комнате, чтобы он в смутное время не показывался на людях. Последнего мужчину в их семье приходилось оберегать любой ценой.
Айли сбивчиво и как бы нехотя рассказывала, как они потом окольными улицами дотащили тележку. Прикрыла тело брата березовыми ветками и тряпьем, и все равно синие мухи гудели над ним. Только через три дня им удалось похоронить убитого. И были эти дни самыми долгими в их жизни.
Лео не мог утверждать, что Айли и ее мать жили в изоляции, чтобы исходить желчью на существующий строй в стенах собственной квартиры. Они не жаловались и не роптали, другое дело, что они думали про себя. Для Лео оставалось загадкой, откуда они черпали душевные силы. Единственное сетование, которое дошло до слуха Лео, было, пожалуй, замечание матери Айли, что жизнь заботами сточена. Но так мог сказать любой, кто пережил трудные времена.
Они не возводили стену между собой и миром: мать Айли занималась шитьем дамского платья, и к ним домой то и дело валили люди. Лео раздражали ее клиенты, хотя они и не лезли на ту половину квартиры, где проживает он с Айли. И все равно Лео выводило из себя, когда звонили в квартиру и разговаривали за стеной. Почему-то это мелькание людей усугубляло в Лео его ощущение клетки. Ему казалось, что любопытные женщины допытываются о зяте. Чем занимается, откуда родом? Неужто все еще не оформил брак? Лео представлял, как мать Айли в ответ на эти расспросы грустно качает головой.
Это изводило его.
Однажды Лео вошел в рабочую комнату Айлиной матери в тот самый момент, когда какая-то старая женщина примеряла пальто. Странно, что Лео не слышал звонка. Он хотел было с ходу повернуться и исчезнуть, но женщина оживилась, перестала смеяться и не обращала внимания на то, что приколотый к плечу булавками рукав сполз ей на руку.
— Боже мой, да это же Лео с Нижней Россы! — обрадовалась женщина.
Он оторопел. По его мнению, сморщенные старушки были все на одно лицо, и не мог взять в толк, с кем имеет дело.
— Молодые парни не замечают старых женщин, — приветливо хихикнула старуха, ее накрашенные губы, казалось, полоскались в воде. — В войну я каждое лето ходила туда на сенокос. В трудные времена Росса была для меня вторым домом, там меня всегда хорошо встречали. Им и не пристало указывать на дверь вдове сына Явы.
Мать Айли с интересом слушала, ее взгляд скользил от Лео к старухе и обратно.
— Я помню Лео еще ребенком, — старуха вытянула руку и показала рукой над самым полом. — На похоронах Явы Лео прибавил всей родне забот — пустил себе пулю в живот. Благодарение богу, счастье живет в несчастье, покойный Нестор, мой муж, вырезал у него эту пулю.
В голове у Лео загудело, он старался избегать насмешливого взгляда этой болтуньи, казалось, внутри его поместили яркую лампу. Превосходно помнившая все, старушка сейчас направит сноп света на Лео и известит Айлину мать обо всех его мыслях.
— В войну Лео шастал по лесу, было у него время смотреть, как бабы сено косят, — многозначительно заметила старуха.
Тут Лео пробурчал что-то вроде того, что очень приятно, и исчез за дверью.
В соседней комнате он готов был ухватить какой-нибудь предмет и разнести прутья стеснявшей его клетки. Старуха за стеной без конца бубнила, у нее было что рассказать Айлиной матери. Может, развесила у нее перед носом даже пеленки его — обо всем-то она знала. Лео был уверен, что если не сейчас, то позже вдова старого царского солдата припомнит еще много деталей, чтобы поведать о них в этом доме. Всех их продерут с песочком, россаского Йонаса и мать Лео; наверняка старуха знает и то, где обосновался отец Лео.
Созданная с помощью умолчания и уверток оболочка слетела с Лео.
Что еще можно знать о прошлом Лео вдове Нестора Нета?
После того случая Лео заметил, что Айли порой, улыбаясь, забывала отвести от него взгляд, и в ее глазах перемежались искаженные картины прошлой жизни мужа. Чего же ты стоишь, думал он.
Он чувствовал себя перед Айли оголенным, возможно, старуха задела и Эрику? Можно было не сомневаться, что и Вильмут с Ильмаром, и Эрнст не остались вне поля зрения старухи: время обрамило их с Лео в одну картину.
Мысли невольно упирались и в его самое больное место: может, старуха с оглядкой тихонько нашептала и о том, что произошло за виллакуским пастбищем летом того страшного сорок первого года?
Проклятье!
Человеку нигде нет спасенья.
Лео уже прикидывал, каким образом сбежать от Айли, — глядишь, посчастливится избавиться от бремени? Но не было у него сил сделать этот решающий шаг. Айли бы его не поняла. Как просто было прийти сюда: холодный новогодний день, падают снежинки, улицы безлюдны, люди отдыхают после праздников. Какое-то необычное чувство простора сопровождало Лео, когда он ступал по белоснежному ковру и снежинки разлетались как пух. Я перемещаюсь из одного пункта в другой, и это остается никем не замеченным, простодушно полагал он в тот раз. Он не знал, что добровольно открывает дверь, которая на многие годы словно бы заключит его в клетку.
Смирившись с клеткой, как с неизбежностью, Лео в какой-то мере прикипел сердцем к Айли. Быть снова одиноким, жить отшельником? Ему так хотелось принадлежать к кому-то; теперь он жил в семье. Все равно, боролся ли кто-нибудь из участников добровольного союза с неудовлетворенностью или нет, во всяком случае, то, что имелось, было лучше пустоты — взрослым людям смешно надеяться на совершенство.
Айлина мать выражала свое отношение просто: в доме мужчина.
Одна мысль о новой перемене в жизни изводила Лео.
Он чувствовал, как страдает Айли, выросшая в порядочной семье, она не хотела выглядеть в глазах людей сожительницей. И все же чутье ей подсказывало: не напирай, останешься и без этого. Так она и поступала из чувства такта, проявляя терпение и избегая прямолинейных вопросов: почему не женишься на мне и не хочешь иметь детей, кого же ты на самом деле любишь?
Глупая старуха, радуясь, что узнала Лео, и не в меру разболтавшись, огласила тихую квартиру звоном треснувшего предмета.
Однажды Лео пришла в голову спасительная мысль относительно возможности побега.
Он увидел во сне контуры каменного корабля. Они шли с Эрикой над морем по краю гигантского бетонного сооружения, руки у обоих были распростерты для равновесия, как у канатоходцев. Лео чувствовал сквозь сон, как стынут от холода руки и ноги. Он безумно боялся, что Эрика оступится и упадет в шумящее весеннее море, а раскачивающаяся на воде льдина навалится на нее. Эрика вела себя отчаянно, останавливалась, поднималась на цыпочки и выкидывала пируэты. Ветер трепал ее волосы и вырисовывал сквозь цветастое ситцевое платье ее тело. Время от времени хохотавшая Эрика оборачивалась к дрожавшему и оторопевшему Лео и кричала сквозь шум: не бойся, потому что я ничего не боюсь! Держись за меня, будешь жить смелее!
После этого сна Лео сам почувствовал себя кораблем, который отдал концы и выскользнул в море. Тектоника бетонного здания обретала в его воображении все более определенную форму. Восторг в нем сперва был неуверенным, будто звуки арфы, но порой ему слышались литавры. Лео удивлялся себе и открывал себя. Он не думал, что в нем обнаружится скрытое дарование. Он чувствовал, что стоит ему сейчас позволить своей идее увянуть, как что-то в нем окончательно рухнет. Опустошение и разорение лавиной пронеслось бы над ним, оставив после себя одни обломки. Эрика легким шагом шла впереди и призывно махала ему рукой. Они опускались в голом лесу на снег и поднимались с благоухавшего мха в глубине каменной скрипки, держа в руках голубой цветок перелески.
Лео не волновала бесперспективность его проекта.
Дух приобрел независимость, и Лео освободился от ощущения, что находится в клетке.
Три года он корпел над чертежами.
Айли существовала где-то рядом и не мешала ему. Она ходила на цыпочках, удивлялась творческому порыву мужа, была в эти годы к нему нежнее, чем когда-либо раньше.
Ей было невдомек, что Лео строит свой каменный корабль для Эрики.
20
Еще один отпускной день будет проведен с пользой, Лео догадался об этом утром, когда из зеленого тоннеля выехали поселковые пенсионеры, у каждого на раме видавших виды велосипедов инструменты, завернутые в оберточную бумагу.
Старики принялись за жилую комнату. После слома перегородок огромное помещение отзывалось на любой шаг и стук. Лео посчитал вполне естественным, что и он приложит руки, однако сестры опять недовольно зашумели. Они окружили Лео и принялись наперебой объяснять: у кого отпуск, тот пусть и отдыхает. У них не было на уме и малейшей корысти, когда они пригласили его к себе отдыхать. Какое у Лео останется впечатление, если его обратят в работника. Слова сыпались и сыпались в том же духе.
Если я не гожусь для ремонта, то могу что-нибудь строить, стоял на своем Лео. Ему доставляло удовольствие сломать женское сопротивление, и он объяснял им, что у него просто руки чешутся по работе: лучший отдых — это работа, которой не имеешь возможности заниматься повседневно.
Сестры утихомирились — пусть будет так, как он хочет, — и разрешили залить бетоном дорожку. Чтобы в осенние дожди можно было пройти к колодцу.
Лео забил колышки и натянул между ними веревки, заточив лопату, принялся выкапывать дерн с будущей дорожки.
Если ему удастся в последнюю отпускную неделю налечь на тяжелую работу, окрепнут мускулы, загорит спина, да и здесь останется после него полезный след. К тому же развеются ненужные мысли, для них просто не будет времени. Вечерами он забывался бы глубоким сном и не блуждал бы в дебрях минувшего.
До второго завтрака Лео удалось отвлечься от мыслей: он копал так, что тело покрылось испариной, установил боковые доски для заливки дорожки, отнивелировал их и поставил поперечины между будущими бетонными плитами.
Управившись с работой настолько, что можно было браться за приготовление раствора для заливки бетона, Лео смешал с цементом гравий и песок, и тут ему в голову влетело слово, которое начало там перекатываться, будто булыжник в железном ящике: наполнитель.
Он никак не мог отвести свои мысли от тех дум, которые отрывали его от простых, ясных и будничных действий. Увы, человек способен управлять своими движениями, контролировать поведение, но обуздать мысли он порой не в состоянии. Какие-то засевшие в голове картины и жизненные связи стремятся быть кичливо независимыми, берут верх над человеком, просто издеваются: спасу нет, нас приходится терпеть.
То, что семейную жизнь Вильмута и Эрики прорезали трещины и пропасти, поразило Лео. Услышав от Вильмута подобные намеки, он был обескуражен, его состояние не подчинялось никакой логике. Боже упаси, почему чужие кризисы и раздоры должны изводить его душу? Пусть сами улаживают свои отношения! Осознав, что Эрика и Вильмут несчастны, Лео должен был бы порадоваться, хотя бы подсознательно; Эрика не забыла меня, не один я страдаю. Время посмеялось над любовью Лео и Эрики, отняло у них возможность быть вместе; наверное, это и было главной причиной, почему у нее не складывалась совместная жизнь с Вильмутом. Лео долго не мог объяснить себе, почему его терзали чужие размолвки. На первых порах он ловил себя на желании пробрать Вильмута, как школьника, за дурное поведение, он должен был принудить друга и школьного товарища, с которым они волею судьбы были скованы общей цепью, уважать и любить Эрику. Принудить любить и уважать? Глупость, даже подумать стыдно. Дурацкий воспитательный порыв вскоре прошел; он благоразумно сумел удержать язык за зубами, и Вильмут, скорее всего, даже не заметил, что его семейные дела запали в душу Лео. По старой привычке Вильмут верил, что с Лео можно быть откровенным; к тому же он нуждался в собеседнике, что же в этом странного или неловкого? Во все времена семейные раздоры словно грязью измазывали людям жизнь, и жалобы оставались единственным средством, позволявшим чувствовать себя чуточку чище.
Лео упрямо копался в подоплеке своих отношений и раз за разом отбрасывал мотивы, которые могли бы служить причиной его внутренних перекосов, вызванных раздорами и разладами Эрики и Вильмута. Положа руку на сердце, он вынужден был признать, что его не заботили дети, которые чувствовали себя подавленными в начиненном ссорами доме. В то далекое время, когда Лео впервые услышал о сварах в семье друга, он еще не был знаком с его ребятишками. Может, он ощущал необъяснимую неловкость перед матерью Вильмута Лилит и сестрой Эвелиной. Нет, об этом не могло быть и речи, не могли в Виллаку знать о разладах среди молодых: тем дали на центральной усадьбе совхоза дом, и ссоры не выходили за его стены. Или, может быть, Лео был настолько нравственно безупречным, что неверность Вильмута вызывала у него отвращение! Довод этот способен был лишь рассмешить. Уже с самого начала войны Лео не приходило в голову переоценивать свои достоинства и преклоняться перед собственным совершенством. Наоборот, он временами мог брать свое человеческое достоинство и убеждения под сомнение, мог даже оправдывать свои неоднократные бегства любыми вескими аргументами, одно было ясно: он отнюдь не был борцом за истину и чистоту. Он предал школьных товарищей и оставил на произвол судьбы самого дорогого человека; видите ли, он осуждает Вильмута, который не хранит верность Эрике.
Обычное предательство, вполне обыденное явление.
Упрекать Вильмута? Один плут выговаривает другому! Вильмут пожертвовал собой, по своей душевной доброте женился на ожидавшей ребенка Эрике. Неужели в жизни и должно быть так, что от одних требуют и ждут благодеяний и оскорбляются, когда череда этих деяний нe получается ровной и прекрасной, другим же наперед уготована участь греховодника, одним пороком больше или меньше — это ничего не меняет.
Быть может, следовало осудить, легкомысленное решение Вильмута; женясь, он не все взвесил, а позволил взять верх сочувствию. Да и время было безотрадным, оно отодвигало на задний план какую-либо мелочность и своенравие, свои люди старались держаться вместе и служить друг другу опорой. Привычный уклад жизни разрушен, не стало хуторов-оплотов, мужская рать поредела; направляясь в лес, каждый мог с ужасом думать: не знаешь, куда и ступить, вдруг топчешь могилу человека, которого зарыли в яму как скотину.
Люди не успели свыкнуться с переменами, охватывал страх при мысли оказаться никому не нужным. Вполне возможно, что вернувшийся в родную деревню Вильмут втянул голову в плечи и боязливо оглядывался налево и направо; совершенно очевидно, что и Эрика и Вильмут одинаково жались друг к другу; растерянные люди, опираясь друг на дружку, обретали способность жить дальше. К тому же Вильмут стал теперь хозяином в доме, он не хотел больше быть перекатышем, который мхом не обрастает.
Впоследствии, когда жизнь в деревне стала входить в колею, Вильмут напрочь забыл тот грустный зимний день и плачущую Эрику, утешая которую он играл на гуслях.
Видимо, нельзя было строить жизнь на мимолетном сочувствии.
Долго размышляя над причинами своей странной угнетенности, Лео наконец нашел те из них, которыми можно было объяснить его досаду.
Больше всего Лео беспокоила собственная тревога.
Жалобы Вильмута чернили и опошляли образ Эрики. Светлая и прекрасная Эрика — и вдруг фурия! Лео знал, что Вильмут преувеличивает — он должен был обрасти панцирем, — и все-таки желанная Эрика в представлении Лео стала чуточку обыденнее, она уже не блистала над всеми столь ярко, как прежде.
Кроме того, чувство вины Лео перед Эрикой начало будоражить с новой силой. Жили бы Вильмут и Эрика в согласии, может, Лео и успокоился бы. Теперь было ясно: Эрика вышла замуж за Вильмута против желания, предательство Лео вынудило ее к этому и сделало несчастной.
Возможно, Лео поэтому и был связан со своей действительной прапраматерью, что слишком часто думал о словах Яавы: человеческая жизнь — всего лишь просверк молнии. В продолжение просверка Эрики сыпались хлопья пепла, и виноват в этом был он, Лео.
Почему же пошло вкось и вкривь у Эрики и Вильмута?
Человеку вроде и не много нужно: главное, чтобы дети росли, как грибы, и чтоб работа и хлеб имелись всегда про запас. В торжественный миг зазвучат струны гуслей и дадут душе отдохновение и покой.
Раздираемый противоречиями, человек охотно верит, что у других все проще, — наслаждаются покоем, потому что они легковесны и свободно преодолевают препятствия. Ведь собственное «я» самое нежное существо, его ушибы и шишки доставляют страшные мучения.
Вильмут тоже был не промах на оправдания. Все одно и то же, копайся каждый день, как крот в земле, бывает, хочется задрать нос и вдохнуть свежего воздуха. Все жаждут, чтобы в сером полотне жизни проглядывали красочные узоры; сердце просто требует тревожного трепета, не то кровь застареет и застынет.
И в прежние времена Вильмут не отсиживался в углу. Едва женившись, он уже оставлял Эрику с младенцем дома, брал под мышку гусли и отправлялся куда-нибудь на свадьбу или крестины. Такой мужик, как он, не возвращался с гулянки без малого грешка. Небольшие наслаждения радостями жизни обеспечивали сладкий сон, разве что одолевали похабные сны. Но все равно, какой мужик! Навряд ли он думал: я это делаю в отместку Эрике. Когда сцены ревности начали учащаться (странно, что ревность произрастает и там, где нет любви!), Вильмут стал выпускать жало. Эрика ярилась скорее от унижения: уж бабы-то умели представить Вильмута эдаким прытким чертом, который с горящими глазами заглядывается на юбки. Вильмут не старался заглушать ссоры: чтобы досадить Эрике, ставил на стол бутылку водки, пил, пока язык не начинал заплетаться, и все приставал к жене, прикладывая к горлу ладонь ребром, твердил, что такая жизнь, где не дают покоя, сидит у него в печенках. Что такого, как он, мужика не посадишь на цепь возле своей кровати! В сердцах не забывая напомнить, что Хелле не от святого духа родилась. Протрезвев, Вильмут не стремился торжествовать свою победу над Эрикой, на какое-то время у него пропадало желание валандаться с легкомысленными женщинами.
Вильмут по-своему дорожил Эрикой и жалел ее.
Времена менялись, житье-бытье улучшалось. Вильмут стал знатным механизатором, его фотография выцветала на совхозной доске Почета. Все чаще он считал нужным устраивать в поселковой столовой выпивки — зависть мужиков следовало смягчать. Постепенно у него сложилась привычка и в одиночку прикладываться к бутылке, прибавились утренние опохмелки, и здоровье стало сдавать. Руководство совхоза проявило заботу о хорошем работнике — коренные кадры, — и Вильмуту дали путевку в санаторий. Однако туда он не попал.
Лео как раз заканчивал проект своего грандиозного каменного корабля, когда однажды вечером к нему ввалился Вильмут. Переполненный новостями и эмоциями, Вильмут во время ужина, поданного Айли, ерзал на стуле, отчаянно старался болтать о мелочах — рассказывал о мужиках в мастерской и проделках сыновей, — и все же выражение лица его свидетельствовало о каких-то важных секретах, которыми он хотел бы поделиться, он выбирал момент, чтобы остаться с Лео с глазу на глаз. Бывший дезертир был для Айли старым знакомым, она просто донимала своими расспросами нетерпеливого гостя, не торопилась с кофе, проявляла повышенный интерес к совхозной жизни, допытывалась о денежных показателях совхозного хозяйства, процентах и тоннах; об этом у друга Лео особого представления не было, — видимо, Айли хотела продемонстрировать супругу широту своего кругозора.
Наконец Вильмут решительно встал из-за стола, заискивающе поклонился Айли, сказал, что отлучился из дома, чтобы поправить здоровье, врачи велели совершать вечерние моционы, посмеялся над глупыми прогулками, но тем не менее заявил, что сейчас они пойдут с Лео побродить окрест.
Едва они вышли за ворота, как Вильмут положил Лео на плечо руку и патетически возвестил:
— Знаешь, друг, в моей жизни предвидятся крутые повороты.
После чего в течение нескольких минут дал вызреть любопытству Лео, хотя сам горел нетерпением; выдержав задуманную паузу, он одним духом, перескакивая с одного на другое, изложил свою историю.
По дороге в санаторий у него оказалось два часа свободного времени, ради шутки он отправился в адресное бюро, попросил выяснить местожительство одной давнишней возлюбленной, ну не чудно ли, девушка носила прежнюю фамилию. Сперва Вильмут опасался, что речь идет о какой-нибудь другой Юте Вильсон, и все же он доехал на автобусе, постучался вечером в чужую дверь: судьбе было угодно, чтобы спустя много лет он снова встретился со своей прежней любовью.
Лео вспомнил то далекое время, когда они с Вильмутом работали на автобазе и жили в мансардной комнатушке. Однажды и он побывал с Вильмутом в гостях у той девушки; они поднялись по скрипучей лестнице, от слегка скользких полов тянуло сыростью. Сидели в узенькой комнатке, шипела заигранная патефонная пластинка, Вильмут хвастался своим отчим хутором, бросал призывные взгляды на девушку в розовом платье, которая в мыслях, наверное, прикидывала свои будущие возможности. Опрятная и серьезная девушка под звуки музыки, наверное, взвешивала эти столь существенные для нее проблемы, и Лео по мимолетному впечатлению решил: скучная привереда. Позднее, когда на двери их мансардной каморки стали то и дело появляться предупреждающие знаки — Лео спускался с лестницы на цыпочках, — он был не в состоянии представить Юту и Вильмута в постели: бесконечная привередливость и нудное сопенье.
В тот вечер они долго бродили с Вильмутом по тихим улочкам.
Вильмут время от времени шумно вздыхал и без конца тарахтел о своей старой любви. Высокообразованная Юта работает заведующей плановым отделом большого завода. По утрам, провожая ее на работу, он с удивлением и робостью оглядывает даму в строгом костюме, в волосах которой просвечивают седые нити. Одна лишь сумочка в виде портфеля внушала Вильмуту почтение, — возможно, лишь туфли на каблучках и стройные ножки придавали Юте женственность, — а то, того и гляди, важная чиновница начнет прикрикивать и вдобавок ко всему напишет приказ, в котором ты будешь то ли предупрежден, то ли тебя и вовсе отлучат от постели.
— Она одна живет? — поинтересовался Лео.
Вильмут торопливо рассказал, когда и от какой болезни умерли родители Юты. В потоке его слов можно было уловить плохо скрываемое убеждение, что все эти долгие годы Юта думала о Вильмуте и с нетерпением дожидалась его. Наконец он и постучался к ней в дверь. Юта сказала, что их обоих всегда соединял мысленный мост.
Вильмут и впрямь готов был сжечь прежние действительные мосты, он изо всех сил жаждал начать новую жизнь! Был уверен, что никогда не поздно поддаться велению любви. Юта сожалела, что они в свое время не остались вместе, они с самого начала были созданы друг для друга. Вильмут всхлипнул, это ее бывшее такое понятное отношение сейчас задним числом растрогало его, Юте не хотелось оставлять учебу и перебираться в деревню. Изнеженная городская барышня не подошла бы виллакускому хутору. Вильмут принес себя в жертву: дома без мужской души не обошлись бы.
Лео слушал друга и грустно думал: может, человеку и помогает вырваться из дебрей жизни то, что он способен облагораживать свои чувства и поступки возвышенными доводами. Человеку все хочется казаться благородным и великодушным, по крайней мере самому себе…
Лео прямо-таки вздрогнул, когда разговор дошел до Эрики. Внутренне взвинченный Вильмут выпалил, что жена отравляет ему жизнь, ее грызню стерпеть никто не в силах. То ли дело жить припеваючи, как барин, с Ютой!
Размахивая руками, Вильмут распространялся о намечаемых переменах в жизни; Лео сжался, его словно бы закидали чем-то грязным. Он тут же начал презирать почти незнакомую ему Юту, так как понял: теперь жизнь Эрики окончательно рухнула. Было невыносимо слушать, как Вильмут честит жену, Лео это оскорбляло до глубины души: Эрика была достойна лишь восхваления. Он готов был ударить Вильмута и вновь был вынужден сдержаться. Вильмут оторопел бы: какое тебе до нее дело? Лео взнуздал свой гнев и хрипло спросил, а что будет с детьми.
— Они уже не маленькие, — пробормотал Вильмут.
Теперь в его голосе послышался отголосок вины.
— Ну так что, съездишь домой за чемоданом и переберешься в город? — с насмешкой спросил Лео.
Вильмут вздохнул, начал подыскивать слова, заколебался, упоительная самоуверенность вдруг исчезла. Лео услышал, что вот так просто эту новую жизнь тоже не начнешь. Юте представляется, что они должны вновь учиться познавать друг друга, прошедшие годы изменили их. Мол, у нее нет опыта семейной жизни, она должна будет кое от чего отречься, кое к чему приспособиться, к совместной жизни надо приучаться понемногу, потихоньку и полегоньку, людям в их возрасте не пристало действовать опрометчиво. К тому же Юта жалела детей Вильмута, пусть немного подрастут, за это время они смогут все до конца решить. Семейного согласия нужно добиваться осознанно и с чувством ответственности, счастье по случаю в руки не дается, — так она рассуждала.
Сам того не желая, Вильмут нарисовал довольно отталкивающий портрет своей Юты. Лео понял, что эта женщина нуждается в любовнике, который бы не особенно часто надоедал ей. Возможно, Вильмут для нее лишь временное средство? Мужчины боятся слишком самостоятельных женщин, им с Вильмутом помогли преодолеть препятствия воспоминания о былой любви. Мысленный мост — нелепость! Почему она в свое время отказалась, когда Вильмут звал ее с собой? Какие лесные братья напугали ее, что она поступила вопреки собственной воле?
При отливке очередного жизненного блока Вильмут понадобился Юте в качестве наполнителя.
Любовь Лео к Эрике была необычной, не следует думать, что многие наделены постоянством в чувствах.
Или, может, и его тоска лишь заполняла душевную пустоту?
Таких мыслей он не смел себе позволить.
Чересчур есть чересчур.
Что-то должно оставаться не тронутым эрозией.
21
Прислушайся к своему дыханию, и ты познаешь ритм мира — древняя мудрость помогла Лео примириться с тяжеловесными раздумьями, волнами накатывавшими на него. Он мог упрекать лишь себя в том, что три сестры — разъясненные ему вначале сложные родственные отношения с ними начали уже забываться — предоставили его самому себе. Видимо, он своей немногословностью дал им понять, что человек, избавившийся от городского шума и утомительных, треплющих нервы рабочих контактов, хочет побыть наедине, чтобы дать отдых чувствам. Предупредительные сестры отошли от него и не старались больше утомлять его своими историями. Но теперь он даже желал, чтобы они болтали о каких-нибудь забавных случаях, — глядишь, и вытащили бы Лео из его лабиринтов на свет и воздух. Может, у них не было времени для него, они, казалось, были захвачены приведением в порядок и обновлением старого дома, удивительно, что нудные ремонтные работы вроде бы доставляли им удовольствие. Они явно собирались сделать из дома пряник; Лео не мог отрицать, что освеженная среда бодрит и молодит; в каком бы человек ни был возрасте, он все равно жаждет обновления. Может, у сестер давно не было случая кого-то или что-то любить, вот теперь и привязались к дому, Лео тоже в свое время прирос сердцем к проекту каменного корабля, и подобная страсть не была для него чуждой. Рвение, увлечение и любовь помогают кому угодно оставаться на ногах, придают силы идти дальше, — увы, шагать назад невозможно. Только вперед — кнут времени стегает по ногам, — в лучшем случае по спирали, можно толочься и по кругу, с грустной улыбкой, очертя голову, уходя в воспоминания и глядя на себя со стороны. Это не очень вдохновляющее занятие, ведь одни только боги шагают от одной победы к другой. Жизнь рядового человека — это череда потерь. Пустые дни, растраченные годы, забытые друзья, ушедшие из жизни дорогие люди. Наполненный светом лес молодости редеет, деревья все падают, сквозь истлевший валежник прорастает кустарник, сгущаясь, он превращается в сумеречные дебри, соберешься с силами, начнешь продираться, ищешь поляну, но звуки заглушаются, жаждешь хоть лужайки, чтобы отдохнуть от исхлеставших веток и подумать о новых целях. И какими только они могли быть?
И сознание вины не сбросить с плеч, как вещевой мешок.
Многие годы Лео проводил летом отпуск у Вильмута, чтобы, будто нарочно, доставить неприятность Эрике. Задним умом рассуждая, можно предположить, с каким страхом ожидала Эрика тех мучительных недель, когда Лео находился рядом.
Не изгладится в памяти их первая встреча после долгих глухих и мрачных для них лет. Эрика безмолвно стояла посреди комнаты и медленно разводила руки, нет, не для того, чтобы обнять Лео, — при встрече с парнями своей деревни можно было и порадоваться, — она обхватила сыновей, притянула их резким движением к себе, словно искала у детей защиты, хотела подтвердить для себя и для Лео смысл своего существования. Ее неотрывный взгляд ясно говорил: я не наложила на себя руки, может, лишь потому, что тогда бы сыновья остались нерожденными. Лео делал вид, что не замечает испуга Эрики, с городской общительностью обращался к Вильмуту, живо рассказывал о впечатлениях своей недавней дороги, заводил разговоры о тарахтевшем за воротами тракторе, допытывался: когда они перебрались из Виллаку в этот дом, принадлежит ли он совхозу или они выкупили его. С Эрикой так за руку и не поздоровался — не мог же Лео оторвать ее пальцы от плеч сыновей! Краем глаза Лео видел худенькую девочку, которая топталась неподалеку на пороге, но не осмелился обратиться к ней, не хотел, чтобы Эрика заметила, что он проявил интерес к своей плоти.
Лео старался вести себя в доме Эрики и Вильмута так, будто их троих не связывало ничего, кроме дружеских отношений.
Ни на какую душевность этим летом Лео так и не был способен. Его как раз терзала подавленность, он только что ушел от Айли, хлопнув дверью, и готов был даже имя ее стереть из памяти. Спокойное течение жизни в очередной раз было прервано, он словно бы выпал из привычной среды и этой, с высокими потолками и всегда безукоризненно проветренной, квартиры, где он дышал несколько лет и чувствовал себя словно в клетке. Он торопливо удалялся как от дома, так и от своей благодетельницы-жены, с которой не состоял в законном браке. Он шагал длинными шагами, с чемоданом в одной и с проектом каменного корабля в другой руке, злой, как черт, что не догадался дать вовремя деру. Шагая по пыльной улице, он думал о далеком первом дне нового года и падавших снежных пушинках, будто об эпизоде из чужой жизни. Прежде чем свернуть за угол и сойти с ландшафта былой жизни, он вдруг рассмеялся: во дворе, на веревке, остались сушиться его носки и носовые платки.
Достигший средних лет мужчина разом остался без жены, без работы и жилья, и веселиться, собственно, не было никакой причины.
Но жизнь все же не столкнула его окончательно под откос. На следующий день он устроился в какую-то ремонтную организацию, ему предоставили комнату с плитой в старом доме, где от стен отставали обои, а из мышиных нор сыпалась труха, — временная крыша над головой имелась. На прежней работе ему задолжали два очередных отпуска — незаменимый работник вкалывал, не переводя духа, — и он решил использовать их, прежде чем возьмется за карьеру ремонтного рабочего.
Недели две он пил с какими-то случайными знакомыми, попадал на шумные именины и вечеринки. Собутыльников наплодилось великое множество, просто какое-то братство гуляк; они, как из рукава, сыпали всевозможными анекдотами: не было отбоя и от сладострастных женщин с пронзительными голосами, сулившими райское блаженство. Лео сумел вырваться из цепких женских рук, ухватился за очередных приятелей; опять его усаживали где-то за длинный стол, где он пялился в блюда со студнем, курил и осушал рюмки. Все было мерзко, тинистое болото клокотало, пьяный лепет был подобен помоям, в одно ухо вливалось, в другое выливалось; поносили времена, ругали немцев, русских, да и соплеменникам доставалось по заслугам. У каждого в груди было сердце, и оно истекало попеременно кровью и вином.
Однажды утром Лео проснулся с мыслью, что если он не отстанет от забулдыг, то погибнет от алкогольного отравления. Его мозг и сосуды не были столь закалены, как у его случайных собутыльников. Он должен остановиться хотя бы за миг до катастрофы.
Постепенно избавившись от головных болей, он попытался вспомнить, о чем болтал на этих кутежах. Мучился, выуживал из темной дыры памяти свой жалкий лепет. Одна победная, просто-таки ликующая мысль — в противовес постигшему его краху — стучала в голове: и все же меня не пустили в расход и в Сибирь не сослали! Ему хотелось надеяться, что на грязных пирушках он об этом не распространялся.
Не будь такого крупного провала, навряд ли он в ближайшие годы, и вообще кто знает когда, поехал бы к Вильмуту и Эрике.
В последний раз при встрече с ним, когда они прохаживались неподалеку от дома Айли и старый друг поведал историю о вновь зародившихся отношениях с Ютой Вильсон, Вильмут, как верный товарищ, между прочим сказал, что если тебе, Лео, придется попасть впросак с городскими бабами, смело валяй ко мне отдохнуть и развлечься. Оба от души посмеялись над такой возможностью, и Лео тоже, хотя и неискренне, его мучило, что Эрика опять оказалась преданной, на этот раз законным супругом, — в остальном же небо казалось безоблачным; Айли по-прежнему и шелковая и бархатная, коготочки пока еще спрятаны.
Оказавшись в беде, Лео ухватился за предложение Вильмута. Послал телеграмму, чтобы там не поразились его неожиданному приезду, и сел в поезд.
В Медную деревню к матери он боялся ехать, родные края все еще вызывали страх. Поди знай, может, на узкой тропке приковыляет навстречу какой-нибудь забытый в своей норе школьный товарищ, примется беззубым ртом шепелявить об идеях отечества и о презрении к товарищам, припомнит кровавые события сорок первого года и приставит наконец к груди предателя дуло; скажет: собаке собачья смерть. Что такому терять — одним душегубством больше или меньше, и без того все полетело к черту.
Лео знал, что подобные фантазии смехотворны, в газетах писали, что леса давным-давно очищены, все бандиты ликвидированы. Некоторое время тому назад, в пятьдесят шестом году, вышли на свет божий последние беспаспортные затворники, те, кто, бормоча, утверждали, что на их душе нет крови.
И все же Лео предпочел поехать к Вильмуту и Эрике. Они жили в сорока километрах от Медной деревни, в те времена это считалось вполне приличным расстоянием.
Лео не удалось восстановить свой душевный покой в семье Вильмута. Не было в их доме благоприятной атмосферы, чтобы Лео мог, дружески улыбаясь, слиться с домочадцами.
Да и сам дом вряд ли годился для жилья, возможно, лишь как временное прибежище для бродяг. Видимо, был когда-то построен для продажи — из сырого материала, и ни один гвоздь не забит до конца. На редко положенных поперечинах качались половицы, а из широких щелей поднималась мелкая, как зола, пыль. И ленточный фундамент был заложен по дешевке, мелко, от мороза он вспучивался, в тепло опускался, это можно было заметить по перекошенным углам возле потолка, по заклиненным окнам и трещинам в дымоходе. Казалось, что по ночам искривленные и ржавые гвозди поскрипывали — из последних сил удерживали углы дома.
Естественно, нельзя было ожидать приветливости и беспечной болтовни и от Эрики: она старалась избегать взглядов Лео, и настороженная складка на переносице разглаживалась, вероятно, только во сне. Иногда руки Эрики начинали неожиданно дрожать, ножи и вилки со стуком падали в ящик, сковороды и горшки громыхали. Напряжение не выветривалось сквозь неплотные стены дома. И хотя все взрослые утоляли жажду перебродившим пивом, которое стояло на столе в открытой бадейке, хмель не помогал клеиться разговору. Эрика ни разу не поинтересовалась работой и делами Лео, видимо, догадывалась, что человек находится в подавленном состоянии — к чему бередить. Единственный, кто пытался поддерживать настроение, был Вильмут, он играл по вечерам на гуслях и возился с детьми, но это ему быстро надоедало. Его непостоянство выдавало, что в его душе бродит тоска. Приходилось как-то тянуть время, жизнь нужно было прожить. Частенько Вильмут выставлял на стол бутылку, Эрика никогда не составляла им компании. Когда мужчины пили водку, она нарочно принималась на кухне стирать белье, казалось, что в этом доме без конца гудит стиральная машина, чтобы разводить сырость и плесень. Ее вызывающее презрение изводило Лео. Едва очухавшись от выпивок, он снова кидался искать забвения в бутылке, по вечерам засиживался с Вильмутом, днем ходил в магазин пополнять запас водки. Вместе с тем он старался по возможности меньше оставаться в доме друга. Иногда с утра уходил вместе с Вильмутом в мастерскую, помогал другу налаживать вечно барахлящий трактор, вскоре ему эта работа надоедала, и он удирал от грохота и смрада. Взяв у Вильмута велосипед, начинал колесить окрест; без определенной цели он мотался по пыльным проселкам. Однажды утром Вильмут сунул ему в руки удочку, теперь у Лео был повод бродить возле речки; раза два удавалось наловить коту рыбешек. А вечером они с Вильмутом опять глядели в рюмки. Эрика включала на кухне стиральную машину, громыхала ведрами, Хелле, сгибаясь под тяжестью, перетаскивала мокрое белье в тазу во двор и развешивала на веревке. Вообще в этом доме все действовали друг другу на нервы. И детям приходилось пожинать плоды неприязни взрослых. Эрика сверх меры покрикивала на мальчишек, те хныкали, топали ногами, капризничали. Лишь поздним вечером в доме наступала тишина, только потрескивали потолочные перекладины, их словно раскалывали клиньями, — и это беспокоило даже, пожалуй, больше, чем гам и грохот.
Они сидели с Вильмутом и скучали, разговор не клеился — вдруг что-то дойдет до слуха Эрики, — дымили, вертели в пальцах рюмки, жизнь казалась постылой.
Что собирался отыскать здесь Лео?
Видимо, в силу того, что, подчас и спотыкаясь, Лео всегда оставался на ногах, он все еще смел на что-то надеяться: нечто прекрасное расплывчатой картиной маячило где-то в грядущем. Он простодушно полагал, что они в спокойный миг усядутся с Эрикой рядышком, с умилением вспомнят прошлое, озаренные воспоминаниями, постараются стать лучше самих себя, словами приголубят друг друга и придут к мысли: мы должны уметь прощать. Смешно, какое прощение может Лео предложить Эрике? Он всегда жаждал, чтобы другие врачевали его собственные раны. Как было бы чудесно, если бы Эрика грустно и умудренно улыбнулась: постараемся быть выше того, что времена и обстоятельства встали на нашем пути.
Нет, Эрика ничего не забыла и не простила. Ее резкие движения и вечная спешка — волосы знай разлетались на ветру — излучали тревогу, настороженность, даже ярость; видимо, требовалось большое усилие, чтобы не вспыхнуть разом и не расставить в свете яркого пламени все по своим местам. Эрика, казалось, была из того же теста, что и Лео, и она тоже на что-то надеялась, никак не мирилась с тем, что телега завалилась и вот-вот перевернется.
Немногословная Эрика время от времени бросала Вильмуту какую-нибудь колкость и пронзала его звериным взглядом. От неожиданности у Вильмута на мгновение перехватывало дух, но Лео понимал, что на самом деле слова Эрики обращены к нему.
Чудилось, что и дети боятся свою мать.
Однажды ночью Лео проснулся, он услышал крадущиеся шаги, кто-то пробирался в комнату, где он спал. Притворился, что крепко спит; из-под прикрытых век он разглядел неясную фигуру приближавшейся Эрики. Призрак остановился посреди комнаты, поколебался, рука поднялась, чтобы навернуть на палец прядь волос. Лео готов был закричать — неизвестно, от тоски или страха. У Лео перехватило дыхание, когда Эрика на цыпочках приблизилась и наклонилась к нему. Пахнуло духом сена и ромашки. Сердце Лео куда-то упало, он похолодел, он должен был, подавляя дрожь, не подать и виду, что чувствует дыхание Эрики и видит ее. Было бы верхом пошлости, если бы он обхватил склонившуюся над ним Эрику и привлек бы ее к себе, казалось, что за дверью стоят остальные, Вильмут и дети, так же, как Лео, затаив дыхание, — сейчас произойдет землетрясение, ржавые гвозди переломятся, дом обвалится. Мертвенно-бледная Хелле в поисках защиты укрылась за спиной Вильмута.
Эрика коснулась губами щеки Лео, выпрямилась и на цыпочках просеменила к двери. На пороге она задержалась и оглянулась. Когда дверь за ней закрылась, Лео почудилось, что он слышит всхлипывания.
И тут Лео забила нервная дрожь. Сами собой покатились слезы, холодная дрожь пронзила его, он сцепил бесчувственные пальцы, чтобы взять себя в руки. Комната наполнилась желтоватым светом. В голове заработала взбесившаяся машина, которая со страшной скоростью швырялась одними и теми же словами: тряпка, дрянь. Когда коллапс понемногу отступил, во рту остался едкий привкус: он не достоин звания мужчины. Он с трудом поднялся, добрел до окна, выглянул на улицу. Эрика исчезла в сумерках.
Проснувшись от изнуряющего сна, когда уже вполне рассвело, Лео начал подыскивать своим мыслям новое русло.
Ночью Эрика выразила Лео чувство благодарности.
Быть может, она в течение последних мучительно тянувшихся дней боялась, что Лео ищет возможности уединиться с ней, затянуть ее в безумный водоворот, разбить семью, а после уже никто не сможет собрать черепки.
Возможно, Эрика была охвачена ужасом при мысли, что Лео начнет допытываться: мой ли все-таки ребенок Хелле? Лео знал привычку Вильмута под пьяную руку намекать о сомнительном происхождении девчонки — даже странно, как это ему никогда не приходило в голову, что Лео мог быть отцом первенца Эрики! Лео знал Вильмута, помнил его хмельные излияния еще со времен работы на автобазе, пьяный, он проявлял исключительное упорство, заводился до самого утра. Теперь у Эрики могло все время обмирать сердце: неужто и Лео начнет в свою очередь столь же мучительно долбить то же самое!
По-всякому можно было думать о той ночи, когда Эрика нагнулась к Лео.
Возможно, прикосновение губ Эрики было инстинктивным движением, чтобы удостовериться, что пронесенная через годы привязанность не была призрачной. Зайдя в тупик, она искала ясности, чтобы ее страдание хоть на миг возвышенно зазвенело.
Борясь с нервным потрясением, Лео проклинал длинную вереницу опорожненных бутылок, нанесшую ущерб его самообладанию. Это было точно по нему — прежде всего следовало найти виновника. Потом, успокоившись, он принялся всерьез взвешивать: а нельзя ли именно теперь начать все сначала? Он был снова свободным человеком, настолько свободным, что у него не было ничего, кроме самого себя, в поклаже — институтский диплом, ставший на этот раз ненужным, и бесполезный проект каменного корабля; футляр с чертежами стоял в той каморке, куда он был определен на жительство, в обществе мышей, шуршавших за стенками. Он мог взорвать семью Вильмута — я провозглашу правду и не отступлюсь. Сказал бы, что они с Эрикой принадлежат друг другу, сошлись мастью. То, что Вильмут является законным мужем Эрики, чистая случайность и недоразумение.
Глупость! Разве он может взять Эрику и Хелле вместе с мальчишками за руку и на рассвете отправиться в дорогу! Куда бы он дел свою большую семью? Почему он думает, что уйдет от своего обманутого друга целым и невредимым? Вильмут непременно избил бы его до полусмерти и вышвырнул бы за порог.
Очевидно, Вильмут забредет в своих мыслях под ручку с Ютой Вильсон в райский сад, однако это вовсе не значит, что он с бухты-барахты откажется от Эрики. К сожалению, в жизни бывает так, что пока человек рядом, о нем не очень заботятся; но стоит остаться без него — хоть кричи от боли.
Так это и было потом, когда Эрики не стало.
Следующими ночами Лео не мог заснуть.
Он ждал появления Эрики, боялся проспать крадущиеся шаги и взвешивал возможности увести ее отсюда. От усталости колесики в голове бежали в обратную сторону, мелькнули злые мысли: и надо было этой Эрике вообще от Вильмута детей рожать! Как хорошо было бы втроем уйти из-под этой крыши: они с Эрикой и Хелле, их дочь. Свою семью Лео разместил бы даже в своем жалком углу.
Хелле, бесспорно, была дочерью своего отца, через многие годы она принесла своих детей на Виллаку, Эвелине на воспитание.
Как много раз Лео вынужден был взвешивать обстоятельства. Ворочаясь в эти ночи, он также не обошел мыслью того обстоятельства, что разъярившийся Вильмут способен окончательно погубить его. Целую вечность Лео внушал другу осторожность, вдалбливал ему в голову, что в какую бы передрягу Вильмут ни попал, каким бы изуверским образом его ни прижимали, или, наоборот, будь он в самом веселом настроении, на гребне удальства, забыв про все опасности, — одно пусть помнит всегда: о том случае летом сорок первого года он не смеет никогда никому и полсловом обмолвиться. Будет ли он испытывать чувство страха перед допросчиком или доверится широкой души собутыльнику, это его дело, пусть говорит о родном хуторе, похваляется бывшей зажиточностью, кичится крестами покойного отца, пусть выкладывает все, но чтобы даже заикаться не смел бы об истории за виллакуским пастбищем. Пусть вобьет как железный гвоздь себе в голову, что и пикнуть не волен о том страшном дне.
Но если Лео увезет Эрику и детей, разобьет семью Вильмута и его дом, одним махом превратит его в отверженного и одинокого — станет ли тот еще заботиться о том, какой ему вбили в голову железный гвоздь? У него из головы улетучатся последние крохи разума, жажда отмщения сметет с пути все запреты — самый тяжелый удар достанется все равно тому, кто был до сих пор вернейшим из верных. Лучший друг оказался мерзавцем — ни жалости ему, ни пощады! Вильмут немедленно пошел бы и рассказал о том, о чем Лео не позволял и заикаться, — может, даже спас бы этим собственную шкуру!
Попробуй тогда Лео доказать: мы виновны в равной степени.
Всему пришел бы конец.
А Эрика? Жизнь ее опять была бы все равно что надвое переломлена.
Смертельно усталый, Лео задремал на рассвете, настоящего сна так и не было, он пребывал в полузабытье, четкие и конкретные мысли словно бы проскальзывали мимо, ни за что не цепляясь.
Они лишь приобрели иное направление.
Все должны бы завидовать его небывалому счастью, никогда раньше никто не переживал такой высокой любви, которая звучала в нем, не угасая, долгие годы. Ликование возносило Лео, каждый нерв расслаблялся, будто отогревался на солнце. Эрика прежняя, она меня не забыла. Все остальное несущественно: Вильмут, дети, да и Айли тоже. Они с Эрикой идут по мосткам навстречу друг другу, еще миг, и они обнимутся. Несмотря на узкий мостик, они не потеряли равновесия и не покачнулись.
Блаженное сознание: мы с Эрикой избранные среди обыденных, серых людей.
Ни разу больше Эрика не склонялась над Лео.
Никогда.
22
Свои родственные связи с Лео сестры выявили, опираясь на слова давно умершего Йонаса. Покойный перед смертью заверил, что Лео — его кровный отпрыск. А может, все наговор? По крайней мере, мать Лео Мильда могла бы открыть сыну правду. Но она унесла свою тайну в могилу. И остался отцом Лео по бумагам умерший в Швеции человек, а дочь Лео Хелле продолжает перед лицом закона род Вильмута. Привитым росткам, видимо, и не стоит искать свои корни.
Если бы это не было совершенно исключено, то именно Мильду, из-за ее непокорства и упрямства, следовало бы считать преемницей прославленной Явы, а не Йонаса и его внебрачного сына Лео. Задним числом, да и то от посторонних, Лео узнал об обстоятельствах материных злоключений.
И опять сумраки месяца переселения душ, пронизывающие ноябрьские ветра, порывистые шорохи и внезапные холода, стягивающие льдом лужи и сковывающие землю и камень.
Лео видел мать идущей по Долине духов, с тяжелым молочным бидоном в руке. Раннее утро, но Мильда, как всегда, торопится; с минуты на минуту ей надо быть в поселке, где по обыкновению останавливалась белая автоцистерна. Сотни и тысячи раз Мильда проходила по этой стежке; в зависимости от того, в каком порядке запахивали участки, рядом со свежей пашней протаптывали новую тропку, соединявшую концы прерванной дорожки. Мильда говорила, что зимой она натыкает в сугробы палки: и в метель с пути не сбивается, а после снегопада можно снова отыскать прежнюю проторенную тропку.
Но сейчас стояла осень, земля покрылась мерзлой коростой и отдыхала в ожидании снега. Мильда поскользнулась на льду, грохнулась; из-под крышки опрокинувшегося бидона клокоча вылилось молоко. Мильда, поминая злых духов, опорожнивших ей под бок посудину, стала подниматься. Прошло время, прежде чем она в темноте разобралась, в чем дело, и, ощупав голень, почувствовала на пальцах липкую кровь.
Беда случилась посередине поля. Звать на помощь было бессмысленно: на смех ветру. Ползти домой? Искать помощи у коровы или какой другой мелкой живности? Попытаться доковылять до Россы? Но чем поможет Йонас? Лошади у него нет, чтобы отвезти Мильду в больницу. Оставалось одно — добираться до поселка. Как просто было шагать, когда огни поселка перед глазами, теперь же не было ничего, кроме черневших бугров, неверных выступов Долины духов, которые испокон веков сбивали с пути ходоков. Мильда тащилась наобум, громыхая по мерзлой земле пустой посудиной, и время от времени колотила по дну бидона — вдруг кто-нибудь услышит?
Порывы ветра швыряли в лицо труху стерни. Боль понемногу унималась: сломанная нога застыла. Видно, сознание этого и придавало Мильде силы ползти — если нога замерзнет, ее отпилят.
На полах пальто шуршали мерзлые хлопья молока. Переводя дух и колотя по дну ведерка, Мильда почувствовала, как немеют костяшки пальцев. Пользы от жестяного барабана не было, и она оставила его, снова натянула варежку и, напрягая невеликие старческие силы, тащила тщедушное свое тело дальше и дальше.
Вдруг она сбилась с дороги?
Она приподнялась, глаза искали огни поселка, впереди вроде что-то мелькнуло, — может, есть еще надежда!
В серой мгле рассвета она доползла до задней стены больницы; пуговицы пальто оторваны, полы распахнуты, только кофта и платье защищали ее дрожащее тело. От варежек остались одни отрепья, лишь вокруг запястья что-то еще болталось.
Сил на то, чтобы обогнуть дом и доползти до крыльца, уже не было. Но над обессилевшей Мильдой светилось окно, она наскребла рукой мусор и кинула в него — никто на шорох внимания не обратил. Она перекатилась по высокой траве, наконец под руку попалась палка, на душе стало легче, когда взялась колотить по наличнику: теперь ее спасут.
До этого Лео обменивался с матерью короткими письмами. Что бы там ни было на душе, как бы их ни ломала жизнь, письма у обоих были примерно одинаковые: все по-старому, пока при здоровье. Главное — здоровье, вот встретимся, тогда поговорим.
И вдруг Лео получил от матери весточку: заболела, лежу в больнице.
При обычной простуде не стала бы об этом писать, и Лео поехал на воскресенье проведать мать.
Тогда Мильда уже шла на поправку; вначале же и сообщать не хотела. Когда выяснилось, что ногу отнимать не станут, вот тогда и отправила на радостях письмо: она снова была человеком, ноги-руки на месте.
Увидев сына, Мильда растрогалась, но никакой помощи не попросила.
Лео узнал, что Йонас уже все нужное сделал: корову продал, а уход за остальной скотиной взял на себя. Мильда вытащила из-под подушки новенькую сберегательную книжку — туда были внесены деньги за проданную корову, — Йонас не стал рыться в ее ящиках и открыл новый счет. Мильду, казалось, даже забавляло, что у нее теперь были две серые сберкнижки.
В тот раз Мильда особенно нахваливала Йонаса, никогда раньше она к нему так не благоволила. И вдруг все же посмела, не захотела больше скрывать свои чувства. Десятки лет молчала — чаша переполнилась, — еще было отпущено немного времени, рот еще не был схвачен мертвым безмолвием.
Лео узнал, что Йонас то и дело приходит в больницу, приносит мед и клюкву, читает больной газеты. Надо думать, что без конца надрывавшаяся Мильда никогда раньше не была настолько в курсе международных событий, как сейчас, в больнице.
Лео вправе был подумать, что они там, в больнице, и о нем говорили. Наверное, Йонас и Мильда утешающе кивали друг другу: образованный человек и, по слухам, на хорошей должности. Может, только в сумерках, когда бывало проще не смотреть друг другу в глаза, печально роняли: трус он у нас и ветрогон.
Но по сути сын оставался для них скорее воспоминанием, нежели реальностью.
Думая о неопределенности чужой жизни, любой человек способен пожать плечами и спросить: и почему только он так поступил? Для Лео всегда оставались непонятными силы, которые сближали Мильду и Йонаса и в то же время отталкивали их. Все время они словно бы обманывали себя. Но и они вполне могли спросить у сына, почему ты упустил Эрику, разве ты не понимал, что она для тебя значила? Возможно, повстречавшись уже на том свете, будучи тенями, свободными от страстей, и рассуждая о делах земных, они смогли бы прийти к удивительной ясности: любовь только тогда остается на всю жизнь, когда на пути двух людей воздвигаются непреодолимые преграды. Влечение сохраняется лишь в том случае, если стремление быть вместе вновь и вновь оказывается неосуществимым. Иллюзия, призрачность придают силы: впереди всего одна гора, единственная пропасть — ее нужно преодолеть, потому что за горизонтом лежит земля обетованная. Возможно, устремление к цели более притягательно и волнующе, чем ее достижение. Быть может, тоска для человека важнее самого бытия!
И все-таки — какие же обстоятельства помешали Йонасу и Мильде устроить свою жизнь? Законный муж Мильды еще до войны покинул хутор, взял с собой Юллу и ушел в город. Потом вместе с дочерью сбежал в Швецию. Многие годы о них не было ни слуху ни духу. Навряд ли Мильда ждала возвращения своего бывшего мужа и дочери. Или само их существование мешало ей сойтись с Йонасом? Правда, по закону она оставалась неразведенной. Но в смутные времена прежние бумаги и печати теряли силу, к тому же ответчик пропал без вести.
Может, из-за этого самого Йонаса законный муж и бросил свою жену. Удивительно, сколь неустанно люди в округе десятки лет точили зубы на Йонаса и Мильду. Не было безгрешных среди жителей Медной деревни, на земле нет вообще ангелов, у некоторых здешних мужиков и баб совесть была черной, как смоль, их тайные любовные похождения не оставались под спудом, и все же о них говорили без злобы и осуждения, скорее со смешком, благосклонно.
Тихому Йонасу и обвенчанной с другим Мильде грехи молодости припоминались всю жизнь. За ними обоими упорно приглядывали, будто были они игральными камнями в большой игре: куда покатятся? Болельщики без конца точили лясы — язвительные слова, будто слепни, сопровождали их обоих. Даже в поселке у прилавка магазина не смели они обменяться словом, сразу шел звон. В той охоте на ведьм, которая сопровождала их почти до конца дней, было что-то средневековое.
Мальчишкой Лео не раз слышал россказни о случаях, происходивших в Медной деревне и в Долине духов до его рождения. Он узнал, что деревенские парни и девушки с дубинами гонялись за Мильдой и Йонасом, не давали им спуска. В то время Мильда была батрачкой на нижнем хуторе, служанка хутора Росса Анита и хозяйка Лена однажды в полночь ворвались с палками в соседский дом, чтобы застать Йонаса вместе со своей зазнобой. Помешавшиеся от ярости женщины грозились поджечь хутор, если им не выдадут беглецов. Невероятно, но та же самая Лена, когда Лео был еще молодым, сетовала, что их Йонас все еще холостяк; мол, что это за хозяин, у которого нет семьи. К тому времени хутор Росса обезлюдел; старый Якоб умер, дети разбрелись по свету; Лена и Йонас вдвоем как-то изворачивались, поддерживали хутор. Работницу Аниту, старую союзницу в баталиях против Йонаса и Мильды, хозяйка прогнала сразу же после смерти мужа.
Шли годы, Лена не переставала сокрушаться о холостяцкой доле Йонаса, и участливо слушавший до этого хозяйку хутора Россы деревенский люд стал за глаза над ней смеяться: дескать, старуха скоро даст в газету объявление, дабы найти для хутора молодую хозяйку.
После того как законный муж Мильды вместе с Юллой покинул семью, деревенские доброхоты посоветовали Лене обратить взор на соседскую хозяйку. От таких разговоров Лена фырчала, как кошка, она и духа Мильды не выносила. Ну, хорошо, но ведь и Йонас мог взять ноги в руки и отправиться через поросший чертополохом выгон на соседский хутор! Свой хутор его, казалось, не особенно притягивал, очевидно, лишь настолько, чтобы иметь возможность то и дело брать в банке заем, — в большинстве богатым городским родичам приходилось выплачивать долговые проценты. Йонас не был крестьянской душой, — рассеянный книжный червь, все читал, даже в телеге, когда куда-нибудь ехал; хуторские кони по дороге останавливались, переступали просто так, и Йонас на это даже внимания не обращал.
Теперь бы Лео — сам уже в годах и признанный сыном Йонаса — с удовольствием взял своего настоящего отца за пуговицу пиджака и повел этого робокого человека к матери, под ее крышу. Только не было уже ни крыши, ни Йонаса, ни Мильды. Даже пиджак его давно истлел, и пуговицы рассыпались невесть куда.
В юности Лео питал к Йонасу вражду, он не любил рассеянного соседского холостяка. Возможно, его враждебность не столь бросалась в глаза, как презрение хозяйки хутора Росса к Мильде, и все равно отношение Лео к Йонасу не оставалось для других незамеченным. Лео оскорбляло и злило, что его происхождение порождает столько разговоров, он был убежден, что именно из-за Йонаса отец вместе с Юллой ушел из дому, оставил хутор без хозяина, расколол семью.
В то время не одна только Лена мешала Мильде сойтись с Йонасом, этому мешал и он сам, Лео, их внебрачный ребенок. Будто он и не был их кровным отпрыском, а плодом мирской злобы.
Если бы Лео удалось вовремя, как было задумано, уехать из Медной деревни учиться, может, тогда убралось бы с дороги Мильды и Йонаса существенное препятствие. Но началась война, и навалился иной, нещадный университет жизни, не мог остаться сторонним наблюдателем и Лео, он по духу принадлежал к своим школьным товарищам и дал втянуть себя в водовороты, которые безумствовали по выгонам, по обочинам, в зарослях и перелесках. Опьяненность победой? Невероятно, но и это они ощутили. Самоуверенности молодых парней не было предела: мы все можем.
Теперь говорят: классовая война, но противников разделяла еще и необъяснимо извивавшаяся линия разъединения. Взросла и всклокотала старая вражда, всем можно было отплатить, даже нехитрому зубоскалу за его былую заносчивость. Хуторская мания собственности оказалась лишь одной гранью явления. Так бывало всегда, когда власть пули стоит над всеми другими законами.
Так Лео и болтался в деревне, по-прежнему оставаясь бельмом на глазах Йонаса и Мильды. И хозяйка хутора Росса никуда не делась, тревожные времена, казалось, даже оживили ее. Именно в войну она взялась устраивать семейную жизнь сына. На хуторе вдруг появилась какая-то городская, неопределенного возраста женщина — в Медной деревне решили, что это беженка, хотя в то время они в деревни еще не стекались, — во всяком случае, эта дама из чужой среды, носившая на взбитой прическе похожую на тирольскую шляпу с пером, пришлась по душе Лене. В мгновение ока женщина эта стала для ворчливой и недоверчивой хозяйки хутора Росса божеством. Лена без конца рассказывала на деревне, что эта женщина сказала, как пошла и каким образом приготовила ту или иную еду. Вдруг по Медной деревне распространилась ошеломляющая новость: пришелица стала законной супругой Йонаса. Свадьбу не справляли и, словно бы ища примирения, Лена ходила из дома в дом, прихватив с собой бутылку самогона. Несмотря на щедрое угощение, деревенский люд чувствовал себя обманутым и огорченным: столь приятно и долго щекотавшие всех отношения Йонаса и Мильды были таким неожиданным поворотом покончены. Люди были просто возмущены, плевались на эту неуместную женитьбу — по какому праву их лишили удовольствия следить за Йонасом и Мильдой! Может, люди все-таки желали, чтобы Йонас и Мильда когда-нибудь, пусть с опозданием, но обвенчались. Из этого брака мог родиться не ребенок, а новая возвышенная легенда Медной деревни: за ними гонялись с дубинами, досаждали им и преследовали, однако настоящая любовь противостоит всем испытаниям и побеждает.
После женитьбы с Йонасом произошла резкая перемена, изменилась даже походка, он стал семенить, будто ступал на округлых подошвах. Глаза опустошенные, он не замечал встречных людей. Бормотал что-то себе под нос, однажды Лео услышал, что Йонас разговаривает сам с собой гекзаметром. Несмотря на присутствие новой хозяйки, хутор все больше катился под уклон, только старая Лена еще кое-как вела хозяйство, нанимала на лето батраков и заботилась о выполнении государственных поставок. И все же в промашке не признавалась, а все хвалилась на деревне, что молодые — это, правда, звучало странно, особенно применительно к Йонасу, — то и дело сидят, уткнувшись в книгу. Удивительно, что Лена стала благоволить печатному слову. В былые времена на хуторе Росса разносились сердитые хозяйкины окрики: сожгу книжки, они отвлекают Йонаса от срочной работы. Теперь Лене нравилось даже то, что молодая чета по вечерами разговаривают по-немецки и обходит ее вниманием.
Осенью сорок четвертого года горожанка исчезла с хутора Росса столь же неожиданно, как и появилась там в начале войны. Лена на какое-то время смолкла и десятой дорогой обходила деревенских баб. Окрестный люд не мог смириться с тем, что эта женщина так и осталась для них тайной. С большим рвением ее стали облеплять разными небылицами. Лео удивлялся живости воображения деревенских жителей. Возможно, бесчисленные легенды о Долине духов обострили их фантазию! По поводу горожанки распространялись самые противоречивые слухи; то она была русским шпионом, то работала в немецкой разведке. Еще нашептывали, что женщина в шляпе до июньских событий занималась размещением вкладов в иностранные банки и сама была невероятно богатой: моря бороздил ее торговый пароход, застрахованный у Ллойда на крупную сумму.
В мрачные и тревожные времена эти придумки оставались бальзамом для деревенских жителей: смотрите, какая необыкновенная женщина, какая крупная фигура изволила проживать несколько лет среди нас!
Во всяком случае, из-за этой странной женитьбы отношения Йонаса и Мильды резко ухудшились. Обман громоздился на обман, но Лео чувствовал, что мать все еще не была к Йонасу безразличной. Возможно, Лео унаследовал от матери способность привязываться к кому-либо на долгое время? В представлении Мильды с Йонасом должно было связываться одно лишь плохое. Деревенские глумились над ним и над ней, Йонас не заботился о своем кровном сыне, Мильда с ребенком вышла замуж за другого. Когда она осталась одна, у Йонаса опять недостало сил сделать решающий шаг; потом, уже будучи в годах, он позволил выставить себя шутом, не воспротивился, когда хозяйка хутора Росса женила его на нелепой городской барыне. После войны и Йонас оказался в свою очередь свободным, но искать примирения с Мильдой не стал. И только уже дряхлым старцем, на шаг от могилы, Йонас пришел к мысли, что надо держаться вместе, тогда, когда Мильда угодила на долгие недели в больницу. К тому времени в деревне у них никого не осталось, лишь из редких труб поднимался дымок, там, где поддерживали тепло очага хворые старушки, — они уже были не в силах указывать на кого-то пальцем. И Лена давно отправилась на тот свет, Йонас, разменявший уже восьмой десяток, наверное, впервые в жизни почувствовал себя независимым. Ни обстоятельства, ни чужие люди больше его жизнь не определяли.
Где находится водораздел человеческой судьбы, по одну сторону которого лежит его собственное убожество, а по другую — идиотизм окружения.
Может, именно забвение и отсутствие памяти приводят к блаженству?
Следующей осенью, после поездки в Швецию, Лео получил от Йонаса телеграмму о смерти матери. Чудно звучала вторая фраза в телеграмме: ждем вас на похороны в субботу. Лео опешил — словно речь шла не о его матери, которую согласно естественному ходу вещей хоронит сын, — его хотели от всего освободить. Текст телеграммы ясно давал понять, что раньше, чем в день похорон, его и не ждут. Пусть не беспокоится, не мешается и не суетится, мы сами проводим в последний путь свою Мильду! Мы — Йонас и другие старцы Медной деревни. Лео был посторонним человеком, блудным сыном, отверженным. Задумавшись, он долго держал в руках телеграмму. Словно смотрел на себя глазами стариков из Медной деревни: чужой и далекий человек, которому не понять, какая трудная жизнь тут прожита.
Лео приехал на машине, которую он приобрел на доставшиеся ему в наследство из Швеции деньги, и почувствовал себя в родных краях с первого же мгновения как-то странно. Молчаливые старушки, с поднятыми воротниками, мельком оглядывали его и машину. Лео почему-то ощутил неловкость оттого, что машина синяя, а мохнатые чехлы на сиденьях ярко-желтые. Он не догадался привязать к антенне по широко распространившейся ныне моде черную ленточку.
Йонас, единственный, подошел к Лео, пожал руку, пробормотал слова соболезнования, сильно выпуклые стекла очков делали его глаза необычайно крупными, красная сетка тончайших кровеносных сосудов не позволяла угадать смысла его взгляда. У Йонаса не было времени разговаривать с Лео, он тут же повернулся и, опираясь на палку, заспешил прочь: он был устроителем похорон. Повел разговор с пастором — Лео не знал даже того, была ли причислена к приходу его мать. Затем Йонас кивнул женщинам: пришло время взять возложенные у гроба цветы и венки. Когда стали выносить из церкви гроб, Йонас подал Лео знак, чтобы он пошел за гробом первым, сам же остался в хвосте жидкой похоронной процессии, — видимо, у него сильно болела нога, он ковылял. Лео шел за гробом с болью в сердце и с краской стыда на щеках. Не хватало мужчин, чтобы нести покойную, за одну ручку гроба держалась какая-то кряжистая, средних лет женщина. У Лео не было ни малейшего представления, была ли эта отважная женщина близкой знакомой его матери или же в этих краях, где жизнеспособных людей оставалось все меньше, а похороны случались все чаще, стало правилом, что в подобных случаях сходились, вполне естественно, всем миром и общими усилиями управлялись с похоронами.
Когда гроб опустили в могилу, Йонас бросил на крышку букетик белых гвоздик. Потом отвернулся, достал из нагрудного кармашка платочек и долго старательно протирал очки.
Потом Лео взял лопату и начал подталкивать глинистые комья на край могилы, чтобы они тихо скатывались вниз. Опять женщины пришли к мужчинам на помощь: сменяя друг друга, они врезались лопатами в вязкую глину и откатывали в сторону камни, чтобы те не грохались на крышку гроба.
Вильмут и Эвелина только сейчас подоспели к кладбищу, они шли вприпрыжку спеша вдоль аллеи, и несли вдвоем большой венок из веток туи.
И снова Лео ощутил какую-то отчужденность: почему он не взял никого с собой из города? Даже жену. Все не было времени показать матери Неллу и маленькую Анне.
Вильмут тут же взялся за дело: снял шарф, расстегнул пальто и принялся за могильный холмик.
Затем Йонас обратился со словами благодарности к присутствующим и пригласил всех на поминки; он даже заказал автобус, чтобы отвезти людей в столовую. Лео позвал Йонаса к себе в машину, но тот отрицательно мотнул головой. Сказал, что поедет со всеми. Вильмут также забрался в автобус и сел в заднем ряду возле Эвелины. Лео в одиночестве следовал позади всех.
После поминок Йонас вышел на крыльцо проводить Лео. Тому было стыдно, но он все же счел нужным упомянуть о расходах. Нет, отказался Йонас, вы этого не поймете, это был мой долг. Выканье слышать было неприятно.
При прощании Йонас чуточку отошел в сторону и сказал, подавая руку:
— Не знаю, увидимся ли когда.
Они увиделись следующей весной, когда Лео улучил время приехать в Медную деревню, чтобы распорядиться материным домом. Йонас не вышел во двор, он передвигался на костылях. Протянув Лео ключ, сказал, что смысла замыкать дверь, пожалуй, уже нет, зимой кто-то разбил окно и забрался в дом — пусть Лео оставит ключ себе на память.
Действительно, дом был разорен. Лео собрал разбросанные фотографии, засунул в портфель еще несколько довоенных календарей-справочников, ни к чему другому не притронулся, в отсыревшем доме все пропахло плесенью. Нелла предупреждала: не привози оттуда ничего с собой, у нас и так мало места.
Лео оставил дверь незапертой, последовал совету Йонаса.
На соседний хутор он больше не пошел, не хотел беспокоить Йонаса, ему и без того трудно ковылять на костылях.
Лео побрел, выбирая тропинку посуше, на пригорок, к землемерной вышке, где оставил машину. Прислонился к серой деревянной опоре, поднес ко рту ключ и дунул в дырочку. Раздался слабый свист.
Над Долиной духов проносились светлые облака.
Чудно, когда-то давно Йонас имел привычку подниматься на верхнюю площадку вышки, чтобы поиграть там на трубе.
Потом Лео услышал от Вильмута, что в конце жизни за Йонасом ухаживала Эвелина. Частенько его навещали также городские родичи.
Во всяком случае старцы Медной деревни не посчитали нужным звать Лео на похороны Йонаса.
23
Лео оторопел от мысли: я презираю Вильмута. То, что он всегда завидовал легкости на подъем и общительности друга, на фоне этой внезапной жесткой апатии казалось слабым и мягким движением души. Иногда хотелось отшвырнуть друга: сгинь с глаз моих! Но тут же раздувшееся презрение лопалось, подобно проткнутому воздушному шару. Лео приходилось укрощать себя, потому что Вильмут был его ближайшим и лучшим другом, — кто у него еще остался? Ну что это за человек, который отвергает своего единственного друга! Нет, он связан с Вильмутом более чем ста узами, а потому приходится терпеть любые его слова и поступки. Лишь ограниченные, дрянные люди лезут везде со своим уставом и осуждают любой шаг другого человека. Возможно, именно Вильмут был в жизни Лео самой противоречивой личностью, от которой не могло отдалить даже расстояние. Мать, умерший в Швеции законный отец, ставшая в другой среде совершенно чужой Юлла, настоящий отец Йонас — все они заселяли ближние или дальние окрестности жизненного круга Лео; один лишь Вильмут стоял как столп посередине, почти задевая боком Лео, но Лео так и не смог расположить в своем жизненном кругу Неллу и Анне, а также Хелле, они словно бы и не находились вблизи от него, скорее парили над ним, чтобы порой птицей опускаться ему на плечи, — с ними Лео не связывали пространные воспоминания.
Зачастую Лео думал, не будь Вильмута, я бы, может, давно забыл Эрику. В теперешнее время довольно странно носить десятки лет в своей душе одну и ту же женщину. Ныне люди старались ко всему относиться с легкостью и не волочили за собой никакого груза. Отношения между мужчинами и женщинами возникали, словно грибы после дождя, чтобы сморщиться в первый же засушливый день. За богатую впечатлениями жизнь платили нетерпением и пресыщением.
Благодаря Вильмуту Эрика все время находилась перед глазами Лео. Что бы Вильмут ни рассказывал о себе, о своем доме, о детях и Эрике — это всегда задевало Лео. Больше того, повествования Вильмута вызывали противоположные чувства: однажды Лео даже заметил, что он охвачен навязчивой ревностью.
Чем больше запутывались у Вильмута отношения с Эрикой, тем сильнее он привязывался к вновь объявившейся Юте Вильсон. Встречаясь с Лео, Вильмут не уставал рассказывать о своей разгоревшейся любви. Лео лучше было бы оглохнуть, но он все же терпеливо выслушивал. Держал себя в руках, хотя готов был стонать от возмущения и извиваться от отвращения. Находясь в роли исповедника Вильмута, Лео придавал своему лицу такое выражение, какое хотелось бы в этот миг видеть другу: взгляд евнуха, веки приспущены, словно бы Лео не хочется смотреть на него, и все же как-то полутайком Лео следил за сидевшим рядом человеком, который исповедовался ему в своих поступках. В эти моменты где-то в области затылка кружила успокаивающая мысль: и у Вильмута всего одна жизнь, и у него душа, почему я должен восставать против того, что возвышает его над землей! Он не мальчишка, по какому праву я стану вмешиваться в его жизнь!
Существование Эрики не позволяло Лео оставаться безразличным.
С годами здоровье Вильмута становилось все хуже. На него навалились всевозможные беды, на которые он походя жаловался. Его мучили хроническая пневмония, закупорка вен на ногах, повторяющееся воспаление плечевого сухожилия, одно это уже причиняло нестерпимую боль — просто рука отваливалась. Вильмут давно не был передовым трактористом, фотография которого украшала когда-то совхозную доску Почета: работа превратила меня в калеку, имел обычай сетовать Вильмут. Без конца Вильмут разъезжал по санаториям, иногда даже проводил неделю-другую в больнице, ездил на консультации то к столичным, то к тартуским докторам. Из-за частых отлучек он превратился на работе в своего рода случайного человека, который как бы утратил квалификацию и стал затычкой к любой дыре. Вильмут и не возражал против этого. Сегодня здесь, завтра там, это ему вроде даже нравилось. На людях говорливый и жизнерадостный, он с удовольствием вливался в новую рабочую среду. С одинаковой охотой он перебирал картошку, возил корма на ферму или ремонтировал там транспортер.
Иногда Лео сомневался, уж не притворяется ли Вильмут, преувеличивая свои болячки, или просто обращает на свое здоровье излишне пристальное внимание. Именно благодаря болезням Вильмут стал очень подвижным человеком, его хвори не мешали ему недурно проводить свои дни. Как он сам оправдывался: душа к звону тянется.
Видимо, в обществе Юты Вильсон давно названивали колокола.
Женщина эта посылала Вильмуту письма до востребования и, странное дело, назначала ему свидания по всей Эстонии. Частенько случалось, что Юта Вильсон должна была по делам службы ехать в то или другое место — отдельные цеха больших заводов располагались и в поселках, и в маленьких городках — и непременно хотела встретиться там с Вильмутом. С приглашением в кармане Вильмут в очередной раз направлял стопы к начальству и выпрашивал себе отгул. Он не считал за труд часами трястись в автобусе или в поезде, отправляться в дорогу спозаранку, возвращаться домой за полночь, чтобы побыть немного вместе с Ютой Вильсон. Эти беглые встречи мало что им давали. Зачастую у них даже не было возможности уединиться. Юта отправлялась в командировку всего на день и бывала сверх головы занята делами, предоставляя Вильмуту в ожидании ее убивать время где-нибудь в столовой за столиком. Затем она впархивала, присаживалась наскоро напротив него, с репортерской краткостью и деловитостью справлялась о его жизни и здоровье, чтобы поддержать теплые отношения, произносила на прощание несколько нежных слов и просила проводить ее на автобус или на поезд. Редко случалось, что Юта снимала в гостинице номер; тогда они на несколько часов избавлялись от посторонних глаз. Иногда доходило до смешного — расписания были составлены без учета их интересов, — взявшись под ручку, они прогуливались в отведенные им минуты по перрону, и, как говорил Вильмут, их встречи иной раз умещались всего лишь в одну сигарету.
Лео считал эти их отношения пустячной игрой. Видимо, оба они утратили способность и к душевной и к физической любви — при встрече перебирали минувшие дни и сокрушались по ушедшим годам. И все же они не хотели поддаваться омертвению чувств; с обоюдного молчаливого согласия в их отношениях установились новые правила: странные беглые спектакли проигрывались один за другим. Где-нибудь на замусоренной автобусной станции они глядели друг другу в глаза, пожимали руки, им казалось, что тело охватывается горячим приливом, пытались на мгновение выключить трезвый рассудок и делали вид, что нет причин для озабоченности.
Быть может, вообще все, что делает человека счастливым, на самом деле лишь воображение, мираж?
Видимо, Вильмут больше Юты верил в миражи. Когда ему удавалось заполучить бюллетень и отлучиться на несколько дней в столицу, он жил у Юты и лишь перед возвращением домой наведывался к Лео. Надо было освободиться от груза впечатлений, прежде чем возвращаться. Смеяться над чьим-то образом жизни было грешно, но, к сожалению, истории Вильмута были жалкими и смешными.
Вильмут, спавший с лица, жаловался, что провел бессонные ночи. Они пили с Ютой вино и анализировали свою любовь. Вильмут скулил, что Юта — кремень, а не женщина, не хочет, чтобы мужчина навсегда поселился у нее. Пусть Вильмут вырастит своих детей, не устает она повторять. Наконец до Вильмута стало доходить, что вроде бы благородная забота Юты Вильсон о его потомках просто удобная отговорка: так можно было удерживать его на нужном расстоянии. Вильмут охал и кряхтел, прежде чем нерешительно признался, что, наверно, им и не о чем было бы говорить, если бы они постоянно жили вместе. Юта немного поворкует, а потом надолго умолкает. Но стоит зазвонить телефону, со всех ног бросается к нему и часами бог знает с кем тараторит. Вильмут пришел к заключению, что обширный круг знакомых Юты создает ему конкуренцию. К тому же, видимо, смелая Юта побаивается тех, кто звонит ей, тех, других, — вдруг они вознегодуют, посели она у себя в доме мужчину! Иногда его дорогая Юта натягивает чужую маску и долбит, мол, ценит свободу. Свободу! Слово это бесит Вильмута. Разве спокойная жизнь не превыше свободы? Сидели бы вдвоем по вечерам у телевизора и шли бы потом беззаботно на боковую.
Вильмут решил пробудить у Юты ревность, пусть испугается: мужик-то может выскользнуть из рук. Вильмут считал большой хитростью, что без стеснения писал Юте о своих похождениях в домах отдыха и санаториях, придумывал, что за ним гоняются женщины, которые от него просто без ума. Описывая свои незатейливые амурные приключения, Вильмут не уставал заверять, что, несмотря на всю эту бьющую ключом жизнь, он не забыл Юту. И все равно Юта Вильсон не торопилась связывать свою жизнь со столь желанным мужчиной, не знающим отбоя от женщин.
Лео с отвращением слушал своего донжуанистого друга.
Временами досада к Юте Вильсон перерастала в горечь, и Вильмут решался не ехать на эти мимолетные встречи на железнодорожных станциях и автовокзалах. Он представлял, как Юта тщетно ждет его, к сожалению, злорадство не заглушало его страданий — в эти дни Вильмут был как на иголках.
Как всегда случается, Эрика напала на след Юты Вильсон. В небольших местечках люди находят удовольствие в преследовании чужих тайн и пороков; женщинам на почте показалось странным, что Вильмут получает подозрительные письма до востребования. Проявляя доброхотство, они обратили на это внимание Эрики. Поди знай, может, женщины пошли на благородное преступление — виной тому бедная впечатлениями жизнь, — и, прежде чем отдавать письма Вильмуту, их вскрывали над кипящим чайником. Во всяком случае, Эрика оказалась слишком даже информированной и, в довершение ко всему, обнаружила дома вещественное доказательство. Спьяну Вильмут позабыл в книге одно из писем.
Вместо обычной перепалки на этот раз в доме разразился шумный скандал.
Когда Лео услышал об этом, ему снова захотелось оглохнуть — чтобы низость и мерзость не доходили до него. Жалобы Вильмута действовали на Лео так, словно бы ледяные капли долбили его темя, и он, возможно, пережил чужой семейный скандал гораздо тяжелее, чем сами его участники.
И вновь Лео ощутил свою вину перед Эрикой. Из-за него очутившаяся в беде Эрика вынуждена была выйти замуж за первого попавшегося и прожить жизнь, унижавшую человека. Он, Лео, вырвал бы Эрику из будничной серости и сделал бы ее другой, избавил бы ее от безвкусных деревенских и поселковых привычек и пробудил бы в ней духовность. Лео верил, что он отучил бы Эрику от замашек, не свойственных деликатным людям; в их жизни царили бы миролюбие и взаимное доверие. Стоит хотя бы раз опуститься по какому-нибудь поводу до перебранки, где не выбирают выражений, и отношения уже навсегда изгажены, словно покрыты въедливой грязью.
В своих мыслях Лео парил в голубом сиянии над безрадостной жизнью Вильмута и Эрики.
Слушая Вильмута, Лео понял: судьба в отместку уготовила ему эти истории. Ведь он первым повернул перед Эрикой жизнь мрачной ее стороной и лишил ее надежды на покой и радость.
Но еще более ужасные душевные испытания ожидали как Вильмута, так и Лео впереди.
То, что произошло вскоре, чуть было не повергло Лео в приступы ревности.
Ну и Вильмут — не мог уж промолчать!
Он все еще считал Лео своим лучшим другом, от которого не было причины что-либо скрывать.
У Эрики появился любовник.
Рассказывая об этом, Вильмут не мог устоять на месте. Ноги, болевшие сильнее обычного, не поспевали за ним. Так он и носился по комнате Лео, подавшись телом вперед. То и дело застывал на месте, стучал кулаком по лбу с высокими залысинами и все повторял: и что у нее только на уме! Вся округа полна слухов, люди смеются не только над Эрикой и ее возлюбленным, но и над Вильмутом. Все началось с совхозного праздника урожая. Вильмут сидел с мужиками из мастерской, вначале он вроде и не замечал, что Эрика все время танцует. Что из того, его ноги уже давно не годились выписывать кренделя на паркете, — так пусть хоть жена покружит. Вильмут уже крепко захмелел, когда заметил, что Эрики в зале нет и что их новый тракторист-танцор тоже будто в воду канул. Мужики из мастерской завелись, на столе появлялись все новые бутылки, и Вильмут забыл про Эрику. Только под утро, добравшись с песней домой, увидел: жена одевается, чтобы идти на ферму. Не было у них времени пререкаться, и Вильмут завалился в кровать, чтобы проспаться.
Прошло несколько дней, и Вильмут стал замечать, что Эрика возвращается с вечерней дойки куда позднее обычного. Однажды даже полночь пробила, когда Эрика соизволила явиться — зардевшаяся, легкой поступью, с непривычным блеском в глазах. Вильмут знал, что доярки, бывает, балуются в комнате отдыха винцом — женщина тоже человек, — им тоже хочется развеяться, развязать языки, поговорить о жизни; так Вильмут и не стал ничего расспрашивать.
Однако вскоре поползли слухи: Эрика шастает к новому трактористу. Вильмут отмел сплетни, не возводите напраслину, танцор этот на несколько лет моложе Эрики, что, ему девок мало, навряд ли его привлечет замужняя женщина, да еще мать троих детей. Мужики в мастерской не стали спорить с Вильмутом, чего им лезть в чужую жизнь. Пусть Вильмут живет в блаженной вере, что у него верная и смирная жена.
Эрика все чаще задерживалась на работе.
На сердце у Вильмута стало тяжело от заботы.
Однажды вечером он отправился на ферму поглядеть. Эрика вышла, осмотрелась — что там увидишь в темноте, Вильмут, как тень, прижался к стене — и направилась в центр поселка. Вильмут, держась на расстоянии, крался следом за женой.
Лео слушал Вильмута, и ему казалось, что и сам он стал участником унизительной слежки.
Пошел мокрый снег. Тяжелые хлопья залепляли глаза, сырой ветер пропах прелой листвой, где-то впереди по едва заметной тропинке шла в сторону домов Эрика. Ее резиновые сапоги оставляли на сыром снегу темные следы, усилившийся снегопад тут же прикрывал их, словно хотел сбить с толку преследователей. Задували порывы ветра, и Эрика не слышала, что за ней крадутся двое — Вильмут и Лео, который в своем воображении шел рядом с другом. Прибавив шагу, они приблизились к ней. Смахнув с глаз налипающий снег, увидели согнувшуюся Эрику. Легкое пальто, надетое поверх толстой вязаной кофты, было тесным в плечах, случайная одежда уродовала фигуру женщины.
Двое мужчин, топавшие за Эрикой, могли бы дать злости слегка улечься: разве их долг был не в том, чтобы простить ее, разве им не следовало бы ею восхищаться — ее жизненная сила неизмерима. Вот она шлепает по мокрому снегу, средних лет женщина, которую обманывали и унижали, которая тяжело трудилась и растила детей и все равно сохранила веру в то, что счастье возможно, она спешит, в надежде, что есть еще в мире для нее нечто светлое.
Но у обоих мужчин, вышагивавших следом за Эрикой — наяву и в мыслях, — недоставало великодушия, чтобы позволить ей к чему-то устремиться. Вильмут исходил гневом, он искал способа сурово отплатить жене, жаждал больно наказать Эрику, чтобы запомнила на всю жизнь. Он не думал, что, набросившись на нее с кулаками, чего-нибудь достигнет. Видимо, подсознательный страх удержал его от применения силы, такой, как он, хилый и хворый, не устоит перед женой. Возможно, его бы самого с позором отдубасили и ему пришлось бы подниматься с грязной слякотной земли. Кряхтя, он, тщедушный, встал бы на ноги, чтобы отряхнуть свои обвислые штаны от налипшего снега. Вильмут понимал, что терпевшая бесконечные обиды Эрика не пожалела бы его, не опустилась бы на колени перед мужем, с которым прожила долгую жизнь, не стала бы лить слезы, просить прощения и поддерживать его, чтобы вместе, в обнимку, поплестись по липкому снегу домой.
Другой мужчина, который лишь в воображении крался следом за Эрикой, дрожал от напряжения. Его мучила ревность, подстегивала страсть и изводило смущение. Он снова подумал о прежней Эрике, далекого прошлого, девушке, которая во время похорон отца Вильмута делила себя и свое доверие с щедрой расточительностью, ничего более возвышенного в своей жизни Лео не помнил. Эрика оставила в Лео глубокий след. Ревность не давала ему покоя: только я должен занимать мысли Эрики, невозможно, чтобы она забыла меня; это невыносимо, чтобы ее сердце тянулось к какому-то другому, бог весть откуда объявившемуся человеку. В мыслях своих Лео пронесся бы стороной, обманув их, и Эрику, и поникшего Вильмута, ворвался бы в убогую комнатку того незнакомого мужчины, вышвырнул бы оттуда этого типа — пусть сгинет в снегопаде, пусть толчется по слякоти, пусть растворится в лужах; он сам, Лео, желал стоять, выпрямив спину и усмиряя колотящееся сердце посреди комнаты, и ждать, когда постучится Эрика. Он готов был предать своего друга Вильмута, оставить его за семью замками, чтобы еще раз побыть с Эрикой и, закрыв глаза, поверить, что все по-прежнему, как было когда-то темным осенним вечером в Медной деревне, они еще молодые, никакие опасности их не подстерегают, время еще не успело посмеяться над ними, ничто не в силах им помешать.
В своем воображении Лео мог пережить все что угодно, стерпеть муки ревности и презирать того тракториста, который вскружил голову Эрике. Но ярость Вильмута побуждала его к действию — право законного мужа. Может, Вильмут не верил, что Эрика и впрямь переступит порог того дома, может, у него теплилась надежда: трезвый разум победит, жена постоит у крыльца, повернется, и чувство долга подтолкнет ее в обратный путь. Эрика в совершенном спокойствии вошла в чужую дверь, не оглянулась пугливо по сторонам, не было ей дела до того, что кто-то увидит ее позор. Вильмут впал в буйство — можно ли стерпеть, когда тебе плюют в лицо? Его законная жена никого не испугалась? Известные Вильмуту люди признавали только тайный грех, запретный плод вкушали тайком и заботились, чтобы все было шито-крыто. А Эрика нагло отвергала устоявшиеся обычаи! Откуда она брала силы, что отваживалась быть такой! Или ее чувства к тому человеку были выше простого вожделения?
Обескураженный Вильмут схватил пригоршню талого снега, думал, что попадется подходящий камень, чтобы запустить им в окно; сквозь полосатую занавеску виден был свет. Ни одного булыжника не попалось Вильмуту под руку, он даже снежка скатать не смог, наскребенная им жижица таяла в ладони и стекала в рукав, будто руки у Вильмута пылали огнем.
Свет за полосатым окном погас. Вильмут повернулся и побрел к своему дому, выкрикивая проклятья, которые заглушал снегопад. Он ругался на чем свет стоит и хватал ртом летящие в лицо разлапистые снежинки, его шатало, будто он был вдрызг пьян; лучше ему не становилось. Эрика без конца опускалась с чужим мужчиной на кровать, вновь и вновь бросались они друг другу в объятья; оба дрожали от нетерпения — с резиновых сапог, которые Эрика стащила с ног, на пол все еще сползали ошметки снега.
Ночью Вильмут не пустил Эрику домой. Жена колотила в дверь и в окна. Вильмут сидел на краю кровати, обхватив руками голову, и даже не откликнулся. Сыновья пробудились от своего молодого богатырского сна, хотели пойти открыть. Вильмут заорал на них, обозвал кровных своих чад крысятами и пригрозил прибить их, если они посмеют открыть дверь.
Вскоре Эрика перестала стучаться и ушла, Вильмут в эту ночь не смог уснуть. Он думал об Эрике и видел ее стоящей посреди открытого поля. Она стояла в беспомощности и не знала, что предпринять. Снег валил как из мешка, налипал на одежду, покрыл слоем пальто, на волосах наросли сосульки и звенели на ветру. Эрика будет наказана сполна: она превратится в ледышку.
В ближайшие дни Эрика дома не появлялась.
Вильмут ходил по мастерской, будто ничего не случилось; не стал выспрашивать у других, что там с его женой. Сыновья приходили из школы, расстроенные и угрюмые, поглядывали исподлобья на Вильмута, жевали черствый хлеб, запивали молоком, не было у них желания жить по-человечески.
Наверное, Эрики уже с неделю не было дома, когда по мастерской пополз слух: новый тракторист взял расчет и исчез в неизвестном направлении. Мужики похлопывали Вильмута по плечу, хвалили его предприимчивость и допытывались, каким это образом он устрашил соблазнителя. Растерянный Вильмут ничего не мог понять. На всякий случай выпятил грудь, подмигнул приятелям: забияка известный, отколошматил как следует, уж он-то свинства не прощает.
Вскоре сыновья начали потихоньку теребить отца, чтобы он позволил им позвать мать домой. Сердце Вильмута, человека доброго, оттаяло, все устроилось само собой, сыновья привели Эрику под руки домой, в доме опять запахло уютом. Одно лишь беспокоило Вильмута: почему Эрика не была приниженной! Черт сидел в ней, не давал ей заискивать и просить у мужа прощения.
Несмотря ни на что, дурное настроение у Вильмута рассеялось, и ревность Лео поутихла. Возможно, Эрика временно помешалась; от подобных отклонений никто не застрахован.
Чем дольше Лео думал о случившемся, тем больше жалел Эрику. Опять она оказалась обманутой, надежды ее втоптаны в грязь: напор ее чувств испугал тракториста — и он дал деру.
Ведь он-то хотел расцветить осеннюю темноту лишь небольшим красочным похождением — большего ему и не требовалось.
24
Еще несколько дней — и отпуск кончится. Еще несколько лет — и ему уже не придется думать об очередном отпуске, в пенсионном возрасте всяк сам себе владыка. Свобода старого человека, столь желанная для некоторых сверстников Лео, вызывала в нем позывы к смеху и неприятную дрожь. Но когда Лео ставил себя рядом с Вильмутом — все же одногодки, — он вынужден бывал признать, что друг его давно уже старик, сам же он — нет, отнюдь нет. У Вильмута живот выпирал из-под пиджака, волосы топорщились только за ушами, развеваясь по ветру, эти космы придавали ему вид добродушного, смирившегося со всем старика. У него давно уже вошло в привычку ступать мягко, — может, чтобы не сотрясать постоянно больную с похмелья голову, — и он не понимал, почему перестали изнашиваться башмаки, не догадывался, что это один из признаков старения. Лео принадлежал к иной породе. Заботился об осанке, и портной мог по-прежнему удивляться, как легко шить на него костюмы. И на волосы было бы грешно роптать, местами они, правда, поседели, но лысины на макушке и в помине не было. Морщины на лице расположились вполне подходяще, были соответственно расположены, отдельные складки, казалось, были проведены чуточку идеализирующим портретистом — для придания мужественности. Во всяком случае, по его лицу трудно было определить возраст. У большинства мужчин его лет кожа становилась дряблой, по-старушечьи обвислые щеки были покрыты сплошной мягкой сеткой морщин, под глазами — мешки, что выдавало болезни и нездоровый образ жизни.
Лео подумал, что, несмотря на тяжелые мысли, одолевавшие его в этом господском доме, отпуском он все же доволен. Он всегда полагал, что следует беречь любую живую душу, в том числе и его собственную, какой бы она ни была; значит, нужно было идти дальше и заботиться о своевременном восстановлении истраченных сил. Лео был по-своему благодарен сестрам, захваченным ремонтом особняка. Их бурная предприимчивость не позволила ему остаться сторонним наблюдателем. Вряд ли было бы разумно, следуя примеру классического дачника, весь отпуск пролежать в гамаке. Что же касается физической нагрузки, то в особенности последние дни пошли на подъеме.
По утрам Лео спозаранку спускался с мансарды, раздевался по пояс у колодца и обливался холодной водой. Он знал, что на благоухающей кофейным духом кухне его уже с нетерпением ждут хлопотливые сестры.
И почему только люди, как правило, столь редко наслаждаются удовольствиями упорядоченной жизни!
За столом шел разговор о запланированных на предстоящий день работах, иногда сестры спорили между собой, что в настоящий момент самое существенное. Надо было уяснить, какой работой обеспечить пенсионерскую рать; вот уже отряд стариков выезжает из зеленого тоннеля, словно участники звездного пробега. Число работников росло день ото дня, копошившиеся здесь вначале несколько мужиков сумели набрать себе помощников, кажется, подновление развалившегося господского дома пробуждало интерес у всех поселковых пенсионеров.
Налегали на работу старики, вкалывал и Лео. Обычно он выполнял какую-нибудь самостоятельную работу: ремонтировал крышу, крыльцо, красил окна, приколачивал отставшие доски в обшивке. Если старикам случалось попасть в затруднительное положение и они не знали, как быть дальше, тут же кто-нибудь из сестер звал на совет Лео. Когда старики убедились, что у Лео прямо-таки орлиная зоркость, он умел видеть сквозь толстые наслоения обоев и безошибочно угадывать расположение скрытых в стенах несущих конструкций, они стали относиться к нему с уважением. Однажды Лео услышал признательность в свой адрес: этот парень будто своими руками построил дом, так он знает расположение каждой балки.
Годы, проработанные в ремонтной конторе, не прошли впустую.
Незаметно для самого себя Лео загорелся идеей обновления старого дома. Вновь можно было осознать неизменность истины, что любая работа — творчество, если только не выполнять ее тяп-ляп. Солнце спустилось за лес, спрятавшаяся на день под стреху тень распустилась и укрыла фасад дома, захватив еще и половину двора: сумерки скрадывали многие изъяны — дожди и ветра делали свое дело, и дом, казалось, на самом деле обретал свою вторую молодость. Лео стоял спиной к зеленому тоннелю; обернувшись через плечо, он увидел в глубине образованного орешником свода уже ночную темноту, оттуда несло прохладой — это не мешало ему любоваться домом. Он испытал чувство умиления и почтения к трем сестрам, предпринявшим столь бессмысленные с точки зрения здравомыслящих людей труды и хлопоты. Видимо, эта возня помогала им заземлять свое внутреннее напряжение. Иначе Лео не мог объяснить себе мотивы их рвения. Сестры явно стремились, приводя в порядок среду своего обитания, ощутить хотя бы мгновенную иллюзию своего взлета, и Лео сопереживал им в этом. И без того хватает людей, преждевременно выписывающихся из жизни.
За домом темнела стена леса, голубизна неба постепенно обесцвечивалась. Лео прикурил последнюю в этот день сигарету. Перекатив по-мальчишески сигарету в угол рта, он засунул уставшие руки в карманы и с удовольствием любовался домом.
Казалось, что за последние дни покосившиеся углы дома вновь обрели отвесность, силуэт возведенной вновь трубы был сама уверенность, будто готовился выпустить прелестное светлое облачко дыма. Свежевыкрашенные белые переплеты окон на фоне темной стены выглядели весьма декоративно, средний, наиболее богато оформленный выступ мансарды гордо выступал вперед, будто кокарда на фуражке, — именно в зачарованных сумерках дом казался будто сошедшим с картинки и чуточку неземным.
Если бы три сестры сейчас находились поблизости от Лео, он бы сказал им от чистого сердца: славные родственники, хвала вам за то, что решили спасти здание, созданное замечательным архитектором.
Родственники? На самом деле это обстоятельство не имело какого-либо значения; сестры явно от скуки занимались родственными связями, по крайней мере в последнее время, занятые срочными работами, они не имели возможности разбираться в узловатых ветвях и отростках родового дерева.
Лео вдавил окурок сигареты в землю. Было время идти к себе в мансарду и укладываться на старый скрипучий диван.
Через несколько дней старики доберутся до верхнего этажа, там ведь тоже пропорции бывших комнат нарушены перегородками. Множесто людей жило под этой крышей, каморка на каморке. Возможно, в доме во время войны обитали беженцы, чтобы переждать в уединенном, затерявшемся в лесу доме бомбежки и перестрелки. Также вполне возможно, что в дни оккупации здесь, в укромном местечке, располагалась немецкая сверхсекретная разведшкола.
Быть может, сестры нападут на след истории дома, когда начнут разбирать и уничтожать разный хлам в комодах и шкафах на верхнем этаже.
Отпуск у Лео скоро кончается, он не теряет надежды узнать потом, что же там обнаружилось. Только надо ли упрямо разгадывать до конца все тайны, будто речь идет о кроссворде.
Человеческое любопытство не должно простирать повсюду свои щупальца.
Слава богу, их с Вильмутом тайна остается до сих пор нераскрытой. Нынешнее положение вещей вселяет надежду, что они с Вильмутом унесут с собой в могилу воспоминания о происшедших некогда событиях.
По крайней мере, сегодня он не должен об этом беспокоиться. Может спокойно спать. Лето клонится к осени, ночи за время отпуска Лео стали приметно темнее, волнующее свечение неба померкло, и сон соответственно стал глубже и более освежающим.
Исчезли бы уж наконец из сознания мерцающие огоньки опасности! Исчезли бы навсегда.
Ведь прошлые критические состояния отошли в такую даль.
Точно так же, как и предательский шаг Айли.
Недавно, всего месяца два тому назад, он мельком увидел Айли на улице. Она устало волочила ноги, шла с поникшей головой, во всей ее осанке и небрежной одежде проглядывало безразличие. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, сколь однообразен груз забот ее монотонной жизни. Можно было догадываться, что теперь на ее плечах лежала вся семья, и одряхлевшая мать, и пьяница брат. Видимо, она с трудом сводила концы с концами, может, зимой они сдавали школьникам одну или две комнаты в своей большой квартире. Совершенно очевидно, что брат Айли Рауль вконец опустился. Наверное, этот пропойца не останавливался и перед насилием, чтобы выбить у сестры денег на водку.
Увидев Айли, Лео на мгновение заколебался — что, если подойти? Они могли бы немного поговорить, как старые добрые знакомые, Айли облегчила бы душу.
Тут же Лео почувствовал неуместность своего импульсивного желания. Нелепость! Старые знакомые! Многие годы прожили они в свободном браке, точнее, до того самого момента, пока Айли не пошла доносить на него. Какие там еще отношения? Лео навсегда ушел из той квартиры с высокими потолками, не сделав даже маленького крюка, чтобы снять висевшие в саду на веревке носки и носовые платки.
Провожая взглядом удалявшуюся по улице Айли, Лео понял, что можно на мгновение вымести старую вражду, но напрочь она никогда не угасает. Проследив за исчезающей в людской толпе головой Айли, Лео ощутил бесстыдное облегчение и непристойное злорадство: волею судьбы он в общем-то вовремя освободился от этой глупой женщины. Если бы не предательство Айли, кто знает, сколь продолжительной нервотрепкой стала бы их семейная жизнь.
Рауль вбил между ними клин, после чего две половинки начали с треском отламываться друг от друга.
Рауль вернулся из Сибири в пятьдесят седьмом году. Не предупредив мать и сестру письмом, он заявился домой, встал неожиданно в дверях, здоровенный мужик, фуфайка нараспашку, какой-то странный нежно-розовый шарф на шее, в негнущихся кирзовых сапогах, в руке перевязанный лохматой веревкой узелок, который лишь благодаря болтавшимся брезентовым ремням напоминал рюкзак.
Мать и Айли растрогались, обнимая блудного сына и брата, они одновременно плакали и смеялись. Они поставили его посередине комнаты, как статую, и семенили вокруг. Лишь один Лео сообразил, что надо делать, и отправился в ванную разжигать колонку.
Потом, вечером, когда Рауль сидел между диванных подушек в костюме доарестантской поры, трещавшем по швам, а женщины без конца щебетали и совали ему то чашечку с кофе, то рюмку ликера, — уже тогда Лео почувствовал в воздухе нечто зловещее. В тот первый вечер Рауль сидел хмурый, на вопросы отвечал односложно, видимо, собирался с духом, с родимым кровом приходилось вновь свыкаться. В какой-то миг показалось, что Рауля трясло отвращение, он сердито отбросил угодившую под локоть диванную подушку и с плохо скрываемой неприязнью отказался от подаваемой вазочки с печеньем. Мрачный взгляд его темных глаз бродил по углам, он не слушал того, о чем тараторили мать и Айли. Он будто напряженно искал ответ на какой-то вопрос, который ему не удавалось сформулировать. Лео украдкой следил за ним — Рауль стал каким-то диким. До сих пор Лео не мог понять, почему Рауль с самого начала почувствовал себя в родном доме явно неуютно; видимо, для такого состояния необходимо усвоить стадные правила, невозможность расслабиться, волчье ощущение загнанного в угол человека, постоянную настороженность и надзор и испытать навязанность примитивного существования — выступать за самого себя становится первейшим инстинктом. А с другой стороны, захватывающие дух просторы окружающей природы, иллюзия бесконечности, способная в зависимости от внутреннего содержания или возвысить, или подавить человека; во всяком случае, казалось, что Раулю трудно снова втиснуть себя в уютное обрамление гостиной, в тесную и весьма наивную домашнюю среду. Исчезла громада стеклянной глыбины, за которой проглядывал горизонт. Садики, беседки, кусты сирени, цветочные клумбы — столь пугающе близко и осязаемо.
И в следующие дни мать и Айли не давали Раулю покоя, своей заботой они хотели как-то скрасить его пропавшие впустую годы. В шкафах отыскали отрезы довоенного сукна, это был редкостный и изысканный дорогой английский материал, такого уже никто не носил, и Рауля начали водить по портным, заказали полный комплект одежды, купили велюровую шляпу цвета мха — женщины наряжали его, будто куклу. Однако Рауль вытащил из своего обтрепанного рюкзака кудлатую волчью ушанку и повесил ее в передней на видном месте.
Лишь через неделю у Рауля начал развязываться язык.
Лео до сих пор не знал, выдумал ли Рауль все свои истории, набрался их у уголовников или на самом деле рассказывал случаи из собственной жизни; как бы там ни было, в таком изобилии грубости и циничности Лео никогда еще не встречал.
По вечерам, за кофе или чаем, женщины сидели оцепеневшие, затаив дыхание, с раскрытыми от ужаса глазами, даже при самых ужасных непристойностях и упоминании о противоестественном пороке они не морщились, сосредоточенно вбирали в себя страшные испытания, выпавшие на долю близкого человека. Эти жуткие истории вызывали у Лео отвращение, порой казалось, что окровавленные лица дерущихся людей, выпученные глаза человека, которого душат, и прочая мерзость собираются над ними облаком, которое колышется на фоне темно-золотистых обоев. Но женщины цепенели, они не прерывали Рауля, будто находились в трансе; возможно, то, что им пришлось услышать, доставляло им своеобразное атавистическое наслаждение, быть может, они были по-своему счастливы от сознания того, что хотя они и узнали о мерзостях жизни, сами они никогда не были принуждены лично сталкиваться с чем-то подобным.
Ночью Айли дрожала в кровати рядом с Лео, временами ее голову словно бы отрывали от подушки; она размахивала руками, всхлипывала; требовалось некоторое время, чтобы она окончательно проснулась и ей стало бы ясно, что она находится дома и бояться ей нечего.
Перед тем как снова погружалась в сон, Айли извинялась, ведь на долю Рауля выпали столь тяжкие страдания. Эти слова повторялись из ночи в ночь. За ними чувствовался упрек. Примерно в таком роде, мол, почему покарали Рауля, прогнали через мерзкий ад — а вот ты, Лео, отсиделся, как кот, возле горшка со сметаной.
Лео невольно насторожился, но недоставало решимости что-нибудь предпринять.
Вскоре у Рауля то ли иссякли его истории, то ли он потерял интерес к тому, чтобы рассказывать их в домашнем кругу, и он разыскал старых приятелей, какие остались после всех пережитых заварух. Несомненно, он и на них выплескивал те же россказни. Возле пивных киосков Рауля можно было встретить разглагольствующим в кругу мужчин, его истории словно бы множились в мозгу, копии плодились, они становились в тягость, и от них следовало освободиться.
Мать и Айли не смели даже заикнуться, что вроде бы уже время подыскать работу и начинать жить по-человечески. Рауль то и дело приходил домой с покрасневшими глазами и отсутствующим взглядом. Когда шел в одиночестве по улице, не переставал бормотать себе что-то под нос, дома говорить было уже не о чем.
Однажды Лео столкнулся в калитке с Раулем, оба шагнули столь неловко, что словно бы вклинились в проем. Этот секундный затор почему-то обозлил Рауля, и, хотя Лео тотчас же отступил назад, он все же гаркнул:
— Свинья эдакая, спишь с моей сестрой, а жениться не хочешь!
Лео такая пошлость обидела, он буркнул, что они с Айли не нуждаются в советчиках, и пошел своей дорогой.
— Погоди, — крикнул Рауль, — и у тебя еще волосы дыбом встанут!
Лео не знал, угрожал ли Рауль чем-нибудь и матери с сестрой, во всяком случае, жизнь становилась в такой доселе тихой и по-своему даже стерильной квартире мучительной, все избегали встречаться взглядом, как-то само собой пошло так, что сообща за обеденный стол уже не садились, ели на кухне, кто когда. И Айли будто подменили, в большинстве она в кровати поворачивалась к Лео спиной и ночами тихонько плакала в подушку — все запуталось.
Быть может, именно тогда Лео следовало бы повести Айли под венец — столько лет прожито вместе, привыкли друг к другу, — тем более, что никто из них не строил иллюзий насчет пламенной любви, однако у Лео возникло непреодолимое упрямство, Рауль еще и углублял его, не хотелось подчиняться самодуру.
Будто на месте Рауля был Ильмар, который загоняет его, Лео, под дулом в лес.
Иногда в редких случаях, когда Рауль соблаговолял являться домой более или менее трезвым и разговаривать с домашними, он мог, толкуя о пустяках — кого видел и что слышал, — вдруг мог впадать в ярость и кричать: «Мой брат в одиночку пошел против немцев, и его убили! Поверьте мне, — орал Рауль, размахивая кулаком, — убийца брата по сей день расхаживает, словно барин!» Он с такой силой изрыгал свою злость, будто все это случилось вчера, тело брата еще не похоронено и над ним тучей вьются синие мухи.
Айли и ее мать терялись, уставлялись в пол, щеки их дрожали, словно перед плачем, точно они были виноваты в том, что не смогли удержать горячего парня и лишили Рауля брата.
Каждым своим взглядом, жестом и намеком Рауль подчеркивал чужое ничтожество, Лео уже не понимал, чего, собственно, хочет Рауль, денег ли на выпивку или бесконечного, поддакивающего и пресмыкающегося сострадания.
Как бы то ни было, время искалечило его.
Иногда вечером Рауль натягивал на голову свою лохматую волчью шапку, брал мандолину, садился на крыльцо и с жаром пел какие-то чудные русские песни, слова которых были словно нерусские. В такие моменты он отходил и начинал в перерыве между песнями хвастаться, как хорошо они жили после лагеря на поселении. В рыбацкой артели бригадиром у них была эстонка. На здешних берегах такую рыбу и во сне не видели, какую они там брали в реке. Ловиза, их бригадир, до войны была крепкой торговкой, кроме прочего, возила на живорыбном судне в Швецию угрей — из-за богатства ее потом и взяли за шкирку, — вот она-то сказала, что настоящий рыбацкий азарт она познала только в Сибири… К черту все то, что было, говорила Ловиза. Меня тут просто дрожь пробирает, когда вижу, как пять дюжих мужиков воюют с одной рыбиной и с трудом переваливают ее через борт в лодку. Бригада Ловизы гремела на весь район, даже в газете о ней писали, никому другому так не везло с рыбой, и ни у кого другого не было такой энергии, как у нее. Будто она там, у этой большой реки, и родилась — в сапогах, и обе горсти в рыбьей чешуе — точно в серебре.
В те редкие моменты, когда Рауля одолевала похвальба, приветливей становились и лица Айли и ее матери, горестные складки у женщин разглаживались; к сожалению, Лео знал, что напряжение спадает ненадолго, скоро Рауль опять начнет орать и всех обвинять.
Становилось все труднее. У матери и сестры денег больше не было, пить стало не на что, и Рауль начал одну за другой продавать свои дорогие одежки. С тех пор он ходил в обвислом тренировочном костюме, поверх которого натягивал прорезиненный серовато-белый плащ, который годился на любую погоду. Мать Айли горевала, увядала и забросила свою портновскую работу, а дочь стала издерганной и нервной. Не могла даже радио спокойно слушать, крутила ручки так, что аппарат гудел и свистел. Она вздрагивала при каждом хлопке наружной двери, будто ждала какой-то беды или неприятности, все ходила тайком к буфету потягивать ликер, подозревала мужа, если тот, случалось, запаздывал, а однажды Лео застал ее в тот момент, когда она шарила в карманах его пиджака.
Жизнь стала невыносимой, даже унизительной. И все же Лео не мог уйти именно теперь, когда Айли и без того оказалась в тупике.
Она сама положила конец их отношениям.
Все разрешилось так, будто ножом обрезали.
Начальник управления кадрами министерства вызвал Лео к себе, предложил сесть и с нарочитой медлительностью открыл сейф. Выудив оттуда личное дело Лео, открыл его, поправил очки на носу и сделал вид, будто углубился в его анкету.
— Тут у вас имеется пробел, — деликатно заметил он.
Лео молчал. Рауль неспроста грозил, что у Лео от страха еще волосы дыбом встанут.
— Что вы можете на это сказать? — спросил начальник.
Лео по-прежнему молчал.
— Да и что вам сказать, — вздохнул начальник кадров, — мы любим документы. Хорошая была бы бумага: в белофинской армии не служил. — В уголках его рта появилась улыбка.
Так вот в чем дело. Как хорошо, что он никогда полностью не доверялся Айли. И у него возникали минуты слабости, когда хотелось раскрыть душу.
Значит, Айли его предала.
— Я думаю, для пользы дела будет лучше, если вы откажетесь от сотрудничества в нашем учреждении, — старомодно выразился начальник кадров.
Не сходя с места, Лео написал заявление.
— Видите ли, — сказал начальник, принимая бумагу, — поймите меня правильно, мы не желаем вам зла, работу свою вы выполняли компетентно. Может, кое-кому из коллег будет жаль вас. Но у вас могли быть семейные причины, либо по состоянию здоровья.
Из этого намека Лео понял, что донос Айли должен остаться между этими стенами.
Лео поднялся, поклонился и пробормотал:
— Благодарю вас.
Начальник кадров с сожалением развел руками и сказал:
— Женщины умеют заваривать кашу.
В тот день, когда Лео получил в министерстве полный расчет, он отправился домой — нет, на квартиру к Айли, этаким легким шагом.
Не говоря ни слова, собрал чемодан, взял возле письменного стола футляр с проектом и изобразил на лице судорожную улыбку, когда взглянул на перепуганную жену. Лео не хотелось ругаться, его наперед передергивало от возможных всхлипов и причитаний. Странно, что побледневшая Айли в этот миг не вызывала в нем отвращения. Презрение появилось потом, когда он в бессонные ночи размышлял о случившемся.
— Двум безработным лодырям нет места под одной крышей, — это все, что он сказал перед уходом.
Айли не смогла удержать себя в руках, всхлипнула, робко подошла к Лео и хотела было обнять его за шею. Лео не отложил в сторону чемодана и футляра, перед Айли оказалось препятствие.
Песчаная улица была на удивление белой, и воздух рябил.
25
По зеленому тоннелю сквозь завесу солнечных бликов приближался Вильмут.
Увидев друга, Лео выскреб из ведра раствор, пришлепнул его и обрадовался, что вовремя справился с работой. Теперь они могут полежать с Вильмутом где-нибудь под деревом и понежиться за разговором. Впереди долгий день, можно что-нибудь предпринять. А что если съездить в поселок за пивом?
Вдруг у Лео появилось страстное желание оставить этот странный, спрятавшийся в лесу и словно бы нереальный дом. В нем проснулся дух горожанина. Пучина спешки и сутолоки вновь манила его. В какой-то миг здоровый образ жизни и близость к природе могут и впрямь приесться.
Вильмут вышел из тоннеля, остановился, хотя и должен был видеть Лео, не махнул ему рукой, а, задрав голову и засунув руки в карманы, уставился на обновленный дом. Он внимательно оглядел его, будто впервые в жизни оказался перед грандиозным дворцом, принадлежавшим когда-то сильной династии, и сверил расплывчатую картинку в учебнике истории с действительностью.
Удивительно, Вильмут словно боялся ступить во двор — он уселся на камень под кленом.
Лео сам направился к другу.
Вильмут поднялся, заправил клетчатую мешковатую рубашку в брюки, затем торопливо, будто проситель, стянул кепку, отведя глаза и не поздоровавшись, проговорил:
— Вот я и опять холостяк.
— Каким это образом?
— Моя толстушка преставилась.
Пораженный Лео пробормотал что-то.
Вильмут снова опустился на камень, натянул кепку и, не поднимая глаз, сказал:
— Я пришел попросить тебя…
— Да, да, разумеется! — с готовностью воскликнул Лео. И тут же у него перехватило горло, он буркнул: — Подожди немного…
Он оставил друга сидеть и стремглав вбежал в дом, в сумеречном помещении он на какой-то миг почувствовал себя слепым, затем сквозь зеленые искорки он различил сестер, обсуждавших поодаль в углу что-то со стариками. Лео сообщил о случившемся, объявил, что соберет сейчас вещи и они с Вильмутом немедля уедут.
Сестры прервали разговор, пенсионеры тихо отошли в сторонку, не захотели мешать, Лео, топая по лестнице, поднялся наверх, неприятное ощущение одеревенелости в ногах стало проходить; в мансардной комнатке он на мгновение опустился на скрипучую софу, чтобы собраться с мыслями.
Возможно, Лео слишком торопился уезжать — необъяснимое чувство долга подгоняло его. Когда он с чемоданом спустился вниз и увидел, что Вильмут в обществе сестер пьет за столом кофе, он хотел было отказаться от предложенной чашечки, но все же стоя выпил кофе. Потом все гурьбой направились к машине.
Лео завел мотор, оставил его работать на малых оборотах, вышел из машины и пожал всем сестрам по очереди руки, поблагодарил за любезность и заботу; сестры пригласили его на следующее лето снова приехать к ним, с женой и дочкой, слова эти кольнули Лео — за все это время он не написал Нелле ни одного письма. Горькие мысли прокрались в голову; как они там справляются вдвоем? Вдруг с Неллой или Анне что-нибудь случилось?
Сообщение Вильмута о смерти жены вывело Лео из равновесия. Неожиданные неприятности и несчастья могут настигнуть каждого. Когда он еще попадет в город?
Странное душевное волнение охватило Лео, оно удивительным образом легло на только что мелькнувшие тревожные мысли. Ему стало жаль сестер — останутся в одиноком доме без мужской руки. И ночи становятся все длиннее и темнее. Возможно, лишь сейчас, впервые, Лео пронзило сознание какой-то общности с сестрами — неужто ожили родственные связи? Зов крови подал знак о себе?
— На следующий год вместе исследуем родословное древо, — пообещал Лео сестрам.
Сам почему-то подумал: если будем живы. Может, уже подходит смертный час, приближается черта, за которой лишь пустота, и все останется незаконченным. В этом мире ни у кого нет возможности насладиться совершенством завершенности, чтобы все концы до последнего были сведены воедино.
— Непременно, — хором заверили сестры. А Хельга с гордостью добавила:
— Чего только не случалось с потомками Явы, где их только нет! Ствол ее древа оброс кроной, которую взглядом не охватишь. Нужно время и терпение.
Во всяком случае сейчас у Лео терпения не хватало.
Он забрался в машину. Вильмут устроился рядом.
Лео видел в зеркало заднего обзора, что сестры машут им вслед. Машина нырнула в тоннель, позади осталась залитая солнцем поляна, которая все уменьшалась и уменьшалась, обернулась светлым пятнышком — и исчезла.
Вильмут молча развалился рядом с Лео.
Лео не хотелось проявлять пошлого любопытства, расспрашивать, от какой болезни умерла супруга Вильмута, предупреждали его врачи или нет, и тому подобное. Какое теперь имеют значение эти детали? Человека больше нет.
Лео свернул с лесной дороги на шоссе, прибавил газу.
— Ее уже похоронили, — сказал Вильмут. — Ты гонишь так, будто собираешься доставить ей последнее причастие.
Лео выключил скорость, снял ногу с педали газа и дал машине пробежать на холостом ходу, пока она не остановилась на обочине.
Он полностью опустил стекло, вдохнул пыльный, пропитанный запахами асфальта воздух, слова Вильмута обескуражили его.
— Что же мы будем делать?
— Сестра покойной и ее семья, собственно, меня и близко не подпустили. Сами все уладили с бумагами, договорились с пастором, заказали гроб и машину. Когда толстушка умерла, Асте дали знать из больницы, она и слезы не пролила, прибежала с мужем ко мне и завизжала, чтобы я убирался из дома, не то милицию вызовут. Будто поленом оглушили. Только потом сообразил, что, видать, супружница моя отдала богу душу. Аста не позволила мне даже ночь переспать в доме, соседи приютили. Баба эта унижала меня и издевалась так, будто я невесть какой жулик и обманщик. Сердце мое изнывало, толстушка полюбилась мне, но Аста со своим мужем носились, задрав хвосты, и занимались поминками, чтобы как можно пышнее были.
Вильмут высморкался.
— Стыдно рассказывать, но так со мной еще никто не обходился, я всегда с людьми ладил. Удивляюсь, как это меня еще с кладбища не прогнали. На поминки все же позвали, да так, походя, сидел в дальнем углу, как посторонний какой. Зазвали меня туда вроде бы затем, чтобы я услышал, что они думают о нашей совместной жизни с покойной. Разоряться, правда, не осмелились, разговор с виду был вполне пристойный. Превозносили покойную, но со вздохом добавляли, что в последнее время болезнь здорово ее подточила, уж и не ведала бедняга, что творила и на что шла. Явно намекали на то, что толстушка взяла меня в дом.
Лео угостил друга сигаретой. Мимо пронеслись тяжелые машины, обдавая чадом и пылью. Лео вытащил антенну и повернул ручку приемника. Видимо, рядом проходила линия высокого напряжения, музыка едва пробивалась сквозь шумы. Лео вспомнил, что за время отпуска ни разу не слушал радио. Будто провалился в какую-то пропасть, куда не доносились земные звуки. И газет не читал целую вечность. И опять его охватила печаль. Нелла и Анне — что они делают? Теперь я должен буду в основном болеть душой за них, подумал он. Больше у меня никого не осталось. Вильмут? Вильмут тоже.
— Давай, поехали, — пробурчал Вильмут.
Через некоторое время машина остановилась у дома, где до этого жил Вильмут. Он оставил Лео дожидаться, а сам отправился разыскивать Асту. Вскоре они прошли по тропке между домами, пролезли в дыру в заборе, Аста отомкнула дверь, оставила ее настежь, возможно, чтобы проветрить дом. А может намекала Вильмуту, чтобы долго не задерживался.
Давно ли это было, поразился Лео, нагрянул ливень, мы вбежали с Вильмутом во двор, на лужайке разлилась вода, земля не успевала впитывать влагу, ну и лило. Радовались, как дети. Какими тогда мы еще были молодыми! Больше мы так не резвились.
На крыльце появился Вильмут, в одной руке гусли, в другой — аккордеон в футляре. За ним плелась дюжая Аста, несла чемодан, пальто Вильмута было перекинуто у нее через плечо, и еще какой-то узелок болтался в руке.
Вильмут положил свое богатство на заднее сиденье. Прежде чем Лео успел тронуть машину с места, Аста пролезла через дыру в заборе и, не оглядываясь, пошла прочь по заросшей травой тропке.
— Они легко отделались от меня, — вздохнул Вильмут. — Я такой покладистый, самому иногда противно становится. В старину наш род славился упорством, но, видишь, я не умею свое гнуть.
— Ничего, — пытался утешить его Лео. — Опять начнешь свою жизнь сначала.
— Начать сначала? — задумался Вильмут. — Нет уж. Видно, последний раз ходил в женатых. Больше неохота канителиться. Уже не смогу ужиться. Жаль, что так пошло. Сердце изранено.
— Куда едем?
— Давай к воротам кладбища, — попросил Вильмут.
Лео остановился под высокими деревьями и ждал, что скажет Вильмут. Тот сидел неподвижно, опустил подбородок на грудь, словно спал с открытыми глазами. Видимо, задумался и позабыл о существовании Лео.
Он не стал мешать другу. Наконец Вильмут шевельнулся, распахнул дверцу, опустил ноги на землю, снова нагнулся, взял с заднего сиденья гусли и попросил Лео подождать. Голос его звучал глухо, подбородок дрожал.
Лео опустил в машине все стекла, погода становилась жаркой, возможно, надвигалась грозовая туча.
С кладбища послышались звуки гуслей.
У Вильмута явно сохранились какие-то тонюсенькие связи со своей родней.
Лео почувствовал, что он полностью расслабился, — одна сплошная печаль. Ему вспомнились предвоенные воскресные утра, когда над Долиной духов разносились звуки трубы. У отца всегда темнело лицо, когда звуки Йонасовой трубы сквозь мощную крону вязов и кленов, сквозь шорохи густой листвы пробивались во двор Нижней Россы. В эти моменты отцу хотелось намеренно грохотать, чтобы помешать домашним слушать музыку. Заметив подавляемый гнев своего мужа, Мильда втягивала голову в плечи, опускала глаза долу и принималась торопливо возиться на кухне, сама же то и дело уставлялась взглядом в пол, будто искала там оброненную иголку. И все же Лео догадывался, что мать изо всех сил старалась слушать игру Йонаса, это же самое понимал, наверное, и отец. Может, он тоже видел, как мать, прислонившись спиной к бревнам, опустив руки, ставшая вдруг какой-то маленькой и робкой, стоит на углу дома, за кустом бузины и смотрит на макушки шелестящих деревьев, будто Йонас сидит на суку возле их хуторских построек и играет на трубе здесь, а не среди поля, на землемерной вышке. Наверное, больше всего злило отца поведение Юллы: звуки трубы гнали ее со двора на край Долины духов, от восхищения она то и дело восклицала и, взявшись за подол платья, кружилась среди картофельных борозд в танце.
Звуки гуслей оборвались. Но Вильмут не торопился к машине. Видимо, уселся возле могилы на белой скамеечке и думал о человеческой жизни и своих метаниях. Возможно, прожитые годы сгорбили его и состарили. И разговаривает он вполголоса со своей покойной толстушкой. Может, спрашивает совета: стоит ли ему еще раз начать все сначала?
Смерть Эрики подействовала на Вильмута иначе. Но тогда он еще не так износился, как сейчас. Он слал Лео письма, написанные вкривь и вкось, строчки дышали негодованием и злостью. Казалось, он только тем и занимался, что искал виновных. Становился все более мнительным, перебирал живших по соседству людей, оживлял в памяти какие-то прошлые ссоры, прикидывал, кто мог таить зло на Эрику, кто желал отплатить ей. Почему-то прежде всего он взял под подозрение женщин. Настолько потерял самообладание, что еще раз неподобающим образом припомнил любовную историю Эрики с тем трактористом, который появился в совхозе неожиданно и неожиданно исчез. В одном из писем Вильмут уверял, что какая-то Линда или Лайне из их краев была без ума от этого тракториста-танцора, и, когда у нее увели из-под носа мужика, женщина эта стала кровным врагом Эрики. Эта Линда или Лайне — Лео забыл имя — после того как исчез тракторист, еще некоторое время рассказывала в округе, сколько раз Эрика бывала у него на квартире и как долго оставалась там.
Затем мысли Вильмута пошли пошире кругом. Он вспомнил судебный процесс, на котором Эрика выступала свидетельницей. Эрика честно назвала имена бандитов, теперь их родичи отплатили ей, сбили машиной — так думал Вильмут.
Лео прямо-таки вздрогнул, когда прочел эти строки, своими сомнениями Вильмут и его поверг в смятение. Он задумался о родственных связях эстонца, в большинстве они были слабыми: чтобы здесь, в северной стороне, спустя столько лет отплачивали кровной местью? С другой стороны — именно в сыром дереве дольше всего тлеет огонь.
В одном письме, под которым не было и подписи, явно пьяный вдрызг Вильмут сообщал невообразимыми каракулями, что все это — дело рук классовых врагов.
Лео понял, что друг его запил и ему надо помочь. И все равно в душе Лео письма Вильмута оставляли сомнения. Ведь и Эрика после судебного процесса сказала, что у мертвецов, против которых она свидетельствовала, оставались в живых родные.
Вообще Лео чувствовал себя всегда неуютно, когда вскрывал письма Вильмута. С удовольствием, не читая, он выбросил бы их, но не смел этого сделать. Вдруг в каком-нибудь из них содержалось важное предупреждение! Благодарение богу, их не было.
Вильмут, будто из-под земли, вырос возле машины.
— Куда теперь?
— Куда же еще, на Виллаку.
Машина, покачиваясь, поехала через ухабистую площадку, копошившиеся в пыли воробьи взлетели.
Вильмут вздохнул.
— Теперь Эвелина захомутает меня. Из года в год брюзжала, мол, тебе, Вильмут, совсем не дорог отцовский дом. Крыша прохудилась, колодезный сруб истлел, столбики овечьей загородки поломаны — и пойдет опять хуторская неволя. Уж сестру-то оттуда не выдворишь. Теперь у нее прав с лихвой, маленькие девчушки были бы в наемной квартире как в тюрьме. Эвелина хвастлива, без конца твердит, что ценит свободу, пусть и дети растут на приволье.
Неволя эта кажется ей свободой. Сама, как лошадь в упряжке, зимой возит на санках к дороге бидоны с молоком; она деньги уважает, все время у нее доятся две коровы, и телка подрастает. О поросятах и овцах не стоит говорить.
Эвелина задирает нос, еще бы, хозяйская дочь с богатого хутора, ей хочется жить на широкую ногу. Не знаю, когда только она собирается шиковать. Старый уже человек, а все знай берет разгон, придет день — и окажется на том свете голубкой небесной, и никуда-то не ездила и ничего не видела, одна только работа без конца.
Голос у Вильмута становился все бодрее, когда он ругал Эвелину, будто радость на душе прибывала оттого, что теперь им начнет повелевать женщина твердой руки.
— Видимо, она все-таки немного тронутая, — не без гордости сказал Вильмут. — Люди с сильным характером все с вывертом, — объяснил он.
Вильмут говорил об Эвелине так, будто рядом сидел совершенно посторонний человек. Но ведь Лео знал Эвелину с самых малых лет, знал, из какого теста этот человек. Лео помнил, как покойная Лилит попросту понуждала свою дочь в девичестве ходить на гулянки; Эвелина против воли надевала чистое платье и нехотя брела через Долину духов к тому хутору, откуда доносились звуки гармошки, чтобы простоять там весь вечер рядом с дверью и смотреть, как веселятся другие.
Чудно, думал Лео, слушая Вильмута. Хотя смерть близкого повергает в беспредельное горе, в то же время родники его привязанности к жизни бьют сильнее, чем раньше, — природа правильно распорядилась. При жизни у человека нет спасения от тяжких ударов судьбы, все равно он должен снова становиться на ноги. Хотя Вильмут и решил, что ничего уже ему от этой жизни ждать не приходится, в нем все же пробудился интерес к отцовскому дому, в который он после долгого отсутствия должен будет опять вживаться, там ему и устраивать свое будущее. Больше того, — казалось, что Вильмуту было даже любопытно вернуться назад на Виллаку.
В свое время Вильмут с возмущением говорил о поведении своих сыновей после смерти Эрики. Лео помнил, что, слушая Вильмута, думал о жестокости, черствости, отсутствии у молодых душевной культуры. Он знал многие годы Пээта и Майдо, у него на глазах мальчишки стали юнцами и довольно быстро превратились в молодых людей — с удовольствием поглаживали под носом пушок. Пока была жива Эрика, парни особо не заботились о доме, их тянуло подальше от домашних стен, интересовало то, что происходило за оградой.
Вильмут по-своему баловал сыновей, купил на двоих мотоцикл. Тарахтелка эта доставила потом много неприятностей: ребята взялись гонять по церковной ограде. Когда возмущение людей дошло до Эрики она пробрала сыновей — неужто из вас выросли разорители и осквернители святого? У парней челюсти отвисли, они простодушно удивились: мать, ты разве в бога веруешь, что защищаешь церковь?
Тогда Вильмут набросился на своих чад, Эрика вынуждена была вступиться, чтобы дело не зашло слишком далеко.
Едва похоронили Эрику, как ребята проявили небывалую привязанность к своему жилью. Неумело и нетерпеливо вымазали белилами потолок, вкривь и вкось наклеили обои, покрасили пол, не удосужившись зашпаклевать щели, даже песок не вымели между досок.
Справившись с ремонтом, потребовали от отца снять со сберкнижки приличную сумму и купить им новые диваны и магнитофон, чтобы они могли жить по-людски. Разгневанный Вильмут велел сыновьям поработать летом на совхозном поле, самим скопить на свою музыку и не привязываться к нему. Ребята и впрямь все лето работали, а осенью бросили школу и оба пошли учиться в совхозный техникум. Усердно отремонтированный дом остался пустой, а заработанные деньги потратить на магнитофон пожалели: глядишь, в общежитии другие пользоваться станут.
Таким внешне грубым поведением ребята подсознательно защищали свой дух. Им и в голову не приходило, что их рвение по части ремонта производило на окружающих дурное впечатление, словно Эрика при жизни запрещала им предпринять что-либо подобное. Убитый сыновней неучтивостью, Вильмут, сгорая от стыда, спросил у Лео — неужели сыновья только и ждали, когда освободятся от матери?
Лео свернул с шоссе. Пока Эвелина еще не могла видеть со двора, что между впадинами и буграми, минуя ямины и камни, ползет машина, которая навсегда везет домой бывшего наследника хутора Виллаку.
26
Не отдавая себе отчета в нелепости своих действий, Лео заметал следы. В ушах гудело — предупреждение? И кто-то словно бы понуждал его шататься попусту. Эвелина и Вильмут не должны были знать, в какие края он пойдет бродить. Пусть думают, что хотят. Что Лео побрел по Медной деревне смотреть на покинутые дома, пошел туда, где за кустарником вьется речка, — может, захотелось взглянуть на бывшие богатые сенокосные поймы! Пусть посмотрит и покачает головой; развалившиеся сараи скрылись в зарослях ивняка. Как же это он объяснял Юлле в Швеции изменения в деревенской жизни? Совершенно объективно: перемещение хозяйственных центров в иные места, гигантские массивы полей, и люди хотят жить в поселках, в современных домах, чтобы все было под рукой.
Стремление замести следы было, конечно, глупостью. Кому тут, в этом пустынном месте, есть до него дело! Так ли уж надо Вильмуту и Эвелине приложить к глазам руку и уставиться в даль: и куда же это Лео пошел?
У них были свои дела.
Годами его, и во сне и наяву, преследовало видение. Он идет по сыпучему ярко-желтому песку, по обе стороны дороги растет карликовый лес, который едва достает до колена. Он на виду, весь на виду; нет даже кустика, за который бы спрятаться, чтобы подглядеть из-за веток: сколько их, тех, кто следит за ним. Лишь противный карликовый лес, хилые хрупкие деревца, готовые в любой миг переломиться. Временами эта картина отступала. Тогда он видел себя прошитым насквозь странными нитями — нет, это были корневые мочки, крепкие, неистребимые, вечные, почти такие же, как у векового дерева, при виде которого ему всегда становилось не по себе.
Лео знал: он должен пойти к большому камню за виллакуским пастбищем.
Сразу же за хутором Клааси, стоящим с выбитыми окнами и полусгнившей крышей, Лео свернул в ельник, где-то поблизости просека должна была привести его на место. В старину здесь можно было проехать на телеге, может, сейчас осталась хоть извилистая тропка.
Лео не топтал высокую траву, он шел от одной ели к другой, удлиняя дорогу, предоставляя себе время на размышление, — может, все-таки повернуть назад? Во всяком случае, передвигаясь таким образом от дерева к дереву, он почти не оставлял следов: примятая полевица могла бы любого направить по следу. Лео пытался подбодрить себя улыбкой, но мускулы лица оставались неподвижными, не подчинялись его воле.
Билась одна и та же мысль: кому какое дело! Кому какое дело до этого заброшенного уголка земли!
Время бы уже понять: перемены и составляют суть жизни — угасание, видоизменение, нарождение. И все же он не мог махнуть рукой и повернуть назад.
Он угодил на бывший скотопрогон, начинавшийся, собственно, от виллакуского выгона, кружным путем он вышел сюда. В какой-то степени старую дорогу можно было еще угадать, в свое время стадо тут втоптало в грязь дерн. Теперь на кочковатой земле росла таволга, над соцветиями гудели шмели. Перед войной возле дороги корчевали под пахату лес; машинам трудно было сюда добираться, и урожаи оставались скудными. Осенью лошади тащили по грязи возы снопов к молотилке, которую перевозили вокруг поля Медной деревни от хутора к хутору.
Теперь бывшие лоскуты полей заросли молодым лесом. Жидкими березками и хилыми осинками. Местами попадались грибы: рыжики большие и пожухлые. Всякая примета имеет свое значение — женщины в округе по обыкновению сюда с лукошками не заходили.
Почему он все еще боялся встретить тут людей?
Лео остановился и прислушался. Задрав голову, оглядел макушки деревьев и закурил сигарету. Он заметил, что руки дрожат.
Он медленно повернулся кругом, всматривался в сумерки, в ушах на мгновение снова загудело.
Хватит сомнений. Он никогда не мог полностью избавиться от этой навязчивой мысли: мне придется сходить к тому большому камню за виллакуским пастбищем. Именно теперь, снова попав по воле Вильмута в Медную деревню, он, как только въехал в ворота хутора Виллаку, сразу понял: выхода нет. Дольше бороться с собой я не в силах.
Собственно, насквозь горожанин, он должен был бы наслаждаться девственным лесом, красочным ветроломом и жужжанием насекомых — ах, как жаждут обитатели каменных улиц остаться с природой наедине, но сейчас Лео уже не был сам себе хозяин. Шаг становился все напористей, Лео спотыкался о корни, нога то и дело оступалась, будто он шел по мосткам, а не по земле.
Это произошло в субботу вечером. Точнее, июльским субботним вечером. Они с Вильмутом парились в виллакуской бане. В маленьком оконце светился закат. Они лили на себя черпаком воду, смывали с тела березовые листочки и сладкий запах березовых веников. Когда глаза снова стали различать, они увидели в заполненной паром бане Ильмара.
— Ребята, — сказал он. Ильмар наполовину расстегнул белую рубашку. Он глубоко вздохнул и требовательно произнес: — Теперь настал ваш час. Мы убрали двоих. Третий сбежал, я укажу. Давайте скорее!
Лео и Вильмут выскочили в предбанник. Мужики обычно говорили: ребята, будьте готовы к схваткам. Быстрота — половина победы! Может, лишь недотепы спросили бы — а почему это именно мы? Глупость! Прикуси язык! Каждый эстонец обязан выполнить свой святой долг: очистить отечество от красных! При одних лишь словах — истребительный батальон — напрягались мускулы. Что они там истребляют? Ясно, что не полевых мышей, а эстонцев на их родной земле.
Пристальный взгляд Ильмара заставил их с Вильмутом устыдиться: они нежатся в бане, в то время как другие занимаются мужским делом. Они торопливо натянули на влажное тело одежду, ботинки не хотели лезть на босу ногу, — казалось, время тянется. Прошло, наверное, не больше минуты, и они уже были готовы.
Они шарили в углу риги, разбрасывали хлам, что-то грохнулось на пол — черт подери! Они оттаптывали друг другу ноги, пыхтели, будто уже пробежали пол-леса, но у них все еще было впереди.
Они только еще готовились идти на войну, войну по-за кустами, войну лесную, уличную войну. С ружьями в руках они пронеслись по двору виллакуского хутора, Ильмар мчался впереди, охотничья собака искала след, направила распаренных парней с ружьями на изрезанную колеей просеку. Над верхушками деревьев пламенел диск солнца. Они бежали в расплавленный огонь, и глаза у них горели. Впопыхах Ильмар бросал отрывистые слова, учил и наставлял: Вильмут, он на земле твоего хутора! И тут силы покинули Ильмара, ребята, сами знаете, прохрипел он в напутствие и свалился на обочину, хватая ртом воздух.
Они с Вильмутом бежали дальше, будто вели за собой мужицкую рать, — нельзя колебаться, нельзя показывать робость; кто не думает, тот смелый. Времени для раздумий быть не должно. Разве хоть один герой раздумывал перед тем, как пойти на верную смерть? На войне действует железный закон: вперед!
Они бежали до изнеможения, ноги подкашивались, в висках стучало, рубашка липла к телу. У них не было времени взглянуть друг на друга; недостало времени, чтобы одеться на войну: кепку на глаза и темный пиджак на плечи. Теперь вот трусили они по лесу, двое сбрендивших парней, светлые белые рубашки, будто мишени между темными стволами деревьев. Их подгоняло желание скорее расправиться с противником: взять врага на мушку, раздастся выстрел, бой окончен; и они смогут закурить.
И где-то здесь поблизости бежала девчонка Эрика и не спускала с них глаз.
Скоро они оба оказались почти что взмыленными, хватали воздух, сбавили ход, в боку кололо, пригибало к земле, ружейный ремень натирал плечо, загорбок прохватывало холодком. Они волочили ноги, куда еще? Так они дошли до места, где у опушки казенного леса лежал виллакуский межевой камень. Это пастбище испокон веков ругали, одни кусты да заросли; выгон стоял на топком месте, ольшаник перемежался кочковатой трясиной, и без того сырые полянки были стоптаны скотом в грязь.
Они дошли до виллакуского пастбища, но Лео показалось, что они вошли в помещение; настоящая природа осталась позади. Они шли по сумеречным коридорам, по неровным переходам, уводившим в какую-то неизвестность. Светлые залы-полянки окрашивались заходящим солнцем в красное; временами Лео казалось, что он очутился в запертой камере, где не хватало воздуха, — возможно, над ольховыми верхушками повисла огромная крыша из серой ткани, и под ней стоял запах тлена, который мешал дышать. Они с Вильмутом крались друг за другом в частом кустарнике; толщиною в жердь ольховины росли густо, зачастую между ними приходилось продираться боком, и ветви под ногами трещали, росшие на скудном свету жалкие деревья были оголены до верхушки. Не сговариваясь друг с другом, Вильмут и Лео лезли во все сгущавшуюся чащобу, туда, где в полумраке лежала гранитная глыба. Одинокий валун, покрытый мхом и овеянный передаваемыми из уст в уста преданиями, был для них с детских лет их собственностью, прибежищем, одновременно манящим и нагоняющим жуть. Снова и снова приходили они к валуну, подкарауливали за ним других деревенских мальчишек, чтобы выскочить с воинственным криком из засады и распугать пасущихся на поляне телят. Они жаждали скорее вырасти, чтобы суметь однажды забраться на камень; верхняя плоская часть валуна находилась на недосягаемой для них высоте, какое их охватило ликование, когда однажды, ранней весной, они вырубили в оледеневшем сугробе ступени, забрались по ним до половины валуна и, подсаживая друг друга, залезли на самый верх.
Теперь они пробирались между ольшинами к валуну, само собой разумелось, что именно там они должны были устроить засаду; лучшего места для них и не могло быть. Этот валун не смог бы пробить даже пушечный снаряд.
Если на земле вообще было что-то вечное и непоколебимое, так только этот валун.
Они привалились грудью к прохладному камню. Сердце перестало колотиться, по спине пробежала едва уловимая дрожь, будто между лопатками вниз холодными ножками просеменил жучок.
Когда Лео чуточку успокоился, ему показалось странным, что они явились сюда подкарауливать настоящего противника. Еще не пролегла четкая грань между детством и взрослостью. Быть может, Ильмар выкинул с ними глупую шутку? Что это за война в такой чащобе? Быть может, Ильмар сидит сейчас со школьными товарищами где-нибудь у амбара, почесывает от удовольствия свою волосатую грудь и знай рассказывает. Кружка ходит по кругу, парни громко смеются — хозяйский сын из Виллаку и барчук с Нижней Россы отправились в чащобу побить гадюку и ружья с собой захватили. Накатила жгучая злость, Лео начал сопеть, Вильмут удивленно глянул на него. Друг счел бы его слабаком, если бы он стал подбивать того уйти домой. Они примчались защищать Родину, они думали масштабно; само собой разумеется, они были образованнее отцов, которые в свое время пошли на войну ради своих хуторов, — сейчас же их заботила судьба всей Эстонии.
Они не могли отступать, не смели сомневаться.
Лучшее место для засады было у валуна, и Ильмар не мог их дурачить. Если кто-то из истребительного батальона и впрямь сбежал и кинулся в эти края, он не мог миновать эту полянку, которая так хорошо просматривалась между деревьями. Чужому пришлось бы пройти этой дорогой, если бы он хотел попасть через лес в поселок. Не станет он слоняться по деревне и по поселку и искать оживленные места, если уж товарищи погибли.
Сегодня, спустя десятилетия, было страшно сознавать: да, именно так мы думали в то время.
Они стояли с Вильмутом неподвижно, не переступали с ноги на ногу и не выдавали беспокойства, демонстрировали друг другу свое терпение. Только и всего, что они позволили себе, — это прислониться к валуну. Никогда солнечный свет не пробивался сквозь кровлю ольшаника до валуна, зимний холод сковывал гранитную глыбину все лето, камень и теперь еще, казалось, остужал бок, неприметно, но настойчиво, коченело тело и душа, мысли угасали, думалось только о том, что было на поверхности; чащоба, поляна, валун, засада и густой темный покров над головой.
Еще раз у Лео возникло вялое сомнение: что же в действительности истинное?
Ильмару всегда нравилось надувать других. Словно так уж повелось, что всюду находился человек, который своими проделками приправлял будничную скуку. На этот раз Лео хотелось, чтобы они оказались в дураках.
Поэтому он вроде и не поверил своим глазам, когда на светлом прогале пустой поляны появился мужчина, который, волоча ноги, переступал с кочки на кочку, остановился, прикидывая, и огляделся кругом — вдруг угодит в обманчивой трясине в какую-нибудь ямину, укрывшуюся под тонким слоем земли.
Мужчина казался изнуренным, он стоял с поникшей головой и, словно лошадь, отдыхал стоя. Преследуемый не осмеливался опуститься на землю, всяк, кого выслеживают, знает, что спасти его могут разве что ноги: и все же он не мог не позволить себе перевести дух. Неудивительно, что в теплое время тяжелая одежда особенно утомляет человека, — неужто этот думал одним духом провоевать в лесах до осени, что оделся в светло-коричневое, ниже колен, пальто, полы которого обвисли, будто и они пропотели насквозь.
Может, это мать настояла, возьми пальто с собой, ночи прохладные, вдруг тебе придется спать под елкой. Нет у тебя в запасе сеновала, как у хозяйских сынков.
Когда покачивающийся на кочках мужчина чуть повернулся, Лео увидел хлястик пальто, который крепился к спинке двумя большими пуговицами. При виде этого неуместного для военного человека хлястика Лео на миг растерялся. Ему захотелось присесть за камнем и сделать вид, что он не заметил чужого человека, который стоял за виллакуским пастбищем, на краю поляны и разглядывал редкие травинки на кочках. Мужчина стянул кепку, поискал что-то по-городскому во внутреннем кармане, достал носовой платок, чтобы вытереть лицо. Если бы он был здешний, обмахнул бы пот со лба кепкой.
Дыхания Вильмута не было слышно.
В тот момент, когда уставший мужчина снял с плеча винтовку, Лео услышал, как колотится сердце у него самого и у Вильмута. Человек осторожно положил винтовку на кочки, чтобы лежало на сухом месте. Когда он снова поднялся, Вильмут толкнул Лео в бок. Лео ответил тем же, они ободряли друг друга: мы единодушны и готовы к борьбе — хватит попусту пялиться!
Лео не помнит, подумал ли он о чем-то, скорее всего в голове было пусто, она лишь гудела, и кто-то словно бы шептал: на мушку!
Лео с Вильмутом одновременно вскинули ружья. Они тяжело дышали — огонь!
Из двух стволов ударил выстрел.
Выстрел отбросил незадачливых защитников отечества, затылок, казалось, отделился от головы, отлетел в ольшаник и шмякнулся о ствол. Поляна закачалась, стоявший там человек не мог устоять на раскачивавшейся поверхности, хватал руками воздух, нагнулся вперед, растопыренные пальцы нащупывали ложе винтовки — он потерял равновесие и повалился рядом с кочкой, повернув голову. Удивительно ясное и светлое лицо уставилось в небо.
Вильмут схватил Лео за локоть, он громко кряхтел, будто в нем бушевал ураган, и изо рта смрадно пахло.
Через мгновение грохнул еще один выстрел. Над ними переломилась макушка ольхи и с треском полетела вниз.
Лео схватился за Вильмута и пригнул его к земле. Пригнувшись, они стали отходить от валуна. Им не надо было ничего говорить, оба отходили в единственно правильном направлении, там, поодаль, находилась впадина, там они и растянулись. Тяжело дышали на хворосте и ветках, перед лицом почти бесцветная кислица. По щекам катились слезы, Лео еще не думал о чужом человеке — на это ушли последующие десятилетия, — в тот момент его охватила болезненная жалость к себе: никогда я уже не вернусь в родные стены. Он ощутил на себе грязь, и пот, и кровь, почему-то казалось, что и в него стреляли. Когда они поднялись с истлевшей листвы ольшаника и валежника, Лео был уверен, что нога его прострелена; он только не знал, какую из них волочить, в обоих ботинках хлюпало. Он не осмеливался глянуть, он думал, что на каждом шагу из дырочек в ботинках сочится кровь, все тело, и ноги, обливались потом.
Он еще не осознал, что они с Вильмутом убили человека.
Ночь они провели в виллакуской бане. Куксились, мылись, сидели, пили в огромном количестве пиво, по-скотски оправлялись по-малому тут же, возле двери, снова окатывались давно остывшей водой, пока не улеглись в предбаннике на скамейке, натянув на себя вместо одеял влажные полотенца, и продремали, дрожа от холода, на жестких досках до утра.
Утром Вильмут пошел сказать Ильмару, что бежавший «истребитель» остался лежать на поляне за пастбищем. Может, там и схоронить? Пока Лео дожидался Вильмута, у него голова шла кругом, бредовые фантазии не давали покоя. Вот они идут с лопатами на утыканную кочками поляну, роют могилу, достают у мертвого документы и сталкивают его в яму, налившуюся до краев водой. Едва успеют они зарыть могилу, как со стороны валуна грянут выстрелы — на этот раз по нему и Вильмуту. Затем придут те, кто стрелял в них, выроют огромную ямину, куда с шумом хлынет вода, и спихнут их обоих в эту ржавую воду и тоже забросают могилу кочками. Потом стадо Медной деревни затопчет их холмик, повсюду вокруг поляны встанут с винтовками мужики, раздадутся выстрелы, — грузные быки повалятся наземь, задрыгают ногами, глаза выпучатся, они запрокинут головы и начнут постепенно холодеть. Вскоре над трупами распространится смрад, мясо отстанет от костей, вода между кочек будет загажена, стаи ядовитых мух облепят поляну.
Вильмут вернулся лишь к обеду. Он был порядком выпивши. Пролепетал, что мужики послали Ильмара посмотреть и принести документы. Ильмар вернулся с пустыми руками, на поляне никого не оказалось, на одном только месте осталось бурое пятно, сказал, что, может, парни наврали, в здешних краях, бывает, болотное железо окрашивает кочки в бурый цвет.
Лео решил, что они все сошли с ума.
Но Эрика видела их возле валуна.
Она наблюдала все со стороны.
Все же она любила Лео.
Хотя иногда казалось: человека вообще невозможно любить.
Теперь, спустя десятилетия, Лео опять стоит возле валуна.
За это время мир так изменился. Странно, что ольшаник остался прежним. Возможно, на этой земле и суждено расти убогому лесу: стоят деревья, тонкие, будто палки, вбирают в себя корнями скудные соки; едва кому-нибудь из них удастся вытянуть над другими свою макушку, как хрупкий от стремления возвыситься ствол не выдерживает напора ветра и ломается. Над чащобой, казалось, нависла крыша, которую невозможно пробить.
По-прежнему в этих дебрях не хватало воздуха. Под ногами столько омертвелого, осыпавшегося, истлевающего и разлагающегося, что воздух от восходящих паров становится угарным.
Лео оперся руками о валун. Он не в силах взобраться наверх. Как же он в детстве мечтал об этом! Потом, подростком, это было так легко. Теперь можно оправдать свое бессилие скептической усмешкой — и зачем туда забираться? Что я оттуда увижу? Все ту же кочковатую поляну сквозь серые жердины стволов, единственно ту же самую кочковатую поляну.
Значит, теперь он прибыл на место.
Наконец-то он смог прийти сюда, куда боялся ступить ногой десятки лет.
Он бесконечно устал.
Сегодня он не в состоянии отсюда уехать. Хотя и собирался, мол, чего там! Пройдется горожанин по окрестностям, помашет остающимся — будьте здоровы! Все вроде бы так просто — глянуть разок и успокоиться.
Сегодня он отсюда никуда не уедет.
Сегодня они с Вильмутом просидят всю ночь за столом, будут пить, пока рассвет не разгонит их по темным углам.
Они будут пить горькую и вспоминать прошлое.
Таллин, 1978 — 1980