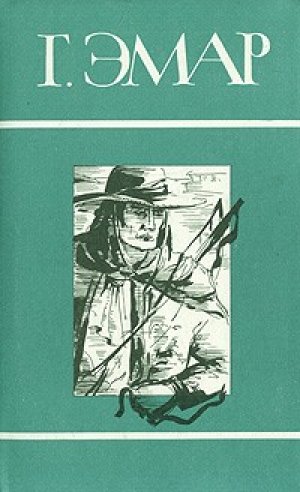
― ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ ―
Глава I
РЕКОГНОСЦИРОВКА
Расставшись с Ягуаром, полковник Мелендес в смятении поскакал по направлению к Гальвестону, то и дело пришпоривая свою лошадь, которая и без того мчалась во весь опор. Но расстояние между Сальто-дель-Фрайле и городом было не близкое, и полковник мог поэтому во время пути свободно предаваться размышлениям, и чем больше он размышлял, тем более невероятным ему казалось, чтобы сообщенное ему Ягуаром действительно было правдой. В самом деле, можно ли было предположить, чтобы этот повстанец, как бы ни был он безумно отважен, с какой-нибудь горстью авантюристов атаковал отлично вооруженный корвет, снабженный многочисленным экипажем и находившийся под командой одного из лучших флотских офицеров.
Взятие форта казалось полковнику еще менее правдоподобным.
Размышляя таким образом, молодой офицер мало-помалу, сам того не замечая, умерил быстроту хода своей лошади, которая, предоставленная самой себе, совершенно незаметно для всадника перешла с карьера на галоп, а затем, как это и следовало ожидать, на шаг и на ходу стала пощипывать попадавшуюся ей по дороге траву.
Ночь уже давно спустилась на землю. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь глухим рокотом морских волн, перекатывавшихся через прибрежные камни. Полковник ехал вдоль берега по кратчайшему к Гальвестону пути. Дорога эта, днем обычно довольно людная, в этот ранний час ночи была совершенно пуста. Жилые строения, мимо которых проезжал полковник, то здесь, то там выступавшие из темноты, были плотно заперты, и в их узких окнах не видно было огня: рыбаки, уставшие от тяжелого дневного труда, рано отходили ко сну.
Лошадь молодого офицера, все больше и больше замедлявшая ход, набравшись смелости, в конце концов остановилась возле чахлого кустарника и принялась ощипывать с него листья. Эта полная неподвижность заставила наконец полковника опомниться и выйти из глубокой задумчивости, в которую он был погружен.
Оглядевшись, чтобы сориентироваться, он, несмотря на темноту ночи, без труда убедился, что находится еще очень далеко от того места, куда был направлен его путь. На расстоянии ружейного выстрела впереди виднелся домик с плотно закрытыми ставнями, сквозь щели которых можно было заметить огонь внутри дома.
Полковник нажал на репетир [1] своего хронометра, и часы пробили полночь. Ехать дальше было бы безумием с его стороны, тем более что не представлялось никакой возможности найти лодку, которая переправила бы его через бухту на остров. Раздосадованный напрасной потерей времени, — потерей, которая могла в том случае, если бы сообщение Ягуара оказалось правдой, иметь серьезные последствия, — молодой офицер, проклиная свое невольное промедление, решил подъехать к возвышавшемуся перед ним зданию и сделать попытку найти перевозчика.
Закутавшись плотнее в свой широкий плащ, чтобы защитить себя от сырого воздуха, долетавшего с моря, полковник подтянул поводья и, дав шпоры лошади, направился рысью к намеченной им цели. Переезд его был коротким, и путешественник вскоре приблизился к видневшемуся в отдалении зданию. Но когда он был от него всего в нескольких шагах, полковник, вместо того, чтобы подъехать прямо к воротам, соскочил с лошади, привязал ее к дереву, поправил пистолеты, торчавшие за поясом, сделал большой крюк и по-волчьи прокрался к одному из окон этого здания.
В эпоху брожения умов в Техасе прежняя доверчивость населения совершенно исчезла, уступив место полной недоверчивости. Времена, когда двери всех домов были гостеприимно открыты для иностранцев, прошли бесследно, и традиционное радушие временно сменилось подозрительностью и скрытностью, а потому со стороны любого пришельца было бы очень неблагоразумно явиться в незнакомый дом, предварительно не убедившись, что в нем живут друзья. Что касается полковника, то из-за своей формы мексиканского офицера он в особенности должен был соблюдать крайнюю осторожность.
Здание, к которому приблизился полковник, было довольно большим и не носило на себе тех отпечатков бедности и запустения, которыми так часто отличаются жилища испано-американских колонистов. Это был четырехугольный дом с итальянской крышей и небольшой галереей; стены его были оштукатурены и приятно ласкали глаз своей белизной, резко оттененной листьями винограда, которыми были покрыты стены здания. Дом был окружен полуразвалившейся изгородью; надворные строения были просторны и содержались в образцовом порядке. По всему было заметно, что владения эти принадлежали человеку зажиточному.
Как уже было сказано, полковник крадучись приблизился к одному из окон дома; ставни этого окна были тщательно закрыты, но, тем не менее, они были не настолько плотны, чтобы не дать заметить по той узкой полоске света, которая проникала сквозь щели наружу, что внутри дома еще бодрствовали.
Но напрасно полковник пытался заглянуть в эту щель: он не мог ничего увидеть; зато он мог слышать совершенно ясно то, что говорилось в доме. И первые слова, дошедшие до него, показались ему, по всей вероятности, очень важными, потому что он весь превратился в слух, боясь пропустить хоть что-нибудь из происходившей в доме беседы.
Воспользовавшись еще раз нашим преимуществом романиста, мы войдем в этот дом и дадим нашим читателям возможность присутствовать при происходившей в нем странной сцене, самая интересная часть которой, к великому неудовольствию полковника, должна была остаться для него тайной.
В довольно маленьком зале, слабо освещенном чадившими светильниками, находились четверо людей. Лица этих людей были темного цвета, глаза имели дикое выражение; одеты они были в костюмы вольных стрелков. Трое из них сидели на бутаках [2], поставив ружья между ног, и слушали четвертого, ходившего неровными шагами взад и вперед по комнате с заложенными за спину руками. Широкие поля фетровых шляп, которые носили трое первых стрелков, и темнота, царившая в зале, с трудом позволяли рассмотреть черты их лиц, а также судить о выражении их физиономий. Четвертый был с непокрытой головой. Это был человек лет сорока, высокий, хорошо сложенный и, по-видимому, обладавший необыкновенной физической силой; целый лес черных курчавых волос падал на его широкие плечи. У него был высокий лоб, прямой нос и черные проницательные глаза; нижнюю часть его лица скрывала всклокоченная длинная борода. Выражение лица этого человека было гордым и смелым, внушающим уважение, граничащее со страхом.
В описываемую нами минуту человек этот был, по-видимому, чем-то сильно разгневан. Брови его нахмурились и сдвинулись в почти прямую линию, щеки его были бледны и временами, когда он, видимо, был не в силах овладеть своими чувствами, глаза его метали молнии, что заставляло троих его собеседников смиренно опускать голову. Это последнее обстоятельство свидетельствовало о том, что они по каким-либо причинам находились в положении подчиненных этого человека.
В тот момент, когда мы вошли в залу, незнакомец, очевидно, заканчивал спор, начатый, по-видимому, уже давно.
— Нет, — сказал он громким голосом, — так дальше дело не пойдет! Вы осквернили то чистое дело, которое мы защищаем, осквернили возмутительными жестокостями, которые вредят нам во мнении толпы и оправдывают всю ту клевету, которую наши противники распространяют о нас. Если мы будем брать пример с наших притеснителей, нам невозможно будет доказать народу, что мы действительно желаем ему добра. Как ни приятно бывает иной раз отомстить за нанесенное оскорбление, но если становишься защитником такого дела, как то, за которое вот уже десять лет мы проливаем нашу кровь, каждый должен отрешиться от самого себя и, забыв всякую личную ненависть, углубиться в великую народную борьбу! Я говорю вам прямо, без обиняков, что я, который первым осмелился подать голос за восстание и сумел внушить мысль о сопротивлении, я, который с тех пор, как возмужал, пожертвовал всем: состоянием, друзьями, родными в единственной надежде увидеть когда-нибудь мою страну свободной, — я откажусь от борьбы, загрязненной ежедневной разнузданностью, которую даже сами краснокожие нашли бы отвратительной!
После этих слов трое людей, сидевшие до того времени довольно спокойно, встали и в один голос начали возражать против возводимых на них обвинений.
— Я вам не верю! — возразил он им с гневом. — Я вам не верю, потому что обвинение мое я могу подтвердить фактами! Вы все отрицаете?! Я этого ожидал! Весь ваш план действий был определен заранее; вы должны были следовать ему. Все остальное вам было запрещено! Только один из вас, самый младший, тот, который, может быть, больше всех имел право воспользоваться возмездием, остался на высоте своей задачи и, несмотря на то, что враги наши не раз бросали в него грязью, он оставался чистым, что признают даже и мексиканцы! Этого командира вы также знаете, как и я, это — Ягуар. Еще вчера во главе нескольких из наших людей он совершил отчаянное, великое дело!
Слушатели столпились вокруг говорившего и стали засыпать его вопросами.
— Мне незачем рассказывать вам о том, что произошло: через несколько часов вы узнаете это сами. Вам достаточно знать, что следствием отважных действий Ягуара будет сдача Гальвестона, который теперь уже не в состоянии выдержать нашего приступа.
— Итак, мы победили! — воскликнул один из стрелков.
— Да, но не все еще кончено. Если нам удастся отнять у мексиканцев Гальвестон, у них останется еще пятьдесят городов, в которых они могут укрепиться. А потому поверьте мне: вместо того, чтобы предаваться неразумному ликованию и легкомысленной доверчивости, вам надо удвоить усилия и быть самоотверженными, если вы желаете в конце концов выйти победителями!
— Но что же необходимо сделать, чтобы добиться результата, которого мы желаем не менее вас? — спросил тот стрелок, который заговорил первым.
— Слепо следовать советам, которые я вам даю, и повиноваться беспрекословно и без колебаний моим приказаниям. Обещаете ли вы мне это?
— Да! — воскликнули они с энтузиазмом. — Только вы один, дон Бенито, можете правильно руководить нами и привести нас к победе!
Человек, которого назвали доном Бенито, приблизился к углу залы, задрапированному зеленой бумажной занавесью. Он отдернул занавесь, и глазам присутствующих представилась алебастровая статуя Богоматери, перед которой горел светильник. Обернувшись снова к своим собеседникам, дон Бенито сказал им повелительно:
— Шапки долой и на колени!
Те повиновались.
— Теперь, — продолжал он, — поклянитесь честью сдержать обещание, которое вы только что дали мне по доброй воле. Клянитесь быть милосердными во время сражений и добрыми к пленным после победы. Только на этих условиях я согласен продолжать оставаться вашим предводителем. Если вы на это не согласны, я тотчас же откажусь от дела, которое, хотя еще и не совсем погублено, уже запятнано вами!
Трое охотников, став на колени, перекрестились и, протянув правые руки по направлению к статуе, проговорили твердо:
— Клянемся!
— Хорошо, — сказал дон Бенито, задергивая занавесь и сделав охотникам знак встать. — Я знаю, — прибавил он, — что вы — рыцари чести и потому не можете быть клятвопреступниками!
Смущенный странной сценой, которую он не мог понять, полковник не знал, что предпринять, как вдруг внимание его было привлечено легким шумом, раздавшимся вблизи него.
Шум постепенно возрастал, и полковник, обеспокоенный этим, мгновенно спрятался за забор; почти тотчас же он увидел нескольких человек, которые тихо шли по направлению к дому. Оказалось, что их четверо и они несут на руках пятого. Эти люди подошли к дому и тихо постучали в дверь условным сигналом.
— Кто там? — спросили изнутри.
Один из пришельцев ответил, но так тихо и глухо, что полковник не мог разобрать слов, которые он произнес.
Дверь приотворили, и незнакомцы вошли в дом, после чего дверь снова заперли, но, однако же, не настолько быстро, чтобы отворявший ее не мог бы бросить пытливого взгляда в ночную тьму.
— Что бы это могло значить? — пробормотал полковник.
— Это значит, — сказал ему на ухо грубый голос, — что вы подслушиваете то, что вас не касается, полковник Мелендес, и что это может сделаться для вас опасным!
Удивленный этим неожиданным ответом, а еще более тем, что его узнали, полковник быстро выхватил пистолет из-за пояса, взвел курок, и, повернувшись в ту сторону, откуда послышался голос его странного собеседника, проговорил:
— Caspita! [3] Самая большая опасность которой я подвергаюсь, это — смерть, а она, клянусь вам, меня нисколько не страшит!
Незнакомец расхохотался и выступил из чащи, в которой он до сих пор скрывался. Это был человек такого же крепкого сложения, как и полковник, и в руках у него также был пистолет.
— Вам известно, что дуэль запрещена в мексиканской армии? — сказал он. — А потому оставьте, кабальеро, ваш пистолет в покое: если он выстрелит, это, поверьте мне, будет иметь последствия, очень неприятные для вас!
— Сначала вы опустите ваше оружие, — возразил полковник холодно, — а потом уже я увижу, что мне остается сделать.
— С удовольствием, — сказал незнакомец, все также смеясь, и засунул свой пистолет за пояс.
Полковник последовал его примеру.
— Теперь, — продолжал незнакомец, — мне надо кое о чем поговорить с вами. Но, как вы сами видите, место не особенно удобно для интимной беседы.
— Да, действительно! — сказал полковник, принимая шутливый тон странного человека, с которым так неожиданно свел его случай.
— Я в восхищении, что вы того же мнения, что и я, — сказал тот. — Итак, полковник, будьте так любезны отойти со мной на несколько шагов в сторону, и я отведу вас в такое место, которое, по-моему, будет как нельзя более удобным для нашего с вами объяснения.
— Я к вашим услугам, кабальеро, — ответил полковник с легким поклоном.
— Так пойдемте! — сказал незнакомец и с этими словами стал пробираться сквозь чащу кустарников; полковник последовал за ним.
Путь их не был долгим: незнакомец привел полковника к тому самому месту, где была привязана его лошадь. Возле лошади полковника стояла теперь другая. Здесь незнакомец остановился.
— На коней! — сказал он.
— Зачем? — спросил молодой офицер.
— Да для того, чтобы уехать отсюда, черт возьми! Разве вы не возвращаетесь в Гальвестон?
— Да, я еду туда. Но…
— Но, — перебил его незнакомец, — вы были бы не прочь побродить еще немного возле того дома, где я увидел вас. Не правда ли?
— Сознаюсь в этом.
— Так я скажу вам по чести, что вы поступаете неблагоразумно, и по двум причинам: первая та, что вы ничего не узнаете больше того, что вам уже известно, то есть что в этом доме обыкновенно собираются инсургенты [4]. Вы видите — я с вами откровенен!
— Я это признаю. Но теперь потрудитесь сообщить мне вторую причину.
— Она очень проста: вы рискуете тем, что вас каждую минуту могут угостить пулей, а вам известно, что техасцы довольно недурные стрелки.
— Конечно! Но и вам также известно, что для меня это несущественно!
— Позвольте. Храбрость, по моему мнению, состоит не в том, чтобы подвергать свою жизнь опасности, а в том, чтобы не дать себя убить из-за пустяка.
— Благодарю вас за наставление, кабальеро.
— Так мы едем?
— Тотчас же после того, как вы мне сообщите, кто вы и куда едете.
— Черт возьми! Меня удивляет, что вы до сих пор меня не узнали, потому что мы друг с другом были некогда в отношениях если и не особенно близких, то, по меньшей мере, приличных.
— Очень может быть. Голос ваш мне знаком; мне помнится, я уже слышал его где-то. Тем не менее я положительно не могу припомнить, где именно это было и при каких обстоятельствах.
— Черт возьми! Позвольте мне сказать вам, полковник, что память у вас коротка! Впрочем, со времени нашей последней встречи произошло столько событий, что немудрено, что вы меня забыли. Двумя словами я напомню вам все. Я — Джон Дэвис, бывший торговец невольниками.
— Вы? — воскликнул полковник в удивлении.
— Да, я.
— А-а, вот как, — продолжал полковник, гордо скрестив руки на груди и глядя ему прямо в лицо, — в таком случае мы должны свести друг с другом кое-какие счеты!
— Насколько мне помнится, полковник, у нас с вами не было никаких счетов.
— Вы забыли, господин Джон Дэвис, каким образом вы воспользовались моей доверчивостью, чтобы изменить мне?
— Я? Вы ошибаетесь, полковник! Я, слава Богу, не похож на мексиканца, а потому сделать этого не мог. Я служил своей стране так же точно, как вы служите вашей, вот и все. Во время революции каждый — сам за себя, вам это известно.
— Эта поговорка, быть может, подходит к вам, мистер Джон Дэвис, я с этим согласен. Что же касается меня, то для меня закон чести один — он предписывает мне совершать поступки открыто, высоко подняв голову!
— Гм! На это можно многое возразить, но не об этом речь в настоящую минуту. Доказательством того, что вы несправедливы ко мне, может служить хотя бы то, что всего за несколько минут перед тем жизнь ваша была в моих руках, и я не воспользовался этим.
— Очень жаль, потому что, клянусь вам, если вы не станете защищаться, то я лишу вас жизни сию же минуту! — сказал полковник, взводя курок своего пистолета.
— Вы это говорите серьезно?
— Совершенно серьезно, поверьте мне.
— Вы — сумасшедший! — сказал Джон Дэвис, пожав плечами. — Какой черт внушил вам мысль убить меня?
— Будете вы защищаться? Да или нет?
— Подождите одну минуту! Что вы за человек такой? С вами просто невозможно прийти к соглашению!
— Говорите, но покороче!
— О, что касается этого, то вам известно, что я не люблю длинных разговоров.
— Я вас слушаю.
— Месть только тогда хороша, когда она приносит полное удовлетворение. Выстрел был бы сигналом к вашей смерти, потому что вы будете окружены и настигнуты прежде, чем вы успеете закинуть ногу в стремя. Вы ведь это знаете, не так ли?
— К делу мистер Дэвис! Я тороплюсь!
— Вы согласны с тем, что то, что я говорю, не трусливая увертка с моей стороны с целью избавиться от поединка?
— Я знаю, что вы храбры!
— Благодарю! Я не стану оспаривать серьезности повода, который вам угодно было представить мне для вашего вызова, повод — ничто для таких людей, как мы с вами. Но я даю вам честное слово быть к вашим услугам в тот день и час, когда вам заблагорассудится вызвать меня на дуэль, будь то при участии свидетелей или без таковых. Согласны вы на это?
— Но не лучше ли нам сесть на лошадей, выехать в поле, расстилающееся перед нами, и довести дело до конца сейчас же?
— Меня бы это устроило, но, к сожалению, я вынужден отказаться от этого удовольствия. Повторяю вам, что мы не можем драться, по крайней мере в настоящую минуту.
— Но почему? Почему?! — воскликнул молодой человек с лихорадочным нетерпением.
— Вот по какой причине, если уж вы непременно хотите знать: военачальники техасской армии дали мне в высшей степени важное поручение к генерал-губернатору Гальвестона, генералу Рубио, и вы слишком благородны, чтобы не понять, что я не имею права рисковать жизнью, которая в данное время принадлежит не только мне.
Полковник поклонился с изящной вежливостью, и заткнув свой пистолет за пояс, проговорил:
— Я весьма сожалею о том, что здесь произошло. Извините меня, сеньор, что я не сумел сдержать своей гневной вспышки. Я сознаю, насколько ваше поведение было благоразумно и деликатно. Смею надеяться, что вы извините меня.
— Забудем о том, что здесь произошло, полковник. Как только я исполню поручение, я буду к вашим услугам, а теперь, если ничто вас здесь не задерживает, поедем вместе в Гальвестон.
— С удовольствием принимаю ваше предложение. Между нами заключено перемирие, а потому будьте так добры считать меня пока одним из ваших друзей!
— Отлично! Я был убежден, что мы придем к этому. Так на коней, и в путь!
— Я ничего не имею против этого, но позволю себе обратить ваше внимание на то, что теперь только полночь.
— Что вы этим хотите сказать?
— А то, что до восхода солнца, а может быть и дольше, нам невозможно будет найти лодку для переправы.
— Об этом не беспокойтесь, полковник: в моем распоряжении лодка, которая ждет меня, и я буду счастлив предложить вам место в ней.
— Гм! Я вижу, все предосторожности вами приняты, господин революционер; вы никогда не попадаете в затруднительное положение.
— И причина этому крайне проста. Угодно вам, чтобы я объяснил ее?
— Признаюсь, мне очень любопытно познакомиться с ней.
— Она состоит в том, что мы до сих пор обращаемся к сердцам наших союзников, а не к их кошелькам. Ненависть к притеснителям-мексиканцам делает из каждого нашего единомышленника преданного повстанца, надежда на освобождение заставляет его добровольно жертвовать для нас всем — вот в чем весь секрет. Вам хорошо известно, полковник, что в каждом человеке живет врожденный инстинкт борьбы. Восстание или оппозиция — как вам угодно будет это назвать — и есть воплощение этого инстинкта.
— Это правда, — сказал, смеясь, полковник.
После этого разговора собеседники, временно сделавшиеся вследствие непредвиденных обстоятельств друзьями, сели на лошадей и поехали рядом.
— У вас очень оригинальные мысли и убеждения, — начал снова полковник, которого забавляли слова американца.
— Ах, вовсе нет! — возразил тот беспечно. — Эти убеждения только плоды долголетнего опыта. Я не требую от человека более того, что он, по природе своей, может дать, и поступая таким образом, я уверен, что никогда не ошибусь. Например: предположите, что мексиканцы были бы изгнаны из страны, и управление Техасом было бы четко организовано…
— Хорошо! — рассмеявшись сказал полковник. — И что же произойдет тогда?
— Неминуемо произойдет вот что, — ответил американец. — Завтра или, может быть, позднее, какой-нибудь человек, обладающий горячей головой или снедаемый честолюбием, выйдет из толпы и восстанет против правительства. Он тотчас же найдет приверженцев, которые сделают из него героя, и те же самые люди, которые с полным самоотвержением готовы теперь проливать кровь за нас, станут действовать точно так же для него. И это вовсе не потому, что у них есть причины быть недовольными правительством, которое они хотят свергнуть, а просто только потому, что двигать ими будет тот же инстинкт борьбы, о котором я вам говорил.
— О, что вы, это уж слишком! — воскликнул полковник, разражаясь смехом.
— Вы мне не верите? Так вот, послушайте, что я вам скажу. Я знавал одного человека, где именно и в какой стране, это безразлично, человека, который всю жизнь был революционером. Однажды фортуна улыбнулась ему, и он получил, сам не зная как и зачем, высокий пост в республиканском государстве и стал чем-то вроде президента. И знаете вы, что он стал делать с того времени, как получил власть?
— Он, конечно, постарался удержаться на своем посту!
— Вы не угадали! Напротив, он продолжал возмущать народ, и сделал это с таким успехом, что самого себя низвергнул и заставил осудить на вечное заточение!
— А потом?
— А потом, если бы тот, кто стал его преемником на посту президента, не дал ему амнистии, он умер бы, по всей вероятности, в тюрьме, — закончил Джон Дэвис, разразившись смехом, которому от души вторил полковник.
Оба всадника еще хохотали над рассказом, как вдруг американец внезапно умолк, сделав полковнику знак последовать его примеру. Тот повиновался.
— Разве мы уже приехали? — спросил он.
— Почти. Вы видите лодку, которая покачивается у подножия того утеса?
— Конечно, вижу.
— Это именно та лодка, которая перевезет нас в Гальвестон.
— А наши лошади?
— Будьте спокойны, хозяин той жалкой лачужки, которая стоит там, на берегу, сбережет их для нас.
Джон Дэвис вынул из кармана свисток и два раза пронзительно свистнул. Почти тотчас же дверь лачуги отворилась, и в ней показался какой-то человек. Сделав два шага вперед, человек этот попятился, удивленный, очевидно, тем, что видит перед собой двоих людей, тогда как он ожидал только одного.
— Эй! Джано! — крикнул ему Джон Дэвис. — Ради Бога, не уходи.
— Так это вы? — отозвался тот.
— Да, я, если только сатана не принял моего образа!
Рыбак невольно покачал головой.
— Не шутите так, Джон Дэвис, — сказал он. — Ночь черна, и море неспокойно; это значит, что сатана сегодня вышел из преисподней.
— Ладно, ладно, старый кашалот, — сказал американец, — приготовь лодку, нам нельзя терять времени. Этот сеньор — один из моих друзей. Есть у тебя овес для наших лошадей?
— А как же! Эй, Педрильо, пойди сюда! Возьми лошадей этих кабальерос и отведи их в стойла.
На его зов из хижины вышел, зевая, парень высокого роста и приблизился к путешественникам. Те уже спешились. Парень взял лошадей под уздцы и увел их, не говоря ни слова.
— Так мы сейчас отправимся? — спросил Джон Дэвис.
— Когда вам будет угодно, — отвечал ворчливо рыбак.
— Надеюсь, у тебя народу достаточно?
— Я и двое моих сыновей; для того, чтобы переехать через бухту, этого будет вполне достаточно, я полагаю!
— Тебе это лучше знать, чем мне.
— Так зачем же спрашивать! — заметил рыбак и, пожав плечами, направился к лодке.
Оба всадника последовали за ним.
Рыбак сказал правду: море было бурным, и понадобилось все искусство старого моряка, чтобы переправа через бухту завершилась благополучно. После двух часов тяжелого труда гребцов лодка причалила к молу Гальвестона, и оба пассажира высадились из нее целыми и невредимыми. После этого, не дожидаясь благодарности со стороны пассажиров, рыбаки сели в лодку, взялись за весла и исчезли в ночной темноте.
— Здесь мы расстанемся, — сказал Джон Дэвис полковнику, — потому что каждый из нас должен идти своей дорогой. Завтра утром, в девять часов, я буду иметь честь предстать перед генералом. Смею ли я надеяться, что вы замолвите за меня словечко, чтобы обеспечить мне хороший прием?
— Я сделаю со своей стороны все, что зависит от меня.
— Благодарю вас, и спокойной ночи!
— Еще одно слово, прошу вас, прежде, чем мы расстанемся, — сказал полковник.
— Что вам угодно, полковник?
— Я должен вам признаться, что меня в данную минуту снедает любопытство.
— Что же именно вам угодно знать?
— Незадолго до вашего прибытия я увидел перед домом, к которому привел меня случай, четырех людей, которые несли пятого. Кто был этот последний?
— Я знаю об этом ровно столько же, сколько и вы. Все, что я могу вам сказать, это то, что его нашли умирающим на берегу моря в одиннадцать часов ночи несколько человек из береговой стражи. Кто он такой и откуда, я не знаю. Этот человек был весь изранен и в одной руке держал топор, что позволяет предположить, что он принадлежал к числу членов экипажа корвета «Либертад», которым так удачливо завладели наши люди. Вот единственное объяснение, которое я могу вам дать. Это все, что вам угодно знать?
— Еще одно слово. Кто тот человек, которого я видел в доме и которого называли доном Бенито?
— Что до него, то вы скоро о нем узнаете! Это — руководитель всего техасского восстания. Больше я ничего не имею права сказать вам по этому поводу. До свидания, до завтра, до девяти часов у генерала!
— Отлично.
Оба собеседника вежливо распростились и вошли в город с разных сторон: полковник направился к своей квартире, а Джон Дэвис, по всей вероятности, пошел искать ночлега к одному из многочисленных инсургентов, живших в Гальвестоне.
Глава II
МИРОВАЯ СДЕЛКА
Дурные вести распространяются, как известно, с необыкновенной быстротой. Почему? Это тайна, до сих пор неразгаданная. Как будто электрический ток несет эти вести с головокружительной скоростью и ради своего удовольствия рассеивает их на своем пути.
Ягуар и Эль-Альферес приняли все меры предосторожности, чтобы скрыть ото всех свою вылазку. Они хотели, чтобы результаты ее держались в тайне до той поры, пока они не предпримут всех мер, необходимых для обеспечения полного успеха этого рискованного предприятия.
Внутреннее сообщение в то время, как и по сей день, было в тех местах весьма затруднительным. Только один человек — полковник Мелендес — приблизительно знал, что произошло, и мы видели, что он был лишен возможности сообщить об этом кому бы то ни было. Тем не менее не прошло и двух часов с того времени, как совершилось событие, которое мы описывали, а слух о нем уже распространился по всему городу. Этот слух, как шум морского прилива, становился все грознее и скоро принял ужасающие размеры. Как обычно бывает в подобных случаях, истина потонула в массе глупейших и невероятнейших подробностей и почти совершенно исчезла, уступив место огромному числу домыслов. Один был несообразнее другого, но, вместе с тем, они пугали население и приводили его в неописуемое волнение. Говорили, между прочим, что инсургенты начали наступление на город, что у них сильный флот, состоящий из двадцати пяти судов, и что они могут высадить армию в десять тысяч человек, снаряженную пушками и другим оружием. Говорили не более и не менее как о бомбардировке инсургентами Гальвестона и о том, что значительная часть этих инсургентов принимала на суше все меры, чтобы отрезать городу всякое сообщение с материком.
Люди, которыми владеет страх, не рассуждают. Несмотря на явную несообразность предположения о том, что инсургенты могут собрать флот и такую значительную армию, никто не сомневался в правдоподобности этого слуха, и горожане со страхом обращали взоры к морю и в каждом показавшемся на горизонте парусе видели авангард техасской эскадры.
Даже сам генерал Рубио был сильно озабочен, и хотя он не особенно верил тем глупым слухам, которые доходили до него, тем не менее предчувствие, никогда не обманывавшее его, говорило, что он находится накануне каких-то грозных событий, которые не замедлят разразиться над городом, словно гром.
Продолжительное отсутствие полковника, причина которого была ему неизвестна, служило генералу еще одним поводом к тревоге. Положение становилось настолько напряженным, что генерал не мог не сделать попытки рассеять грозу, собиравшуюся на горизонте.
К несчастью, по своему географическому положению и как центр торговли Гальвестон — вполне американский город, и доля мексиканского населения в нем крайне невелика. Генерал не сомневался в том, что главные представители городской торговли — американцы северных штатов — искренне сочувствуют повстанцам и только ждут удобного случая сбросить с себя маску и открыто перейти на их сторону. Даже мексиканцы не могли быть удовлетворены подобным положением — оказаться взаперти в осажденном городе — и предпочли бы открытой борьбе, вредящей их коммерческим интересам, какое бы то ни было соглашение.
Капиталисты не имеют отечества, а потому, с точки зрения политики, население Гальвестона в глубине души очень мало заботилось о том, техасцы ли они или мексиканцы, лишь бы их не разорили. Этот вопрос был для них самым существенным. Окруженный такими эгоистами и смущаемый дурными слухами, генерал не мог не ощущать сильной тревоги, тем более что в его распоряжении были силы настолько незначительные, что они не могло бы затушить восстание в том случае, если бы городское население действительно возмутилось. Прождав понапрасну до одиннадцати часов возвращения полковника, генерал решил призвать к себе самых влиятельных городских торговцев, чтобы вместе с ними изыскать средство, которое отвечало бы интересам каждого из них и, вместе с тем, помогло бы ему самому укрепиться в городе.
Торговцы тотчас же отозвались на приглашение генерала. Такая поспешность с их стороны для всякого, кто мало знаком с истинным характером американцев, показалась бы добрым знаком, тогда как на генерала факт этот произвел совершенно обратное впечатление.
Около полуночи гостиная генерала была уже полна: в ней собрались человек тридцать торговцев, почтеннейших граждан Гальвестона.
Его превосходительство дон Хосе-Мария Рубио был, прежде всего, человеком дела, честным, прямым и следовавшим убеждению, что люди при любых обстоятельствах должны действовать открыто и неуклонно идти к намеченной цели. После взаимного обмена приветствиями он начал говорить. Без всяких ухищрений, ясно и твердо генерал раскрыл перед всеми настоящее положение дел и просил у знатных граждан их доброго содействия, которое помогло бы ему предотвратить надвигающуюся беду. При этом генерал объяснил им, что содействие это сделает его настолько сильным, что он будет в состоянии победить целую армию инсургентов и заставить их отступить.
Торговцы были далеки от мысли, что им сделают именно такое предложение, а потому они были положительно ошеломлены. В продолжении нескольких минут они даже не знали, что возразить генералу. Наконец, переговорив шепотом друг с другом, они, по-видимому, пришли к соглашению. Из середины их выступил самый влиятельный и старый коммерсант и от имени всех заговорил с той двойственностью, которая так характерна для жителей Соединенных Штатов и так часто вводит в заблуждение неопытных слушателей.
Этот коммерсант, уроженец Америки, в дни своей молодости перепробовал все более или менее выгодные ремесла, благодаря которым в Новом Свете можно за короткое время нажить огромное состояние. Приехав в Техас торговцем невольниками, он мало-помалу расширил свою торговлю; после этого он принялся за спекуляцию, и удача улыбалась ему, так что менее чем за десять лет он стал обладателем нескольких миллионов. Как человек, он был не что иное, как старая лисица без чести и совести, по инстинктам — грек, а по темпераменту — еврей. Его звали Лайонел Фишер. Он был мал ростом и выглядел на шестьдесят лет, тогда как на самом деле ему было семьдесят.
— Ваше превосходительство, — начал он льстивым тоном, поклонившись при этом полунадменно, полууниженно, тем именно поклоном, который так характеризует всех выскочек вообще, — мы очень огорчены печальными вестями, о которых ваше превосходительство сочли нужным нам сообщить; никто больше нас не сочувствует бедствию нашей несчастной страны. Мы всей душой скорбим о положении, в котором в настоящее время находится Техас, потому что удар этот прежде всего отразится на наших делах и на наших связях. Мы готовы на любые жертвы, чтобы предупредить несчастье и предотвратить ужасную катастрофу! Но, увы! Что можем мы сделать? Ничего!.. Несмотря на наше горячее желание доказать вашему превосходительству, что все наши симпатии на вашей стороне, руки у нас связаны. Наше содействие вряд ли будет полезно мексиканскому правительству. Напротив, оно лишь принесет ему вред в том смысле, что праздношатающиеся, которые рыщут во всех портах, а главным образом, в Гальвестоне, обрадовавшись возможности устроить беспорядки, тотчас же восстанут и под видом сочувствия революционному движению на самом деле станут грабить наше добро! Именно эта причина и вынуждает нас против собственного желания сохранять нейтралитет!
— Подумайте, сеньоры кабальеро, — сказал генерал, — жертва, которой я требую от вас, в сущности, ничтожна. Пусть каждый из вас даст по тысяче пиастров. Этого, надеюсь, будет не слишком много, чтобы гарантировать вам целость ваших капиталов и товаров. Эта сумма даст мне силу оградить вас от всех бед. Я завербую такое число солдат, какое необходимо, чтобы отражать все попытки инсургентов напасть на город.
Услышав это совершенно неожиданное требование, торговцы состроили страшные гримасы, но генерал, по-видимому, не заметил этого.
— Жертва, которой я требую от вас, вовсе не велика. Разве не справедливо будет, чтобы вы в критическую минуту пришли на помощь правительству, под покровительством которого обогатились, правительству, которое никогда не предъявляло к вам никаких требований, хотя и имело полное право сделать это?
Торговцы не знали, что на это ответить. Они не имели ни малейшего желания жертвовать свои деньги на защиту дела, которое они втайне старались всеми силами погубить. Но, поставленные генералом в почти безвыходное положение, они не знали, как им поступить: они не осмеливались ответить открытым отказом на это предложение и не ощущали в то же время ни малейшего желания согласиться на него.
Может показаться странным, что деньгами в особенности дорожат именно те люди, которым они достались легче всего, но, тем не менее, это так. Из всех народов, населяющих Америку, североамериканец больше всех любит деньги. Он чувствует к этому металлу глубокую привязанность, для него деньги — все! Гражданин Соединенных Штатов выдумал эгоистичную и бессердечную поговорку, так характеризующую этот народ: «время — деньги». Просите все что угодно у американца Северных Штатов, и он удовлетворит вашу просьбу, но не просите у него взаймы ни одного доллара, он все равно откажет вам в этом самым решительным образом, как бы ни был он вам обязан. Колоссальные банкротства, ужаснувшие несколько лет тому назад своей циничной наглостью Старый Свет, пролили яркий свет на коммерческую честность этой нации. Эти люди в своих мировых сделках никогда не произносят слова «да» и так боятся давать читать другим свои мысли, что даже в самых пустых разговорах, боясь быть пойманными на слове, произносят каждый раз фразы вроде следующих: «Я полагаю… я думаю… мне кажется…».
Генерал Рубио как старожил Техаса и человек, привыкший постоянно вращаться среди американцев, знал как нельзя лучше, как нужно говорить с ними, а потому он нимало не был смущен обнаруженной торговцами крайней растерянностью и их нежеланием принять его предложение.
Видя, что они не могут решиться ответить ему, он дал им несколько минут на размышление, а затем начал снова говорить, не меняя своего спокойного тона и приветливого выражения лица.
— Я вижу, сеньоры кабальеро, — сказал он, — что доводы, которые я имел честь представить вам, не убедили вас. Мне это очень прискорбно. С тех пор как президент республики оказал мне честь, назначив меня генерал-губернатором этого штата, я всегда старался угодить вам и не давал вам чувствовать всей тяжести власти, которой я уполномочен. Я во многих случаях сам смягчал для вас те слишком жесткие правительственные указы, касающиеся вас. Смею надеяться, вы отдадите мне справедливость в том, что я всегда был к вам внимателен и добр.
Торговцы, конечно, тотчас же стали изливаться в выражениях преданности и признательности. Генерал продолжал:
— К сожалению, дальше идти так не может ввиду вашего решительного антипатриотического отказа, и я вынужден, к моему величайшему сожалению, исполнить в точности полученное мною приказание, которое касается вас, сеньоры кабальеро, и которое, повторяю вам, я теперь смягчить не могу.
При этом заявлении, сделанном в шутливом тоне, торговцев мороз продрал по коже. Они поняли, что генерал решил им жестоко отомстить, и хотя еще не могли сообразить, в чем именно дело, но в глубине души уже начали раскаиваться, что приняли приглашение и сами легкомысленно бросились прямо волку в пасть.
Между тем генерал продолжал улыбаться, но в его улыбке было что-то ядовитое, а в выражении лица его сквозила насмешка, не предвещавшая ничего доброго.
В эту минуту часы, висевшие на стене, пробили два часа.
— Карамба! [5] — воскликнул генерал. — Разве уже так поздно? Как быстро проходит время в вашем приятном обществе! Сеньоры кабальеро, пора кончать! Я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось дольше задерживать вас вдали от ваших семейств, тем более что вы, без сомнения, испытываете желание удалиться.
— Действительно, — пробормотал коммерсант, говоривший от лица всех, — как ни приятно нам быть здесь…
— Вам будет еще приятнее уйти отсюда? — перебил, смеясь, генерал. — Я это понимаю как нельзя лучше, дон Лайонел, а потому не буду дольше злоупотреблять вашим терпением. Я задержу вас всего на несколько минут, а затем вы будете свободны. Итак, прошу вас сесть.
Торговцы повиновались, обменявшись украдкой друг с другом взглядами, полными отчаяния. Но казалось, что генерал за эту ночь оглох и ослеп: он не видел и не слышал ничего. Он позвонил, и на его зов вошел офицер.
— Капитан Сальдано, все ли готово? — спросил его генерал.
— Все, генерал! — ответил офицер, почтительно поклонившись.
— Сеньоры кабальеро, — начал генерал снова, — я получил от мексиканского правительства приказание потребовать от богатых горожан контрибуцию в размере шестидесяти тысяч пиастров. Вам известно, сеньоры кабальеро, что солдат должен повиноваться. Между тем я взял на себя смелость уменьшить размеры этой контрибуции вдвое, до последней минуты желая, насколько это от меня зависело, доказать мое к вам расположение. Вам было неугодно понять меня. Очень прискорбно, но мне не остается ничего другого, как исполнить полученное приказание. Вот предписание, — добавил он, взяв со стола бумагу и развертывая ее. — Оно вполне определенное. Тем не менее я все-таки хочу дать вам еще пять минут на размышление, но после этого я поступлю согласно моему долгу, а вы меня знаете, сеньоры кабальеро: я исполню свой долг, чего бы мне это ни стоило.
— Но, — отважился заговорить старый торговец, — я позволю себе обратить внимание вашего превосходительства на то, что сумма эта чересчур велика!
— Полноте, сеньоры кабальеро! Вас тридцать человек, это выходит по две тысячи пиастров на каждого, что составляет для вас ничтожную сумму. Я предложил вам заплатить только половину этой суммы, но вам не угодно было согласиться на это!
— Дела наши сильно пошатнулись за последние годы, и денег стало не хватать.
— Кому вы это говорите, дон Лайонел? Мне кажется, я должен знать это лучше, чем кто бы то ни было! — воскликнул генерал.
— Может быть, если вы дадите нам недели две или месяц сроку, то мы, собрав все наши ресурсы и пойдя на огромные жертвы, будем в состоянии собрать половину требуемой суммы.
— К сожалению, я не могу дать вам на это и часа времени.
— Но, генерал, тогда это невозможно!
— Перестаньте, я убежден, что вы хорошенько не обдумали это дело. Впрочем, это меня не касается; прося у вас этих денег, я только исполняю полученное приказание. Теперь вам решать, соглашаться ли вам на это или нет. Лично я умываю руки.
— Уверяю вас, генерал, — начал снова торговец, обманутый спокойным тоном генерала, — нам действительно совершенно невозможно собрать хотя бы самую небольшую сумму денег.
Остальные коммерсанты закивали головами в знак того, что они согласны с мнением их парламентера.
— Отлично! — начал генерал с той же насмешливой холодностью. — Но только не делайте меня ответственным за последствия, которые будет иметь ваш отказ!
— О, генерал! Неужели вы можете это думать?!
— Благодарю вас! Капитан, вы слышали? — добавил он, обернувшись к неподвижно стоявшему в дверях офицеру. — Прикажите отряду войти.
— Слушаю, ваше превосходительство.
И сказав это, офицер вышел.
На лицах торговцев отразился испуг. Это таинственное приказание навело их на серьезные размышления, и тревога их стала возрастать, когда вскоре они услышали по соседству с кабинетом генерала лязг оружия и тяжелые и мерные шаги солдат приближающего отряда.
— Что это значит, генерал? — воскликнули они в испуге. — Неужели мы попали в ловушку?
— Как так? — возразил губернатор. — Ах, извините! Я забыл сообщить вам конец полученного мною предписания; он-то, главным образом, и касается вас. Впрочем, эта ошибка будет сейчас мной исправлена. Мне приказано расстрелять всех людей, которые воспротивятся уплате контрибуции, требуемой правительством и необходимой ему для борьбы против инсургентов.
В ту же минуту дверь отворилась настежь, в комнату молча вошли пятьдесят вооруженных солдат, которые окружили торговцев.
Те были ни живы ни мертвы. Им стало казаться, что они видят страшный сон; они чувствовали себя точно во власти ужасного кошмара.
Догадываясь, что генерал не затруднится привести свою угрозу в исполнение, купцы не знали, как им выйти из этого критического положения.
Губернатор по-прежнему оставался совершенно спокоен. Лицо его было все так же приветливо, и голос его не утратил своей мягкости.
— Итак, сеньоры, — сказал он, — поверьте, что мне очень прискорбно случившееся. Капитан, уведите этих господ и поступайте с ними так, как их грустное положение того требует!
Затем, поклонившись собранию, генерал повернулся, чтобы выйти из комнаты.
— Одну минуту, by God! [6] — воскликнул Лайонел Фишер, начиная уступать поя страхом смертельной опасности. — Нет ли какой-нибудь возможности уладить это дело?
—Я знаю только один путь к этому: заплатить!
— Я это понимаю, — возразил коммерсант, — номы, увы, разорены!
— Так что же я-то тут могу сделать? Вы слышали и видели сами, что я в этом злосчастном деле ровно не при чем!
— Увы! — воскликнули хором бедняки-торговцы. — Не можете же вы, в самом деле, лишить нас жизни, генерал. Ведь мы отцы семейств! Что будет с нашими женами и детьми?
— Мне жаль вас, но, к несчастью, только это я и могу сделать.
— Генерал, — закричали они, бросаясь на колени, — ради всего, что вам дорого, сжальтесь! Мы умоляем вас!
— Я в отчаянии от того, что случилось, и желал бы прийти вам на помощь, но, к сожалению, я не знаю способа. Кроме того, вы ведь мне ни в чем не желаете содействовать.
— Увы! — повторяли они, рыдая и ломая руки.
— Я хорошо знаю, что денег у вас нет, в этом-то именно и затруднение. Это затруднение непреодолимо, поверьте мне. Впрочем подождите, — добавил генерал, как бы озаренный новой мыслью.
Взоры несчастных, приговоренных к смерти, засветились надеждой.
Наступило долгое молчание; можно было слышать, как бились сердца в груди этих людей, знавших, что жизнь их зависит от человека, стоявшего перед ними и не спускавшего с них глаз.
— Слушайте, — сказал он, — вот все, что я могу сделать для вас, и поверьте, что, поступая таким образом, я беру на себя огромную ответственность. Вас здесь тридцать человек, не так ли?
— Да, тридцать, ваше превосходительство! — воскликнули все в один голос.
— Так вот что! Только десять из вас будут расстреляны. Вы сами выберете их среди вас, и те, которых вы выберете, будут тотчас же отведены во двор и расстреляны. Но больше не просите меня ни о чем, все равно я должен буду отказать вам. Для того, чтобы вы сделали ваш выбор, я даю вам десять минут.
Этот последний удар генерала отличался неоспоримой ловкостью: им он полностью уничтожал царившее между торговцами согласие и восстанавливал их одного против другого.
Нам хотелось бы предположить, к чести генерала, известного всем своей нелюбовью ко всякому насилию, что его угроза смертной казни была не чем иным, как средством заставить людей, открыто отказавшихся прийти на помощь правительству, представителем которого он являлся, раскошелиться, и что он не был бы так жесток, чтобы довести дело до конца и хладнокровно приказать расстрелять тридцать самых уважаемых горожан. Но, каковы бы ни были в действительности намерения генерала, американцы поверили ему на слово, а потому после двух-трех минут колебаний они один за другим объявили о своем согласии выдать деньги, и таким образом оказалось, что единственным результатом их нерешительности было то, что каждый из них должен был заплатить теперь лишних тысячу пиастров. Это было не мало, и нам должно быть понятно, что торговцы уступили очень неохотно. Но позади них стояли солдаты с заряженными ружьями, готовые каждую минуту повиноваться малейшему знаку командира, а казарменный двор был всего в нескольких шагах, и потому раздумывать было некогда.
Тем не менее генерал счел за лучшее не слишком доверять торговцам. Каждый из них по очереди, под конвоем четырех солдат и офицера, во избежание бегства, был отведен на свою квартиру и отпущен только тогда, когда у генерала оказывалось в руках две тысячи пиастров. Это происходило до тех пор, пока генерал не собрал всю назначенную им сумму.
В зале под конец остались только старик Лайонел Фишер и генерал.
— О, сеньор, — с упреком сказал Лайонел, — как это могло случиться, чтобы вам, который до сегодняшнего дня был всегда так добр к нам, пришла мысль так жестоко обойтись с нами?
Генерал рассмеялся.
— Неужели вы думаете, что я привел бы свою угрозу в исполнение? — спросил он, пожав плечами.
Негоциант в отчаянии ударил себя по лбу.
— Ах! — воскликнул он. — Мы — идиоты!
— Карай! [7] Вы, однако, очень плохого мнения обо мне, сеньор. Я не способен на такие вещи! — добавил генерал.
— А-а! В таком случае, игра вами выиграна еще не окончательно.
— Каким образом?
— Очень просто: я ведь еще не заплатил!
— И что это значит?
— Это значит, что так как я теперь знаю, что не рискую ничем, то и платить не стану!
— Помилуйте! Честное слово, я считал вас умнее!
— Почему? — спросил Лайонел.
— Как? Вы не понимаете, что трудно решиться совершить казнь тридцати человек и привести ее в исполнение, но если дело касается только одного человека, при этом имеющего на своей совести не одно дурное дело, то его казнь должна казаться лишь актом справедливости, перед совершением которого колебаний быть не может!
— Итак, вы прикажете расстрелять меня?
— Без малейших угрызений совести!
— Хорошо, генерал! Сознаюсь, вы положительно умнее меня.
— Вы мне льстите, сеньор Лайонел.
— Нет, я только говорю то, что думаю; это была ловкая игра!
— Вы — знаток в таких делах, — ответил генерал.
— Благодарю вас, — сказал коммерсант с улыбкой. — Чтобы избавить вас от труда казнить меня, я сам себя казню. — И с этими словами он с добродушным видом вынул из своего бокового кармана бумажник, битком набитый процентными бумагами, и выложил на стол две тысячи пиастров.
— Мне остается только поблагодарить вас, — сказал генерал, пряча банкноты.
— И мне тоже, ваше превосходительство, — сказал Фишер.
— За что же?
— За преподанный вами урок, которым я постараюсь воспользоваться впредь.
— Берегитесь, сеньор Лайонел, — сказал под конец генерал, — вы можете напасть на человека с совсем иным характером, нежели у меня.
Торговец засунул свой бумажник в карман, поклонился генералу и вышел.
Было три часа; все дело было кончено за какой-нибудь час времени.
— Жалкие люди! — пробормотал про себя генерал, оставшись один. — Если бы нам пришлось иметь дело только с ними, а не с горцами и вольными стрелками, нам нетрудно было бы с ними справиться.
— Ваше превосходительство, — сказал, войдя в комнату, один из адъютантов генерала, — полковник Мелендес спрашивает, угодно ли вам будет принять его, невзирая на поздний час?
— Полковник Мелендес здесь?! — воскликнул генерал с удивлением.
— Он только что прибыл, генерал. Может ли он войти?
— Конечно, пусть войдет, пусть войдет сию же минуту!
Через некоторое время в комнату вошел полковник Мелендес.
— Наконец-то вы здесь! — воскликнул генерал, идя ему навстречу. — Я считал вас или пленным, или мертвым.
— Немного и нужно было, чтобы я стал и тем, и другим.
— О-о! Так, стало быть, то, что вы желаете сообщить мне, действительно важно?
— Очень важно, генерал!
— Caspita! Вот вам, друг мой, кресло; возьмите его и садитесь.
— Прежде всего, генерал, известно ли вам положение наших дел?
— Что вы этим хотите сказать?
— Боже мой, генерал! Только то, что, может быть, не все события последнего времени вам известны.
— До меня дошли слухи о каких-то важных событиях, но я не знаю в точности, что именно произошло.
— В таком случае слушайте! Корвет «Либертад» — в руках инсургентов.
— Не может быть! — воскликнул генерал, вскакивая с кресла.
— Генерал, — сказал молодой офицер печально, — у меня есть новость еще более важная.
— Простите, мой друг, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется невероятным, чтобы в поездке, которую вы совершили для развлечения и из которой теперь возвратились, вы могли получить такие важные сведения!
— Инсургенты не только завладели корветом «Либертад», но они также взяли форт Пуэнте.
— О! — произнес генерал, быстро поднимаясь с кресла. — На этот раз вас ввели в заблуждение, полковник! Форт Пуэнте не может быть взят!
— Он взят после часового приступа тридцатью вольными стрелками под начальством Ягуара.
Генерал схватился за голову, и лицо его отразило невыносимое отчаяние.
— Это уже слишком! — вскричал он.
— Но и это еще не все, — продолжал полковник резким тоном.
— Что же еще ужаснее того, что вы уже сообщили, можете вы сказать мне?!
— Факт, который возбудит ваш гнев и заставит вас покраснеть от стыда.
Старый солдат положил руку на грудь как бы с тем, чтобы удержать сильное биение своего сердца, и, обратившись к полковнику, сказал:
— Говорите, друг мой, я готов вас слушать.
Полковник несколько минут молчал, отчаяние храброго генерала глубоко трогало его.
— Генерал, — сказал он, — может быть, лучше будет отложить до завтра то, что я намереваюсь сообщить вам: узнаете ли вы об этом факте несколькими часами раньше или позже — это не составит большой разницы.
— Полковник Мелендес, — возразил генерал твердо, глядя в глаза молодому офицеру, — в тех обстоятельствах, в каких мы в данное время находимся, каждая минута может стоить целого века! Я приказываю вам говорить!
— Инсургенты желают вступить с вами в переговоры, — сказал полковник прямо.
— Вступить в переговоры со мной?! — воскликнул генерал с глубокой иронией в голосе. — Эти господа делают мне большую честь! А по какому именно поводу?
— По поводу того, что они считают себя в силах овладеть Гальвестоном. Во избежание кровопролития они предпочитают вступить с вами в переговоры.
Генерал встал и порывистым шагом прошелся несколько раз взад и вперед по комнате. Потом, остановившись перед полковником, он спросил его:
— А будь вы на моем месте, что бы вы сделали?
— Я согласился бы на переговоры, — чистосердечно ответил молодой офицер.
Глава III
ОТСТУПЛЕНИЕ
После этих слов, сказанных так смело и откровенно, воцарилось тягостное молчание. Полковник первый возобновил прерванную беседу.
— Генерал, — начал он, — вы, очевидно, не знаете о тех событиях, которые случились за эти двадцать четыре часа?
— Как же я могу знать что-нибудь? Эти демоны-инсургенты организовали небольшие отряды, специально предназначенные для того, чтобы перехватывать наших разведчиков и таким образом лишать нас возможности общаться друг с другом. Из двадцати наших разведчиков, которых я послал, ни один не возвратился!
— И ни один не возвратится, будьте уверены.
— Но что же делать в таком случае?
— Вы действительно желаете знать мое мнение, генерал?
— Честное слово, я действительно желаю слышать ваше суждение по этому вопросу, потому что из всех нас вы один, кажется, знаете истинное положение вещей!
— Да, только я один… Так выслушайте меня, и пусть то, что я скажу, вас не удивляет, потому что все это — правда. Сведения, которые я имел уже честь изложить вам, были даны мне самим Ягуаром не далее как три часа тому назад в Сальто-дель-Фрайле, куда он просил меня явиться переговорить о деле, не имеющем ни малейшего отношения к политике.
— Отлично! — сказал генерал, тонко улыбнувшись. — Продолжайте, я вас слушаю с большим вниманием.
Полковник слегка покраснел, почувствовав на себе мягкий и иронический взгляд своего командира, но тем не менее продолжал:
— Вот в двух словах наше нынешнее положение. В то время как несколько смельчаков с помощью корсарского брига под американским флагом внезапно напали на корвет «Либертад»…
— Корвет «Либертад» — одно из самых лучших судов нашего флота! — воскликнул генерал, подавив тяжкий вздох.
— Да, генерал, к несчастью, это теперь свершившийся факт. И вот, пока это происходило, другие инсургенты под командой Ягуара двинулись к форту Пуэнте и овладели им без единого выстрела.
— Но это невозможно! — гневно перебил его старый солдат.
— Я говорю вам сущую правду, генерал!
— И до меня дошли слухи о том, что инсургенты снова нанесли нам урон, но я был далек от мысли о такой катастрофе!
— Клянусь вам честным словом офицера, я говорю истину! — сказал полковник.
— Я верю вам, мой друг, я знаю, насколько вы честны и заслуживаете доверия; только новость, которую вы мне сообщили, настолько ужасна, что я, против воли, желал бы иметь повод усомниться в ней.
— К несчастью, это невозможно!
Генерал, обуреваемый гневом, который он вынужден был скрывать, принялся ходить большими шагами взад и вперед по зале, сжимая кулаки и бормоча про себя какие-то отрывистые слова.
Полковник печально следил за ним взглядом и даже не пытался произносить те банальные слова утешения, которые не только не способствуют смягчению горя, но, напротив, делают его еще более сильным и острым.
Наконец по прошествии нескольких минут генералу удалось совладать со своим волнением, и он уже со спокойным лицом снова сел возле полковника и, взяв его дружески за руку, сказал, силясь улыбнуться:
— Вы еще не дали мне вашего совета.
— Если вы серьезно желаете услышать мое мнение, то я скажу вам его, — ответил молодой человек, — хотя заранее уверен, что у нас относительно этого вопроса совершенно одинаковое мнение.
— Очень может быть. Тем не менее мнение такого достойного уважения человека, как вы, всегда ценно, и мне любопытно знать, действительно ли мы сходимся во взглядах.
— Хорошо, генерал! Вот что я думаю: у нас в распоряжении силы, которых не достаточно для того, чтобы выдержать осаду. Кроме того, умы горожан настроены в высшей степени неблагоприятно для нас, и нужно совсем немного, чтобы все население поднялось против нас и примкнуло к инсургентам. С другой стороны, было бы безумием запереться в городе, не имеющем выхода, где мы были бы вынуждены сдаться. На мексиканскую армию это легло бы неизгладимым позорным пятном! В настоящее время нам нельзя ждать никакой помощи от мексиканского правительства: оно слишком занято собственной защитой от мятежников, с которыми у него происходят постоянные столкновения. Оно не может думать о том, чтобы помочь нам людьми или чем бы то ни было иным.
— То, что вы говорите, к несчастью, совершенно справедливо: мы должны надеяться только на собственные силы.
— Теперь — и это для меня совершенно очевидно — если мы решимся запереться в городе, то кончим тем, что будем вынуждены сдаться. Инсургенты стали хозяевами на море, и поэтому сдача города становится только вопросом времени. Если же мы выйдем из города, то наше положение существенно улучшится.
— Но в этом случае надо будет согласиться пойти на переговоры с этими негодяями!
— Я сначала тоже так думал, но теперь я полагаю, что мы можем с легкостью избежать этого несчастья.
— Каким образом? Скажите, скажите, мой друг!
— Парламентер, которого посылают инсургенты, должен явиться сюда в девять часов утра. Кто мешает вам, генерал, очистить город до его появления?
— Гм! — пробормотал генерал, выслушав с большим вниманием мнение молодого человека. — Итак, вы советуете мне обратиться в бегство?
— Нисколько, — возразил полковник, — вспомните, генерал, что в вопросах, касающихся военных действий, принято считать за принцип, что отступление не есть бегство. Если мы выйдем в отрытое поле, оставив город в распоряжении инсургентов, то этим искусным отступлением поставим их в то же самое затруднительное положение, в каком мы сейчас находимся сами. В открытом поле, с помощью нашей дисциплины, мы будем в состоянии сделать то, что теперь для нас невозможно, а именно: мы можем тогда отразить натиск врага, превосходящего нас численностью в четыре раза, а потом, когда мы наконец получим подкрепление от генерала Санта-Анны, которое он, без сомнения, в скором времени пришлет, мы возвратимся в Гальвестон, который тогда инсургенты, конечно, не дерзнут защищать против нас. Вот каково мое мнение, генерал, и вот тот план действий, который я бы наметил, если бы имел честь быть губернатором этого штата.
— Да, — ответил генерал, — предложенный вами план может иметь несомненный успех, если бы была возможность следовать ему. К сожалению, было бы безумием рассчитывать на поддержку генерала Санта-Анны. Он заставит нас потерпеть поражение — не по собственному желанию, но принужденный к тому обстоятельствами и теми препятствиями, которые всегда ставит ему на пути сенат.
— Я не согласен с вашим мнением, генерал; будьте уверены, что любой сенатор, как ни враждебен он президенту республики, так же мало, как и он, желал бы потерять Техас. Впрочем, в этом случае надо действовать так, как велит нам необходимость; с нашей стороны было бы большой глупостью ждать здесь наступления неприятеля.
Генерал, казалось, колебался несколько минут, затем, приняв, по-видимому, какое-то решение, позвонил в колокольчик.
Вошел адъютант.
— Всем офицерам собраться здесь через полчаса! — приказал генерал. — Ступайте!
Адъютант поклонился и вышел.
— Вы этого желаете, полковник? — вновь обратился генерал к своему молодому собеседнику. — Ну что же! Пусть будет по-вашему. Я решил следовать вашему совету. Впрочем, может быть, это действительно единственный оставшийся нам в настоящее время путь к спасению!
В Европе, где все привыкли видеть на полях сражения огромные массы войск, улыбнулись бы, услышав, что горсть людей, которая там не составила бы и полка, здесь называют армией. Но надо принять во внимание, что Новый Свет, за исключением Североамериканских Соединенных Штатов, крайне скудно населен; жители там разбросаны по очень большим пространствам, и численность регулярных войск редко доходит до пяти или шести тысяч человек.
Обычно армия состоит из пятнадцати — восемнадцати тысяч солдат, считая и инфантерию, и кавалерию, и артиллерию. И какие это солдаты! Невежественные, редко получающие жалование, плохо вооруженные, повинующиеся своим командирам только наполовину, командирам, о которых они знают, что те невежественны не менее их самих, и к которым солдаты, что вполне естественно, не питают ни малейшего доверия.
В Мексике военная служба не только не в почете, как, например, во Франции, но, напротив, презираема всеми до такой степени, что офицеры и солдаты — в большинстве случаев люди с запятнанной репутацией, для которых все другие карьеры закрыты. Офицеры, кроме немногих счастливых исключений, обыкновенно обременены долгами, пользуются дурной репутацией, а невежественность их в знании военного дела настолько велика, что последний французский капрал мог бы давать им уроки. Что касается солдат, то их набирают только среди бродяг, воров и убийц. Неудивительно поэтому, что армия является настоящим бичом этих краев; она способствует частой смене правления, и такие смены обычно происходят с головокружительной быстротой. Так, например, со времени обретения своей так называемой независимости эта несчастная страна пережила приблизительно до трехсот пронунсиаментос [8], всецело взявших начало в армии и совершаемых в интересах офицеров, единственная цель которых — повыситься в звании. Но, как везде, и здесь есть исключения. Мы знавали многих мексиканских офицеров — очень образованных и достойных уважения. К сожалению, число их так невелико, что они бессильны были противодействовать злу.
Генерал Рубио был безусловно одним из достойных всяческого уважения высших командиров мексиканской армии. Между тем мы видели, что и он без колебания потребовал выкуп с тех самых людей, которых по долгу службы был обязан защищать от всяческих притеснений.
По этому примеру нетрудно судить о тех тысячах злоупотреблений, которые позволяют себе другие генералы. Та часть войск, которой командовал генерал Рубио и с которой он находился в Гальвестоне, состояла из девятисот пятидесяти человек, включая солдат и офицеров. К ним по первому требованию могли присоединиться еще до трехсот человек, разбросанных по различным местечкам для охраны береговых постов. Этого войска было недостаточно для надежной обороны города, но оно могло долгое время наносить урон инсургентам, учитывая то, что последние были плохо вооружены и совсем недисциплинированны.
Генерал, приняв во внимание это обстоятельство и оценив всю выгоду плана, предложенного ему молодым офицером, тотчас же согласился на его предложение. Необходимо было торопиться и действовать немедленно.
Солнце уже вставало, и следующий день был воскресным. Мексиканская армия должна была очистить город до окончания обедни, то есть до одиннадцати часов утра, и вот по какой причине. Во всех штатах, а главным образом в Техасе, существует странный обычай, состоящий в том, что по воскресным дням рабовладельцы дают своим рабам полную свободу действий. Один день из семи — это, конечно, немного, но для южных штатов, где с рабами обращаются так жестоко, это имеет большое значение: негры после шести дней тяжелого труда с истинно детской радостью пользуются этими несколькими часами свободы. Не обращая внимания на тропическую жару, превращающую улицы в раскаленные печи, они бродят по городу, поют, пляшут или же скачут сломя голову в экипажах, принадлежащих их господам. В этот день город к их услугам, они делают почти все, что им вздумается, и никто не вмешивается в их развлечения.
Генерал Рубио опасался, и не без основания, что коммерсанты Гальвестона, которых он так ловко заставил раскошелиться, сделают попытку отомстить ему, подняв против мексиканцев невольников, которые, обрадовавшись возможности повеселиться и не заботясь о последствиях, с удовольствием учинят в городе беспорядки. А потому, пока адъютант уходил передавать офицерам полученные им приказания, генерал велел полковнику немедленно собрать всех солдат во дворе казарм, а затем запастись необходимым числом судов для переправы войск на материк.
Это приказание исполнить было нетрудно. Полковник, не теряя ни минуты, отправился к гавани и, не встретив ни малейшего протеста со стороны капитанов судов, стоявших на рейде, вскоре приготовил пятнадцать судов для переправы гарнизона.
Тем временем посланный генералом адъютант уже успел исполнить возложенное на него поручение, и минут через двадцать все мексиканские офицеры собрались в доме генерала. Последний, не мешкая ни минуты, резким, не терпящим возражений тоном кратко изложил положение, в котором очутился гарнизон из-за взятия форта, а также сообщил им о возникшей вследствие этого необходимости не дать неприятелю отрезать войска от материка. В заключении он добавил о своем намерении немедленно вывести войска из города.
Офицеры, как этого и ожидал генерал, единогласно одобрили его план действий, так как в глубине души они вовсе не желали запираться в городе и выдерживать осаду, от которой не ждали ничего хорошего. Перспектива войны в открытом поле привлекала их во всех отношениях, а главное, они могли надеяться отомстить инсургентам за многочисленные потери, понесенные ими с того времени, как они обосновались в городе.
Поэтому генерал немедленно отдал распоряжение собрать все войска на набережной в полном снаряжении.
Чтобы не потревожить горожан, передвижение войск было осуществлено тихо, и полковник, присутствовавший при посадке солдат на суда, был настолько осторожен, что расставил часовых на всех улицах, по которым проходили войска, чтобы избежать каких-либо столкновений между солдатами и горожанами.
Каждое судно нагружалось таким числом людей, которое только могло вместить. По окончании погрузки оно по приказанию полковника немедленно отчаливало и, отойдя от пристани, становилось поблизости от берега в ожидании следующего судна, так как генерал желал, чтобы вся флотилия покинула город одновременно.
День был великолепный, солнце сияло на безоблачном небе, и вода бухты блестела как зеркало. Горожане, которых солдатские штыки держали на приличном расстоянии от гавани, мрачно и безмолвно присутствовали при посадке войск и с тревогой следили за маневрами, значения которых они не понимали. Они были далеки от мысли, что мексиканский гарнизон покидает их, как это было в действительности, и полагали, что генерал с частью своих войск намеревается совершить вылазку против инсургентов.
Когда все солдаты, за исключением часовых на улицах, сели на суда, генерал попросил к себе городского голову, судью и других представителей городской администрации. Те тотчас же явились к генералу, с большим трудом скрывая под внешним спокойствием тревогу, вызванную необъяснимыми для них передвижениями войск, а также полученным ими приказанием явиться к генералу.
Несмотря на быстроту, с которой совершалась посадка солдат, было уже девять часов утра, когда она закончилась.
В ту минуту, когда генерал намеревался заговорить с представителями города, к нему подошел полковник Мелендес и, поклонившись, сказал:
— Генерал, то лицо, о котором я имел честь вам говорить, желает быть представленным вам.
— А-а! — воскликнул генерал, покусывая кончик своего уса с ироническим видом. — Так он здесь?
— Так точно, генерал. Я обещал ему представить его вашему превосходительству.
— Отлично! Просите эту особу войти.
— Как? — воскликнул полковник с удивлением. — Вашему превосходительству угодно говорить с этим человеком при свидетелях?!
— Конечно, и я сожалею, что свидетелей так мало. Приведите эту особу, мой друг.
— Ваше превосходительство, хорошо ли вы обдумали приказание, которое я имел честь получить?
— Карамба! Конечно! Вот увидите, мой друг, вы останетесь довольны тем, что я намереваюсь сделать.
— Так как вы этого требуете, генерал, — ответил полковник нерешительно, — то… мне остается только повиноваться.
— Да, да, мой друг, повинуйтесь и будьте спокойны.
Полковник вышел без дальнейших возражений. Через несколько минут он появился снова в сопровождении Джона Дэвиса.
Американец переменил платье, которое было на нем ночью, заменив его на более соответствующее настоящему случаю. Он держался важно, и походка его была горделива, но вместе с тем проста и непринужденна. Войдя в зал, он изящно поклонился генералу и уже хотел заговорить с ним, но тот жестом остановил его, вежливо ответив на поклон.
— Извините, кабальеро, будьте так добры подождать несколько минут. Может быть, после того, что вы здесь услышите и что я буду иметь честь сказать этим господам, вы сочтете вашу миссию оконченной.
Американец поклонился в знак согласия.
Генерал обратился к присутствующим представителям городской власти.
— Сеньоры кабальеро, — сказал он им, — приказания, только что полученные мною, вынуждают меня немедленно покинуть ваш город вместе с войсками, которыми я имею честь командовать. На время моего отсутствия я оставляю на ваше попечение все дела. Я убежден, что вы в любом случае будете поступать осторожно, соблюдая наши общие интересы. Только берегитесь подпасть под влияние дурных советов! По моему возвращению — отсутствие мое будет непродолжительным — я строго потребую от вас отчета во всех ваших действиях! Теперь взвесьте хорошенько мои слова и будьте уверены, что ни один из ваших поступков не останется тайной для меня.
— Так вот по какому поводу совершилось передвижение войск сегодня утром. Вы действительно уезжаете? — спросил городской голова.
— Вы слышали меня, сеньоры кабальеро!
— Мы слышали вас, генерал, но, в свою очередь, как городской голова, я осмелюсь спросить вас, по какому праву вы, военный губернатор этого штата, покидаете один из главных его портов и предоставляете город самому себе в таких критических обстоятельствах, когда мятеж уже стучится к нам в дверь, и при этом покидаете его, не сделав ни малейшего усилия защитить нас? Поступать так, значит ли действительно быть защитниками этого несчастного края? Нет! Это значит отдать его в жертву анархии, которая, как вы это знаете сами, еще не наступила только потому, что присутствие войск сдерживало бунтовщиков. Генерал, мы не примем бремени, которое вы намереваетесь свалить теперь на нас; мы не желаем брать на себя такой тяжелой ответственности; мы не хотим исправлять чужие ошибки! Не успеет последний мексиканский солдат покинуть город, как мы все подадим в отставку, не желая жертвовать собой ради правительства, поведение которого, по нашему мнению, отличается таким эгоизмом и такой холодной жестокостью! Вот что я желал сказать вам, генерал, от себя лично и от имени своих коллег. Теперь — дело ваше, поступайте по собственному усмотрению. Вы предупреждены, что никоим образом не можете рассчитывать на нас.
— А-а! Сеньоры кабальеро! — вскричал генерал, гневно нахмурив брови. — Так вот как вы хотите поступить? Берегитесь! Я еще не уехал, я еще хозяин в Гальвестоне. Перед отъездом я могу поступить с примерной строгостью с кем мне будет угодно!
— Сделайте это, генерал. Мы безропотно покоримся всему, чему вы пожелаете нас подвергнуть, будь то даже смерть!
— Отлично, господа! — продолжал генерал голосом, сдавленным от гнева. — Если так, я предоставляю вам теперь поступать, как вам заблагорассудится. Но, может быть, скоро я потребую от вас строгого отчета в ваших поступках!
— Не от нас вы получите этот отчет, генерал, потому что ваш отъезд будет сигналом нашей отставки!
— Итак, стало быть, вы отдаете страну в жертву анархии?
— Что же нам делать? Какие средства имеем мы в нашем распоряжении, чтобы помешать этому? Нет, нет, генерал, не к нам должны относиться все эти упреки!
Генерал Рубио в глубине души сознавал справедливость этих слов. Он ясно видел, сколько было в его поведении холодной и расчетливой жестокости по отношению к населению, которое, оставаясь теперь абсолютно беззащитным, могло легко стать жертвой низменных страстей. К несчастью, ничего другого нельзя было сделать: удержать город было невозможно, стало быть, оставалось его покинуть.
Не ответив ничего городскому голове (да и что бы мог он ему ответить?), генерал сделал знак своему адъютанту следовать за ним и уже намеревался выйти из зала, когда был остановлен Джоном Дэвисом.
— Извините, что задержу вас на одну минуту, генерал, — сказал он, — но мне хотелось бы поговорить с вами.
— К чему, кабальеро, — резко ответил генерал. — Разве вы не слышали того, что говорилось здесь? Возвратитесь к тем, кто вас послал, и расскажите им о том, чему вы были свидетелем: этого будет достаточно.
— Тем не менее, генерал, — начал снова с настойчивостью американец, — я бы желал…
— Что такое? — перебил нетерпеливо генерал и затем продолжал с насмешкой. — Вы желали бы сделать мне предложение от лица инсургентов, конечно? Так знайте, сударь, что бы ни случилось, я никогда не соглашусь пойти на переговоры с бунтовщиками. Благодарите полковника Мелендеса, который изъявил готовность ввести вас ко мне. Без его посредничества я бы приказал повесить вас как изменника своему отечеству. Ступайте! Или нет, я не желаю, чтобы вы остались здесь после меня. Возьмите этого человека! — приказал генерал повелительно.
— Генерал, подумайте о том, что вы делаете, — возразил американец. — Я уполномоченный! Арестовать меня, значит нарушить права людей, пославших меня!
— Перестаньте! — воскликнул генерал, пожав плечами. — Вы с ума сошли! Разве я знаю, кто вы такой? Боже мой! В какое же время мы живем, когда бунтовщики стали требовать каких-то своих прав у правительства, против которого они восстали, и считают себя ему равными! Вы — мой пленник, сударь! Но успокойтесь, я не имею ни малейшего желания ни обращаться с вами жестоко, ни удерживать вас долго. Вы переедете вместе с нами на материк, вот и все. Когда мы прибудем туда, вы можете отправляться, куда вам заблагорассудится. Вы видите, сударь, что мексиканцы, которых вам угодно изображать в таких темных красках, не так свирепы, как вам кажется.
— Мы всегда справедливо ценили ваше сердце и вашу честность, генерал!
— Меня нисколько не интересует мнение, которое вы составили обо мне! Пожалуйте, сударь!
— Я протестую, генерал, против этого незаконного ареста!
— Протестуйте сколько вам угодно, сударь, и следуйте за мной.
Так как выказывать сопротивление было бы безумием со стороны Джона Дэвиса, то он покорно повиновался.
— Хорошо, я последую за вами, генерал, — сказал он, усмехнувшись. — В конце концов, мне, в сущности, не на что жаловаться! — И они оба вышли в сопровождении адъютанта.
Несмотря на яркое солнце, разливавшее на город потоки тропического зноя, все население его было на улицах. Но толпа была молчалива, она тихо и невозмутимо присутствовала при посадке войск на суда. Никто не сделал ни малейшей попытки прорваться сквозь цепи часовых, выставленных на набережной.
Когда показался генерал, толпа по обе стороны от него расступилась, и многие поклонились ему.
Жители Гальвестона ненавидели мексиканское правительство, но отдавали справедливость губернатору, который всегда был добр и справедлив к ним и не пользовался своей властью, чтобы притеснять, тиранить их. Жители с удовольствием видели, что войско уезжает от них, но грустили об отъезде генерала.
Старый воин приближался спокойным шагом, громко разговаривая с офицерами, любезно и с улыбкой отвечая на поклоны публики. Он дошел до набережной за несколько минут. По его приказанию последние солдаты были посажены на борт корабля. Генерал остался на несколько минут один среди толпы, и единственным оружием его была сабля; только два адъютанта стояли возле него. Джон Дэвис уже был в шлюпке, которая дожидалась генерала, чтобы отчалить.
— Ваше превосходительство, — обратился один из адъютантов к генералу, — все войско уже готово к отплытию и ожидает вашего приказания.
— Хорошо, капитан, — ответил тот.
Обернувшись тогда к городским властям, которые все время шли за ним, он сказал им, снимая шляпу, причем белые перья ее коснулись земли:
— Прощайте, сеньоры кабальеро, или, вернее, до свидания! Я всей душой молю Бога, чтобы в мое кратковременное отсутствие вы сумели избегнуть беспорядка и анархии. До свидания! Мы свидимся раньше, может быть, чем вы думаете. Да здравствует Мексика!..
Толпа продолжала хранить безмолвие, ни один голос не подхватил возгласа генерала. Генерал Рубио печально покачал головой, поклонился в последний раз и спустился в ожидавшую его шлюпку.
Десять минут спустя мексиканская флотилия покинула Гальвестон.
— Когда мы возвратимся? — с грустью пробормотал генерал, обратив взгляд на город, очертания которого постепенно исчезали на горизонте.
— Никогда! — прошептал ему на ухо голос Джона Дэвиса, голос, полный злой иронии, который проник в самое сердце старого солдата и наполнил его горечью.
Глава IV
ДЖОН ДЭВИС
Подгоняемая сильным попутным ветром, мексиканская эскадра быстро прошла расстояние, отделявшее остров от материка.
Бриг и корвет, стоявшие на якоре близ крепостных батарей, не обнаруживали ни малейшего движения, которое могло бы возбудить тревогу генерала. Было очевидно, что американцы не подозревали о значении совершившихся на их глазах событий и спокойно ожидали возвращения своего парламентера, чтобы действовать сообразно обстоятельствам. Кроме того, полковник Мелендес завладел всеми свободными судами, находившимися в гавани Гальвестона, так что городские власти не могли, при всем их желании, отправить к техасцам ни одной шлюпки в случае, если бы они пожелали известить их об отъезде мексиканского гарнизона.
Решение покинуть город было принято и приведено в исполнение генералом настолько быстро, что сторонники повстанцев, жившие в городе и не знавшие истинной причины этого отступления, были крайне смущены полученной ими так странно и так неожиданно свободой и не знали, как поступить и как дать знать об этом своим друзьям и сообщникам. Единственным человеком, который был бы в состоянии им все разъяснить, был американец Джон Дэвис, но генерал Рубио, предвидя то, что должно было случиться, если бы он оставил в городе бывшего работорговца, позаботился о том, чтобы прихватить его с собой.
Высадка войск совершилась при вполне благоприятных обстоятельствах: берег, к которому пристали суда, принадлежал мексиканцам, они держали в той местности сильный отряд войск, так что высадка гарнизона генерала ни в ком не возбудила ни малейшего подозрения и совершилась без всякого сопротивления со стороны местных жителей.
Первой заботой генерала, как только они ступили на берег, было разослать лазутчиков по всем направлениям, чтобы по возможности получить точные сведения о планах неприятеля, а также узнать, готовится ли он к наступлению.
Суда, на которых прибыли солдаты, были, до нового приказания со стороны генерала, вытянуты на берег и оставлены в распоряжении мексиканцев, во избежание того, чтобы инсургенты завладели ими. Только две шхуны с двумя орудиями, по одному на каждой шхуне, оставались на воде, и им было приказано крейсировать в бухте и забирать все суда, которые жители Гальвестона попытаются отправить к командующему техасской армии.
Берега Рио-Тринидада высоки и замечательно живописны. Они окаймлены тростником и корнепуском, в гуще которых веселятся, издавая громкие крики, тысячи фламинго, журавлей, цапель и диких уток; птицы безмятежно плавают по зеркальной поверхности воды, спокойной, как заснувшее озеро, и прозрачной, как хрусталь. Приблизительно в пяти милях [9] от моря берег постепенно поднимается и образует холмы, покрытые густой высокой травой и лесом красного дерева и гигантских магнолий, белые большие цветы которых распространяют вокруг пьянящий аромат. Деревья эти сплетены лианами и образуют густую чащу, в которой ютятся тысячи красных и серых белок, прыгающих с ветки на ветку, кардиналы, пересмешники. Centoztle — прелестные мексиканские соловьи — оглашают каждый вечер эти живописные окрестности своим нежным серебристым пением.
По скату одного из холмов, круто спускающихся к реке, тут и там разбросаны среди деревьев десятка два беленьких домиков с плоскими крышами и зелеными ставнями. Они прячутся в зелени, точно робкие птички. Эти домики, построенные в тихой местности, вдали от света, носят название пуэбло Сан-Исидор. На несчастье обитателей этого забытого всеми уголка, генералу Рубио, оказавшемуся вынужденным выбрать удобное в стратегическом отношении место для лагеря, пришлось смутить их покой и безжалостно напомнить им о печалях и горестях нашей жизни. Пуэбло, имевшее сходство с орлиным гнездом, оказалось действительно очень удобным местом для расположения войск, а потому мексиканская армия немедленно двинулась к нему и к полудню была уже на месте. При неожиданном появлении солдат жителей Сан-Исидора обуяла такая паника, что, собрав наскоро все самое драгоценное из своего имущества, они покинули свои домики и разбежались по окрестностям, чтобы спрятаться кто где и как мог. Несмотря на все сделанные генералом попытки остановить беглецов, бедняки-индейцы не послушались и решили не оставаться дольше по соседству с войском.
Таким образом оказалось, что мексиканцы стали единственными обитателями пуэбло, чем не замедлили воспользоваться. Они тотчас же расположились в нем, и вид его сразу совершенно изменился: ни огромные деревья, ни цветы, ни лианы, словом, ничто не было пощажено. Все было вырублено и обращено в горючий материал, валявшийся теперь на земле, которая так долго была покрыта благодатной тенью. Птицы — и те были вынуждены покинуть свои прелестные убежища и искать как можно скорее приют в соседних лесах.
Когда пуэбло было очищено от всего, что загораживало его со стороны моря, генерал приказал построить мощные укрепления, превратившие это спокойное убежище в крепость, почти неприступную для инсургентов из-за недостатка боевых средств, которыми они располагали. Только деревья, стоявшие внутри самого селения, остались нетронутыми, и то лишь с целью скрыть от взоров неприятеля численность расположенных в этом селении войск. Дом индейского алькальда [10], как наиболее просторный и комфортабельный, был выбран генералом для штаб-квартиры. Этот дом возвышался над другими в самом центре селения и представлял собой прекрасный наблюдательный пункт: из его окон был виден весь Гальвестон и его рейд. Техасцы не могли сделать ни одного движения без того, чтобы не быть тотчас же замеченными часовыми, которых генерал из предосторожности расставил на импровизированных наблюдательных постах. К закату солнца все приготовления для превращения селения в крепость были закончены, и генерал часов в семь вечера, выслушав доклад разведчиков, сидел перед своим домом под великолепной магнолией, сплетавшей, свои могучие ветви над его головой, и курил сигаретку, разговаривая с несколькими офицерами. Но разговор был вскоре прерван адъютантом, который, подойдя к генералу, доложил, что особа, явившаяся утром в Гальвестон парламентером от имени инсургентов, просит генерала сделать ей честь уделить несколько минут для разговора. Начальник отряда, сделав недовольный жест, намеревался уже ответить отказом, как был остановлен полковником Мелендесом, который, выступив вперед, стал настойчиво убеждать его, что он нарушил бы данное слово, поступив таким образом.
— В таком случае, — сказал Рубио, — пусть человек этот придет сюда.
— Почему бы вам не выслушать те предложения, которые этому человеку поручено сделать? — добавил полковник.
— Зачем? Мы всегда успеем это сделать, если нас к тому вынудят обстоятельства. Теперь положение наше изменилось, нам нет надобности принимать какие бы то ни было предложения от этих бунтовщиков, даже напротив, мы теперь сами можем ставить условия, какие нам будет угодно.
Слова эти генерал сказал таким тоном, который заставил полковника умолкнуть; он почтительно поклонился и отошел. В эту минуту к группе офицеров приблизился Джон Дэвис в сопровождении адъютанта. Лицо американца было мрачно, брови сурово нахмурены. Он поклонился генералу, едва дотронувшись до своей шляпы, не снимая ее, потом, гордо выпрямившись и скрестив руки на груди, он неподвижно застыл перед ним.
Генерал несколько секунд рассматривал пришельца со скрытым интересом.
— Что вам нужно? — спросил он его.
— Исполнения вашего обещания, — ответил Джон Дэвис сухо.
— Я не понимаю вас!
— Как? Вы не понимаете меня?! Когда сегодня утром, вопреки военным законам и установленным правам гражданства, вы захватили меня в плен, не вы ли сказали мне, что, как только мы приедем на материк, вы возвратите мне тотчас же свободу, которой меня лишили, недостойным образом воспользовавшись правом сильного.
— Действительно, я так сказал, — ответил генерал тихо.
— Ну так что же? Исполнения этого обещания я и требую от вас. Я уже давно должен был покинуть ваш лагерь.
— Не говорили ли вы мне, что явились представителем армии бунтовщиков с намерением сделать мне какие-то предложения?
— Да, но вы отказались выслушать меня.
— Тогда время было неподходящее для переговоров. Важные дела помешали мне уделить вашим словам то внимание, которого они, без сомнения, заслуживали.
— Так что теперь…
— Теперь я готов вас выслушать.
Американец бросил красноречивый взгляд на окружавших его офицеров.
— И я должен говорить при всех этих людях? — спросил он.
— Почему же нет? Эти господа относятся к той части войск, которая находится под моей командой; они не менее меня заинтересованы в этом деле.
— Очень может быть, но я должен сказать вам, генерал, что лучше будет, если мы побеседуем с вами с глазу на глаз!
— Предоставьте мне самому судить об этом, сеньор. Если вам угодно хранить молчание, я ничего не имею против этого; если вы желаете говорить, я вас слушаю.
— Прежде всего, генерал, я должен выяснить одну вещь.
— А именно?
— Признаете ли вы меня парламентером или только вашим пленным?
— К чему этот вопрос? Я не вижу в нем смысла.
— Простите, генерал, — ответил тот с иронией, — вы это понимаете как нельзя лучше, и эти господа тоже. Если я в ваших глазах только пленный, то вы имеете право заставить меня замолчать; если же я парламентер, то я пользуюсь известными привилегиями, а потому могу говорить смело, и никто не может запретить мне этого до тех пор, пока я не перейду границы моих полномочий. Вот почему я желал бы знать, в каком я нахожусь положении.
— Ваше положение, насколько мне известно, не изменилось: вы — посланец бунтовщиков!
— Так вы теперь это признаете?
— Я всегда это признавал.
— Зачем взяли вы меня под стражу?
— Вы уклоняетесь от предмета нашего разговора. Я уже говорил вам, по какой причине я не мог выслушать вас сегодня утром; у был вынужден, к моему крайнему сожалению, отложить нашу беседу до более благоприятного времени. Вот и все.
— Отлично, я допускаю это. Потрудитесь, генерал, прочесть это письмо, — добавил Джон Дэвис, вынимая из бокового кармана бумагу и передавая ее генералу.
В то время, когда происходил этот разговор, уже наступила ночь, и солдаты принесли факелы и зажгли их.
Генерал распечатал письмо и при свете факелов внимательно прочел его, затем, закончив чтение, он снова сложил бумагу и засунул ее в боковой карман мундира.
Несколько минут все молчали. Наконец генерал заговорил:
— Кто тот человек, который передал вам письмо?
— Разве вы не видели подписи?
— Но он мог действовать через посредника!
— Со мной он мог обойтись и без него.
— Так, стало быть, он здесь?
— Я не уполномочен говорить с вами о человеке, пославшем меня; мне поручено лишь обсудить вместе с вами условия, предложенные вам в этом письме.
Генерал сделал гневный жест.
— Отвечайте, сеньор, на мои вопросы, — сказал он, — если вам угодно не раскаиваться впоследствии.
— К чему эти угрозы, генерал? Вы ничего не узнаете от меня, — ответил тот твердо.
— Если так, выслушайте меня внимательно и обдумайте хорошенько ваш ответ, прежде чем открыть рот.
— Говорите, генерал!
— Вы сейчас же, слышите, сеньор, сейчас же должны сказать мне, где тот человек, который передал вам это письмо, или вы…
— Или я?.. — перебил его с насмешкой американец.
— Или вы через десять минут будете повешены на одном из суков дерева, под которым стоите.
Джон Дэвис бросил на генерала презрительный взгляд.
— Клянусь честью, — сказал он, — у вас, мексиканцев, оригинальная манера обращаться с парламентерами!
— Я не признаю за негодяем и отщепенцем, голова которого оценена, права посылать ко мне депутатов и считать меня себе равным!
— Человек, которого вы так стараетесь очернить, генерал, имеет благородное сердце, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой! Но как у всех высокомерных людей, чувство благодарности в вас подавлено, и вы не можете простить особе, о которой теперь идет речь, что она спасла вам не только жизнь, но и честь!
Джон Дэвис мог бы еще долго говорить. Генерал, бледный как мертвец, с искаженными от внутреннего волнения чертами лица, тщетно силясь справиться со своим волнением, казалось, не мог произнести в ответ ни слова.
В это время полковник незаметно приблизился к кружку офицеров, стоявших возле генерала. Полковник Мелендес уже в течение нескольких минут прислушивался к словам, которыми со все возраставшим гневом обменивались между собой собеседники. Сочтя необходимым вмешаться в этот. разговор, пока тот не дошел до крайности, что повлекло бы за собой полную невозможность соглашения между спорящими, он положил руку на плечо Джону Дэвису и сказал:
— Замолчите, вы находитесь в когтях льва! Берегитесь, он может растерзать вас!
— В когтях тигра, хотите вы сказать, полковник Мелендес! — воскликнул тот возбужденно. — Как, неужели я могу допустить, чтобы в моем присутствии оскорбляли великого и благороднейшего человека, самого преданного и искреннего патриота, и не сделать попытки защитить его от клеветы? Полноте, полковник, это было бы низостью с моей стороны, а вы достаточно знакомы со мной, чтобы знать, что никогда я не сделаю ничего подобного, даже из чувства самосохранения!
— Довольно! — перебил его генерал повелительно. — Человек этот прав: под влиянием тяжелых воспоминаний я позволил себе произнести слова, о которых теперь я искренне сожалею. Оставим этот разговор!
Джон Дэвис вежливо поклонился.
— Генерал, — сказал он почтительно, — благодарю вас за справедливое отношение, я ничего другого и не мог ожидать от такого честного человека, как вы!
Генерал ничего не ответил на это. Он стал ходить взад и вперед по площадке и, видимо, был очень взволнован.
Офицеры, крайне удивленные происходившей перед ними странной сценой, значения которой они не понимали, только обменивались друг с другом тревожными взглядами, не смея явно обнаружить своего недоумения.
Генерал подошел к Джону Дэвису, остановился перед ним и сказал ему коротко:
— Мистер Джон Дэвис, вы — человек, который твердо держит свое слово, и сердце у вас благородное! На этом мы покончим. Возвращайтесь к тому, кто вас послал, и скажите ему следующее: «Генерал дон Хосе-Мария Рубио ни в каком случае не согласен вступить с вами в переговоры. Он питает к вам личную ненависть и не желает видеть вас иначе, как с оружием в руках. И до того времени, пока вы не дадите ему того удовлетворения, которого он требует от вас, он не согласится рассуждать с вами о каких бы то ни было политических вопросах». Запомните хорошенько эти слова, сеньор, чтобы передать их слово в слово известному вам лицу.
— Я передам их слово в слово.
— Отлично! А теперь ступайте! Нам не о чем больше говорить. Полковник Мелендес, потрудитесь приказать подать лошадь этому господину и проводить его до аванпостов.
— Еще одно слово, генерал!
— Говорите!
— Как мне передать вам ответ этого лица?
— Лично, если вы не боитесь прийти сюда еще раз.
— Вы прекрасно знаете, генерал, что я ничего не боюсь! Я доставлю вам ответ.
— Рад буду получить его. Прощайте.
— Прощайте, — ответил американец, и поклонившись всем собравшимся, он ушел в сопровождении полковника.
— Вы играли в опасную игру, мистер Дэвис, — сказал ему последний после того, как они прошли несколько шагов, — генерал мог приказать повесить вас!
Американец пожал плечами.
— Он не посмел бы сделать этого, — ответил он пренебрежительно.
— О-о! А по какой причине, позвольте вас спросить?
— Какое вам до нее дело, полковник? Ведь я, кажется, на свободе, и этим все сказано.
— Действительно.
— Это должно быть для вас вполне достаточным доказательством того, что я не ошибаюсь.
Полковник привел американца к своей квартире и попросил его зайти на минуту, пока будут готовы лошади.
— Мистер Джон Дэвис, — сказал он, — потрудитесь выбрать из этого оружия, за качество которого я отвечаю, то, которое будет вам по вкусу.
— Зачем? — спросил тот.
— Caspita! Вы пойдете ночью, мало ли кто может вам встретиться! Мне кажется, что при таких обстоятельствах не мешает принять кое-какие меры предосторожности.
Оба собеседника обменялись взглядом — и поняли друг друга.
— Действительно! Вы правы, полковник, — сказал небрежным тоном американец. — Вы меня навели на хорошую мысль: дороги не безопасны. Если вы предоставляете мне право выбора, я возьму эти пистолеты, вот эту саблю и этот нож.
— Сделайте одолжение. Только не забудьте запастись порохом и пулями, без них огнестрельное оружие будет для вас бесполезным.
— В самом деле! Вы, полковник, обо всем помните! Вы просто милейший человек, — добавил он, заряжая пистолеты и ружье и наполняя пороховницу порохом, а сумку — пулями.
— Вы мне льстите, мистер Джон Дэвис; я в данном случае делаю только то, что и вы сделали бы на моем месте.
— Согласен! Но вы все делаете с такой любезностью, что мне просто неловко.
— Перестанем говорить друг другу комплименты. Вот и лошади поданы.
— Их две. Разве вы намерены проводить меня за границу аванпостов?
— О, лишь несколько шагов, если только мое общество не будет вам неприятным.
— Ах, полковник! Я всегда буду счастлив видеть вас своим спутником.
Разговор двух собеседников происходил в самом любезном тоне, в котором, однако, просвечивала тонкая и едкая насмешка. Оба они вышли из дому и сели на лошадей. Ночь была светлая и теплая. Тысячи звезд сияли на небе, отчего оно казалось как будто усеянным бриллиантами, луна спокойно плыла по небосклону, разливая повсюду свой бледный, фантастический свет. Таинственный вечерний ветерок наклонял ветвистые вершины деревьев и покрывал мелкой рябью серебристые воды реки, волны которой в любовной неге замирали у ее берегов.
Оба всадника ехали рядом. Часовые по молчаливому знаку полковника пропускали их беспрепятственно. Вскоре они спустились с холма, миновали передовые посты и очутились в открытом поле. Каждый из них, погруженный в свои мысли, с отрадным чувством отдавался ощущениям безмятежной ясности и покоя, разлитых в природе, и, казалось, совсем забыл, что он не один. Так ехали они на протяжении часа и наконец приблизились к перекрестку двух дорог, образовавших нечто вроде ущелья, в центре которого поднимался крест, словно зловещий предвестник гибели. Крест был поставлен в память о каком-то убийстве, совершенном некогда в этом пустынном месте.
Точно сговорившись, обе лошади офицеров разом стали, вытянули шеи, заложили уши назад и зафыркали. Оторванные так неожиданно от своих грез и возвращенные к действительности, оба всадника выпрямились и оглянулись. Ни малейший звук не нарушал ночной тишины. Окрестность была пустынна и безмолвна, как в первые дни сотворения мира.
— Вам угодно дать мне возможность еще некоторое время пользоваться вашим приятным обществом? — спросил американец полковника.
— Нет, — ответил коротко молодой человек, — я здесь остановлюсь.
— А-а! — разочарованно протянул Джон Дэвис. — Так мы здесь расстанемся?
— О нет! — ответил полковник. — Еще нет!
— Но в таком случае, несмотря на то величайшее удовольствие, которое я испытываю в вашем очаровательном обществе, я вынужден отказаться от него и ехать дальше.
— О, будьте так добры, уделите мне несколько минут, мистер Дэвис, — возразил полковник с ударением на каждом слове.
— Несколько минут… согласен, но не больше! Не правда ли? Так как мне предстоит долгий путь, то, несмотря на удовольствие, которое доставляет мне беседа с вами…
— От вас одного будет зависеть, сколько времени нам оставаться вместе.
— Это в высшей степени любезно с вашей стороны!
— Мистер Джон Дэвис, — произнес полковник, повысив голос, — помните ли вы о нашем последнем разговоре друг с другом?
— Дорогой полковник, вы достаточно знакомы со мной, чтобы знать, что я забываю только те вещи, которых не должен помнить.
— И это должно означать…
— Что я прекрасно помню разговор, о котором вы сейчас упомянули.
— Тем лучше! Ваша замечательная память снимает с меня часть труда, и мы легко поймем друг друга.
— Я тоже так полагаю.
— Не находите ли вы, что это место вполне соответствует нашей цели?
— Я нахожу его превосходным, дорогой полковник!
— В таком случае, если вы согласны, сойдем с лошадей.
— Я к вашим услугам. Для меня нет ничего ненавистнее, чем продолжительные разговоры верхом на лошади.
Всадники соскочили с лошадей и привязали их к дереву.
— Вы берете ваше ружье? — заметил американец полковнику.
— Да, — ответил тот. — Вам это не нравится?
— Нисколько! Так это будет нечто вроде охоты?
— Господи Боже мой! Конечно! Только на этот раз дичью будет человек.
— Интерес охоты от этого только усилится, — заметил американец.
— Вы — прекраснейший компаньон, смею вас уверить, мистер Джон Дэвис!
— Что же делать, полковник. Я не умею ни в чем отказать моим друзьям.
— Где же мы встанем?
— Всецело предоставляю вам право выбрать место.
— Взгляните: по обеим сторонам дороги растут кусты, словно нарочно для нас посаженные!
— Да, это действительно странно. Так станем друг против друга в кустах и после счета десять — выстрелим.
— Отлично! Но если мы промахнемся?.. Я знаю, что мы отличные стрелки и это почти невозможно, но… все же это может случиться.
— Тогда ничего нет проще: мы возьмемся за сабли и будем биться.
— Прекрасно! И еще одно слово: один из нас должен пасть, не так ли?
— Разумеется, а иначе к чему же был бы этот поединок?
— Совершенно справедливо. Только позвольте еще одно…
— Что именно?
— Тот, кто останется жив, должен бросить мертвого в реку.
— Гм! Так вам очень хочется, чтобы я исчез с лица земли.
— Карай! Вы понимаете меня.
— Это правда. Согласен и на это!
— Благодарю вас!
Собеседники поклонились друг другу и разошлись в противоположные стороны, чтобы, согласно уговору, скрыться в кустах. Через несколько секунд грянули два выстрела, и эхо от них разнеслось далеко по реке Рио-Тринидад.
После выстрелов оба противника с обнаженными саблями бросились друг на друга, и между ними разгорелся поединок не на жизнь, а на смерть. Оба врага, не произнося ни слова, яростно бились в глубине ущелья; силы их были почти равны, а потому они бились долго, и нельзя было предвидеть, кто кого победит. Бой продолжался бы еще дольше, если бы не явилась неожиданная помеха в виде небольшой группы людей, показавшейся неожиданно на развилке дорог. Люди эти прицелились из ружей в сражающихся и приказали им немедленно сложить оружие.
Противники опустили сабли, и, отступив шаг назад, замерли в ожидании.
— Стойте, — крикнул человек, бывший, по-видимому, главным среди вновь прибывших. — А вы, Джон Дэвис, садитесь на лошадь и уезжайте!
— По какому праву отдаете вы мне это приказание? — воскликнул американец гневно.
— По праву сильного! — ответил главный. — Уезжайте, если вы не хотите, чтобы с вами случилось несчастье!
Джон Дэвис огляделся. Действительно, оказалось, что всякое сопротивление с его стороны было бы бесполезно. Да и что бы мог сделать он один, вооруженный саблей, с двадцатью хорошо вооруженными людьми?
Пробормотав проклятие, американец сел на лошадь. Но затем, вдруг опомнившись, он воскликнул:
— Кто вы такой — вы, который осмеливается приказывать мне?
— Вам угодно знать это?
— Да!
— Я — человек, которому вы и полковник Мелендес нанесли кровную обиду: я — отец Антонио.
При этом имени обоих противников сковал ужас. Нельзя было сомневаться в том, что монах намеревался отомстить им именно теперь, когда они, в свою очередь, оказались в его власти.
Глава V
ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ
Джон Дэвис почти тотчас же опомнился.
— А-а! — воскликнул он. — Так это вы, святой отец?!
— Вы не ожидали встретить меня здесь?
— Признаюсь, я нисколько не удивлен! Ваше место, по-моему, везде, где есть какая-либо западня, а потому очень естественно, что вы здесь.
— Вы поступаете дурно, Джон Дэвис, когда оскорбляете людей, не зная наверняка, каковы их намерения.
— Как так? Намерения эти ясны в настоящую минуту.
— Вы можете ошибаться.
— Не думаю. Впрочем, скоро все разъяснится.
— Что вы собираетесь делать?
— Вы видите, я схожу с лошади.
Американец действительно сошел с лошади, взял в обе руки по пистолету и приблизился к монаху совершенно спокойным шагом и с приятной улыбкой на лице.
— Почему вы не уезжаете? Почему вы не следуете моему совету? — спросил отец Антонио.
— По двум причинам, дорогой сеньор. Первая — та, что вы не имеете права давать мне ни советов, ни приказаний; вторая — что мне желательно присутствовать при маленьком злодействе, которое вы, без сомнения, замышляете.
— Так вы намереваетесь…
— Я намереваюсь защитить моего друга, by God! — воскликнул американец пылко.
— Как? Вашего друга? — спросил монах с удивлением. — Несколько минут тому назад вы старались убить его!
— Дорогой сеньор, — сказал на это с усмешкой Джон Дэвис, — во всяком разговоре есть оттенки, которых, к несчастью, вам никогда не постигнуть. Поймите меня хорошенько: я хочу убить этого господина, но я не соглашусь на то, чтобы над ним было совершено злодейство. Это ясно, кажется, by God!
Отец Антонио разразился смехом.
— Странный вы человек, — сказал он.
— В самом деле? — возразил ему американец и, повернувшись к своему противнику, стоявшему все время совершенно спокойно, продолжал: — Дорогой полковник, мы позднее продолжим интересную беседу, которую этот достоуважаемый святой отец так неудачно прервал. Что же касается настоящей минуты, то позвольте мне возвратить вам один из пистолетов, которые вы так великодушно одолжили мне. Нет ни малейшего сомнения в том, что эти негодяи убьют нас, но мы, по крайней мере, будем иметь удовольствие покончить предварительно с двумя или тремя из них.
— Благодарю вас, мистер Дэвис, — сказал на это полковник, — я другого и не ожидал от вас. Я принимаю ваше предложение так же чистосердечно, как вы его мне сделали.
С этими словами полковник взял пистолет и зарядил его. Американец стал рядом с полковником и, насмешливо поклонившись незнакомцам, произнес:
— Сеньоры кабальеро, вы можете напасть на нас, когда вам заблагорассудится. Мы готовы храбро встретить ваше нападение.
— Так это действительно серьезно?! — воскликнул отец Антонио.
— Как — действительно ли это серьезно? Вопрос мне кажется чересчур наивным. Вы находите, что теперь время и место для шуток?
Монах пожал плечами, и повернувшись к сопровождавшим его людям, сказал:
— Ступайте! Уезжайте отсюда. Через час я последую за вами в то место, которое вам известно.
Незнакомцы, кивнув головами в знак согласия, почти мгновенно исчезли в кустарнике. Тогда монах, бросив на землю все находившееся при нем оружие, подошел вплотную к американцу и полковнику.
— Что ж, вы и теперь еще продолжаете опасаться? — сказал он им. — Теперь я в ваших руках!
— Что все это значит? — воскликнул Джон Дэвис, опуская свой пистолет.
— Если бы вы не приняли меня за разбойника, а дали бы себе труд подумать немного, вы бы поняли, что я имел в виду только одно — помешать вашему ожесточенному поединку, что и случилось благодаря моему счастливому вмешательству.
— Но каким образом очутились вы здесь в эту минуту?
— Все это — результат простой случайности. Получив приказание от вашего командующего наблюдать за действиями противника, я расставил посты по всем дорогам, чтобы захватить в свои руки всех праздношатающихся, которые осмелятся появиться здесь.
— Так вы не питаете ни ко мне, ни к полковнику никакого злого чувства?
— Может быть, — ответил монах нерешительно, — я и не совсем забыл ваше недостойное обращение со мной, но я, по крайней мере, отказался от мысли мстить вам за это.
С минуту подумав, Джон Дэвис протянул монаху руку и сказал:
— Вы честный монах! Я вижу, что вы верны данному вами слову исправиться; я очень сожалею о своем поступке.
— В свою очередь, сеньор, я также скажу вам, — сказал полковник, — что не ожидал от вас такого великодушия.
— Еще одно слово, сеньоры!
— Говорите, — сказали они разом, — мы вас слушаем.
— Обещайте мне отказаться от этой безобразной дуэли и, следуя моему примеру, перестать ненавидеть друг друга.
Вместо ответа противники протянули друг другу руки.
— Отлично! — продолжал монах. — Я счастлив, что вы помирились. Теперь нам надо расстаться. Вы, полковник, садитесь на лошадь и отправляйтесь к вашему лагерю; дорога безопасна, никто не помешает вам доехать до цели. Что касается вас, Джон Дэвис, то вы поедете следом за мной. Ваше долгое отсутствие вызвало беспокойство, которое ваше прибытие, конечно, развеет. Я получил приказание попытаться узнать о вас что-нибудь.
— До свидания, — сказал полковник. — Постарайтесь забыть, сеньор Дэвис, то, что случилось в начале нашего знакомства, и помнить только то, как мы расстались.
— Может быть, полковник, мы и встретимся при более счастливых обстоятельствах, и я буду иметь возможность высказать вам всю симпатию, которую внушает мне ваш открытый и честный характер.
Обменявшись еще несколькими словами и сердечно пожав друг другу руки, они расстались.
Полковник галопом поскакал в Сан-Исидор, тогда как Джон Дэвис и монах столь же поспешно направились в совершенно противоположную сторону.
Было около полуночи, когда полковник Мелендес доехал до передовых постов; там его уже ждал один из адъютантов генерала. В пуэбло было заметно какое-то волнение. Солдаты, вместо того, чтобы спать, как это можно было ожидать в столь поздний час ночи, толпами сновали по улицам; офицеры с озабоченным видом мелькали то здесь, то там. По всему было видно, что готовились к чему-то важному.
— Что здесь происходит, капитан Гютер? — спросил полковник адъютанта.
— Генерал сам скажет вам об этом, полковник! — ответил офицер. — Он ждет вас с нетерпением и уже несколько раз справлялся о вас.
— О-о! Так есть, стало быть, какие-нибудь новости?
— Кажется, да.
Полковник пришпорил лошадь и через несколько минут доехал до домика, служившего квартирой генералу. Весь дом был освещен, кругом стоял невообразимый шум. Не успел генерал заметить полковника, как уже оставил офицеров, с которыми говорил, и поспешно подошел к Мелендесу.
— Наконец-то вы здесь! — воскликнул он. — Я ждал вас с большим нетерпением.
— Что здесь происходит? — спросил полковник, удивленный встречей, которой он никак не ожидал: оставив лагерь в полном спокойствии, он не рассчитывал найти его в шумной тревоге.
— Вы сейчас узнаете, — сказал генерал, и обратившись к офицерам, находившимся в комнате, добавил: — Господа, прошу вас оставаться здесь, я возвращусь к вам через несколько минут. Полковник, следуйте за мной.
И поклонившись всем собравшимся, генерал в сопровождении полковника вышел из комнаты и запер за собой дверь. Оставшись с ним наедине, генерал взял молодого человека за пуговицу его мундира и, устремив на него взгляд, которым он, казалось, хотел проникнуть ему в душу, дружеским тоном проговорил:
— После вашего отъезда нас посетил один из ваших друзей.
— Один из моих друзей? — воскликнул молодой человек.
— Да, по крайней мере, человек этот называет себя вашим другом, — сказал генерал.
— Я знаю в этой стране только одного человека, — сказал полковник прямо, — который, несмотря на большое различие, существующее в наших взглядах, может быть назван этим именем!
— И этот человек?
— Этот человек — Ягуар.
— Вы его любите?
— Да.
— Но ведь это разбойник!
— В ваших глазах, генерал, и с вашей точки зрения весьма возможно, что вы правы, я этого не оспариваю и не осуждаю вас за это. Но я его люблю — он спас мне жизнь.
— Но ведь вы сражаетесь против него?
— Конечно, мы принадлежим к враждующим лагерям, каждый из нас служит делу, которое он по своим убеждениям считает правым. Но если оставить в стороне то, что нас разделяет, окажется, что душой мы тесно связаны друг с другом.
— Я не имею ни малейшего намерения порицать вас за это, мой друг. Наши симпатии не должны находиться в зависимости от наших политических убеждений. Но возвратимся к вопросу, который в данную минуту всего более должен интересовать нас. Повторяю, что во время вашего отсутствия к аванпостам подошел человек и заявил, что он — один из ваших друзей.
— Как странно, — пробормотал полковник, стараясь догадаться, кто бы это мог быть. — Сказал ли он вам свое имя?
— Конечно! Разве я мог бы принять его в противном случае? Да он здесь, в этом доме. Я поместил его в одну из комнат и попросил подождать вашего возвращения.
— Как его зовут, генерал?
— Его зовут Фелисио Пас, — ответил генерал.
— О! — воскликнул с живостью полковник. — Этот человек не солгал, он действительно один из самых дорогих мне друзей.
— Так, стало быть, мы можем питать к нему…
— Самое полное доверие, генерал. Я поручусь за него головой! — пылко воскликнул молодой офицер.
— Меня это тем более радует, — сказал генерал, — что человек этот уверял нас, что имеет в руках средство, которое поможет нам разбить неприятеля наголову.
— Если он вам это обещал, генерал, без всякого сомнения, он это сделает. Вы, по всей вероятности, имели с ним серьезный разговор?
— Нет. Вы понимаете, мой друг, что я не хотел, предварительно не переговорив с вами, выслушивать человека, который легко может оказаться шпионом неприятеля.
— Вы совершенно правы. А теперь что вы намерены делать?
— Выслушать его. Он мне все же сказал достаточно для того, чтобы заставить меня, в случае, если бы это все оказалось правдой, приготовиться действовать по первому сигналу, так что мы не потеряем ни одной лишней минуты.
— Отлично! Стало быть, необходимо выслушать его.
Генерал ударил в ладоши, и в комнату вошел адъютант.
— Попросите дона Фелисио войти сюда, капитан, — приказал ему генерал.
Пять минут спустя бывший мажордом [11] асиенды дель-Меските предстал перед генералом и полковником.
— Простите мне, кабальеро, — сказал генерал с изысканным поклоном, идя ему навстречу, — холодность приема, который был вам оказан. К несчастью, мы живем в такое время, когда настолько трудно отличить друга от. недруга, что часто против своего желания ошибаешься и принимаешь одного за другого.
— Вам не в чем извиняться передо мною, генерал, — возразил Фелисио. — Идя сюда, я знал, что меня ожидает.
Полковник Мелендес сердечно пожал руку своего друга. Для таких людей, как эти двое, длинного объяснения не требовалось, они поняли друг друга с первого слова.
Беседа их тянулась очень долго и закончилась поздней ночью, или даже, вернее, под утро. Часы пробили четыре, когда генерал отпер двери комнаты, в которой они все трое замкнулись, и проводил своих гостей до самого выхода.
Что произошло во время этого продолжительного разговора, никто не знал. Ничто не выдало планов, составленных генералом, полковником и его другом.
Офицеры и солдаты сгорали от любопытства, которое еще более усилилось приказанием генерала немедленно сняться с лагеря.
Полковник проводил дона Фелисио до передовых постов, и там они расстались, дружески пожав друг другу руки и обменявшись только двумя словами. Эти слова были: «до свидания».
После этого полковник карьером возвратился в лагерь, тогда как дон Фелисио таким же быстрым аллюром направился к соседнему лесу и вскоре скрылся в нем.
Возвратившись в свою часть, полковник приказал тотчас же трубить сбор и, не ожидая ничьих приказаний, став во главе пятисот кавалеристов, покинул селение. Все это происходило приблизительно около пяти часов утра. Солнце уже вставало на безоблачном небе, отливавшем пурпуром и золотом и предвещавшем великолепный день.
Генерал, заняв наблюдательный пункт на верхнем этаже своего дома, стал внимательно следить в подзорную трубу за быстрым движением отряда, которым командовал полковник. Менее чем через четверть часа отряд не только спустился с холма, но уже перешел вброд довольно широкий приток Рио-Тринидада. Генерал с тревогой следил за этой опасной переправой. Он видел, как солдаты сомкнулись в колонну, как потом по сигналу командира колонна вытянулась, отчего стала похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца, затем спустилась в воду и, несмотря на довольно сильное течение, за несколько минут перебралась на противоположный берег. Там после неизбежного минутного замешательства отряд стройными рядами двинулся дальше и вскоре исчез в соседнем лесу.
Когда последний всадник скрылся из поля зрения, генерал отложил в сторону свою подзорную трубу и сошел вниз с серьезным и задумчивым видом.
Мы уже говорили, что гарнизон Гальвестона состоял из девятисот с лишним солдат; весь же наличный состав, включая солдат, занимавших многочисленные маленькие береговые посты, доходил до тысячи пятисот человек.
Полковник Мелендес взял с собой пятьсот кавалеристов, генерал оставил в селении, которое он во что бы то ни стало хотел удержать за собой как удобный стратегический пункт, двести пятьдесят солдат под командой опытного и храброго офицера; таким образом, он мог располагать боевой силой, состоявшей приблизительно из шестисот пятидесяти человек и четырех горных орудий. Сколь ничтожным показался бы для европейца, привыкшего к сражениям, в которых участвуют десятки тысяч людей, такой небольшой отряд! Но для этой страны и такое число солдат имело огромное значение.
Техасская армия, правда, насчитывала в своих рядах четыре тысячи солдат, но люди эти были большей частью плохо вооружены и неопытны в военном деле. Они не были способны сражаться в открытом поле против регулярного войска, а потому и неудивительно, что, несмотря на численное превосходство противника перед отрядом генерала Рубио, последний, как мы должны сознаться, сильно рассчитывал на дисциплину своих солдат и благодаря этой дисциплине надеялся разбить неприятеля, страшного только одним количеством войск, но не качеством их.
Выступление отряда из пуэбло было произведено в образцовом порядке. Генерал приказал обозу оставаться позади отряда, чтобы ничто не затрудняло движения колонны. Каждый кавалерист, по обычаю американцев — обычаю, не укоренившемуся в Европе, — взял на круп своей лошади одного пехотинца, и таким образом скорость движения войск была удвоена. Разосланные по всем дорогам разведчики донесли, что отряд повстанцев двумя колоннами направился к устью Рио-Тринидада с целью занять там позицию и прикрыть наступление к Гальвестону. Взятию Гальвестона было крайне необходимо помешать, потому что если бы инсургентам удалось занять город, то в совокупности с тем, что они уже сделали, захватив «Либертад», они становились бы обладателями значительной части побережья, и тогда уже малочисленная мексиканская армия могла бы оказаться не в силах снова отбросить их. С другой стороны, генерала предупредили, что президент республики генерал Санта-Анна покинул Мексику и шел форсированным маршем во главе тысячи двухсот солдат, чтобы подавить восстание.
О генерале Санта-Анне судили по-разному: одни считали его тонким политиком и человеком боевым (да и он сам был такого же мнения о себе, судя по тому, что называл себя «Наполеоном Нового Света»), враги же приписывали ему строптивый характер и неимоверное честолюбие, обвиняли в том, что он зачастую старался держаться подальше от опасности, и считали его любителем действовать из-за угла и человеком без всяких нравственных принципов.
Что касается нас, то, не вдаваясь в подробное разбирательство личности этого человека, стоявшего у кормила правления, скажем только в двух словах, что мы убеждены в том, что он был бичом Мексики, ускорившим ее разорение, и одним из тех великих зол, которые терзали в продолжение тридцати лет эту несчастную страну.
Генерал Рубио сознавал необходимость нанести противнику решительный удар до момента подхода подкрепления под командой президента республики, — ведь в случае поражения тот, несмотря на полное отсутствие собственной инициативы, неминуемо приписал бы это поражение генералу Рубио. В случае же, если бы мексиканцы остались на поле сражения победителями, честь победы была бы приписана самому президенту.
Инсургенты до этого времени не осмеливались помериться силами с неприятелем в открытую, но события, случившиеся в последнее время, совершенно изменили положение вещей. Командиры повстанческих отрядов, опьяненные неизменной удачей, завладев без единого выстрела одним из главных портов Техаса, почувствовали, наконец, необходимость выступить против неприятеля в открытом бою, покончив войну из засад. Кроме того, они надеялись одержать над противником блистательную победу. Они понимали, что своей удачей обязаны исключительно собственной смелости и беспримерной дерзости. Не без основания опасались они того момента, когда им придется поставить лицом к лицу с испытанной мексиканской армией свою шайку неопытных ополченцев. Поэтому инсургенты по мере возможности старались отдалить эту решительную минуту, когда могла пасть навсегда их самая дорогая надежда на независимость, за которую они боролись с беспримерной настойчивостью и смелостью целых десять лет. Они желали, чтобы их волонтеры до столкновения с регулярными войсками научились дисциплине и приобрели ту военную закалку, без которой самая многочисленная и храбрая армия — не что иное, как смешение разнородных, ничем не связанных элементов, то есть толпа.
После того как мексиканцы оставили порт, военачальники техасской армии держали между собой серьезный совет относительно того, какие принять меры, чтобы из-за какого-нибудь неосторожного шага не потерять тех преимуществ, которые они получили таким чудом. Ими было решено в общих чертах, что основные силы займут Гальвестон, где их приведут в надлежащий боевой порядок, обучат, насколько это возможно, военному искусству. Только одни вольные стрелки будут высланы в разных направлениях для занятия постов, откуда они постоянными внезапными нападениями станут беспокоить мексиканцев. Таким образом, очевидно, главной заботой техасцев было постараться по возможности избегнуть открытого столкновения с неприятелем и войти в Гальвестон без единого выстрела.
Вот каково было положение обеих воюющих сторон. Техасцы старались во что бы то ни стало избегнуть генерального сражения, которое генерал Рубио, напротив, горел желанием им дать.
Всего четыре мили отделяли неприятелей друг от друга, и генерал совершенно отчетливо видел в подзорную трубу бивачные огни техасского войска.
Между тем полковник Мелендес продолжал двигаться со своим отрядом. Подъехав к кресту, к тому месту, где у него накануне состоялся ожесточенный поединок с Джоном Дэвисом, полковник с большим вниманием лично произвел рекогносцировку окружающей местности. Затем, удостоверившись в том, что ни одного неприятельского стрелка не было в засаде, он приказал солдатам спешиться и уложить лошадей на землю, завернув им головы в попоны, чтобы они не ржали.
Когда все эти меры предосторожности были приняты, солдаты залегли в кустах с ружьями наготове, причем им было приказано оставаться совершенно неподвижными.
Генерал Рубио шел со своим отрядом стороной, что дало ему возможность миновать развилку, на которой находился крест. Спустившись с холма, отряд его быстро подошел к берегу реки.
Мы уже сказали, что берега Рио-Тринидада в некоторых местах круты и окаймлены по откосу великолепными лесами. В этих-то лесах, на расстоянии двух пушечных выстрелов от того места, где генерал высадил свои войска, он оставил в засаде одну треть своей пехоты; остальных людей он, разделив их на два отряда, разместил в кустах по обеим сторонам дороги, причем, по обычаю американцев, солдаты должны были залечь в траву, чтобы их не было заметно.
Четыре горных орудия поставили на вершине небольшого холма, который возвышался над местностью, а кавалерия, разделенная также на две части, охраняла орудия.
Шум, вызванный этим передвижением и расположением войск, мало-помалу стих, и местность вновь приняла свой прежний пустынный и безмятежный вид. Генерал Рубио так ловко распорядился войсками, что отряд его вдруг стал совершенно невидимым.
Когда на совете военачальников армии техасцев было решено укрепиться в Гальвестоне, вопрос о том, каким способом привести это намерение в исполнение, вызвал горячие споры. Ягуар придерживался мнения, что необходимо переправить войска на бриге, на корвете и на других маленьких судах, которые должны быть собраны для этой цели. К несчастью, этот вполне разумный совет не мог быть приведен в исполнение благодаря предосторожности, принятой генералом Рубио, завладевшего всеми легкими судами. Для того, чтобы вновь собрать необходимое число судов, инсургенты должны были бы потратить слишком много времени, а потому техасцы решили воспользоваться неприятельскими судами, брошенными ими на берегу.
По какой-то роковой случайности совет не захотел поверить словам Джона Дэвиса, уверявшего, что генерал Рубио, укрепившись на очень выгодной позиции, не даст им беспрепятственно завладеть судами, что он бросил эти суда нарочно, чтобы заманить неприятеля в ловушку, где ему будет легко с ним справиться. К сожалению, таинственная личность, о которой мы уже говорили, одна только имела право приказывать, а доводы, представленные Джоном Дэвисом, не убедили ее. Обманутый своими шпионами, человек этот был уверен, что генерал Рубио далек от мысли снова занять Гальвестон и не станет предпринимать каких-либо наступательных действий, прежде чем дождется подкрепления под командой генерала Санта-Анны, а также считал, что мексиканцы заняли пуэбло исключительно с целью обеспокоить этой военной хитростью мятежников.
Это непростительное заблуждение послужило причиной бесчисленных несчастий.
Командирам было отдано приказание наступать, и им оставалось только повиноваться. Хотя это ошибочное решение и было принято, его стали выполнять с большой осторожностью. Бригу и корвету было отдано приказание стать на рейд как можно ближе к берегу, чтобы перекрестным огнем защищать посадку войск от мексиканцев, пожелай они воспротивиться этому. Небольшие мобильные группы были высланы вперед и находились на флангах армии, чтобы очищать ей проход, уничтожая все мелкие посты, которые неприятель расставил вдоль берега. Четыре человека возглавили сильный отряд конных стрелков. Это были Ягуар, отец Антонио, Эль-Альферес и… дон Фелисио Пас, которого, конечно, читатель не ожидал встретить под знаменем мятежников и которого он видел всего несколько часов назад в мексиканском лагере, где он, запершись в комнате, вел продолжительную беседу с генералом Рубио и полковником Мелендесом.
Этим четверым было приказано от имени командующего производить самую тщательную рекогносцировку местности, чтобы не быть захваченными врасплох. Эль-Альферес двинулся вправо, отец Антонио влево, Ягуар остался в арьергарде, а дон Фелисио Пас во главе шестисот кавалеристов составил авангард.
Скажем несколько слов о солдатах, находившихся под командой бывшего мажордома асиенды дель-Меските. Эти солдаты, набранные самим доном Фелисио из пеонов [12], ранее служивших на асиенде, были индейцы, в большинстве своем люди полудикие, сражавшиеся как львы по приказанию командира, которому они были вполне преданы. Они слушались только его одного и не желали повиноваться другим вожакам повстанцев. С того времени как дон Фелисио присоединился к армии мятежников со своими охотниками, он оказал инсургентам немало услуг, а потому за короткое время заслужил всеобщее доверие. Мы скоро увидим, был ли он достоин этого.
Благодаря странной случайности обе армии снялись с лагеря в одно и то же время и почти в один и тот же час шли навстречу друг другу, не подозревая, что через два часа встретятся лицом к лицу.
Глава VI
СРАЖЕНИЕ ПОД СЕРРО-ПАРДО
Сражение под Серро-Пардо было одним из тех кровавых событий, воспоминание о которых сохраняется сотни лет в памяти народной. Чтобы насколько это возможно лучше описать читателю событие, о котором мы повествуем, мы должны сначала сделать краткий обзор местности, где оно произошло. Место высадки мексиканских войск было выбрано генералом Рубио с большим знанием дела. Берег реки в том месте образовывал отлогий скат, кончавшийся у самой воды довольно широким плесом, покрытым высокой травой и группами деревьев. Этот плес был окружен с двух сторон высокими холмами, густо поросшими кустарником; при этом образовалось нечто вроде котловины. Холмы эти носят название Серро-Пардо и Серро-Прието, что значит Бурый холм и Черный холм. Единственной дорогой, которая от берега реки вела в глубь местности, была узкая тропинка, окруженная болотами. Она доходила до подошвы холмов и терялась в ущелье, в том месте, где находился крест. Болота были тем ужаснее, что поверхность их, покрытая высокой шелковистой травой, коварно скрывала от глаз неопытного человека ту страшную опасность, которой он подвергался, ступив ногой в эту засасывающую трясину. Холм Серро-Пардо был гораздо выше Серро-Прието и господствовал над всей местностью; с вершины его море было видно, как на ладони.
Из нашего описания становится ясно, что предприятие, затеянное техасцами, могло иметь успех только в том случае, если бы берег был совершенно пустынным. Однако при существующих обстоятельствах настойчивость командира повстанческих войск была тем менее понятна, что он не только прекрасно знал местность, но еще в самом начале передвижения войск один лазутчик за другим приходили докладывать ему о том же, о чем предупреждал его и Джон Дэвис. Бог, наказывая людей, лишает их разума. Этот умный и серьезный человек, поступки которого бывали всегда так разумны и ясны для каждого, поразительные способности которого граничили с гениальностью, стал вдруг глух ко всем предостережениям, вследствие чего им и было приказано войску немедленно выступить в поход. Тотчас же его армия тронулась в путь.
Дон Фелисио Пас со своими охотниками двинулся первым, а вольные стрелки Ягуара остались в арьергарде. Транкиль, несмотря на полученные им раны, не захотел оставаться в лесу, и его уложили в повозку. Возле него были Кармела и Квониам, которые заботливо ухаживали за ним в то время, как Ланси во главе двенадцати отборных вольных стрелков, переданных в его распоряжение Ягуаром, эскортировал экипаж на тот случай, если бы отряд в пути подвергся бы неожиданному нападению со стороны неприятеля.
Ягуар был печален. Его томило смутное предчувствие грядущих несчастий. Он, всегда такой смелый, предприимчивый, совершавший, точно играя, самые безумные и опасные дела, шел теперь, скрепя сердце, поминутно бросая вокруг себя тревожные и подозрительные взгляды. Конечно, за себя лично он не опасался; что могло для него значить нападение неприятеля? Готовность к встрече с опасностью постоянно жила в нем, горячий воздух сражений, шум битвы, запах пороха опьяняли его и доставляли ему странное сладостное наслаждение. Но теперь возле него была Кармела — Кармела, которую он нашел таким чудом и которую боялся снова потерять. Этот сильный человек почувствовал, как сердце его сжалось при одной только мысли об этом. Вот в чем была причина, почему он настоял, чтобы ему поручили командовать арьергардом — он хотел оберегать молодую девушку и быть каждую минуту готовым прийти к ней на помощь. Главнокомандующий не посмел отказать ему в этом назначении, которого храбрый техасец просил у него, как милости.
Такая снисходительность со стороны главнокомандующего имела ужасные последствия и была отчасти причиной тех событий, которые последовали несколько часов спустя.
Техасское войско, несмотря на свою разнородность, продвигалось, тем не менее, в порядке, который сделал бы честь и регулярной армии.
Дон Фелисио Пас разослал во все стороны патрули, которые, двигаясь перед авангардом, должны были осматривать местность. Но несмотря на эту предосторожность, от того ли, что мексиканцы скрывались в неприступных местах, или от чего-либо другого, но только разведчики не заметили их, и авангард стал продвигаться все быстрее и быстрее, тогда как бдительность командиров начала значительно ослабевать.
Авангард доехал до места, где стоял крест, близ Рио-Тринидада. Переход был коротким, и войска, идя обычным походным шагом, совершили его менее чем за два часа. Только возле самой развилки дорога стала заметно сужаться и скоро превратилась в тропинку, по которой с трудом могли пройти в ряд три или четыре солдата.
Мы уже сказали, что по обеим сторонам этой дороги тянулись топи, а так же и то, что нет ничего опаснее этих болот с обманчивой внешностью роскошного зеленого луга. Дикие звери, направляемые инстинктом, за долгие столетия протоптали себе через них тропинки к водопою, и дорога, по которой шла техасская армия, была не чем иным, как одной из таких тропинок.
Миновав развилку у креста приблизительно в девять часов утра, техасское войско после двадцатиминутного отдыха снова выступило в поход. Беспрепятственно выйдя из ущелья Серро-Пардо к лугу, с которого уже виднелась река с выброшенными на берег судами, которые и были целью этого перехода, дон Фелисио Пас без всякой видимой причины повернул фронт своего отряда и приказал ему сдвинуться в колонну. Когда это было исполнено, он скомандовал «стой», а сам, повернув лошадь, снова въехал в ущелье, но на этот раз совсем один. Дорогой он бросал вокруг себя пытливые взгляды, но, насколько мог видеть его глаз, тропинка впереди была совершенно пуста. Дон Фелисио остановился и, нагнувшись к лошади, будто для того, чтобы поправить на ней уздечку, потрепал ее по шее и несколько раз крикнул, подражая крику ворона. Тотчас же из кустов, окаймлявших в этом месте дорогу, раздался шипящий и отрывистый крик нырка, затем кусты раздвинулись, и из них вышел человек. Это был полковник дон Хуан Мелендес де Гонгора. Дон Фелисио, казалось, нисколько не удивился его появлению. Он только слегка поклонился и быстро подъехал к нему.
— Спрячьтесь в кусты, полковник, — сказал он ему, — вы же знаете, что за каждым листом на дереве скрываются глаза. Если меня одного увидят на дороге, то в моем присутствии не найдут ничего подозрительного, но если увидят вас, карамба!.. Не следует, чтобы вас видели. Мы прекрасно можем разговаривать на расстоянии — здесь нас могут услышать только уши друзей.
— Вы как всегда благоразумны, дон Фелисио.
— Вовсе нет! Я только хочу отомстить этим разбойникам, которые захватили и разграбили так много великолепных поместий, а ненависть внушает осторожность.
— Каковы бы ни были причины ваших поступков, они вдохновляют вас, а это главное. Но возвратимся к нашему делу. Что вам нужно от меня? — спросил полковник.
— Мне нужно узнать от вас две вещи.
— Что именно?
— Действительно ли доволен генерал Рубио планом, который я ему предложил?
— Доказательства этому налицо. Если бы дела обстояли иначе, меня бы здесь не было!
— Это верно.
— Что же второе?
— Это щепетильный вопрос!
— А-а! Вы возбуждаете мое любопытство! — воскликнул со смехом полковник.
Дон Фелисио нахмурился и, невольно понизив голос, проговорил:
— Это очень серьезно, дон Хуан. Я хочу перед началом сражения узнать, сохранили ли вы по отношению ко мне то уважение и ту приязнь, которыми вы удостаивали меня на асиенде дель-Меските?
Полковник в смущении отвернулся.
— К чему этот вопрос в данную минуту? — сказал он.
Дон Фелисио побледнел и устремил на него сверкающий взгляд.
— Умоляю вас, дон Хуан, ответьте мне! — просил он настойчиво. — Что бы вы ни думали, каково бы ни было ваше мнение обо мне, я желаю его узнать. Так нужно!
— Не требуйте от меня этого, дон Фелисио, прошу вас. Какое вам дело до моего мнения? Оно ведь личное и не может иметь значения.
— Какое мне дело?! — воскликнул дон Фелисио с горячностью. — Впрочем, бесполезно настаивать на этом: я уже знаю все, что хотел узнать. Благодарю вас, дон Хуан, я ни о чем вас больше не спрашиваю. Когда человек такой благородный, как вы, и с таким честным сердцем, как ваше, осудит чей-либо поступок, то это значит, что поступок этот действительно заслуживает порицания!
— Ну хорошо! Если вы непременно хотите знать мое мнение, дон Фелисио, то я вам его выскажу. Да, я порицаю вас, но не осуждаю, потому что не могу и не хочу быть вашим судьей. Я в глубине души убежден, дон Фелисио, что человек, который независимо от причин, побудивших его к этому, сделался предателем, совершил больше чем преступление: он пошел на низость. Этого человека я могу жалеть, но уважать его я не могу!
Бывший мажордом выслушал эти жестокие слова весь бледный, с холодным потом на лице, но высоко подняв голову, с мрачно сверкающим взглядом. Когда дон Хуан кончил говорить, он холодно поклонился, и, взяв молодого человека за руку, которую тот не выказывал попытки выдернуть, проговорил:
— Хорошо! Ваши слова жестоки, но справедливы. Благодарю вас за откровенность, дон Хуан, теперь я знаю, что мне остается делать!
Полковник, не сумевший под впечатлением минуты удержаться, чтобы не ответить чистосердечно на заданный ему вопрос, подумал, что зашел слишком далеко и, испугавшись последствий своей неосторожности, воскликнул:
— Простите меня, дон Фелисио, я говорил как безумец!
— Полноте, полноте, дои Хуан! — ответил тот с горькой усмешкой. — Не старайтесь взять ваши слова назад! Вы были только отголоском моей собственной совести, и сердце мое часто говорило мне то же. Не бойтесь, что я поддамся мгновенной вспышке гнева, нет! Я — один из тех людей, которые, раз избрав какой-либо путь, идут по нему до конца, чего бы это им ни стоило. Но покончим с этим — я вижу облако пыли, это, по всей вероятности, идут наши друзья, — добавил он с едкой иронией. — Прощайте, дон Хуан, прощайте!
И не дожидаясь возражений полковника, дон Фелисио пришпорил лошадь и покинул ущелье так же быстро, как и въехал в него.
Полковник с минуту задумчиво следил за ним глазами.
— Увы, — пробормотал он, — этот человек скорее несчастный, чем преступник, или я жестоко ошибаюсь. И если его сегодня не убьют, то это, конечно, случится не от того, что он старался избежать смерти! — И печально покачав головой, полковник скрылся в кустах, из которых вышел.
Тем временем техасская армия быстро продвигалась вперед.
Так же, как и у мексиканцев, каждый кавалерист техасского войска вез позади себя на крупе лошади по пехотинцу. Отряд уже был на расстоянии пушечного выстрела от границы топких болот. Это обстоятельство заставило техасцев остановиться и подождать своих разведчиков, посланных во все стороны; после небольшого привала отряд снова двинулся в путь, но уже не в прежнем порядке: дорога постепенно сужалась, и войско было вынуждено, сдвоив ряды, идти более узкой колонной. Надо заметить, что высланные вперед разведчики не обнаружили ничего подозрительного, а потому отряд шел совершенно спокойно, и безмятежность эта подкреплялась надеждой в скором времени дойти до реки и, завладев там судами, перебраться в Гальвестон.
Один только Ягуар не разделял всеобщего спокойствия. Привычный с давних пор к войне с засадами, он понимал, что местность, через которую проходил отряд, была как нельзя более удобной для таких засад; он боялся, что им не суждено будет беспрепятственно дойти до реки. Молодого вождя повстанцев томило предчувствие близкой беды. Он угадывал ее, чувствовал, но вместе с тем не мог предвидеть, с какой именно стороны она появится и обрушится на него и его товарищей. Нет ничего ужаснее положения человека, ощущающего близость неминуемой беды, отвратить которую он не может.
Кругом по-прежнему было тихо и спокойно. Напрасно Ягуар бросал проницательные взгляды по сторонам, тщетно отыскивая глазами какой-либо знак, по которому он бы мог угадать эту беду, а между тем в сердце его была неосознанная, но твердая уверенность в близости несчастья. На все вопросы своих товарищей он мог бы ответить только одной загадочной, но вместе с тем и вполне логичной фразой: «Я этого не знаю, но, между тем, я в этом уверен!» Ягуар решил, не заботясь о последствиях, принять необходимые меры предосторожности, чтобы хотя бы себя лично оградить от последствий внезапного неприятельского нападения, — нападения, которое неминуемо стало бы гибельным для тех, кого он взял под свое покровительство и кого решил защищать — Транкиля и Кармелу. Все больше и больше замедляя шаг своего отряда, он достиг того, что отстал от основных сил армии на значительное расстояние, и это дало ему свободу действий.
Первой его заботой было сгруппировать вокруг повозки самых надежных людей. Затем, выбрав среди своих товарищей тех, которые лучше всего разбирались в военных хитростях индейцев, он назначил над ними командиром Джона Дэвиса и приказал им пробраться в росшие по обеим сторонам дороги кусты, через которые ничего не было видно, и проверить их. Ягуар не мог себе представить, чтобы мексиканцы не воспользовались тем удобным случаем, который неосторожность техасцев давала им в руки, и не отомстили бы им за понесенные ранее потери. В этом он совершенно сходился во мнении с Джоном Дэвисом, который, как вы помните, напрасно, но тем не менее настойчиво убеждал главнокомандующего отказаться от своего плана. Эти двое людей, давно уже прочно связанные взаимной приязнью, понимали друг друга без слов, а потому Джон Дэвис, ободрив своих солдат, приказал им рассыпаться по обеим сторонам дороги.
После этого Ягуар приблизился к повозке и обратился к охотнику:
— Ну что, Транкиль, — сказал он ему, — как вы себя чувствуете?
— Лучше, — ответил тот. — Я надеюсь, что через несколько дней буду в состоянии переменить это скучное положение.
— А силы ваши как?
— Они быстро прибывают.
— Тем лучше! Можете ли вы в случае нападения или какой-либо другой крайности стрелять, не покидая повозки?
— Я надеюсь. Но разве вы опасаетесь засады?
— Место, по которому мы теперь проходим, действительно как нельзя лучше подходит для этого! Не правда ли? Вы не ошиблись, я опасаюсь засады. Вот вам ружье. Если оно вам понадобится, воспользуйтесь им.
— Положитесь на меня. Благодарю! — воскликнул Транкиль, с нескрываемой радостью взяв ружье.
Снова став во главе своего отряда, Ягуар приказал трогаться в путь.
Между тем главная часть армии миновала развилку у креста и стала спускаться по ущелью вниз к реке, а так как дорога в этом месте была узкой, то войска шли в беспорядке, которого командиры напрасно старались избежать.
Вдруг с вершины Серро-Пардо раздался залп картечи; он проложил глубокую борозду в рядах техасцев. В ту же минуту из ущелья донесся страшный крик, и отряд дона Фелисио Паса ринулся на главные силы техасского войска. В первые мгновения техасцы старались освободить место для своей кавалерии, предполагая, что невидимый враг напал на нее с тыла, но удивление их сменилось ошеломлением и ужасом, когда они увидели, что их собственный авангард несется прямо на них, рубя своих направо и налево, с криками:
— Мексика! Мексика! Союз!
Техасцы были преданы. Началась страшная паника. Войска не могли развернуться и восстановить боевой порядок из-за того, что в ущелье было слишком тесно. Осыпаемые градом картечи сверху, поражаемые пиками и сабельными ударами стрелков дона Фелисио, солдаты стали думать только об одном, а именно — о бегстве. Почти обезумевшие, одни бросались в рукопашную, другие старались повернуть лошадей, а страшный хриплый крик: «Мексика! Мексика! Смерть бунтовщикам!» — раздавался в их ушах, как похоронный звон.
Вдруг с тыла показался полковник Мелендес со своими пятью сотнями кавалеристов; техасцы очутились между двух огней.
Тогда смятение приняло чудовищные размеры, и резня стала напоминать легендарные бойни средних веков, когда люди, опьяненные видом крови, одурманенные запахом пороха и шумом битвы, в бешенстве колют, режут и убивают только из одного лишь желания убить, наслаждаются видом своих окровавленных жертв и не только не чувствуют, что их кровожадность насыщается видом груды мертвых тел, плавающих в потоках крови, но, напротив, ощущают, что она все возрастает в них.
Бегство стало немыслимым. Какое бы то ни было сопротивление казалось еще менее возможным. Оставалось прийти к выводу, что все погибло: дело свободы должно было заглохнуть, исчезнуть навсегда под грудой трупов. Вдруг неожиданно мексиканцы стали быстро отступать, по-видимому, под чьим-то натиском сзади. Ряды их быстро раздвинулись по обе стороны, и в этом просвете показался Ягуар, величественный от воодушевлявшего его гнева и отчаяния; он мчался во главе своего верного отряда. Восторженные крики были приветствием этому чудесному появлению храброго повстанца, который для того, чтобы прибыть на помощь своим, должен был проложить себе путь через отряд полковника Мелендеса, тщетно старавшегося отбросить его и загородить ему путь.
— Друзья! — воскликнул Ягуар таким зычным голосом, что его ясно было слышно сквозь шум и грохот битвы. — Неприятель окружил нас! Нас предали! Нас завел в западню негодяй! Покажем этим мексиканцам, которые считают нас уже побежденными и поздравляют себя с легкой победой, — покажем им, на что способны такие люди, как мы! За мной! Вперед! Вперед!
— Вперед! — заревели техасцы, воодушевленные этими пылкими словами.
Ягуар направился к горе Серро-Пардо. Инстинктом военного он угадал, что гора эта может служить ключевой позицией в этой битве. Техасцы бросились за ним лавиной, оглашая воздух дикими криками. Тогда показался и отряд генерала Рубио, скрывавшийся до этих пор в кустах. Он занял вершины холмов и все дороги, и битва стала еще ожесточеннее.
Напрасные усилия! Восемь раз техасцы бросались на приступ вершины Серро-Пардо и восемь раз были отброшены к подошве горы. Напрасно Ягуар, Джон Дэвис и отец Антонио проявляли чудеса храбрости, они не могли выбить врага с занимаемой позиции. Мексиканские ядра и пули наносили техасцам страшные потери, и повстанцы, выбившись из сил, отказались, наконец, от этой бесплодной борьбы.
Их главнокомандующий, тот самый, неосторожность которого привела армию к гибели, решился на последнюю отчаянную попытку. Собрав вокруг себя всех людей, которых только мог собрать, он составил из них общую колонну и как ураган понесся с ней на приступ к месту, где стояла мексиканская артиллерия. Артиллеристы умирали под сабельными ударами один за другим, не уступая им ни пяди своей позиции, но зато остальная часть мексиканской армии, озадаченная этой неожиданной атакой, стала отступать, и этот отчаянный маневр техасцев, казалось, мог изменить исход сражения.
Техасцы завладели позицией и приготовились воспользоваться так выгодно сложившимися обстоятельствами, но, к несчастью, армия повстанцев состояла из людей деморализованных и неспособных оказать сильную и надежную поддержку своим храбрым командирам.
У мексиканцев было время оправиться, и, пристыженные своим отступлением, они снова бросились на неприятеля врукопашную и после ужасного побоища опять отбросили техасцев назад, окончательно заняв высоту и удержав за собой. Полковник Мелендес заставил, наконец, неприятеля сложить оружие. Техасцы были даже лишены возможности обратиться в бегство. Ягуар, тем не менее, не отчаивался. Если уж он не мог победить, то хотел, по крайней мере, спасти Кармелу. Но от Кармелы его отделяла сплошная стена неприятельского войска; необходимо было пробиться через нее. Молодой человек не колебался. Обернувшись лицом к врагам, он, как раненый лев, ринулся на них, призывая к себе товарищей и размахивая над головой саблей, которая все время так верно служила ему. Вдруг какой-то человек с поднятой саблей заступил ему дорогу.
— А! Дон Фелисио, предатель! — вскричал Ягуар, узнав этого человека, и одним ударом раскроил ему череп. Затем он вместе с несколькими товарищами бросился дальше, опрокидывая всех на своем пути. Ряды мексиканских войск расступались, чтобы пропустить их.
— Спасибо, брат! — с благодарностью воскликнул Ягуар, заметив, что полковник Мелендес дал своим солдатам знак пропустить его.
Полковник, не ответив ни слова, отвернулся. Побоище продолжалось еще долго. Техасцы все не сдавались. В конце концов шестьсот из них оказались пленными в руках мексиканцев, а восемьсот человек нашли смерть на поле битвы.
В тот же вечер генерал Рубио вошел со своей победоносной армией в Гальвестон. Остатки техасского войска в страхе разбежались, не надеясь уже на то, что оно когда-либо соберется снова. Дело освобождения Техаса казалось погибшим надолго, если не навсегда.
Приблизившись к развилке у креста, Ягуар нашел повозку разбитой, а большую часть ее защитников лежащими на земле убитыми. Но что было самое странное — это то, что все убитые были оскальпированы.
Транкиль, Кармела, Квониам и Ланей исчезли.
Какая же ужасная драма разыгралась на этом месте?
Глава VII
АТЕПЕТЛЬ
Техас разделен на две части густым лесом, простирающимся к северу от истока Рио-Тринидада до реки Арканзас. Лес носит название Кросс-Таймбрс. За этим лесом начинается бескрайняя Апачерия — земля апачей, — по которой бродят бесчисленные стада бизонов и диких лошадей. В центре узкой долины, окруженной с трех сторон зубчатой стеной снеговых гор, у самого берега реки Рио-Сабин, немного выше ее слияния с Вермехо, катящего свои прозрачные воды мимо холмистых берегов, покрытых карликовыми пальмами и хлопчатником, было живописно разбросано небольшое селение, или, как говорят индейцы, атепетль. Густые вершины деревьев образовали над хижинами этого атепетля зеленые купола, защищающие их от жгучих лучей тропического солнца летом и преграждающие к ним доступ холодным ветрам, дующим с гор зимой. Селение это было зимним атепетлем индейцев-команчей из племени Антилопы. Мы в нескольких словах опишем его, так как в нем будет разыгрываться несколько важных сцен из тех событий, о которых нам еще предстоит рассказать.
Хотя хижины атепетля были построены или, вернее, разбросаны по прихоти краснокожих, в нем все же был заметен некоторый порядок: все его улочки сходились к одной точке, бывшей чем-то вроде широкой площади, находившейся в центре селения. В середине этой площади виднелась огромная бездонная бочка, глубоко врытая в землю и украшенная ползучими растениями. Это сооружение называлось ковчегом первого человека. Там же был воткнут столб войны перед большой священной хижиной совета, где в важных случаях вожди племени зажигали огонь совета и курили священную трубку мира. Последняя помещалась у входа в хижину главного вождя на двух вилообразных палках, так как трубка эта никогда не должна была касаться земли.
Индейские хижины в большинстве случаев имеют сферическую форму и построены из кольев, обложенных глыбами земли и обвешанных шкурами бизонов, сшитых вместе и украшенных множеством рисунков. Рисунки эти изображают различных животных, расписанных красной краской.
У входа в каждую хижину лежали в куче маис [13], корм для лошадей и все зимние запасы владельцев хижины. Всюду висели на длинных кольях и раскачивались во все стороны даже при самом легком дуновении ветра шерстяные одеяла, конская сбруя и всевозможные лоскутки. То были дары набожных индейцев, принесенные ими Владыке Жизни, — дары, носящие название лекарство надежды.
Все селение, за исключением той стороны, которая подходила к реке, было огорожено высокой крепкой изгородью из огромных деревянных столбов, связанных ремнями из древесной коры. Приблизительно в шестистах шагах от селения помещалось кладбище, распространявшее на всю округу сильнейшее зловоние, издали предупреждавшее путника о том, что он приближается к жилищам какого-то индейского племени.
У первобытных жителей Америки очень странный погребальный обычай. Они обычно не хоронят мертвых, а напротив, подвешивают их, так сказать, между небом и землей. Тщательно обернув мертвеца одеялами и бизоньими шкурами, они кладут его на нечто вроде платформы, сооруженной на шестах метров двадцати высотой, и предоставляют ему постепенно разлагаться от дождя, солнца и ветра. Хищные птицы непрерывно носятся стаями вокруг этих своеобразных могил, испуская пронзительные крики и устраивая ужасное пиршество на разлагающихся отвратительных телах этих мертвецов.
Спустя два месяца после битвы при Серро-Пардо, в тот день, с которого мы снова начнем наш рассказ, приблизительно за час до захода солнца, в чудесное послеобеденное время сентября месяца, который индейцы называют Wasipi-Oni — месяц созревания овса, ехали шагом несколько всадников на прекрасных мустангах, разубранных по обычаю, принятому в прерии. Мустанги эти были ярко раскрашены и увешаны пучками перьев и множеством побрякушек. Всадники ехали по довольно неудобной и каменистой дороге по направлению к зимнему атепетлю команчей-антилоп и оживленно разговаривали между собой. Всадников было пятеро, все они были вооружены ружьями, топорами и кинжалами. На них были надеты белые коленкоровые блузы, которые носят индейские охотники, панталоны, в двух местах связанные тесьмой, меховые шапки и индейские мокасины. Но несмотря на этот наряд, обычный для индейцев, которые благодаря частому общению с американцами познакомились с зачатками цивилизации, нетрудно было узнать во всадниках белых — по их манерам и по светлому цвету их лица, цвету, который жгучие солнечные лучи были бессильны сделать таким же темным, как у коренных жителей этой страны. Немного позади всадников, шагах в двухстах, ехал шестой всадник, одетый в такой же костюм, как они, но в котором по первому взгляду можно было узнать настоящего краснокожего. Он был с непокрытой головой. Волосы его, собранные пучком на затылке, были выкрашены красной охрой и связаны ремнем из змеиной кожи, ястребиное перо, воткнутое за правым ухом, указывало на его принадлежность к высшему рангу среди соотечественников, а бесчисленные волчьи хвосты, привязанные к его пяткам, свидетельствовали о том, что это был знаменитый воин. Всадник держал в правой руке веер из целого орлиного крыла, а в левой руке — кнут с короткой рукояткой и длинным ремнем, какие обыкновенно носят индейцы-команчи. Всадники не предпринимали ни одной из мер предосторожности, обычных для тех путешественников, которые боятся засады или неожиданного нападения врага.
Судя по тому, как они разговаривали между собой, а также по тем рассеянным взглядам, которые они иногда бросали по сторонам, скорее по привычке, чем из осторожности, нетрудно было угадать, что люди эти ехали по хорошо знакомой им местности, где они были в полной безопасности от чьего-либо нападения. Между тем, если бы они не были так сильно заняты разговором и взгляд их мог бы проникнуть в глубь леса, стеной стоявшего по обеим сторонам дороги, они бы заметили в некоторых ветвях движение, вряд ли вызванное диким зверем, находившимся вблизи, и увидели бы сквозь листву два сверкающих глаза, устремленных на них с выражением лютой злобы и ненависти. Но мы повторяем, что люди эти, известные во всей этой местности бесстрашные и ловкие охотники, настолько были заняты беседой и так были уверены в своей безопасности, что оставались слепы и глухи к тому, что происходило вокруг них, и совершенно изменили привычке людей, жизнь которых часто висит на волоске из-за одного неосторожного шага или опрометчивого поступка, — привычке прислушиваться к каждому шороху, чтобы не быть захваченными врасплох.
Подъехав к селению на расстояние выстрела, всадники остановились, чтобы дать время отставшему от них индейцу подъехать к ним. И действительно, заметив, что они остановились, индеец ударил кнутом свою лошадь и почти тотчас же присоединился к спутникам. Остановившись возле них, он спокойно стал ждать, чтобы с ним заговорили.
— Что мы теперь должны делать, вождь? — спросил один из путешественников. — Как только мы обогнем выступ горы, торчащий точно мыс впереди нас, мы будем в селении.
— Наши белые братья — храбрецы, и команчи-антилопы будут счастливы принять их и сжечь порох в честь их прибытия. Вождь поедет туда один, чтобы предупредить их о прибытии гостей.
— Да, поезжайте туда, вождь! Мы подождем вас здесь.
— Хорошо! Брат мой сказал правильно.
Индеец, сильно ударив кнутом по крупу лошади, которая от этого рванулась вперед, вскоре скрылся за выступом горы, о котором говорили путешественники. Вытянувшись в линию, всадники стали ждать его возвращения. Не прошло и нескольких минут, как послышался шум, похожий на раскаты грома, и из-за поворота дороги показались индейцы верхом на лошадях. Они мчались во весь опор, размахивая пиками, стреляя из ружей и свистя пронзительно в iskochettas — боевые свистки, сделанные из человеческой берцовой кости и висевшие у них на шее.
Охотники, со своей стороны, по знаку, поданному тем, кто, по-видимому, был главным среди них, стали гарцевать на своих лошадях, стрелять из ружей и оглашать воздух ликующими криками. Этот невообразимый и оглушительный шум, к которому примешался вой женщин и детей, прибежавших откуда-то, и лай полудиких собак, которых индейцы таскают всюду за собой, продолжался добрых полчаса. Было очевидно, что чужестранцы, которым индейцы оказывали такой горячий прием вопреки своему обыкновению держаться со всеми холодно и гордо, были большими друзьями этого племени. Если бы дело обстояло иначе, индейцы довольствовались бы тем, что выслали бы отряд встретить их при въезде в атепетль, и не стали бы беспокоить из-за них всех своих знаменитых воинов. Вдруг шум прекратился точно по волшебству, и индейские воины выстроились полукругом около белых охотников. Затем вперед выехали четыре вождя на великолепных мустангах. Эти вожди были в полном вооружении и раскрашены соответственно их воинскому званию. На головах их красовались mahch-akoub-hachka — головные уборы с перьями. Такие уборы имеют право носить только вожди высшего ранга, то есть те, которые скальпировали большое число людей. Плечи их были украшены великолепными mato-unk-nappinde, или ожерельями длиной в четверть фута из когтей гризли с белыми кончиками, а на их спины были накинуты плащи с широкими складками из шкуры белого бизона, раскрашенные с внутренней стороны красной краской. В одной руке каждый из них держал ружье, в другой — веер, сделанный из крыла белоголового орла.
Эти воины в своих великолепных костюмах имели величественный и внушающий почтение вид.
В продолжение семи или восьми минут индейцы и белые охотники стояли неподвижно друг против друга, не произнося ни слова, как вдруг со стороны селения показался всадник, ехавший быстрым аллюром. По костюму лесного охотника, а также по сопровождавшим его великолепным борзым в этом всаднике можно было угадать белого.
При появлении этого нового лица индейцы разразились радостными восклицаниями:
— Великий храбрец команчей-антилоп! Чистое Сердце! Чистое Сердце! — кричали они.
Приближавшийся воин был действительно Чистое Сердце — мексиканский охотник, который уже несколько раз появлялся в наших повествованиях.
Сделав рукой знак приветствия воинам команчам, он присоединился к их вождям; те почтительно расступились, чтобы дать ему место.
— Мой брат Черный Олень известил меня о прибытии в племя нашего друга, и я поспешил приехать, чтобы присутствовать при встрече, а также для того, чтобы приветствовать его и его товарищей.
— Почему Черный Олень не сопроводил нашего брата, великого храбреца нашего племени? — спросил вождь.
— Черный Олень остался в селении наблюдать за приготовлениями в хижине врачевания [14], — ответил Чистое Сердце.
Вожди поклонились и не сказали на это ни слова. Тогда Чистое Сердце, подняв свою лошадь в галоп, приблизился к охотникам, которые, со своей стороны, сделали несколько шагов ему навстречу.
— Добро пожаловать, Транкиль, — сказал Чистое Сердце. — Вас и ваших товарищей ждали с нетерпением.
— Благодарю, — ответил Транкиль, пожимая протянутую ему руку. — Со времени нашей разлуки произошло много событий, и не от нас, конечно, зависит, что мы приехали так поздно.
Пять белых охотников были действительно нашими старыми знакомыми: Транкиль, Ланей, Квониам, Джон Дэвис и отец Антонио. О том, как случилось, что американец Джон Дэвис и монах Антонио присоединились к трем лесным охотникам, мы расскажем читателю в свое время.
Чистое Сердце, заставив лошадь сделать красивый вольт, взял Транкиля за правую руку, и они шагом двинулись к вождям.
— Вожди племени Антилопы, — сказал он, — этот белый охотник — мой брат. Сердце его благородно. Рука его сильна. Язык его не раздвоенный. Он любит краснокожих. Он известен в своем племени как великий храбрец. Он мудрец, сидящий у огня совести. Любите его, так как всемогущий Творец, Владыка Жизни, покровительствует ему. Он снял кожу с его сердца, чтобы очистить его кровь и чтобы слова, которые он произносит, были достойны такого великого воина, как он.
— О-о-а! — ответил на это один из индейских вождей, почтительно поклонившись белому охотнику. — Команчи — великие воины. Кто может измерить обширность земли, которую дал в их распоряжение Великий Дух? Они — вожди краснокожих, потому что они все великие храбрецы, и пятки их украшены многочисленными волчьими хвостами. Мой белый брат и его воины войдут в наш атепетль. Им будут даны хижины, лошади, и женщины понесут их оружие и позаботятся об их пище. Племя команчей-антилоп будет с этого времени насчитывать среди своих воинов еще пятерых храбрецов. Я сказал. Хорошо ли я говорил, могущественные люди?
— Вождь, — ответил Транкиль, — благодарю вас за любезный прием, который вам угодно было мне оказать. Брат мой Чистое Сердце правдиво высказал вам те чувства, которые я питаю к вашему племени. Я люблю краснокожих, а команчей в особенности: они из всех обитателей прерий — самые благородные и храбрые. Они справедливо носят название царей прерий, потому что лошади их и их воины ездят куда угодно, и никто не смеет им препятствовать в этом. От себя лично и от имени моих товарищей я принимаю ваше чистосердечно предложенное гостеприимство, и мы сумеем кротким и разумным поведением отблагодарить всех за эту большую милость.
Когда Транкиль кончил говорить, самый главный вождь движением, исполненным благородства, сбросил с себя плащ, сделанный из кожи белого бизона, и надел его на плечи Транкиля. Остальные вожди, следуя его примеру, надели свои плащи на остальных охотников.
— Воины и вожди могущественного племени команчей-антилоп, — сказал при этом главный вождь, обратившись к индейцам, продолжавшим стоять молча и неподвижно, — эти белолицые охотники — наши братья. Горе тому, кто их оскорбит!
При этих словах вождя воздух снова огласился громкими криками индейцев, и они стали жестами проявлять живейшую радость. Может быть, радость эта и не была настолько искренна, насколько это могло показаться всякому, кто смотрел на ее проявление со стороны, и не была разделена всеми присутствующими в равной степени. Возможно, некоторым было неприятно, что лесные охотники были приняты в племя команчей, но те, которые испытывали по этому поводу неудовольствие, тщательно скрывали его от всех и даже были в числе тех, кто громче всех высказывал свою радость.
Индейская политика, очень логичная в этом случае, как и во многих других, предписывает во что бы то ни стало искать сближения с белыми, которые своим умением владеть оружием и глубоким знанием обычаев прерии могли бы в нужную минуту оказать им этими качествами большую услугу. Например, это могло пригодиться в тех случаях, когда одно племя вступало в войну с другим племенем, а также во время их обороны против солдат, которых правительства цивилизованных стран посылают к ним, чтобы отомстить за набеги на земли, принадлежащие белым, — набеги, совершаемые ими очень охотно и приносящие непоправимые беды, — набеги, во время которых они совершают злодеяния неслыханной жестокости.
После описанной нами сцены индейские вожди окружили белых охотников и вместе с ними и со своими воинами поскакали по направлению к селению. Не прошло и четверти часа, как вожди прибыли на место. При въезде в селение отряд был встречен Черным Оленем, вождями и старейшинами команчского племени. Не произнеся ни слова, Черный Олень, став во главе прибывшего отряда, привел его к площади, где находился ковчег первого человека. Здесь отряд остановился как вкопанный, и Черный Олень, встав у входа в хижину врачевания возле тотема, взял в руки священную трубку и, обратившись к Чистому Сердцу, сказал:
— Кто эти белолицые, которые входят как друзья в атепетль команчей-антилоп?
— Это — братья, которые просят позволения сесть у очага краснокожих, — ответил тот.
— Хорошо, — продолжал Черный Олень. — Люди эти — наши братья. Огонь совета зажжен. Они войдут с нами в великую хижину врачевания, сядут у огня совета и выкурят вместе с вождями трубку мира.
— Пусть будет так, как решил мой брат, — сказал Чистое Сердце.
Черный Олень сделал повелительный жест. Занавесь у входа в хижину раздвинулась, и вожди в сопровождении охотников вошли в хижину.
Хижина врачевания была гораздо просторнее остальных хижин селения, и постройка ее была более тщательна. Шкура бизона, целиком обтягивающая хижину, была расписана красной и черной краской. На ней были изображены рисунки в виде кабалистических священных знаков, понятных только индейским шаманам или врачевателям, да еще самым важным вождям племени. Внутри хижины было совершенно пусто. В центре ее была вырыта круглая яма глубиной приблизительно в два фута, в которой лежало небольшое количество дров и углей, приготовленных заранее.
Когда все вожди вошли в хижину, самый главный из них опустил входную занавесь. Тем временем воины оцепили хижину снаружи, чтобы не дать проникнуть в нее любопытным, пожелавшим бы узнать, что составляло предмет тайного совещания.
Индейцы в высшей степени педантичны в соблюдении своих обычаев. В их правилах предусмотрено все до мельчайших подробностей, чего, казалось бы, трудно ожидать от этого полудикого народа, и каждое нарушение этих правил влечет за собой строгую кару.
Чтобы познакомить читателя с этими странными обычаями, мы подробно опишем их.
Итак, хотя Черный Олень знал как нельзя лучше, кто были белые, прибывшие в селение, потому что сам он служил им проводником, индейский этикет требовал, чтобы он встретил их соответствующим образом, иначе вожди племени непременно возмутились бы нарушением их национального обычая и сами приезжие, по всей вероятности, стали бы жертвами этого проступка Черного Оленя.
Вожди молча сели на корточки посредине хижины, и самый главный из них подал Черному Оленю священную палочку, к концу которой был привязан кусочек горящей лучины, с помощью которой он зажег священный огонь совета.
После этого в хижину вошел индеец, неся на плече священную трубку мира, которая, как мы уже говорили, не должна была ни в коем случае прикасаться к земле. Хранителей трубки мира обычно выбирали среди самых храбрых воинов племени: это были преимущественно люди, получившие во время сражения какое-либо серьезное ранение, лишившее их возможности принимать дальнейшее участие в войне.
Чубук священной трубки мира делается из кленового дерева; в большинстве случаев он имеет длину в одиннадцать футов, его украшают перьями, стеклянными бусами и разными другими побрякушками. Сама трубка делается из красного камня, который встречается только в некоторых скалистых местностях, и индейцы отыскивают его там, несмотря на все трудности, с которыми сопряжены иногда такие поиски. Если камень попадется не совсем красного цвета, то его тщательно окрашивают красной краской.
Индейцы зажигают трубку мира только в самых торжественных случаях, например, во время приема знатных гостей, объявления войны, выборов. Табак, который горит в этих трубках, называется морише и считается священным. В действительности это не что иное, как растение наркотического свойства, имеющее отдаленное сходство с никотином. Прежде чем употреблять этот табак, его моют, потом настаивают на водке, затем сушат и смешивают с обыкновенным табаком. Эти приготовления совершаются, как правило, шаманами или знахарями, только они одни имеют право хранить морише; но они, однако, не смеют пользоваться им для личного употребления.
По знаку, данному Черным Оленем, Хранитель трубки поджег священный табак и протянул конец чубука Черному Оленю как главному вождю, продолжая вместе с тем держать трубку в руках.
Черный Олень затянулся два раза и, выпустив дым на все четыре стороны, проговорил:
— Ваконда, Творец всего живущего! Пусть запах морише ласкает твое обоняние. Взгляни на нас благосклонным оком, на нас — твоих возлюбленных детей. И так же, как я вдыхаю дым, вдохни в нас мудрость, которая должна править на нашем совете.
После того как Черный Олень произнес эти слова, он затянулся еще два раза священным табаком и передал конец чубука вождю, сидевшему рядом с ним. Тот, в свою очередь, молча затянулся и передал трубку своему соседу с другой стороны. Таким образом трубка мира обошла всех сидящих и возвратилась к Черному Оленю, который и докурил табак. После этого Хранитель трубки сжег пепел на огне совета.
— Всемогущий Владыка Жизни принял жертву вождей команчей, — сказал он при этом. — Все обычаи соблюдены. Совет открыт. — И с этими словами носитель трубки вышел из хижины, и вожди остались одни.
Мы не будем приводить здесь всего, что говорилось на совете. Дикари, как их весьма ошибочно называют, имеют перед нами то преимущество, что во время своих совещаний их ораторы не позволяют себе нападок и оскорблений в адрес своих политических противников. Здесь все происходит очень тихо, все говорят по очереди и не перебивают друг друга. Когда вопрос всесторонне рассмотрен, старший из вождей излагает кратко все слышанные им суждения, выносит свое решение и испрашивает согласия присутствующих (выражением согласия обычно служит простой кивок головы), и после этого совещание считается оконченным.
На этот раз совету предстояло обсудить два важных вопроса. Нужно было прежде всего организовать серьезный набег на апачей-бизонов — разбойничьего племени, которое уже несколько раз похищало лошадей у команчей прямо из самого атепетля, почему и представлялось крайне необходимым примерно наказать их.
Во-вторых, Транкиль через посредничество Чистого Сердца, влияние которого на совете было очень велико, просил дать ему отряд, состоящий из пятидесяти лучших воинов, под предводительством Чистого Сердца, для экспедиции, цель которой он не мог объяснить в настоящее время, но которая, тем не менее, была очень важна. Она должна была в случае удачи принести как ему самому, так и его союзникам большие выгоды.
Первый вопрос после короткого совещания был почти единогласно решен положительно, и члены совета намеревались уже перейти к обсуждению второго, как вдруг снаружи донесся довольно сильный шум. Входная занавесь раздвинулась, и на пороге показался хачесто.
Скажем в двух словах, кто такой хачесто индейского племени и каковы его функции.
Хачесто — человек со звучным голосом; он заменяет у краснокожих глашатая. Его обязанность состоит в том, чтобы разглашать вести и созывать вождей на совет.
Итак, в хижину вошел хачесто. Черный Олень бросил на него суровый взгляд.
— Когда вожди собрались в священной хижине, их нельзя тревожить! — сказал он ему.
— Мой отец Черный Олень говорит хорошо, — смиренно ответил индеец, почтительно кланяясь. — Сын его знает это.
— Так зачем же сын мой вошел без приказания вождей?
— Потому что пять воинов апачей-бизонов въехали в селение.
— О-о-а! И кто тот храбрец, который взял их в плен? Почему не скальпировал он их? Или он предпочитает привязать их к столбу пыток?
Глашатай отрицательно покачал головой.
— Мой отец ошибается, — сказал он. — Эти воины не были взяты в плен никем из наших храбрецов. Они свободны.
— О-о-а! — воскликнул Черный Олень с удивлением, которого он не мог скрыть вполне. — Каким образом попали они в селение?
— Они вошли на глазах у всех совершенно свободно. Они называют себя посланниками.
— Посланниками? А кто находится во главе их отряда?
— Голубая Лисица!
— Голубая Лисица — великий храбрец! Он опасный воин на поле сражения, рука его сняла много скальпов с моих сыновей и отняла у них много лошадей. Но присутствие его неприятно команчам. Чего хочет он?
— Войти в хижину совета и выполнить возложенное на него поручение.
— Хорошо! — сказал Черный Олень, бросив вопросительный взгляд на собрание вождей.
Те ответили на это утвердительным кивком головы.
Чистое Сердце поднялся с места.
— Мои белые братья и я, — сказал он, — не должны присутствовать при совещании, которое будет происходить здесь. Вожди позволят нам удалиться?
— Чистое Сердце — сын команчей, — ответил Черный Олень, — место его среди нас. Хотя он и молод летами, но его опытность и его мудрость велики. Но пусть желание его будет исполнено, белые охотники могут удалиться. Если вожди будут нуждаться в Чистом Сердце, они попросят его возвратиться.
Молодой человек церемонно поклонился и вышел в сопровождении охотников, которые, мы должны в том сознаться, были очень довольны тем, что могли прекратить заседание в хижине совета, потому что испытывали потребность отдохнуть из-за сильного утомления, вызванного длинным дневным переходом через почти непроходимую местность.
Глава VIII
ГОСТЕПРИИМСТВО
Мы уже сказали, что для охотников было приготовлено несколько хижин. Хотя хижины эти были выстроены точно так же, как и все индейские хижины, тем не менее они были достаточно удобны для людей, которые привыкли к жизни в прерии, презирают излишества больших городов и умеют довольствоваться лишь самым необходимым.
Покинув совет, Чистое Сердце отвел путешественников в две хижины, сообщавшихся друг с другом. Затем, сделав знак Транкилю следовать за ним, он предоставил остальным четырем охотникам разместиться кому как вздумается.
— Что касается вас, мой друг, — сказал он тигреро [15], — я надеюсь, что вы не окажетесь от гостеприимства, которое я могу оказать вам под своей скромной кровлей.
— Зачем вам стеснять себя из-за меня? — возразил на это канадец. — Я удовольствуюсь малым. Уверяю вас, что мне будет очень хорошо в обществе моих товарищей.
— Вы меня вовсе не стесните, мой друг, напротив, я чувствую искреннее удовольствие при мысли, что приму вас и дам вам место у своего очага.
— Если так, я не возражаю. Располагайте мной.
— Благодарю вас! Пойдемте.
Не обмениваясь более ни словом, они прошли площадь, находившуюся в центре селения, в то время почти безлюдную, так как уже давно настала ночь и большинство индейцев разбрелось по своим хижинам.
Из этих хижин раздавались пение и смех, свидетельствующие о том, что обитатели их хотя и заперлись у себя, но тем не менее не отошли еще ко сну.
Заметим вскользь, что многие путешественники, узнав индейцев лишь поверхностно, представляют их людьми угрюмыми и мрачными, говорящими мало и совсем не смеющимися. Это большое заблуждение. Напротив, краснокожие в большинстве случаев очень веселого нрава и любят рассказывать друг другу разные истории. Но с чужестранцами, языка которых они не знают и которые, в свою очередь, не знают языка индейцев, они очень сдержаны. Они говорят с ними только тогда, когда их вынуждает к этому необходимость, главным образом потому, что индейцы крайне подозрительны и больше всего на свете боятся дать кому-нибудь повод посмеяться над собой.
В течение нескольких минут путники шли мимо хижин, разбросанных там и здесь без всякого порядка. Наконец Чистое Сердце остановился перед хижиной, внешний вид которой очень удивил Транкиля, хотя удивить его чем-либо было не легко.
Хижина эта в ином месте могла бы показаться совершенно обыкновенной, но здесь, в индейском селении, она своим видом резко бросалась в глаза. Это был довольно большой домик, выстроенный в мексиканском стиле из смеси глины и соломы, оштукатуренный, отчего он казался ослепительно белым. Домик представлял из себя длинный четырехугольник, крыша его была плоской, как у всех мексиканских домов; он был окружен галереей. По обеим сторонам его входной двери было по три окна и — вещь неслыханная в такой отдаленной от всякой цивилизации местности — в этих окнах были рамы со стеклами.
На крыльце дома сидел худой человек лет пятидесяти в мексиканском костюме и курил сигаретку. Лицо этого человека, обрамленное волосами, в которых сильно просвечивала седина, было одним из тех лиц, которые говорят о многих перенесенных страданиях. Увидев этого человека, борзые, до тех пор не отстававшие от Чистого Сердца ни на шаг, бросились к нему с радостным лаем и стали, ласкаясь, прыгать возле него.
— А! — воскликнул старик и, поднявшись со своего места, почтительно поклонился охотникам. — Это вы, душа моя! Вы возвращаетесь очень поздно!
Эти слова были произнесены стариком тем почтительным тоном, который так приятно слышать из уст старого, верного слуги.
— Это правда, Эусебио, — ответил молодой человек, улыбаясь и пожимая руку старику, которого читатели, знакомые с романом «Арканзасские трапперы», без сомнения, узнали. — Я привел с собой друга.
— Добро пожаловать! — сказал Эусебио. — Мы постараемся по мере возможности принять его так, как он того заслуживает.
— О-о! Compadre [16], — весело воскликнул Транкиль, — я не стеснительный гость. Я не причиню вам большого беспокойства.
— Войдите, мой друг, — обратился к нему Чистое Сердце, — мне не хотелось бы заставлять мою мать дольше ждать меня.
— Сеньора очень беспокоится, когда вас подолгу не бывает дома.
— Доложите о нас, Эусебио, а мы последуем за вами.
Слуга повернулся, чтобы исполнить приказание, но собаки, бегая по дому как сумасшедшие, уже давно известили мать охотника о его возвращении, и она показалась на пороге в тот момент, когда охотники намеревались войти в дом.
В то время, о котором идет речь, мы видим сеньору Хесуситу Гарильяс уже не той молодой, хорошенькой и нежной женщиной, какой мы ее видели в повести «Арканзасские трапперы». С той поры прошло восемь лет, — целых долгих восемь лет, полных горя и беспокойства. Она все еще была хороша, это правда, но красота ее была опалена горячим дыханием несчастья. Лоб ее был бледен и черты приняли выражение горестной решимости, ярко изображенное кем-то из древних в чудной головке статуи «Меланхолия».
Когда она увидела своего сына, глаза ее сверкнули, но она больше ничем не выдала своей радости.
— Кабальеро, — сказала она мягким мелодичным голосом, обращаясь с улыбкой к канадцу, — войдите в скромное жилище, в котором вас уже давно с нетерпением ожидают. Хотя наш очаг невелик, у него мы всегда сохраняем место для друга.
— Сеньора, — ответил охотник, кланяясь, — ваше приветствие наполняет мое сердце радостью, я постараюсь быть достойным благосклонности, которую вы мне оказываете.
Охотники вошли в дом. Внутренний вид его вполне соответствовал внешнему. Висевшая на потолке люстра освещала довольно большую комнату, в которой единственной мебелью были несколько шкафов с полками, два низких дивана, стол и буфет. Все эти вещи были очень грубой работы. На выбеленных стенах висело несколько гравюр, которыми французы наводняют Старый и Новый Свет.
Одна из гравюр изображала Наполеона на Сен-Бернарде, другая — Итурбиде [17], мексиканского генерала, который был шесть месяцев императором и умер, как Мюрат [18], расстрелянный своими подданными. На третьей был изображен Господь Иисус Христос на кресте и, наконец, на четвертой — Скорбящая Божья Матерь. Перед двумя последними гравюрами висели лампады, горевшие днем и ночью.
Во время наших продолжительных странствований мы сделали любопытное открытие, а именно, что везде — в Азии, в Америке, в Африке и в Океании, среди самого дикого населения, известно имя императора Наполеона I. Оно не только проникло в самые отдаленные уголки мира, но стало там равным божеству, и я часто видел портреты этого императора. По одному только этому можно судить, каково должно было быть магическое влияние этого удивительного человека на все человечество. Напрасно многие старались разрешить эту загадку, а также напрасны были старания узнать, каким путем могла проникнуть история этой эпохи под непроницаемые своды девственных лесов, где шум цивилизации умирает без всякого отголоска. Ни один европеец не проникал в индейские племена без того, чтобы вожди этих племен не спросили его, как поживает Наполеон, и не попросили бы его рассказать им эпизоды из его царствования. И что еще более странно — это то, что эти дети природы не хотят поверить, что великий человек умер, и когда им об этом говорят, они в ответ на это только тонко улыбаются. Однажды — это было в Апачерии — после продолжительной охоты я попросил приюта у индейцев племени опата. Как только вождь их узнал, что я француз, он стал расспрашивать меня про императора. После длинного рассказа, в котором я старался излагать свои мысли как можно понятнее для людей, окружавших меня и слушавших с напряженным вниманием, я сказал им, что великий человек умер после долгой и тяжелой агонии.
Вождь, старый воин, с внешностью, внушающей почтение, тут же перебил меня и, положив мне левую руку на плечо, поднял правую вверх и показал на солнце, в то время величаво клонившееся к закату. Он как-то странно улыбнулся и сказал мне:
— Может ли солнце умереть?
— Нет, конечно, — ответил я, не зная, что хочет сказать этим краснокожий.
— О-о-а! — воскликнул он. — Если солнце никогда не умрет, почему же должен умереть великий белый вождь, который есть его сын?
Индейцы выказали истинный восторг, выслушав слова вождя, а я напрасно старался изменить их мнение по этому вопросу и, не преуспев в этом, оставил их в покое. Все мои старания привели лишь к тому, что они еще больше укрепились в своем мнении о бессмертии героя, которого привыкли считать божеством.
Но, извинившись перед читателем за это длинное отступление, перейдем к нашему рассказу.
Благодаря заботам Хесуситы и Эусебио путешественникам подали скромный ужин, и Транкиль, сильно уставший от длинного путешествия, вскоре ощутил то отрадное чувство покоя и довольства, которое хорошо знакомо каждому, кто после долгого странствования по пустыням нашел приют, в котором есть лишь легкие отблески цивилизации. Ужин состоял из дичи, маисовых лепешек и ликера — невиданной роскоши у команчей, которые, единственные из всех индейцев, не пьют крепких напитков.
Эусебио сел вместе с охотниками, а донья Хесусита прислуживала им с тем милым вниманием, которое редко встречается в цивилизованной стране, где за все, даже за радушный прием, платят так дорого.
Когда ужин был окончен, трое мужчин встали из-за стола и, подсев к медной жаровне, полной горячих углей, закурили.
Собаки, как чуткие сторожа, легли поперек дверей, положив морды на передние лапы и насторожив уши. Хесусита разостлала в одном углу комнаты несколько шкур и сделала из них постель, которая могла показаться превосходной человеку, привыкшему в жизни, исполненной приключений, спать на голой земле. Сеньора уже предложила охотникам лечь отдохнуть, как вдруг собаки настороженно подняли головы и зарычали. В ту же минуту послышались два удара во входную дверь домика.
— Это друг, — сказал Чистое Сердце. — Отоприте, Эусебио.
Старый слуга повиновался. В комнату вошел индеец; это был Черный Олень.
Лицо вождя было мрачным. Молча поклонившись присутствующим, он, не говоря ни слова, сел на скамью возле жаровни. Охотники слишком хорошо знали характер индейцев, чтобы позволить себе расспрашивать вождя прежде, чем ему самому угодно будет нарушить молчание. Транкиль только вынул трубку изо рта и передал ее Черному Оленю, который стал курить ее, поблагодарив за это охотника свойственным краснокожим исполненным достоинства жестом.
Наступило продолжительное молчание; наконец вождь поднял голову.
— Вожди вышли из хижины совета, — сказал он.
— А-а! — протянул Чистое Сердце для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Вожди, вероятно, не пришли ни к какому решению и не дали посланным никакого ответа? Вожди осторожны; они захотели прежде подумать, а потом решить, не так ли?
Черный Олень в ответ утвердительно кивнул головой.
— Желает ли знать брат мой Чистое Сердце, что произошло на совете после его ухода? — спросил он.
— Брат мой озабочен. Сердце его опечалено. Пусть он говорит: уши его друга раскрыты.
— Вождь прежде поужинает, — заметила Хесусита, — он долго оставался в хижине совета, и женщины не приготовили ему ужина.
— Мать моя добра, — ответил он с улыбкой, — Черный Олень будет есть. Он здесь в доме своего друга. Мы оба воины и обменялись друг с другом оружием и лошадьми.
Кто внушил индейцам этот трогательный обычай: при выборе друга обмениваться с ним оружием и лошадьми, после чего друг этот становится дороже, чем люди, связанные с ними кровными узами?! Черный Олень и Чистое Сердце в самом деле совершили тот обмен, о котором упомянул вождь.
— Мать моя уйдет отдыхать, — сказал Чистое Сердце, — я буду прислуживать моему брату.
— Хорошо! — отвечал краснокожий. — Моя мать нуждается в отдыхе, уже поздняя ночь.
Сеньора Хесусита поняла, что трем ее гостям необходимо было переговорить друг с другом о чем-то секретном. Пожелав им спокойной ночи, она без возражений удалилась. Что касается Эусебио, то, считая свое присутствие лишним, он по приходе индейца ушел спать, то есть лег в гамак, подвешенный к перекладине потолка в галерее. Собаки улеглись вблизи него на пороге дома, так что никто не мог ни войти в дом, ни выйти из него без того, чтобы не разбудить их.
Проглотив наскоро несколько кусков поданного угощения, скорее из вежливости, чем из действительной потребности утолить голод, Черный Олень начал говорить.
— Брат мой Чистое Сердце молод, — сказал он, — но мудрость его велика. Вожди доверяют ему. Они ничего не хотели решать, не выслушав предварительно его мнения.
— Братья мои знают, что я им предан. Пусть брат мой объяснится, я отвечу ему.
— Голубая Лисица приехал сегодня в наше селение.
— Я видел его.
— Так! Он явился от имени вождей своего племени. Голубая Лисица притворился кротким, уста его источали мед. Но бизон не может прыгать, как лось, и змея не может походить на голубя… Вожди не поверили его словам.
— Так, стало быть, они на его слова ответили отказом?
— Нет. Они пожелали прежде посоветоваться с моим братом.
— А по какому поводу?
— Пусть брат мой слушает. Бледнолицые по ту сторону Меха-Хебе уже несколько месяцев тому назад вырыли топор войны друг против друга, брат мой это знает.
— Да, это правда, и вы, вождь, тоже знали об этом. Но что нам до того? Распря между белыми нас не касается. До тех пор, пока они не захватят наши земли, где мы охотимся, не станут похищать наших лошадей и не будут сжигать наши селения, мы можем только поздравить себя с тем, что они уничтожают друг друга.
— Брат мой говорит как мудрец. Вожди команчей думают так же.
— Хорошо. В таком случае я не понимаю, о чем могли тут спорить вожди.
— О-о-а! Мой брат скоро поймет, если он захочет слушать.
— Вождь! У вас несчастная привычка, как и у других краснокожих, замаскировать свою мысль так, что совершенно невозможно угадать, что именно вы хотите сказать.
Черный Олень засмеялся тихим смехом, свойственным индейцам.
— Брат мой лучше, чем кто-либо, умеет идти по следам, — сказал он.
— Да, конечно! Но для этого необходимо, чтобы мне указали след, как бы ни был он легок.
— Брат мой нашел уже след, который я указал ему?
— Да.
— О-о-а! Я желал бы проникнуть в глубину мыслей моего брата.
— В таком случае выслушайте меня, в свою очередь, Черный Олень. Я буду краток. Голубую Лисицу послали апачи-бизоны к команчам-антилопам, чтобы предложить оборонительный и наступательный союз против бледнолицых, которые вырыли топор войны друг против друга.
Несмотря на всю свою флегматичность, частью природную, частью выработанную в нем индейским воспитанием, Черный Олень не мог скрыть удивления, которое овладело им, когда он услышал эти слова.
— О-о-а! — воскликнул он. — Брат мой не только великий храбрый воин, он человек, вдохновленный Владыкой Жизни. Его мудрость велика, он знает все. Голубая Лисица сделал именно это предложение.
— Вожди приняли его?
— Нет! Я повторяю моему брату, что они не захотели дать никакого ответа, не посоветовавшись с ним.
— Отлично! Вот мое мнение, и пусть вожди воспользуются им, как им будет угодно. Племя команчей царит в прериях, под знаменем его собраны самые непобедимые воины, их охотничьи владения простираются по всей земле. Команчи сами по себе непобедимы. Зачем им вступать в союз с ворами апачами? Разве они хотят променять свои копья и ружья на станок, на котором мотают шерсть? Разве им надоело быть храбрыми воинами? Разве они хотят надеть на себя женские юбки? Зачем им вступать в союз со своими заклятыми врагами против людей, которые сражаются за независимость? Голубая Лисица предал свое родное племя пауни-змей, мой брат знает его, потому что он его личный враг. Всякие условия мира, предложенные через такого посланника, должны заключать в себе западню. Лучше война, чем такой союз!
Наступило довольно долгое молчание, на протяжении которого вождь глубоко размышлял о том, что ему пришлось услышать.
— Брат мой прав, — ответил он наконец. — Мудрость в нем самом. Язык его не раздвоен. Слова, которые исходят из его груди, внушены ему Владыкой Жизни. Команчи не пойдут на союз с грабителями-апачами. Совет просил три солнца сроку, чтобы обсудить этот важный вопрос. Через три солнца Голубая Лисица возвратится к пославшим его с решительным отказом. Команчи скорее выроют топор войны, чем вступят в союз со своими врагами.
— Если братья мои сделают это, они поступят как мудрецы, — сказал Чистое Сердце.
— Они сделают это! Мне остается только переговорить с моим братом о деле, касающемся лично меня.
— Отлично. Сон еще не смежает моих глаз, я выслушаю моего брата.
— Чистое Сердце — друг Черной Птицы, — продолжал вождь после недолгого колебания.
Охотник в ответ на это тонко улыбнулся.
— Черная Птица — один из самых славных храбрецов нашего племени, — продолжал вождь, — дочери его Язык Лани будет четырнадцать лет, когда начнут падать листья. Черный Олень любит Язык Лани.
— Я это знаю, брат мой уже признавался мне, что дева первой любви во время его сна положила ему под голову трилистник, имеющий четыре листа. Но уверен ли вождь, что Язык Лани отвечает на его чувства?
— Девушка улыбается, когда вождь приезжает с охоты со скальпами, подвешенными к поясу. Она ухаживает потихоньку за его лошадью, и ее самое большое удовольствие — чистить его оружие. Когда девушки селения пляшут по вечерам под звуки барабана и дудок, Язык Лани задумчиво смотрит в ту сторону, где стоит хижина Черного Оленя, и забывает о плясках со своими подругами.
— Отлично! И девушка узнает звук боевого свистка моего брата и с радостью идет на свидание к вождю? Если, например, сегодня ночью Черный Олень позовет ее, встанет ли она со своей постели, чтобы идти на его зов?
— Она встанет, — коротко ответил вождь.
— Хорошо. Чего желает от меня вождь? Черная Птица ведь богат…
— Черный Олень даст шесть кобылиц, которые ни разу не надевали удил, два ожерелья из медвежьих когтей и четыре кожи белого бизона. Завтра мать вождя вручит их моему брату.
— Хорошо! Так, стало быть, сегодня ночью брат мой желает взять ту, которую он любит?
— Черный Олень страдает от долгой разлуки с ней. Со времени смерти возлюбленной жены его, Поющей Птички, хижина его пуста, и вождь одинок. Язык Лани будет готовить пищу вождю. Что думает об этом Чистое Сердце?
— Лошадь моя готова. Если мой брат пожелает, я последую за ним. Я вижу, что он желает этого.
— Чистое Сердце все знает, ничего не скроется от его проницательных глаз.
— Так поедем не теряя времени! Поедете вы с нами, Транкиль? Ведь надо иметь свидетелей, вы это знаете?
— С удовольствием, если мое присутствие не будет неприятно вождю.
— Напротив, белый охотник — великий храбрец. Я буду счастлив видеть его возле себя.
После этого три собеседника встали и вышли из хижины.
Эусебио поднял голову.
— Через час мы возвратимся, — сказал ему мимоходом Чистое Сердце.
Старый слуга на это ничего не ответил и снова лег.
Лошадь вождя стояла возле самого домика, он вскочил на нее и стал ждать своих товарищей, которые пошли за своими лошадьми в конюшню; через несколько минут они подъехали к нему.
Все трое тихо проехали по селению, улицы которого в этот поздний час ночи были совершенно пусты. Только одни собаки пробуждались при появлении всадников и с бешеным лаем бросались их лошадям под ноги. Как и все зимние стоянки индейцев, атепетль охранялся весьма тщательно. Многочисленные часовые были расставлены в разных пунктах селения и заботились о безопасности жителей. Но потому ли, что они узнали всадников, или по какой-либо другой причине, но часовые не окликнули их и пропустили мимо себя, точно не заметив вовсе. Когда всадники выехали из селения, Черный Олень, ехавший впереди своих товарищей, неожиданно повернул в сторону, и оба всадника, следуя за ним, тотчас же скрылись в густой чаще леса, так что с дороги их совершенно не стало видно. Стояла великолепная ночь. Небо было усеяно мириадами звезд, и луна разливала вокруг мягкий бледный свет. Чистота и прозрачность воздуха позволяли различать все предметы на большом расстоянии. Торжественное безмолвие царило над лесом, и легкий ветерок чуть заметно касался верхушек деревьев и как таинственный вздох проносился среди ветвей. Подъехав к опушке леса, Черный Олень поднес пальцы к губам и три раза крикнул вороном с таким мастерством, что оба охотника, оставшиеся позади, машинально подняли головы вверх, чтобы увидеть птицу, издавшую этот крик.
Через несколько минут ветерок донес откуда-то крик сизоворонки и замер вблизи от внимательно прислушивавшихся охотников. Черный Олень повторил свой сигнал. На этот раз к крику сизоворонки примешался крик ястреба.
Индеец вздрогнул и бросил взгляд в ту сторону, где скрывались его друзья.
— Приготовился ли мой брат? — сказал он.
— Я готов, — просто ответил Чистое Сердце, и почти тотчас же со стороны селения показались четверо всадников. Они быстро ехали в том направлении, где неподвижно стоял индейский вождь.
Всадником, скакавшим впереди всех, была женщина. Она заставляла свою лошадь мчаться прямо во весь опор, невзирая ни на какие препятствия, встречавшиеся ей на пути. За ней стрелой неслись еще три всадника. В этой ночной скачке среди величавой природы было что-то фантастическое.
Язык Лани — это была она — приблизившись к Черному Оленю, порывисто бросилась ему в объятия.
— Вот я! Вот я! — воскликнула она радостным, но сдавленным от волнения голосом.
Индеец с любовью прижал ее к своей широкой груди, выхватив из седла с той силой, которую дает страсть, дал своей лошади шпоры и помчался со своей возлюбленной по направлению к прерии. В этот момент к лесу подъехали остальные всадники, испуская гневные крики и потрясая оружием. Но навстречу им выехали два наши охотника; они решительно преградили им дорогу.
— Стойте, Черная Птица! — воскликнул Чистое Сердце. — Дочь ваша принадлежит моему брату. Черный Олень — великий вождь, его хижина увешана скальпами, он богат лошадьми, оружием и мехами. Язык Лани будет женой могущественного храброго вождя.
— Разве Черный Олень намеревается похитить мою дочь? — спросил Черная Птица.
— Он намерен сделать это, и мы, его друзья, защитим его! Ваша дочь должна принадлежать ему, он хочет этого. Невзирая на вас и на всех, кто захочет этому препятствовать, он возьмет ее в жены.
— О-о-а! — воскликнул индеец и, повернувшись к своим спутникам, добавил: — Мои братья слышали? Что они скажут на это?
— Мы слышали, — ответили краснокожие, — мы скажем, что Черный Олень действительно великий храбрец, и если он настолько силен, что может овладеть женщиной, которую любит, несмотря на препятствия со стороны ее отца и ее родных, то пусть она останется у него.
— Братья мои сказали хорошо, — начал снова Чистое Сердце. — Завтра я явлюсь в хижину Черной Птицы, чтобы рассчитаться с ним за дочь, которую вождь похитил у него.
— Хорошо! Я буду ждать завтра Чистое Сердце и его друга, воина с белым лицом, — сказал Черная Птица, кланяясь.
После этих слов трое всадников-индейцев повернули своих лошадей и возвратились в селение в сопровождении охотников. Что касается Черного Оленя, то он со своей добычей углубился в чащу леса, и никто не подумал его тревожить. Предварительные формальности команчской свадьбы были, таким образом, строго соблюдены как с той, так и с другой стороны.
Странное племя команчи! Индейцы этого племени любят, как могут любить только дикие звери. Воины их считают себя обязанными насильственным путем овладевать женщиной, к которой их влечет, вместо того, чтобы просто заручиться согласием на это со стороны ее родных. Эта черта характера обнаруживает присутствие в этом племени гордого и неукротимого духа.
Как Чистое Сердце и предупредил Эусебио, отсутствие его длилось не более часа.
Глава IX
СВАДЬБА
Когда оба всадника возвратились в хижину, Транкиль, повернувшись к Чистому Сердцу, спросил его:
— А теперь что вы будете делать?
— То же, что и вы, я полагаю, — ответил тот с улыбкой, — спать. Теперь уже около двух часов. — Но заметив озабоченный вид канадца, он спохватился. — Простите, мой друг, — сказал он ему, — я забыл, что вы предприняли эту длинную поездку сюда, вероятно, для того, чтобы сообщить мне о чем-то важном. Итак, если вы не чувствуете себя слишком утомленным, я разожгу огонь в жаровне, мы сядем возле нее, и я буду вас слушать. Мне вовсе не хочется спать, а теперь время вполне благоприятное для дружеской беседы.
Транкиль покачал головой.
— Благодарю вас за любезность, мой друг, — сказал он, — но поразмыслив, я предпочел отложить наш разговор до завтра. У меня нет серьезного повода, заставляющего меня говорить именно в настоящую минуту, и несколько лишних часов никоим образом не повлияют на события, которых я страшусь.
— Вам лучше знать, мой друг, как вести себя в этом случае. Повторяю вам — я весь к вашим услугам.
— Давайте спать, — ответил с улыбкой канадец. — Завтра, после нашего визита к Черной Птице, мы поговорим.
— Будь по-вашему, мой друг, я не настаиваю. Вот ваша постель, — добавил он, указав Транкилю на подстилку из звериных шкур.
— Редко приходилось мне в прерии иметь такую хорошую постель, — сказал Транкиль.
После этого оба улеглись рядом, положив оружие возле себя, так что стоило им только протянуть руку, чтобы взять его. Вскоре ровное дыхание охотников свидетельствовало о том, что они заснули.
За несколько минут до восхода солнца Чистое Сердце проснулся. Слабый свет проникал в хижину через окна, лишенные занавесок и ставней. Охотник встал, и в ту минуту, когда он намеревался разбудить своего товарища, тот открыл глаза.
— А-а! — воскликнул Чистое Сердце. — Вы спите чутко, мой друг.
— Это старая охотничья привычка, от которой трудно отвыкнуть, разве только если долго жить с вами.
— Что же вам мешает? Если бы это случилось, моя мать и я были бы очень счастливы.
— Не будем строить планов, мой друг. Вы знаете, что мы, лесные охотники, живем только настоящим, и было бы безумием с нашей стороны загадывать на будущее. Мы еще возвратимся к этому разговору, а теперь у нас, кажется, есть дело, не терпящее отлагательства. Нам предстоит выполнить поручение, данное нам Черным Оленем.
— Вы по-прежнему не отказываетесь помочь мне в этом? — спросил Чистое Сердце.
— Конечно! Вожди этого племени приняли меня со слишком большим радушием, чтобы я не захотел с радостью ухватиться за представившийся мне случай высказать им ту живую симпатию, которую я к ним чувствую.
— Если так, пойдемте за вашими товарищами. Вы с ними сядете на лошадей и будете ждать меня; через несколько минут я буду у тех хижин, где они разместились.
— Отлично, — сказал Транкиль.
Оба охотника вышли из домика.
Эусебио также уже покинул свой гамак и, вероятно, отправился хлопотать по хозяйству.
Пожав друг другу руку, охотники разошлись.
На дворе стало совсем светло, занавеси у хижин стали одна за другой подниматься, и индейские женщины начали выходить за водой и дровами, чтобы приготовить завтрак. Несколько небольших отрядов воинов отправилось из селения в разные стороны: кто ехал на охоту, а кто намеревался объехать лес с целью убедиться, что по соседству не было неприятельской засады.
В ту минуту, когда канадец поравнялся с хижиной совета, из нее вышел шаман — жрец этого индейского племени. Человек этот держал выдолбленную тыкву, наполненную водой, в которой торчал пучок полыни. Шаман взобрался на крышу хижины и повернулся к солнцу. В этот момент глашатай три раза крикнул:
— Солнце! Солнце! Солнце!
Тогда из всех хижин вышли воины. В руках у каждого них, так же как и у шамана, была тыква с пучком воткнутой в нее полыни. Шаман начал бормотать какие-то таинственные слова, которые понимал только он сам, после чего стал кропить пучком полыни на все четыре стороны. Все воины последовали его примеру, затем, по сигналу, данному шаманом, индейцы выплеснули содержимое своих тыкв по направлению к солнцу и закричали в один голос:
— Солнце — видимое изображение невидимого Владыки — защити нас в наступающий день, дай нам воду, воздух и огонь, потому что земля принадлежит нам и мы сумеем ее защитить.
По окончании этой высокомерной молитвы индейцы вошли в свои хижины, а шаман сошел с высокого поста, на котором он находился.
Транкиль, хорошо знавший индейские обычаи, остановился и в почтительной позе стал ждать конца церемонии. Когда шаман исчез в хижине совета, Транкиль продолжал свой путь. Обитатели селения уже смотрели на него, как на своего, женщины улыбались ему и мимоходом ласково приветствовали его, а дети с хохотом подскакивали к нему и кричали ему «здравствуй!» Когда Транкиль вошел в хижину, где были его товарищи, оказалось, что они еще спали. Он разбудил их.
— Э-э! — воскликнул весело Джон Дэвис. — Вы рано встаете, старина. Разве нам предстоит выступить в поход?
— Пока нет, — ответил канадец, — но мы должны сопровождать Чистое Сердце, который обязан выполнить одну церемонию.
— Ба-а! Какую же именно?
— Свадебную. Речь идет о свадьбе нашего друга Черного Оленя. Я рассудил, что дипломатичнее будет с нашей стороны, — с вашей в особенности, Джон Дэвис, — не отказываться от нашего содействия в этом деле. В ваших интересах, мне кажется, расположить индейцев в свою пользу.
— Конечно, by God! Но скажите мне, охотник, намекнули ли вы вашему другу о деле, которое привело нас сюда?
— Нет еще, и сделал я это по многим причинам; я решил ждать для этого более удобной минуты.
— Дело ваше, но только вам ведь известно, что надо торопиться.
— Знаю, положитесь на меня.
— О! Что касается этого, то я даю вам carte blanche [19]. Что мы должны делать теперь?
— Всего-навсего сесть на лошадей и ждать Чистое Сердце, который приедет за нами; ему поручено руководить церемонией.
— Пока что все это для нас не трудно, — со смехом сказал американец.
Через несколько минут охотники уже были на ногах; умывшись, они оседлали лошадей.
Не успели они сесть в седла, как странный шум от барабанного боя, визга дудок, ружейных выстрелов, собачьего лая и радостных кликов возвестил им о прибытии Чистого Сердца.
Молодой охотник приближался во главе большого кортежа индейских воинов, одетых в самые великолепные костюмы, выкрашенных и вооруженных, как для военных действий. Они гарцевали на прекрасных мустангах.
Кортеж остановился возле хижины.
— Ну что же, готовы ли вы? — спросил Чистое Сердце.
— Мы ждали вас, — ответил Транкиль.
— Так пойдемте.
Все пять охотников присоединились к своему другу и поехали с ним в ряд. Кортеж двинулся дальше.
Индейцы с живейшим удовольствием отнеслись к тому, что охотники-чужестранцы присоединились к ним. В особенности их радовала роль Транкиля и Чистого Сердца, принятая ими в церемонии. Это наполняло их гордостью и служило доказательством того, что белолицые не только не относятся с пренебрежением или равнодушием к их обычаям, но даже, напротив, чувствуют к команчам расположение.
Чистое Сердце тотчас же направился к хижине Черной Птицы.
Все семейство индейца молча и неподвижно сидело вокруг огня. На некотором отдалении от хижины Черная Птица, одетый в великолепный боевой костюм, сидел верхом на лошади. Его окружало несколько воинов, которые, судя по количеству висевших у них на пятках волчьих хвостов, были самыми знаменитыми героями этого племени. В тот момент, когда кортеж выехал на площадь селения, площадь эту пересек одинокий всадник мрачного вида и с горделивой осанкой; он направился к хижине совета.
Это был Голубая Лисица. При виде кортежа на губах его появилась загадочная улыбка. Он остановился, и команчские воины продефилировали перед ним.
— Берегитесь этого человека, — пробормотал Транкиль, наклонившись к уху Чистого Сердца. — Либо я сильно ошибаюсь, либо его поручение — приманка, скрывающая в себе какую-нибудь измену.
— Я тоже так думаю, — ответил охотник. — Этот мрачный человек таит в себе недоброе! Но совет уже предупрежден и наблюдает за каждым его шагом.
— Я давно знаю его, это — негодяй до мозга костей. Я, со своей стороны, не упущу его из виду.
— Но вот мы уже у цели нашей поездки. Займемся делом!
Чистое Сердце поднял руку, и при этом сигнале внезапно замолкла музыка (если только можно назвать музыкой те оглушительные и, вместе с тем, раздирающие душу звуки, которые издавали инструменты в неумелых руках индейцев). Тогда воины взяли свои боевые свистки и трижды пронзительно свистнули. В ответ на это раздался такой же свист со стороны отряда Черной Птицы. Кортеж остановился.
Между двумя группами всадников было пространство шириной метров в двадцать. Чистое Сердце, Транкиль и его спутники, размахивая оружием, двинулись вперед; навстречу им выехали Черная Птица и его воины. Проехав несколько шагов, те и другие всадники остановились. Чистое Сердце, вежливо раскланявшись, заговорил первым:
— Я вижу, что отец мой — великий вождь, — сказал он. — На голове его красуются священные перья, грудь его расписана воинскими знаками, многочисленные волчьи хвосты ниспадают с его пяток до земли. Отец мой, должно быть, знаменитейший воин команчей-антилоп. Пусть он скажет мне свое имя, чтобы я запомнил его как имя уважаемого в совете вождя и опасного в бою храброго воина.
Вождь гордо ухмыльнулся при этой открытой похвале, с достоинством наклонил голову и ответил:
— Мой сын молод, но мудрость живет в нем. Рука его сильна в боях и язык его не раздвоенный. Слава о нем дошла до моих ушей. Недаром братья мои зовут его Чистым Сердцем. Черная Птица счастлив видеть его. По какому поводу приехал Чистое Сердце к Черной Птице с таким большим кортежем и именно тогда, когда сердце вождя печально и ум его затуманило облако?
— Я знаю, — ответил Чистое Сердце, — что вождь печален, я знаю причину его горести. Я приехал с храбрыми воинами, сопровождающими меня, возвратить ему покой и сменить его печаль радостью.
— Пусть сын мой Чистое Сердце объяснится без промедления; он знает, что человек сердечный никогда не шутит с горем старика.
— Я знаю это. Мой отец богат, Владыка Жизни всегда смотрел на него милостивым оком. Семья его многочисленна, сыновья его — храбрые воины, его дочери скромны и красивы. Одна из них, может быть, самая красивая, и, конечно, самая любимая, была сегодня ночью похищена у Черной Птицы.
— Да, — сказал вождь, — команчский воин похитил дочь мою Язык Лани и убежал с ней в лес.
— Этот воин — Черный Олень.
— Черный Олень — один из самых великих вождей и мудрецов нашего племени, сердце мое лежало к нему. Зачем похитил он мое дитя?
— Потому, что Черный Олень любит Язык Лани. Великий храбрец всегда имеет право взять женщину, которая ему нравится, если он достаточно богат, чтобы заплатить за нее выкуп ее отцу. Черная Птица ничего не может возразить на это.
— Если действительно таково намерение Черного Оленя, если он мне предложит выкуп, который должен предложить такой воин, как он, такому вождю, как я, — я признаю, что он поступил благородно, что намерения его были чисты. Если же нет — я стану его неумолимым врагом. Этим он докажет, что злоупотребил моим доверием и обманул мои надежды.
— Пусть Черная Птица не торопится дурно судить о моем друге. Я уполномочен Черным Оленем заплатить выкуп за Язык Лани, — такой выкуп, какой мало кто из вождей имел до этих пор.
— Какой выкуп? Где он?
— У воинов, сопровождающих меня. Но прежде чем представить его моему отцу, я замечу ему, что он не пригласил меня сесть у своего очага и не выкурил со мной трубку мира.
— Мой сын сядет со мной у моего очага и я выкурю с ним трубку мира тогда, когда он исполнит возложенное на него поручение.
— Хорошо, отец мой будет доволен.
Чистое Сердце повернулся к своим провожатым, стоявшим во время этой церемонии, выполненной строго по этикету, молча и неподвижно, и поднял руку. От группы всадников тотчас же отделились несколько человек. Гарцуя и размахивая оружием, они стали позади Чистого Сердца.
— Выкуп! — сказал он им коротко.
— Одну минуту, — вдруг перебил его Черная Птица. — В чем состоит этот выкуп?
— Вы это увидите, — ответил Чистое Сердце.
— Я это знаю, но предпочитаю заранее иметь о нем представление.
—Зачем?
— О-о-а! Чтобы отказаться от него в случае, если он будет недостоин меня.
— Вам нечего опасаться этого.
— Очень возможно. Но я все-таки настаиваю на этом.
— Как вам будет угодно, — ответил Чистое Сердце.
Здесь мы должны познакомиться с дурной чертой характера индейцев. Краснокожие отличаются неслыханной жадностью и стяжательством. Богатство для них — все, но богатство не в том смысле, как мы привыкли его понимать, потому что они не знают цену золота, и этот металл, такой ценный в наших глазах, для них ничто. Зато меха, оружие и лошади составляют, с их точки зрения, богатство, которому они отлично знают цену. А потому мировые сделки белых с первобытными жителями Америки становятся с каждым днем все более затруднительными. Индейцы, видя, с какой горячностью купцы домогаются приобретения мехов, запрашивают за них такую высокую цену, что торговцы почти. лишены возможности покупать их. Отсюда и возникла та ненависть, которую краснокожие питают к белым охотникам, которых они, где только могут, убивают и скальпируют.
Черная Птица был старым индейцем, отличавшимся очень большой жадностью. Почтенный вождь решил, что с его стороны было бы очень благоразумно, прежде чем пойти на сделку, знать, на что он может рассчитывать и действительно ли он получит тот выкуп, который был ему обещан. Вот почему он так горячо настаивал на том, чтобы ему показали, из чего именно состоит предложенный ему выкуп.
Чистое Сердце, хорошо зная, с кем он имеет дело, нимало не смутился этой настойчивостью вождя. Он довольствовался тем, что приказал приблизиться тем воинам, которым был поручен выкуп. Те тотчас же повиновались. Этот выкуп, действительно великолепный, был уже давно подготовлен Черным Оленем. Он состоял из восьми кобылиц, одного боевого коня-трехлетка, мустанга с ногами, точно выточенными резцом художника и огненным взглядом великолепных глаз, четырех ружей, с двенадцатью зарядами каждое, и четырех шкур белых бизонов-самок, очень редких экземпляров и потому очень ценимых в прериях. По мере того как все эти разнообразные дары представлялись вождю, глаза его от радости ярко заблестели, и он делал сверхъестественные усилия над собой, чтобы сохранить самообладание, соответствующее данному случаю, и скрыть удовольствие, переполнявшее его сердце.
Когда все подарки были переданы вождю, он тотчас же отдал их под охрану своих родных и друзей, и Чистое Сердце начал снова говорить.
— Мой отец доволен? — спросил он вождя.
— О-о-а! — воскликнул старый индеец вне себя от радости. — Мой сын Черный Олень великий храбрец, он был прав, похитив Язык Лани! Он взял только свою собственность, потому что она по праву принадлежит ему.
— Засвидетельствует ли это мой отец?
— Сейчас же, — ответил вождь с живостью, — я засвидетельствую это перед всеми воинами, здесь присутствующими.
— Так пусть отец мой сделает это, чтобы все знали, что Черный Олень — не вор, что язык его не лжив и что если он будет уверять, что Язык Лани — его жена, то никто не будет иметь права сказать, что это неправда.
— Я это сделаю, — ответил Черная Птица.
— Хорошо! Последует ли мой отец за нами?
— Я последую за вами.
Черная Птица подъехал с правой стороны к Чистому Сердцу, и весь кортеж двинулся к ковчегу первого человека.
Глашатай ожидал кортеж у ковчега, держа в руках тотем племени. Возле тотема стоял шаман, а по обе его стороны стояли по два человека: это были выборные вожди племени.
— Что вам здесь нужно? — спросил шаман Чистое Сердце, когда тот вместе со своим кортежем остановился в двух шагах от него.
— Мы хотим правосудия, — ответил охотник.
— Говорите. Мы рассудим вас, каковы бы ни были последствия этого, — ответил шаман. — Только подумайте, прежде чем начать говорить, чтобы потом не раскаиваться в поспешности.
— Мы можем раскаяться только в том, что поздно явились к вам.
— Уши мои открыты.
— Мы желаем, чтобы была отдана справедливость одному воину, репутацию которого пытались очернить.
— Кто этот воин?
— Черный Олень.
— Храбрый ли он человек?
— Он очень храбрый человек.
— Что сделал он?
— Сегодня ночью он похитил Язык Лани — дочь Черной Птицы, здесь присутствующего.
— Хорошо! Заплатил ли он хороший выкуп?
— Пусть Черная Птица ответит на этот вопрос.
— Да, — сказал старик-вождь, — я отвечу. Черный Олень — великий воин, он заплатил хороший выкуп.
— Итак, — сказал шаман, — мой сын удовлетворен?
— Я удовлетворен.
Наступило минутное молчание. Шаман шепотом советовался с теми вождями, которые были, так сказать, его ассистентами. Наконец он снова заговорил громким голосом.
— Черный Олень — великий воин. Я — мудрец вашего племени — объявляю вам, что он только воспользовался правом всех славных воинов брать добычу всюду, где бы они ни нашли ее. С этой минуты Язык Лани — жена Черного Оленя. Она будет готовить ему обед, чистить его оружие, носить его поклажу и ходить за его лошадьми. Тот, кто скажет, что это не так, солжет! Черный Олень имеет право отвести Язык Лани в свою хижину, и никто не смеет этому препятствовать. Если она изменит ему, он может безнаказанно отрезать ей нос и уши. Черная Птица даст две белых шкуры бизона, чтобы повесить их в великую священную хижину.
При этом последнем заявлении, хотя и ожидаемом, потому что все здесь было строго выполнено по правилам свадебного этикета, Черная Птица состроил ужасную гримасу. Ему тяжело было расставаться с двумя из тех бизоньих шкур, которые он получил всего за несколько минут до этого. Но ему на выручку пришел Чистое Сердце, и его вмешательство в дело вновь вызвало улыбку на губах вождя.
— Черный Олень, — сказал Чистое Сердце громким голосом, — любит Язык Лани и желает все заплатить за нее сам. Он пожертвует Владыке Жизни не две, а целых четыре шкуры белого бизона.
Сказав это, Чистое Сердце сделал знак, и один из сопровождавших его воинов приблизился. На шее его лошади висели бизоньи шкуры; молодой охотник взял их и передал шаману.
— Пусть мой отец примет эти шкуры, — сказал он при этом. — Он сумеет употребить их так, как будет всего угоднее Владыке Жизни.
Эта необычайная щедрость вызвала среди присутствующих громкие крики одобрения. Музыкальные инструменты снова огласили воздух ужасными дикими звуками, и кортеж двинулся в обратный путь, к хижине Черной Птицы.
Старик-вождь знал как нельзя лучше, что он должен делать теперь, а потому, несмотря на свою жадность, он решил соблюсти необходимые формальности. Как только кортеж остановился у его хижины, он сказал:
— Братья мои и друзья мои, почтите своим присутствием свадебный пир. Я буду счастлив видеть вас своими гостями. Скоро, я уверен, появится мой сын Черный Олень.
Не успел индеец произнести эти слова, как послышался шум, толпа колыхнулась, и вдали показался всадник, скакавший во весь опор. Всадник держал в своих объятиях женщину, сидевшую впереди. Рядом с ним бежала в поводу не оседланная кобылица. При виде этого всадника крики радости удвоились. Каждый узнал в нем Черного Оленя.
Это был действительно Черный Олень, который приехал, чтобы выполнить последний необходимый свадебный обряд. Приблизившись к хижине, он, не говоря ни слова, соскочил на землю, потом вынул из ножен нож, который служил ему для скальпирования, и вонзил его в шею кобылицы.
Несчастное животное жалобно заржало, затряслось всем телом и повалилось на землю. Тогда вождь перевернул кобылицу на спину, вскрыл ей грудь и, вырвав трепетавшее еще сердце, мазнул им по лбу Языка Лани, причем произнес звучным голосом следующие слова:
— Эта женщина — моя, горе тому, кто ее тронет!
— Я принадлежу ему, — сказала тогда молодая женщина.
Официальная сторона церемонии была этим последним обрядом закончена. Черный Олень и Язык Лани были соединены узами брака по обряду команчей. После этого все воины сошли с лошадей, и началось пиршество.
Белые, не испытывая особого желания принять участие в индейском обеде, состоявшем, главным образом, из собачьего мяса, кипяченого молока и конины, стали в стороне и намеревались незаметно уйти. Но, к несчастью, за ними следили Черная Птица и Черный Олень. Они не позволили им ретироваться, и потому охотники волей-неволей должны были сесть и участвовать в банкете, делая вид, что они едят с удовольствием. Пиршество продолжалось добрую половину дня. Команчи не пьют крепких напитков, это правда, а потому и не могут опьянеть, но, как и все индейцы, они необыкновенно прожорливы и едят до тех пор, пока уже больше есть не в силах, и потому охотникам стоило большого труда отказываться от всех кушаний, которые были им предложены. Но, хорошо зная обычаи индейцев, они все же сумели не дотронуться до большинства блюд, не оскорбив при этом своих хозяев. В ту минуту, когда Чистое Сердце и Транкиль наконец встали и намеревались уйти, к ним подошел Черный Олень.
— Куда идут братья мои? — спросил он их.
— В мою хижину, — ответил Чистое Сердце.
— Хорошо! Черный Олень скоро последует за ними. Он должен говорить со своими братьями об очень важном деле.
— Пусть брат мой останется со своими друзьями, мы можем все обсудить и завтра, — сказал на это Чистое Сердце.
Вождь нахмурил брови.
— Пусть брат мой Чистое Сердце будет осторожен. Я должен сообщить ему о деле большой важности.
Молодого охотника невольно поразил мрачный вид вождя, он взглянул на него с беспокойством.
— Что с вами? — спросил он его.
— Мой брат узнает это через час.
— Так приходите, вождь, я буду ждать вас в моей хижине.
— Черный Олень придет.
Вождь приложил указательный палец к губам в знак молчания, и охотники удалились, погруженные в глубокую задумчивость.
Глава Х
ВОСКРЕСЕНИЕ
Мы поставлены перед необходимостью сделать отступление и возвратиться к одному из главных лиц нашего рассказа, о котором уже давно не говорили: мы поведем речь о Белом Охотнике За Скальпами. Читатели, без сомнения, помнят ту страшную битву, которая произошла между Транкилем и Белым Охотником За Скальпами на палубе брига и продолжалась в море, среди волн, куда был сброшен жестокий старик.
Квониам слишком поторопился сообщить канадцу о смерти врага, правдой была только глубокая убежденность негра в том, что тот действительно погиб. Кинжал Квониама вонзился глубоко в грудь старика. Рана была так опасна, что Охотник За Скальпами мгновенно перестал оказывать сопротивление; глаза его закрылись, он отпустил врага, за которого до этого времени судорожно цеплялся, и поплыл, качаясь, по волнам. Негр, полумертвый от усталости, поспешил подняться на корабль, пребывая в полной уверенности, что враг его погиб.
Тем не менее это было не так. Охотник За Скальпами только лишился чувств, и его безжизненное тело подобрали матросы с мексиканского судна. Но когда лодка пристала к берегу, спасители увидели страшные раны, покрывавшие тело несчастного, его неподвижность и мертвенную бледность и, также сочтя его мертвым, не заботясь о нем более, его снова бросили в воду.
К счастью для Охотника За Скальпами экипаж лодки пришел к этому решению, когда лодка уже причаливала, поэтому тело его, поддерживаемое волнами, было тихо выброшено на мель и почти целиком оставалось в воде, в то время как голова и верхняя часть груди удерживались на поверхности. Были ли тому причиной свежий ночной воздух или движение волн, покачивающих тело Охотника За Скальпами, но через час старик слегка пошевелился; легкий вздох приподнял его могучую грудь, и несколько неуверенных движений при попытке переменить положение явно показали, что сильный организм раненого все еще боролся со смертью.
Наконец старик открыл глаза. Непроницаемый мрак ночи словно окутывал его черным саваном. Усталость и страшная потеря крови от многочисленных ран вызывали общую слабость, как физическую, так и нравственную, настолько сильную, что Охотник За Скальпами не мог дать себе отчет ни о том, где он находился в настоящую минуту, ни об обстоятельствах, которые привели его сюда. Напрасно старался он привести в порядок свои мысли и собрать в единое целое отрывочные воспоминания, — испытанное им потрясение было слишком велико; несмотря на все попытки, он не мог связать обрывочных нитей своих мыслей.
Он осознавал, что лежит раненый и одинокий на берегу моря, понимал весь ужас своего положения, но ничто не могло подсказать ему путь к спасению.
Старик негодовал на себя за бессилие, сердился, что не мог сделать решительно ничего, чтобы помочь самому себе. Действительно, он испытывал полную беспомощность и был не в силах отодвинуться хотя бы на несколько сантиметров от бездны, на краю которой лежал и которая неминуемо должна была поглотить его, если слабость пересилит его волю и самообладание изменит ему окончательно.
В эти минуты на пустынном берегу моря происходила ужасная душевная драма, отчаянная борьба полуживого человека со смертью, постепенно простирающей над ним свою тяжелую руку.
Малейшее движение причиняло Охотнику За Скальпами невероятные мучения, частью по причине ран, в которые набился морской песок и гравий, частью потому, что он сознавал, что его усилия не приведут ни к чему и что, если чудо не придет к нему на помощь, он неминуемо погибнет.
Чудо, на которое несчастный не надеялся и даже мысль о котором не могла прийти ему в голову, совершилось по воле Провидения, пути которого недоступны нашему пониманию. Оно часто спасает виновного, как будто только затем, чтобы подвергнуть его еще большему наказанию; такому чуду суждено было совершиться в тот момент, когда, потеряв последние остатки энергии, раненый упал на песок, решив ждать неминуемой смерти.
Маленькие отряды вольных стрелков-техасцев рассыпались по морскому берегу, наблюдая за движениями мексиканских крейсеров. В случае необходимости они могли соединиться в один большой отряд в самое короткое время.
Судьбе было угодно, чтобы Охотник За Скальпами был выброшен в море и прибит волнами к берегу вблизи дома, где в эту ночь, ввиду намечавшихся важных событий, собрались на совещание главные вожди техасской армии. Само собой разумеется, эта часть берега тщательно охранялась, и многочисленные патрули ходили вблизи того места, где стоял домик, чтобы обеспечить своим командирам безопасность. Один из таких патрулей видел, как причалила мексиканская шлюпка. Его приближение заставило мексиканцев удалиться, так как они вовсе не имели намерения схватиться с неприятелем, о силе и численности которого ничего не знали.
Когда шлюпка снова вышла в открытое море, техасцы принялись осматривать весь берег, желая убедиться, что все неприятели ушли, не оставив никого.
Тот, кто первым заметил Охотника За Скальпами, позвал своих товарищей, и вскоре раненого окружили человек двадцать. В первую минуту его сочли мертвым. Охотник За Скальпами слышал все, что говорили вокруг, но не мог ни пошевельнуться, ни произнести ни слова. На секунду его охватил ужасный страх. Это произошло, когда один вольный стрелок, нагнувшись и внимательно осмотрев его, сказал беспечно:
— Несчастный умер, нам остается только вырыть в песке яму и положить его туда, чтобы чайки и коршуны не расклевали труп. Пусть кто-нибудь принесет самые большие камни, которые только сможет найти, а мы тем временем выроем ножами яму, на это понадобится не много времени.
При таких словах, произнесенных совершенно спокойным и равнодушным тоном, будто речь идет о самой естественной вещи в мире, у Охотника За Скальпами выступил на лбу холодный пот и дрожь прошла по всему телу. Он сделал невероятное усилие, чтобы заговорить, но попытка не привела ни к чему: он находился в том состоянии оцепенения, когда сознание остается совершенно ясным, в то время как тело представляет собой всего лишь безжизненную и бесчувственную массу.
— Стойте, — сказал один из стрелков, жестом задерживая тех, кто намеревался отправиться за камнями, — не будем торопиться. Этот человек создан по образу и подобию Божию, и хотя он и в очень жалком состоянии, но, может быть, в нем еще таится искра жизни. Мы всегда успеем его зарыть, если убедимся, что он действительно умер, но прежде надо убедиться, что помочь ничем нельзя.
Эти слова были для раненого целительным бальзамом. К несчастью, он и в этот раз был не в состоянии выразить свою радость, как за минуту до того не мог обнаружить своего ужаса.
— Ба-а! — возразил первый из говоривших. — Если послушать отца Антонио, то все мертвые превратились бы в раненых, и он вынудил бы нас терять драгоценное время на приведение их в чувство. Впрочем, нам спешить некуда, и я ничего не имею против того, чтобы попробовать оживить. этого человека, хотя, по-моему, он мертв.
— Не беда! — сказал на это отец Антонио. — Все-таки попытаемся.
— Попробуем, пусть будет по-вашему! — сказал другой, пожимая плечами.
— Прежде всего давайте вытащим его отсюда. Когда он будет на суше, то не будет риска, что его снова унесет волной, а потом уж увидим, что надо делать, — сказал отец Антонио.
Четверо людей подняли раненого и осторожно перенесли его на берег, на сухое место, находившееся метрах в двадцати от моря, где морские волны не могли до него достать. После этого почтенный монах достал бутылку рома, откупорил ее и, распорядившись, чтобы присутствующие растерли ромом виски и кисти рук раненого, силой разжав лезвием кинжала челюсти старика, влил ему в рот добрый стаканчик рому. Результаты этого лечения не замедлили обнаружиться. Через несколько секунд раненый сделал легкое движение, приоткрыл глаза и облегченно вздохнул.
— Э-э! — воскликнул со смехом отец Антонио. — Что вы на это скажете, дон Руперто? Кажется, ваш мертвый воскресает!
— Правда! — ответил тот, также смеясь. — Этот человек может похвалиться тем, что душа крепко сидит в его теле. Если он действительно возвратится к жизни, хотя я за это не отвечаю, то может сказать, что вернулся с того света.
Тем временем вольные стрелки продолжали втирать ром все с тем же рвением, и правильная циркуляция крови в организме раненого была наконец восстановлена. Взгляд Охотника За Скальпами перестал быть стеклянным, лицо его постепенно теряло свою окаменелость, вскоре на нем отразилось удовольствие.
— Вы себя лучше чувствуете? — спросил его монах с участием.
— Да, — ответил тот, хотя и слабым голосом, но совершенно ясно.
— Тем лучше! С Божьей помощью мы вас поставим на ноги.
Благодаря странной случайности монах все еще не узнавал человека, которому он сам был обязан жизнью несколько месяцев тому назад.
Раны больного были промыты смесью воды с ромом, очищены от приставших песка и гравия, к ним приложили растертые листья орегано [20], этого великолепного целителя всяких ран, после чего тщательно перевязали.
— Так! — сказал монах с удовлетворением. — Теперь мы все кончили. Я прикажу перенести вас в такое место, где вам будет лучше, чем здесь, и вы отдохнете после испытанного потрясения.
— Делайте со мной что хотите, — с благодарностью сказал раненый. — Я слишком многим вам обязан, чтобы протестовать против ваших действий.
— Тем более, — возразил, смеясь, Руперто, — что это было бы совершенно бесполезно. Почтенный отец взялся вылечить вас, и вы волей или неволей должны подчиниться его предписаниям.
По знаку отца Антонио четверо людей подняли раненого и перенесли его в дом, где собрались командиры.
Это был именно тот раненый, которого полковник Мелендес видел, когда случай привел его к дому, стоявшему на берегу моря, и где он в течение нескольких минут стоял, прислушиваясь к тому, что происходит внутри.
Дом этот принадлежал богатому техасскому асиендадо [21], сочувствующему повстанцам. Тот был счастлив, что мог отдать свой дом в распоряжение инсургентов, хотя дом и был выстроен в прежнее время, чтобы служить местом для развлечений. Это было просторное красивое жилище, снабженное не только всем необходимым для жизни, но и множеством предметов роскоши и безделушками, придающими обстановке уют, так необходимый богатым людям, в силу их привычки к благам цивилизации.
Техасцы не были довольны, что отец Антонио, никого не спросясь, взваливал на них заботу о незнакомом раненом. Но когда они увидели, в каком жалком состоянии тот находится, то больше не возражали и предоставили монаху разместить того как ему вздумается.
Отец Антонио, не дожидаясь повторения разрешения, перенес больного в большую комнату, гае было много воздуха и окно выходило на море. Охотник За Скальпами оказался, таким образом, размещен в наилучших условиях.
Как только раненого положили в постель, устроенную специально для него (так как в этом тропическом климате жители имеют обыкновение спать на циновках или же в гамаках, а не в постелях), монах дал больному выпить наркотического питья, и тот заснул почти мгновенно спокойным укрепляющим сном.
Ночь прошла без дальнейших приключений; раненый спал восемь часов подряд и, когда проснулся, уже не был прежним больным — настолько чувствовал он себя крепче и свежее после отдыха.
Прошло несколько дней. Отец Антонио продолжал внимательно и заботливо ухаживать за больным. Хотя в первые минуты монах и в самом деле не узнал в тяжелораненом Белого Охотника За Скальпами, заблуждение его было очень непродолжительным. Рассмотрев при дневном свете больного, в наружности которого было нечто особенное, монах тотчас же узнал охотника, которого одинаково боялись как краснокожие, так и сами белые, и которому он был обязан спасением при таких необыкновенных обстоятельствах. При этом открытии монах почувствовал себя счастливым и мысленно возблагодарил судьбу за то, что она дала возможность расквитаться с этим человеком.
Но больной или действительно забыл монаха, или делал вид, что забыл. Он ничем не обнаружил, что узнал его. А потому тот продолжал ухаживать за раненым, не позволяя себе ни одного намека на прошлое.
До сражения при Серро-Пардо не произошло никаких перемен. Утром этого дня отец Антонио по обыкновению вошел в комнату больного. Последний быстро поправлялся благодаря листьям удивительного растения. Раны старика почти совсем зажили, он был накануне полного выздоровления.
— Compadre, — сказал ему монах, — я сделал для вас все, что в моих силах, и вы можете отдать мне справедливость, я ухаживал за вами, как брат.
— Мне остается только благодарить вас, — ответил раненый, протягивая монаху руку.
— Но сегодня, — сказал отец Антонио, пожимая руку больного, — я должен сообщить вам плохую новость.
— Плохую новость? — переспросил тот с удивлением.
— Впрочем, новость эта может еще оказаться хорошей, хотя, сказать откровенно, я в это не верю, так как не жду ничего хорошего от того, что мы намерены сделать.
— Признаюсь, я вас совсем не понимаю и убедительно прошу говорить яснее.
— Вы правы! Вам, в сущности, ничего не известно. В двух словах: армия получила сегодня утром приказание выступить в поход.
— Так что?.. — спросил раненый.
— Так что, — продолжал монах с лукавой улыбкой, — я, к крайнему моему сожалению, вынужден оставить вас здесь.
— Гм! — пробормотал больной с некоторым опасением.
— В случае, если мы побьем мексиканцев, — продолжал монах, — на что я не смею надеяться, — вы меня непременно увидите снова.
Больного, по-видимому, стала все более и более тревожить открывавшаяся перспектива.
— И вы пришли сюда только для того, чтобы сообщить мне об этом? — спросил он.
— Нет, — ответил монах, — я хочу сделать вам одно предложение.
— Какое? — спросил тот с живостью.
— Выслушайте меня. Я нашел вас в положении, которое смело можно назвать отчаянным.
— Это правда!
— Хотя говорят, — продолжал отец Антонио, — что вы получили раны в борьбе против нас, и хотя кое-кто из наших — тех, кто прибыл сюда за эти два дня — уверяют даже, что могут засвидетельствовать этот факт, я не захотел поверить их словам. Не знаю почему, но с тех пор как я стал ухаживать за вами, я вами заинтересовался и не хочу, чтобы вашему успешному выздоровлению повредило что бы то ни было. Вот что я вам предложу: приблизительно в ста милях отсюда находится лагерь белых, у которых некоторое время назад я пользовался большим авторитетом. Льщу себя надеждой, что они еще не совсем забыли обо мне и что кто бы ни пришел к ним от моего имени, будет принят ими радушно. Хотите отправиться туда? Можно попытаться это сделать.
— Но могу ли я при таком упадке сил предпринять такое путешествие?
— Об этом не беспокойтесь. Четверо людей, преданных мне, отвезут вас к моим бывшим друзьям.
— О, если так, — воскликнул с живостью Охотник За Скальпами, — я с радостью принимаю ваше предложение. Даже если мне суждено погибнуть по дороге, я скорее соглашусь на это, чем останусь здесь один.
— Надеюсь, вы не погибнете, а, наоборот, приедете туда целым и невредимым. Итак, решено? Вы согласны?
— С удовольствием! Когда мы поедем?
— Сейчас! Нельзя терять ни минуты.
— Хорошо! Можете отдать необходимые распоряжения, я готов.
— Я должен только предупредить, что друзья, к которым вас посылаю, крутого нрава, им нельзя читать длинных и строгих нравоучений о нравственных принципах.
— Какое мне до этого дело! Даже если бы это были степные разбойники, то, клянусь вам, и тогда не обратил бы внимания на это!
— Браво! Я вижу, мы понимаем друг друга. Эти почтенные господа, кажется, занимаются всеми ремеслами понемногу.
— Хорошо, хорошо, — возразил весело Охотник За Скальпами, — не беспокойтесь об этом.
— В таком случае готовьтесь в путь, я вернусь не позже, чем через десять минут.
С этими словами монах вышел. Старик, у которого оставалось совсем мало времени, тотчас же начал собираться.
Не прошло и десяти минут, как монах возвратился. Его сопровождали четверо людей, в числе которых был Руперто, который, как мы помним, придерживался того мнения, что раненого следовало закопать в землю.
Больной был еще настолько слаб, что не мог ни идти, ни ехать верхом, а потому монах приказал сделать для него нечто вроде носилок, которые были привязаны к двум мулам. Такой способ передвижения был для больного крайне неудобен, особенно учитывая характер той местности, через которую ему предстояло проследовать, к тому же он казался очень медленным, но в ту минуту это был единственный подходящий из всех возможных способов передвижения. Потому приходилось, скрепя сердце, довольствоваться им.
Раненого перенесли на носилки и уложили насколько возможно удобнее.
— Теперь, — сказал ему монах, — пусть Бог сопутствует вам! Не беспокойтесь ни о чем. Я дал Руперто необходимые наставления и знаю его достаточно, чтобы быть уверенным, что он не покинет вас ни в коем случае, а потому вы можете довериться ему. Прощайте! — И пожав больному руку, отец Антонио уже повернулся, чтобы уйти.
— Еще минуту! — воскликнул старик, задерживая руку монаха в своей. — Я хочу вам сказать только одно слово.
— Говорите, но будьте кратки: у меня серьезные основания желать вашего немедленного отъезда. Сюда через некоторое время прибудут раненые, которые до сих пор оставались в крепости, и встреча с ними, вероятно, не доставит вам ни малейшего удовольствия.
— Мне кажется, я понимаю, что вы хотите сказать и на что именно намекаете, но теперь речь не об этом. Не знаю, встречусь ли я с вами вновь когда-нибудь, но прежде, чем расстаться, хочу высказать свою признательность за все, что вы сделали для меня, тем более что я убежден в том, что меня узнали.
— Ну, а если даже и так?
— Вам стоило только сказать слово, чтобы выдать меня моим беспощадным врагам, и вы не захотели сказать этого слова.
— Конечно нет, потому что, догадываясь, что я вас действительно узнал, вы поймете, что я только расквитался с вами, потому что считал себя у вас в долгу.
По лицу старика прошла судорога, глаза его увлажнились, он с горячностью сжал руку монаха и ответил растроганно:
— Спасибо! Это доброе дело не пропадет даром; события последних дней изменили мой взгляд на многое. Вы никогда не раскаетесь в том, что спасли мне жизнь.
— Надеюсь, но уезжайте, уезжайте, ради Бога!
— До свидания!
— Quien sabe! [22] — пробормотал монах, сделав проводникам знак двинуться в путь.
Те погнали мулов, и носилки тронулись.
Через час путешественники встретили крытую повозку, в которой был Транкиль. Но путники не видели друг друга.
Монах ничего не преувеличивал в своей оценке Руперто: этот славный искатель приключений заботливо ухаживал за больным и старался всячески избавить его от неудобств, которыми изобиловало путешествие.
К несчастью, маленькому каравану приходилось с неслыханными затруднениями проходить по отвратительным дорогам, и несмотря на принятые предосторожности раненый сильно страдал от постоянных толчков. Чтобы не утомлять больного, Руперто решил передвигаться только ночью и утром, пока солнце не разливало вокруг своего палящего зноя. Путешествие длилось пятнадцать дней. Местность становилась все более и более дикой, приближались девственные леса, и судя по тому, что почва постепенно поднималась, нетрудно было угадать, что недалеко находятся горы.
Однажды вечером путешественники разбили лагерь на берегу довольно быстрой реки, одного из неизвестных притоков Арканзаса. Охотник За Скальпами, который к этому времени в значительной степени поправился, несмотря на трудности путешествия и испытанные в дороге лишения, поинтересовался у своего проводника, сколько времени еще должно продлиться их путешествие. Этот вопрос он до сих пор еще ни разу не задавал.
Руперто еле заметно улыбнулся.
— Наше путешествие уже кончилось четыре дня тому назад, — сказал он.
— Что вы этим хотите сказать? — воскликнул Охотник За Скальпами вне себя от удивления.
— Люди, которых мы увидим, — сказал авантюрист, — не любят принимать гостей, даже старых друзей, без того, чтобы их об этом не предупредили заранее; сюрпризы им не нравятся. Чтобы избежать неприятностей, я избрал единственный способ, имевшийся в моем распоряжении.
— Какой же это способ?
— О, очень простой. Взгляните на наш лагерь. Разве в прерии так охраняются стоянки? Вместо того, чтобы расположиться на возвышенности, мы находимся у водопоя диких зверей, а дым от наших костров виден на большом расстоянии. Разве все эти факты неблагоразумия и неосторожности не говорят за себя?
— А-а! Вы хотите, чтобы ваши друзья вас увидели?
— Именно так! Таким образом мы узнаем друг о друге без единого выстрела. Вот, взгляните туда, если я не ошибаюсь, гости уже идут к нам!
Действительно, в эту минуту рядом раздвинулись густые ветви, и несколько человек ринулись к лагерю, держа топоры и ружья наготове.
Глава ХI
СТЕПНЫЕ РАЗБОЙНИКИ
При внезапном появлении незнакомцев Белый Охотник За Скальпами вздрогнул, но затем достаточно овладел собой, чтобы сохранить внешнее хладнокровие и ту невозмутимость, которой гордятся краснокожие и лесные охотники. Он не переменил своей непринужденной позы и сделал вид, что не обратил особого внимания на вновь прибывших, хотя на самом деле одним быстрым взглядом тщательно оглядел их. Их было по меньшей мере двадцать человек. Высыпав со всех сторон из кустов, они мгновенно окружили путешественников. Большей частью эти люди были одеты в костюм североамериканских охотников, на голове носили шапку из лисьей шкуры. Все они были крепкого сложения и свирепого вида, не внушающего доверия кому бы то ни было; они были вооружены с головы до ног не только саблями и ружьями, но и ножами для снятия скальпов, а также томагавками.
Человеку, по-видимому командовавшему этими людьми, можно было дать лет тридцать пять. Он был высокого роста, пропорционально сложен. Высокий лоб, черные глаза, прямой нос и большой рот делали лицо его красивым и, на первый взгляд, привлекательным, но присмотревшись, вы бы обнаружили, что его хитрые глаза косили и сардоническая улыбка то и дело пробегала по тонким и бледным губам. Лицо незнакомца обрамляли крупные завитки черных густых волос, в беспорядке падавших ему на плечи, перемешиваясь с всклокоченной бородой, в которой уже начинала местами пробиваться седина — следствие утомительной кочевой жизни ее владельца.
Четверо техасских искателей приключений не сделали ни одного движения. Командир незнакомцев с минуту рассматривал их, опершись обеими руками на свое ружье, потом характерным движением откинул волосы назад и обратился к Руперто.
— Э-э! Compadre, — сказал он ему, — вы здесь? Какой добрый ветер занес вас в наши края?
— Желание видеть вас, compadre, — ответил тот беспечно, высекая огонь из кремня с намерением закурить сигаретку, которую он только что скрутил.
— Ба-а! Только это? — спросил незнакомец.
— Что же еще, Сандоваль?
— Кто знает?! — сказал тот, покачав головой. — Мало ли что бывает в жизни!
— На этот раз вы ошибаетесь: меня заставляют посетить вас отнюдь не неприятности.
— Тогда это еще более странно. Вы пришли лишь по собственному побуждению, и ничто вас не заставляло сделать это?
— Я этого не говорю! Посещение мое, конечно, имеет свою причину, но только эта причина не из тех, о которых вы предполагаете.
— Canarios! [23] Я очень рад, что оказался не так далек от истины, как думалось сначала.
— Тем лучше.
— Но почему же, если вы хотели видеть меня, как вы говорите, то не пришли прямо в мой лагерь.
Руперто рассмеялся.
— Нечего сказать, такая мысль действительно была бы великолепна, если бы я желал, чтобы нас встретили градом крупной дроби. Я предпочел поступать так, как поступил.
— Вот уже три дня мы вас выслеживаем.
— Почему же вы не показались нам раньше?
— Я не был уверен в том, что это именно вы.
— Что же, может быть, это и так. Не хотите ли присесть?
— Зачем? Теперь, когда мы узнали друг друга, я надеюсь, вы придете в лагерь?
— Я не смел сделать вам этого предложения: вы видите, мы не одни, я привез с собой незнакомца.
— Что же из этого? Если вы за него отвечаете…
— Телом и душой!
— В таком случае, друзья наших друзей — наши друзья и имеют право на наше внимание.
— Благодарю вас, сеньор, — ответил Охотник За Скальпами, кланяясь, — я надеюсь, вы не будете иметь причины раскаяться в предложенном мне гостеприимстве.
— Общество, в котором я встретил вас, служит мне отличным ручательством за это, сеньор, — возразил авантюрист с любезной улыбкой.
— Разве вы собираетесь отвести нас в лагерь уже сегодня? — спросил Руперто.
— Почему бы нет? Мы находимся от него на расстоянии всего пятнадцати миль.
— Правда, но этот кабальеро ранен, и такой большой переезд после утомительного дня…
— О, я отлично себя чувствую, клянусь вам! Силы мои почти совсем восстановились. Мне кажется, я в случае необходимости могу даже держаться на лошади. Пожалуйста, не стесняйтесь из-за меня, прошу вас, — сказал старик.
— Хорошо сказано! — произнес Сандоваль. — А впрочем, я берусь вести вас по такой дороге, которая сократит наш путь почти наполовину.
Таким образом, все было улажено. Лошадей оседлали, и маленький караван снова тронулся в путь.
Незнакомцы шли пешком. Охотник За Скальпами не пожелал лечь в носилки, он даже настоял на том, чтобы о нем перестали заботиться, уверяя, что это вовсе не требуется. Срезав довольно длинную палку, он сделал из нее посох и пошел рядом с Сандовалем, который бросил на него при этом одобрительный взгляд.
Как мы уже упоминали, Сандоваль был главарем людей, так неожиданно ворвавшихся в лагерь техасцев. Это были степные разбойники.
В одной из предыдущих наших повестей мы объясняли, что такое степные разбойники. Но так как, по всей вероятности, не все мои читатели знакомы с книгой, на которую я ссылаюсь, то я насколько возможно короче объясню, что это за люди — степные разбойники.
В Соединенных Штатах чаще чем где бы то ни было встречаются люди, которые, за отсутствием каких бы то ни было нравственных принципов и семейных связей, без всякого принуждения с чьей-либо стороны, дают волю своим пагубным страстям. Эти люди развращены ленью и уверены в том, что все, что они сделают, пройдет безнаказанно в стране, где полиция бессильна защитить честных обывателей от насилия и не может применять законы во всей строгости. Постепенно они опускаются все ниже и ниже и доходят до возмутительных преступлений, совершаемых почти средь бела дня, на глазах у всех, что никого не удивляет в стране, где господствует только одно право — право сильного. Все это продолжается до тех пор, пока подобные люди не подвергнутся всеобщему осуждению и негодование публики не возьмет верх над страхом перед негодяями. Тогда они оказываются поставленными перед необходимостью бежать из города в город, чтобы спастись от суда Линча. Затравленные всеми, даже их собственными сообщниками, как дикие звери, они все более и более приближаются к границе индейских территорий и кончают тем, что переходят ее, осужденные жить или умереть в пустыне. Но и там им все враждебно: белые трапперы, лесные охотники, воинственные племена краснокожих, дикие звери — все против них, а потому им приходится ежедневно, ежечасно бороться, защищая свою жизнь. Но перед ними открыты неизмеримые пространства прерий, девственные леса и горы, и благодаря этому они имеют возможность продолжать борьбу.
Эти подонки общества смело вступают в подобную жизнь и даже гордятся внушаемой ими ненавистью и отвращением. Приняв безжалостный закон прерий — око за око, зуб за зуб, они становятся крайне опасными из-за своей численности, и во всех случаях платят своим врагам злом за зло. Горе индейцам и охотникам, отважившимся охотиться в одиночестве в прериях: разбойники убивают их без всякой пощады. Караваны переселенцев также подвергаются их нападениям и уничтожаются с утонченной, варварской жестокостью. Некоторые из этих отщепенцев, сохранив еще остаток стыда, меняют костюм белых охотников на одежду краснокожих, с тайной мыслью заставить ограбленных думать, что они подверглись нападению индейцев; при этом те же индейцы являются их неумолимыми врагами. Иногда случается, что разбойники заключают союз с краснокожими, принадлежащими к какому-нибудь племени. Они не пренебрегают решительно ничем, если только дело идет о грабеже, но всему предпочитают скальпы, которые Соединенные Штаты Америки — гуманное государство, покровительствующее индейцам — не стыдятся покупать по пятидесяти долларов за штуку. А потому неудивительно, что разбойники умеют так же ловко, как индейцы, снимать у людей кожу с головы — с той только разницей, что для них пригоден каждый скальп, и если не удается снять его с индейца, они без зазрения совести снимают его с белого, уверенные в том, что все скальпы одинаковы, тем более, что американское правительство скальпы вблизи не рассматривает, не торгуется и не спрашивает у бандитов о подробностях их приобретения, довольствуясь тем, чтобы волосы на скальпах были длинны и имели черный цвет.
Шайка бандитов под предводительством Сандоваля была одной из самых больших и наиболее организованных в Арканзасе. Товарищи главаря представляли собой великолепнейшую коллекцию разбойников, которую только можно себе представить.
В течение довольно значительного времени отец Антонио состоял членом этого почтенного собрания. Снабжая Сандоваля сведениями то о пути следования караванов, то об их численности и о силе охраны, он извлекал из этого положения определенную выгоду для себя. И хотя в настоящее время благочестивый монах отказался от подобного рискованного промысла, обращение его на путь истинный было еще слишком недавним, так что бандиты не забыли об оказанных им услугах и сохраняли о нем добрую память. Поэтому, когда отец Антонио вынужден был расстаться с Белым Охотником За Скальпами, он тотчас же вспомнил о своих прежних друзьях. У монаха сложилось впечатление, что Охотник За Скальпами, благодаря образу жизни, который тот вел в пустыне, имел в характере много общих черт с разбойниками, не знающими, как и он сам, сострадания и не признающими иного закона, кроме произвола. В отряде вольных стрелков, набранных монахом во время обращения его к добру, были люди, более остальных помятые житейскими бурями. Людей этих отец Антонио видел в деле и сумел оценить по достоинству. Он предусмотрительно оставил их при себе, чтобы иметь постоянно под рукой на случай необходимости участвовать в опасном деле, чтобы выпутаться из затруднительной ситуации. Такое положение всегда может ожидать кочевника в его жизни, исполненной случайностей.
Среди его товарищей был конечно и Руперто, которому он поручил, выбрав троих верных людей, эскортировать раненого Охотника За Скальпами до лагеря Сандоваля. Мы уже говорили о том, что монах не ошибся в своем выборе, и упомянули, с какой заботливостью Руперто выполнил возложенное на него поручение.
Говорят, что честные люди узнают друг друга с первого взгляда. Эти слова еще более применимы к негодяям. Сандоваль как знаток и ценитель любовался атлетической внешностью своего нового знакомого. Черты его лица, точно высеченные из гранита, глубокие сверкающие глаза, резкая и лаконичная манера говорить — все в этом старике нравилось главарю.
Несколько раз за время трудного пути он предлагал Охотнику За Скальпами позволить себя нести двум широкоплечим спутникам, но старик, несмотря на усталость и сильнейшую боль от незаживших ран, ограничивался ответом, что физическая боль ничего не значит и человек, который силой воли не сумеет ее победить, заслуживает презрения даже женщин и детей.
На такое решительное заявление ничего нельзя было возразить. Сандоваль удовольствовался тем, что кивнул в знак согласия, после чего оба авантюриста продолжали уже свой путь молча.
Тем временем настала ночь, но она была светла, а потому путники могли идти спокойно, не опасаясь заблудиться. После трехчасового перехода путешественники дошли, наконец, до вершины высокого холма.
— Мы пришли, — сказал Сандоваль, остановившись под предлогом отдыха, а в действительности для того, чтобы дать своему запыхавшемуся товарищу отдышаться.
— Пришли? — спросил с удивлением Охотник За Скальпами, оглядевшись и не видя ни малейшего признака какого бы то ни было лагеря.
Авантюристы находились в эту минуту на площадке, представлявшей собой платформу шириной в пятьдесят метров; посреди площадки высилось громадное алоэ двадцати футов в окружности. Это дерево-великан, казалось, царило над всей пустынной местностью. Атаман предоставил своему товарищу в течение нескольких минут искать вокруг признаки жилья и наконец сказал, протягивая руку к великолепному дереву.
— Мы должны войти в дом через трубу. Ба-а! Один раз не в счет. Вы не обидитесь на меня за это — я просто хотел сократить дорогу.
— Знаете, атаман, я вас совсем не понимаю, — заметил Охотник За Скальпами.
— Я в этом не сомневаюсь, — возразил, улыбаясь, Сандоваль. — Пойдемте, сейчас вы отгадаете загадку.
Старик, не говоря ни слова, поклонился в знак согласия, и собеседники приблизились к дереву в сопровождении остальных спутников. Те, заметив удивление Охотника За Скальпами, молча улыбались.
Подойдя к дереву, Сандоваль запрокинул голову вверх.
— Эй! — крикнул он. — Урс, здесь ли ты?
— Где же мне быть, как не здесь? — ответил грубый голос с вершины дерева. — Должен же я дожидаться вас, раз уж у вас возникла прихоть гулять целую ночь напролет.
Разбойники разразились смехом.
— Всегда одинаково любезен! — сказал Сандоваль. — Это удивительно, как этот Урс всегда умеет вставить острое словцо! Ну, спускай лестницу, зверюга.
— Зверюга! — проворчал голос, тогда как обладатель его по-прежнему оставался невидим. — Вот как он меня благодарит!
С вершины дерева тем временем свесилась довольно длинная лестница. Сандоваль взялся за нее, надежно укрепил и, обернувшись к раненому старику, сказал:
— Я поднимусь первым, чтобы указать вам дорогу.
— Хорошо! — ответил Охотник За Скальпами решительно. — By God! Я буду вторым, клянусь вам!
— А-а! — воскликнул атаман, обернувшись. — Вы из Соединенных Штатов?
— Какое вам до этого дело? — возразил тот угрюмо.
— Ровно никакого, только мне не мешало бы знать это.
— Так вы уже знаете! А что же дальше?
— А дальше то, — ответил Сандоваль, смеясь, — что вы окажетесь в обществе своих соотечественников, вот и все.
— Мне это совершенно безразлично.
— Canarios! Да и мне тоже! — воскликнул главарь, продолжая смеяться. Говоря это, он поднялся вверх.
Раненый шаг за шагом следовал за ним.
Лестница упиралась в широкую платформу, полностью скрытую густыми ветвями дерева. На этой платформе стоял бандит, которого Сандоваль назвал Урсом [24].
— Что нового? — спросил главарь, ступив на платформу.
— Ничего, — ответил тот лаконично.
— Все отряды возвратились?
— Все, за исключением вашего.
— Газель и американка в пещере?
— Там.
— Хорошо! Когда все поднимутся наверх, втянешь назад лестницу и последуешь за нами.
— Хорошо, карай! Я, кажется, и без вас знаю, что нужно делать.
Сандоваль ограничился тем, что вместо ответа пожал плечами.
— Пойдемте, — сказал он Охотнику За Скальпами, немому свидетелю этой сцены.
Оба авантюриста перешли платформу.
Вся середина дерева была пуста. Это не было делом человеческих рук: старость заставила сгнить сердцевину этого исполина, в то время как кора его оставалась совершенно зеленой и живучей. Разбойники, жившие уже многие годы в широкой пещере, находившейся внутри холма, заметили однажды, что потолок их пещеры в одном месте обвалился после сильной бури; земля осыпалась и образовалось отверстие, которое они и назвали трубой (это вывалилась труха из сгнившей сердцевины гигантского дерева). Разбойники, как и многие животные, любят иметь несколько выходов из своих логовищ. Новый выход, которым они обязаны были случаю, доставил им тем большее удовольствие, что в их распоряжении оказался как бы балкон, с высоты которого открывался прекрасный вид на окрестности, позволяя издали видеть приближение врага. Они построили платформу на достаточной высоте, чтобы не разрушить кору дерева, и с помощью двух лестниц, внутренней и наружной, которая по желанию убиралась, стали свободно выбираться из пещеры этим путем.
Сандоваль наслаждался удивлением, которое испытывал гость. Действительно, изобретение бандитов казалось Охотнику За Скальпами замечательным, и он, оставив свою флегматичность и невозмутимость, вслух высказал удивление.
— Теперь, — сказал ему разбойник, указывая на довольно длинную внутреннюю лестницу, — мы спустимся вниз.
— Я к вашим услугам, by God! — ответил Охотник За Скальпами. — Действительно, это великолепно! Идите, я следую за вами.
Новые знакомцы спускались по лестнице очень осторожно из-за темноты, царившей вокруг них, так как караульные по забывчивости или по небрежности не зажгли факелов, заметив, что не ожидали столь позднего возвращения своих товарищей.
Но Охотник За Скальпами один только последовал за бандитом через описанный выше вход. Он хотя и был очень удобен для пешеходов, но не годился, совершенно ясно, для всадников, а потому Руперто и трое его друзей, расставшись с Сандовалем у подошвы холма, совершили длинный объезд, чтобы добраться до основного входа в пещеру, давно известного всем четверым.
По мере того как Охотник За Скальпами и атаман спускались все ниже, вдали забрезжил свет. Казалось, что они опускаются в огромную печь. Ступив на землю, Охотник За Скальпами очутился в пещере огромной величины, ярко освещенной множеством факелов. Факелы эти держали в руках разбойники, они сгруппировались у лестницы и, видимо, желали устроить своему предводителю торжественную встречу. Пещера была грандиозных размеров. Из большого зала, куда спустился Охотник За Скальпами, расходились радиусами многочисленные бесконечно длинные галереи. Зрелище, представшее глазам Охотника За Скальпами в зале, куда он попал так неожиданно, было достойно кисти Калло [25]. Перед ним толпились люди со странными физиономиями, в непривычных одеждах, стоявшие во всевозможных позах. Одним словом, все носило необыкновенный характер в этой шайке бандитов, встретивших предводителя криками радости и ревом, похожим на рев диких зверей. Однако атаман слишком хорошо знал, с какого рода людьми он имеет дело, чтобы быть растроганным оказанной ему восторженной встречей. Напротив, он сдвинул брови, поднял голову и окинул собравшуюся вокруг него толпу грозным взглядом.
— Что здесь происходит, сеньоры кабальеро? — спросил он. — Как могло случиться, что все вы собрались здесь меня встретить? Боже праведный! Должно быть, вы плохо исполнили мои приказания, иначе не были бы так внимательны по отношению ко мне. Хорошо, оставьте меня. Мы выясним это позже. А теперь я хочу остаться один. Ступайте!
Не сказав в ответ ни слова, бандиты разошлись по своим галереям, и через несколько минут зал оказался совершенно пуст.
В этот момент показался Руперто. Оставив своих товарищей в обществе нескольких прежних знакомых, он пришел присоединиться к человеку, отданному на его попечение.
Хотя Сандоваль сердечно приветствовал авантюриста, он сохранял вид человека, сознающего свое превосходство над другим, что и было замечено техасцем.
— О! Мы, как видно, уже не в прериях, — сказал он.
— Нет, — ответил атаман серьезно. Делая ударение на каждом слове, он произнес: — Вы у меня. Но, — добавил, дружески улыбаясь, — не беспокойтесь об этом. Вы — мои гости, и к вам отнесутся как следует.
— Хорошо! Хорошо! — сказал Руперто, который вовсе не был тронут любезными манерами атамана. — Я знаю, в каком месте сапог вам жмет, compadre! Я сейчас помогу вам. — И обернувшись к Урсу, который в эту минуту спускался с лестницы, все такой же дикий и всклокоченный, сказал, — Попросите Белую Газель прийти сюда. Не забудьте прибавить, что атаман Сандоваль желает поцеловать ее.
Главарь улыбнулся и протянул руку авантюристу.
— Простите меня, Руперто, — сказал он, — вы знаете, как я люблю этого ребенка. Если я не вижу ее хотя бы день, то мне будто чего-то недостает и я чувствую себя несчастным.
— Canarios! Я хорошо это знаю, — ответил Руперто с улыбкой, — а так как мне хотелось бы видеть вас в хорошем настроении, я не колеблясь отдал Урсу приказ привести сюда единственное существо, которое вы когда-либо любили.
Главарь молча улыбнулся.
— Ну, встряхнитесь, карай! — весело сказал авантюрист. — Она сейчас придет. Не хватает еще, чтобы вы были не в духе только из-за того, что ребенок не пришел поцеловать вас по возвращении, скорее всего потому, что заигрался. Вспомните, что мы ваши гости и поэтому имеем неоспоримое право на гостеприимство и что вы ни в коем случае не должны быть нелюбезными с нами.
— Увы! Друзья мои, — ответил атаман, подавляя вздох, — вы не имеете понятия о том, как отрадно несчастному человеку, стоящему вне закона, сознавать, что есть на свете существо, которое любит его ради него самого, без всякого расчета и задних мыслей.
— Тише! — быстро проговорил Руперто, положив руку ему на плечо. — Замолчите, мой друг. Вот она.
Глава XII
В ПЕЩЕРЕ
Руперто не ошибся. В эту минуту появилось прелестнейшее создание, подпрыгивая, как молодая лань. Это был ребенок — девочка самое большее лет двенадцати, миниатюрная, свеженькая, смеющаяся. Ее большие черные глаза, розовый ротик с жемчужными зубками, ее великолепные черные волосы, спускающиеся двумя густыми косами до колен, полумужской-полуженский костюм — все в этой девочке сочеталось как бы для того, чтобы придать ее наружности отпечаток чего-то необыкновенного, неземного и даже ангельского — так велико было ее природное изящество и настолько ее невинный и искренний смех и глубокий и вместе с тем мечтательный взгляд составляли резкий контраст с окружавшими ее грубыми и страшными бандитами.
Когда девочка увидела атамана, глаза ее радостно заблестели; одним прыжком она очутилась в его объятиях, и разбойник с любовью прижал ее к своей могучей груди.
— А! — воскликнул он, целуя ее шелковистые волосы, голосом, который он напрасно старался смягчить. — Вот, наконец, и ты, дорогая Газель! Ты запоздала.
— Отец, — отвечая на его ласки, возразила она нежным, очаровательным голоском, — я не знала о твоем возвращении. Уже поздно, я не надеялась более увидеть тебя сегодня и собиралась идти спать.
— В таком случае, нинья [26], — сказал разбойник, опуская девочку на землю и целуя ее в последний раз, — тебе не следует дольше оставаться здесь. Я видел тебя, я поцеловал тебя, я могу теперь быть счастливым до завтра. Иди спать, я не эгоист! Я не хочу, чтобы ты потеряла свою свежесть из-за меня.
— О! — воскликнула она, мило покачивая своей миниатюрной головкой. — Мне больше не хочется спать, я могу еще немного посидеть с тобой, отец.
Белый Охотник За Скальпами с возрастающим изумлением смотрел на этого прелестного ребенка, такого жизнерадостного, смеющегося и любящего, который также был, по-видимому, горячо любим. Он не мог найти объяснения его присутствию среди бандитов, как и нежности, которую высказывал атаман.
— Вы очень любите эту девочку? — спросил он, привлекая к себе ребенка и целуя его в лоб.
Девочка взглянула на него глазами, широко открытыми от удивления, но не обнаружила при этом ни малейшего страха и не старалась уклониться от ласки.
— Люблю ли я ее?! — воскликнул разбойник. — Этот ребенок — радость и счастье нашего дома. Вы думаете, — добавил он с оттенком упрека в голосе, — что раз мы бандиты и стоим вне закона, то заглушили в своих сердцах все хорошие чувства? Заблуждаетесь! Ягуар и пантера любят своих детей, даже серый медведь, и тот ласкает детенышей. Неужели мы больше звери, чем эти четвероногие, самые свирепые из всего животного царства? Да, мы любим нашу Белую Газель. Она — наш добрый гений, наша защита. Пока она среди нас, нам все будет удаваться, потому что счастье всюду следует за ней.
— О, отец! — воскликнула девочка с чувством. — В таком случае вы всегда будете счастливы, потому что я не покину вас.
— Кто может отвечать за будущее? — глухо пробормотал бандит, и облако печали легло на его суровое лицо.
— Вы — счастливый отец, — сказал Охотник За Скальпами, глубоко вздохнув.
— Не правда ли? Но Белая Газель принадлежит не мне одному, она принадлежит всем нам: она наша приемная дочь.
— А-а! — протянул Охотник За Скальпами, печально покачав головой.
— Иди, дитя, — сказал Сандоваль, — иди, отдохни, уже поздно.
Девочка бросила ласковый взгляд на троих собеседников и скрылась в глубине одной из боковых галерей.
Главарь не отрывал от нее взгляда, пока мог ее видеть. Потом, обернувшись к гостям, которые, как и сам он, все еще находились под впечатлением этой трогательной сцены, сказал:
— Следуйте за мной, сеньоры кабальеро, уже поздно. Вы, вероятно, голодны и хотите отдохнуть. Гостеприимство, которое я могу вам оказать, будет хотя и скромным, но предложат его вам от чистого сердца.
Охотник За Скальпами и Руперто последовали за главарем в одну из боковых галерей. С каждой стороны в ней были своего рода ниши, закрытые вместо занавесей циновками. То там, то здесь на стенах галереи были прикреплены на железных кольцах зажженные факелы, распространявшие вокруг себя красноватый дымный свет, которого, однако же, было вполне достаточно, чтобы найти дорогу. После того как авантюристы шли в течении десяти минут по различным галереям, казавшимся настоящим лабиринтом, где нетрудно было заблудиться, атаман остановился у одной пещеры и, подняв полог, скрывавший ее вход, знаком пригласил спутников войти. Сам Сандоваль вошел за ними следом, опустив за собой полог. Пещера, в которую атаман привел своих гостей, была очень большой и высокой. Через незаметные для глаз трещины в нее проникал наружный воздух, отчего здесь не было душно. Несколько перегородок разделяли пещеру на комнаты. Золотое паникадило, похищенное, по всей вероятности, в какой-нибудь церкви, висело под самым потолком. К нему была прикреплена лампа с ароматным маслом, освещавшая ярким светом внутреннюю часть пещеры.
К сожалению, остальная меблировка совсем не соответствовала этому драгоценному предмету. Напротив, она была в высшей степени скромна и состояла из большого стола темного ореха, шести скамеек грубой работы и двух бутак. Лишь эта мебель могла претендовать на то, чтобы считаться комфортабельной. На стенах висели рога бизонов, когти гризли — охотничьи трофеи разбойников, добытые на охоте в прериях. Единственным предметом, останавливавшим на себе взгляд, были козлы, где помещалось все оружие, употребляемое в Америке, начиная с копья и лука и кончая саблями, ружьями и двуствольными пистолетами.
Было очевидно, что разбойник отдал распоряжения по приему гостей. На столе стояли деревянные миски, хрустальные стаканы и серебряные блюда, среди которых разместили кувшины — одни с водой, другие с винами, наиболее любимыми мексиканцами.
Урс со своей мрачной физиономией приготовился прислуживать гостям.
— Прошу к столу, сеньоры кабальеро, — с важностью проговорил Сандоваль, усаживаясь на скамью.
Гости последовали его примеру. Каждый из присутствующих, вынув из-за сапога нож, с жадностью принялся за великолепный пирог из дичи, что было вполне понятно, если учесть, что они почти весь день ничего не ели. Впрочем, мы должны отдать справедливость предводителю разбойников: судя по угощению, которое он предлагал гостям, было очевидно, что недостатка в хорошей провизии здесь не испытывали.
В начале обеда все молчали, думая лишь о том, чтобы утолить голод. Но когда аппетит их был до некоторой степени удовлетворен и по англо-американскому обычаю, принятому в прериях, чаша с вином пошла вкруговую, напускная холодность, царившая среди общества, сразу исчезла, и каждый заговорил со своим ближайшим соседом. Затем голоса зазвучали громче, и вскоре все заговорили разом.
Только двое изо всех, сидевших за столом во время обеда, угрожавшего перейти в пьяную оргию, умеренно прикасались к вину. Это были Сандоваль и Белый Охотник За Скальпами.
Атаман, старательно подливая своим гостям, заботился о том, чтобы самому не опьянеть и сохранить необходимое хладнокровие. С некоторым беспокойством присматривался он к незнакомцу, которого случай сделал его гостем. Этот мрачный человек внушал ему неприятное чувство, которого он не мог себе объяснить, но, вместе с тем, он не осмеливался расспрашивать его. Законы прерий запрещали задавать какие бы то ни было вопросы чужестранцу, пока тот сам не пожелает сказать, кто он такой.
К удовольствию Сандоваля, любопытство и нетерпение которого возрастали с каждой минутой, у Руперто появилось не менее горячее желание объяснить цель своего прибытия к разбойникам, а потому, в то время, когда разговор сделался общим и каждый старался перекричать другого, Руперто несколько раз с силой ударил рукоятью своего кинжала по столу, требуя молчания.
Крики мгновенно смолкли, и все головы повернулись в его сторону.
— Чего вы хотите, Руперто? — спросил его Сандоваль.
— Чего я хочу? — ответил тот коснеющим от обильного возлияния языком. — Я требую слова.
— Всем молчать! — повелительно сказал атаман. — Говорите, Руперто! Никто не станет перебивать вас, даже если вы будете говорить до восхода солнца.
— Карамба! — воскликнул техасец со смехом. — Я вовсе не намереваюсь так долго испытывать ваше терпение.
— Поступайте как вам угодно, compadre, вы — мой гость и, кроме того, старый знакомый. Это дает вам право делать все, что вы захотите.
— Благодарю вас за любезность, атаман! Я прежде всего должен от себя лично и от имени моих спутников выразить вам искреннюю благодарность за ваше гостеприимство.
— Довольно, довольно об этом! — небрежно сказал Сандоваль.
— Нет, нет, не довольно, — напротив! Не каждый день можно найти в прериях такое обильное угощение, как ваше, и надо быть неблагодарным, как монах, чтобы не признать этого!
— Ха-ха! — усмехнулся атаман. — Разве сегодня, когда я вас встретил, вы не говорили, что посланы ко мне монахом Антонио?
— Да, это так.
— Это достойный монах! — заметил Сандоваль. — Он напоминает мне его преподобие Джона Симмерса, который был повешен за двоеженство. Это был святой человек! Я помню, что, стоя возле виселицы, он произнес великолепную назидательную проповедь, исторгнувшую слезы из глаз большинства присутствовавших. Но возвратимся к отцу Антонио. Надеюсь, с ним не произошло никакого несчастья и он совершенно здоров?
— Когда я расстался с ним, он был абсолютно здоров, но вполне могло случиться, что в настоящую минуту он серьезно болен и даже мертв.
— Праведный Боже! Это внушает мне беспокойство, compadre. Объяснитесь.
— Все очень просто. Техасцам наскучило беспрестанное лихоимство мексиканцев, они подняли восстание и хотят завоевать независимость.
— Это я уже знаю.
— Вам, без сомнения, известно также и то, что все лучшие люди Техаса стали под знамя независимости, а потому и отец Антонио, собрав небольшой отряд, присоединился к инсургентам.
— Это довольно умно, — произнес атаман с улыбкой.
— Не правда ли? О, отец Антонио ловкий политик!
— Да, да! Доказательством тому может служить то обстоятельство, что в начале восстания он часто сам не знал, к какой партии принадлежит.
— Что же вы хотите, — возразил Руперто небрежно, — всякому трудно сориентироваться в начале народной смуты. Но теперь, дело другое!..
— А! Теперь он, по-видимому, знает, к кому податься.
— Вполне. Он примкнул к повстанцам. В день моего отъезда инсургенты двинулись навстречу мексиканскому войску, намереваясь дать сражение. Вот почему я и сказал, что все может случиться и отец Антонио в настоящее время может оказаться болен или даже мертв.
— Надеюсь, что его не постигло такое несчастье.
— Я тоже надеюсь… За несколько минут до выступления в поход отец Антонио, по-видимому, сильно заинтересованный в судьбе этого раненого кабальеро, не желая оставлять его одиноким и беспомощным во власти мексиканцев в том случае, если повстанческая армия потерпит поражение, поручил мне отвезти его к вам, уверенный в том, что вы заботливо отнесетесь к его другу и примете его хорошо во имя старой вашей приязни к нему самому.
— Он был прав, рассчитывая на меня. Я не обману его доверия. Кабальеро! — добавил он, обратившись к старику, который во время этого разговора оставался холоден и непроницаем. — Вы теперь знаете нас, вы знаете, что мы степные разбойники. Мы предлагаем вам гостеприимство прерий, гостеприимство чистосердечное, неограниченное. Мы предлагаем его вам, не спрашивая, кто вы и что делали до того времени, когда ступили на нашу территорию.
— А что вы потребуете за это? — спросил старик, холодно поклонившись главарю шайки.
— Ничего, сеньор — ответил тот. — Мы ничего у вас не спросим, даже вашего имени! Мы изгнанники и беглецы, а все беглецы, каковы бы ни были причины, которые привели их сюда, имеют право сесть у нашего очага. А теперь, — добавил Сандоваль, взяв бутылку и наливая вино в стакан, — выпьем за ваше счастливое прибытие к нам, сеньор! Не откажите!
— Одну минуту, кабальеро! Прежде чем ответить на ваш тост, я, если позволите, скажу несколько слов.
— Мы слушаем вас, сеньор.
Старик поднялся во весь свой богатырский рост и обвел присутствующих настороженным, пристальным взглядом. Глубокое молчание царило в зале. Всеми присутствующими овладела необъяснимая тревога, все ждали.
Наконец Охотник За Скальпами заговорил, и лицо его, до тех пор холодное и строгое, смягчилось, чего никто не мог ожидать от этого человека.
— Сеньоры кабальеро, — сказал он, — ваша откровенность заставляет и меня быть откровенным, ваше великодушие, ваш великолепный прием вынуждают меня сказать вам, кто я. Когда приходишь с просьбой о покровительстве к таким людям, как вы, не следует ничего скрывать. Да, я — беглец! Да, я — изгнанник. Но то и другое случилось со мной по моей собственной воле. Я завтра же, если этого захочу, могу возвратиться в то общество, которое никогда меня не изгоняло из своей среды. И это не иллюзия, не преувеличение с моей стороны. Я остаюсь в прерии, чтобы выполнить задачу, которую поставил перед собой. Я хочу отомстить, отомстить беспощадно, и ничто, даже смерть последнего из моих врагов не может утолить во мне жажду мести. Это безумное сновидение, страшный кошмар, но я не устану искать удовлетворения до последней минуты моей жизни. Я буду умирать с великим сожалением о том, что недостаточно отомстил. Вот цель моей жизни, вот причина того, что я покинул жизнь людей цивилизованных, чтобы начать существование, которое является уделом диких зверей. Месть! Теперь вы знаете, что движет мной. Когда я скажу вам свое имя, вы узнаете меня вполне.
Голос раненого, сначала тихий, постепенно становился громче из-за переполнявших его чувств, а под конец сделался отрывистым и дрожащим. Присутствующие, невольно поддавшись его волнению, слушали этого странного человека, затаив дыхание, боясь проронить хотя бы слово. Он раскрывал им тайну своей жизни, заставил вибрировать в их сердцах единственную живую струну, так как и у них была лишь одна цель, одно желание — отомстить обществу, которое отторгло их от себя, как гнилой плод.
Эти люди должны были понять сильный и мстительный характер говорившего, восхититься им, даже завидовать ему. Его характер был сильнее, чем тот, которым они сами обладали.
Когда Охотник За Скальпами кончил говорить, все, точно сговорившись, встали и, опираясь дрожавшими руками о край стола, наклонились, ожидая с лихорадочным нетерпением, чтобы старик назвал себя.
Но по странной случайности раненый, казалось, мгновенно забыл, что происходило вокруг него, и не мог вспомнить ни того, что говорил, ни места, где находился. Голова его поникла, он взялся правой рукой за лоб, устремил глаза в землю и, казалось, напрасно старался отогнать нахлынувшие на него тяжелые воспоминания, успокоить ту кровоточащую рану, которой так неосторожно коснулся.
Сандоваль несколько минут наблюдал за ним с выражением сострадания и наконец тронул его рукой за плечо. Это прикосновение возвратило старика к действительности. Он выпрямился, точно от удара электрического тока, и бросил вокруг себя растерянный взгляд.
— Что вы хотите от меня? — спросил он хрипло.
— Назвать вам ваше имя? — ответил медленно атаман.
— А-а! — воскликнул тот. — Так вы его знаете?
— Десять минут назад еще не знал…
— А теперь?
— Теперь я его угадал.
По бледным губам старика пробежала ироническая улыбка.
— Вы думаете, что угадали правильно? — спросил он.
— Я в этом уверен. В пустыне нет двух таких людей, как вы. Вы демон, если вы не Белый Охотник За Скальпами!
При упоминании этого имени точно электрический ток пробежал среди бандитов.
Старик гордо поднял голову.
— Да, — сказал он твердо. — Я Белый Охотник За Скальпами.
Во время этой продолжительной беседы бандиты, от безделья и просто побуждаемые к тому любопытством, стали постепенно заполнять зал. Услышав имя, которое привыкли уважать, и увидев наконец человека, к которому испытывали тайный страх, они разразились громовым «ура!», которое звучное эхо пещеры повторило бесчисленное количество раз, заставив своды пещеры дрожать, как от землетрясения.
Белый Охотник За Скальпами сделал жест, желая водворить молчание.
— Сеньоры кабальеро, — сказал он, — я очень благодарен вам за ваше дружеское приветствие. До сих пор я отказывался примкнуть к какому бы то ни было обществу. Я решил жить в одиночестве и совершить без посторонней помощи дело мщения, которому я себя посвятил. Но после того, что произошло, я обязан изменить обещанию, данному самому себе. Тот, кто получает, должен отдавать! Отныне я ваш, если только вы сочтете меня достойным вашей дружбы.
При этом предложении крики радости удвоились, бандиты дошли до неистовства.
Сандоваль нахмурился, он понимал, что авторитет его поколеблен. Но он был слишком ловок и хитер, чтобы дать кому-нибудь прочесть в своей душе опасения, которые его волновали. Он решил обойти препятствие и одним ловким ударом снова вернуть власть, ускользавшую, как он это инстинктивно чувствовал, от него. Подняв стакан, он воскликнул громко:
— Пью за здоровье Белого Охотника За Скальпами, друзья!
— За здоровье Белого Охотника За Скальпами! — подхватили разбойники с энтузиазмом. Переждав первые минуты всеобщего ликования, главарь приказал всем замолчать, но никто его не слушал. Обильное возлияние, которому предавались разбойники, дало себя знать. Но мало-помалу крики стихли, как море после бури, воцарилось спокойствие, и слышно было только неясное, отрывистое бормотание людей, объяснявших что-то друг другу на ухо. Сандоваль поспешил воспользоваться моментом затишья, чтобы заговорить снова.
— Сеньоры кабальеро, — сказал он, — я хочу сделать вам предложение, которое, как мне кажется, понравится всем.
— Говорите, говорите! — закричали бандиты.
— Наше товарищество, — продолжал Сандоваль, — основано на полном равенстве всех его членов, которые и выбирают между собой человека, наиболее достойного стать вожаком.
— Да, да! — воскликнули разбойники.
— Да здравствует Сандоваль! — раздалось несколько голосов.
— Дайте говорить, не перебивайте! — кричало большинство.
Сандоваль небрежно оперся о стол и с напускным спокойствием во взгляде следил за происходящим, в то время как на самом деле сердце его бешено колотилось от страха. Он знал, что играет в опасную игру, и заранее взвесил все шансы за и против. А потому, хотя усилием воли он и придал своему лицу спокойствие и непроницаемость мраморного изваяния, все же в душе жестоко страдал.
Когда молчание снова воцарилось в зале и атаман мог надеяться, что его услышат, раздался его твердый голос:
— Вы оказали мне честь, выбрав меня своим предводителем, и этой чести, мне кажется, я был до сих пор достоин.
Он остановился, как бы затем, чтобы услышать ответ. Ропот одобрения был приятен его слуху.
— К чему он ведет? — угрюмо пробормотал Урс.
— Сейчас узнаешь, — ответил Сандоваль, который услышал его. Затем продолжал:
— В общих интересах я считаю своим долгом сложить с себя это звание. Среди нас есть человек, более чем я достойный стать вашим вожаком, человек, одно имя которого способно навести ужас на наших врагов. Словом, я предлагаю вам выбрать вместо меня Белого Охотника За Скальпами.
Тут только Сандоваль узнал, какие чувства в действительности питали к нему его товарищами. Из двухсот разбойников, собравшихся в пещере, почти две трети тотчас встали на его сторону, отказавшись принять отставку, из остальных большая часть была ни за, ни против, и только тридцать или сорок человек с криками радости приняли предложение атамана передать власть Белому Охотнику За Скальпами. Но, как всегда бывает в подобных случаях, эти тридцать или сорок человек криками и воплями увлекли бы за собой других, и таким образом могли заручиться большинством голосов, если бы Белый Охотник За Скальпами не счел нужным вмешаться.
Старый авантюрист нимало не домогался позорной чести быть избранным главарем этой шайки негодяев, которых он в глубине души презирал и которых только благодаря сложившимся обстоятельствам и по необходимости признал своими товарищами. Напротив, он решил расстаться с ними немедленно, как только раны его заживут и он будет в состоянии снова вести кочевую жизнь. Поэтому в тот момент, когда крики и брань носились в воздухе, принимая все более и более угрожающие размеры, когда несколько бандитов, истощив все доводы, стали выхватывать ножи и пистолеты и между лишенными всякого нравственного чувства людьми, неспособными подчиняться чувству долга, едва не разгорелось ужаснейшее побоище, он встал и энергично запротестовал против предложения Сандоваля. Он заявил, что домогается только чести сражаться бок о бок с ними и разделять их опасности, признавая себя полностью неспособным быть их предводителем.
Такое сильное сопротивление со стороны Охотника За Скальпами не могло не оказать своего действия — разбойникам пришлось уступить. Тогда, бросившись в другую крайность, разбойники стали умолять Сандоваля остаться их атаманом. Сандоваль после того, как заставил их долго упрашивать себя, чтобы убедить в искренности своего поведения, кончил тем, что сдался на их просьбы. Он согласился наконец сохранить власть, которую втайне, несколько минут назад, так боялся утратить.
Мир был восстановлен как по волшебству. Пока разбойники выпивали целые реки вина, празднуя счастливое завершение дела, атаман отвел своих гостей в одно из отделений пещеры, где те наконец могли отдохнуть.
Между тем Сандоваль, который (справедливо или нет) считал в течение нескольких минут, что из-за Белого Охотника За Скальпами ему угрожает опасность потерять власть, в глубине души не простил этого и решил отомстить при первом же случае.
Глава XIII
БЕСЕДА
Как мы уже знаем, Транкиль и Чистое Сердце удалились при первой возможности и возвратились в домик охотника, где Эусебио уже приготовил все, чтобы принять их достойным образом.
Чистое Сердце был слишком меланхоличен по натуре, а канадец слишком занят своими мыслями, чтобы этих двоих людей могло заинтересовать что бы то ни было на грубом индейском торжестве. Весь этот шум, все волнение только утомили их, и они ощутили потребность покинуть празднество.
Сеньора Хесусита встретила их с сияющей и спокойной улыбкой, которая озаряла ее лицо, как солнечный луч, просвечивающий сквозь тучи.
Она с большой готовностью удовлетворяла малейшие их желания и была, казалось, очень довольна их возвращением, стараясь тысячей мелких услуг, секретом которых обладают только женщины, удержать их у себя как можно дольше.
Домик охотника, тихий и удобный, хотя и был на взгляд европейца лишь немногим лучше самой жалкой деревенской лачужки, тем не менее составлял резкий контраст с вигвамами индейцев, которые не только кишат всевозможными насекомыми и отвратительно неряшливы, но в которых отсутствуют даже самые незатейливые вещи, украшающие быт.
Почтительно поцеловав в лоб свою мать, пожав руку Эусебио и приласкав радостно прыгавших собак, Чистое Сердце сел за стол и сделал Транкилю знак последовать его примеру.
Со вчерашнего дня в лице старого охотника и в его манере поведения произошла какая-то странная перемена. Он, державший себя всегда так свободно, казалось, чувствовал теперь стеснение. Глаза его потеряли свой прежний блеск, придававший лицу благородное выражение, брови беспрестанно хмурились под влиянием какой-то затаенной мысли, и даже речь была не так откровенна, как прежде.
Молодой человек задумчиво, с печальной улыбкой следил за охотником. Когда обед был кончен и трубки зажжены, Чистое Сердце, жестом попросив мать и Эусебио выйти из комнаты, повернулся к канадцу.
— Гость мой, — сказал он ему почтительно, — мы ведь давние друзья, хотя и знакомы друг с другом не очень давно, не так ли?
— Конечно, Чистое Сердце. В прерии и дружба, и вражда быстро стареют, а мы встретились при таких обстоятельствах, когда люди в несколько минут оценивают один другого.
— Позвольте задать вам один вопрос, — сказал Чистое Сердце.
— Пожалуйста! — ответил охотник.
— Но скажите сначала, — продолжал молодой человек, — обещаете ли вы ответить на него?
— Почему же нет? — спокойно проговорил Транкиль.
— Quien sabe! — как мы, испано-американцы, выражаемся, — заметил с улыбкой молодой охотник.
— Ба-а! — беспечно протянул канадец. — Задайте ваш вопрос, я не думаю, что на него невозможно ответить.
— Но если вы увидите, что это так?
— Я не могу такого предположить. Вы слишком умны и откровенны, чтобы делать такие ошибки. Итак, говорите смело.
— Я так и сделаю, если позволите… Итак, слушайте. Я вас слишком хорошо знаю (вернее, думаю так), чтобы предположить, что вы приехали сюда с единственной целью навестить меня, тем более, что не сегодня-завтра мы все равно встретились бы в прериях. Из этого следует, что вы предприняли поездку с вполне определенной целью. Какой-то очень серьезный повод заставил вас искать свидания со мной.
Транкиль молча кивнул головой.
После минутного молчания, во время которого Чистое Сердце напрасно ждал ответа собеседника, он снова заговорил:
— Вот уже два дня, как вы здесь. Несколько раз вам представлялась возможность поговорить со мной откровенно, и скажу кстати, что я ждал этого с большим нетерпением. Я предвидел, что дело касается услуги, которую я должен буду вам оказать. Я был заранее счастлив доказать делом уважение, которое к вам питаю. Между тем вы продолжали хранить молчание и даже, напротив, старались избежать объяснений. Поведение ваше в отношении меня совершенно переменилось. Словом, со вчерашнего дня вы не тот человек, которого я знал: тот не знал колебаний, всегда открыто и смело говорил что думает, какие бы последствия это ни влекло за собой. Разве я ошибаюсь? Отвечайте, охотник.
Канадец некоторое время казался смущенным. Вопрос, заданный ему так прямо, странным образом приводил его в смущение. Наконец он решился, поднял голову и сказал, глядя прямо в глаза собеседнику.
— Что ж, я не могу этого отрицать. Вы правы, Чистое Сердце. Все, что вы сказали, совершенная правда.
— А! — воскликнул молодой человек удовлетворенно. — Так я не ошибся! Я рад, что это выяснилось.
Канадец пожал плечами, как человек, который рад доставить удовольствие собеседнику, хотя не понимает, чем именно.
Чистое Сердце продолжал:
— Теперь, во имя дружбы, которой мы связаны, я требую, чтобы вы были откровенны со мной. Без задней мысли, без всяких изворотов признайтесь, по какой причине вы поступили таким образом.
— Причина эта лестна для тебя, Чистое Сердце, поверьте мне.
— Я в этом убежден, мой друг, тем не менее я хочу ее знать.
— В таком случае, — сказал старик-охотник с интонацией человека, принявшего известное решение, — зачем мне хранить от вас тайну, тем более, что я пришел просить вашей помощи. Вы узнаете все! Я — всего лишь неотесанный траппер, который воспитывался в глуши. Я благоговею перед Богом и люблю свободу до безумия. Я всегда старался делать добро своему ближнему и, по мере возможности, за зло платить добром, — вот, в двух словах, весь мой нравственный мир.
— Все это истинная правда! — убежденно сказал на это Чистое Сердце.
— Благодарю! Благодарю от души, я вам верю! Но все остальное в жизни осталось мне совершенно неизвестным. Пребывание в пустыне развило во мне только инстинкты диких животных, не дав той тонкости чувств, которую развивает даже у самых диких натур городская цивилизация.
— Признаюсь, я не совсем понимаю истинный смысл ваших слов.
— Сейчас поймете. С первой минуты как я вас увидел, при первых произнесенных вами словах, я помимо воли почувствовал влечение к вам. Вы стали моим другом за те несколько дней, которые мы прожили вместе, разделяя постель под открытым небом, подвергаясь одним и тем же опасностям, испытывая одни и те же радости и печали. Мне казалось, что я оценил вас по достоинству, и мое расположение к вам возросло. А потому, когда мне понадобился верный и преданный друг, я тотчас же вспомнил о вас, и, не долго думая, немедленно отправился в дорогу, чтобы увидеться с вами.
— Вы отлично сделали.
— Я это знаю, — ответил Транкиль с увлечением. — Но когда я переступил порог этого скромного домика, мысли мои приняли совершенно иное направление. У меня появилось сомнение, — не в вас (это было бы невозможно), но относящееся к вашему положению. Словом, оно касалось вашего таинственного образа жизни. Я задал себе вопрос: какие обстоятельства могли заставить такого человека, как вы, поселиться в поселке краснокожих и принять их обычаи, жестокие и резко отличающиеся от наших. При взгляде на вашу мать, такую красивую и добрую, на вашего слугу, относящегося к вам с такой преданностью, на то, как вы живете у себя дома, я подумал, что, наверное, какое-нибудь несчастье неожиданно обрушилось на вас и заставило вас некоторое время жить в изгнании. Но я в то же время понял, что мы с вами не ровня, что существует черта, разделяющая нас, и тут-то я почувствовал себя стесненным в вашем обществе. Вы не вольный охотник, не имеющий иного дома, кроме непроницаемого свода девственных лесов, и иного достояния, кроме ружья. Словом, вы не тот товарищ, не тот друг, с которым я с радостью делился в пустыне всем, что имел. Я не вправе держаться как равный с тем, кого случайное несчастье приблизило ко мне и кто впоследствии, без сомнения, пожалеет об этой дружбе, зародившейся случайно. Поэтому, продолжая по-прежнему любить и уважать вас, я стану на ту ступень, на которой мне надлежит находиться по отношению к вам.
— И это должно означать? — спросил резко Чистое Сердце.
— Что при невозможности быть вашим товарищем и не желая сделаться вашим слугой, я удалюсь.
— Вы с ума сошли, Транкиль! — с горестью воскликнул молодой человек. — То, что вы говорите мне, не имеет смысла, и ваши доводы несостоятельны!
— Тем не менее… — отважился сказать канадец.
— О! — продолжал тот возбужденно. — Я ведь дал вам высказаться, не так ли? Я выслушал вас, не перебивая. Теперь — моя очередь. Вы, сами того не зная, причинили мне самое большое огорчение, какое могли — вы дотронулись до незажившей и все еще кровоточащей раны, заставили меня вспомнить то, что я напрасно стараюсь забыть и что составляет несчастье всей моей жизни.
— Я?! — воскликнул охотник с ужасом.
— Да, вы! Но не беда! Кроме того, вы действовали слепо, сами не зная, куда заведет вас путь, по которому шли, а потому я не ставлю вам это в вину и впредь не поставлю. Но есть вещь, которая для меня выше всего, которой я дорожу больше жизни, это — ваша дружба! Я не могу согласиться потерять ее. Откровенность за откровенность: вы узнаете, кто я и какова та причина, которая привела меня в прерии, где мне суждено жить и умереть.
— Нет! — ответил Транкиль коротко. — Я не имею ни малейшего права на вашу откровенность. Вы говорите, что я без умысла причинил вам большое огорчение. Эта сердечная боль только увеличится при вашем призвании. Клянусь вам, Чистое Сердце, я не стану вас слушать.
— Это необходимо для вас и для меня, мой друг — таким образом мы лучше поймем друг друга. Тайна, которую я скрываю в своем сердце, — добавил он с грустной улыбкой, — тяготит меня, и было бы большим утешением поверить ее истинному другу. А кроме того, мне пенять не на кого. Обрушившееся на меня несчастье, или, вернее, наказание (это слово мне нравится больше) выпало на мою долю вполне заслуженно, хотя, возможно, оно слишком жестоко, и упрекать за это я могу только себя самого. Жизнь моя — долгое искупление прошлого; к несчастью, меня приводит в ужас мысль, что настоящего и даже будущего будет недостаточно, чтобы искупить его.
— Вы забыли о Боге, сын мой! — сказал торжественный голос. — Непогрешимый Бог будет вашим судьей. Когда Он сочтет ваше искупление достаточным, Он сумеет его прекратить.
И Хесусита, уже несколько минут прислушивающаяся к разговору двух собеседников, положила свою нежную белую руку на плечо сына, взглянув на него с великой любовью, присущей только матерям.
— О, я неблагодарный! — воскликнул молодой человек с горечью. — В своем бесконечном эгоизме я на минуту забыл о вас, которая покинула все ради меня.
— Рафаэль, ты — мой первенец. То, что я сделала девять лет тому назад, я сделала бы и теперь. Но пусть сказанное мной послужит тебе утешением. Я горжусь тобой, сын мой, и, хотя ты причинил мне много горя в прошлом, сейчас ты принес столько же радости. Разве все индейские племена, населяющие бескрайние прерии, не питают к тебе уважения, граничащего с благоговением? Разве имя, которое дали тебе эти первобытные люди, не служит синонимом чести? Разве ты, наконец, не Чистое Сердце — человек, слово которого имеет силу закона, человек, которого уважают и любят друг и недруг. Чего же большего ты хочешь?
Молодой человек покачал головой.
— Увы, мать моя, — сказал он глухо, — разве я смогу забыть когда-нибудь, что был игроком, убийцей, поджигателем!
Транкиль вздрогнул.
— О! Это невозможно! — пробормотал он.
Молодой человек услышав это, обернулся в его сторону.
— Да, мой друг, — сказал он, — я был игроком, убийцей и поджигателем! Ну что? — добавил он с печальной и едкой усмешкой. — Вы и теперь все так же считаете себя недостойным моей дружбы? Вы все еще думаете, что вы мне не ровня?
Молодой человек вопросительно взглянул на канадца. Тот встал, подошел к Хесусите, и, поклонившись ей почтительно, с оттенком восхищения, проговорил:
— Сеньора, каково бы ни было преступление, совершенное человеком в минуту неудержимого возбуждения, невзирая на свою вину, он должен быть оправдан, если сумел внушить к себе такую прекрасную, великую и благородную преданность, как ваша. Вы — святая женщина, сударыня! Надейтесь! Бог, который все может, сумеет, когда настанет время, осушить ваши слезы и заставит вас забыть горести, послав им на смену великие радости. Я только бедный человек без разума и образования, но чувства мои никогда не обманывали меня. Я убежден, что как бы ни был некогда преступен ваш сын, в настоящее время его простило даже то лицо, которое, вынуждено было осудить его, и что впоследствии оно даже пожалело об этом.
— Спасибо, мой друг, — сказал Чистое Сердце. — Я уверен, что ваши слова сказаны от души! За себя и за свою мать благодарю вас. Вы прямой и честный человек. Вы возвратили мне веру в себя, которая подчас покидает меня, и подняли меня в моих собственных глазах. Но искупление, на которое я сам себя осудил, не будет полным, если я не расскажу вам обо всех событиях моей жизни. Не откажите мне в этом! — воскликнул он, увидев отрицательный жест охотника. — Так нужно! Поверьте мне, Транкиль, рассказ мой содержит много поучительного. Как путник, который в конце долгого и трудного путешествия с чувством удовлетворения бросает взгляд на пройденный путь, так и я буду испытывать мучительное, но вместе с тем отрадное ощущение, возвращаясь к первым ужасным событиям моей жизни.
— Да, — сказала Хесусита, — ты прав, сын мой. Надо иметь мужество оглянуться назад, чтобы хватило сил с достоинством идти вперед. Только возвратившись к прошлому, ты поймешь настоящее и получишь надежду на будущее. Говори, говори, сын мой, и если в течение твоего рассказа тебе изменит память или покинет мужество, ну что ж! Я здесь! Я буду возле тебя, как всегда, и то, что ты не сможешь сказать, то скажу я!
Транкиль с восхищением смотрел на удивительную женщину, слова и жесты которой так гармонировали друг с другом и были исполнены такого достоинства, на прекрасном лице которой отражались ее благородные чувства. Он казался самому себе ничтожным по сравнению с этой избранной натурой, преисполненной самой великой страсти — материнской любви.
— Чистое Сердце, — сказал он с волнением, которого не смог в себе подавить, — если вы этого требуете, я выслушаю рассказ о событиях, которые были причиной вашего переселения в пустыню. Но знайте, что бы я ни услышал, заверяю вас в том, что никогда вам не изменю. А теперь, будете ли вы говорить или оставите вашу тайну при себе, мне все равно! Помните только одно — я принадлежу вам душой и телом, несмотря ни на что, хотя бы все были против вас, и сегодня, и завтра, и через десять лет. Я клянусь вам в этом, — добавил он с некоторой торжественностью, — душой моей дорогой и горячо оплакиваемой мною матери, прах которой покоится на кладбище в Квебеке! Теперь продолжайте, я готов вас слушать.
Чистое Сердце горячо ответил на дружеское рукопожатие охотника и усадил его возле себя по правую сторону, тогда как Хесусита села по левую.
— Итак, слушайте, — начал он.
В эту минуту дверь отворилась и в ней показался Эусебио.
— Mi amo [27], — сказал он, — индейский вождь по имени Черный Олень желает говорить с вами.
— Как! Черный Олень? — воскликнул охотник с удивлением. — Но он в эту минуту должен участвовать в свадебных празднествах.
— Простите меня, — возразил Транкиль, — вы забыли, Чистое Сердце, что, когда мы покинули празднество, вождь подошел к нам и сказал шепотом, что должен сообщить нам что-то важное.
— Правда! Я действительно об этом забыл. Пусть он войдет, Эусебио. Друг мой, — добавил он, обращаясь к Транкилю, — я не могу сейчас начать рассказ, который будет прерван на первом слове, но надеюсь, что скоро вы все узнаете.
— Не буду мешать вам заниматься делами индейцев, — сказала с улыбкой Хесусита. С этими словами она вышла из комнаты.
Мы должны признаться, что Транкиль был в душе очень рад, что ему помешали слушать рассказ о каких-то тяжелых событиях. Благородный охотник обладал драгоценным свойством нимало не интересоваться прошлым людей, которых любил. Прямой и честный по натуре, он боялся, чтобы они не упали в его мнении. А потому он с удовольствием согласился отложить признание Чистого Сердца до другого раза и мысленно был даже благодарен Черному Оленю за то, что тот появился так кстати.
Эусебио ввел индейца.
Черный Олень, отрешившийся от своей напускной и привычной индейцам невозмутимости, казался очень озабоченным. Ни его мрачное лицо, ни сурово сдвинутые брови не напоминали в нем человека, который только что заключил давно желанный брак. Напротив, походка его была так торжественна, лицо носило выражение такой суровости, что это сразу бросилось в глаза обоим охотникам.
— Ого! — воскликнул Чистое Сердце веселым тоном. — У вас очень мрачный вид! Не увидели ли вы при въезде в селение пять ворон по правую сторону от вас? Или нож ваш трижды вонзился в землю? Каждому известно, что это дурные приметы.
Прежде чем ответить, вождь окинул комнату подозрительным взглядом.
— Нет, — сказал он тихо и сдержанно, — Черный Олень не видел пяти ворон по правую сторону от себя, но он видел по левую сторону от себя лисицу, а в кустарнике целую стаю сов.
— Знаете, вождь, я вас совсем не понимаю! — воскликнул Чистое Сердце, смеясь.
— И я тоже! — заметил Транкиль с лукавой улыбкой.
Вождь мужественно вынес двойную насмешку.
Ни один мускул его лица не дрогнул, напротив, черты его стали еще более мрачными.
— Пусть братья мои смеются, — сказал он. — Они бледнолицые. Какое им дело до того, что случится с индейцами!
— Простите, вождь, — возразил Чистое Сердце, сразу став серьезным. — Ни я, ни мой друг не хотели обидеть вас.
— Я знаю это, — сказал вождь. — Братья мои не могли предположить, что в такой день, как сегодня, я могу быть печален.
— Вы правы. Но теперь уши наши открыты. Пусть брат мой говорит, мы выслушаем его с тем вниманием, которого заслуживают его слова.
Индеец, казалось, с минуту колебался. Но затем, нагнувшись к Чистому Сердцу и Транкилю, сидевшим рядом с ним, тихо произнес.
— Положение серьезно. У меня в распоряжении только несколько минут. Пусть братья слушают меня внимательно, я должен вернуться в хижину Черной Птицы, где меня ждут друзья и родные. Слушают ли меня мои братья?
— Мы слушаем, — ответили в один голос охотники.
Прежде чем снова заговорить, Черный Олень тщательно осмотрел стены комнаты и отворил двери, точно боялся, что его подслушают. Удостоверившись в том, что никто его не может услышать, он возвратился к охотникам, с любопытством наблюдавшим за его странным поведением, и понизил голос до шепота:
— Большая беда угрожает команчам-антилопам.
— Почему, вождь?
— Апачи скрываются в окрестностях селения.
— Как вы это узнали?
— Я их видел.
— Мой брат видел апачей?
Вождь тонко улыбнулся.
— Да, — сказал он, — Черный Олень великий храбрец, у него чутье борзых, принадлежащих его брату. Он почуял врага. Почуять — значит для воина видеть.
— Да, но пусть брат мой остережется. Чувства — плохой советчик, — возразил Чистое Сердце.
Черный Олень пренебрежительно пожал плечами.
— Сегодня ночью в лесу не было ни малейшего движения воздуха, а между тем листья на деревьях шевелились, трава волновалась.
— Да, это удивительно! — сказал Чистое Сердце. — Посланный от апачей-бизонов в настоящее время в нашем селении. Если так, мы — жертвы ужасного предательства.
— Голубая Лисица — изменник, предавший свой народ, — сказал индеец с некоторым волнением, — чего можно ждать от такого человека? Он пришел сюда, чтобы усыпить бдительность воинов.
— Да, — сказал Чистое Сердце задумчиво. — Очень может быть. Но что же делать? Предупредил ли брат мой об этом вождей?
— Да. В то время как Голубая Лисица просил глашатая созвать совет, Черный Олень говорил с Черной Птицей, Прыгающей Пантерой и Рысью.
— Отлично. Что они решили?
— Решили под благовидным предлогом оставить Голубую Лисицу заложником. С закатом солнца двести воинов под предводительством Чистого Сердца нападут на врага. Черный Олень будет их проводником. Враг знает, что лазутчик его в селении. Он сам попадет в расставленный им капкан.
Чистое Сердце несколько минут молчал, он соображал.
— Пусть брат мой слушает, — сказал он наконец. — Я готов повиноваться приказанию совета вождей племени, но не хочу, чтобы воинов, которые будут вверены моему попечению, задушили. Апачи-бизоны — старые, болтливые и крикливые бабы и трусы, которым мы будем давать юбки всякий раз, как встретимся с ними в прериях лицом к лицу. Но теперь — иное дело, теперь они находятся в засаде, в местности, выбранной ими заранее. Ее преимущества им хорошо известны. Как бы хорошо ни повел молодых людей мой брат, апачи их выследят, а этого нельзя допустить.
— Что же сделает мой брат? — спросил Черный Олень с чуть заметной тревогой.
— Солнце прошло уже две трети своего пути. Черный Олень лично предупредит воинов, что каждый из них должен отправиться отдельно от других к горе Черного Медведя через час после захода солнца. Это ни в ком не возбудит подозрения, все будут думать, что они отправились на охоту. Если неприятель разослал шпионов, то и им не придет в голову, что охотники, разъехавшиеся в разные стороны, посланы для нападения на неприятеля. Затем, когда солнце скроется, мой брат, белый охотник и я сядем в священной пещере Красной горы на лошадей и присоединимся к краснокожим. Хорошо ли я сказал? Нравится ли это моему брату?
Пока Чистое Сердце излагал свой план, вождь обнаруживал признаки живейшей радости и восхищения.
— Мой брат хорошо говорил! — ответил он. — Разум его велик, хотя волосы его черны. Мудрость Владыки Жизни царит в нем. Все будет сделано так, как он хочет. Черный Олень будет повиноваться ему. Он в точности исполнит мудрые советы своего брата.
— Хорошо! Пусть брат мой будет осторожен, Голубая Лисица очень хитер.
— Голубая Лисица — собака, которой Черный Олень отрежет уши. Пусть мой брат охотник не беспокоится. Все будет сделано так, как он хочет.
Обменявшись еще несколькими словами с Чистым Сердцем, чтобы сговориться с ним окончательно, Черный Олень удалился.
— Вы поедете со мной, Транкиль, не так ли? — спросил молодой человек канадца, когда они остались наедине.
— Pardieu! [28] Разве вы в этом сомневаетесь? — ответил тот. — Что мне здесь делать без вас? Я предпочитаю сопровождать вас, тем более, что, по моему мнению, нам предстоит резня.
— Вы не ошиблись. Для меня очевидно, что апачи не рискнули бы приблизиться к селению, если б их было мало.
— Двухсот человек в таком случае недостаточно! Вы должны потребовать еще людей.
— Зачем? При внезапном нападении обычно сильнее тот, кто нападает — мы постараемся атаковать врага.
— Правда, карамба! Я в восторге от этого. Давно уж я не слышал запаха пороха; я чувствую, что начинаю покрываться ржавчиной. Это встряхнет меня.
В ответ на это Чистое Сердце рассмеялся, Транкиль ему вторил. После этого они заговорили о другом.
Глава XIV
ДВА ВРАГА
В северных широтах Америки ночь наступает почти мгновенно и незаметно, сумерек там нет вовсе. Не успеет солнце исчезнуть с горизонта, настает глубокая ночь. В то время года, когда происходили события, служащие предметом нашего рассказа, солнце садилось в семь часов.
Полчаса спустя Транкиль и Чистое Сердце выехали из дома в селение верхом на прекрасных мустангах, сопровождаемые Эусебио, который во что бы то ни стало желал принять участие в этой экспедиции. Ни просьбы, ни увещания не могли заставить его остаться дома. Проехав всего несколько шагов по площади, канадец взялся за повод лошади молодого человека.
— Что вы хотите от меня? — спросил тот.
— Разве мы не возьмем с собой наших товарищей? — ответил вопросом на вопрос охотник.
— А вы считаете, что это необходимо?
— Э! За исключением монаха, который мало на что годен, все — отличные ребята, и ружья их могут при случае очень пригодиться нам.
— Вы правы, предупредите их, посвятите в двух словах в дело и догоняйте меня.
— А как вы думаете, отъезд такого большого числа всадников не возбудит подозрений у Голубой Лисицы, который, без сомнения, бродит где-нибудь поблизости?
— Ни в коем случае! Это ведь белые. Если бы он видел, что таким образом уезжают индейские воины, он, конечно, заподозрил бы неладное, но охотники!.. Он никогда не подумает, что им известен его обман.
— Может быть, вы правы, но лучше бы убедиться в этом. Подождите меня, я вернусь через десять минут.
— Хорошо, поезжайте.
Транкиль быстро отъехал, а Чистое Сердце и Эусебио, остановив лошадей, стали ждать его возвращения.
Авантюристы с радостью приняли предложение Транкиля. Для таких людей, как они, сражение — праздник, особенно если дело идет о том, чтобы воевать с индейцами. Не прошло и десяти минут, как канадец со своими товарищами уже присоединился к молодому человеку.
Маленький отряд бесшумно выехал из селения.
Чистое Сердце ошибался, предположив, что Голубая Лисица не поднимет тревоги, увидев, что белые охотники покинули селение.
Краснокожий, замышляющий измену, пристально следил за всеми поступками обитателей этого селения. От него не ускользнуло ни малейшее их движение, и хотя вождь команчей действовал с большой осмотрительностью, вождь апачей заметил, что за ним наблюдают и, несмотря на оказанные ему почести, в действительности он — пленник.
Он сделал вид, что совершенно не подозревает того, что происходит, и только удвоил свое внимание.
В течение дня он наблюдал, как несколько воинов по двое, по трое и даже по четыре человека сели на лошадей, выехали из селения и скрылись в лесу. Ни один из этих воинов не вернулся в селение к закату солнца, это навело краснокожего на размышления. Наконец он пришел к заключению, что замысел его раскрыт и команчи собираются в свою очередь сделать попытку напасть на тех, кто хотел заманить их в ловушку. Отъезд охотников разрушил его последние сомнения на этот счет.
Положение становилось критическим — его волосы были в опасности. Команчи, вернувшись из экспедиции, начнут танцевать танец скальпа, и самым великолепным украшением праздника будет вождь апачей, который хотел ловко заманить их в капкан.
Голубая Лисица был известен как знаменитый воин. Он славился небывалой смелостью и хладнокровием. Голубая Лисица как истинный краснокожий никогда не колебался, если обстоятельства заставляли его вместо храбрости употреблять в дело хитрость и обман. Ему казалось смешным, а главное, бесполезным рисковать жизнью бесцельно.
Голубая Лисица сидел на корточках перед входом в почетную хижину, отведенную для него команчами на все время его пребывания среди них и невозмутимо курил трубку в тот момент, когда белые охотники проезжали мимо. При виде их он не обнаружил ни удивления, ни любопытства, но, почти незаметно повернув голову, следил за всадниками горящими глазами до тех пор, пока они совсем не исчезли во мраке ночи.
Мы уже говорили о том, что ночь была очень темной. Селение, казалось, погрузилось в ночной сон. Индейцы удалились в свои хижины, и только время от времени какой-нибудь одинокий краснокожий пересекал быстрыми шагами площадь, торопясь домой.
Голубая Лисица все продолжал курить у входа в хижину, но вот рука его, державшая трубку, упала на колени, и голова свесилась на грудь. Казалось, вождь апачей под влиянием наркотического действия табака морише, как это часто случается с индейцами, заснул во время курения. Прошло довольно много времени, а индеец не сделал ни одного движения.
Спал ли вождь в действительности? На этот вопрос никто не мог бы ответить. Его ровное, спокойное дыхание, его непринужденная поза — все, казалось, свидетельствовало о том, что он на самом деле спит. Между тем стоило какому-нибудь шуму неожиданно коснуться его слуха, как незаметная дрожь пробегала по всему телу индейца и его раскосые глаза приоткрывались. Возможно, это объяснялось инстинктивной осторожностью, свойственной этому народу, но, скорее, желанием исследовать причину шума. Так решил бы каждый при виде того, как краснокожий начинал вглядываться в царивший вокруг него мрак.
Вдруг занавесь у дверей хижины раздвинулась, и грубая рука легла на плечо спящего (или притворявшегося спящим) . При этом неожиданном прикосновении вождь вздрогнул и вскочил, точно его ужалила змея.
— Ночи холодны, — сказал иронический голос, неприятно прозвучавший в ушах Голубой Лисицы, — росы обильны и леденят кровь. Брат мой поступает дурно, задремав на открытом воздухе, когда у него есть удобная и просторная хижина.
— Благодарю моего брата за его благосклонное замечание. Действительно, ночи очень холодны, и лучше спать в хижине, чем под открытым небом, — ответил мягким и сонным голосом только что проснувшегося человека Голубая Лисица, сделав над собой большое усилие, чтобы притушить огонь своих глаз и придать лицу спокойное выражение.
Он вошел в хижину ровным шагом человека, который очень доволен полученным предостережением. Внутри хижины горел большой костер, кроме того, она освещалась факелом, воткнутым в землю и разливавшим вокруг кровавый колеблющийся свет.
Человек, сделавший Голубой Лисице такое добросердечное замечание, опустил занавесь у входа и вошел в хижину вслед за индейцем.
Это был Черный Олень. Не говоря ни слова, он присел к огню и стал методично раскладывать поленья для костра.
Голубая Лисица несколько секунд смотрел на него с неопределенным выражением, затем подошел и стал рядом.
— Братья мои — команчи-антилопы — великие воины, — сказал он с едва заметной иронией в голосе. — Они лучше всех знают законы гостеприимства.
— Команчи-антилопы, — ответил спокойно Черный Олень, — знают, что Голубая Лисица — знаменитый вождь и один из самых великих храбрецов племени апачей-бизонов, а потому желают относиться к нему с почтением.
Апач поклонился.
— Поручено ли моему брату, великому воину, для почета сторожить меня?
— Мой брат — гость команчей, а потому имеет право на особое внимание.
Как два опытные дуэлянта скрещивают оружие, проверяя ловкость друг друга, так и оба вождя сразу поняли, что силы их равны, и потому отступили, чтобы возобновить поединок на другой почве.
— Итак, — начал снова Голубая Лисица, — брат мой останется в хижине вместе со мной?
Черный Олень утвердительно кивнул головой.
— О-о-а! Теперь я знаю, с какой целью вожди команчей так поступили со мной. Им известно, что хотя Черный Олень и Голубая Лисица приняты каждый в свое племя, они, вместе с тем, дети одного могущественного племени, племени пауни-змей, а потому вожди команчей предположили, что оба вождя будут рады поговорить друг с другом о первых годах их жизни. Брат мой поблагодарит от имени Голубой Лисицы вождей своего племени. Я не ожидал от них такого доказательства их внимания.
— Моему брату справедливо дали название лисицы, — отвечал вождь команчей коротко, но с оттенком язвительности, — тонкость его понимания велика!
— Что этим хочет сказать мой брат? — спросил вождь апачей с самым удивленным видом, какой только сумел изобразить.
— Я говорю правду, и мой брат знает это хорошо, — ответил Черный Олень. — К чему нам изощряться друг перед другом в хитрости? Мы знаем один другого с давних пор. Пусть мой брат выслушает меня: команчи-антилопы не неопытные дети, как это думают апачи, они знают, с какой целью брат мой явился в их зимний атепетль.
— О-о-а! — воскликнул Голубая Лисица. — Я слышу голос пересмешника, поющего у моего уха, но, между тем, не понимаю, что он хочет сказать.
— Может быть, но чтобы рассеять сомнения моего брата, буду говорить с ним открыто.
— Умеет ли так говорить мой брат? — сказал Голубая Лисица с насмешкой.
— Вождь сам будет судить об этом. Вот уже несколько лун апачи-бизоны ищут случая отомстить команчам за поражение, которое потерпели от них. Но апачи — старые боязливые бабы, которые не умеют даже хитрить, команчи дадут им юбки и пошлют их рубить дрова в лесу.
Брови Голубой Лисицы грозно сдвинулись при этом кровном оскорблении, глаза яростно сверкнули, но он сумел сдержаться. С достоинством выпрямившись, индеец величественно запахнул плащ из бизоньей шкуры.
— Мой брат Черный Олень забыл, с кем он говорит. Голубая Лисица послан своим племенем к команчам, он находится под защитой тотема антилопы, он выкурил священную трубку, и к нему должны относиться с почтением.
— Вождь апачей ошибается, — ответил Черный Олень, презрительно усмехаясь, — он не посланец храброго племени, он всего лишь шпион стаи бешеных собак. В то время, когда Голубая Лисица старается обмануть вождей команчей и усыпить их внимание, собаки-апачи притаились, как медведи, в траве и ждут сигнала, который отдаст им в руки их беззащитных врагов.
Окинув хижину быстрым взглядом, Голубая Лисица выхватил нож и бросился на своего врага.
— Умри, собака! — воскликнул он, взмахнув ножом.
С самого начала этой своеобразной беседы Черный Олень не сдвинулся с места, он продолжал спокойно сидеть на корточках у огня, но его взгляд следовал за каждым движением вождя апачей. Когда тот со всего размаха прыгнул на него, Черный Олень резким движением отклонился в сторону, с необыкновенной быстротой вскочил на ноги, охватил вождя своими мускулистыми руками, после чего оба противника повалились на землю, переплетясь, как змеи.
При падении они опрокинули факел, который тотчас же потух. Борьба двух людей продолжалась, борьба страшная, молчаливая, не на жизнь, а на смерть. Каждый из них старался вонзить свой нож в другого. Они были почти одного возраста, силы их и ловкость были равны, их воодушевляла беспощадная ненависть. В этом ужасном поединке, который должен был закончиться смертью одного из борющихся, противники пренебрегали тонкостями, обычно применяемыми в дуэлях. Никто из них не думал о том, что может быть убит, лишь бы враг его получил смертельный удар. Но Черный Олень имел большое преимущество перед ослепленным яростью противником, который не мог рассчитать ни одного из своих движений и поэтому не мог продолжить страшного поединка, не став жертвой безумной ярости, которая толкнула его к нападению на вождя команчей. Напротив, Черный Олень, сохранив полное самообладание, действовал очень осмотрительно и сумел так ловко схватить за руки своего врага, что тот совершенно лишился возможности употребить в дело оружие. Все усилия Черного Оленя сводились лишь к тому, чтобы свалить вождя апачей на продолжавший гореть в центре хижины костер.
Враги боролись уже долго, и все еще невозможно было угадать, кто выйдет победителем из этого поединка. Вдруг занавесь у входа в хижину приподнялась, и хижина осветилась ярким, ослепительным светом. Внутрь вошли несколько человек, это были команчские воины. Все, что произошло в эти минуты, было оговорено заранее между ними и Черным Оленем, однако они опоздали. Их против воли задержали важные обстоятельства, и, приди они пятью минутами позже, их вмешательство запоздало бы и один из двух борющихся скорее всего оказался бы мертвым, — настолько поединок двух врагов был яростен и беспощаден.
Когда Голубая Лисица увидел помощь, явившуюся к его врагу, он мгновенно оценил свое положение и счел себя погибшим. Тем не менее свойственные индейцам лукавство и хладнокровие не покинули его в эту критическую минуту — краснокожие, как бы ни была велика их ненависть к врагу, никогда не убивают его, если он сдался добровольно.
Как только вождь апачей увидел команчей, он тотчас же опустил руки, которые как тиски охватывали туловище Черного Оленя, сковывая его движения, откинул голову назад, закрыл глаза и замер.
Голубая Лисица знал, что на него будут смотреть как на пленного, и приговорят к пыткам, но надеялся, что сумеет ускользнуть до исполнения приговора, как бы его тщательно ни охраняли. Это был единственный шанс, оставшийся в его распоряжении, и он не желал терять его.
Черный Олень поднялся, изнуренный борьбой, но вместо того, чтобы вонзить нож в лежащего у его ног безоружного противника, заткнул его за пояс.
Расчет вождя апачей оказался верным: до начала пыток ему нечего было бояться своего врага.
— Голубая Лисица — великий храбрец, он сражался как храбрый воин, — сказал Черный Олень. — Он должен чувствовать себя утомленным. Пусть он встанет. Вождь команчей отнесется к нему с тем уважением, какого тот заслуживает. — И, сказав это, он протянул Голубой Лисице руку, чтобы помочь подняться.
Вождь апачей не сделал ни одного движения, чтобы взять свое оружие, и, смело ухватившись за протянутую руку, встал.
— Собаки-команчи увидят смерть воина, — сказал он насмешливо. — Голубая Лисица смеется над их пытками, они не смогут заставить дрогнуть ни один его мускул.
— Хорошо! Мой брат увидит! — И обратившись к стоявшим безмолвно воинам Черный Олень добавил: — Когда умрет этот воин?
— Завтра на закате солнца, — коротко ответил старший из индейцев.
— Мой брат слышал, — сказал Черный Олень. — Не хочет ли он что-нибудь сказать?
— У него есть одно возражение.
— Пусть брат говорит — наши уши открыты.
— Голубая Лисица не боится смерти, но прежде, чем отправиться в счастливые поля охотиться под милостивым взглядом могущественного Владыки Жизни, ему еще многое необходимо сделать на земле.
Команчи утвердительно кивнули головами.
— Голубой Лисице необходимо возвратиться к воинам своего племени, — продолжал вождь апачей.
— Сколько времени вождь будет отсутствовать?
— Целую луну.
— Хорошо! Что сделает вождь в подтверждение своих слов, чтобы команчи ему поверили?
— Голубая Лисица оставит за себя заложника.
— Вождь апачей-бизонов — великий храбрец! Какой вождь из его племени или воин будет в состоянии его заменить и умереть, если его позабудут выручить?
— Я дам кость от костей моих, кровь от моей крови! Сын мой заменит меня.
Команчи обменялись взглядами.
Воцарилось долгое молчание. Вождь апачей, горделиво завернувшись в свой плащ, невозмутимо ждал. Черты его неподвижного лица не отражали ни одного из чувств, волновавших его.
Наконец Черный Олень заговорил:
— Мой брат напомнил мне дни нашей молодости, когда мы были детьми пауни-змей и охотились вместе в прериях верхнего Миссури. Первые годы жизни — самые лучшие годы, слова моего брата заставили радостно забиться мое сердце. Я буду к нему добр — сын заменит его, хотя он и очень молод. Он умеет ползать, как змея, летать, как орел, рука его сильна в боях. Но пусть Голубая Лисица подумает прежде, чем взять на себя такое обязательство. Если вечером через двадцать восемь солнц мой брат не займет свое место у столба пыток, сын его умрет!
— Благодарю моего брата, — ответил вождь апачей твердо. — В день двадцать восьмого солнца я вернусь, вот моя рука.
— Вот моя.
И оба врага, пытавшиеся за несколько минут перед тем убить друг друга, обменялись сердечным рукопожатием. После этого Голубая Лисица отвязал ремень из змеиной кожи, связывавший его волосы в виде обруча, и выдернул белое орлиное перо, торчавшее за правым ухом.
— Пусть мой брат одолжит мне нож, — сказал он.
— Собственный нож моего брата лежит у его ног, — ответил любезно Черный Олень. — Такой великий воин не должен оставаться безоружным, пусть он поднимет его.
Вождь апачей поднял свое оружие и засунул за пояс.
— Вот перо вождя, — сказал он, передавая перо Черному Оленю. Отрезав прядь волос, которые теперь в беспорядке падали ему на плечи, он добавил: — Пусть мой брат сохранит эти волосы, они составляют часть скальпа, который теперь принадлежит ему. Вождь сдержит свое слово и приедет требовать их обратно в условный день и час.
— Хорошо, — ответил Черный Олень, взяв волосы и перо. — Пусть мой брат следует за мной.
Команчи, невозмутимые свидетели этой сцены, потрясли своими факелами, чтобы разжечь их, и все индейцы, выйдя из хижины, направились к хижине совета. Хижина помещалась, как мы уже говорили, посредине площади, между ковчегом первого человека и столбом пыток. Индейцы медленным и торжественным шагом двинулись к столбу пыток. По мере того как они проходили мимо хижин, занавеси на них отдергивались, их обитатели с зажженными факелами в руках присоединялись к шествию, и когда вожди команчей добрались до цели, огромная толпа покрывала площадь. Толпа эта была сдержанна и молчалива.
Было нечто странное и захватывающее в зрелище, которое представляла в ту минуту площадь, освещенная множеством факелов, колеблемых ветром во все стороны.
Вожди стали полукругом у столба пыток, в середине находился Голубая Лисица.
— Теперь, после того как мой брат отдал залог, он может позвать своего сына, — сказал Черный Олень. — Дитя должно быть недалеко отсюда.
Вождь апачей лукаво ухмыльнулся.
— Маленький орленок всегда следует за могучим полетом отца, — сказал он. — Пусть воины расступятся в обе стороны, чтобы дать ему дорогу.
По знаку Черного Оленя толпа расступилась. Голубая Лисица поднес правую руку к губам и три раза с промежутками крикнул ястребом.
Через несколько минут в ответ ему раздался такой же крик, но слабый и отдаленный.
Вождь повторил сигнал. На этот раз ответом был сильный и короткий свист. В третий раз ответный свист раздался совсем близко, затем послышался топот лошадиных копыт и показался индейский всадник, скачущий во весь дух.
Этот воин, не обнаружив ни малейшего удивления, пересек площадь и как вкопанный остановился у столба пыток по правую сторону Голубой Лисицы.
— Я здесь! — сказал он.
Воин был сыном вождя апачей. Это был юноша лет шестнадцати, высокий и стройный, черты его лица были красивы, взгляд горделив, поза проста и благородна.
— Этот юноша — мой сын, — сказал Голубая Лисица, указывая на него вождям команчей.
— Хорошо, — сказали те, вежливо поклонившись.
— Согласен ли мой сын остаться заложником вместо своего отца? — спросил его Черный Олень.
Молодой человек утвердительно кивнул головой.
— Знает ли мой сын, что если отец его не сдержит своего слова, он умрет вместо отца.
— Я знаю это, — ответил тот.
— Мой сын согласен на это?
— Я согласен.
— Хорошо, — продолжал вождь, — пусть мой сын смотрит.
С этими словами вождь прибил к столбу пыток волосы и орлиное перо, полученные им от Голубой Лисицы.
— Эти волосы и это перо останутся здесь до тех пор, пока тот, кому они принадлежат, не придет потребовать их.
Тогда заговорил вождь апачей.
— Я клянусь на моем тотеме, — сказал он, — взять их в назначенное время!
— О-о-а! Брат мой свободен, — сказал тогда Черный Олень. — Вот перо вождя, оно поможет узнать моего брата, если тот встретится с воинами моего племени. Только пусть мой брат помнит, что ему запрещено общаться каким бы то ни было путем с храбрыми воинами своего племени, находящимися засаде около селения.
— Голубая Лисица будет помнить об этом.
Не взглянув ни разу на неподвижно стоявшего возле него сына, вождь взял перо, которое протягивал ему Черный Олень, сел на лошадь, на которой приехал молодой человек, и умчался галопом, не повернув ни разу головы.
Когда силуэт его исчез во мраке, вожди подошли к юноше, связали его и заперли в хижине совета, приставив к нему несколько часовых.
— Теперь, — сказал Черный Олень, — примемся за других! — И сев на лошадь, он тоже выехал из селения.
Глава XV
ЗАСАДА
Привыкнув к природе Старого Света, которую человек, можно сказать, сам себе создал, к бедным пейзажам, грандиозность которых он умалил, чтобы сделать их более доступными для себя, путешественник даже представить себе не может великолепия, которое представляют собой американские леса ночью при серебристом свете, потоком льющемся от звезд, в то время когда все спит или кажется спящим, и один лишь Божий глаз, никогда не дремлющий, бодрствует во вселенной.
Непонятный, не имеющий причины шум, непрерывно поднимающийся от земли к небу, точно дыхание уснувшей природы, смешиваясь с монотонным журчанием неведомых ручейков, спокойно катящих свои воды по камням русла, таинственный ветерок, время от времени пробегающий по густым вершинам деревьев и тихо пригибающий их макушки, нежно шурша ветвями и листьями, глубокий покой пустыни, покой, который ничто не в состоянии смутить — все там погружает душу в мечтательное настроение и наполняет ее благоговением к великим творениям Создателя.
Мы в свое время достаточно подробно описали индейское селение, чтобы не возвращаться к этому, а потому ограничимся только добавлением, что атепетль был построен амфитеатром и отлого спускался к реке. Такое расположение лишало неприятеля возможности окружить его, тем более что крепкая изгородь полностью отделяла хижины от леса.
Чистое Сердце и его спутники медленно подвигались вперед, держа ружья наготове, внимательно осматривая окрестности и намереваясь дать залп при малейшем подозрительном шорохе в траве. Между тем все вокруг продолжало оставаться спокойным. По временам до них доносились то крик какого-то животного, то зловещий хохот совы, притаившейся в чаще, и вновь в прерии воцарялось глубокое молчание. Иногда при голубоватом свете луны они видели у реки неясные очертания каких-то фигур — по-видимому, это были дикие звери, покинувшие свои логовища, чтобы пойти к водопою. Отряд продолжал двигаться без помех и наконец достиг леса. Там густая тень окутала всадников и лишила их возможности различать предметы даже за десять ярдов перед собой.
Чистое Сердце счел неблагоразумным продолжать двигаться по незнакомой местности, где на каждом шагу они рисковали наткнуться на засаду, а потому отряд остановился. Лошадей повалили на бок и перевязали им ноги и морды, чтобы те не могли ни заржать, ни шевельнуться, а сами путешественники притаились в траве, внимательно прислушиваясь и приглядываясь ко всему, что казалось им подозрительным. Время от времени они видели всадников, проезжавших быстрым аллюром по свободному пространству между изгородью селения и лесом. Всадники двигались в разных направлениях, некоторые проезжали так близко от охотников, что едва не касались их, но благодаря принятым мерам предосторожности не замечали присутствия чужих, въезжали в лес и исчезали там. Прошло несколько часов. Охотники, по-прежнему напряженно выжидавшие, никак не могли понять причину опоздания вождя (читателю, однако, эта причина известна). Луна скрылась, темнота стала еще гуще.
Чистое Сердце, не зная, чем объяснить отсутствие Черного Оленя, предположил, что какое-то неожиданное несчастье обрушилось на атепетль, и хотел уже отдать приказ отряду возвращаться, как вдруг Транкиль, который ползком пробрался к открытой поляне и оставался там долгое время в дозоре, присоединился к своим товарищам.
— Что случилось? — прошептал Чистое Сердце еле слышно.
— Я не могу вам этого объяснить, — ответил охотник. — Я сам ничего не понимаю. Не больше часа тому назад около меня точно из земли вырос какой-то индеец, вскочил на лошадь, которую я до того и не замечал, и помчался во весь опор по направлению к атепетлю.
— Странно! — пробормотал Чистое Сердце. — И кто был этот индеец?
— Апач.
— Апач? Быть не может!
— Вот это-то обстоятельство и кажется мне непонятным. Каким образом мог апач рискнуть ехать один?
— Здесь что-то кроется. А что означают сигналы, которые мы слышали?
— Этот человек отвечал на них.
— Что же теперь делать?
— Узнать в чем дело.
— Да, конечно, но как это сделать?
— Pardieu, надо присоединиться к нашим друзьям.
Чистое Сердце покачал головой.
— Нет, — сказал он, — этот путь не годится. Я обещал Черному Оленю помочь ему в этой экспедиции и не нарушу своего слова.
— Очевидно, у индейцев произошли какие-то важные события.
— Я тоже так думаю. Но не будем отчаиваться, — добавил он, хлопнув себя полбу, — мне пришла в голову одна мысль. Скоро мы узнаем, чего нам ждать; предоставьте мне свободу действий.
— Нужна вам наша помощь?
— Пока нет. Я буду у вас на виду. Если вы увидите, что я в опасности, выручайте.
— Хорошо.
Чистое Сердце взял длинную скрученную из кожи веревку, служившую ему арканом, и, освободившись от ружья, которое могло помешать исполнению задуманного плана, лег на землю и пополз, как змея.
Поляна была усеяна срубленными деревьями и огромными камнями. Место это было в высшей степени благоприятно для засады и наблюдательных постов. Чистое Сердце остановился, позади глыбы красного гранита, высота которой позволяла ему встать во весь рост. Огромный камень скрывал охотника почти полностью, и увидеть его можно было только со стороны леса. Но неприятеля, скрывавшегося в лесу, можно было не опасаться — ночь была настолько черна, что потребовалось бы, ни на минуту не отвлекаясь, наблюдать за каждым движением охотника, чтобы заметить его присутствие здесь.
Чистое Сердце был мексиканцем. Как и все его соотечественники, у которых ловкость и умение владеть оружием вошли в пословицу, он с раннего детства умел обращаться с лассо — таким опасным в руках его соотечественников.
Лассо, или реата, — предмет этот имеет два названия — не что иное, как кожаный ремень, смазанный жиром. Длина такого ремня обычно составляет сорок или пятьдесят футов, на одном конце его находится глухая петля, а другой конец крепко привязан к железному кольцу, прикрепленному к седлу. Всадник берет в правую руку лассо, крутит его вокруг головы, пускает лошадь в галоп и, приблизившись на расстояние тридцати или сорока футов к человеку или животному, которого преследует, бросает лассо таким образом, чтобы мертвая петля упала на плечи жертвы. В тот момент, когда всадник кидает свое оружие, сам он быстро поворачивает лошадь в противоположную сторону, так что неприятель, несмотря на самое активное сопротивление, волей-неволей опрокидывается на землю и волочится вслед за всадником.
Так пользуются лассо, сидя верхом на лошади. Пеший делает это почти так же, только тот, кто использует лассо, не имея в распоряжении лошади, служащей конному большой подмогой, должен обладать большой физической силой, и некоторое время он сам может волочиться вслед за пойманным.
В Мексике, где это оружие считается общеупотребительным, позаботились, конечно, о том, как обороняться от него. Самым действенным средством считается разрезать лассо, поэтому у каждого всадника можно найти в правом сапоге нож с длинным лезвием. Только в большинстве случаев всадник, захваченный врасплох, бывает задушен раньше, чем успеет взяться за нож.
Из сотни всадников, на которых во время битвы или во время преследования накинули лассо, девяносто пять неминуемо падут мертвыми, остальные же избавятся от смерти разве что чудом, столько нужно ловкости, силы и хладнокровия, чтобы разрезать эту мертвую петлю.
Чистому Сердцу пришла в голову мысль сделать затяжную петлю на кожаной веревке и набросить это импровизированное лассо на первого всадника, который проедет мимо него.
Став позади камня, он развернул длинный ремень и прикрепил один конец его к своему туловищу; сделав петлю с тщательностью, которой требовали обстоятельства, он взял в правую руку лассо и стал ждать.
Случай, казалось, хотел прийти на помощь смелому замыслу охотника. Не успел он простоять и десяти минут, как услышал топот лошади, мчавшейся во весь опор.
Чистое Сердце внимательно прислушался. Топот лошадиных копыт приближался с необыкновенной быстротой, и вскоре во мраке ночи возник силуэт всадника.
Путь верхового пролегал на очень незначительном расстоянии от гранитной глыбы, за которой скрывался охотник.
Расставив ноги, чтобы стоять тверже, нагнув туловище немного вперед, он несколько раз покрутил лассо вокруг головы и, в тот момент, когда всадник поравнялся с ним, набросил на него лассо.
Ремень вырвался из рук охотника и, свистя, упал на плечи всадника, выхваченного из седла и сброшенного на землю прежде, чем тот смог дать себе отчет в том, что с ним случилось. Лошадь, скакавшая быстрым аллюром, сделала еще несколько шагов, потом, почувствовав, что потеряла всадника, замедлила ход и вскоре остановилась.
Тем временем охотник одним прыжком бросился к человеку, который не успел даже вскрикнуть и лежал неподвижно там, где был сброшен. Чистое Сердце подумал, что он мертв, но, к счастью, это было не так.
Первой заботой охотника было освободить раненого от петли, сжимавшей горло, чтобы позволить ему дышать. Затем, не тратя времени на то, чтобы рассмотреть, с кем именно имеет дело, он тщательно связал его, вскинул себе на плечи и понес к тому месту, где ждали его товарищи.
Те издали наблюдали происходящее, но были так далеки от догадки, какое средство молодой человек использовал для поимки пленного, что не могли объяснить себе, почему всадник был так быстро сброшен с лошади.
— О-о! — сказал Транкиль. — Вы, кажется, захватили хорошую добычу.
— Я тоже так думаю, — ответил Чистое Сердце, опуская свою ношу на землю.
— Каким образом, pardieu, вам удалось его выбить из седла так ловко?
— Ах, Боже мой! Самым простым способом: я набросил на него лассо.
— Parbleu! [29] — воскликнул охотник. — Я этого не сообразил. Посмотрим, с какой дичью нам придется иметь дело. У этих дьяволов-индейцев очень трудно вытянуть что-либо, когда они задались целью не разжимать рта; этот, по всей вероятности, не захочет говорить.
— Кто знает? Попытаемся.
— Хорошо, но прежде всего надо убедиться, что мы имеем дело с врагом. Не слишком приятно будет, если мы взяли в плен одного из наших друзей.
— Боже упаси! — сказал Чистое Сердце.
Охотники нагнулись к пленнику, остававшемуся, по-видимому, совершенно безучастным к тому, что происходило вокруг него.
— Э! — сказал вдруг канадец. — Что я вижу! Клянусь Богом, перед нами старый знакомый.
— Действительно, — ответил Чистое Сердце, — это Голубая Лисица.
— Голубая Лисица?! — воскликнули охотники с удивлением.
Они не ошиблись. Индейский всадник, на которого Чистое Сердце накинул лассо, был действительно Голубая Лисица, вождь апачей.
Хотя испытанное им потрясение и было очень сильно, оно не лишило его сознания; он лежал, раскрыв глаза, со спокойным выражением лица, считая унизительным жаловаться на дурное обращение, и хладнокровно ждал, что решат относительно него его победители, полагая, что заговорить первым несовместимо с его достоинством.
Чистое Сердце несколько минут внимательно разглядывал его, потом развязал стягивающие индейца веревки и, отодвинувшись от него на несколько шагов, сказал:
— Пусть мой брат встанет, только старые бабы лежат так долго на земле от такого незначительного падения.
Вождь мгновенно вскочил на ноги.
— Голубая Лисица — не старая баба, — сказал он, — сердце его широко; он смеется над гневом своих врагов и презирает их ярость, которая не в силах взволновать его.
— Мы не враги ваши, вождь, мы не питаем к вам ни ненависти, ни гнева. Это вы наш враг. Согласны ли вы отвечать на наши вопросы?
— Я мог бы и не отвечать, если бы мне заблагорассудилось.
— Не думаю, — заметил на это Джон Дэвис, усмехаясь. У нас в распоряжении есть кое-что, что развязывает языки тех, кого мы желаем расспросить.
— Попробуйте заставить меня говорить, — ответил индеец высокомерно.
— Что ж, попробуем! — сказал американец.
— Стойте! — воскликнул Чистое Сердце. — В этом есть что-то непонятное, и я хочу, чтобы все разъяснилось. Предоставьте мне действовать.
— Как хотите, — сказал Джон Дэвис.
— Как могло случиться, — начал через минуту Чистое Сердце, — что вы, который посланы апачами, чтобы вести с команчами переговоры о мире, среди ночи покинули селение не как друг, а как вор, бегущий после совершенного им преступления.
Вождь презрительно усмехнулся и пожал плечами.
— Зачем долго говорить о том, что произошло; не стоит тратить время. Достаточно вам знать, что я покинул селение с согласия вождей племени. А если я мчался, то это потому, что спешил прибыть в то место, куда направлялся.
— Гм! — пробормотал охотник. — Я позволю себе заметить, вождь, что ответ ваш весьма неубедителен.
— Я уже дал ответ.
— Вы думаете, мы им удовлетворимся?
— Вам придется это сделать.
— Поступим так: мы с минуты на минуту ожидаем Черного Оленя, пусть он решит вашу участь.
— Как будет угодно белому охотнику. Когда приедет вождь команчей, мой брат увидит, что Голубая Лисица не солгал, язык его не раздвоен, и слова, которые исходят из его груди, искренни.
— Я желал бы этого.
В этот момент послышался условный сигнал.
Охотник тотчас ответил на него.
Пять минут спустя вождь команчей и вправду прибыл к тому месту, где его ждали охотники. Первым, на кого упал взгляд Черного Оленя, был Голубая Лисица, стоявший в кругу белых, скрестив руки на груди.
— Что здесь делает Голубая Лисица? — спросил он удивленно.
— Пусть вождь спросит об этом бледнолицых воинов, они ответят, — сказал вождь апачей.
Черный Олень повернулся к Чистому Сердцу.
Тот, не дожидаясь вопроса, подробно объяснил, что произошло, как он захватил в плен вождя, а также передал содержание разговора, который состоялся между ними.
Черный Олень, казалось, с минуту размышлял.
— Почему мой брат не показал знака, который я передал ему? — спросил он.
— Зачем? Ведь мой брат должен был приехать.
Вождь команчей сдвинул брови.
— Пусть мой брат остережется и помнит о данном слове, даже тень измены будет стоить жизни его сыну.
Дрожь пробежала по телу индейца, но лицо его оставалось по-прежнему неподвижным, как мраморное изваяние.
— Голубая Лисица поклялся на своем тотеме, — сказал он. — Это — священная клятва, он ее сдержит.
— О-о-а! Мой брат свободен, пусть он уезжает без промедления.
— Мне надо найти мою лошадь, она убежала.
— Мой брат, вероятно, принимает нас за детей, говоря такие вещи? — сказал Черный Олень с гневом. — Лошадь индейского вождя никогда не покидает своего хозяина, пусть он свистнет — лошадь возвратится.
Голубая Лисица ничего не возразил. Глаза его яростно сверкнули, но это было все, чем он обнаружил свои чувства. Немного нагнувшись вперед, индеец, казалось, несколько минут к чему-то прислушивался. Потом он слегка щелкнул языком и резко свистнул. Почти в то же мгновение в кустах послышался шорох, и лошадь вождя прибежала и положила свою умную голову хозяину на плечо.
Тот потрепал за холку благородное животное, вскочил ему на спину, пришпорил его и помчался во весь дух, не простясь с охотниками, которых этот внезапный отъезд вождя совершенно озадачил.
Джон Дэвис инстинктивным жестом приложил ружье к плечу, намереваясь послать вдогонку беглецу пулю, но Черный Олень резко схватил его за руку.
— Пусть мой брат не стреляет, — сказал он, — шум выстрела выдаст наше присутствие врагам.
— Вы правы, — сказал американец, опуская ружье. — Очень жаль. Я бы с большим удовольствием избавился от этого негодяя с мрачным лицом.
— Мой брат еще встретится с ним, — сказал индеец с выражением, не поддающимся описанию.
— Я надеюсь, и если это случится, никто не помешает мне убить это пресмыкающееся.
— Никто и не сделает такой попытки, пусть мой брат будет в этом уверен. В другой раз я расскажу вам, как могло случиться, что этому человеку позволили беспрепятственно удалиться, в то время как нам угрожает засада, им организованная. А сейчас не будем терять времени на пустые разговоры. Воины моего племени находятся на своих постах и ждут только сигнала начать сражение. Мои белые братья все так же согласны следовать за мной?
— Конечно, вождь! Мы здесь для этого, вы можете рассчитывать на нас.
— Хорошо, но я обязан предупредить моих братьев, что они подвергаются большой опасности.
— Ба-а! — возразил на это Чистое Сердце. — Они будут желанными гостями. Разве мы не привыкли к опасностям?
— Тогда на коней — и в путь! Мы должны обмануть обманщиков.
— Но разве вы не опасаетесь того, что Голубая Лисица поднимет тревогу и предупредит своих, что хитрость его открыта? — спросил Чистое Сердце.
— Нет, он этого не может сделать — он дал клятву.
Охотники не настаивали на своем утверждении, зная, с какой точностью и с каким благоговением индейцы держат клятвы, которые дают друг другу, и честность, с которой они держат слово. Ответ Черного Оленя убедил их, что им нечего опасаться вождя апачей; кроме того, он удалился в направлении, противоположном тому, где скрывались его товарищи.
Лошади были тотчас подняты, с них сняли опутывающие их веревки, и отряд тронулся в путь.
Дорога, по которой ехали охотники, пролегала между двумя оврагами, поросшими густой травой, длина ее достигала двух километров, и оканчивалась она развилкой. Здесь охотники на минуту остановились.
В этом месте, известном у индейцев под названием Лосиного Перегона, Черный Олень назначил свидание сорока лучшим воинам-команчам, которые должны были присоединиться к белым и действовать вместе с ними.
Все произошло так, как хотел вождь. Не успели охотники подъехать к развилке, как команчи высыпали из кустов, за которыми ранее скрывались, и приблизились к Черному Оленю. Были сделаны последние распоряжения, отряд построился в две колонны и двинулся в поход, выслав вперед разведчиков, которые должны были внимательно осматривать росший у дороги кустарник.
Отряд шел почти целый час, и ничто не привлекло его внимания, как вдруг позади раздался выстрел, и почти тотчас же, точно по сигналу, выстрелы стали раздаваться с обеих сторон дороги. Вокруг команчей и белых охотников засвистел град ружейных пуль, и они были осыпаны целой тучей стрел. Потеряв в первый же момент несколько человек, отряд пришел в легкое замешательство — непременное следствие неожиданной атаки.
С согласия Черного Оленя Чистое Сердце принял на себя командование отрядом. По его приказанию воины разделились на маленькие группы и отступили к развилке, где неприятель не мог атаковать, не обнаружив себя.
К сожалению, во время перемещения отряда Чистого Сердца была допущена серьезная ошибка. Отряд двигался чересчур быстро, и развилка осталась далеко позади него, а потому при отступлении неприятельский огонь преследовал его по всей линии. Чистое Сердце приказал воинам расстроить ряды и идти врассыпную — маневр, часто используемый в Европе. Всадники тотчас же рассыпались в разные стороны, пытаясь пересечь овраги, за которыми скрывались апачи, но поражаемые пулями и осыпаемые стрелами, которые индейцы пускали с неподражаемой ловкостью, команчи и белые вынуждены были бросить лошадей, надеясь на то, что пешими от дерева к дереву, шаг за шагом смогут ускользнуть от невидимого неприятеля, который проявлял в этой атаке настойчивость, обычно несвойственную диким племенам, у которых успех сражения чаще всего зависел от первого натиска.
Когда отряд достиг развилки, Чистое Сердце приказал ему построиться в каре. До этой минуты апачи хранили молчание, не было слышно ни одного боевого клича, ни один лист не шелохнулся в кустах, не раздалось ни одной команды. Вдруг перестрелка прекратилась, и снова воцарилось молчание. Охотники и команчи переглянулись с удивлением, граничившим с ужасом. Они попали в ловушку, расставленную неприятелем.
Наступил столь страшный момент, что его не может описать ни одно перо. Со всех сторон, справа и слева, сзади и спереди раздались крики, свист, звуки дудок, и апачи ринулись на неприятеля.
Команчи были окружены.
Им ничего не оставалось больше делать, как мужественно умереть.
При этом страшном зрелище невольный трепет пробежал по рядам смелых воинов, но он тотчас же сменился покорностью судьбе: они поняли, что гибель их неминуема. Чистое Сердце и Черный Олень не теряли хладнокровия. Они, по-видимому, еще надеялись на что-то.
Но на что?
Глава XVI
ТАНЕЦ СКАЛЬПА
Мы далеки от мысли давать какие-либо оценки по поводу битвы двух диких племен в далекой пустыне. Убеждение, что индейцы всего лишь дикари, звери с человеческим обличием, которых надо истреблять, как диких животных, всеми доступными средствами, даже если те противоречат соображениям гуманности, слишком укоренилось в цивилизованных народах, чтобы мы могли хотя бы попытаться защитить их. А между тем сколько хорошего можно было бы сказать в защиту этого несчастного народа, угнетаемого с тех пор, как европейцы открыли Америку. Легко доказать, что перуанцы и мексиканцы, которых так высокомерно называют варварами грабящие их жалкие авантюристы, были в эпоху своего покорения гораздо цивилизованнее своих притеснителей, имевших перед индейцами только то преимущество, что умели владеть огнестрельным оружием и ходили закованными с головы до ног в железо, тогда как последние употребляли в качестве оружия гораздо более безобидные стрелы и одевались в бумажные ткани.
Изгнанные из общества невежественным фанатизмом и неутолимой жаждой золота, снедавшего их победителей, несчастные индейцы должны были не только пасть под ударами своих безжалостных поработителей, но навсегда остаться жертвой клеветы, ославившей их расу как глупую и свирепую. Покорение Нового Света было одной из самых чудовищных гнусностей средних веков, времени, изобилующего жестокостями. Миллионы людей уничтожались с полнейшим хладнокровием, целые народы исчезли с лица земли, не оставив на ней иного следа, кроме побелевших костей. Ранее столь густо населенная Америка превратилась вдруг в огромную пустыню, и последние представители этой несчастной расы были обречены на одичание. Спасаясь бегством в земли, наиболее отдаленные, они вынуждены были начать кочевую жизнь, подобно древним племенам и, продолжая войну с белыми, изощряться в способах, которыми могли бы воздать за страдания, которые претерпевали от них целые столетия. Только несколько лет тому назад обратили внимание на положение индейцев. Однако, несмотря на все разговоры, меры принимались не ради того, чтобы приобщить их к цивилизованной жизни, но чтобы избежать их возмездия. С этой целью их загнали в ужасные пустыни, как можно дальше, запретив выбираться оттуда, окружили кордонами, но, найдя эти меры недостаточно действенными, чтобы уничтожить индейцев полностью, их начали травить спиртными напитками. Мы можем теперь констатировать, что меры, принятые англо-американцами, дали блестящий результат: не пройдет и столетия, как на территории Соединенных Штатов не останется ни одного коренного жителя. Филантропия этой благородной республики — великая вещь!
Но Боже избави нас от нее!
Во всех сражениях для главнокомандующего существуют два страшных и ответственных момента: первый — когда он дает сигнал идти на приступ, а второй — когда он сам выдерживает атаку неприятеля, спокойно, не отступая ни на шаг, дожидаясь минуты, когда можно будет нанести противнику решительный удар.
Чистое Сердце оставался невозмутимо спокойным, точно присутствовал при обычной атаке; глаза его блестели, губы кривились в презрительной усмешке. Он приказал своему отряду беречь порох и стрелы, не расстраивать рядов и ждать атаки неприятеля. Команчи раза два издали воинственный клич, и после этого вокруг воцарилось мертвая тишина.
— Отлично, — обратился к ним охотник, — вы — великие воины, я горжусь тем, что командую такими смелыми людьми, как вы. Ваши жены встретят вас по возвращении криками радости и с гордостью будут считать скальпы, которые вы привезете на своих поясах.
После этой короткой речи охотники приготовились ждать неприятеля, держа наготове ружья, а краснокожие натянули луки.
Тем временем апачи покинули засаду, построились в ряды и в полном порядке двинулись со всех сторон на команчей. Они тоже бросили своих лошадей, и между обоими противниками должен был завязаться рукопашный бой.
Ночь уже прошла, и при бледном свете утра можно было видеть, как движущийся черный круг апачей все теснее и теснее охватывал слабый отряд, сформированный из белых охотников и команчей. Самым странным, противоречащим обычаям, существующим в прериях, было то, что апачи приближались медленно и не стреляли, точно намеревались задушить своих противников разом.
Транкиль и Чистое Сердце пожали друг другу руку и обменялись улыбками.
— Еще пять минут, — сказал охотник.
— Прежде чем пасть, мы успеем уложить кое-кого из них, — сказал канадец.
Чистое Сердце протянул руку по направлению к северо-востоку.
— Еще не все кончено, — сказал он.
— Вы надеетесь, что мы выберемся отсюда?
— Я надеюсь, — ответил молодой человек все с той же спокойной улыбкой, — что мы уничтожим это сборище разбойников до последнего.
— Дай-то Бог! — сказал канадец, покачав с сомнением головой.
Апачи были от них всего в нескольких шагах.
— Прислушайтесь, — пробормотал Чистое Сердце на ухо охотнику.
В эту минуту вдали послышались крики. Неприятель остановился в нерешительности.
— Что это такое? — спросил Транкиль.
— Это наши, — коротко ответил молодой человек.
Позади неприятеля послышался топот лошадиных копыт и раздались ружейные выстрелы.
— Команчи! Команчи! — воскликнули апачи.
Не успели смолкнуть крики, как ряды их были неожиданно прорваны, и две сотни команчей верхом, давя и убивая неприятеля, примчались на выручку к своим.
Раздались радостные возгласы всадников, бойцы с энтузиазмом отвечали им. Они уже считали себя погибшими.
Расчет Чистого Сердца оказался верным, он не ошибся ни на минуту. Воины, скрытые Черным Оленем в засаде, чтобы в нужное время отвлечь внимание неприятеля от отряда Чистого Сердца, должны были прибыть в назначенный заранее час, чтобы атакой решить сражение.
В этом и заключалась причина внешнего спокойствия молодого вождя, хотя в душе он чувствовал большую тревогу, так как многое могло помешать отряду прибыть вовремя.
Апачи, застигнутые таким образом врасплох, некоторое время отчаянно сопротивлялись, но окруженные со всех сторон и подавленные численностью неприятеля бросились бежать по разные стороны.
Однако меры, принятые Чистым Сердцем, обнаруживали глубокое знание военной тактики прерий. Апачи оказались буквально между двух огней. Больше половины отряда, которым должен был командовать Голубая Лисица и которому он поручил выполнить так смело задуманное им дело, пало на поле сражения, остальным с трудом удалось спастись бегством; их победили и надолго лишили возможности бороться со своим опасным противником. Восемьсот лошадей и около пятисот скальпов были трофеями этой битвы, не считая десятков трех раненых. Команчи потеряли всего лишь около десятка воинов, и с этих погибших неприятель не смог снять скальпы. Лошадей собрали, мертвых и раненых положили на носилки, и когда всех апачей, павших на поле сражения, оскальпировали и тела их бросили в жертву диким зверям, команчские воины, опьяненные радостью победы, направились в обратный путь к селению. Возвращение воинов превратилось в настоящее триумфальное шествие.
Черный Олень, оказывая честь Чистому Сердцу и его товарищам, помощь которых была такой неоценимой во время сражения, настоял на том, чтобы они возглавили войско и чтобы Чистое Сердце ехал рядом с ним, как командир отряда.
Солнце вставало, когда команчи выехали из леса. День обещал быть великолепным; птицы на ветвях приветствовали громким пением наступление дня. Женщины и дети большой толпой бежали из селения навстречу воинам.
Вскоре показалась группа всадников в военном снаряжении, раскрашенных, как для боевых действий. Возглавляли ее самые уважаемые вожди племени. Отряд ехал в полном порядке под звуки барабанов, свистков, трещоток и радостных криков толпы. Приблизившись на некоторое расстояние к индейцам, возвращавшимся с поля битвы, отряд замер на месте. Те, в свою очередь, остановились. Толпа расступилась по обе стороны, и по сигналу Черного Оленя всадники ринулись вперед, перемешались друг с другом, после чего последовала демонстрация упражнений, напоминающих состязания в ловкости и имеющих весьма большое сходство с подобными представлениями арабских наездников. Всадники поднимали лошадей на дыбы, кричали, бросали вверх оружие и снова ловили его, не умеряя быстрого аллюра лошади, стреляли из лука, и на всем скаку поднимали с земли упавшие стрелы; одним словом, всадники обнаруживали такую ловкость, в которой с ними могли соперничать одни арабы, но и те во многом уступают индейцам — первым наездникам в свете. Упражнения продолжались довольно долго. Наконец вожди подали знак, и обе группы всадников снова разделились точно по волшебству и построились в ряды на расстоянии пистолетного выстрела друг от друга.
Несколько минут все отдыхали, но затем всадники съехались вновь и начали приветствовать друг друга. Мы уже упоминали, что индейцы в высшей степени строго придерживаются этикета. Черный Олень должен был во всех подробностях рассказать собравшимся вождям о ходе сражения, словом, обо всем, что произошло. Черный Олень исполнил этот долг с замечательным благородством и скромностью, приписывая честь победы Чистому Сердцу, который напрасно старался опровергнуть его рассказ. Своей единственной заслугой Черный Олень считал то, что в точности выполнил полученные от бледнолицего вождя приказания. Такая скромность знаменитого храбреца очень понравилась вождям команчей, за что тот удостоился похвал. Наконец, когда все церемонии были закончены, жены вождей приблизились к воинам, каждая из них вела под уздцы великолепного скакуна, предназначенного заменить усталую лошадь мужа.
Молодая хорошенькая жена Черного Оленя вела двух лошадей. Поклонившись с нежной улыбкой мужу и передав ему лошадь, она повернулась к Чистому Сердцу и грациозным жестом протянула ему повод другой лошади.
— Мой брат Чистое Сердце — великий храбрец, — сказала она голосом мелодичным, как пение птицы. — Пусть он позволит своей сестре предложить ему лошадь, которая заменит уставшую в сражении, где мой брат участвовал, чтобы спасти команчей-антилоп.
Все индейцы громкими криками выразили одобрение изящно предложенному подарку. Черный Олень, несмотря на невозмутимость, соответствующую его положению вождя, не мог не выразить удовольствия, которое он испытал при этом знаке внимания, оказанном молодой женой его другу.
Чистое Сердце ласково улыбнулся и, сойдя с лошади, приблизился к молодой женщине.
— Сестра моя прекрасна и добра, — сказал он, целуя ее в лоб. — Я принимаю подарок, который она мне предлагает. Мой брат Черный Олень счастлив, что такая женщина ухаживает за его лошадьми и чистит его оружие.
Молодая женщина, смущенная и счастливая, удалилась к подругам. Пересев на свежих лошадей, вожди вместе с остальными воинами медленно двинулись к селению, сопровождаемые огромной толпой, оглашавшей воздух радостными криками, которые смешивались с оглушительными звуками индейских музыкальных инструментов. Пленные апачи шли пешком, без оружия, под охраной пятидесяти избранных воинов. Эти неустрашимые индейцы, зная, какая судьба их ожидает и на какие утонченные пытки они обречены, шли, высоко подняв головы, твердым шагом, гордо глядя по сторонам, точно они были не действующими лицами в сцене, которая должна была разыграться, а всего лишь равнодушными зрителями. Стоицизм этот, впрочем, свойственен краснокожим, и потому он никого не удивил. Команчские воины не унизились до того, чтобы оскорблять храбрых воинов, от которых отвернулась удача, и только женщины, в особенности те, чьи мужья пали в сражении и лежали теперь на носилках, бросались на пленных точно фурии, кидались камнями, грязью и даже делали попытки вонзить в них свои острые ногти, и если бы не стража, несчастные могли быть буквально растерзаны этими кровожадными мегерами. Пленные переносили все безропотно. Они продолжали идти так спокойно, точно происходящее здесь их не касалось. Кортеж подвигался очень медленно, поскольку должен был прокладывать себе дорогу сквозь ежеминутно возраставшую толпу. Было уже около полудня, когда он добрался до атепетля. Не доходя шагов десяти до ограды, кортеж остановился, при въезде в селение его ожидали двое людей — шаман и хачесто. При виде их в толпе, как по волшебству, воцарилось глубокое молчание.
Хачесто держал в руках тотем племени. Когда войско остановилось, шаман сделал шаг вперед.
— Кто вы и чего вы хотите? — спросил он громко.
— Мы — великие храбрецы могущественного племени команчей-антилоп, — отвечал Черный Олень. — Мы просим разрешения войти в атепетль с нашими пленными и лошадьми, которых мы у них отобрали, войти с тем, чтобы протанцевать танец скальпа вокруг столба пыток.
— Хорошо, — сказал шаман, — я узнаю вас. Вы действительно великие храбрецы моего племени, ваши руки окрашены кровью наших врагов. Но, — сказал он, бросив мрачный взгляд вокруг, — не все наши воины здесь. Что стало с теми, кого недостает?
На этот вопрос все присутствующие ответили мрачным молчанием.
— Отвечайте, — повелительно сказал шаман, — не покинули ли вы ваших братьев?
— Нет, — ответил Черный Олень, — они мертвы, это правда, но мы привезли их тела с собой, и волосы их не тронуты.
— Хорошо, — сказал шаман, — сколько воинов пало?
— Только десять.
— Как они умерли?
— Как храбрецы, повернувшись лицом к врагу.
— Хорошо, Владыка Жизни принял их в свои счастливые поля. Оплакивали ли их жены?
— Они оплакивают их.
Шаман сдвинул брови.
— Героев оплакивают только кровавыми слезами.
Черный Олень отступил на несколько шагов, чтобы дать место вдовам, стоявшим сумрачно и неподвижно позади него. Женщины приблизились к шаману.
— Мы готовы, — сказали они, — пусть отец наш позволит, и мы будем оплакивать наших мужей так, как они того заслуживают.
— Начинайте, — ответил тот. — Владыка Жизни это увидит и будет улыбаться вашему горю.
Тогда произошла сцена, которую только невозмутимые индейцы могли вынести без содрогания. Женщины вооружились ножами и без малейшего крика отсекли у себя на пальцах несколько суставов. Затем, не удовлетворившись этим, они начали резать себе лица, руки, груди, так что кровь лилась ручьем и страшно было на них смотреть. Шаман ободрял их, призывая принести мужьям эти доказательства скорби, и вскоре возбуждение вдов стало граничить с безумием, и если бы сам шаман не остановил их, они могли бы изрезаться до смерти.
Тогда подруги подошли к ним, забрали у них оружие и увели с собой.
Когда женщины удалились, шаман обратился к неподвижно стоявшим перед ним воинам.
— Кровь, пролитая воинами-команчами, искуплена команчскими женщинами, — сказал он, — земля ею напоена, пусть горе уступит место радости. Сыновья мои могут войти в атепетль, высоко подняв голову. Владыка Жизни доволен ими.
Взяв тотем, которым хачесто размахивал над головой, шаман стал по правую руку Черного Оленя и вместе с войсками вошел в селение под оглушительные крики толпы и звуки индейских музыкальных инструментов, снова начавших свою адскую серенаду.
Кортеж направился к площади, где должен был происходить танец скальпа.
Чистое Сердце и его товарищи всей душей желали бы избавиться от предстоящего зрелища, но это означало тяжелое оскорбление для индейцев, а потому волей-неволей они должны были сопровождать воинов.
Проезжая мимо домика охотника, они заметили, его окна были плотно закрыты. Хесусита, не желая наблюдать индейскую жестокость, заперлась у себя. Эусебио, нервы которого были, без сомнения, крепче женских, стоя в дверях, небрежно курил сигаретку в то время, когда отряд проезжал мимо. По приказанию Чистого Сердца старый слуга был послан вперед, чтобы успокоить сеньору Хесуситу относительно исхода сражения. Когда индейское племя собралось в полном составе на площади, танец скальпа начался. В предыдущих повествованиях у нас уже был случай описать подобную церемонию, а потому мы здесь не станем говорить о ней ничего, кроме того, что в отличие от прочих, действующими лицами этой являются женщины, и на этот раз молодой жене Черного Оленя, возглавлявшего вылазку, было поручено руководить танцем. Пленные апачи были привязаны к столбам, нарочно для них поставленным; в продолжение нескольких часов они подвергались издевательствам и оскорблениям своих врагов, не обнаруживая при этом ни малейшего признака волнения.
Танец кончился, и дошла очередь до пыток. Мы не станем распространяться об ужасных страданиях, испытываемых несчастными, которых злой рок отдал в руки не знающих пощады врагов. Мы не собираемся превращать описание подобных ужасов в источник развлечения, нам всегда было неприятно описывать возмутительные сцены, но прежде всего мы — правдивые историки. Мы взяли на себя задачу познакомить читателя с обычаями почти неизвестного народа, который может исчезнуть в недалеком будущем, и мы не станем уклоняться от нашего долга, а чтобы читатель имел представление о том, каковы были индейские пытки, мы опишем ту пытку, которой подвергался один из знаменитых вождей апачей.
Это был молодой воин лет двадцати пяти, не более, высокий и стройный; его отличали благородные черты лица и гордое выражение глаз. Он был тяжело ранен во время сражения, но пленить его удалось только тогда, когда подавленный численностью неприятеля индеец свалился без сил на трупы своих товарищей, которых он так долго защищал.
Команчи, знатоки и судьи в делах беззаветной храбрости, восхищались героическим поведением молодого вождя. По приказу Черного Оленя, втайне лелеявшего надежду уговорить его перейти в племя команчей, для которых такой храбрый воин был бы ценным приобретением, противники обращались с ним с известного рода почтительностью.
Пусть читатель не удивляется, что такая мысль могла прийти в голову вождю команчей — переходы краснокожих из одного племени в другое составляют обычное явление. Часто случается, что взятый в плен враждебным племенем воин, чтобы сохранить жизнь и избежать пыток, женится на вдове убитого им противника с непременным условием вырастить детей покойного и относиться к ним, как к своим собственным. Вождя апачей по имени Прыгающая Пантера оставили свободным вместо того, чтобы привязать к столбу, как это было сделано с менее знаменитыми воинами.
Он стоял, опершись о столб, скрестив руки на груди, и со спокойным пренебрежением смотрел на танец скальпа. Когда танец подошел к концу, Черный Олень, посоветовавшись предварительно с другими вождями своего племени, приблизился к молодому апачу.
Пленный, казалось, не заметил его.
— Брат мой Прыгающая Пантера — знаменитый вождь и великий храбрец, — сказал ему Черный Олень мягко. — О чем думает он в эту минуту?
— Я думаю о том, — ответил апач, — что скоро буду охотиться в счастливых полях вблизи Владыки Жизни.
— Брат мой еще очень молод, он — в весенней поре жизни. Разве ему не жаль расставаться с жизнью так рано?
— Зачем жалеть о ней? Немного раньше, немного позже — все равно придется умирать.
— Конечно. Но умереть у столба пыток, когда имеешь впереди долгое будущее, преисполненное радости и счастья, когда только вступил в жизнь…
Вождь печально покачал головой и перебил своего собеседника.
— Пусть мой брат не продолжает, — сказал он, — я угадал его мысль. Он ласкает себя несбыточной надеждой. Прыгающая Пантера не отречется от своего племени, чтобы сделаться команчем. Я не смог бы жить среди вас. Пролитая мной кровь ваших воинов стала бы постоянно взывать ко мне. Разве я могу жениться на всех вдовах, которых мой томагавк лишил мужей? Разве я могу возвратить вам все те скальпы, которые я снял с ваших воинов? Когда команч встречается на поле брани с апачем, один из них должен пасть мертвым. Не оскорбляйте же меня, а привяжите к столбу и не убивайте сразу, как это принято у белых, но совершите надо мной индейскую казнь. Изобретите самые жестокие пытки. Вы не вырвете у меня ни одного стона, ни одного вздоха. — И приходя в возбуждение от своих слов, молодой воин продолжал: — Вы просто дети, которые не умеют заставить страдать мужественного человека. Вам нужно видеть смерть храбреца, чтобы научиться умирать. Начните же с меня. Я презираю вас, вы трусливые собаки! Вы умеете только лаять, и один вид моего орлиного пера заставлял вас обращаться в бегство.
Услышав эти высокомерные слова, команчи разразились яростным рычанием и хотели броситься на пленного.
Черный Олень остановил их.
— Прыгающая Пантера — не настоящий храбрец, — сказал он, — он говорит слишком много. Это пересмешник, который щебечет, потому что трясется от страха.
Пленный на это только презрительно пожал плечами.
— Вот последнее слово, которое вы услышите от меня, — сказал он. — Вы — собаки! — И откусив себе язык, он выплюнул его в лицо Черному Оленю.
Тот даже подпрыгнул от гнева, ярость его теперь не имела предела.
Прыгающую Пантеру тотчас же привязали к столбу. Женщины стали срывать ногти с его рук и вонзали в живую плоть палочки с горючим веществом, которые они тотчас же поджигали. Индеец оставался совершенно бесстрастным, черты его лица не исказились. Пытка продолжалась часа три. Тело вождя представляло собой одну сплошную рану, но он оставался по-прежнему невозмутимым. Вперед вышел Черный Олень.
— Подождите, — сказал он.
Стоявшие вокруг потеснились. Бросившись на молодого апача, он вырвал у него глаза, с отвращением отбросил их в сторону и наполнил эти два кровавые углубления горящими угольями.
Эта последняя пытка была ужасна, нервная дрожь прошла по всему телу несчастного, но это было все, чем он обнаружил свои страдания. Черный Олень, раздосадованный до крайности героической стойкостью вождя, которой не мог не восхищаться, схватил его за длинные волосы и оскальпировал, после чего стал бить по лицу его же окровавленными волосами.
На пленного было страшно смотреть, но он продолжал оставаться невозмутимым.
Чистое Сердце не мог дальше выносить это ужасное зрелище; отстранив стоявших перед ним индейцев, он приложил ко лбу пленного дуло своего пистолета и выстрелом раздробил ему череп.
Команчи, придя в ярость от того, что жертва ускользнула от них, сделали попытку броситься на белого, осмелившегося отнять у них добычу, но тот гордо выпрямился, скрестил руки на груди и взглянул им прямо в лицо.
— Что же дальше? — голос его звучал твердо.
Этих слов было достаточно, чтобы укротить диких зверей, они удалились, изрыгая проклятья, но не пытаясь больше требовать у охотника отчета в его поступке.
Тогда Чистое Сердце сделал знак своим товарищам, и те вместе с ним покинули площадь, на которой в течение долгих часов индейцы с остервенением расправлялись со своими несчастными пленными.
Глава XVII
СНОВА ВМЕСТЕ
Нам придется возвратиться в нашем рассказе к событиям, произошедшим за два месяца до описанных выше, и, покинув Верхний Арканзас, вернуться к Рио-Тринидаду в тот самый день, когда произошло сражение, закончившееся плачевно для техасцев. Таким образом мы хотим освежить в памяти читателей некоторые эпизоды и ознакомить их с участью главных героев нашего повествования, о которых мы, по-видимому, слишком долго не вспоминали.
Мы уже говорили, что Ягуар, убедившись, что сражение безнадежно проиграно, бросился туда, где оставил повозку, в которой находились Транкиль и Кармела; и что когда он приблизился к повозке, глазам его представилось страшное зрелище: повозка лежала на земле разбитая, окруженная телами его друзей, погибших при ее защите; она была пуста, и те два человека, жизни которых были ему так дороги, исчезли в неизвестном направлении.
Сраженный несчастьем, которого он совершенно не ожидал после принятых им мер предосторожности, Ягуар издал крик отчаяния и без памяти повалился на землю. Прошло несколько часов, а молодой человек все еще не приходил в себя. Однако его сильная натура не позволила этому удару, как ни был он тяжел, сразить его окончательно, а потому вечером, когда солнечный диск готовился погрузиться в море и уступить место ночи, Ягуар открыл глаза. Он растерянно огляделся и в первую минуту не мог осмыслить ни того положения, в котором находился, ни обстоятельств, явившихся причиной того странного обморочного состояния, в которое он впал.
Как бы ни был силен человек, какой бы ни был он одарен энергией, но если жизнь его в течение нескольких часов висела на волоске, он не может сразу осознать случившиеся, и ему нужно несколько минут для того, чтобы привести в порядок свои мысли и восстановить в памяти произошедшие события. То же случилось и с Ягуаром. Он был один, вокруг него царило зловещее молчание, вечерние тени постепенно окутывали местность, и предметы, которыми он был окружен, с каждой минутой теряли свои очертания. Между тем воздух был напоен отвратительной удушливой атмосферой резни, там и здесь лежали трупы, там и здесь мелькали мрачные силуэты диких зверей, которых вечерний сумрак заставил выйти из логовищ. Инстинкт кровожадности уже толкал их на поиски жертв для ужасной трапезы.
— О, — воскликнул вдруг молодой человек, вскакивая, — я вспомнил!
Мы уже сказали, что дорога была пустынна и на ней были только трупы и дикие звери.
— Что делать? — пробормотал Ягуар. — Куда идти? Что стало с моими братьями? Куда они бежали? Кармела, Транкиль, как их найти?
И молодой человек, удрученный нахлынувшими на него тяжелыми мыслями, не сел, а почти упал на большой кусок гранита, валявшегося неподалеку. Не думая о диких зверях, рычание которых с каждой минутой надвигающейся ночи становилось все более и более угрожающим, он схватился обеими руками за голову, точно боясь потерять рассудок, и погрузился в глубокие размышления. Так прошло два часа. Целых два часа он предавался отчаянию, тем более сильному, что оно было немым.
Этот человек возложил все свои надежды на осуществление только одной идеи, несколько лет сражался без устали, чтобы привести в исполнение свою мечту. Можно сказать, его жизнь была одним долгим отречением. И в тот момент, когда он уже считал цель достигнутой, он увидел полное крушение своих надежд. Благодаря странному повороту судьбы он потерял все разом; теперь он был один на пустынном поле сражения и сидел среди трупов, окруженный дикими зверями, которые сторожили его. На мгновение у него мелькнула мысль покончить с собой — вонзить кинжал в сердце. Он не хотел пережить крушение своих надежд, потерю тех, кого любил, унижение. Но минутная слабость быстро прошла. Решительность вернулась к нему, и он почувствовал себя более сильным, чем прежде. Душа его, очищенная страданием, стала еще тверже.
— Нет, — воскликнул он, бросив вокруг вызывающий взгляд, — не надо падать духом! Бог не допустит, чтобы святое дело, которому я себя посвятил, погибло. Он только послал нам испытание, я сумею претерпеть его безропотно. Сегодня побежденные, завтра мы станем победителями. За дело! Свобода — дочь Господня, она свята и умереть не может!
С этими словами, произнесенными громко и вдохновенно, как бы желая дать воинам, павшим на поле битвы, последнее утешение, Ягуар поднял ружье, лежавшее возле него, и удалился твердым, решительным шагом человека, который действительно верит в свое дело и которого препятствия, как бы ни были они велики, побуждают лишь еще настойчивее идти по выбранному пути. И так он шел через все поле сражения, переступая на ходу через трупы и обращая диких зверей в бегство.
Молодой человек шел теперь в темноте, совершенно один. По той же дороге он двигался утром при ярком свете солнца вместе с армией, с энтузиазмом стремившейся навстречу сражению, которое она заранее считала выигранным. Он не колебался ни одной минуты, не давал больше овладеть собой печальным мыслям, едва не сокрушившим его. Он встретил горе лицом к лицу, вступил с ним в борьбу и вышел из этой борьбы победителем. Ничто теперь не могло его сломить.
Дойдя до конца дороги, Ягуар остановился.
Взошла луна, и ее бледный свет печально разливался по окрестности, придавая пейзажу зловещий вид. Молодой человек попытался сориентироваться. В полном неведении относительно пути, по которому ушли беглецы-повстанцы, он не решался идти по какой-либо дороге, боясь наткнуться на мексиканских разведчиков, которые могли в это время бродить по всему полю, разыскивая техасцев, выбравшихся из сражения невредимыми.
Идти к форту Пуэнте также казалось ему неблагоразумным: путь был не близок и, кроме того, если враги и не успели его занять, то по всей вероятности уже окружили, прервав таким образом все сношения осажденных с внешним миром, чтобы заставить их сдаться. О том, чтобы войти в Гальвестон, нечего было и думать: это значило бы отдаться прямо в руки неприятеля. Ягуар долгое время не знал, на что решиться, и как большинство людей в его положении, растерянно озирался вокруг.
Вдруг он вздрогнул. На довольно большом расстоянии от него сквозь деревья проблескивал слабый, почти незаметный красноватый огонек. Молодой человек какое-то время старался определить нужное направление и, наконец, решил, что свет этот виднелся в той стороне, где находился дом, бывший накануне главной квартирой генерала, командовавшего техасской армией. Этот дом, построенный на берегу моря, довольно далеко от поля сражения, на пустынном берегу, был, по всей вероятности, оставлен мексиканцами без внимания. Их усталые лошади после сражения были не в состоянии пройти такое большое расстояние, а потому Ягуар пришел к выводу, что замеченный им огонь был зажжен беглецами, принадлежавшими к его сторонникам. Он поверил в эту мысль тем охотнее, что горячо желал, чтобы это было именно так. Была уже ночь, а молодой человек весь день ничего не ел; кроме того, он выдержал страшное нервное потрясение, а потому начинал чувствовать себя совершенно разбитым от усталости и истощения. Физические потребности его начинали брать верх над переживаниями; голод и жажда мучили его, властно напоминая о том, что за последние четырнадцать часов во рту у него не было ни куска. Поэтому он торопился найти какой-нибудь приют, где бы мог отдохнуть и подкрепить силы.
Только в романах с более или менее фантастическими героями люди преодолевают огромные пространства, не ощущая ни одной из жалких потребностей человеческой натуры и, не прервав ни разу свое путешествие ради трапезы, остаются такими же бодрыми и свежими, как и в начале действия. К несчастью, в действительной жизни это совсем не так, человек волей-неволей должен подчиняться могучим потребностям несовершенной человеческой природы. Лесные охотники — люди, в которых животные инстинкты развиты в высшей степени, и нравственные страдания, как бы ни были они сильны, никогда не смогут заставить их забыть о времени еды и отдыха. Причина здесь та, что жизнь их является непрерывной борьбой со всевозможными врагами, и потому необходимо, чтобы их физическая мощь была так же велика, как и преодолеваемые препятствия.
Ягуар без дальнейших колебаний пошел по направлению к огню, продолжавшему светиться сквозь деревья, как маяк.
Чем ближе он подходил к домику, тем больше росла уверенность, что он не ошибся. Взвешивая все обстоятельства. он не допускал, чтобы мексиканцы забрались так далеко, но тем не менее, оказавшись на близком расстоянии от домика, счел благоразумным удвоить осторожность, чтобы не попасться неприятелю в руки, если предположение его окажется неверным.
Подойдя к домику приблизительно шагов на пять, Ягуар почувствовал тревогу, уверенность в сделанном им заключении сильно ослабла. То здесь, то там лежали распростертые тела убитых людей и лошадей вперемешку с оружием и разбитыми повозками. Было очевидно, что возле домика произошла схватка.
Кто вышел из нее победителем, мексиканцы или техасцы? Кто были те люди, которые находились сейчас в доме, друзья или враги? Эти вопросы задавал себе Ягуар — и не находил на них ответа. Тем не менее он не отчаивался. Молодой человек слишком долго вел бродячую жизнь, чтобы не знать до мелочей всех хитростей трудного ремесла лесных охотников.
Подумав с минуту, он принял решение. Прежде, когда этот домик находился в распоряжении штаба техасской армии, Ягуару приходилось бывать в нем неоднократно, и окрестности ему были хорошо известны. Поэтому Ягуар решил проскользнуть к одному из окон и увидеть собственными глазами, что там происходит. Задумать это было легче, чем исполнить; мы не забыли, что в одной из предыдущих глав нашей книги упоминался другой человек, имевший точно такие же намерения. Но наш герой был очень подвижен, ловок и силен, всех этих качеств было достаточно, чтобы обеспечить ему удачу. Окна все еще светились, но ничто больше не нарушало глубокого ночного покоя. Не бросая ружья, резонно полагая, что оно ему еще очень пригодится, он лег на землю и пополз на четвереньках. Таким образом он добрался почти до самого дома, по возможности стараясь держаться в тени деревьев и предметов, мимо которых полз, чтобы не выдать своего присутствия, если обитатели этого дома, кто бы они ни были, выставили часового.
Как и все предположения, основанные на опыте, мысль молодого человека оказалась верной. Не успел он проползти и нескольких ярдов, как увидел на белой стене дома черный силуэт человека, стоящего неподвижно, опершись на ружье.
Положение Ягуара становилось критическим, и препятствие угрожало стать непреодолимыми. Чтобы добраться до окон дома, Ягуару было необходимо покинуть скрывавшую его до сего времени благодетельную тень и войти в полосу яркого лунного света. Он машинально поднял голову в смутной надежде, что какая-нибудь туча закроет хоть на мгновение сияющий диск луны, так некстати явившейся помешать исполнению его плана, но небо было совершенно чистым, безоблачным и усыпанным звездами. Ягуар почувствовал неодолимое желание встать, броситься на часового и задушить его.
А если это друг?
Молодой человек положительно не знал, на что ему решиться, и напрасно старался найти выход из незавидного положения, в котором оказался, как вдруг часовой поднял ружье, прицелился в его сторону и крикнул насмешливо:
— Эй, приятель! Встаньте, когда достаточно наползаетесь, как крот.
При звуках этого голоса, показавшегося ему знакомым, молодой человек вздрогнул и мигом вскочил на ноги.
— Карамба! — воскликнул он со смехом. — Вы правы, Джон Дэвис, я достаточно наползался.
— Что такое? — сказал тот удивленно в ответ. — Кто вы такой, что знаете меня так хорошо?
— Друг, черт возьми! А потому опустите ваше ружье.
— Друг, друг, — возразил американец, не меняя своей позы, — может и так. Действительно, ваш голос кажется мне знакомым, но все равно, друг вы или недруг, скажите ваше имя. Времена сейчас неспокойные, и нельзя доверять красивым фразам.
— Праведный Боже! — воскликнул, смеясь, молодой человек. — Этот милый Джон всегда осторожен.
— Действительно, но довольно болтовни. Скажите, как вас зовут, чтобы я знал, кто вы такой.
— Как! Вы не узнаете Ягуара?
Американец опустил ружье, так что приклад ударился о камни.
— By God! — воскликнул он радостно. — Я подозревал, что это вы, но не смел этому поверить.
— Почему же? — спросил молодой человек.
— Потому что меня уверяли, что вы умерли.
— Какой черт рассказал вам эту сказку?!
— Это не сказка, отец Антонио меня уверял, что его лошадь перепрыгнула через ваш труп.
Ягуар с минуту размышлял.
— Действительно, — сказал он наконец, — монах рассказал вам правду.
— Как! — воскликнул американец, попятившись от ужаса. — Вы умерли?!
— Э, нет! Не беспокойтесь, — сказал молодой человек. — Я так же жив, как и вы сами.
— Уверены ли вы в этом? — нерешительно сказал суеверный американец.
— Боже мой! Я в этом убежден. Но вполне возможно, что отец Антонио перескочил через мое тело — я несколько часов пролежал в обмороке на поле сражения.
— Вы убедили меня, by God, я очень рад этому.
— Благодарю вас. Но что вы здесь делаете?
— Вы видите, стою на часах.
— Но почему? Разве наших в доме много?
— Нас здесь двенадцать человек.
— Тем лучше. А кто из наших товарищей здесь?
Американец с минуту пристально глядел на Ягуара, потом пожал ему крепко руку и произнес:
— Друг мой, благодарите Бога. Он сегодня оказал вам великую милость.
— Что это значит? — воскликнул Ягуар с тревогой.
— Это значит, что те, кого вы поручили нам охранять, целы и невредимы, несмотря на бесчисленные опасности, которым они подвергались в течение сегодняшнего ужасного дня.
— Это правда?! — воскликнул Ягуар, положив руку на грудь, пытаясь унять порывисто бьющееся сердце. — Они оба там — и Кармела, и Транкиль?..
— Да.
— О, я хочу их видеть! — воскликнул молодой человек, делая шаг к дому.
— Подождите минуту.
— Но почему? — спросил он с беспокойством.
— По двум причинам. Во-первых, прежде, чем дать вам войти, я должен их предупредить о вашем прибытии.
— Вы правы, идите, мой друг, идите, я буду ждать вас.
— Я вам еще не назвал второй причины.
— Какое мне дело до нее, это меня не касается.
— Вас это касается больше, чем вы думаете. Разве вам не интересно знать имя человека, который защищал и спас Кармелу?
— Я не понимаю вас, мой друг, ведь я вам поручил охранять Транкиля и Кармелу.
— Это так.
— Но разве не вы спасли их?
— Нет, — ответил американец, покачав головой, — мне ничего больше не оставалось, как умереть вместе с ними.
— Но кто же спас их в таком случае? О! Кто бы он ни был, клянусь…
— Этот человек, — перебил Джон Дэвис, — один из ваших друзей, Ягуар. Это полковник Мелендес.
— О, я мог бы в том поклясться! — воскликнул восторженно молодой человек. — Почему же я лишен возможности поблагодарить его?
— Вы его скоро увидите.
— Как так?
— В настоящее время он занят поиском безопасного убежища для старого охотника и его дочери. Мы должны пока оставаться в этом домике, и полковник позаботится о том, чтобы отвести от него мексиканских солдат. Как только он найдет надежное убежище, он вернется, чтобы предупредить нас об этом.
— Добр и предан, как всегда! О, никогда я не смогу расквитаться с ним.
— Кто знает? — сказал глубокомысленно американец. — Наша судьба может измениться, и мы сами можем оказаться в положении людей, оказывающих покровительство тем, кто в прежние дни были нашими защитниками.
— Вы правы, мой друг, но расскажите, как все это случилось?
— Вы можете не поверить, но полковник, предчувствуя беду, готовую обрушиться на Кармелу, явился как раз в тот момент, когда мы, осажденные со всех сторон и слишком слабые, чтобы отбить неприятеля, приготовились умереть. Но это было именно так, об остальном вы, конечно, догадываетесь. Просьбами и угрозами он разогнал солдат, которые нас осаждали; затем, не уверенный в том, что окончательно избавил нас от врагов, он проводил нас сюда и сказал, чтобы мы его дожидались, что мы и делаем.
— Конечно, вы поступили правильно, иначе вы проявили бы неблагодарность. А теперь идите, мой друг, я вас жду.
Поняв нетерпение молодого человека, американец тут же пошел в дом.
Ягуар остался один, довольный, что может в одиночестве привести в порядок свои мысли. Он чувствовал огромную радость при мысли, что те, кого он считал мертвыми и с таким отчаянием оплакивал, оказались живы и здоровы, он просто боялся верить такому счастью. Ему чудилось, что он видит сон, и все происшедшее казалось невероятным.
Не прошло и десяти минут, как Джон Дэвис возвратился.
— Ну что? — спросил молодой человек.
— Идите, — ответил тот коротко.
И оба вошли в дом.
Американец провел Ягуара через залу, в котором были распростерты на полу на охапках соломы человек двенадцать техасцев, среди которых находились отец Антонио, Ланси и Квониам. Затем он отворил дверь, и оба искателя приключений вошли в комнату, немного меньшую, чем первая, освещенную дымящимся светильником, стоявшим на столе и распространявшим в комнате слабый свет. Транкиль лежал на постели из звериных шкур, наваленных друг на друга, возле него на скамье сидела Кармела. Увидав молодого человека, она вскочила и бросилась ему навстречу.
— О! — воскликнула она, протягивая ему руку. — Слава Богу, вот и вы! — И нагнувшись, она подставила ему лоб для поцелуя.
Ягуар почтительно коснулся его губами, и это был единственный ответ, который он мог дать — так сильно было испытываемое им волнение.
Транкиль, с трудом поднявшись, протянул молодому человеку руку, и тот поспешил к нему.
— Теперь, что бы ни случилось, — сказал он с дрожью в голосе, — я спокоен за участь моего бедного ребенка, потому что вы со мной. Мы очень беспокоились о вас.
— Увы! — ответил Ягуар. — Я страдал еще больше вас.
— Но что с вами? — воскликнула Кармела. — Вы побледнели, вы шатаетесь! Вы ранены, мой друг?
— Нет, — ответил Ягуар слабым голосом, — это от счастья, волнения и радости увидеть вас снова. Ничего, не беспокойтесь.
Говоря это, Ягуар в изнеможении опустился на стоявшую возле него скамью.
Кармела, сильно обеспокоенная, подбежала к нему. Джон Дэвис, поняв, что требуется другу, дал ему выпить глоток вина. Причиной дурноты Ягуара были волнения, которые он испытал, вместе с усталостью и голодом. Как только он пришел в себя, Транкиль, человек опытный, приказал дочери приготовить какую-нибудь еду для Ягуара, но та, казалось, не слышала его.
— Не правда ли, Ягуар, — сказал тогда охотник, смеясь, — хороший обед — единственное лекарство, в котором вы нуждаетесь?
Молодой человек попробовал улыбнуться и ответил, что несмотря на дурное мнение, которое составит теперь о нем донья Кармела, он должен признаться, что буквально умирает с голоду.
Молодая девушка, убежденная этими прозаическими словами, тотчас же принялась готовить ему ужин, хотя провизии у нее было очень мало. Тем не менее через несколько минут ужин был подан, и Ягуар оказал ему должное, предварительно извинившись перед молодой хозяйкой, сидевшей за столом напротив него. Та, успокоившись на его счет, снова повеселела и стала поддразнивать молодого человека, тот же храбро парировал ее замечания.
Остальная часть ночи прошла в тихой, сердечной беседе троих людей, которые уже не думали, что увидятся когда-нибудь снова. На восходе солнца часовой, стоявший на посту у домика, неожиданно крикнул: «Кто идет?» — и несколько всадников остановились у дверей.
Глава XVIII
РЕАКЦИЯ
После оклика часового возле дома раздались крики. Они стали настолько громкими, что Ягуар, обеспокоенный этим, не понимая, чем объяснить происхождение шума, встал, желая выяснить, что же случилось. Положение беглецов было настолько ненадежным, что каждое событие могло иметь роковой исход.
Кармела, дрожа от страха, подошла к Транкилю, который пытался ее успокоить, одновременно заряжая пистолет и готовясь дорого продать свою жизнь.
В тот момент, когда Ягуар хотел отпереть дверь, она неожиданно распахнулась снаружи, и в залу торопливо вошел Джон Дэвис. Американец покраснел, глаза его сверкали, казалось, он находился в большом волнении, но выражение лица его было скорее радостным и удивленным, чем печальным.
— Что происходит? — спросил его Ягуар.
Джон Дэвис, не отвечая, схватил Ягуара за руку и потащил за собой, разговаривая на ходу:
— Идите же, сами увидите.
— Отвечайте! — повторил молодой человек, напрасно стараясь вырваться из рук своего друга. — Бога ради, скажите, что происходит?
— Идите, идите, говорю вам!
Поняв наконец, что расспрашивать Джона Дэвиса бесполезно, Ягуар решил следовать за ним, успокоив вначале своих друзей обещанием вернуться через несколько минут, чтобы сообщить, что так сильно взволновало Джона Дэвиса.
Когда молодой человек, увлекаемый американцем, дошел до входной двери, открытой настежь, он с радостным криком выскочил из дома. Около дома стояло, по меньшей мере, шестьсот всадников; это были техасцы, бежавшие с поля сражения; среди них были почти все товарищи Ягуара, бывшие пограничные бродяги, которые в самом начале восстания стали вольными стрелками и вместе с молодым человеком совершили столько смелых походов. Из груди Ягуара вырвался крик радости. В свою очередь техасцы, увидев боготворимого ими вожака, бросились к нему, окружили его и почти оглушили шумными выражениями восторга.
Молодой человек гордо выпрямился, глаза его увлажнились от счастья. Не все еще кончено, дело освобождения не могло погибнуть, если столько сердец наполнены благородными стремлениями. Победа, которую одержали мексиканцы и которую сам он считал полной и окончательной, сводилась всего лишь к обычному удачному сражению, не имеющему никакого политического значения.
Теперь Ягуар уже больше не был беглецом, вынужденным прятаться, как ночная птица; он мог перестать скрываться и вновь начать действовать открыто, не подчиняясь постыдным условиям, предложенным со стороны неприятеля. Напротив, теперь он не замедлит доказать, что техасское восстание, которое мексиканцы считают подавленным, стало сильнее, чем прежде.
Все эти соображения мгновенно промелькнули в голове Ягуара, и будущее, казавшееся ему еще так недавно таким мрачным и угрожающим, представлялось теперь радостным, преисполненным радужных надежд.
Когда первое волнение стихло и порядок и тишина мало-помалу были восстановлены, на вопрос Ягуара, что привело всадников к этому дому, ответил отец Антонио. Но так как и в походе почтенный монах не отучился пространно изъясняться, мы в лишь кратко передадим его рассказ.
Мы уже говорили о том, что, проходя через залу дома, Ягуар заметил спящих отца Антонио, Ланси и Квониама, но сон этих трех человек, как и всех охотников, был настолько чуток, что при звуках шагов молодого человека и его товарища-американца они тотчас же проснулись, осторожно встали и крадучись вышли из дома. Они сделали это, не обменявшись друг с другом ни словом; было очевидно, что они намеревались выполнить план, обговоренный заранее. Мигом оседлав лошадей, они были уже далеко к тому моменту, когда Джон Дэвис возвратился на свой сторожевой пост. Американец тотчас заметил их отсутствие и, стоя на часах, бормотал про себя задумчиво:
— Черт бы их взял, by God! Я желаю от души, чтобы им пустили пулю в лоб, чтобы отучить их от бродяжничества; только бы они не привлекли сюда мексиканцев.
Но на самом деле смелый план вольных стрелков вовсе не заслуживал такого порицания. Наоборот, он свидетельствовал о том, насколько люди эти умели быть преданными. Не зная об обещании, данном полковником Мелендесом, не доверяя коварным мексиканцам, они решили объехать окрестности и из всех уцелевших беглецов, принадлежавших к их партии, сформировать отряд для охраны Кармелы и Транкиля. Ланси должен был сделать попытку попасть на американский бриг, крейсировавший в бухте в двадцати ярдах от берега, известить капитана Джонсона об исходе битвы при Серро-Пардо, сообщить о критическом положении, в котором находятся старик-охотник и его дочь, и попросить подойти к берегу, где скрываются беглецы, и, если обстоятельства позволят, взять их на борт судна.
Известная поговорка — «Смелым Бог владеет» оправдалась и в этом случае. Судьба благоприятствовала трем искателям приключений гораздо более, чем можно было бы ожидать. Не успели они проехать и нескольких миль, как увидели бивачные огни около жалкой рыбачьей деревушки, находившейся на берегу моря недалеко от форта Пуэнте.
Они остановились, чтобы посоветоваться, как им поступить, но не успели переброситься и несколькими словами, как несколько всадников окружили их и взяли в плен, прежде чем они успели схватиться за оружие. Только одному из всех троих, а именно Ланси, удалось убежать, он прополз, как змея, между ног лошадей и скрылся прежде, чем остальные успели спохватились.
Ланси сообразил, что, дав себя схватить, он ничего не выиграет, в то время как убежав, он, возможно, сумеет привести задуманный план в исполнение. А потому, предоставив своим товарищам самим выпутываться из беды, он обратился в бегство. Но случилось неожиданное: всадники захватили отца Антонио и Квониама так быстро, что ни та, ни другая сторона не успели обменяться друг с другом ни единым словом. Когда же командир отряда грубо приказал, наконец, пленным следовать за собой, произошло нечто необыкновенное: люди, не разглядевшие друг друга в темноте, мгновенно узнали один другого по голосу. Отец Антонио и его товарищи попали в руки техасцев, бежавших, как и они сами, с поля сражения.
Покончив с поздравлениями по поводу счастливой встречи, друзья выяснили, что всадники эти составляли часть отряда, которым командовал Ягуар. Когда он, оставив отряд, бросился к повозке, в которой были Транкиль и Кармела, техасцы рассыпались во все стороны, но, очутившись в безопасности, каждый из стрелков решил отправиться к тому месту, где обычно находился их сборный пункт. Дорогой к ним примкнули другие беглецы, и оказалось, таким образом, что, всего их собралось приблизительно человек шестьсот. В настоящий момент беглецов уже начинало тревожить их ненормальное положение, их беспокоило, что среди них не было человека, способного стать во главе отряда. Когда отец Антонио выяснил все это, его охватила радость: вместо нескольких бродяг, которых он надеялся собрать для охраны Кармелы и Транкиля, он получил большой отряд. Чтобы в свою очередь доставить своим товарищам удовольствие, он сообщил им, что Ягуар жив, несмотря на слухи о его смерти, распространившиеся в армии, и даже не ранен, что он скрывается в доме, служившем техасцам с давних пор штаб-квартирой, и что он отведет всех туда. Отряд тотчас же снялся с лагеря, построился в колонны и двинулся в путь под предводительством отца Антонио. Солдаты ликовали при мысли о том, что скоро снова увидят горячо любимого командира.
Обо всем остальном читателю уже известно.
Ягуар от всей души поблагодарил отца Антонио и приказал войску стать биваком вокруг дома. Одно обстоятельство тревожило молодого человека: о Ланси не было никаких известий. Может быть, он утонул, погиб, переплывая бухту, чтобы достигнуть брига капитана Джонсона.
Ягуар знал, как Транкиль любил Ланси, знал, что тот в свою очередь платил ему тем же, а потому опасался, что ему придется сообщить канадцу о возможной катастрофе. Поэтому, несмотря на обещание тотчас же сообщить о происходящих событиях, Ягуар медлил с возвращением к друзьям и поглядывал временами на море, не зная, что ответить канадцу.
Между тем охотник, обеспокоенный доносившимся до него шумом и долгим отсутствием Ягуара, решил послать дочь выяснить, в чем дело, предупредив ее об осторожности и потребовав при малейшей опасности вернуться к нему. Весело подпрыгивая, точно молодая косуля, Кармела подбежала к Ягуару. Тот попытался сохранить спокойное выражение лица.
— Ну, так что же? — спросила она его с милым своенравным выражением, которое умела принять при желании. — Что с вами стало, беглец? Мы ждем вас с нетерпением, а вы спокойно расхаживаете здесь взад и вперед вместо того, чтобы вернуться к нам с хорошими вестями.
— Простите меня, донья Кармела, — возразил он, — я заставил вас беспокоиться, но произошло так много удивительных событий, что я до сих пор не пойму, не сон ли это.
— Все нас сегодня покинули, даже Ланси и Квониам до сих пор еще не показались.
— Вы извините их, сеньорита, потому что только я один знаю причину их отсутствия. Я был вынужден возложить на них серьезное поручение, но надеюсь, что они скоро вернутся, и как только я увижу их, то пришлю к вам.
— Ягуар, а вы разве не войдете в дом? Отец хотел бы поговорить с вами.
— Мне бы тоже хотелось этого, Кармела, но сейчас это невозможно. Подумайте, армия разбита, каждую минуту к нам присоединяются бежавшие с поля битвы, но офицеров слишком мало. Я один могу попытаться в какой-то степени навести порядок в этом хаосе. Но будьте уверены, если у меня появится хотя одна свободная секунда, я воспользуюсь этим, чтобы присоединиться к вам. Увы! Только вблизи вас я и бываю счастлив!
При этом намеке молодая девушка слегка покраснела. Когда она заговорила снова, голос ее зазвучал довольно сухо, в чем она почти мгновенно раскаялась, увидев впечатление, которое произвели на молодого человека ее слова, и тень, омрачившую его лицо.
— Вы можете оставаться здесь, сколько хотите, кабальеро, — сказала она. — Говоря с вами, я всего лишь выполняла поручение, возложенное на меня отцом, остальное меня не касается.
Молодая девушка сделала несколько шагов к дому, но затем обернулась и, быстро подбежав к Ягуару, с улыбкой протянула ему свою маленькую ручку.
— Простите меня, мой друг, — добавила она мягко, — я с ума сошла! Вы не обиделись на меня, нет?
— На вас обидеться? — ответил он печально. — По какому праву я бы обиделся на вас? Я ведь для вас не более чем чужой, первый встречный, к которому вы совершенно равнодушны. Человек, который довольствуется тем, что вы терпеливо выносите его присутствие!
Молодая девушка с досадой закусила губы.
— Вы не хотите принять протянутую мной руку? — сказала она с легким оттенком нетерпения.
Ягуар пристально взглянул на девушку, и, схватив протянутую ему руку, горячо поцеловал ее.
— Почему сердечные порывы всегда сдерживает ум? — сказал он со вздохом.
Кармела своенравно взглянула на него и кокетливо сложила розовые губки.
— Разве я не женщина? — сказала она с улыбкой, наполнившей сердце молодого человека безграничной радостью.
— До скорого свидания, — добавила она, — мы вас будем ждать. — Рассмеявшись и погрозив ему пальцем, она метнулась в дом, как испуганная лань.
Ягуар следил за ней глазами до тех пор, пока она не скрылась в дверях.
— Она еще не более чем кокетливый ребенок, — пробормотал он вполголоса, — есть ли у нее сердце?
Подавленный вздох был единственным ответом, который он мог дать себе на этот вопрос. Ягуар снова посмотрел в сторону моря.
Вдруг он вскрикнул от радости. За скалой, находившейся на том берегу, где он стоял, показались высокие мачты корвета «Либертад», который конвоировал бриг.
Оба корабля, подгоняемые попутным ветром, вскоре стали на рейде недалеко от берега. Вслед за тем с корвета была спущена лодка, в нее сели несколько человек, гребцы взялись за весла и направили ее к берегу. Ягуар за дальностью расстояния не мог разглядеть, кто сидит в лодке. Горя нетерпением узнать это, он вскочил на лошадь и в сопровождении нескольких вольных стрелков, присоединившихся к своему командиру, поскакал к берегу. Молодой человек подъехал к морю в тот момент, когда лодка пристала к берегу. В ней находилось три человека: капитан Джонсон, лицо, известное в нашем рассказе под именем Эль-Альфереса, и, наконец, Ланси.
Увидев его, молодой начальник не мог удержаться от радостного возгласа, и, даже не поклонившись остальным спутникам Ланси, схватил его руку и сердечно пожал. Капитан и его товарищ не только не обиделись на невнимание со стороны Ягуара, но, по-видимому, были очень довольны его сердечностью по отношению к Ланси.
— Браво, кабальеро, — сказал капитан, — by God! Вы правы, что крепко пожимаете его руку. Этот честный и преданный человек десять раз в течение этой ночи рисковал жизнью, пытаясь доплыть до моего судна, и когда мы его подняли на борт, он был полумертвым от усталости.
— Ба-а! — воскликнул Ланси беспечно. — Это все пустяки; самое главное то, что мы прибыли сюда, ведь мои несчастные товарищи попали в плен.
Ягуар рассмеялся.
— Успокойтесь, мой друг, — сказал он, — ваши товарищи так же свободны, как и вы, и вы в этом убедитесь. Здесь произошло недоразумение, и я предоставляю им самим возможность разъяснить вам это.
Ланси широко раскрыл глаза и пожал плечами, ничего не поняв.
Ягуар предложил капитану и его спутникам дальше добираться верхом. Услышав это, солдаты, сопровождавшие своего командира, спешились и предложили вновь прибывшим своих лошадей. Те не заставили себя просить, и все верхом тронулись в путь в направлении главной квартиры отряда Ягуара.
Проезжая мимо бивака, капитан был поражен увиденным.
— Как? — сказал он. — Мне сегодня ночью этот славный человек сообщил о страшном поражении, которое вы вчера потерпели. Я поспешил приехать, чтобы предложить вам и вашим друзьям убежище на моем судне, поскольку думал, что вы скрываетесь, как дикие звери, и не успел я сойти на берег, как увидел вашу армию такой же сильной, как и до сражения. Объясните мне это, пожалуйста.
— С удовольствием, только ответьте на один вопрос: форт Пуэнте все еще находится в руках у наших?
— Да, все так же. Мое судно покинуло крепость не более часа тому назад. Мексиканцы не приблизились к ней и на расстояние пушечного выстрела.
— Слава Богу! — воскликнул с восторгом молодой человек. — Стало быть, не все еще потеряно, и все можно поправить. Да, капитан, нас разбили наголову, но вы знаете, что в течение восемнадцати лет, пока мы боремся за свободу, враги наши не раз думали, что раздавили нас, и теперь случилось то же самое. Но с нами Бог, мы боремся за святое дело, мы должны победить! Вчерашнее поражение принесет нам пользу в будущем.
— Вы правы, мой друг, — сказал горячо капитан. — Здесь виден перст Божий, и надо быть безумным, чтобы не понять этого.
Между тем беглецы из техасского войска продолжали прибывать в лагерь. Уже более сотни людей прибыло за то время, как был разбит бивак.
— Видите, — сказал Ягуар капитану, — несмотря на наше положение, в сущности, ничто не изменилось. Наши главные силы остались нетронутыми, и знамя техасской независимости развевается по-прежнему.
Всадники сошли с лошадей и вошли в дом.
Глава XIX
СТРАНИЦА ИСТОРИИ
Ягуар ошибался или, вернее, обольщал себя надеждой, говоря, что поражение при Серро-Пардо привело лишь к незначительным потерям в революционной партии. Гальвестон, слишком слабый, чтобы устоять против атаки мексиканской армии, согласился на первое требование о сдаче, даже не пытаясь делать бесполезных попыток к сопротивлению.
Однако молодой вожак был справедливо удивлен тем, что генерал Рубио, старый, опытный солдат, один из лучших офицеров мексиканской армии, не старался довершить свою победу окончательным уничтожением побежденных врагов, преследуя их до победного конца.
Генерал Рубио действительно имел намерение не давать ни минуты передышки тем, кого победил, но его воля была внезапно парализована другой, более сильной.
События, произошедшие вслед за тем, так необычайны, что их стоит изложить во всех подробностях. Они тесно связаны с событиями, о которых мы рассказывали ранее, и проливают новый свет на некоторые малоизвестные эпизоды времен техасской революции.
Пусть извинит нас читатель, но нужно вернуться назад к генералу Рубио, к тому моменту, когда, вследствие неожиданного нападения полковника Мелендеса, техасцы, чьи ряды были разбиты и которые понимали, что победа ускользнула от них безвозвратно, разбежались во все стороны, не стараясь защищаться или сохранить занимаемую позицию.
Генерал разместился на возвышенности, откуда мог окинуть взглядом поле битвы и следить за движениями отдельных действующих корпусов.
Заметив беспорядок в неприятельских рядах, он понял, какую выгоду можно извлечь из этого поспешного бегства, преследуя беглецов со шпагой в руке до форта Пуэнте, куда он несомненно вошел бы, смешавшись с ними без боя. Но надо было спешить, чтобы не дать врагам времени восстановить строй, что неминуемо постаралось бы сделать вражеское командование, если бы только ему дали хоть час отсрочки.
Генерал обратился к одному из находившихся рядом адъютантов и приготовился послать его к полковнику Мелендесу с приказанием пустить всю конницу в погоню за техасцами, как вдруг появился взвод всадников, состоявший из десятка солдат под предводительством офицера, направлявшегося во всю прыть к месту, где находился генерал Рубио, делавшего при этом генералу знаки и махавшего шляпой.
Удивленный генерал взглянул на офицера, не принадлежащего к его армии. Через минуту он с жестом разочарования бросил взгляд на поле битвы и стал неподвижно, яростно покусывая бороду, и бормоча тихо: «К черту этого салонного офицера и забияку, отчего бы ему не остаться в Мексике? Надо же было президенту прислать ко мне эту птицу в позолоченных перьях, чтобы заставить нас потерять все выгоды от нашей победы!»
В эту минуту офицер подъехал к генералу, почтительно поклонился, вынул спрятанный на труди широкий запечатанный конверт и подал ему.
Генерал, холодно ответив на поклон, взял конверт, распечатал и, нахмурив брови, устремил на бумагу сердитый взгляд. В ту же минуту он с гневом смял бумагу и обратился к офицеру, стоявшему перед ним неподвижно, вытянувшись в струнку.
— Вы адъютант президента республики? — спросил он строгим голосом.
— Да, генерал, — ответил офицер с поклоном.
— Гм! Где президент находится в эту минуту?
— Не дальше четырех миль отсюда, с двумя тысячами солдат.
— Где он остановился?
— Его превосходительство не остановился, генерал, наоборот, он приближается форсированным маршем, чтобы соединиться с вами.
Генерал сделал сердитый жест.
— Хорошо, — ответил он через минуту, — возвращайтесь как можно скорее к его превосходительству и доложите ему о моем прибытии.
— Извините, генерал, но мне кажется, что вы не прочли депеши, которую я имел честь вам вручить, — ответил офицер почтительно, но твердо.
Генерал искоса взглянул на него.
— Мне некогда сейчас читать депеши, — сказал он сухо.
— В таком случае я буду иметь честь изложить вам ее содержание, потому что в ней заключен срочный приказ.
— А, — сказал генерал, хмуря брови, — как ваше имя, сеньор?
— Дон Хосе Ривас, генерал.
— Хорошо, сеньор дон Хосе Ривас, я вспомню о вас.
Угрожающий тон, которым были произнесены эти слова, не ускользнул от офицера, он слегка покраснел.
— Я бедный субалтерн-офицер [30], генерал. Мне очень жаль, что я поставлен против воли в необходимость или исполнить свой долг, или заслужить вашу немилость.
Генерал помолчал с минуту, потом морщины на его лбу разгладились, лицо приняло спокойное выражение и, улыбаясь, он обратился к офицеру:
— Я был неправ, простите меня, кабальеро, я не мог совладать с первым порывом. Нельзя по одному капризу лишиться всех плодов большого труда, не испытав определенного огорчения. Поезжайте, доложите его превосходительству, что, не зная его воли, я дал сражение, но, послушный его приказаниям, я остановился по первому слову, переданному вами. Идите.
Офицер поклонился, едва не касаясь при этом гривы лошади и, вонзая шпоры в бока благородного животного, помчался во весь опор, сопровождаемый своим эскортом.
Генерал, за минуту перед тем гордый и веселый, опустил в изнеможении голову на грудь.
— О, — прошептал он, в отчаянии бросая взгляд на свое войско, — такое прекрасное сражение! И мы так блестяще вели его!
Он подавил вздох.
Между тем офицеры теснились вокруг генерала, требуя разрешения на преследование побежденных.
Генерал поднял голову.
— Дайте сигнал к отступлению, — сказал он.
Адъютанты с удивлением переглянулись. Им казалось, что они плохо расслышали слова генерала.
— Да, — сказал генерал, — дайте сигнал к отступлению. Армия, — прибавил он с горькой улыбкой, — станет на свои первоначальные позиции; так приказывает его превосходительство генерал Санта-Анна, президент республики. Я более не ваш командир, командование отнято у меня президентом, он берет командование войсками на себя.
Офицеры и адъютанты, окружавшие генерала, разделяли горе своего командира, они опустили головы, краснея от стыда и гнева, но, скрепя сердце, отправились исполнить его последнее приказание.
Солдаты, возбужденные запахом пороха и неизбежным опьянением битвы, с трудом повиновались, тем более что офицеры, находившиеся рядом с ними, были далеки от мысли отвечать на повторяющиеся сигналы и заставляли всадников преследовать техасцев. Наконец мало-помалу голос адъютантов, посланных генералом, был услышан, дисциплина взяла верх, порядок восстановился, и мексиканская армия, отступая на позиции, оставленные утром для сражения, вошла в лагерь и разожгла бивачные костры.
Около восьми часов вечера генерал Санта-Анна соединился с генералом Рубио.
Обменявшись приветствиями с генералом, президент республики приказал ему сдать командование, а затем удалился в дом, из которого сделал свою штаб-квартиру.
В эпоху, о которой идет речь в нашем повествовании, генералу дону Антонио Лопесу де Санта-Анна было лет тридцать девять-сорок. Он был строен и высок, у него был выпуклый лоб, округлый подбородок, слегка горбатый нос, большие и выразительные черные глаза. Изменчивый рот придавал ему выражение редкого благородства. Черные курчавые волосы, резко контрастировавшие с желтоватым цветом лица, покрывали виски и обрамляли щеки с выдающимися скулами. Такова была наружность человека, бывшего более тридцати лет злым гением Мексики, служившего причиной всех войн и пронунсиаментос, которые, с переходом власти в его руки, непрерывно волновали эту несчастную страну [31].
Просим прощения у читателя, что нам надо повести разговор о политике и вкратце описать предшествующие события, приведшие к развязке длинную историю, с которой мы взялись познакомить читателя.
Хотя мексиканцы в описанном нами сражении имели значительный перевес над техасцами, в другой части мятежной провинции им был нанесен ущерб, последствия которого оказались для них очень тяжелыми.
Мексиканский генерал Кос, запертый в городе Бежар (Этот город в действительности носит название Сан-Антонио.), был осажден техасцами, которые с недальновидностью, обычной для волонтеров всех стран, предполагали, что закончат кампанию в несколько дней и не запаслись ни провиантом, ни зимней одеждой, в то время как приближался сезон дождей. Поэтому они пришли в уныние и уже поговаривали о том, чтобы снять осаду, как вдруг Эль-Альферес, эта таинственная личность, которую мы несколько раз видели мельком, явился к вожаку техасцов и обязался заставить мексиканцев капитулировать, если ему дадут триста человек.
По причине прекрасной репутации, которой неустрашимый молодой повстанец давно пользовался среди техасцов, его предложение было принято с энтузиазмом.
Эль-Альферес исполнил свое обещание. После четырех ужасных приступов город был взят, но сам молодой человек пал мертвым с пулей во лбу и был со славой погребен товарищами.
Только тогда узнали то, о чем раньше лишь подозревали. Эль-Альферес, отважный, грозный повстанец был не кто иной, как молодая девушка.
Генерал Кос, его штаб и тысяча пятьсот мексиканцев прошествовали без оружия перед горстью инсургентов, уцелевших при приступах, перед трупом их неустрашимого командира, одетого в женское платье и уложенного на скамью, покрытую знаменами, отобранными у побежденных.
Мексиканцев отпустили за пределы техасской республики только после того, как они дали слово не препятствовать признанию ее независимости.
Генерал Санта-Анна, находившийся в это время в Сан-Луис-Потоси, получил там известие о взятии Бежара. Взбешенный бесчестьем, которому подверглось мексиканское оружие, президент в порыве возмущения против генералов, управлявших до сих пор ходом военных действий, поклялся отомстить за позор постыдно скомпрометированной Мексики и покончить, наконец, с бунтовщиками.
Президент собрал армию в шесть тысяч человек, действительно грозную, если принять во внимание возможности страны, в которой происходили эти события. Уязвленная гордость и надежда мести помогли быстро завершить приготовления, и Санта-Анна вскоре вошел в Техас, поделив свою армию на три корпуса под начальством генералов Сесмы, филисола Коса, Урреа и Гаруи.
Соединившись с генералом Рубио, к которому он посылал своего адъютанта с приказом оставаться в своем лагере и не сметь давать сражения до его прибытия (приказание, которое генерал получил слишком поздно), президент приготовился нанести решительный удар, взяв обратно Бежар и овладев Голиадом [32].
Бежар и Голиад — два испанских города. Из того и из другого идут дороги, доходящие до самого сердца англо-американских поселений; взятие этих двух городов было крайне важно для мексиканцев.
Техасцы, обессиленные и деморализованные последним поражением, не в силах были противостоять грозному вторжению, которое им угрожало.
Мексиканская армия вела с инсургентами войну методами дикарей. Проходя лавиной по этой несчастной стране, она опустошала деревни, сжигала и грабила города.
Первые два месяца, следовавшие за прибытием Санта-Анны в Техас, были для мексиканцев рядом непрерывных успехов, и, казалось, результаты оправдывали новый метод президента вести войну, каким бы варварским и бесчеловечным по своим средствам он ни был.
На какое-то время техасцы были поставлены в такое безнадежное положение, что их гибель казалась сведущим людям неизбежной, а полное подчинение Мексике — делом времени.
Расскажем в нескольких словах о действиях мексиканской армии, прежде чем вернуться к моменту, когда мы прервали наше повествование.
Мы упомянули выше, что мексиканские силы были разделены на три корпуса. Половина мексиканской армии, свыше трех тысяч человек под командованием генералов Санта-Анны и Коса, подкрепленные артиллерией, отправились на осаду Бежара. Гарнизон этого города был немногочислен и составлял всего сто восемьдесят человек, но им командовал полковник Тревис, один из знаменитых героев войны за независимость.
Окруженный со всех сторон, полковник Тревис заперся крепости, не высказывая страха пред многочисленными врагами, с которыми ему предстояло сразиться.
Ему было предъявлено требование сдаться.
— Помните, — ответил он, улыбаясь, — мы все умрем, но ваша победа обойдется вам так дорого, что для вас выгоднее было бы поражение!
И действительно, он сдержал слово.
В продолжение целых пятнадцати дней он боролся с беспримерной храбростью, постоянно подбадривая своих товарищей.
Тридцать два техасца, пробившись через всю мексиканскую армию, пришли в осажденную крепость.
— Мы пришли умереть с вами, — сказал полковнику предводитель этих смельчаков.
— Спасибо! — ответил тот просто.
Мексиканские пушки проделали в крепостных стенах огромную брешь.
Санта-Анна, силы которого во время осады удвоились, в последний раз предъявил полковнику Тревису требование о сдаче, указывая на безумие сопротивления приступу с такой удобной для неприятеля брешью.
— Мы заложим ее своими трупами, — ответил полковник с достоинством.
Президент послал войско на приступ.
Техасцы погибли все до последнего, и только после этого мексиканцы вошли в крепость, но не с чувством победителей, а с тайным опасением, как бы стыдясь своей победы.
Они потеряли тысячу пятьсот человек.
— О, — вскричал Санта-Анна с горечью, — еще одна такая победа, и мы погибли!
Как только Бежар был взят, стали думать о Голиаде. Но там произошло одно из тех событий, которые должны храниться на страницах истории хотя бы для того, чтобы навсегда заклеймить и обесславить повинных в том людей.
Голиад — город открытый, без крепостных стен, способных задержать неприятеля.
Полковник Феннен покинул его, так как с ним было только пятьсот волонтеров-техасцев.
Вынужденный в большой поспешности оставить при отступлении боевые запасы и поклажу, он внезапно был застигнут на открытом месте мексиканской дивизией генерала Урреа численностью в тысячу девятьсот человек.
Повинуясь приказаниям полковника, техасцы построились в каре и в продолжение целого дня выдерживали натиск врага. Неприятели, невольно восхищаясь отчаянным героизмом этих людей, не имевших никакой надежды на спасение, умоляли их сдаться, предлагая выгодные и почетные условия. Техасцы долго колебались и, не смея положиться на слово своих врагов, предпочитали умереть.
Между тем уже сто сорок техасцев были убиты. Полковник решил сложить оружие с условием, что на него и его солдат будут смотреть как на военнопленных и будут с ними обращаться соответствующим образом, а также, что американские волонтеры за счет мексиканского правительства будут отправлены в Соединенные Штаты.
Когда эти условия были приняты генералом Урреа, техасцы сдались.
Санта-Анна находился в то время в Бежаре. Он отказался утвердить договор, и, несмотря на просьбы и мольбы всех генералов, своим именным приказом предписал казнить пленных. Семнадцатого марта, в Вербную субботу, на поле, расположенном между Голиадом и морем, триста пятьдесят пленных техасцев были хладнокровно перерезаны.
Генерал Урреа, которого эта гнусная измена опозорила, в ярости сломал свою шпагу.
Это ужасное убийство было сигналом к началу всеобщего восстания. Каждый хватался за оружие. Отчаяние подкрепляло силы инсургентов, новая армия точно по волшебству выросла из земли; генерал Хьюстон был назначен ее главнокомандующим. С обеих сторон стали готовиться к решительной и окончательной битве.
Глава XX
БИВАК
Мы уже сказали, что для техасцев наступила решающая пора. К несчастью, им как побежденным будущее казалось мрачным. Несмотря на героические усилия, предпринятые инсургентами, они с ужасом наблюдали быстрые успехи завоевателей, не находя в то же время средств к сопротивлению.
Между тем именно в то время, когда все казалось безнадежным, конвент [33], спокойный, решительный и бесстрастный, но больше чем когда-либо горящий желанием получить свободу, решил бросить последний вызов завоевателям.
Не поддаваясь страху перед судьбой, конвент ответил на угрозы победителя подтверждением своих прав и окончательным провозглашением независимости страны, почти полностью находящейся во власти мексиканцев. Он принял конституцию, создал временную исполнительную власть, определил крайние меры, которых требовала важность обстоятельств и, наконец, назначил генерала Хьюстона главнокомандующим техасской армией с самыми широкими полномочиями.
К несчастью, техасской армии больше не существовало, предыдущие поражения уничтожили ее полностью. На помощь пришел пламенный энтузиазм.
Техасцы дали клятву скорее быть погребенными под горящими развалинами разоренных городов и деревень, чем попасть под ненавистное иго притеснителей.
И эту клятву они не только готовы были сдержать, но уже сдержали в Бежаре и Голиаде. Как бы ни был низок народ в глазах своих тиранов, но когда все действующие силы соединяются в твердом и неизменном стремлении жить свободными или умереть, становится вполне вероятным, что он избавится от своих недостатков, выйдет в конце концов победителем и возродится кровью мучеников, павших в священной борьбе за свободу против рабства.
Вновь назначенный генерал Хьюстон прибыл в Гваделупу через три дня после взятия крепости Бежар.
Техасское войско состояло из трехсот человек, плохо вооруженных, одетых в лохмотья, почти умирающих от голода, но горящих жаждой мести.
Генерал Хьюстон был патриотом, испытанным и убежденным. Его имя чтилось в Техасе наравне с именами Вашингтона в Соединенных Штатах и Лафайета во Франции. Хьюстон был предвестником независимости, одним из тех гениев, которых Бог создает, когда хочет сделать народ свободным.
При виде армии, состоящей из трехсот человек, Хьюстон не впал в уныние, напротив, его рвение удвоилось. Эти три сотни, героические остатки от десяти тысяч жертв, павших с начала войны, не теряли надежды на спасение отечества и, как их предшественники, готовы были умереть за него. Это была священная фаланга, с которой можно творить чудеса.
Однако не с этими тремя сотнями, как бы храбры и решительны они ни были, мог генерал Хьюстон питать надежду победить мексиканцев, уверившихся в своих силах после последних успехов и искавших способ раз и навсегда покончить с инсургентами.
Прежде чем рискнуть дать сражение, от которого, по всей вероятности, зависела бы судьба страны, генерал Хьюстон решил сформировать войско. Для этого, вместо наступления на неприятеля, он, напротив, стал отступать к Колорадо, потом к Бразосу, сжигая и уничтожая все на своем пути, чтобы уморить голодом мексиканцев.
Эта искусная тактика возымела последствия, которых и ожидал генерал. Причина этого проста: по мере приближения к американской границе его небольшая армия пополнялась новыми рекрутами, покидавшими при ее приближении свои дома и фермы, чтобы стать под знамена инсургентов. В мексиканской армии наблюдалось обратное: преследуя инсургентов, на каждом привале она лишалась нескольких отставших, и силы ее убывали.
Техасский генерал имел вескую причину для отступления к американской границе: он надеялся на помощь генерала Хенна, который по приказанию президента Джексона подошел к техасской территории у города Накодочес.
В таком положении были дела Хьюстона и Санта-Анны в тот день, когда мы прервали свое повествование. Один отступал, другой постоянно маневрировал, не решаясь встретиться лицом к лицу с неприятелем и начать битву, которая должна была решить вопрос об освобождении или порабощении народа.
Было около восьми часов вечера. Весь день стояла удушливая жара, и, несмотря на наступление ночи, жара не только не спала, а наоборот, еще увеличилась. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения, атмосфера была гнетущей, облака, насыщенные электричеством, тяжело плыли по небу. Все предвещало бурю.
На берегу довольно широкой реки, желтоватые и тинистые воды которой текли между крутыми, покрытыми хлопчатником берегами, в темноте блестели, как звезды, огни бивака небольшого кавалерийского отряда.
Река эта была притоком Колорадо. Люди, расположенные на ее берегу лагерем, были техасцы.
Их было всего двадцать пять человек, и именно они составляли кавалерию техасской армии.
Командовал ими Ягуар.
В то время как кавалеристы печально сидели на корточках перед огнем, лошади неподалеку от них жевали корм, привязанный к пикам; люди переговаривались между собой тихими голосами, командир же их удалился в шалаш, устроенный из ветвей и освещенный дымным светильником. Он сидел на скамье, облокотившись спиной на древесный ствол, скрестив руки на груди, устремив куда-то вдаль взгляд, и, казалось, был погружен в глубокие размышления.
Ягуар был уже не тем молодым человеком, пылким и отважным, каким мы его представили читателям. Его лицо было бледно и осунулось, брови нахмурены, глаза покраснели от лихорадки. Вера постоянно жила в его сердце, но надежда угасла.
Вокруг него начинала образовываться ужасающая пустота смерти. Самые дорогие друзья его, самые преданные защитники дела, которому он служил, гибли один за другим в этой неумолимой войне. Эль-Альферес, капитан Джонсон, Рамирес, отец Антонио были уже в могилах; судьба других была ему неизвестна — от них не было вестей. Как дуб, согнутый ветром и побитый бурей, он оставался теперь один, неустрашимый и деятельный, но уже предвидящий свою близкую гибель.
Генерал Хьюстон в задуманном им отступлении доверил командование арьергардом, самой почетной и опасной частью армии, Ягуару, и это назначение тот принял с мрачной радостью, уверенный, что, заботясь об общем спасении, он погибнет со славой.
Между тем ночь становилась все темнее и темнее, горизонт принимал вид все более угрожающий, дождь, слепой и колючий, начал рассекать серый туман. Гроза быстро приближалась и не замедлила разразиться. Солдаты с ужасом наблюдали приближение бури и инстинктивно искали убежища от этого грозного явления природы, не похожего на те опасности, к которым они привыкли.
Кто этого не видел, не может даже приблизительно представить себе американский ураган, ломающий деревья, как соломинки, выжигающий леса, срывающий горы, заставляющий реки выходить из своего русла и способный за несколько часов разрушить всю поверхность земли.
Вдруг ослепительная молния прорезала мрак, и потрясающий раскат грома прервал величавую тишину, царившую над полем. В эту минуту, часовой, стоящий на посту в нескольких шагах перед лагерем, закричал: «Кто идет?»
Ягуар вздрогнул, как от удара электрического разряда, и нагнувшись вперед, привычно схватив стоящее рядом оружие, прислушался.
На мокрой земле слышен был приглушенный топот нескольких лошадей.
— Кто идет? — закричал вторично часовой.
— Друзья! — ответил голос.
— Пропуск?
— Техас!
Ягуар вышел из шалаша.
— К оружию! — закричал он. — Не дадим захватить себя врасплох!
— Э-э! — возразил голос. — Я вижу, что не сбился с дороги, идя по следам копыт. Слышу голос Ягуара.
— Что? — вскричал тот с удивлением. — Кто вы, знающий меня так хорошо?
— By God! Друг, голос которого должен быть вам знаком.
— Джон Дэвис! — воскликнул молодой человек с нескрываемой радостью.
— Ну вот, — ответил весело американец, — я знал, что мы сможем договориться.
— Идите, идите. Пропустите, — обратился он к часовому, — это друг!
Пять-шесть всадников въехали в лагерь и спешились.
Буря усилилась, ураган пронесся вихрем по равнине, ломая деревья и вырывая их с корнем.
Техасцы заставили лошадей лечь и сами растянулись возле них на мягкой земле, чтобы как можно надежнее укрыться от шквала, с жалобным воем проносившегося над их головами.
Опустошенная равнина, освещенная фантастическим светом непрерывно мелькавших бледных молний, представляла собой зрелище, полное дикого величия, сопровождаемое электрическими разрядами, возникающими при столкновении бегущих по небу облаков, и глухими раскатами грома.
Почти три часа свирепствовал ураган, сметая все на своем пути. Наконец около часу ночи дождь стал ослабевать, ветер понемногу стих, гром гремел уже с большими промежутками, и, очищенное последним усилием бури, виднелось синее, украшенное звездами небо; ураган унесся свирепствовать в другие края.
Люди и лошади поднялись, все вздохнули свободнее, и каждый старался привести лагерь в порядок.
Это оказалось не так легко: шалаш был унесен, дрова разбросаны в страшном беспорядке. Но техасцы — люди испытанные, издавна привыкшие к опасностям и трудностям жизни в прериях. Буря, вместо того, чтобы их ослабить, изнурить, наоборот, придала им если не храбрости, которой у них было в избытке, то силы и терпения.
Не унывая, они принялись за работу, и быстрее чем за два часа все разрушения, причиненные грозой, были исправлены настолько, насколько позволяли возможности. Опять были разведены костры и выстроен шалаш.
Если бы посторонний попал в это время в лагерь, он не мог бы предположить, что за несколько часов до того здесь пронесся такой ужасный ураган.
Ягуар поспешил переговорить с Джоном Дэвисом, которого со времени его прибытия видел только мельком и не успел обменяться ни словом. Когда восстановили порядок, он пригласил американца последовать за собой в шалаш.
— Позвольте мне, — ответил тот, — привести к вам трех моих товарищей. Я уверен, вы будете рады их видеть.
— Пожалуй, — ответил Ягуар. — Кто же они?
— Я не хочу, — сказал улыбаясь Джон Дэвис, — лишить вас удовольствия самому узнать это.
Молодой техасец не настаивал, он слишком хорошо знал бывшего работорговца, чтобы усомниться в нем.
Через несколько минут Джон Дэвис, как и обещал, вошел в шалаш с тремя товарищами. Ягуар вздрогнул от радости при виде вошедших и бросился к ним, протягивая руки.
Эти были Ланси, Квониам и Черный Олень.
— О! Слава Богу! — воскликнул техасец. — Наконец-то я вас вижу! Я уже не надеялся больше на ваше возвращение.
— Почему же? — спросил Ланси. — Так как, слава Богу, мы живы, то вы могли бы всегда ожидать нас.
— Столько событий произошло со времени нашего отъезда, столько несчастий нас постигло, столько наших товарищей погибло, что, не ничего не зная о вас, я боялся, что и вас нет в живых.
— Вы знаете, мой друг, — сказал американец, — нас долго не было, поэтому мы совсем не знаем, что здесь происходило со времени нашего отъезда.
— Я вам сейчас обо всем расскажу, но вначале спрошу вас об одном.
— Говорите.
— Где Транкиль?
— В нескольких милях отсюда, это он послал меня вперед, чтобы предупредить вас о нашем прибытии.
— Спасибо, — ответил задумчиво молодой человек.
— Это все, что вы хотели узнать?
— Почти, ведь вы, вероятно, не имеете известий о…
— Известий о ком? — перебил американец, видя, что Ягуар остановился.
— О Кармеле, — сказал тот наконец, делая над собой чрезвычайное усилие.
— О Кармеле? — воскликнул с удивлением Джон Дэвис, — а где мы могли их получить? Транкиль рассчитывает, наоборот, получить их от вас.
— От меня?
— Черт возьми! Вы лучше всех должны знать, как поживает девушка.
— Я вас не понимаю.
— Ведь это совершенно ясно. Я вам не буду напоминать, каким образом после взятия асиенды дель-Меските нам удалось спасти бедное дитя, которое этот негодяй так нагло захватил; я вам напомню, что в тот самый день, когда Транкиль и я по вашему приказу отправлялись, чтобы быть рядом с Чистым Сердцем, молодая девушка в присутствии вас была доверена капитану Джонсону с тем, чтобы тот проводил ее в Гальвестон, в дом одной уважаемой дамы, согласившейся ее приютить.
— Ну и что же?
— Как, и ну что же?
— Ну да, я это прекрасно знаю, не нужно мне об этом рассказывать. Все, что меня интересует — не получали ли вы известия со времени ее отъезда в Гальвестон?
— Но это невозможно, мой друг, откуда бы мы могли их получить? Вспомните, что мы шли по пустыне.
— Правда, — ответил молодой человек с глубоким разочарованием. — Я сумасшедший, простите меня.
— Но что с вами, мой друг? Откуда эта бледность, это беспокойство, которое я читаю в ваших глазах?
— А! — сказал он со вздохом. — Это потому, что если вы ничего не знаете о донье Кармеле, то я получил о ней вести.
— Вы, мой друг?
— Да, я.
— Вероятно, уже давно?
— Нет, только вчера, — ответил он, горько усмехаясь.
— Тогда я вас не понимаю.
— Ну, так слушайте. То, что я вам расскажу, будет не длинно, но важно, я вам обещаю.
— Слушаю вас.
— Мы составляем, как вы, очевидно, знаете, арьергард армии освободителей.
— Да, я знаю, это и помогло мне найти вас по вашим следам.
— Поэтому не проходит дня, чтобы мы не обменялись несколькими пулями или несколькими сабельными ударами с мексиканцами.
— Продолжайте.
— Вчера — как видите, это было совсем недавно, прошло всего несколько часов — нас внезапно атаковали сорок мексиканских кавалеристов. Было около трех часов. Генерал Хьюстон с главными силами переправлялся через реку, у нас же был приказ сопротивляться до последней возможности, чтобы защитить переправу. Приказ этот был излишним; при виде мексиканцев мы бросились на них очертя голову, разгорелся бой. После минутной схватки мексиканцы были разбиты, отступили и обратились в бегство, оставив два-три трупа на поле битвы. У нас было слишком мало сил, чтобы преследовать врагов, а потому я дал приказ солдатам вернуться на свои места и сам приготовился сделать то же, но вдруг два беглеца — два мексиканских кавалериста — вместо того, чтобы продолжать бегство, остановились и, прикрепив свои платки к концам сабель, подали знак, что желают переговорить со мной. Я приблизился к этим солдатам, больше походившим на бандитов, и спросил, чего они хотят. Один из них, человек высокого роста, с суровым лицом, ответил мне:
«Оказать вам услугу, если вы — Ягуар».
«Да, я — Ягуар, — ответил я, — а кто вы? Как ваше имя?»
«Это вас не касается, раз у меня хорошие намерения».
«Надо еще узнать, каковы эти намерения».
«Гм! — сказал он. — Вы слишком недоверчивы, compadre».
«Ну, Сандоваль, — перебил его другой кавалерист, с голосом нежным, как у женщины, вмешиваясь в разговор, — не виляй, кончай скорее».
«Мне ничего другого и не надо, — ответил тот угрюмо, — этот сеньор заставляет меня лукавить, а я хотел бы говорить прямо».
Другой кавалерист, пожав плечами, обратился ко мне:
«Словом, кабальеро, вот бумага, которую поручила вам передать особа, очень интересующая вас».
Я схватил бумагу и уже хотел ее развернуть: у меня появилось тайное предчувствие несчастья.
«Нет, — сказал мексиканец, быстро останавливая мою руку, — прочтете, когда будете среди своих».
«Согласен, — сказал я, — но, наверное, вы не собирались даром оказать мне услугу, в чем бы она ни заключалась».
«Почему же?»
«Вы меня не знаете и не можете испытывать сочувствие ко мне».
«Может быть, — ответил кавалерист, — но не давайте никаких обещаний, пока не узнаете содержания письма».
Затем он сделал знак своему товарищу, и слегка поклонившись, оба умчались галопом, оставив меня в растерянности от странного завершения нашей беседы. Я машинально принялся складывать бумагу, доставшуюся мне таким необыкновенным образом, и все не решался раскрыть ее.
— В самом деле, — пробормотал американец, — что же вы сделали после того, как ваши собеседники покинули вас?
— Я долго провожал их взглядом, а затем несколько внезапных выстрелов, раздавшихся возле меня, так что пули просвистали мимо ушей, вернули меня к действительности. Я пригнулся к шее лошади и, вонзая шпоры в ее бока, помчался во всю прыть в лагерь. Едва приехав, сгорая от нетерпения и любопытства, я вскрыл письмо.
— И оно было?..
— От Кармелы.
— By God! — сказал американец, стукнув кулаком по столу. — Я был в этом уверен.
Глава XXI
САНДОВАЛЬ
— Да, — сказал Ягуар через минуту, — это письмо было целиком написано рукой Кармелы. И знаете, что оно содержало? Хотите это узнать? Американец огляделся.
— Э! — воскликнул Ягуар с жаром. — Это не важно. Эти храбрые парни — наши друзья, и притом друзья верные и преданные. Зачем же скрывать от них то, что завтра я вынужден буду им сказать.
Джон Дэвис поклонился.
— Вы неправильно поняли мою мысль, — сказал он. — Я боюсь не тех, которые слушают здесь, а тех, которые могут подслушать снаружи.
Молодой человек покачал головой.
— Нет, нет, — сказал он, — не бойтесь никого, Дэвис, старый дружище. Никто нас не подслушает.
— Тогда читайте скорее письмо, я хочу узнать его содержание.
Несмотря на то, что предрассветные сумерки перекрасили горизонт всеми цветами радуги, свет был не настолько силен, чтобы можно было читать без дополнительного освещения. Ланси схватил светильник, у которого фитиль обуглился и не давал большого света, снял с него пальцами нагар и поднял на высоту лица Ягуара.
Последний после минутного колебания вынул из бокового кармана своей замшевой куртки грязную смятую бумагу, развернул ее и прочел:
«Командиру техасских вольных стрелков, прозванному Ягуаром.
Если вы и в самом деле питаете ко мне то сочувствие, которое так часто хотели доказать, спасите меня, спасите дочь вашего друга! Выйдя из Гальвестона на поиски моего отца, я попала в руки своего самого жестокого врага. Единственная моя надежда заключается в двух людях: в вас и полковнике Мелендесе. Мой отец слишком далеко, чтобы я могла надеяться на незамедлительную помощь с его стороны. Да к тому же его жизнь для меня слишком дорога, чтобы я согласилась рисковать ей, несмотря на все, что может произойти. Я надеюсь на вас, как на Бога! Неужели вы обманете мои надежды?
Несчастная Кармела».
— Гм! — прошептал американец. — Это все?
— Нет, — ответил молодой человек, — есть еще другое письмо, приложенное к первому.
— От Кармелы?
— Нет.
— А от кого же?
— Не знаю, оно не подписано.
— И вы никого не подозреваете?
— Может быть. Но до того как я вам скажу, кого подозреваю, не лишним будет вам прочесть это второе письмо.
— Зачем?
— А чтобы узнать, разделяете ли вы мое мнение и подтверждают ли ваши подозрения мои?
— Хорошо, я понимаю вас. Читайте.
Ягуар взял бумагу, уже наполовину сложенную, и прочел:
«Это письмо, приготовленное в двух экземплярах, адресовано доньей Кармелой к двум лицам: сеньору Ягуару и полковнику Мелендесу. Второй экземпляр еще не вручен: я ожидаю ответа Ягуара. От него зависит не только спасение девушки, но и успех дела, за которое он так храбро борется. Для этого он должен сделать очень простую вещь, а именно: отправиться между восемью и девятью часами утра в Гуэва дель-Венадо. Знакомый ему человек выйдет из грота и сообщит, на каких условиях он согласен помочь в этом предприятии.
Имеющий уши — да слышит!»
Ягуар сложил бумагу и положил в карман своей куртки.
— Это все? — спросил американец.
— На этот раз все, — ответил молодой человек. — И что вы думаете об этом послании?
— By God! Я думаю, что человек, писавший это письмо и вручивший вам его, — одно лицо.
— Согласен с вами, я думаю то же. Что я должен делать, по вашему мнению?
— А! Этот вопрос сложнее, чем первый!
— Подумайте, ведь это касается Кармелы.
— Я это хорошо понимаю. Но представьте себе, что это свидание может оказаться западней!
— С какой целью?
— Чтобы захватить вас, by God!
— Ну, а потом?
— Что, потом?
— Предположим, это западня, и что из этого следует?
— Прежде всего, вы станете пленником, а Техас лишится одного из самых преданных защитников. Словом, я бы не пошел — это мое прямое и откровенное мнение. — И обратившись к присутствующим, молчавшим с момента начала разговора, американец спросил: — Сеньоры, как вы думаете?
— Было бы безумием довериться человеку, которого никто не знает и у которого могут быть дурные намерения, — сказал Ланси.
— Не надо идти туда, — настаивал Квониам.
— Газель — самое глупое из животных, и все же инстинкт заставляет ее избегать охотников, — сказал поучительно вождь команчей. — Мой брат останется с друзьями.
Ягуар большими шагами ходил по шалашу, с лихорадочным нетерпением выслушивая мнения друзей, очевидно, противоречащие его собственному.
— Нет, — горячо сказал он, внезапно остановившись, — нет, я не оставлю донью Кармелу, если она обращается ко мне за помощью, это было бы подлостью. Я не подвергну ее опасности. Что бы ни случилось, я отправлюсь в Гуэва дель-Венадо.
— Хорошенько подумайте, мой друг, — сказал Джон Дэвис.
— Мое решение непреклонно: я хочу спасти донью Кармелу, пусть даже с опасностью жизни.
— Вы не сделаете этого, мой друг, — возразил тихо американец.
— Я не сделаю этого? Почему?!
— Потому что честь вам это запрещает, потому что рядом с сердцем стоит долг, рядом с личными чувствами стоит общее благо. Потому что как командир, поставленный во главе отряда, вы отвечаете за спасение армии; потому что, если вы погибнете или попадете в плен, армия техасцев может погибнуть или, по крайней мере, оказаться в опасности. Вот почему, мой друг, вы этого не сделаете.
Ягуар опустил голову и в отчаянии сел на скамью.
— Но, Боже, что же делать? Что делать? — прошептал он.
— Надеяться! — ответил Джон Дэвис. Он сделал своим друзьям знак, по которому они встали и вышли из шалаша, затем продолжал: -Ягуар, мой друг, мой брат, неужели мне надо вселять в вас бодрость, — в вас, человека с сердцем льва, которого бедствия никогда не заставляли склонять голову! Неужели вы посмеете поставить на одну доску любовь к женщине и преданность отечеству? Осмелитесь ли вы оплакивать погибшую любовь, возлюбленную, находящуюся в плену или мертвую, когда ваша отчизна изнемогает под непрерывными ударами притеснителей? Если вы поддадитесь слабости, если вы только поколеблетесь, не сможете довести до конца свое самопожертвование, ваша отчизна, мать, которая по справедливости должна быть вам так дорога, которая пролила самую светлую, самую драгоценную кровь в этой безнадежной борьбе, завтра же может оказаться навсегда погребенной по вашей вине под трупами своих детей! Брат, брат, этот час — высший и последний. Надо победить — или умереть во имя общего спасения! Общие интересы должны возобладать над личными страстями. Колебаться здесь — быть изменником! Встряхнитесь, брат, и не бесчестите себя недостойной вас слабостью!
Молодой человек вскочил как ужаленный, услышав эти резкие слова. Взгляд его потух, но вслед за тем грустная улыбка промелькнула на прекрасном лице.
— Спасибо, брат! — сказал он, схватив руку Джона Дэвиса и крепко пожав ее. — Спасибо за напоминание о моем долге. Я умру на своем посту!
— Ах! Наконец-то я вас узнаю, — радостно воскликнул американец. — Я был уверен, что ваше сердце не останется глухим к зову отчизны и вы до конца исполните ваш славный долг.
Молодой человек глубоко вздохнул и не нашел в себе силы ответить на похвалу, которую в глубине души считал незаслуженной.
В это мгновение снаружи послышались бряцанье оружия и топот лошадей.
— Что там происходит? — спросил Ягуар.
— Не знаю, — ответил американец, — но думаю, что нам не замедлят сообщить это.
Действительно, на вопрос часового: «Кто идет?» — снаружи что-то ответили, затем незнакомый всадник въехал в лагерь.
— Парламентер, — сказал Ланси, появляясь у входа в шалаш.
— Парламентер? — повторил Ягуар, бросая на Джона Дэвиса удивленный взгляд.
— Может быть, это помощь, которую вам посылает Бог, — ответил американец.
Молодой человек недоверчиво улыбнулся, но, обращаясь к Ланси, сказал:
— Велите войти.
— Входите, сеньор, — сказал метис, адресуясь к невидимому лицу. — Командир готов принять вас.
Ягуар вздрогнул, узнав вошедшего. Это был Сандоваль, передавший ему накануне письмо.
Сандоваль вежливо поклонился двум людям, находящимся в комнате.
— Вы удивлены, видя меня, кабальеро, не правда ли? — улыбаясь, сказал он Ягуару.
— Признаюсь, — ответил тот, отвечая не менее вежливым поклоном.
— А объясняется все просто: я люблю положения ясные и определенные. В письме, которое я имел честь вручить вам вчера лично, я вам назначил свидание в Гуэва дель-Венадо для обсуждения важных дел, не правда ли?
— Действительно, вы назначили мне свидание.
— Но, — продолжал Сандоваль с отличавшими его непринужденностью и небрежностью, — как только мы расстались, у меня появилась одна мысль.
— Не будет ли нескромностью спросить, какая именно?
— Нисколько. Я подумал, что в настоящих обстоятельствах, принимая во внимание отношения, в каких мы с вами состоим, и то, что я не имею чести быть вам знаком, могло случиться, что вы не окажете мне доверия и заставите меня напрасно мерзнуть, ожидая вас в гроте.
Два инсургента обменялись взглядом, который был перехвачен Сандовалем.
— А-а! — сказал он, смеясь. — Кажется, я угадал верно. Одним словом, я повторю: так как нам надо обсудить важные дела, я решил идти прямо к вам, чтобы не возникло никаких затруднений.
— Вы хорошо сделали, благодарю вас.
— Не за что, я в этом деле заинтересован сам настолько же, насколько и вы.
— Даже если так, ваш поступок остается не менее порядочным. Вы ведь не парламентер?
— Я? Конечно, нет, я только прикрылся этим званием, чтобы легче было проникнуть в ваш лагерь и попасть к вам.
— Все равно, пока вы находитесь между нами, с вами будут обращаться, как с парламентером, и считать вас таковым. Так что можете ничего не бояться.
— Бояться? Чего же? Разве мне не служит ручательством ваша честь?
— Благодарю вас за хорошее мнение обо мне, я его оправдаю. Теперь, если вы не возражаете, перейдем к делу.
— Я ничего другого не желаю, — ответил Сандоваль с некоторым колебанием, бросая подозрительный взгляд на американца.
— Этот кабальеро — мой близкий друг, — сказал Ягуар, перехватив взгляд, брошенный его собеседником, — вы можете говорить при нем совершенно откровенно.
— Гм! — сказал Сандоваль, качая головой. — Моя мать, святая женщина, повторяла мне всегда, что если двоих достаточно для исполнения какого-либо дела, то незачем прибавлять третьего.
— Ваша мать была права, мой любезный, — сказал, смеясь, Джон Дэвис. — Если вы возражаете против моего присутствия здесь, я удалюсь.
— Мне совершенно все равно, будете вы меня слушать или нет, — ответил Сандоваль беспечно. — Если я так говорю, то только для сеньора, которому может не понравиться, что другой услышит то, что я ему собираюсь сказать.
— Если это единственная причина, то вы можете говорить, потому что, повторяю, у меня нет тайн от этого кабальеро.
— Хорошо, этим все сказано, — продолжал Сандоваль.
Он сел на скамью, скрутил сигаретку из маисовой соломы, зажег ее от светильника, который стал теперь ненужен, поскольку наступил день и в комнате с минуты на минуту становилось все светлее, и, непринужденно выпуская клубы густого дыма изо рта и носа, сказал:
— Сеньоры, вы должны знать, что я — признанный вожак многочисленной и храброй армии изгнанников или беглецов, если хотите, которых так называемые честные люди в городах ошибочно называют степными разбойниками.
При этом странном заявлении, сделанном с циничной непринужденностью, оба слушателя вздрогнули и посмотрели друг на друга с изумлением.
Разбойник заметил это и, в душе довольный произведенным эффектом, продолжал:
— Вам нужно знать мое социальное положение, чтобы понять то, что за этим последует.
— Хорошо, — перебил Джон Дэвис, — но что вас заставило обратиться к нам?
— Две важные причины, — ответил откровенно Сандоваль. — Первая — желание отомстить, а вторая — желание хорошо заработать, продав вам как можно дороже помощь отряда, которым я имею честь командовать, состоящего из тридцати хорошо вооруженных всадников.
— Продолжайте, но будьте кратки: время не терпит.
— Не бойтесь, в делах люди понимают друг друга с полуслова. Я не болтлив. Сколько вы мне заплатите за помощь моего отрада?
— Я не могу лично решать такие вопросы, — ответил Ягуар, — а должен доложить об этом главнокомандующему.
— Совершенно справедливо.
— Назовите только требуемую сумму, я сообщу об этом генералу, а он решит.
— Отлично. Вы мне даете пятьдесят тысяч пиастров. Половину — вперед, остальное — после выигранной битвы. Вы видите, я не требователен.
— Ваша цена нам подходит, но как мы свяжемся с вами?
— Ничего нет легче: когда вы захотите поговорить со мной, вы повяжете красные перевязи на копья ваших кавалеристов, я со своей стороны сделаю то же, когда мне понадобится сообщить вам что-нибудь важное.
— Решено. Ну, а теперь поговорим о другом деле.
— Вот оно. Однажды монах по имени отец Антонио прислал ко мне раненого.
— Белого Охотника За Скальпами? — воскликнул Джон Дэвис.
— Вы его знаете? — спросил разбойник.
— Да, продолжайте.
— Он — смелый негодяй, не так ли?
— Я тоже так думаю.
— Хорошо. Итак, я принял его, как брата и как мог ухаживал за ним. Знаете ли вы, что он сделал?
— Нет, честное слово.
— Он хотел восстановить моих товарищей против меня и занять мое место.
— Ого, это уже чересчур.
— Не правда ли? К счастью, я наблюдал за ним, и мне удалось отразить удар. Тем временем генерал Санта-Анна предложил мне поступить волонтером к нему на службу.
— А! — прошептал Ягуар с отвращением.
— Это было не слишком соблазнительно, — продолжал разбойник, не поняв восклицания молодого человека, — но у меня появилась одна мысль.
— Какая?
— Та, которую я только что имел честь открыть вам.
— А, очень хорошо…
— Итак, я выбрал тридцать отважных парней и решил соединиться с мексиканской армией. Caspita! Вы понимаете, мне заплатили.
— Еще бы, это было как нельзя более справедливо.
— Мне стоило большого труда увезти с собой этого дьявола, но я не хотел оставлять его без присмотра, вы понимаете?
— Я думаю.
— До последнего времени мы двигались довольно спокойно, но тут, участвуя в постоянных стычках, я захватил молодую девушку, которую сопровождали только трое наемников, бросивших ее при первых выстрелах. Она хотела догнать техасскую армию.
— Бедная Кармела, — прошептал Ягуар.
— Не жалейте ее, наоборот, радуйтесь, что она попала в мои руки. Кто знает, что могло бы с ней случиться в других руках.
— Это правда, продолжайте.
— Я собирался отпустить бедную девушку идти своей дорогой, но Белый Охотник За Скальпами воспротивился этому; кажется, он ее узнал, так как при виде ее воскликнул: «Ого! На этот раз она не ускользнет от меня». Это понятно, не правда ли?
Оба собеседника кивнули утвердительно.
— Но пленница принадлежала мне, так как я захватил ее.
— А! — сказал Ягуар, вздохнув с облегчением.
— Да, я ни за какую цену не согласился уступить ее Охотнику За Скальпами.
— Хорошо, очень хорошо, вы — честный человек!
Разбойник скромно улыбнулся.
— О, я вполне чистосердечен. Мой товарищ, видя, что я не хочу уступить свою пленницу, предложил мне сделку!
— Какую?
— Он предложил мне двадцать пять унций золотом, с условием, что я никогда не возвращу свободу моей пленнице.
— И вы их приняли? — воскликнул Ягуар с живостью.
— Черт возьми! Дело — делом, двадцать пять унций золотом — это кругленькая сумма.
— Негодяй! — воскликнул молодой человек, вскочив в ярости.
Джон Дэвис удержал его и заставил сесть.
— Терпение! — сказал он.
— Гм! — пробормотал Сандоваль. — Вы чертовски вспыльчивы. Я обязался не возвращать ей свободу, это правда, но не брал обязательств мешать ее бегству. Не говорил ли я вам, что у меня была задняя мысль?
— Правда.
— Девушка меня растрогала — она плакала. Глупо, но я не могу видеть плачущих женщин с того дня, когда… впрочем это к делу не относится, — сказал он, спохватившись. — Итак, она назвала мне свое имя и рассказала свою историю. Я был растроган против воли, тем более что увидел возможность отомстить.
— Значит, вы мне предлагаете ее похитить?
— Именно.
— Сколько же вы с меня за это просите?
— Ничего, — ответил разбойник, с великолепным пренебрежительным жестом.
— Как, ничего?
— Ах, Боже мой, ровно ничего.
— Не может быть!
— Это так, только я вам предложу два условия.
— Ага! Вот оно что.
Бандит молча улыбнулся.
— Посмотрим, что это за условия, — продолжал молодой человек.
— Чтобы никакая тень подозрения не пала на меня, вы похитите молодую девушку во время первой битвы, когда я перейду на вашу сторону. Не бойтесь, это время наступит скоро, если верить некоторым признакам.
— Так и быть, согласен. Какое же второе условие?
— Второе условие — поклянитесь, что вы освободите меня от Белого Охотника За Скальпами, убив его каким бы то ни было образом.
— Еще раз так и быть. Клянусь, но позвольте один вопрос.
— Говорите.
— Если ваша ненависть к этому человеку так сильна, отчего вы не убьете его сами? Я думаю, случаев к этому представлялось достаточно.
— Конечно, я сто раз мог это сделать.
— Почему же вы этого не сделали?
— Хотите знать почему?
— Да.
— Потому что человек этот — мой гость, он спал под моей крышей со мной рядом, ел и пил за моим столом. Но то, что запрещено мне, могут сделать за меня другие. Итак, до свидания, сеньоры. Когда вы мне дадите окончательный ответ?
— Сегодня же вечером: через несколько часов я увижу генерала.
— До вечера!
И любезно поклонившись обоим приятелям, он спокойно вышел из шалаша, сел на лошадь и пустился галопом в деревню, оставив обоих друзей пораженными его необыкновенным бесстыдством и полной испорченностью.
Глава XXII
ИСТОРИЯ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Когда окончилась сцена пытки, о которой мы рассказывали выше, Чистое Сердце с друзьями, то есть с Ланси, Транкилем и верным Квониамом, вернулись в свой дом. Отец Антонио в то же утро ушел из селения, чтобы доставить Ягуару весть о хорошем приеме, оказанном команчами его товарищам.
Белые грустно уселись на скамьи и несколько минут молчали: ужасные пытки, вынесенные Прыгающей Пантерой, потрясли их больше, чем они смели выразить. На самом деле, зрелище было ужасное и отталкивающее, особенно для людей, привыкших открыто сражаться со своими врагами и после битвы помогать раненым, не отделяя победителей от побежденных.
— Гм! — сказал Квониам. — Какое мерзкое племя эти краснокожие.
— Все племена одинаковы, — возразил Транкиль, — если на них нет узды и они предоставлены своим свирепым и диким страстям.
— Белые еще более жестоки, чем краснокожие, — заметил Чистое Сердце, — потому что они действуют сознательно.
— Это верно, — сказал Джон Дэвис, — но все же нам пришлось присутствовать при ужасной сцене.
— Да, ужасной, это правда.
— Ну, — сказал Чистое Сердце, чтобы переменить разговор, — не говорили ли вы мне, мой друг, что у вас есть поручение ко мне. Я думаю, сейчас удобное время для разговора.
— Действительно, я даже запоздал с этим, тем более что, если мои предчувствия меня не обманывают, моего возвращения ждут с беспокойством.
— Хорошо, говорите же, никто нам не помешает. Времени у нас достаточно.
— То, что я хочу вам сказать, не задержит вас. Я хочу только просить вас довершить дело, для которого вы уже потрудились.
— То есть?
— Я пришел просить о вашем содействии в войне Техаса против Мексики.
Лицо молодого охотника омрачилось, брови нахмурились. Несколько минут он сидел молча.
— Неужели вы откажете? — спросил Транкиль.
Чистое Сердце отрицательно покачал головой.
— Нет, — сказал он, — но мне не по душе опять вмешиваться в дела белых, а также, признаюсь вам, бороться против моих соотечественников.
— Ваших соотечественников?
— Да, я — мексиканец, уроженец Соноры [34].
— Ax! — произнес охотник с разочарованным видом.
— Послушайте, — сказал решительно Чистое Сердце, — будем говорить откровенно. Когда вы выслушаете меня, вы сами рассудите и скажете, что я должен делать.
— Хорошо, говорите, мой друг.
— Много раз, вероятно, вы удивлялись, видя белого, уединившегося с матерью и старым слугой среди индейского племени. Вероятно, вы спрашивали себя: какая серьезная причина, какое преступление заставили человека, подобного мне, с изящными манерами, обладающего представительной наружностью и известным образованием, искать убежища среди дикарей? Это казалось вам необъяснимым. Так вот, мой друг, причина моего изгнания — преступление, которое я совершил: в один и тот же день я стал поджигателем и убийцей. [35]
— О! — вскричал Транкиль, в то время как остальные слушатели недоверчиво покачали головами. — Поджигателем и убийцей?! Вы, Чистое Сердце?! Это невозможно!
— Я не был тогда еще Чистым Сердцем, — ответил охотник с грустной улыбкой, — правда, я был ребенком, мне едва исполнилось четырнадцать лет. Мой отец был настоящим испанцем; честь для него была священным понятием, и он хранил ее безупречно. Мне удалось избавиться от рук уголовного судьи, явившегося меня арестовать, но как только судья покинул наш дом, отец собрал всех слуг и пеонов, устроил судилище, во главе которого был он сам, и стал судить меня. Мое преступление было очевидно, доказательства неопровержимы; отец сам твердым голосом произнес свой приговор: я был присужден к смерти!
— К смерти! — закричали присутствующие с ужасом.
— К смерти, — ответил Чистое Сердце. — Приговор был справедлив. Ни просьбам слуг, ни слезам и мольбам моей матери не удалось смягчить наказания. Отец был непоколебим, решение принято, и его надо было немедленно приводить его в исполнение. Мне была предназначена не та обыкновенная смерть, мучения которой продолжаются несколько секунд и затем прекращают жизнь навсегда. Нет, мой отец, желая наказать меня, обрек на долгую, мучительную агонию. Вырвав из объятий матери, бывшей почти в беспамятстве от горя, он бросил меня поперек седла и поскакал галопом по направлению к прериям, увозя меня хрипящим, в ужасе от страшной судьбы, предназначенной мне. Путь был длинен, он продолжался несколько часов. Лошадь не замедляла хода, отец не произносил ни слова. Я чувствовал, что у усталой лошади подгибаются колени подо мной, но она продолжала бежать с той же головокружительной быстротой. Наконец она остановилась. Мой отец спрыгнул с седла, взял меня на руки и бросил на землю. Через минуту он снял повязку, закрывавшую мне глаза. Я испуганно огляделся вокруг, но была ночь; непроницаемая тьма окутывала все вокруг, и я не мог ничего рассмотреть. Отец с минуту смотрел на меня с непередаваемым выражением, затем заговорил. Несмотря на долгие годы, прошедшие с той ужасной ночи, каждое его слово отпечаталось в моей памяти.
— Сеньор, — сказал он мне резко, — теперь вас отделяет более двадцати миль от моей асиенды, и вы не должны никогда возвращаться туда под страхом смерти. С этой минуты — вы один, у вас нет ни отца, ни матери, ни семьи. Вы поступили, как дикий зверь, и я вас осуждаю на жизнь с ними. Мое решение неизменно, ваши просьбы не приведут ни к чему, поэтому избавьте меня от них.
Может быть, в этих словах и скрывалась для меня надежда, но я был не в состоянии заметить указанный путь, гнев и страдание довели меня до отчаяния.
— Я ни о чем и не прошу вас, — ответил я, — палача не просят.
При этом кровном оскорблении отец вздрогнул, но почти тотчас же следы волнения исчезли с его лица. Он продолжал, указывая на объемистый мешок, брошенный рядом со мной.
— В этом мешке — съестных припасов на два дня. Кроме того, я вам оставляю свое нарезное ружье — в моих руках оно всегда попадало в цель, — пистолет, нож, топор и бизоньи рога с порохом и пулями. В мешке с провизией вы найдете огниво, чтобы высечь огонь; я положил туда и Библию, принадлежащую вашей матери. Вы умерли для людей и не должны возвращаться в их общество. Пустыня перед вами, она принадлежит вам, у меня же больше нет сына. Прощайте! Да будет милосерден к вам Господь! На земле между нами все кончено. Вы остаетесь один, без семьи. Начинайте новое существование и заботьтесь сами о себе. Провидение никогда не покидает верящих в Него; отныне Оно одно будет печься о вас.
С этими холодными, резкими словами, которые я выслушал с глубоким вниманием, отец взнуздал лошадь, перерезал веревки, связывавшие мое затекшее тело и, вскочив в седло, поскакал назад, не оборачиваясь.
Я был оставлен в пустыне один, в полной темноте, без надежды на какую бы то ни было помощь. И тут все перевернулось: я вдруг понял всю значимость совершенного преступления. Сердце мое замерло при мысли об одиночестве, на которое я обречен. Я опустился на колени и, обратив взгляд на удалявшийся силуэт, прислушивался с лихорадочной тоской к торопливому топоту лошади. Наконец, когда он совсем исчез и последний шум затих в отдалении, я почувствовал невыносимую сердечную боль; мужество покинуло меня, и я поддался страху.
Ломая руки, я воскликнул, задыхаясь:
— Мама, о, мама!
И упав в ужасе и отчаянии на лесок, я потерял сознание.
Все молчали. Эти люди, привыкшие к суровой, полной опасности жизни, были невольно растроганы захватывающим рассказом.
Мать охотника и его старый слуга неслышно присоединились к слушателям, лежавшие у ног хозяина собаки лизали ему руки.
Молодой человек опустил голову и прикрыл лицо руками, скрывая волнение.
Никто не осмеливался заговорить, гробовая тишина царила в комнате.
Наконец Чистое Сердце поднял голову.
— Сколько времени лежал я без сознания, — сказал он, продолжая рассказ тихим голосом, — я никогда не узнал. Внезапное ощущение свежести заставило меня открыть глаза; обильная утренняя роса, смочившая мое лицо, пробудила меня к жизни.
Я окоченел, поэтому первое, что я сделал — собрал несколько сухих ветвей и развел огонь, чтобы согреться; потом стал размышлять.
Если большое горе сразу не убивает, то впоследствии происходит реакция: мужество, сила воли берут верх, и сердце укрепляется.
Несколько минут спустя положение казалось мне уже не таким отчаянным.
Я был один в пустыне, это правда, но в свои четырнадцать лет я был высок, силен, обладал твердым характером и, как отец, был наделен исключительной стойкостью убеждений и силой воли.
У меня были оружие, съестные припасы, так что положение мое было далеко не безнадежным.
Часто, живя еще на асиенде отца, мне приходилось участвовать в крупных охотах в обществе вакерос [36], — охотах, когда приходилось спать в лесу, под открытым небом. С этого момента как бы начиналась новая охота, только продолжаться она должна была всю жизнь.
На минуту мне пришла в голову мысль вернуться на асиенду и броситься к ногам отца, но, зная его непреклонный характер, я опасался быть вновь изгнанным с позором. Гордость моя возмутилась, и я прогнал мысль, бывшую, может быть, Божьим внушением.
Немного ободренный своими размышлениями и разбитый мучительными волнениями последних часов, я поддался наконец неумолимой потребности в сне, особенно сильной у детей моего возраста, и, подбросив дров в костер, чтобы огонь горел как можно дольше, заснул.
Ночь прошла без приключений. На рассвете я проснулся.
В первый раз я видел восход солнца в пустыне. Прекрасная, величественная картина, развернувшаяся перед моими глазами, ослепила меня и наполнила восторгом.
Пустыня, казавшаяся в темноте такой печальной и скучной, при ослепительных лучах восходящего солнца приняла чарующий вид; ночь унесла с собой все мрачные призраки.
Утренний воздух, острое благоухание, исходящее от земли, наполняли грудь мою чувством невыразимого блаженства.
Я упал на колени и, подняв руки и глаза к небу, вознес Богу горячую молитву.
Исполнив это, я почувствовал себя бодрее и поднялся с тайным чувством веры и надежды на будущее.
Я был молод и силен. Птички весело щебетали вокруг, лани и антилопы беззаботно резвились в прерии. Бог, в своей бесконечной доброте защищающий эти невинные и слабые создания, не покинет меня, если я в своем искреннем раскаянии буду достоин его заступничества.
Слегка перекусив, я прикрепил к поясу оружие, вскинул мешок на одно плечо, ружье — на другое и, бросив последний взгляд назад, со вздохом сожаления пустился в путь, шепча имя матери, которое отныне должно было служить мне единственным талисманом.
Первый переход оказался длинным: я направлялся к зеленеющей на горизонте роще, достичь которую намеревался до захода солнца.
Ничто не торопило меня, но мне хотелось сразу оценить свои силы и увидеть, на что я способен.
За два часа до наступления ночи я достиг опушки леса и погрузился в океан зелени.
Охотник моего отца, старый лесной бродяга, оставивший свои следы во всех американских пустынях, рассказывал мне долгими ночами о множестве своих приключений в прериях, не задумываясь, как не думал об этом и я, что эти рассказы послужат мне уроками, которыми в настоящее время я мог бы воспользоваться.
Расположившись на вершине холма, я развел огонь и, поужинав с большим аппетитом, помолился и заснул.
Проснулся я внезапно: две собаки лизали мне руки с радостным визгом, а моя мать и старый Эусебио нагнулись надо мной, вглядываясь с тревогой, сплю ли я или лежу без сознания.
— Слава Богу, — воскликнула матушка, — он жив!
Я не смогу выразить счастья, внезапно наполнившего мою душу при виде матери. Я уже не надеялся увидеть ее на этом свете. Сжимая ее в объятиях, как бы опасаясь, что она может ускользнуть от меня, я предался необузданной радости.
Когда первые порывы нашего восторга улеглись, матушка сказала:
— Какие же у тебя теперь намерения? Что ты думаешь делать? Ты вернешься со мной на асиенду, не правда ли? Если бы ты только знал, как я страдала во время твоего отсутствия!
— Вернуться на асиенду? — повторил я.
— Да, я уверена, что твой отец простит тебя, если не простил уже в глубине сердца.
Говоря это, моя мать смотрела на меня с беспокойством, удваивая свои ласки.
Я молчал.
— Почему же ты не отвечаешь, сын мой? — спросила она.
Я собрал все силы.
— Мама! — ответил я. — Одна мысль о разлуке с вами наполняет мое сердце печалью и горечью, но прежде, чем вы услышите мое решение, ответьте мне откровенно на один вопрос.
— Говори, дитя мое.
— Это отец послал вас за мной?
— Нет, — ответила она с грустью.
— Но, по крайней мере, как вы думаете, он одобряет ваш поступок?
— Не думаю, — сказала она еще с большей грустью, предвидя то, что может произойти.
— В таком случае, матушка, Бог мне судья. Отец отрекся от меня, бросил меня в пустыне, я не существую больше для него, как он сказал, я мертв для всех. Я вернусь на асиенду, когда не только Бог и отец, но когда я сам смогу простить себе мое преступление. С сегодняшнего дня я начну новую жизнь. Кто знает, может быть, Бог, посылающий мне это испытание, имеет тайные предначертания для меня? Да будет исполнена Его воля. Мое решение неизменно.
Мать с минуту пристально смотрела на меня. Она знала: если я сказал, то никогда не возьму своего слова назад. Две слезы тихо скатились по ее бледным щекам.
— Да исполнится воля Божия, — сказала она, — мы остаемся в пустыне.
— Как! — воскликнул я с радостным изумлением. — Вы соглашаетесь остаться со мной?
— Разве я не твоя мать? — ответила она с бесконечной добротой, прижимая меня к сердцу.
Глава XXIII
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Снаружи, за дверью дома охотника продолжался вой команчей. После минутного молчания, справившись с волнением, Чистое Сердце возобновил свой рассказ.
— Напрасно умолял я матушку оставить меня под защитой Бога и вернуться с Эусебио на асиенду; ее решение было неизменным.
— С тех пор как я обвенчалась с твоим отцом, — сказала она мне, — какие бы требования он не высказывал, как бы они ни были несправедливы — я всегда оставалась для него скорее покорной и преданной рабой, чем женой с равными правами. Никогда с моих губ не срывалась жалоба, никогда я не противоречила его воле, но сегодня чаша терпения переполнилась. Прогнав тебя, отказавшись выслушать мои мольбы, презрев мои слезы, он показал наконец всю суровость своего сердца, эгоизм и жестокую гордость, которые им управляют. Человек, принявший хладнокровное решение поступить так варварски со своим первенцем, не имеет сердца. Приговор, произнесенный им над тобой, я, в свою очередь, произношу над ним. Отныне мы будем жить по закону возмездия, по закону пустыни: око за око, зуб за зуб.
Как многие слабые натуры, привыкшие робко склонять голову под натиском, моя мать, лишь только дух возмущения вошел в ее сердце, стала настолько же упорной, насколько прежде была уступчивой. Тон, которым она произнесла эти слова, сразу показал, что мои настояния будут бесполезны, поэтому лучше уступить. Я попробовал обратиться к Эусебио, но при первых же словах этот честный малый остановил меня, рассмеявшись мне в лицо, и сказал ясно и решительно, что видел мое рождение и надеется увидеть мою смерть.
И с этой стороны нечего было надеяться на поддержку, и я отказался от борьбы.
Я напомнил матушке, что, заметив ее исчезновение, отец вместе с прочими обитателями асиенды пустятся в погоню, и если мы не постараемся уйти подальше, неизбежно будем задержаны.
Мать и Эусебио приехали верхом. К несчастью, лошадь моей матери от усталости совсем разбила ноги и не способна была следовать за нами. Мы сняли с нее седло и оставили ее на произвол судьбы. Мать села на другую лошадь, мы с Эусебио следовали за ней пешком, в то время как наши собаки бежали впереди. Так наш караван пустился в путь.
Мы не знали, куда идем, и не очень заботились об этом. Равнины сменялись лесами, ручьи — реками, а мы продолжали продвигаться вперед, добывая себе пропитание охотой и останавливаясь там, где нас заставала ночь, не испытывая сожаления о прошлом, не заботясь о будущем.
Почти месяц мы двигались все вперед, избегая по возможности встречи с дикими зверями и дикарями, казавшимися нам одинаково свирепыми.
По воскресеньям мы обычно прерывали путешествие и проводили этот день в благочестивых беседах. Мать читала Библию и толковала ее Эусебио и мне. В один из таких дней, около трех часов пополудни, когда жара начала спадать, я поднялся и взял ружье, собираясь поохотиться, так как наша провизия подходила к концу. Матушка ничего мне не сказала, хотя, как я уже упоминал, воскресенье мы посвящали отдыху, и я отправился с двумя собаками.
Шел я довольно долго, не замечая ничего, на что стоило бы потратить заряд, и прошел уже около двух миль, как вдруг собаки, бежавшие по привычке впереди меня, поджали хвосты и вернулись ко мне в необычайном беспокойстве.
Хотя я и был новичком среди лесных охотников, но тем не менее счел необходимым действовать осмотрительно, не зная, с каким врагом мне придется встретиться. Я продвигался шаг за шагом, осматривая окрестности и прислушиваясь к малейшему шуму.
Недолго пришлось мне находиться в неизвестности: вскоре послышались ужасные крики.
Первым моим порывом было скрыться, но любопытство удержало меня, и зарядив ружье, чтобы быть готовым ко любому приключению, я продолжал пробираться в ту сторону, откуда неслись все более сильные и отчаянные крики.
Вскоре мне все стало ясно: среди деревьев, на довольно широкой поляне я заметил пятерых или шестерых индейских воинов, борющихся с ожесточением отчаяния против превосходящего числа врагов. Индейцы, очевидно, были захвачены на стоянке, так как ноги их лошадей были спутаны, костер потухал. На земле были распростерты несколько оскальпированных трупов.
Эти воины, несмотря на численное превосходство врагов, боролись с отчаянной храбростью, не уступая ни пяди, гордо отвечая воинственными криками своим противникам.
Индеец, казавшийся вождем оборонявшихся, был молодым человеком не более двадцати лет, хорошо сложенным, с бесстрастным выражением лица. Нанося ужасные удары, он не переставал ободрять своих товарищей и поддерживать в них мужество.
Ни та, ни другая из сторон не имела огнестрельного оружия, индейцы боролись топорами и длинными пиками с железными заостренными концами. Внезапно несколько врагов одновременно набросились на молодого вождя, и, несмотря на его геройские усилия, им удалось повалить противника. Затем я увидел руку, ухватившую его длинные волосы, и нож над его головой.
Не помню, что я испытал при виде этого, какое чувство охватило меня, но я машинально сбросил с плеча ружье и выстрелил. Затем, с криком бросившись на поляну, я разрядил еще два пистолета в двух людей, стоявших ко мне ближе всех. Тогда случилось нечто невероятное, чего я никак не ожидал и не мог предвидеть.
Индейцы, испуганные выстрелами и моим внезапным появлением, решили, что к их противникам подоспела помощь, и, не думая больше о борьбе, скрылись с необыкновенной быстротой, присущей им при малейшем неблагоприятном повороте судьбы.
Я очутился наедине с теми, кого спас. Участвуя в первый раз в сражении (если можно так назвать мои действия во время боя), я испытывал волнение, неизбежное для первого приключении подобного рода, ничего не видел и не слышал. Я стоял среди поляны, как статуя, не зная, нужно ли мне двигаться вперед или назад; мои борзые, не покинувшие меня, стали по обе стороны, скаля зубы, с глухим, сердитым ворчанием.
Не знаю, кто первый сказал, что неблагодарность — белый порок, а признательность — красная добродетель, но кто бы он ни был, он прав.
Предводитель, которого я спас таким чудесным образом, не отдавая себе в том отчета, и его товарищи бросились ко мне, осыпая меня знаками уважения и благодарности.
Я машинально отвечал по-испански на похвалы, расточаемые индейцами на своем звучном языке, в котором я не понимал ни слова.
Когда первый порыв радости прошел, легкораненый вождь усадил меня к огню, и пока его товарищи добросовестно снимали скальпы с павших врагов, стал меня расспрашивать на испанском языке, которым владел довольно хорошо.
Обращаясь ко мне со словами горячей благодарности и назвав меня несколько раз большим храбрецом, он рассказал, что имя его Нокобота (что означает «буря»), что отряд его составляет часть великого и могущественного племени команчей, прозванных царями прерий, что он родственник знаменитого вождя по имени Черный Олень. Отправившись с несколькими охотниками на охоту за антилопами, он был застигнут отрядом охотников-апачей, заклятых врагов его племени, и если бы Владыка Жизни не привел меня на помощь, то он и его товарищи неминуемо погибли бы. Мнение это я должен был признать справедливым.
Узнав мое имя, предводитель сказал, что отныне он будет считать меня братом, хочет ввести меня в свое племя и не согласится на разлуку с человеком, спасшим ему жизнь.
Слова Нокоботы навели меня на одну мысль. Существование, которое нам приходилось вести, беспокоило меня не из-за себя, — так как эта жизнь, свободная и непринужденная, пришлась мне по душе, — но из-за моей бедной матери, привыкшей к комфорту цивилизованной жизни. Я боялся, что она долго не сможет выносить неудобства и лишения, которым подвергалась из любви ко мне.
Я решил немедленно воспользоваться благодарностью и предупредительностью моего нового друга и в виде ответной услуги попросить его об убежище для матери, которое если и не вернуло бы ей потерянного благополучия, то, по крайней мере, дало бы ей возможность не погибнуть в прерии от нужды. Я откровенно рассказал Нокоботе о положении, в котором находился, и о том, какой случай привел меня так вовремя к нему на помощь.
Предводитель слушал меня очень внимательно и, когда я кончил, сказал, улыбаясь и пожимая мне руку:
— Хорошо, Нокобота — брат Чистого Сердца (это имя, данное мне индейцем, я сохранил с тех пор). У матери Чистого Сердца будет два сына.
Поблагодарив его, я заметил, что уже давно покинул мать, и она, вероятно, беспокоится обо мне, так что, с его позволения, я отправлюсь к ней, чтобы ее успокоить и рассказать обо всем происшедшем.
Команч покачал головой.
— Нокобота будет сопровождать своего брата. Он его не оставит.
Я согласился, и мы немедленно тронулись в путь к месту нашей стоянки.
Мы ехали верхом, и дорога не показалась мне длинной.
Увидев, что меня сопровождают шесть-семь индейцев, мать моя страшно испугалась — она вообразила, что я пленник, которому угрожает смертная казнь.
Я немедленно ее успокоил, и страх за меня сменился у матери радостью при известии о принесенных мной хороших новостях.
Нокобота с присущей индейцам утонченной вежливостью не замедлил совершенно успокоить ее и даже сумел приобрести ее расположение.
Вот каким образом, мой милый Транкиль, я стал лесным бродягой, траппером и охотником.
Меня приняли, как брата, у команчей. Эти люди, добрые и простые, не знали, как доказать мне свою дружбу. Я, в свою очередь, узнав их ближе, полюбил, как братьев. Усыновленный вождями и принятый у костра совета, я считался сыном племени.
С этой минуты я не расставался с команчами. Мои учителя посвящали меня во все тайны прерии, и я делал большие успехи. Вскоре меня уже считали лучшим охотником и одним из самых храбрых людей этого племени. В многочисленных стычках с неприятелями я получил возможность оказать моим соплеменникам значительные услуги. Мое влияние росло, и теперь я не только воин, но еще и вождь, уважаемый и любимый всеми. Нокобота, благородный юноша, неустрашимое сердце которого не терпело покоя, погиб в засаде, устроенной апачами. После ожесточенной битвы мне удалось отбить его и израненного доставить обратно в племя. Сам я был опасно ранен и, добравшись до деревни, упал без сознания со своей драгоценной ношей. Самые нежные и усердные заботы моей матери не смогли спасти его; мой бедный брат умер, благословляя меня за то, что я не оставил его в руках врагов и избавил от скальпирования, самого большого позора для индейца.
Несмотря на знаки дружбы и любви, которые постоянно оказывали мне вожди племени за самоотверженную защиту брата, я долгое время был безутешен после его смерти, да и сейчас, несмотря на время, прошедшее после этой катастрофы, я не могу без слез говорить о нем. Бедный Нокобота! Душа — простая и добрая, сердце — благородное и преданное! Найду ли я еще когда-нибудь такого верного и надежного друга?
Теперь вы знаете мою жизнь не хуже меня, мой любезный Транкиль. Моя добрая, дорогая мать, почитаемая индейцами, как посланница всеблагого Провидения, счастлива — или, по крайней мере, кажется такой. Краснокожие приняли меня, как сына, когда мои соплеменники оттолкнули меня, и дружба их всегда была неизменна. Живя их жизнью, я совершенно забыл, что я белый. Я вспоминаю о моем происхождении лишь тогда, когда требуется моя помощь несчастному белому, подобному мне. Белые трапперы и охотники этого края считают — не знаю почему — меня своим вождем и усердно пользуются любым случаем доказать мне свое уважение. Таким образом, я добился для себя относительно завидного положения. Но несмотря на это, чем больше времени проходит, тем больше воспоминание о событиях, которые привели меня в пустыню, оживает в моей памяти, тем больше я опасаюсь, что никогда не получу прощения совершенному мной проступку.
Он замолчал. Охотники переглянулись со смешанным чувством уважения и восхищения, которое они испытывали перед этим человеком, так искренне раскаивающимся в преступлении, которое многие сочли бы просто маленькой погрешностью.
— Я уверен, — воскликнул вдруг Транкиль, — что Бог давно простил вас. Гм… люди, подобные вам, довольно редки в пустыне, дружище!
Чистое Сердце слегка усмехнулся этим наивным словам охотника.
— Теперь, друг мой, так как вы знаете меня хорошо, выскажите откровенно свое мнение, каково бы оно ни было, и я обещаю последовать ему.
— Э! Мое мнение очень простое: идите с нами.
— Но ведь я говорил, что я мексиканец.
Канадец рассмеялся.
— Э-э! — сказал он. — Я думал, вы выше этого предрассудка, честное слово!
— Как, выше этого предрассудка?
— Pardieu! Это ясно как день.
— Я уверен, мой друг, что вы мне можете дать только добрый совет, поэтому я слушаю вас внимательно.
— Решайте сами; мне не требуется много времени, чтобы вас убедить.
— Я ничего другого и не желаю.
— Начнем по порядку. Что такое Мексика?
— Как что такое Мексика?
— Да. Королевство это или империя?
— Это — союз.
— Отлично! Итак, Мексика представляет собой республику, состоящую из нескольких союзных штатов.
— Да, — сказал Чистое Сердце, улыбаясь.
— Чем дальше, тем лучше; значит, Сонора и Техас, например, составляют свободные штаты, которые могут, если им это нравится, выделиться из союза?
— А-а! — сказал Чистое Сердце. — Я не думал об этом.
— Не правда ли? Вы видите, мой друг, что нынешняя Мексика (не та, какой она была во времена Моктесумы [37] и испанцев, так как первая занимала только мексиканское плоскогорье, а вторая, под именем Новой Испании, включала в себя часть Центральной Америки) только косвенно может назваться вашей родиной, потому что вы родились не в Мехико, не в Веракрусе, а в Соноре, вы сами это сказали. Следовательно, если вы, как уроженец Соноры, приходите на помощь техасцам, то вы следуете только общему примеру и никоим образом не изменяете вашей родине. Что можете вы ответить на это?
— Только то, что ваше рассуждение правдоподобно и не лишено известной логики.
— Должно ли это значить, что я вас убедил?
— Нисколько, но все же я принимаю ваше предложение и сделаю то, что вы хотите.
— Вот вывод, которого я, судя по началу вашей речи, никак не ожидал.
— Это потому, что под вашей техасской идеей кроется другая, ради которой я и хочу помочь вам.
— А именно? — сказал канадец с удивлением.
Чистое Сердце, нагнувшись к нему, спросил:
— Не надо ли вам покончить наконец с Белым Охотником За Скальпами? Или вы больше не вспоминаете о нем?
Охотник вздрогнул и, крепко сжимая руку молодого человека, сказал:
— Спасибо!
В эту минуту в комнату вошел Черный Олень.
— Мне надо говорить с моим братом, — сказал он Чистому Сердцу.
— Согласится ли мой брат говорить при моих друзьях, белых охотниках?
— Белые охотники — гости команчей, Черный Олень будет говорить при них, — отвечал вождь.
Глава XXIV
В ПУСТЫНЕ
Новость, которую принес Черный Олень, была, должно быть, очень важной. Несмотря на невозмутимость, которую индейцы почитают для себя законом, лицо вождя носило следы крайнего беспокойства.
Опустившись на скамью, указанную Чистым Сердцем, он продолжал мрачно молчать.
Охотники с любопытством выжидали, когда он объяснит, что произошло.
Наконец Чистое Сердце решил прервать затянувшееся молчание.
— Что происходит, вождь? — спросил он, — Что вызвало то беспокойство, которое отразилось в ваших чертах? О каком новом бедствии вы хотите нам сообщить?
— Ужасное несчастье, — ответил он глухим голосом, — пленник исчез!
— Пленник? Какой пленник?
— Сын Голубой Лисицы.
Охотники вскочили от удивления.
— Это невозможно, — продолжал вождь. — Разве не сам он остался заложником? Не дал ли он слово? Индейский воин никогда не изменяет клятве, так поступают только белые, — прибавил он с горечью.
Черный Олень в волнении опустил голову.
— Ну, — сказал Чистое Сердце, — будьте откровенны, вождь, скажите прямо, как было дело?
— Пленник, связанный по рукам и по ногам, был заперт в хижине совета…
— Как, — воскликнул Чистое Сердце с негодованием, — заложник был связан и заперт в хижине совета?! Вы ошибаетесь, вожди не посмели бы этого сделать, они не могли нанести подобного оскорбления молодому человеку, защищенному человеческими правами.
— Я рассказываю все так, как было.
— Кто же это приказал?
— Я, — прошептал вождь.
— Ненависть, которую вы питаете к Голубой Лисице, заставила вас сделать огромную ошибку. Пренебрегая словом, данным молодым человеком, обращаясь с ним как с пленником, вы дали ему право убежать. Как только подвернулся случай, он им воспользовался и правильно сделал.
— Неужели нечего нельзя сделать? Мои воины не смогут настигнуть его — он бежал с легкостью газели.
— Послушайте, Черный Олень, что я думаю: нам остается только одно средство, чтобы опять поймать нашего врага. Белые охотники, мои братья, просят моей помощи в войне, которую белые сейчас ведут друг против друга. Попросите совет вождей дать сотню отборных воинов, я приму командование, вы меня будете сопровождать. Завтра, с заходом солнца, мы отправимся в путь, апачи горят желанием отомстить нам за недавнее поражение. Будьте уверенны, прежде чем мы доберемся до наших братьев, белых охотников, нам преградят дорогу Голубая Лисица и его воины. Только на это и остается надеяться, чтобы получить возможность покончить с неумолимым врагом. Согласны ли вы?
— Я согласен с моим братом. Средства его хороши, они никогда не подводили. Слова его внушены ему самим Владыкой Жизни! — ответил с живостью вождь, вставая. — Я иду на совет предводителей. Пойдет ли брат мой со мной?
— Зачем? Лучше, если предложение будет сделано вами, Черный Олень. Я — только приемный сын вашего племени.
— Хорошо, я исполню то, чего желает мой брат. До свидания. — Он вышел.
— Вы видите, мой друг, я не замедлил исполнить свое обещание, — сказал Чистое Сердце Транкилю. — Возможно, из сотни воинов, которых мы поведем, половина останется на дороге, но другая, оставшаяся в живых, будет нам большим подспорьем.
— Спасибо, друг мой, — ответил Транкиль, — вы знаете, что я верю в вас.
Как и предполагал Черный Олень, индейские воины, посланные в погоню за пленником, вернулись в атепетль ни с чем. Всю ночь они напрасно бродили по окрестностям, так и не найдя следов беглеца.
Молодой человек исчез из хижины совета, и невозможно было выяснить, как ему удалось скрыться.
Единственным открытием, сделанным команчами и имевшим не слишком большое значение, было то, что в лесу, достаточно далеко от того места, где происходила битва с апачами, земля была истоптана и кора деревьев объедена, как будто несколько лошадей стояло здесь продолжительное время. Человеческих же следов здесь не было никаких.
Воины вернулись совершенно раздосадованными и этим только усилили гнев своих соплеменников.
Для предложения, которое Черный Олень хотел сделать совету вождей, время было выбрано очень удачно. Вождь представил запланированную Чистым Сердцем экспедицию не как вмешательство в дела белых, — это считалось второстепенной причиной, — но как попытку разыскать и захватить не только беглеца, но и его отца, который, вероятно, разместил засаду неподалеку от атепетля.
Такое предложение должно было получить одобрение, что и случилось.
Вожди уполномочили Черного Оленя выбрать сотню самых известных воинов их племени, которые под начальством его и Чистого Сердца должны были отправиться в поход.
По указанию Черного Оленя хачесто, поднявшись на кровлю хижины врачевания, созвал немедленно всех воинов племени.
Узнав, что речь идет о походе, предпринимаемом двумя такими славными вождями, как Черный Олень и Чистое Сердце, они наперебой вызывались войти в состав отряда, так что вождь даже затруднялся в выборе.
За час до восхода солнца сто всадников, вооруженных пиками, ружьями и ножами, обутых в мокасины, украшенные лисьими хвостами, с повешенными на шею длинными боевыми свистками, сделанными из человеческой берцовой кости, составили внушительный отряд, выстроенный в образцовом порядке на площади селения перед ковчегом первого человека.
Эти дикие воины, символически разрисованные, одетые в пестрые одежды, представляли странное, ужасающее зрелище.
Когда белые охотники гарцуя подъехали, чтобы присоединиться к отряду, их встретили восторженными криками.
Чистое Сердце и Черный Олень заняли место во главе отряда; старейшие из вождей приблизились к колонне и простились с уезжавшими воинами. По знаку Чистого Сердца отряд продефилировал шагом перед всем племенем и вышел из селения.
В ту минуту, когда воины входили на равнину, солнце скрылось за пурпурно-золотистыми облаками.
Выступив в поход, отряд в глубочайшей тишине вытянулся, как змея, по всегдашнему обыкновению индейцев, и быстро направился в сторону леса.
Индейцев, отправляющихся в опасный поход, всегда сопровождают искусные лазутчики, на которых лежит обязанность охранять отряд от всяких случайностей.
Лазутчики эти меняются каждый день и, несмотря на то, что идут пешком, держатся всегда на большом расстоянии впереди и по бокам отряда, который охраняют.
Индейские войны совсем не похожи на наши; они состоят из непрерывных коварных и внезапных нападений. Только чрезвычайные обстоятельства могут вынудить индейцев напасть открыто; наступать или сопротивляться без уверенности в победе считается у них безумием.
Они смотрят на войну как на способ добычи, поэтому, если сопротивление врага приносит им поражение, они не считают позором бегство, хотя при первом же представившемся случае всегда стремятся безжалостно расквитаться.
Первые две недели перехода команчей никто не тревожил, с момента выхода из селения разведчики не обнаружили никаких вражеских следов. Единственными людьми, повстречавшимися им, были мирные охотники, возвращавшиеся с женами, собаками и детьми в свои поселения; нигде не было заметно нечего подозрительного.
Прошло два дня, и команчи вошли на техасскую территорию.
Это видимое спокойствие очень тревожило обоих предводителей: они слишком хорошо знали мстительный характер апачей, чтобы поверить, что их пропустят спокойно, не пытаясь остановить в пути. Транкиль, издавна знавший Голубую Лисицу, вполне разделял их опасения.
Однажды вечером команчи после длинного перехода расположились лагерем на берегу ручья, на вершине лесистого холма, возвышавшегося над рекой и над окрестной деревней.
Как обычно, разведчики вернулись, доложив, что не встретили никаких следов. После ужина Чистое Сердце сам расставил часовых, и все готовились насладиться несколькими часами отдыха, который после утомительного дня был не только приятен, но и необходим.
Между тем Транкиль, томимый тайным предчувствием, испытывал лихорадочное, беспричинное волнение, отнявшее у него сон. Напрасно закрывал он глаза с твердым намерением уснуть, глаза его открывались сами собой. Измученный бессонницей, для которой он не мог найти правдоподобной причины, охотник встал, решив бодрствовать и провести рекогносцировку местности.
Потянувшись за ружьем, он разбудил Чистое Сердце.
— Что такое? — спросил тот.
— Ничего, ничего, — ответил охотник, — спите.
— Почему же вы встаете?
— Потому что не могу спать, вот и все. Хочу воспользоваться бессонницей, чтобы осмотреть все вокруг.
Эти слова окончательно разбудили Чистое Сердце. Транкиль был не из тех людей, которые совершают какие-либо поступки без уважительных причин.
— Послушайте, мой друг, — сказал он, — здесь что-то кроется, не так ли?
— Я не знаю, — ответил охотник, — но мне грустно, я обеспокоен; словом, не могу объяснить, что я испытываю, но мне кажется, нам грозит опасность. Какая? — я не смог бы ответить. Я видел сегодня два стада фламинго, которые быстро летели против ветра; несколько ланей и антилоп испуганно промчались в том же направлении. Весь день я не слышал пения ни одной птицы. Все это неестественно и наводит страх.
— Страх? — спросил, улыбаясь, Чистое Сердце.
— Страх перед западней. Вот почему я хочу пройти дозором. Вероятнее всего, я ничего не найду, но все равно — по крайней мере, я буду уверен, что нам нечего опасаться.
Чистое Сердце встал, не сказав ни слова, завернулся в свой плащ и взял ружье.
— Идем, — сказал он.
— Как, идем? — спросил охотник.
— Да, я иду с вами.
— Какое безрассудство! То, что я хочу сделать, не более чем фантазия расстроенного воображения. Лучше останьтесь и отдохните.
— Нет, нет, — возразил Чистое Сердце, качая головой, — я чувствую то же, что и вы. Я тоже волнуюсь, неизвестно почему, и хочу успокоиться.
— Идемте. Быть может, это и к лучшему.
Оба вышли из лагеря.
Ночь была светла, свежа, воздух необыкновенно прозрачен, небо усеяно звездами. Луна как будто плыла в эфире, и свет ее, слившись со светом звезд, был настолько силен, что по яркости мог бы сравниться с дневным. Глубокая, невозмутимая тишина царила над пейзажем, который охотники с возвышенного места могли охватить взглядом во всех подробностях. По временам таинственное дуновение пробегало по верхушкам деревьев, которые пригибались с легким трепетом.
Транкиль и Чистое Сердце внимательно рассматривали равнину, простиравшуюся перед ними на громадное пространство.
Вдруг канадец схватил своего друга за руку и быстрым, резким движением толкнул его за ствол громадной лиственницы.
— Что такое? — спросил охотник с беспокойством.
— Смотрите, — коротко ответил его товарищ, указывая рукой на равнину.
— Ого! Что это значит? — прошептал молодой человек через минуту.
— Это значит, что я не ошибся, нам предстоит драться. К счастью, на этот раз мы будем так же хитры, как и они. Предупредите Джона Дэвиса, чтобы он со своими молодцами обошел апачей с тылу, в то время как мы встретимся лицом к лицу с неприятелем.
— Нельзя терять ни минуты! — прошептал Чистое Сердце и бросился к лагерю.
Два опытных охотника увидели то, что, несомненно, прошло бы незамеченным для людей, менее привычных к индейским обычаям.
Мы упоминали, что по временам легкий ветерок покачивал верхушки деревьев. Ветерок этот дул с юго-запада. Он же пробегал по верхушкам высокой травы, постоянно приближаясь к холму, на котором расположились команчи, но — странное явление — ветер этот был северо-восточным, то есть дул в направлении, прямо противоположном первому.
Вот и все, что заметили охотники, но этого было для них достаточно, чтобы разгадать хитрость неприятелей и помешать врагам.
Пять минут спустя шестьдесят команчей, возглавляемых Транкилем и Чистым Сердцем, проползли, как змеи, по склонам холма и незаметно спустились в долину. Достигнув ее, они замерли неподвижно, как статуи.
Остальные во главе с Джоном Дэвисом обошли холм.
Внезапно раздался страшный крик, команчи поднялись, словно легион демонов, и, нагнув головы, бросились на врагов.
Те, застигнутые в тот момент, когда рассчитывали захватить команчей врасплох, колебались с минуту, потом, устрашенные этой неожиданной атакой и охваченные паническим страхом, ударились в бегство, но в тот же миг перед ними вырос отряд американца.
Надо было сражаться или сдаться неумолимому врагу.
Апачи сомкнулись плечом к плечу, и началась резня. Она была ужасна и продолжалась до утра.
Люди, смертельно ненавидевшие друг друга, сражались без крика и умирали, не испуская вздоха.
По мере того как апачи падали, их товарищи сдвигались все ближе, тогда как команчи теснее стягивали круг, в котором были заперты их враги.
Восходящее солнце осветило поле ужасной битвы.
Сорок команчей пало.
Из отряда апачей оставалось на ногах не более десятка людей, причем все они были более или менее тяжело ранены.
Чистое Сердце с болью отвернулся от этой страшной картины. Напрасно хотел он вступиться, чтобы спасти последних оставшихся в живых апачей.
Команчи, опьяненные запахом крови и пороха, разъяренные сопротивлением, оказываемым их врагами, не слушали его распоряжений, а потому остальные апачи были умерщвлены и оскальпированы.
— А! — закричал Черный Олень с победным жестом, показывая на изуродованное до неузнаваемости тело. — Вожди будут довольны. Наконец-то Голубая Лисица мертв!
Действительно, грозный вождь был распростерт на груде трупов команчей, его тело было сплошь покрыто ранами. Его сын, едва достигший юношеского возраста, лежал у его ног. К поясу Голубой Лисицы была привязана отрубленная недавно голова, что редко случается у индейцев, берущих обычно только волосы своих врагов. Голова эта принадлежала отцу Антонио.
Бедный монах, отправившийся из селения за несколько дней до Транкиля, был, очевидно, схвачен и убит апачами.
Как только, лучше скажем, не битва, а резня была окончена, индейцы поторопились отдать последний долг тем из своих, кто нашел смерть в этой стычке. Когда глубокие могилы были вырыты, тела бросили туда без обычных похоронных обрядов, выполнить которые не позволяли обстоятельства, но позаботившись о том, чтобы оружие было похоронено вместе с павшими. Потом на могилы навалили камни для защиты от хищных зверей. Что касается апачей, то их бросили там, где они лежали, не заботясь о них более.
Затем отряд, поредевший почти вполовину, печально пустился в путь к Техасу.
Победа команчей была полной, это правда, но куплена она была слишком дорогой ценой, чтобы индейцы могли радоваться. Избиение апачей далеко не возмещало в их глазах смерть сорока команчей, не считая тех, которые, вероятно, должны были умереть в дороге от полученных ран.
Глава XXV
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП
Теперь, дойдя до последних страниц нашей книги, мы не можем подавить чувства сожаления при мысли о сценах крови и убийств, которые вынуждены были разворачивать перед глазами читателя. Будь этот рассказ создан нашим воображением, многие сцены были бы изменены или сокращены. К несчастью, независимо от нашего желания, мы должны были передавать события так, как они происходили, хотя и старались сгладить некоторые подробности, чтобы не оскорбить чувства читателя.
Если нас упрекнут за постоянные описания битв, в которых участвуют наши герои, мы ограничимся следующим ответом. Мы описываем нравы той расы, которая тает с каждым днем под давлением цивилизации, против которой она напрасно борется.
Этой расе по роковому велению судьбы предназначено вскоре совсем исчезнуть с лица земли; ее нравы и обычаи перейдут тогда в область легенд, и, сохраненные в преданиях, не преминут быть извращенными и стать непонятными. Таким образом, наш долг как историков — описать ее такой, какой она была и какой останется и впредь. Поступить иначе было бы с нашей стороны обманом, на который наши читатели по справедливости могли бы сетовать.
Закончив это отступление, возможно слишком длинное, но отнюдь не излишнее, а необходимое, вернемся к рассказу.
Мы поведем теперь читателя к крайним аванпостам мексиканской армии. Эта армия, состоявшая вначале из шести тысяч человек, насчитывала сейчас не более тысячи пятисот, считая и подкрепление в пятьсот человек, приведенное генералом Косом. Стало быть, непрерывные победы, одерживаемые Санта-Анной над техасцами, стоили жизни ровным счетом пяти тысячам солдат.
Это сомнительное торжество заставляло президента крепко призадуматься; он начинал понимать неслыханные трудности войны против разъяренного народа и не мог смотреть без страха на ужасные последствия, которые для него приобрело бы поражение, если бы неуловимые враги, которых он так долго преследует, решились бы его подстеречь и разбить.
К несчастью, несмотря на опасения генерала Санта-Анны, было уже слишком поздно отступать, надо было испытать судьбу до конца, а главное, скорее покончить с войной.
Две воюющие армии разделяло расстояние не более пяти миль. Авангард мексиканской армии под командой полковника Мелендеса состоял из двухсот человек регулярных войск. На расстоянии около мили от этого авангарда расположился отряд, состоящий из всякого сброда, собирающий сведения о движении армии.
Это были просто-напросто степные разбойники, во главе которых находился наш старый знакомый Сандоваль, которого незадолго перед тем мы видели у Ягуара. Мы также слышали о странной сделке, заключенной ими.
Мексиканская армия не питала уважения к вышеупомянутому Сандовалю и его товарищам, не доверяя их честности, но все же генерал Санта-Анна был вынужден полагаться на этих плутов по причине их неоспоримых способностей как проводников и особенно как разведчиков.
Генерал был вынужден закрывать глаза на их ежедневные проступки и предоставлять им действовать по-своему, так как нуждался в них. Не замедлим отметить, что разбойники благополучно злоупотребляли данной им волей-неволей свободой и, не задумываясь, позволяли себе самые невероятные прихоти, о которых мы воздержимся рассказывать более подробно.
Эти бродяги стояли, как мы сказали, лагерем перед мексиканской армией. Так как они никогда не избегали доставлять себе удовольствия, если к этому представлялся случай, то не нашли ничего лучше, чем расположиться в селении, обитатели которого скрылись при их приближении и дома которых они разрушили, чтобы добыть дров для своих бивачных костров. Между тем, случайно или нет, один дом или, вернее, хижина избежала общего разрушения и стояла одиноко. Она не только уцелела и была не повреждена, но и имела часового перед дверью.
Впрочем, часовой, казалось, совершенно не заботился о данном ему приказе. Замученный жгучими лучами солнца, отвесно падавшими ему на голову, он преудобно расположился в тени навеса напротив дома и, положив возле себя ружье, курил, спал и мечтал, ожидая, когда его смена окончится и один из товарищей придет его сменить.
Этот дом служил в настоящее время жилищем доньи Кармелы, и мы попросим читателя войти в него вместе с нами.
Молодая девушка, грустная к задумчивая, небрежно покачивалась в гамаке, висевшем перед окном, открытым, несмотря на жару. Ее глаза, покрасневшие от слез, были неподвижно устремлены на пустынную, накаленную солнцем равнину я песок, блестевший, словно алмазы. О чем думала бедная девушка, пока слезы, которые она и не думала утирать, текли по ее побледневшим щекам, оставляя бледные следы? Может быть, в ее годы, когда воспоминания еще не заходят далее вчерашнего дня, она с горечью вспоминала веселые дни в венте дель-Потреро, когда, защищенная Транкилем и Ланси, этими двумя преданными сердцами, она чувствовала, что все улыбалось ей, а будущее казалось прекрасным и спокойным. Может быть, она думала о Ягуаре, к которому испытывала нежную дружбу, или о полковнике Мелендесе, чья любовь, почтительная и глубокая, заставляла ее мечтать, как мечтают все молодые девушки.
Но, увы, теперь все исчезло. Прощайте прекрасные сны, где были Транкиль и Ланси, и Ягуар, и полковник Мелендес. Она была одна, без друга, без защиты, во власти человека, один вид которого приводил ее в ужас.
Между тем спешим заметить, что человек, которого мы нарисовали такими мрачными красками, Белый Охотник За Скальпами, такой страшный, говоря по справедливости, казался совершенно изменившимся. Тигр стал овцой перед молодой девушкой; для нее он находил неслыханные внимание и мягкость. Он не только шел навстречу всем ее желаниям (хотя бедное дитя никогда не осмелилось его ни о чем просить), но и старался угадать, что бы могло ей понравиться, и тогда исполнял это с беспримерной готовностью. Иногда он простаивал целые часы, скрестив руки, опершись о стену, устремив на нее взгляд с неописуемым выражением, не произнося ни слова; затем удалялся, качая головой, подавлял вздох и шептал;
— Боже мой! Боже мой! Если бы это была она.
Было что-то трогательное в боязливой и смиренной скорби этого страшного человека, заставлявшего всех дрожать перед собой и трепетавшего перед ребенком. Она же, с эгоизмом страдающих, даже не замечала впечатления, производимого ею на эту сильную и твердую натуру.
Дверь открылась, вошел Белый Охотник За Скальпами. На нем была все та же одежда, держался он так же прямо, но на лице его не было уже видно того выражения надменной и неумолимой жестокости, которое мы наблюдали раньше; глубоко ввалившиеся глаза потеряли блеск, придававший его взгляду такую гипнотическую силу.
Девушка даже не повернулась при звуке шагов Охотника За Скальпами.
Тот довольно долго стоял неподвижно, ожидая, вероятно, что она заметит его присутствие. Но девушка не двигалась.
Тогда он решил заговорить.
— Донья Кармела, — сказал он, стараясь смягчить звук своего голоса, — донья Кармела.
Она не отвечала, продолжая смотреть на равнину.
Охотник За Скальпами вздохнул, затем сказал громче:
— Донья Кармела!
На этот раз девушка услышала. Нервная дрожь пробежала по ее телу, и, обернувшись, она резко спросила:
— Чего вы от меня хотите?
— О! — воскликнул он, заметив ее лицо, залитое слезами. — Вы плачете?!
Молодая девушка покраснела и лихорадочным жестом провела платком по лицу.
— Ну, так что! — прошептала она, стараясь оправиться. — Что вам надо, сеньор? — спросила она. — Боже мой, если мне суждено быть вашей невольницей, нельзя ли хоть эту комнату оставить в моем распоряжении!
— Я хотел доставить вам удовольствие, — сказал он, — известив вас о посещении известной вам особы.
Горькая усмешка сжала губы молодой девушки.
— Кто станет беспокоиться обо мне? — сказала она со вздохом.
— Извините меня, сеньорита, у меня было доброе намерение. Часто, когда вы, как сегодня, бываете задумчивы и погружены в себя, некоторые имена без конца срываются с ваших губ.
— Ax! Это правда, — возразила она. — Значит, не только мое тело в плену, но вы хотели бы заковать и мои мысли?
В ее голосе звучали такой сдержанный гнев и горечь, что старик вздрогнул, и синеватая бледность покрыла его лицо.
— Хорошо, сеньор, — продолжала молодая девушка, — отныне я буду осторожнее.
— Как вам будет угодно, — ответил он, подавляя душевную боль, — повторяю, я хотел доставить вам радость, приведя полковника Мелендеса, но если я ошибся, то вы его не увидите, сеньорита.
— Как! — воскликнула она вскакивая. — Что вы сказали сеньор? Какое вы имя произнесли?
— Имя полковника дона Хуана Мелендеса.
— Вы его привели?
— Да.
— Он здесь?
— Он там и ждет вашего разрешения войти.
Молодая девушка с минуту смотрела на него с выражением крайнего изумления.
— Но значит… вы любите меня?! — воскликнула она, вспыхнув.
— Она еще спрашивает! — грустно прошептал старик. — Вы хотите видеть полковника?
— Сейчас, о, сейчас! Но раньше я хочу понять вас, знать, наконец, что думать о вас!
— Увы! Повторяю вам, сеньорита, я вас люблю, я вас люблю до обожания. О! Успокойтесь, в этой любви нет ничего обидного для вас: я люблю вас за неслыханное, сверхъестественное сходство с одной женщиной, умершей — увы! — в тот день, когда моя дочь была похищена индейцами. Дочь, которую я потерял, которую не увижу никогда, была бы ваших лет, сеньорита. Вот тайна моей любви к вам, моих постоянных усилий быть ближе к вам. О! Позвольте мне любить вас, обманывая самого себя. Глядя на вас, я думаю, что вижу мое бедное, дорогое дитя, и это заблуждение дарит -мне счастье. О! Сеньорита, если бы вы знали, что я вынес и как страдаю от этой неизлечимой раны, сжимающей сердце, вы бы сжалились надо мной!..
Когда старик произносил эти слова с волнением и страстью, лицо его преобразилось — оно было наполнено такой добротой и скорбью, что молодая девушка невольно почувствовала себя растроганной. Протягивая ему руку, она сказала мягко и нежно:
— Бедный отец!
— Благодарю вас за это, — ответил он сдавленным от волнения голосом, и по лицу его потекли слезы. — Благодарю вас, сеньорита, мне кажется, что теперь я уже не так несчастлив.
После минутного молчания, отерев слезы, он мягко спросил:
— Хотите, чтобы он вошел?
Она улыбнулась.
Старик бросился к дверям и широко распахнул их. Полковник вошел и подбежал к молодой девушке.
Охотник За Скальпами вышел из комнаты, притворив за собой двери.
— Наконец-то, — вскричал полковник радостно, — я вас нашел, дорогая Кармела!
— Увы! — сказала она.
— Да, — возразил он с живостью, — я вас понимаю, но теперь вам нечего опасаться. Я сумею спасти вас от тяготеющего над вами рока и вырвать из рук вашего похитителя.
Молодая девушка положила руку ему на плечо и, нагнувшись, взглянула с восхитительным выражением задумчивости.
— Я — не пленница! — воскликнула она.
— Как? — спросил он с удивлением. — Разве этот человек не увез вас?
— Я не говорю этого, мой друг, я говорю только, что я — не пленница.
— Я вас не понимаю, — сказал он.
— Увы! Я сама себя не понимаю.
— И вы думаете, что если бы вы захотели выйти отсюда и последовать за мной в лагерь, этот человек не удерживал бы вас?
— Уверена.
— В таком случае уедем, донья Кармела, я найду вам подходящее убежище, пока не отыщется ваш отец.
— Нет, друг мой, я не уеду. Я не могу следовать за вами!
— Как! Кто же вам мешает?
— Не говорила ли я вам, что сама себя не понимаю. Час тому назад я была бы счастлива следовать за вами, теперь — не могу.
— Что же произошло с тех пор?
— Послушайте, дон Хуан, я буду откровенна с вами: я вас люблю, вы это знаете, и считаю за счастье быть вашей женой. Но если бы даже все мое счастье зависело от того, покину ли я эту комнату или нет, я не выйду из нее.
— Бог мой! Извините меня, донья Кармела, но я скажу, что это безумие, это сумасбродство!
— Нет, это… Боже! Я и не знаю, как выразиться, настолько не понимаю сама себя… но мне кажется, что если я покину эту комнату против воли того, кто меня в ней удерживает, я совершу дурной поступок.
При этих странных словах изумление полковника возросло до такой степени, что он не нашелся, что ответить, а только устремил на девушку удивленный взгляд.
Кто любит, никогда не ошибается в чувствах той, кого любит.
Молодой человек инстинктивно догадывался, что Кармела в своем решении поступала так, как подсказывало ей сердце.
В эту минуту дверь отворилась. Вошел Белый Охотник За Скальпами.
Полковник понимал, что подобное поведение молодой девушки объяснялось, вероятно, тем, что она находилась под воздействием какого-то таинственного события, о котором могла судить только сама.
Для обоих собеседников, в замешательстве стоявших друг против друга, большим облегчением было появление старика. Не отдавая себе отчета в своих ощущениях, молодой человек понял, что это явится для него большой помощью. В походке и движениях старика заметно было достоинство, которого до сих пор Кармела не видела.
— Извините, дети мои, если я вам мешаю, — сказал он с мягкостью, заставившей затрепетать его слушателей.
— О! — продолжал он, притворяясь, что не замечает произведенного впечатления. — Простите, полковник, что обращаюсь к вам фамильярно, но я так люблю донью Кармелу, что невольно испытываю любовь ко всем, кого любит она. Старики — эгоисты, вы это знаете, тем не менее, выйдя отсюда, я думал о вас.
Кармела и полковник посмотрели на него с удивлением.
Старик улыбнулся.
— Судите сами: я только что узнал от одного бродяги, что индейское подкрепление обогнуло наши линии и соединилось с врагами. Среди них находится лесной охотник по имени Транкиль.
— Мой отец! — радостно вскричала Кармела.
— Да, — сказал Охотник За Скальпами, подавляя вздох.
— О! Простите меня, — сказала молодая девушка, протягивая ему руку.
— Милое дитя, за что мне сердиться, разве не естественно, что ваше сердце стремится к отцу?
Полковник смотрел на обоих с большим удивлением.
— Вот что я придумал, — продолжал старик. — Сеньор Мелендес будет просить у генерала Санта-Анны полномочия отправиться парламентером к противникам. Он увидится с отцом доньи Кармелы и, успокоив его на ее счет, скажет, что если тот желает получить свое дитя, то я сам отведу ее к нему.
— Но, — воскликнула молодая девушка с живостью, — это невозможно!
— Отчего же?
— Разве вы — не враг моего отца?
— Я был врагом охотника, мое дитя, но никогда не был врагом вашего отца.
— Сеньор, — сказал полковник, подходя к старику, — извините меня. До сих пор я не знал вас, но теперь вижу, что вы— великодушный человек.
— Нет, — ответил тот, — я — отец, потерявший дочь и убаюкивающий себя приятным заблуждением. Но время не терпит, полковник, поезжайте, чтобы вернуться скорее.
— Вы правы, — ответил молодой человек, — до скорого свидания, Кармела.
И не дожидаясь ответа, он вышел.
Но, достигнув линии авангарда, полковник узнал, что приказано выступать, и, вынужденный повиноваться приказанию, должен был отложить визит к генералу до другого раза.
Глава XXVI
САН-ХАСИНТО
Новость, принесенная Белым Охотником За Скальпами, оказалась верной. Транкиль с товарищами, обогнув мексиканские линии с ловкостью, которой отличаются индейцы, соединились с арьергардом техасской армии, которым командовал Ягуар.
К несчастью, они застали только Джона Дэвиса, сообщившего им, что Ягуар отправился к генералу Хьюстону с важным донесением.
Американец не решился рассказать Транкилю о его дочери, поскольку при этом должен был бы упомянуть и о сделке, предложенной главарем бандитов. Он не счел себя вправе разглашать важную тайну, не принадлежащую ему. Таким образом канадец, не зная, что произошло, не подозревал о том, что его дочь находится достаточно близко. К тому же время для расспросов было неудобным: поход начался, а во время отступления офицеры, командующие арьергардом, слишком заняты, чтобы разговаривать.
С заходом солнца Ягуар присоединился к своему отряду. Он был в восторге от прибытия команчей, однако успел лишь крепко пожать руку Транкилю. Ему было приказано идти форсированным маршем, и враг уже был рядом — времени на разговоры со старым приятелем у него не оставалось.
Генерал Хьюстон тщательно рассчитал свое передвижение: он заманивал врага по своим следам, постоянно избегая битвы.
Мексиканцы, опьяненные первыми успехами, сгорая от желания подавить то, что они считали беспорядками, не нуждались в поощрении для преследования своих неуловимых врагов.
Отступление и преследование продолжались еще три дня. Затем техасцы вдруг внезапно перестроились и решительно двинулись навстречу мексиканцам.
Те, захваченные врасплох непредвиденным поворотом, остановились и с некоторым колебанием построились в боевом порядке.
Это было 21 апреля 1836 года, — день, навсегда занесенный в летописи истории Техаса.
Две армии оказались лицом к лицу на равнине у устья реки Сан-Хасинто.
Командующими обеих армий были президенты их республик: генералы Санта-Анна и Хьюстон. [38]
Силы мексиканцев состояли из тысячи семисот хорошо вооруженных солдат, привыкших к войне.
Техасцы насчитывали семьсот восемьдесят три человека, в числе которых был шестьдесят один кавалерист.
Накануне генерал Хьюстон был вынужден выделить из своей небольшой армии отряд Ягуара, часть которого составляли команчи и охотники.
Вопреки ожиданиям Сандоваля, бандиты не захотели подчиниться условиям сделки, заключенной им с Ягуаром, но, спешим заметить, не из чувства патриотизма, а лишь потому, что на пути им попалась асиенда, и они рассчитывали, что она принесет богатую добычу. Не заботясь больше ни о чем, они закрылись в асиенде и отказались выйти, несмотря на просьбы и угрозы атамана. Последний, видя их твердое решение остаться, кончил тем, что присоединился к ним.
Ягуар получил поручение от генерала разобраться с этими опасными посетителями. Приказ не вызвал у молодого человека особой радости, так как он понимал, что это может помешать ему принять участие в сражении.
Генерал Хьюстон поручил полковнику Ламару, ставшему впоследствии президентом Техаса, командование шестьюдесятью кавалеристами, оставшимися в его распоряжении, и приготовился к битве, несмотря на численное неравенство сил.
Обе армии, от исхода сражения которых зависела участь страны, по числу людей не превышали один наш полк.
С восходом солнца началась жестокая битва.
Техасцы, построенные в каре, молчаливо приблизились к неприятелю на расстояние выстрела.
— Друзья! — вскричал генерал Хьюстон, вынимая саблю. -Друзья, вспомните Бежар! [39]
Оглушительный залп был ему ответом, и через минуту техасцы бросились со штыками на сбившего строй врага.
Сражение длилось восемнадцать минут [40].
К концу сражения мексиканцы были опрокинуты и полностью разбиты.
Их знамена, их лагерь с оружием, обозом, провиантом и повозками — все, одним словом, перешло в руки победителя.
Принимая во внимание ограниченное число сражавшихся, мы можем сказать, что урон был огромный: шестьсот тридцать мексиканцев, в числе которых находились один генерал и четыре полковника, были убиты, двести восемьдесят три человека ранены и семьсот взяты в плен.
Не более шестидесяти человек, среди которых был Санта-Анна, спаслись.
Что касается техасцев, то, благодаря стремительности их атаки, среди них было только двое убитых и двадцать три раненых, из которых шесть — смертельно; потеря незначительная, доказывающая еще раз превосходство решительности над колебанием.
Техасцы ночевали на поле битвы.
Генерал Хьюстон, отправляя Ягуара против разбойников, напутствовал его словами: «Кончайте скорее с этими негодяями. Может быть, вы еще поспеете к сражению».
Этих слов было достаточно, чтобы у командира повстанцев выросли крылья, но, несмотря на быстроту перехода, ночь застала его в десяти милях от асиенды и заставила остановиться. Люди и лошади падали от усталости.
Утром, когда он собирался пуститься в путь, были получены известия о битве, происшедшей после его отъезда. Рыскавший в кустах Джон Дэвис нашел человека, лежавшего в высокой траве и дрожавшего, как в лихорадке.
Американец, решив, что это мексиканский шпион, приказал ему встать. Тогда этот человек бросился перед ним на колени и, целуя руки, умолял со слезами взять все находящееся при нем золото и драгоценности, но дать ему возможность бежать. Его просьбы и мольбы превратили подозрения американца в уверенность.
— Идемте, — сказал он резко своему пленнику и взвел курок, — перестаньте ныть и идите, иначе я прострелю вам голову.
Вид оружия подействовал на незнакомца должным образом: он весь съежился и, не пытаясь больше подкупить победителя, последовал за ним в лагерь.
— Какого черта вы там обнаружили? — резко спросил американца Ягуар.
— Честное слово, — ответил американец, — я сам не знаю. Я нашел этого малого в высокой траве, и мне кажется, что он — шпион.
— Ага! — сказал Ягуар со злой усмешкой. — Тогда его дело плохо. Прикажите его расстрелять.
Пленник задрожал, лицо его приобрело землистый оттенок.
— Минуту, кабальеро, — закричал он, с ужасом вырываясь из ухвативших его рук, — одну минуту, я — не тот, за кого вы меня принимаете.
— Ба-а! — сказал насмешливо Ягуар. — Вы мексиканец, этого достаточно.
— Я, — воскликнул пленник, — дон Антонио Лопес де Санта-Анна, президент мексиканской республики.
— Как! — вскричал Ягуар, с удивлением. — Вы — Санта-Анна?
— Увы, да, — жалобно ответил президент (это был действительно он).
— Что же, черт возьми, вы делали, спрятавшись в траве?
— Я хотел бежать.
— Значит, вы были разбиты?
— Увы! Моя армия уничтожена. О! Вашему генералу предназначена необыкновенная судьба, он имел честь победить Наполеона Запада [41].
От этой дерзкой претензии на величие, выраженной подобным человеком, присутствующие, несмотря на присущее каждому уважение к чужому горю, не могли удержаться от взрыва презрительного хохота.
Гордый мексиканец оставался совершенно нечувствительным к этому оскорблению; он был уверен, что теперь, когда его имя стало известно, его не расстреляют, остальное мало его занимало.
Действительно, с этой минуты ситуация изменилась. Ягуар написал Хьюстону обо всем происшедшем и отправил к нему пленника под конвоем двадцати кавалеристов под командой Джона Дэвиса, которому эта честь принадлежала по праву, так как он первым обнаружил беглеца.
— Как видно, — прошептал Ягуар, провожая глазами удалявшийся отряд и пленника, — счастье создано не для меня. Ничто мне не удается.
— Неблагодарный! — возразил ему Чистое Сердце. — Как можете вы жаловаться, когда самый важный трофей войны — ваш! Благодаря взятому вами пленнику война окончена, и независимость Техаса обеспечена навсегда.
— Правда! — воскликнул Ягуар, подскочив от радости. — Я не подумал об этом, cuerpo de Dios! [42] Вы правы, мой друг, я вам благодарен за то, что вы наставили меня на путь истинный. Без вас, сагау, я и не подумал бы об этом! Ну-ка, братья! — воскликнул он радостно. — Живее на асиенду! Мы нанесем последний удар!
Отряд двинулся за своим командиром.
Оставим искателей приключений продолжать путь и, немного опередив их, войдем в асиенду.
Разбойники, согласно обычаю подобных людей, немедленно расположились со всеми удобствами на асиенде, хозяева которой, видя приближение войск, скрылись, а невольников и слуг Сандоваль с бандитами разогнали. Тут же начался грабеж, прежде всего с подвалов, с испанских и французских вин и крепких ликеров, так что через два часа все эти негодяи были мертвецки пьяны. Отовсюду раздавались пение и крики.
Конечно, Белый Охотник За Скальпами вынужден был следовать за бандитами и вести с собой Кармелу.
Несмотря на предосторожности, принятые стариком, даже до комнаты, где находилась молодая девушка, долетали угрожающие и зловещие крики, подобные раскатам грома во время бури.
Сандоваль не отказался от намерения отомстить тому, кого он считал своим врагом, опьянение его людей показалось ему прекрасным случаем избавиться от него.
Белый Охотник За Скальпами всеми мерами пробовал избежать этой гигантской оргии, зная, что эти люди, грубые и непокорные, трудно управляемые даже когда они трезвы, становятся совсем необузданными, как только винные пары одурманят их головы.
Но бандиты перепробовали уже все вина и ликеры; подстрекаемые Сандовалем, они отвечали на все уговоры Охотника За Скальпами ворчанием и оскорблениями. Отчаявшись остановить их и желая избавить молодую девушку от гнусного и отвратительного зрелища, он ушел к ней, чтобы попытаться ее успокоить. Затем он разместился у дверей ее комнаты, решив размозжить голову первому, кто попытается проникнуть сюда.
Прошло несколько часов; никто не думал беспокоить старика. Он уже было понадеялся, что все обойдется мирно, как вдруг послышался сильный шум, раздались крики, брань, и с десяток разбойников появились у входа в коридор, в глубине которого он стоял на часах. Приближаясь к нему, они размахивали оружием и выкрикивали угрозы.
При виде негодяев старик понял, что вино удесятерило их ярость и сделало их глухими ко всем убеждениям, поэтому смертельная схватка неизбежна.
Он был один против всех, но не отчаивался. Зловещий огонь зажегся в его глазах, брови сдвинулись под влиянием непоколебимой воли, внушительный и твердый, он выпрямился перед дверью, которую поклялся защищать, и в одно мгновение превратился в того свирепого и грозного демона, который так долго наводил ужас на обитателей западных областей.
Впрочем, положение его было не таким отчаянным, как это казалось. Предвидя, что могло произойти в эту минуту, он принял все меры предосторожности, ему доступные, чтобы спасти девушку. Окно комнаты, где она находилась, находилось не выше двух футов от земли и выходило в патио [43] асиенды, где стояла лошадь, оседланная на случай бегства.
Сделав последние наставления Кармеле, стоявшей на коленях среди комнаты и горячо молившейся, старик приготовился отбить нападение.
При виде этого человека, стоявшего с угрожающим видом, бандиты невольно остановились, и передние стали бросать осторожные взгляды назад, чтобы убедиться, что у них есть еще возможность отступить, но проход был занят теми, кто находился сзади и толкал остальных вперед.
Сандоваль, отлично знавший, с каким человеком приходится иметь дело, благоразумно решил не показываться; он остался с несколькими своими товарищами в зале, продолжая пить и петь. Между тем минутная заминка разбойников подала мысль Охотнику За Скальпами приотворить двери комнаты, чтобы в случае необходимости скрыться. Но замешательство продолжалось лишь секунду, затем крики возобновились с новой силой, и бандиты приготовились ринуться на старика. Тот продолжал стоять, невозмутимый и холодный, как мраморная статуя; он только положил свой карабин поближе и взял в руки пистолеты, ожидая или, вернее, выбирая случай нанести решительный удар.
— Остановитесь, или я буду стрелять! — громко воскликнул он.
Вой усилился, бандиты приближались. Послышались два пистолетных выстрела, и два человека упали. Охотник За Скальпами разрядил свое ружье в толпу, потом, схватив его за ствол и действуя им как дубиной, бросился на бандитов, ошеломленных быстрой атакой, и прежде, чем они подумали о сопротивлении, он оттеснил их в конец коридора и столкнул со ступеней лестницы.
Из десяти разбойников шесть были убиты, остальные четыре, избитые, спасались, издавая крики ужаса. Охотник За Скальпами не терял времени: бросившись в комнату, он запер за собой дверь, схватил на руки Кармелу, лишившуюся чувств от страха и распростертую на полу, выскочил в окно, положив девушку поперек седла, вскочил сам на ожидавшую лошадь и, вонзив шпоры в бока благородного животного, содрогнувшегося от боли, с головокружительной быстротой помчался в селение. Все это случилось быстрее, чем мы могли описать, и бандиты не успели еще придти в себя от испуга, как Белый Охотник За Скальпами исчез.
— Con mil demonios! [44] — вскричал Сандоваль, гневно ударив кулаком по столу. — Неужели мы позволим им бежать? На коней, братцы, на коней!
— На коней! — завыли бандиты, бросаясь к сараям, где стояли их лошади.
Десять минут спустя все бандиты устремились в погоню за Белым Охотником За Скальпами, покинув асиенду, оказавшуюся, таким образом, избавленной от непрошеных гостей.
Между тем Охотник За Скальпами с быстротой ветра мчался вперед, не придерживаясь определенного направления; у него была одна цель, одна мысль, одно желание — спасти Кармелу.
Девушка, приведенная в чувство потоком свежего воздуха, выпрямилась в седле и, обхватив обеими руками старика, крепко прижимаясь к нему, повторяла взволнованным голосом, испуганно озираясь вокруг:
— Бежим! Бежим скорее! О, скорее!
И лошадь удваивала скорость; они мчались с быстротой лани, спасающейся от стаи гончих.
Вдруг старик заметил отряд всадников, которые, свернув с дороги, очутились перед ним.
— Мужайся, Кармела, — воскликнул он, — мы спасены!
— Вперед, вперед! — ответила молодая девушка, задыхаясь.
Это был отряд Ягуара.
Молодой техасец, желая скорее добраться до асиенды, скакал на большом расстоянии впереди отряда. Вдруг он увидел какого-то всадника, мчавшегося ему навстречу.
— А! — вскрикнул он с ненавистью. — Белый Охотник За Скальпами!
Он осадил лошадь так резко, что дрожащие колени благородного животного согнулись. Схватив ружье, он прицелился.
— Постойте, постойте! Не стреляйте, во имя Неба, не стреляйте! — закричал канадец, который, пришпоривая лошадь, мчался во весь опор в сопровождении Чистого Сердца и всего отряда.
Но раньше чем охотник догнал Ягуара, тот, не расслышав или, может быть, не поняв его слов, выстрелил.
Охотник За Скальпами, пораженный в грудь, скатился на песок, увлекая за собой Кармелу.
— Ax! — сказал Транкиль с отчаянием, обращаясь к Чистому Сердцу. — Несчастный убил своего отца!
— Тише! — воскликнул тот, прикрыв ему рот рукой. — Тише, ради Бога!
Между тем Охотник За Скальпами не был мертв.
Ягуар попытался приблизиться к старику — возможно, он хотел добить его, но Кармела, пытавшаяся привести раненого в чувство, в эту минуту поднялась в гневе и, отталкивая его, воскликнула:
— Назад, убийца!
Молодой человек невольно отступил, удивленный и смущенный.
Транкиль бросился к раненому, а Чистое Сердце подошел к Ягуару и заговорил с ним тихо, старался увести его от того места, где Белый Охотник За Скальпами бился в предсмертных судорогах.
Старик держал руки молодой девушки в своих холодеющих и уже покрытых предсмертным потом руках.
— Кармела, бедная Кармела, — говорил он, прерывающимся голосом. — Боже мой, что будет с вами теперь, когда я умру?
— О нет, нет! Это невозможно, вы не умрете! — воскликнула молодая девушка, подавляя рыдания.
Старик грустно улыбнулся.
— Увы! — сказал он. — Бедное дитя, мне осталось жить несколько минут, кто будет заботиться о вас, когда меня здесь не будет?
— Я, — сказал канадец, подходя к ним.
— Вы, — сказал раненый, — вы — ее отец?
— Нет, ее друг, — ответил охотник с грустью, вынимая из-за пазухи ожерелье, которое негр снял с Охотника За Скальпами во время битвы в бухте Гальвестона. — Джеймс Уатт, — сказал он торжественно, — благословите вашу дочь. Кармела, обнимите вашего отца.
— О! — воскликнул раненый. — Мое сердце не обмануло меня.
— Отец мой! Благословите меня, — прошептала молодая девушка, опускаясь на песок на колени.
Белый Охотник За Скальпами, или Джеймс Уатт, выпрямился, как будто под ударом электрического тока, и, протягивая руки над головой коленопреклоненной девушки, произнес:
— Будь благословенна, дитя мое! — затем, после минутного молчания, он прошептал невнятным голосом: — А еще у меня был сын.
— Он умер, — ответил охотник, бросая печальный взгляд на Ягуара.
— Да простит его Бог! — прошептал старик. И откинувшись навзничь, он испустил последний вздох.
— Друг мой, — сказала Кармела охотнику, — вы, которого я уже не смею называть отцом, что прикажете вы мне перед этим трупом?
— Жить, — глухо ответил канадец, указывая рукой на приближавшегося во весь опор кавалериста, — потому что вы любите и любимы. Жизнь едва начинается для вас, и вы можете быть счастливы.
Этим кавалеристом был полковник Мелендес.
Кармела уронила голову на руки и залилась слезами.
Во время моего последнего пребывания в Техасе я имел честь быть представленным донье Кармеле, жене полковника Мелендеса, вышедшего в отставку после битвы при Сан-Хасинто.
Транкиль жил с ними.
Чистое Сердце вернулся в прерии.
После описанных выше событий Ягуар вернулся к своей скитальческой жизни. Не прошло и года, как мы услышали о его смерти. Застигнутый врасплох индейцами апачами, от которых при желании мог легко скрыться, он заупрямился, желая с ними сразиться, и был убит этими неумолимыми врагами белой расы.
Знал ли Ягуар, что он убил отца, или отчаяние от того, что Кармела оттолкнула его любовь, заставило его решиться искать смерти?
Это осталось тайной, в которую так никто никогда и не проник.
Будем надеяться, что Бог, справедливый и милостивый, простил сыну его невольное отцеубийство.
― ФЛИБУСТЬЕРЫ ―
Глава I
ФЕРИА-ДЕ-ПЛАТА
Далекие берега Америки с самых первых дней после ее открытия стали служить местом, где находили себе убежище всякого рода авантюристы, куда стекались искатели приключений. Их безрассудная смелость не мирилась с узким, вполне установившимся укладом старой европейской жизни и стремилась проявить себя на просторе.
Одни искали в Новом Свете свободы совести, права молиться Господу так, как им казалось наиболее пристойным. Другие спешили переменить свои шпаги защитников родины на кинжалы разбойников и избивали целые туземные племена, грабя их золото и присваивая себе их добро. Были и такие неукротимые натуры, которые не знали предела своим страстям, не хотели признавать над собой никаких законов и под свободой разумели безграничную распущенность и своеволие. Они почти с самого своего появления образовали ужасное общество береговых братьев, которое заставляло иногда Испанию трепетать за свои американские владения и с которым не гнушался вступать в переговоры сам король-солнце Людовик XIV.
Потомки этих удивительных людей существуют в Америке и по сей день. Когда внезапная революционная вспышка после недолгой борьбы низвергает загадочные личности, которые по воле случая возвысились, то их инстинктивно притягивает к наследникам знаменитых авантюристов в надежде, что и им также удастся повторить безумные дела их предков.
За время моего пребывания в Америке мне случилось быть свидетелем одной из тех смелых выходок, которые задумываются и приводятся в исполнение этими людьми. То, о чем я хочу рассказать, произвело большую сенсацию, в течение нескольких месяцев служило предметом обсуждения в прессе и возбуждало интерес и даже симпатии к смельчакам. Мы с абсолютной точностью будем описывать исторические факты, но, по весьма понятным причинам, изменим собственные имена.
Несколько десятков лет тому назад открытие богатейших золотых россыпей в Калифорнии пробудило дремавшую любовь к приключениям, подхлестываемую надеждой на быстрое обогащение, и не одна тысяча молодых, образованных людей, покинув семьи и родину, устремилась в новую землю обетованную, где многих ждали полное разорение и смерть после долгих страданий, несбывшихся надежд и бесчисленных лишений.
Длинен путь из Европы в Калифорнию. Многие останавливались на полпути в Вальпарайсо, в Кальяо, в Масатлане или Сан-Бласе, но большая часть все-таки достигала Сан-Франциско.
Опустим подробности всех тех обманов и притеснений со стороны всяких проходимцев, которым с первых же шагов подвергались в этой стране несчастные эмигранты, воображавшие, сидя у себя на родине, что здесь им стоит только нагнуться, чтобы полными руками загребать золото. Пусть читатель последует за нами и представит себе Гуаймас спустя полгода с момента открытия золотых россыпей.
В «Арканзасских трапперах» мы уже имели случай описывать Сонору, но так как действие настоящего рассказа будет всецело происходить в этой глухой, отдаленной провинции мексиканской республики, то мы опишем ее здесь немного подробнее.
Мексика, бесспорно, одна из самых чудных стран во всем мире. В ней соединены все климаты. Пространство, занимаемое ею, и до сих пор огромно, но население чрезвычайно невелико. Оно на две трети состоит из индейских племен.
Мексиканские Соединенные Штаты заключали в себе в то время федеральный округ Мехико, двадцать один штат и три территории, или провинции, не имевшие самостоятельного управления.
Не будем говорить здесь о правительстве или, лучше сказать, об образе правления этой чудной и несчастной страны, так как в описываемую эпоху она не выходила из состояния анархии. Мексика считалась федеративной республикой, союзом отдельных самоуправляющихся провинций, но единственной властью, которая признавалась в ней, была шпага.
Первым из семи штатов, расположенных на берегу Тихого океана, была Сонора. Она тянется с севера на юг от реки Рио-Хила до реки Рио-Майо. На востоке она отделяется хребтом Сьерра-Верде от штата Чиуауа, на западе она спускается в Калифорнийский залив, или Кортесово море, как еще недавно оно обозначалось на испанских географических картах.
Штат Сонора — самый богатый из мексиканских штатов, так как в нем добывалось больше всего золота. К несчастью, а быть может, и к счастью, смотря как глядеть на дело, по Соноре бродят бесчисленные индейские шайки, с которыми жители вынуждены вести неустанную борьбу. Эта бесконечная борьба и постоянное напряжение выработали презрение к жизни, привычку проливать кровь человеческую по любому поводу и придали характеру обитателей решительность, смелость, неукротимую отвагу и благородство, которое отличает их от всех других граждан республики и позволяет с первого же взгляда узнавать их повсюду.
Несмотря на обширную территорию и длинную береговую линию, Мексика имеет только два порта на Тихом океане: Гуаймас и Акапулько. Остальные — не более как открытые рейды, в которых суда не могут найти себе убежища, особенно, когда ужасный кордонасо неудержимо дует с юго-запада и, кажется, хочет до самого дна возмутить Калифорнийский залив.
Познакомимся ближе с Гуаймасом.
В эпоху, к которой относится наш рассказ, он едва возник несколько лет тому назад в устье реки Сан-Хосе, но ему улыбалась счастливая перспектива сделаться одним из главных портов Тихого океана.
В военном отношении Гуаймас расположен прекрасно. Как во всех городах испанской Америки, дома в Гуаймасе были тогда низки, выкрашены в белый цвет, с плоскими крышами. Только цитадель на вершине скалы выделялась своим желтоватым цветом, гармонировавшим с цветом морского прибрежного песка. За городом поднимались крутые изъеденные глубокими водомоинами склоны гор, вершины которых уходили в облака.
Надо признаться, однако, что в то время, с которого начинается наш рассказ, несмотря на горделивое название портового города, Гуаймас имел вид жалкой деревни, в нем не было ни церкви, ни гостиницы, хотя нельзя того же сказать о питейных заведениях, которых, напротив, было слишком много.
Дух, царящий в общественной жизни Соноры, не представлял ничего отрадного. Чувствовалось, что, несмотря на все усилия европейцев оживить, внести новую, свежую струю в жизнь населения, долгая тирания испанцев, в течение трех веков тяготевшая над ним, если и не окончательно сделала его неспособным к тому, что мы называем общественной инициативой, то надолго деморализовала его и заглушила всякое проявление стремления к развитию. Это настроение отразилось и на Гуаймасе.
В тот день, когда начинается наш рассказ, около двух часов пополудни, Гуаймас, несмотря на жгучие, почти отвесно падавшие лучи солнца, загонявшие в это время всех его обитателей в низенькие домики, где они мирно предавались сну, был необычно оживлен. Иностранец, случайно попавший в этот момент в толпу, мог бы подумать, что ему довелось быть свидетелем одного из пронунсиаментос, которые ежегодно терзают эту несчастную страну и которыми новые правители возвещают, что им удалось вырвать власть или даже только малую толику власти у своих предшественников, с тем, конечно, чтобы вскоре уступить ее новым соперникам.
Между тем никакого пронунсиаменто не появлялось.
Местная власть, представляемая генералом Сан-Бенито, губернатором Гуаймаса, была довольна, по-видимому, нынешним правительством.
Контрабандисты, леперос [45] и индейцы племени яки продолжали наслаждаться полным спокойствием, никто не трогал их, и им предоставлялось спокойно заниматься их ремеслом, так что и они не имели повода быть недовольными правительством.
Откуда же происходило оживление, царившее в городе? Какая причина подняла на ноги все это ленивое население и заставила его забыть о послеобеденной сиесте?
Уже три дня, как город охватила золотая лихорадка.
Губернатор, уступая просьбам наиболее знатных торговцев, назначил пятидневную ферию-де-плата, буквально — серебряную ярмарку.
Игра в банк, содержимая знатными горожанами, была открыта для народа в самых известных домах.
Но что особенно было оригинальным и что едва ли возможно было встретить где-либо в другом месте, это то, что игра шла также на улицах и площадях. Всюду под открытым небом были расставлены столы, по которым струилось золото, и каждый, обладающий реалом [46], без различия положения в обществе и цвета кожи, имел право попытать свое счастье у любого стола.
В общественной жизни Мексики в то время царил один закон, быть может, нашедший оправдание в ее истории. Граждане этой страны мало интересовались прошлым своей родины и с удовольствием стерли бы самую память о нем. Они с лихорадочной поспешностью стремились взять все, что могла им дать настоящая минута. Так живут все нации, которые чувствуют свое близкое исчезновение.
Мексиканцем правят два вожделения: любовь к азартному риску и женщинам. Мы именно говорим — вожделения, так как чувства эти нельзя назвать страстью. Страсти толкают человека на необычайные дела, овладевают его волей, ломают душевное равновесие. Ничего подобного не встречается у жителя Мексики.
Вот почему вокруг игорных столов, несмотря на духоту и зной, царило чрезвычайное оживление. Несмотря на это, все совершалось в полном спокойствии и порядке, хотя на улицах не видно было ни одного представителя власти.
Почти на середине Калле-де-ла-Мерсед, одной из наиболее широких улиц Гуаймаса, перед красивым домом стоял стол, покрытый зеленым сукном и отягченный грудами золота. У стола стоял человек лет тридцати, стройный, с хитрым выражением на лице. Он потрескивал в руках колодой карт и с лукавой улыбкой на губах заманчиво приглашал многочисленных зрителей попытать счастья.
— Ну же, благородные кабальерос, — говорил он вкрадчивым голосом, масляными глазами обводя толпу завертывавшихся в лохмотья «кабальерос», надменно и бесстрастно глядевших на него своими черными глазами, — ведь не могу же я выигрывать вечно, счастье непостоянно. О, я слишком хорошо знаю это! — и он с грустью и словно в раздумье покачал головой. — Ну, ставлю сто унций [47], идет? — как бы в приливе решимости воскликнул он наконец. — Кто держит? Была не была!
Он умолк.
Никто не отвечал.
Нисколько не обескураженный этим, банкомет пересыпал с руки на руку пригоршню золотых монет в расчете, что против их горячего блеска не устоит и самая твердая воля.
— Это хорошенькая сумма, сто унций, кабальерос, с ними даже тот, кто не красивее черта, может смирить самую гордую красавицу. Ну-ка, кто держит?
— Ба-а! — сказал только что подошедший леперо, строя презрительную мину. — Великая вещь сто унций! Если бы вы не обыграли меня до последнего гроша, Тио-Лукас, я бы поддержал их, да.
— Я сам был просто в отчаянии, сеньор Кукарес, — отвечал, разводя руками и наклоняя голову, банкомет, — правда, счастье в тот раз совсем не благоприятствовало вам. Но я был бы счастлив, если бы вы не отказались взять у меня одну унцию.
— Вы шутите, — гордо выпрямляясь, отвечал леперо. — Сеньор Тио-Лукас, оставьте у себя свое золото и не заботьтесь обо мне. Когда мне понадобятся деньги, я сумею достать столько, сколько мне нужно. Однако, — добавил он с самой изысканной вежливостью, — я, тем не менее, считаю своим долгом поблагодарить вас за ваше щедрое предложение.
И с этими словами он протянул банкиру через стол руку, которую тот пожал самым любезным образом.
Леперо воспользовался этим моментом, чтобы схватить свободной рукой столбик золотых монет унций в двадцать, стоявший к нему ближе всего.
По лицу Тио-Лукаса пробежала гримаса, но он притворился, что ничего не видал.
После этого обмена взаимными любезностями на минуту воцарилось молчание.
Окружавшие зрители не пропустили ничего из того, что произошло перед их глазами. Любопытство их разгорелось; они ждали, чем все это кончится.
Кукарес первый нарушил это молчание.
— Ах! — воскликнул он, ударив себя по лбу. — Ведь я, Пресвятая Богородица, помилуй нас, совсем потерял голову!
— Как это так, кабальеро? — спросил несколько смущенный Тио-Лукас.
— Да очень просто, — отвечал Кукарес, — я, кажется, только что сказал, что проиграл вам все деньги?
— Да, вы говорили, и эти кабальерос слышали ваши слова, и я также. Вы сказали, что проигрались до последнего гроша, это ваше собственное выражение.
— Помню, помню! Вот это-то и взбесило меня.
— Как так! — воскликнул банкир с деланным изумлением. — Вас бесит то, что я выиграл?
— Вовсе нет! Вовсе нет!
— Так что же?
— Карамба! Меня бесит то, что я ошибся, и у меня осталось еще несколько унций.
— Неужели?
— Вот смотрите.
Леперо порылся у себя в кармане и с самым наивным изумлением вытащил перед глазами банкира только что украденное у него золото. Банкир остался совершенно равнодушен.
— Возможно ли это? — проговорил он.
— Что такое? — спросил леперо, устремляя на него сверкающий взгляд.
— Возможно ли, сеньор Кукарес, что у вас вдруг таким удивительным образом пропала память.
— Ну, это все равно. Она теперь вновь вернулась, и мы можем продолжать игру.
— Отлично, ставлю сто унций. Вы согласны?
— Нет, не согласен, у меня нет такой суммы.
— Поищите, может быть, найдете.
— Это бесполезно, я знаю, что у меня ее нет.
— Очень досадно.
— Почему?
— Потому что я дал себе слово никогда не ставить меньше.
— Так что вы не желаете держать двадцать унций?
— Не могу, у меня все пропадает по двадцать унций, как только я их поставлю.
— Гм! — отвечал леперо. — В ваших словах, сеньор Тио-Лукас, заключается скрытый намек на что-то!
Банкир не успел ответить. У стола остановился человек лет тридцати на великолепной вороной лошади. Некоторое время он стоял молча, небрежно куря пахитоску и слушая, чем кончится разговор банкира и леперо.
— Ну, идет на сто унций! — вдруг вскрикнул он и грудью своего коня проложил себе дорогу к самому столу, на который бросил полный золота кошелек.
И банкир и леперо сразу подняли головы.
— Вот карты, кабальеро, — поспешно заговорил банкир, обрадовавшись случаю, который избавлял его от небезопасного собеседника.
Кукарес поднял плечи и с презрением поглядел на вновь пришедшего.
— О! — проговорил он вполголоса. — Тигреро. Уж не к Аните ли он приехал? Я узнаю.
И он тихо стал приближаться к всаднику и вскоре очутился возле него.
Загорелое лицо всадника было полно сознания собственного достоинства и превосходства над окружающими. Взгляд, казалось, обладал чарующей силой, но общее выражение было открытое и решительное.
Весь его необычайно богатый костюм сверкал золотом и бриллиантами.
На голове его красовалась сидевшая немного набок мягкая фетровая шляпа с широкими, красиво изогнутыми полями, обшитыми тонким золотым шнуром. Короткий кафтан из синего сукна, покрытый серебряным шитьем, был распахнут и открывал нежной белизны рубашку, ворот которой стягивал шелковый галстук, захваченный золотым кольцом с крупными бриллиантами. Он был подпоясан широким красным шелковым поясом, по лампасам его панталон блестели толстые золотые шнуры с бахромой, ниже у колен они были застегнуты на несколько бриллиантовых пуговиц. На ногах у него были вышитые золотом мексиканские сапоги из мягкого желтого сафьяна, на плечо был живописно закинут голубой шитый золотом плащ.
Конь вполне подходил своему всаднику. Это был красивый нервный мустанг с небольшой, словно выточенной головкой, умными горячими глазами, тонкими трепещущими ноздрями и тонкими ногами. Нечего и говорить, что уздечка и седло отличались такой роскошью и изяществом украшений, о которых в Европе не имеют и понятия.
Любимец своего хозяина, конь был выхолен и чувствовал это.
Как все мексиканцы высшего класса во время своих путешествий, незнакомец был вооружен с головы до ног. К седлу было привязано лассо, из-за плеча выглядывал карабин, за поясом заткнута пара пистолетов, в стремя упиралась длинная пика, а из-за узкого голенища сапога торчала рукоятка длинного ножа. Это был тип богатого мексиканца из Соноры.
Изысканным движением наклонившись к Тио-Лукасу, он взял протягиваемые ему карты и начал перебирать и рассматривать их. Но тут взор его упал на протиснувшегося к нему леперо.
— А! Ты здесь, земляк? — покровительственно обратился он к нему.
— К вашим услугам, дон Марсиаль, — отвечал леперо и прикоснулся рукой к обтрепанным полям своей шляпы.
Незнакомец улыбнулся.
— Будь так добр, пометай за меня карты, а я закурю.
— С удовольствием.
И леперо радостно бросился вперед.
Тигреро, или дон Марсиаль (как будет угодно читателю называть его) вынул из кармана огниво в золотой оправе и начал спокойно высекать огонь, в то время как леперо метал карты.
— Сеньор, — проговорил он наконец жалобным голосом.
— Что такое?
— Вы проиграли.
— Ну, так что же. Тио-Лукас, возьмите сто унций в моем кошельке.
— Я уже взял, ваша светлость, — сказал банкир. — Не угодно ли вам подержать еще?
— Конечно! Но только не на такие пустяки, разумеется. Я люблю, чтобы игра была хоть сколько-нибудь интересна.
— Я держу, сколько вашей светлости будет угодно поставить, — отвечал банкир, острый взгляд которого успел уже заметить в кошельке незнакомца среди обильного количества унций золота с полсотни бриллиантов самой чистой воды.
— Гм! А в силах ли вы держать то, что я могу поставить?
—Да, без сомнения.
Незнакомец пристально посмотрел на него.
— Даже если я поставлю тысячу унций?
— Я держу вдвое, если ваша светлость рискнет поставить их, — невозмутимо ответил банкир.
Презрительная улыбка вновь появилась на надменных губах всадника.
— Я-то всегда рискну, — ответил он.
— Итак, две тысячи унций?
— Согласен.
— Мне метать? — робко вопросил Кукарес.
— Отчего же нет, мечи!
Леперо дрожащей от волнения рукой взял колоду.
Среди окружавших стол зрителей наметилось оживление, все впились в карты.
В эту минуту в доме, против которого установил свой игорный стол Тио-Лукас, отворилась дверь на балкон, и из нее вышла девушка чудной красоты, небрежно оперлась на балюстраду и стала рассеянно смотреть на улицу.
Дон Марсиаль обернулся к балкону и приподнялся в стременах. Лицо его осветилось радостью, глаза заблестели, он снял шляпу, почтительно поклонился и крикнул через улицу:
— Привет вам, донья Анита!
Молодая девушка покраснела, бросила на него жгучий взгляд из-под черных бархатных ресниц, но не произнесла ни слова.
— Сеньор, вы проиграли, — не будучи в состоянии скрыть своей радости, воскликнул Тио-Лукас.
— Ну и отлично, — ответил дон Марсиаль, даже не взглянув на него, словно очарованный чудной девушкой на балконе.
— Вы не играете больше?
— Напротив, я удваиваю ставку.
— Ага! — мог только проговорить банкир, отступив на шаг при таком предложении.
— Впрочем, я ошибся. Я не то хотел предложить вам.
— А что же, сеньор?
— Сколько у вас там на столе? — спросил он с презрительным жестом.
— На столе… ну… около семи тысяч унций.
— Только-то? Ну, это немного.
Присутствующие с недоумением и ужасом взирали на чудного незнакомца, который швырял унциями и бриллиантами, как другие грошами.
Девушка побледнела и бросила на молодого человека беспокойный взгляд, полный мольбы.
— Не играйте, перестаньте! — крикнула она дрожащим голосом.
— Благодарю вас, благодарю, сеньорита, но ваши чудные глаза должны принести мне счастье. Я отдал бы все золото, которое лежит тут на столе, за тот цветок, который вы держите в руках и к которому вы прикасаетесь губами.
— Не играйте, дон Марсиаль, — повторила молодая девушка, и с этими словами она ушла в комнату и затворила дверь.
Случайно или нарочно, но из руки ее выпал чудный цветок. Дон Марсиаль пришпорил лошадь, подхватил его на лету и спрятал у себя на груди, страстно прижав несколько раз к губам.
— Кукарес, — обратился он к леперо, — открой карту.
Кукарес повиновался.
— Шестерка червей, — проговорил он.
— Ага! — воскликнул дон Марсиаль. — Клянусь всем, что есть святого, мы должны выиграть: это масть сердца, масть любви. Тио-Лукас, я ставлю на эту карту сумму, равную той, которая лежит сейчас у вас на столе.
Банкир побледнел, колебался несколько мгновений, окружающие уставили в него свои жадные взоры.
— Ба-а! — проговорил он через минуту. — Невозможно, чтобы он выиграл. — И затем громко прибавил: — Хорошо, сеньор, я принимаю.
— Сосчитайте, сколько у вас есть.
— Не стоит, сеньор. Здесь девять тысяч четыреста пятьдесят унций золота [48].
Услышав такую чудовищную цифру, окружающие вскрикнули от изумления, алчные взгляды загорелись.
— А я думал, что вы богаче, — иронически заметил загадочный всадник. — Ну ладно, идет, играем на девять тысяч четыреста пятьдесят унций.
— На этот раз метать будете вы, сеньор?
— Нет, для меня не существует сомнения, вы должны проиграть. Но я, Тио-Лукас, хочу показать вам, что я выиграл вполне законно. Поэтому доставьте мне удовольствие, потрудитесь метать сами. Вы сами, таким образом, поможете себе разориться, — ядовито добавил он, — и вам не на кого будет пенять.
Окружающие дрожали от охватившего их волнения, они хлопали в ладоши, кривлялись, хохотали, спокойствие и самообладание незнакомца нравились им чрезвычайно. Толпа, привлеченная необыкновенной игрой, к этому времени увеличилась настолько, что запрудила всю улицу, и движение прекратилось.
Наконец воцарилось гробовое молчание, все с глубоким вниманием стали следить за счастливым или несчастным исходом этой беспримерной для того времени ставки.
Банкомет отер пот со своего багрового лба и дрожащей рукой взял первую карту. Несколько секунд он вертел ее между пальцами и заметно колебался.
— Да кладите же, — нетерпеливо воскликнул наконец Кукарес.
Тио-Лукас машинально опустил карту и отвернулся.
— Шестерка червей! — как безумный, высоким фальцетом закричал леперо.
Банкир испустил глубокий полный отчаяния стон.
— Я разорен, я нищий, — бормотал он.
— Я знаю это, — ответил всадник все так же невозмутимо. — Кукарес, отнеси этот стол и золото, что на нем, донье Аните. Я тебя буду ждать, ты знаешь где.
Леперо почтительно поклонился и с помощью четырех здоровых молодцов внес стол в дом доньи Аниты. Дон Марсиаль в это время уже мчался во весь опор в конце улицы. Тио-Лукас, очнувшись от тяжелого удара, с философским спокойствием крутил сигаретку и только повторял многочисленным любопытным, окружившим его и изо всех сил стремившимся утешить его:
— Да, я проиграл, это правда, но я проиграл на диво хорошему игроку и славным путем. Эх, дайте срок, и я верну все.
Затем, когда сигаретка была свернута, бедный разорившийся банкомет закурил ее и отошел спокойным шагом.
Толпу ничего больше не привлекало, и мало-помалу она разошлась.
Глава II
ДОН СИЛЬВА ДЕ ТОРРЕС
Гуаймас в описываемое время был городом совершенно новым. Он разрастался не по дням, а по часам, так как в него хлынул бурный поток переселенцев. Он выстраивался неправильными переулками, кривыми, без всякого плана, довольно скучными и монотонными. Надо заметить, что кроме нескольких зданий, вполне заслуживающих названия благоустроенных городских жилищ, все остальное представляло беспорядочные скопления мазанок самого жалкого вида и бесконечно грязных.
На Калле-де-ла-Мерсед, главной, а вернее, единственной улице города, стоял одноэтажный дом с террасой, с плоской крышей, украшенный по фасаду четырьмя колоннами. Он был оштукатурен и блестел на солнце ослепительной белизной.
Хозяин этого дома был одним из богатейших золотопромышленников Соноры, у него было до двенадцати разрабатывавшихся рудников. Кроме того, он занимался скотоводством на нескольких принадлежащих ему асиендах, каждая из которых была не меньше средней величины французского департамента.
Я уверен, что, если бы в один прекрасный день дон Сильва де Торрес пожелал продать все, у него оказалась бы не одна сотня миллионов, даже при не слишком высокой оценке его недвижимости.
Дон Сильва де Торрес всего лишь несколько месяцев тому назад поселился в Гуаймасе, куда он заглядывал прежде весьма редко и на очень короткое время.
На этот раз он явился не один, а со своей дочерью Анитой. Все население Гуаймаса было заинтересовано необычным образом жизни приезжего асиендадо, и ни один из горожан не мог пройти мимо его дома, не уставившись на него жадно-любопытным взглядом, как будто желая проникнуть сквозь стену и посмотреть, что там делается.
Замкнувшись в своем жилище, двери которого открывались только перед несколькими избранными, дон Сильва решительно не заботился о распускаемых о нем сплетнях. По-видимому, он был занят приведением в исполнение каких-то планов и из-за них перестал интересоваться чем-либо в мире.
Очень богатые мексиканцы, хотя и любят хвастаться своими богатствами, не имеют, однако, никакого понятия о комфорте в европейском смысле этого слова, они очень неряшливы. В своих вкусах они проявляют крайнюю грубость и эстетическое убожество.
Эти люди за всю свою жизнь так привыкают к суровому существованию в американских девственных лесах и прериях, проводя его в непрестанной борьбе с непостоянными, зачастую смертоносными климатическими условиями и ни на минуту не дающими успокоиться индейскими шайками, что в городах они чаще останавливаются на время с единственной целью как можно скорее прожечь только что нажитое золото и алмазы.
Внутреннее убранство жилищ богатых мексиканцев вполне подтверждает нашу мысль. В салоне кроме неизбежного европейского фортепиано, торчащего без нужды в углу, вся меблировка состоит обыкновенно из нескольких бутак — подобия восточных диванов, крайне неудобных, — и столов самой неуклюжей формы. По стенам обыкновенно развешаны раскрашенные гравюры, а сами стены выкрашены известкой.
Жилище дона Сильвы ничем не отличалось от других подобных. Лошади, например, отправляясь на водопой и возвращаясь в. конюшню, должны были проходить через гостиную, оставляя в ней весомые следы своего пребывания.
В тот момент, когда мы входим с читателем в дом дона Сильвы де. Торреса, в гостиной сидят двое, мужчина и женщина. Они разговаривают между собой, если только можно назвать: разговором редкое перекидывание двумя-тремя словами с долгими паузами.
Это были сам дон Сильва и дочь его Анита.
Скрещение испанской и индейской крови произвело на свет новый, чрезвычайно красивый тип.
Дон Сильва был человек лет пятидесяти, но на вид ему едва можно было бы дать сорок. Он был высок ростом, строен, В его осанке чувствовались самоуверенность, привычка не искать ни в чем помощи и опоры, во всем полагаться на свои силы. Взор его светился умом, черты лица были суровы, но отличались приветливостью. Он носил национальный мексиканский костюм, отличавшийся такой роскошью, какую, конечно, не мог позволить себе ни один из его соотечественников.
Анита полулежала на канапе. Ее полные неги глубокие темные глаза стыдливо оттенялись длинными бархатно-черными ресницами. Легкое простое платье мягкими складками облегало чудные, едва развившиеся формы ее молодого тела. Полные невыразимой прелести жесты выдавали в ней немного капризного, избалованного ребенка, но чудная улыбка ее коралловых губок была полна нежной ласки. Ей было всего восемнадцать лет. Горячее мексиканское солнце придало ее коже золотистый оттенок. Вся она, как благоуханный цветок, дышала девичьей чистотой и невинностью.
Как все мексиканки, она носила дома легкое шелковое платье, ребосо1 почти сползло с ее плеч. В черных с синим отливом густых волосах виднелись небрежно заткнутые жасмины, шиповник, сирень, которые наполняли комнату своим приторным ароматом. И как чудно шел этот аромат к этой редкой красоты девушке! Казалось, он говорил о той страстной, всепоглощающей любви, которую способен был зажечь в сердце юноши один ласковый взгляд ее пугливых, как у лани, черных очей. Анита, по-видимому, усиленно о чем-то думала. Брови ее по временам хмурились, изящная ножка нетерпеливо била о пол.
Дон Сильва также, казалось, чем-то был недоволен. Бросив на дочь суровый взгляд, он поднялся и приблизился к ней.
— Ты делаешь глупости, Анита, — строго обратился он к ней, — так поступать нельзя. Молодая девушка из хорошей, благородной семьи не должна делать того, что ты сделала…
Анита отвечала только многозначительным пожатием плеч. Отец продолжал, делая ударение на каждом слоге.
— Особенно из-за твоего положения по отношению к графу де Лорайлю.
Молодая девушка быстро вскочила с канапе, словно ужаленная змеей, и вопрошающим взором уставилась на своего отца.
— Я не понимаю вас, — сказала она.
— Ты не понимаешь? Ну, этому я не верю. Разве ты не знаешь, что я торжественно обещал твою руку графу?
— Ну так что же? А если я не люблю его? Неужели вы захотите, чтобы я всю свою жизнь была несчастна?
— Ребосо — шаль, накидка.
— Напротив, я хочу доставить тебе счастье этим браком. Ты у меня одна, Анита, единственная радость и утешение после смерти твоей горячо любимой мною матери. Дитя мое, ты теперь еще в том благодатном возрасте, когда не понимают, в чем состоит счастье и несчастье. Думают, что счастье возможно лишь, когда следуешь минутному влечению сердечного порыва. Ты говоришь, что не любишь графа? Тем лучше, сердце твое, значит, свободно. Со временем, когда ты оценишь чудные качества человека, которого я избрал тебе в мужья, ты не раз помянешь меня добром за то, что я настоял на этом браке, хотя сейчас он так тебя огорчает.
— Но, отец, — живо возразила ему дочь, — ведь вы знаете, что мое сердце принадлежит другому.
— Донья Анита де Торрес, — сурово оборвал ее дон Сильва, — любовь, недостойная нашей семьи, нашего положения, не должна знать даже входа в ваше сердце. По предкам я — Кристиано Вейохо. Если в моих жилах есть несколько капель индейской крови, то тем глубже запечатлел я в сердце своем заветы моих предков. Правда, наш родоначальник Антонио де Сильва, лейтенант Эрнандо Кортеса, вступил в брак с мексиканской принцессой из императорского рода Монтесумы, но все его потомки были чистокровные испанцы.
— Но разве мы не испанцы, отец?
— Увы! Бедное дитя, никто не может сказать, кто мы! Наша несчастная родина, с тех пор как стряхнула с себя испанское иго, бьется, словно раненый человек, в страшных конвульсиях, ее силы истощаются в гибельной междоусобной борьбе, которая грозит уничтожить последние следы нашего национального самосознания, доставшегося нам такой дорогой ценой. Эти постыдные распри сделали нас посмешищем в глазах наших соседей, которые давно уже следят за нами, алчно выжидая удобной минуты, чтобы броситься на нас и обогатиться за счет нашего падения.
— Но отец, я девушка, я ничего не понимаю в политике. И ничего не имею общего с североамериканцами.
— Вот в том-то и дело, дочь моя… Я не хочу, чтобы в один прекрасный день безмерные владения, которые мои предки и я с трудом нажили честным путем, стали бы добычей этих проклятых еретиков. Вот потому-то, чтобы сохранить их, я и решил выдать тебя замуж за графа де Лорайля. Он француз, принадлежит к одной из самых знатных фамилий этой страны. Он красив, отважен, молод, ему всего тридцать лет он принадлежит к благородной нации, которая сумеет повсюду защитить своих сынов. Если ты выйдешь за него замуж, то состояние твое будет в полной безопасности от политических переворотов.
— Но я не люблю его, отец!
— Глупости, дорогое дитя. Не будем говорить об этом. Я забуду о выходке, которую ты позволила себе сейчас, но с условием, что ты забудешь этого Марсиаля.
— Никогда! — вскрикнула она с отчаянием и решимостью.
— Никогда? Ну, это очень долгий срок. Я уверен, ты подумаешь и переменишь это «никогда». Да, наконец, что это за человек, откуда он? Знаешь ли ты это? Его зовут Марсиаль Тигреро. Великий Боже! Какое славное имя! Да, он спас тебе жизнь, остановил твою лошадь на всем скаку, когда она понесла. Ну так что же? Разве из этого следует, что он непременно должен полюбить тебя, а ты его? Я ему предложил за твое спасение очень хорошую сумму, но он с величайшим презрением отверг ее. Что же делать? Не хочет, так пусть оставит меня в покое, я не желаю иметь с ним никаких дел.
— Я люблю его, отец! — настойчиво продолжала Анита.
— Берегись, Анита, ты выводишь меня из терпения. Довольно об этом, приготовься встретить графа как подобает. Клянусь, что ты будешь его женой, хотя бы мне силой пришлось вести тебя к алтарю.
Асиендадо произнес эти слова с такой решимостью и таким твердым голосом, что молодая девушка поняла: ей лучше сделать вид, что она уступает, и прекратить этот разговор, который только раздражает дона Сильву и не обещает для нее ничего хорошего. Она наклонила голову и замолчала. Отец ее продолжал ходить по гостиной большими шагами с крайне раздраженным видом.
Дверь отворилась, и в ней показалась голова пеона.
— Что тебе нужно? — спросил его, останавливаясь, дон Сильва.
— Сеньор, — отвечал пеон, — какой-то господин хочет что-то сказать сеньорите. За ним четыре человека несут стол, покрытый золотыми монетами.
Асиендадо бросил на свою дочь уничтожающий взгляд, полный в то же время глубочайшего изумления.
Донья Анита в смущении склонила голову.
Дон Сильва с минуту раздумывал, затем лицо его прояснилось.
— Пусть войдут, — сказал он.
Пеон удалился и через две минуты вернулся. За ним шел уже знакомый нам Кукарес, закутанный в свой залатанный сарапе [49], в сопровождении четырех молодцов, несущих стол.
Войдя в комнату, Кукарес снял шляпу, почтительно поклонился асиендадо и его дочери и жестом приказал следовавшим за ним леперос поставить стол посреди комнаты.
— Сеньорита, — начал он самым изысканным тоном, — сеньор дон Марсиаль, верный данному слову, почтительнейше просит вас принять это золото, выигранное им на счастье ваше, как свидетельство своего глубочайшего почтения и восхищения.
— Негодяй! — закричал дон Сильва в страшном гневе, делая к нему шаг. — Знаешь ли ты, с кем говоришь?
— С доньей Анитой и ее глубокоуважаемым отцом, — невозмутимо продолжал Кукарес, величественно задрапировываясь в свои лохмотья. — Разве я сделал что-либо недостойное вас или вашей дочери?
— Сейчас же убирайся отсюда и забери с собой это золото. Моя дочь вовсе не нуждается в нем.
— Извините меня, сеньор, но дон Марсиаль приказал мне принести это золото сюда, и с вашего позволения я оставлю его здесь. Дон Марсиаль не простит мне, если я сделаю иначе.
— Я не знаю дона Марсиаля, как ты называешь сейчас того, кто послал тебя, и не хочу иметь с ним никаких дел.
— Все это так, сеньор, но это меня не касается. Нет сомнения, что вы познакомитесь с доном Марсиалем и объяснитесь с ним. Что же до меня, то я исполнил свое поручение и могу теперь удалиться, вновь засвидетельствовав вам свое глубочайшее почтение.
И вновь поклонившись хозяину и его дочери, леперо с достоинством вышел в сопровождении четырех товарищей.
— Вот видишь, — в раздражении закричал дон Сильва, — вот видишь, дочь моя, до чего довела твоя глупость. Это оскорбление!
— Оскорбление? Отец мой, — робко отвечала девушка, -я нахожу, что дон Марсиаль поступил как истинный кабальеро. Это доказывает его любовь ко мне. Здесь несметное богатство.
— А-а! — задыхаясь от гнева, проговорил дон Сильва. -Так ты за него! Ну хорошо же, я также поступлю как истинный кабальеро, клянусь всеми святыми, и ты это сейчас увидишь. Ко мне кто-нибудь!
Несколько пеонов вбежали в комнату.
— Откройте окна, — скомандовал дон Сильва.
Слуги повиновались.
Толпа еще не разбрелась. Достаточное количество праздношатающихся продолжало глазеть на его дом или бродить вокруг.
Дон Сильва высунулся в окно и сделал знак стоявшим против его дома подойти.
Тотчас же вновь стала сходиться толпа, воцарилось молчание. Все ждали, что будет говорить и делать надменный, сторонящийся всех асиендадо.
— Сеньоры кабальеро, друзья мои, — так начал он громким голосом, — человек, которого я вовсе не знаю, осмелился предложить моей дочери золото, которое он выиграл в банк. Донья Анита, как и следовало ожидать, с презрением отвергает подобный подарок, особенно когда он идет от какого-то неизвестного, с которым она не желает иметь дела. Она просит меня раздать вам это золото, к которому она не желает даже прикоснуться. Она хочет таким образом в вашем присутствии публично выразить то презрение, которое она питает к человеку, осмелившемуся глумиться над ней.
Импровизированная речь асиендадо была покрыта яростными аплодисментами и криками собравшихся под окном леперос. В глазах их засветилась жадность.
Анита чувствовала, что горючие слезы готовы хлынуть из ее глаз. Несмотря на все свои усилия казаться спокойной, она чувствовала, что сердце ее готово разорваться от сознания бессильной досады и горя.
Не обращая никакого внимания на дочь, дон Сильва приказал слугам бросать золото на улицу.
И вот на толпу этих бедняков из окон пролился в буквальном смысле слова золотой дождь. Калле-де-ла-Мерсед немедленно приняла самый необычный вид. Отовсюду сбегались люди, влекомые этой манной нового рода.
Золото все сыпалось. Казалось, что конца ему не будет. Беднота бросалась за ним то в одну сторону, то в другую, как степные шакалы бросаются за добычей. Сильные давили слабых.
В самый разгар этой свалки на улице показался скакавший во весь опор всадник.
Он, очевидно, был смущен представившейся его глазам сценой и на минуту остановился, затем дал шпоры своему коню и, щедро оделяя ударами хлыста направо и налево, пробил себе дорогу через бившуюся, загородившую всю улицу толпу к дому асиендадо, в который он и вошел.
— А вот и граф де Лорайль, — лаконично обратился к своей дочери дон Сильва.
Действительно, минуту спустя граф вошел в гостиную.
— А! Вот что! — воскликнул он, остановившись на пороге. — Что же это значит, дон Сильва? Право, я не понимаю, что за мысль развлекаться швырянием в окно миллионов на потеху леперос и прочему сброду.
— Это вы, дорогой граф? — спокойно проговорил асиендадо. — Милости просим, я к вашим услугам, еще несколько горстей — и все.
— Я в вашем распоряжении, — смеясь, ответил граф. — Признаюсь, это очень оригинально. — Затем он подошел к молодой девушке и приветствовал ее с самой изысканной вежливостью: — Сеньорита, не будете ли вы столь добры, не разрешите ли вы эту загадку, которая меня чрезвычайно интересует?
— Спросите у моего отца, сеньор, — отвечала донья Анита с такой сухостью в голосе, что дальнейший разговор стал для графа невозможен.
Тем не менее он сделал вид, что не заметил этого тона. Он с улыбкой поклонился и опустился на диван.
— Ну, я подожду, — небрежно промолвил он, — время терпит.
Асиендадо, говоря своей дочери, что тот, кого он прочил ей в мужья, красив, как бог, нисколько не льстил ему. Графу Максиму Гаэтану де Лорайлю было около тридцати лет. Роста он был немного выше среднего, белокурые волосы говорили о его северном происхождении, черты его лица были приятны, взгляд выразителен. Все в нем говорило о его аристократическом происхождении, и если слова дона Сильвы оказались бы так же справедливы по отношению к моральным качествам графа, как они были справедливы по отношению к его наружности, то мы должны были бы признать, что граф де Лорайль олицетворял собой тип рыцаря без страха и упрека.
Наконец асиендадо разбросал все золото, принесенное Кукаресом, приказал вслед за этим выкинуть на улицу и стол, затем запереть окна. После этого он; потирая руки, подошел и сел рядом с графом.
— Ну вот! — проговорил он радостно. — Теперь я весь к вашим услугам.
— Сначала один вопрос.
— Говорите.
— Простите меня, вы знаете, что я иностранец и в качестве такового желаю ознакомиться со многими вещами.
— Я слушаю.
— С тех пор как я живу в Мексике, я видел множество самых оригинальных обычаев. Я пресыщен совершенно неожиданными явлениями, встречами, случаями, но признаюсь, то, что я видел сейчас, превосходит все виденное мною до сих пор. Так вот, я хотел бы знать, что это, обычай, что ли, которого я еще не знаю?
— Что такое, о чем вы говорите?
— Да о том, что вы делали, когда я вошел, об этом разбрасывании полными пригоршнями золота в виде благодатного дождя на этих бандитов и бродяг всякого рода, которые собрались тут перед вашим домом. Надо сказать, слишком роскошная поливка для такой сорной травы, — вставил, наконец, граф остроту, которой сам же первый и рассмеялся.
Дон Сильва поддержал его.
— Нет, это вовсе не обычай, — отвечал он.
— Вот как! Стало быть, вы позволили себе королевскую забаву расшвыривать на ветер миллионы? Ах! Нужно быть таким Крезом, как вы, чтобы позволять себе подобные забавы.
— Нет, нет, вовсе нет, вы ошибаетесь, дорогой граф.
— Однако я сам видел целый поток золотых.
— Это верно, но то были не мои деньги.
— Вот это здорово! Теперь я уже ничего не понимаю, вы все увеличиваете мое любопытство.
— Я и удовлетворю его сейчас.
— Я весь превращаюсь в слух, так как для меня это не менее увлекательно, чем сказки из «Тысячи и одной ночи».
— Гм! — проговорил асиендадо, тряхнув головой. — Между прочим, вас это касается ближе, чем, быть может, вы предполагаете.
— Неужели?
— А вот сейчас увидите.
Донья Анита глядела на отца умоляющим взглядом, она не знала, что ей делать. Увидев, что отец хочет обо всем рассказать графу, она почувствовала, что будет не в силах сдержаться, поэтому в нерешительности, слегка пошатываясь, поднялась с места.
— Сеньоры кабальеро, — проговорила она слабым голосом, — мне нездоровится. Простите меня, но я вынуждена вас оставить.
— Действительно, донья Анита, — воскликнул граф, бросаясь к ней и подавая руку, чтобы поддержать. — Позвольте мне проводить вас до вашего будуара.
— Благодарю вас, граф, но я в силах сама дойти. Искренне благодарю вас за любезность, но позвольте мне самой…
— Как вам будет угодно, сеньорита, — промолвил граф, в душе задетый этим отказом.
Дон Сильва подумал было заставить ее остаться, но бедная девушка бросила на него такой полный мольбы взгляд, что он почувствовал себя не в силах подвергать ее дальнейшей пытке.
— Ну, ступай, ступай, — проговорил он.
Донья Анита поспешила воспользоваться этим позволением. Она бросилась вон из комнаты и прибежала в свою спальню, где упала в кресло и залилась слезами.
— Что это с доньей Анитой? — с участием спросил граф, когда она вышла.
— А-а, разные мигрени, нервы, и не знаю что еще там, — отвечал асиендадо, пожимая плечами. — Все молодые девушки таковы. Через десять минут все, глядишь, и пройдет.
— Ну, и дай Бог! А то, признаюсь, меня это беспокоит.
— Ну, теперь мы одни, может, вы не хотите, чтобы я объяснил загадку, которая, по-видимому, заинтересовала вас.
— Напротив, объясните, объясните! Со своей стороны, и у меня много важных и интересных новостей.
Глава III
ДВА СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ ЧИТАТЕЛЯ
Приблизительно в пяти милях от города Гуаймаса находится деревушка, или пуэбло, Сан-Хосе-де-Гуаймас, известная вообще под именем Ранчо [50].
Это жалкое поселение занимает незначительную площадь, крест-накрест пересекаемую двумя улицами, на которых расположены кое-как слепленные мазанки индейцев племени яки, большое число которых ежегодно отправляется в Гуаймас и нанимается на службу привратниками, плотниками, комиссионерами и так далее, а также заполняет ряды тех искателей приключений без всякого ремесла и профессии, которыми со времени открытия золотых россыпей в Калифорнии кишат берега Тихого океана.
Дорога из Гуаймаса в Сан-Хосе идет по бесплодной песчаной равнине, на которой растут только искалеченные кактусы, представляющиеся ночью одетыми в белое призраками, так как ветви их обильно покрыты пылью.
В тот день, когда начинается наш рассказ, к вечеру, по этой дороге ехал всадник, закутанный до самых глаз в сарапе. Размеренным галопом приближался он к Ранчо.
Небо темно-синего цвета было усеяно звездами; луна, поднявшаяся из-за горизонта, освещала молчаливую равнину и отбрасывала на голую землю длинные тени от фантастических кактусов.
Всадник, стремясь поскорее достичь цели своей поездки и окончить путь, далеко не безопасный в такой поздний час, непрерывно погонял своего коня и голосом, и шпорами. Последний, впрочем, почти не нуждался в таких побуждениях, так как скакал весьма добросовестно.
Всадник уже миновал бесплодную равнину и въезжал в густую заросль перуанских акаций, окружавшую Ранчо, как вдруг его лошадь шарахнулась в сторону, попятилась назад и стала бить всеми четырьмя ногами, заложив уши назад и испуская дикое храпение.
Сухой звук взводимых курков показал, что всадник был предусмотрительно вооружен пистолетами. Приготовив оружие, он стал пристально вглядываться вперед.
— Не бойтесь ничего, кабальеро, только, если это возможно, возьмите немного вправо, — раздался из темноты спокойный, располагающий к доверию голос.
Незнакомец вгляделся и увидел почти под ногами своего коня человека, который стоял на коленях и держал в руках голову лошади, лежащей поперек дороги.
— Что вы здесь делаете, черт возьми? — спросил его незнакомец.
— Вы видите, я прощаюсь с моим бедным товарищем, — отвечал с глубокой скорбью в голосе стоявший на коленях, — нужно долго прожить в пустыне, чтобы понять, что значит такой друг, как это бедное животное.
— Это правда, — заметил всадник, соскочив на землю. — Он уже издох? — прибавил он.
— Нет, еще нет, но, к сожалению, он уже потерян для меня.
И владелец издыхавшего коня вздохнул.
Первый незнакомец нагнулся к лошади, трясущейся от нервной дрожи, открыл ей глаза и внимательно посмотрел в них.
— С вашей лошадью чемер [51], — сказал он решительно через минуту, — дайте, я попытаюсь ее вылечить.
— О, вы думаете, ее можно спасти?
— Надеюсь, — лаконично ответил первый незнакомец.
— Боже мой! Если вы сделаете это, то я до конца дней своих буду вам обязан. Бедный Негро был верным другом во всех моих скитаниях.
Незнакомец смочил виски и ноздри лежавшей лошади водой с ромом. Несколько минут спустя животное как бы очнулось, мутные глаза прояснились, и оно сделало попытку встать.
— Держите ее крепче, — заговорил нежданный ветеринар.
— Ничего, ничего, я держу. Что ты, что ты, моя бедная животина, что ты, мой добрый Негро, мой дружище. Лежи, лежи спокойно, это ведь для тебя же, — заговорил владелец Негро, лаская своего друга.
Умное животное, казалось, понимало, что происходит, оно поворачивало голову к своему хозяину и издавало легкое жалобное ржание.
В это время всадник порылся у своего пояса и вновь наклонился над лошадью.
— Теперь держите ее особенно крепко! — заметил он ее владельцу.
— Что вы хотите делать?
— Я хочу пустить ей кровь.
— Да, да, все правильно, я знал об этом. К несчастью, сам я не решался пустить ему кровь, я боялся, что убью его вместо того, чтобы спасти.
— Вы готовы?
— Да, начинайте.
Животное внезапно сделало конвульсивное движение, почувствовав прикосновение холодной стали, но хозяин сжал его в своих объятиях и удержал на месте.
Оба человека с минуту с беспокойством смотрели на рану. Кровь не выходила. Наконец в углу раны показалась капля черноватой крови, затем вторая, третья, а потом полилась непрерывная струйка черной, пенистой крови и смочила пересохшую дорожную пыль.
— Лошадь спасена! — воскликнул всадник, отирая свой нож и вкладывая его в ножны.
— Я у вас в долгу и постараюсь отплатить вам, честное слово Весельчака! — с чувством проговорил владелец лошади. — Вы мне оказали услугу, которая не забывается.
И повинуясь порыву сердца, он протянул руку человеку, так кстати появившемуся на его пути. Первый незнакомец ответил на это горячее выражение чувств. Этого было вполне достаточно. Два человека, за минуту до того еще не знавшие друг друга и даже не подозревавшие о существовании один другого, стали друзьями. Их связала одна из тех услуг, которые в Америке не имеют цены.
Тем временем черная кровь мало-помалу перестала течь, струя стала алой и более обильной, прерывистое, хрипящее дыхание лошади сменилось легким и спокойным. Когда первый незнакомец нашел, что спустил крови достаточно, он закрыл ее.
— Ну, что вы думаете делать теперь?
— Право, не знаю, помощь ваша была для меня так драгоценна, что я и впредь не отказался бы воспользоваться вашими советами.
— Куда же вы направлялись, когда с вами случилось это несчастье?
— В Ранчо.
— Ну, и я еду туда же. До Ранчо всего два шага. Садитесь сзади меня на круп моей лошади, а вашу мы поведем на поводу и таким образом доберемся, если вы согласны.
— Лучшего я не желаю. Вы думаете, моя лошадь может меня не выдержать?
— Быть может, она и выдержит, так как это благородное животное, но это было бы неблагоразумно, вы рискуете совсем потерять вашего друга. Будет лучше, если вы последуете моему совету, поверьте мне.
— Да, но я боюсь…
— Чего? — живо перебил его собеседник. — Разве мы не друзья отныне?
— Это правда… Я согласен.
Больной, ослабевший конь с трудом поднялся, и два человека, встретившиеся таким удивительным образом на дороге, двинулись дальше вместе на одной лошади, как условились.
Минут через двадцать они достигли первых домов Ранчо.
При въезде в селение первый незнакомец остановил своего коня и обратился к спутнику.
— Где вас ссадить? — спросил он.
— Мне все равно, — отвечал тот, — я всегда сумею найти дорогу. Поедем сначала туда, куда нужно вам.
— Ах! — сказал, почесав затылок, первый всадник. — Что касается меня, то я, собственно, никуда не еду.
— Как, вы никуда не едете?
— Право, никуда. Вы сейчас поймете. Еще сегодня я сошел на берег в Гуаймасе. Ранчо для меня только первый этап в путешествии, которое я намерен предпринять в глубь страны и которое продолжится, вероятно, очень долго.
При свете луны, которая осветила в этот момент лицо незнакомца, его спутник с изумлением глядел несколько секунд на его благородные, задумчивые черты, на которых горе успело уже провести глубокие морщины.
— Так что всякое помещение для вас будет хорошо?
— Ночь уже отчасти прошла. Мне хотелось бы достать только кое-какой кров для себя и для лошади.
— Отлично, если вы положитесь на меня, то через десять минут будете иметь и то, и другое.
— Согласен.
— Я не могу обещать вам роскошных хором, мы пройдем в пулькерию [52], куда я и сам обыкновенно направляюсь, когда бываю в этих местах. Вам, быть может, местное общество покажется несколько пестрым, но что же делать, мы ведь в пути, к тому же, как вы говорите, ночь уже наполовину прошла.
— Ну, Бог не без милости. Вперед!
Поводья лошади взял теперь второй ездок, просунув свои руки под локти первого, и направил ее к дому, расположенному недалеко от противоположного конца той улицы, на которую они въехали. Плохо прилаженные окна этой лачуги горели в ночной темноте, как устья плавильной печи. Крики, смех, песни, визг и топот неслись из нее и показывали, что, если остальное пуэбло было погружено в глубокий сон, здесь жизнь кипела и била ключом.
Наши незнакомцы остановились перед дверью этого странного притона.
— Хорош ли ваш выбор? — спросил первый всадник второго.
— Великолепен, — ответил тот.
Тот, кто правил теперь лошадью, слез с нее и несколько раз ударил в изъеденную червями дверь.
Долго не было слышно никакого ответа. Наконец изнутри послышался хриплый голос. В то же время оргия словно по волшебству сменилась могильной тишиной.
— Кого Бог принес?
— Друзей и мирных людей! — ответил незнакомец.
— Гм! — отвечал тот же голос из-за двери. — Это не имя. А какова погода?
— Один за всех, все за одного. Кормуэль дует и сдувает рога с быков на вершине Серро-дель-Гуэрфано.
На этом странный разговор кончился, дверь немедленно отворилась, и путники вошли в нее.
Сначала они ничего не могли разобрать в густой, дымной атмосфере, наполнявшей пулькерию, и двинулись наудачу.
Провожатый первого всадника был, по-видимому, своим человеком в этом вертепе, так как хозяин и многие из посетителей немедленно его обступили.
— Сеньоры кабальеро, — сказал он, представляя своего спутника, — этот сеньор — мой друг, прошу его любить и жаловать.
— Он будет принят так же, как и ты, Весельчак, — отвечал человек, казавшийся хозяином этой норы. — Лошади ваши уже отведены в стойло, где получат по мерке альфальфы [53]. Что же касается вас, то прошу не стесняться, дом в вашем распоряжении, располагайтесь, как вам угодно.
Во время этого потока приветствий нашим незнакомцам удалось пробить себе дорогу через толпу посетителей. Они прошли через всю обширную комнату и не без труда нашли себе уголок за столом. Хозяин тотчас же выставил перед ними пульке, мескаль, чингирито, каталонское рефино [54] и херес.
— Черт возьми, сеньор трактирщик, — смеясь, воскликнул тот, кого звали Весельчаком, — ты довольно щедр сегодня.
— Разве ты не знаешь, что у меня ангелочек, — серьезно ответил хозяин.
— Как, твой сын Педрито…
— Умер! Я изо всех сил стараюсь принять сегодня гостей получше, чтобы достойно отпраздновать вступление на небо моего бедного дитяти. Оно не успело еще согрешить, но уже стоит ангелом пред Господом!
— Это правда, — сказал Весельчак, чокаясь с так мало огорченным отцом умершего малютки.
Трактирщик залпом проглотил стакан рефино и отошел.
Незнакомцы, свыкнувшись немного с окружавшей их атмосферой, огляделись кругом.
Пулькерия представляла удивительный вид.
Посередине десятка полтора личностей, производивших впечатление, что по ним давно уже плачет виселица, покрытых отрепьями, но вооруженных с головы до ног, с диким азартом играли в банк. Странная особенность, не казавшаяся, однако, таковой никому из почтенных партнеров: с правой стороны от банкомета лежал длинный кинжал, а слева — пара пистолетов. В нескольких шагах от них полупьяные мужчины и женщины танцевали и пели, сопровождая пение и танцы далеко не двусмысленными жестами, под резкие звуки двух или трех виуэл и хараны [55]. В самом чистом углу пулькерии человек тридцать расселись вокруг стола, за которым в тростниковом кресле сидело дитя лет пяти. Казалось, дитя было центром этого собрания. На нем было надето лучшее платье, на голове покоился венок из цветов, цветы массой лежали вокруг него на столе.
Но, увы! Лобик дитяти был бледен, глазки остановились, свинцовый оттенок покрывал его личико, на котором уже выступили фиолетовые пятна. Его тело закостенело, это был труп, дитя было мертво: это был ангелочек, вступление которого на небо и праздновал ныне достойный пулькеро [56].
Женщины, мужчины, дети пили и смеялись, обращаясь к бедной матери, которая употребляла героические усилия, чтобы не разрыдаться при воспоминании о своем малютке, его слишком раннем развитии, доброте и ласках, которые теперь для нее исчезли.
— Это ужасно, это отвратительно, — бормотал первый путник, будучи не в состоянии скрыть свои чувства.
— Что же делать! — отвечал другой. — Не будем больше обращать на это внимание, представим себе, что мы где-то далеко от этого сброда. Да и они, кажется, позабыли о нас. Будем разговаривать.
— Я бы очень этого хотел, но, к сожалению, нам не о чем говорить.
— Так-то оно так, но, прежде всего, нам нужно познакомиться.
— Это верно.
— Вы согласны с этим? Я покажу вам пример доверчивости и откровенности.
— Отлично! А потом будет мой черед.
Весельчак оглянулся кругом. Оргия продолжалась с новой силой. Ясно было, что на них никто не обращает внимания. Он оперся обеими локтями на стол, нагнулся к своему новому другу и начал:
— Итак, как вы уже знаете, потому что в вашем присутствии уже много раз произносили, мое имя, мой дорогой товарищ. Весельчак. Я канадец, то есть почти француз. Обстоятельства, о которых слишком долго можно говорить сейчас, но о которых я вам расскажу как-нибудь, привели меня еще очень молодым в эти края. Двадцать лет моей жизни протекли в странствованиях по прериям во всех направлениях. Нет такого ручейка, как бы мал он ни был, нет такой затерянной тропинки, которых бы я не знал. Я мог бы, если б захотел, жить спокойно, без забот, у своего старого товарища, владеющего великолепной асиендой в нескольких милях от Эрмосильо. Но жизнь лесного бродяги имеет свою прелесть, которую может понять только тот, кто это изведал. Она влечет к себе каждого против его воли. Я еще не стар, мне сорок пятый год. Мой старинный приятель, индейский вождь по имени Орлиная Голова, предложил мне сопровождать его в походе, который он намеревается предпринять в земли апачей. Я соблазнился его предложением, простился с теми, кого любил и кто тщетно пытался отговорить меня, и вот, свободный от всяких уз, без сожалений о прошлом, счастливый настоящим, без мысли о будущем, я бросился вперед, захватив с собой бесценные для охотника сокровища: твердое сердце, веселый характер, хорошее оружие и коня, привыкшего, как и его хозяин, и к хорошей, и к плохой судьбе. И вот я весь перед вами, и вы, дружище, знаете меня теперь, как будто мы с вами знакомы уже десять лет.
Его новый товарищ внимательно слушал, задумчиво глядя на смелого искателя приключений, который, улыбаясь, закончил свой рассказ. Он с любопытством рассматривал этого человека. Лицо его дышало честностью, черты были выразительны, он казался таким открытым, добрым, благородным, великодушным.
Когда Весельчак замолчал, его слушатель долго не отвечал, целиком погрузившись в какие-то глубокие думы, затем он протянул ему через стол белую, тонкую и красивую руку и ответил прочувствованным голосом на самом чистом французском языке, каким только кто-либо когда-либо говорил в этих отдаленных краях.
— Благодарю вас за доверие и откровенность, которые вы выразили мне, Весельчак. Моя история не длиннее, но печальнее вашей. Вот она в нескольких словах…
— Как! — вскрикнул, перебивая его, канадец и горячо пожал ему руку. — Так вы француз? Вот счастье!
— Да, и я горжусь этим.
— Честное слово! И как это могло случиться, — продолжал Весельчак радостно, — вот уже около часа, как мы имеем глупость ломать свой язык, разговаривая по-испански, вместо того, чтобы беседовать на родном языке. Ведь я канадец, а все канадцы — американские французы, не правда ли?
— Конечно!
— Итак, решено, ни слова больше друг с другом по-испански!
— Ни слова!
— Браво! За ваше здоровье, храбрый земляк, а теперь, — прибавил он, стукнув опорожненным стаканом о стол, — в чем ваша история? Я слушаю.
— Я расскажу вам, она не длинна.
— Это все равно. Говорите, я уверен, что она заинтересует меня.
Француз подавил вздох.
— Я также избрал жизнь лесного охотника, — начал он, — я также испытал опьяняющую прелесть этой жизни, полной постоянного возбуждения, полной потрясающих приключений, никогда не похожих одно на другое. Я бродил по бескрайним прериям далеко от здешних мест, по бесконечным девственным лесам, где до меня ни один человек не оставлял еще следа ноги своей. Меня сопровождал друг, поддерживая во мне бодрость, не давая ослабевать моей воле своей бесконечной веселостью, бескорыстной дружбой. Увы! Это было самое счастливое время в моей жизни! Я влюбился в одну женщину и женился на ней. Как только мой друг увидел меня богатым, окруженным семьей, он покинул меня. При расставании он сказал, что спокоен теперь за меня, что ему остается только предоставить мне наслаждаться счастьем, что он не нужен мне отныне. Его уход был для меня первым горем, горем безутешным, которое с каждым днем становилось все сильнее и которое ныне терзает меня, подобно угрызениям совести. Увы! Где теперь это твердое сердце, этот преданный друг, который всегда становился между мной и грозившей мне опасностью, который любил меня сильнее родного брата, к которому я чувствовал сыновнюю привязанность? Увы! Быть может, он уже умер.
Говоря это, француз опустил голову на руки и предался горьким мыслям, которые поднимались в его душе при встававших пред ним воспоминаниях.
Весельчак бросил на него задумчивый взгляд и пожал ему руку.
— Не падайте духом, друг мой, — тихо проговорил он.
— Да, — вновь начал француз, — он говорил то же самое, когда видел меня пораженного горем, когда я чувствовал, что надежда покидает меня. Не теряй бодрости, — говорил он своим мужественным голосом, положив мне на плечо руку, и я чувствовал, точно гальванический ток пробегал по мне от этого прикосновения. Я оживлялся при звуках этого милого голоса и чувствовал, что ко мне вновь приливает жажда начать борьбу, я чувствовал себя сильнее… Несколько лет прошло среди самого безмятежного счастья. Я обожал свою жену, у меня были прелестные дети, я строил в мечтах ожидавшую их счастливую судьбу. У меня было все, что желает иметь каждый человек, все, за исключением моего бедного товарища, о котором я, несмотря на все мои старания, не мог собрать никаких сведений с тех пор, как он меня покинул. Теперь мое счастье исчезло навеки: моя жена, мои дети в могиле. Сонные, они были коварно перерезаны индейцами, которые ворвались на асиенду. Один я остался в живых и бродил по дымившимся развалинам своего жилища, где протекло столько счастливых дней. Все, что я любил, погибло под развалинами, мое сердце разбито, я не хотел пережить того, что было мне дорого. Друг, единственный друг, оставшийся мне верным, спас меня. Он силой увел меня к своему племени — он был индейцем. Там он ухаживал за мной, как преданный, любящий брат, он возвратил меня к жизни и вернул, если не надежду на счастье — оно уже невозможно для меня, — то, по крайней мере, силы для борьбы с судьбой, которая нанесла мне столько жестоких ударов. Но и он вот уже несколько месяцев как умер. Прежде, чем закрыть глаза навеки, он заставил меня поклясться, что я исполню последний его завет. Я дал ему слово, и вот что он сказал мне: «Брат, каждый человек должен в своей жизни стремиться к какой-либо цели. Когда я умру, отправься на поиски друга, о котором ты так часто вспоминаешь и которого ты так давно потерял из виду. Ты найдешь его, я уверен в этом. Он укажет тебе цель в жизни». Два часа спустя отважный вождь скончался на моих руках. Как только тело его опустили в могилу, я отправился в путь. И вот теперь, как вы видите, я прибыл в Гуаймас. Я намерен теперь же без промедления отправиться в пустыню. Если мой друг еще жив, то только там могу я надеяться найти его…
Воцарилось продолжительное молчание.
Наконец заговорил Весельчак:
— Гм! Все это очень печально, дружище, ничего не могу больше прибавить сейчас, — сказал он и потряс головой. — Вы взялись за дело почти невозможное, шансов на успех у вас почти нет. Человек не больше песчинки, когда он затерян в безмерных пространствах пустыни. Кто знает, если он даже и жив, где он теперь находится? Вы будете искать его в одном месте, а он переедет в другое. Однако я намереваюсь сделать вам предложение, которое, я думаю, должно быть вам выгодно.
— Друг мой, я могу сказать, какое предложение вы хотите мне сделать, я знал его прежде, чем вы подумали о нем. Я заранее благодарю вас и принимаю его, — живо проговорил, перебивая его, француз.
— Итак, решено. Мы едем вместе в земли апачей.
— Да, — подтвердил француз.
— Слава Тебе, Господи! Ты не забыл еще обо мне. Едва я разлучился с Чистым Сердцем, как Богу было угодно, чтобы я встретил такого друга, как вы.
— Кто такой Чистое Сердце, о котором вы упомянули?
— Это друг, с которым я жил много лет и которого вы когда-нибудь узнаете. Итак, с Божьей помощью, на рассвете мы тронемся в путь.
— Когда вам угодно!
— Я назначил Орлиной Голове свидание в двух днях пути отсюда и едва ли ошибусь, если скажу, что он давно уже ждет меня.
— Но что вы будете делать в землях апачей?
— Не знаю еще. Орлиная Голова просил меня сопровождать его, вот я и еду. Обычно я не стараюсь выведать у друзей об их планах больше, чем они сами считают нужным сказать мне. Благодаря этому и они, и я чувствуем себя менее связанными.
— Совершенно верно, мой дорогой Весельчак. Но так как нам придется жить вместе, как, по крайней мере, я надеюсь…
— И я также.
— … то, — продолжал француз, — вам следовало бы узнать мои имя и фамилию, которые я до сих пор не назвал вам.
— Это все равно, я дам вам другое имя, прозвище, если вам нужно сохранить инкогнито.
— Инкогнито для меня вовсе не нужно, я — граф Луи де Пребуа-Крансе.
Весельчак вскочил с места, как бы подброшенный пружиной, снял свою меховую шапку и почтительно поклонился своему новому другу.
— Простите меня, граф, — проговорил он, — я слишком фамильярно позволил себе обращаться к вам. Если бы я знал, с кем имею честь говорить, я бы, разумеется, воздержался от этого.
— Весельчак, Весельчак, — с печальной улыбкой проговорил граф, схватив его за руку, — разве так следует начинаться нашему знакомству? Здесь двое нас, готовых вести совершенно одинаковую жизнь, подвергаться одним и тем же опасностям, встретиться с одними и теми же врагами. Так оставим же глупым жителям городов эти нелепые сословные разграничения, которые не имеют для нас никакого значения, станем друг другу братьями, открыто, честно, всей душой. Пусть я буду для вас только Луи, ваш лучший друг, а вы для меня будете Весельчаком, отважным лесным охотником.
Лицо канадца просияло от удовольствия при этих словах.
— Хорошо сказано, — радостно проговорил он, — хорошо сказано, честное слово! Я только бедный, никому не известный лесной охотник, и, честное слово, к чему мне скрываться? Что вы мне сказали, я запечатлел в своем сердце! Жив Господь небесный! Я ваш, Луи, на жизнь и на смерть и надеюсь скоро доказать вам, дружище, что я кое-что значу.
— Я в этом убежден… Но прислушайтесь, что это такое?
— Боже мой!
В эту минуту на улице раздался такой страшный шум, что заглушил даже гул в пулькерии. Как всегда случается в подобных обстоятельствах, весь сброд, находившийся в ней, как по команде умолк и стал внимательно прислушиваться. Теперь можно было ясно различить бряцание сабель, ржание лошадей, резкие щелчки выстрелов.
— Что это значит?! — воскликнул Весельчак. — Там, на улице, битва!
— Боюсь, что так, — флегматично подтвердил напившийся почти до бесчувствия пулькеро, проглатывая еще один стакан рефино.
Вдруг на дверь обрушились удары эфесом сабли и ложем пистолета, она затряслась на своих расхлябанных, непрочных петлях, и кто-то снаружи закричал громким разгневанным голосом:
— Отворите же, черт вас возьми! Или я сорву с петель эту несчастную дверь.
Глава IV
ГРАФ МАКСИМ ГАЭТАН ДЕ ЛОРАЙЛЬ
Прежде чем объяснить читателю причину адского крика и шума, внезапно потревоживших мирное времяпрепровождение людей, собравшихся в пулькерии, нам следует вернуться немного назад. Почти за три года до того времени, когда начинается наш рассказ, в Париже в одну холодную декабрьскую ночь восемь человек, принадлежавших, судя по костюму и манерам, к высшему парижскому обществу, собрались в элегантном кабинете кафе д'Англе.
Был поздний час ночи, свечи обгорели уже на две трети и тускло освещали комнату, дождь бил в стекла, печально и заунывно свистел ветер.
Восемь человек сидели вокруг стола, только что окончив великолепный ужин, и, казалось, против своей воли поддались унынию, царившему в природе. Кто, казалось, дремал, откинувшись на спинку кресла, кто, хотя и бодрствовал, по-видимому, не обращал ни малейшего внимания на происходившее вокруг.
Часы на камине медленно пробили три часа. Едва успел смолкнуть последний удар, как под окнами, выходившими на бульвар, послышалось сухое щелканье бича и звон бубенчиков почтовых лошадей.
Отворилась дверь, и на пороге появился гарсон.
— Почтовая карета, которую его сиятельство граф де Лорайль изволили требовать, готова, — доложил он.
— Спасибо, — поблагодарил его один из сидевших.
Гарсон поклонился и вышел, затворив за собой дверь.
Несколько слов, произнесенных гарсоном, словно нарушили царившее очарование, все поднялись, как бы пробудившись от сна, и сразу обратились к молодому человеку, находившемуся среди них.
— Итак, — заговорили они, — это решено? Ты едешь?
— Еду, — решительно подтвердил тот.
— Но куда ты едешь? Нельзя же покидать свою родину, своих друзей так просто — взял да поехал.
Тот, к которому обращались, печально усмехнулся.
Граф де Лорайль был красивый молодой человек с выразительными, решительными чертами лица, с. небрежной аристократической усмешкой на тонких губах. Он действительно принадлежал к кровной родовой аристократии и считался одним из самых знаменитых светских львов своего времени.
Он поднялся и окинул взглядом своих товарищей.
— Господа, — начал он, — я понимаю, что поведение мое кажется странным, и вы имеете право требовать от меня объяснений. Я же со своей стороны прошу позволить мне предложить вам эти объяснения, так как, поверьте, именно с этой целью я и созвал вас сегодня на последний вечер, который мне хотелось провести вместе с вами. Час разлуки пробил, лошади ждут, завтра утром я буду уже далеко от Парижа и через восемь дней покину Францию навсегда. Итак, слушайте меня.
Друзья слушали графа с глубочайшим вниманием и при последних его словах тесно обступили его.
— Не торопитесь, господа, — продолжал он, — рассказ мой будет краток. Я все объясню в двух словах.
Я окончательно разорился. У меня остается всего несколько билетов по тысяче франков, с которыми в Париже я могу рассчитывать только на то, что умру с голоду или через несколько месяцев должен буду пустить себе пулю в лоб. Перспектива для меня, смею вас уверить, не слишком привлекательная. Другой причиной моего отъезда является то, что я ловко управляю оружием, из-за чего, сам того не желая, приобрел репутацию дуэлянта, которая тяготит меня, особенно после этого несчастного дела с бедным виконтом Морсаном, которого я опять-таки против своей воли вынужден был убить, чтобы прекратить распускаемые им про меня оскорбительные слухи. Словом, по причинам, которые я вам высказал (и по другим, которые, я думаю, не заинтересуют вас), Франция мне опротивела до такой степени, что я жду не дождусь, когда покину ее. Теперь в последний раз наполним бокалы, и прощайте, друзья мои! Придется ли нам когда-нибудь свидеться!
— Еще одно слово! — заметил один из присутствующих, говоривший ранее. — Вы не сказали нам, граф, куда вы намерены ехать, в какие страны.
— Неужели вы не догадываетесь? В Америку, конечно. Мне все говорят, что у меня нет недостатка в смелости и сметливости, и вот я еду в страну, в которой, если верить рассказам, этих двух качеств совершенно достаточно для того, чтобы сделать состояние. Есть у вас еще что-либо, о чем вы желаете спросить меня, барон? — прибавил он.
Барон, прежде чем ответить, погрузился в глубокие размышления. Наконец он поднял голову и устремил на графа холодный, пронзительный взгляд.
— Неужели вы серьезно собираетесь уехать, мой друг?
— Совершенно серьезно.
— Поклянитесь мне в этом своей честью.
— Клянусь своей честью, что я уезжаю.
— И неужели вы решили создать себе в Америке положение, по крайней мере, равное тому, какое вы занимаете здесь?
— Да, — отвечал решительно граф, — я буду стремиться к этому всеми имеющимися в моем распоряжении средствами.
— Отлично. В свою очередь, выслушайте меня, граф, и, если вы сумеете извлечь какую-либо пользу из того, что я вам открою, быть может, с Божьей помощью, вы будете иметь успех в ваших безрассудных планах.
Все присутствующие еще теснее окружили говорящих. Сам граф, казалось, заинтересовался его словами.
Барон Спурцгейм был человек лет сорока пяти. Его манеры, резкие черты лица, взгляд, полный какого-то особенного выражения, говорили о том, что он не подходит под обычную мерку, и характеризовали его в глазах всего общества и немногих избранных его друзей как человека необыкновенного, имеющего право на особое внимание.
Говорили, что он обладает колоссальным состоянием, которое проживает по-царски, но никто понятия не имел о его прошлом, хотя он и был принят в высшем обществе.
Ходили смутные слухи, что он долго путешествовал в далеких краях, жил некоторое время в Америке. Но, как известно, нет ничего неопределеннее подобных слухов, и не они открыли перед ним двери аристократических салонов. Случилось так, что австрийский посланник несколько раз (сам не понимая, как это случилось) одалживал у него незначительные суммы денег и должен был в виде теплой благодарности ввести его в свой дом.
Из всех своих новых знакомых и собутыльников, встретившихся ему там, барон всего ближе сошелся с графом. Барон заинтересовался им и даже несколько раз, предугадывая его стесненные обстоятельства, изыскивал способы окольными путями помочь ему.
Граф де Лорайль, несмотря на свою гордость, страдавшую от этих подачек, питал к барону величайшую благодарность и, сам того не замечая, подчинился его влиянию.
— Говорите, но покороче, дорогой барон, — сказал де Лорайль, — вы видите, лошади уже ожидают меня.
Не говоря ни слова, барон позвонил. Явился гарсон.
— Отошлите лошадей и скажите, чтобы они явились снова к пяти часам утра. Ступайте.
Гарсон поклонился и вышел.
Граф не сделал ни малейшего замечания, не выразил ни малейшего протеста, хотя его изумление росло с каждым мгновением. Барон налил себе полный бокал шампанского, одним махом выпил его, сел в кресло, скрестил руки, откинулся на спинку и несколько минут молчал.
— Теперь, милостивые государи, — начал барон своим резким, насмешливым голосом, — так как наш друг де Лорайль рассказал нам свою историю и так как мы все расположены теперь к откровенности, то почему бы мне не рассказать свою? Погода ужасная, дождь льет как из ведра. Здесь нам тепло, уютно, у нас вино и сигары — две прекрасные вещи, если ими не злоупотреблять, — что ж нам теперь делать, как не посвящать друг друга в тайны нашей жизни? Правда, лучше ничего и не придумаешь! Итак, слушайте меня. Я думаю, что многих заинтересует мой рассказ, так как убежден, что некоторые до сих пор не могут составить определенного мнения обо мне.
Большинство из присутствующих разразилось смехом при этой тираде. Когда веселость утихла, барон продолжал.
— В первой части моего рассказа я буду краток, как граф. В наше время вследствие предрассудков воспитания и положения в обществе мы часто получаем от жизни суровый урок, проматывая, не зная когда и как, за несколько лет отцовские и дедовские состояния. Это случилось и со мной, как случится и с каждым из вас. Мои предки в средние века были мелкими баронами, жившими разбоями. Родство когда-нибудь да даст о себе знать. Когда мои последние источники доходов иссякли, инстинкты предков пробудились во мне, и взоры мои обратились к Америке. Менее чем за десять лет я собрал там колоссальное состояние, которое в настоящее время я имею несказанное счастье не проматывать, так как урок, полученный мною, был слишком суров, и я не желаю его повторения, а проживать в вашем милом обществе, не трогая, однако, самого капитала, а довольствуясь процентами с него.
— Но, — нетерпеливо перебил его граф, — как же удалось вам собрать колоссальное состояние, и, кстати, каковы его размеры?
— Сорок миллионов, — холодно ответил барон.
— Ого! — пробежало по собранию.
— Колоссальное состояние, это точно, но каким же образом вы его нажили? — настаивал граф.
— Если бы я не имел намерения это-то именно и сообщить вам, то, поверьте, дорогой граф, я не стал бы занимать вашего внимания теми пустяками, которые вы только что выслушали.
— Скорее к делу, мы слушаем! — раздались восклицания.
Барон обвел присутствующих холодным взглядом.
— Прежде всего, выпьем по бокалу шампанского за успех нашего друга, — заметил он саркастическим тоном.
Бокалы были наполнены, собравшиеся чокнулись и разом осушили их. Любопытство их дошло до крайних пределов.
Поставив свой бокал перед собой, барон, не торопясь, закурил сигару и обратился к графу.
— Я обращаюсь теперь именно к вам, мой друг, — начал он, — вы молоды, предприимчивы, энергичны, обладаете железным здоровьем. Для меня несомненно, что, если вы только будете живы, вас ждет впереди успех, что бы вы ни начали, какую бы цель себе не поставили. В той жизни, которую вы хотите начать, главная причина успеха (скажу даже более, единственная) — это знать в совершенстве среду, в которой вам придется действовать, и общество, в которое вам придется войти. Если бы в начале моей жизни в качестве искателя приключений я имел бы случай, подобный представляющемуся сейчас вам, встретить друга, который согласился бы посвятить меня в тайны открывающегося передо мной мира, я создал бы свое богатство пятью годами раньше. Так как для меня никто этого не сделал, то я хочу сделать это для вас. Быть может, позже вы будете благодарны мне за те сведения, которые я желаю вам сообщить и из которых вы можете уяснить, какого направления следует вам держаться в готовящемся открыться перед вами лабиринте. Прежде всего, примите за правило, что люди, с которыми вы хотите жить, ваши естественные враги. Каждый день, каждый час вы должны быть готовы выдержать суровую борьбу. Все средства должны быть хороши для вас, лишь бы они могли обеспечить вам победу. Отбросьте в сторону все правила честности, великодушия. В Америке это все пустые слова, бесполезные даже для того, чтобы провести дураков, по той причине, что никто им все равно не поверит. Единственный бог есть только в Америке, это — золото, и чтобы добыть золото, американец способен на все. При этом там нет места, как в нашей старой Европе, даже обличию честности. Все делается откровенно, прямо, без малейших околичностей, с полным бесстыдством и без всякого сожаления. Если вы это усвоите себе, то путь ваш ясен: нет такого смелого и дерзкого плана, который не сулил бы успеха в этой стране, так как средств для его выполнения бездна. Американец — человек, вполне оценивший силу сообщества. Это и есть рычаг, которым приводятся в исполнение все предприятия. Высаживаясь на американском берегу один, без друзей, без знакомых, как бы ни были вы смелы, умны, предприимчивы, вы один ничего не значите. Один, как песчинка, перед лицом всех.
— Это правда, — пробормотал граф.
— Терпение, — с усмешкой заметил барон. — Неужели же вы думаете, что я хочу пустить вас в битву без брони? Нет, нет, я вам намерен дать броню, чудную, закаленную, смею вас уверить.
Все присутствующие с изумлением слушали этого человека. Он словно вырастал на их глазах. Барон притворялся, будто не замечает производимого им впечатления, и через минуту продолжал с ударением на каждом слове, как бы тем глубже желая запечатлеть их в памяти графа.
— Запомните хорошенько каждое мое слово, все они имеют для вас огромную важность, друг мой. От этого положительно зависит успех вашего путешествия в Новый Свет.
— Говорите, ни одна буква не будет забыта мной, — перебил граф с лихорадочным нетерпением.
— Когда иностранцы начали переселяться в Америку, образовалось общество смелых людей без чести и совести, не знавшее ни милосердия, ни снисхождения, не признававшее никакого правительства, никакой национальности, так как на самом деле в нем были представители всяких национальностей. Это товарищество было основано на острове Черепахи [57], неведомой, неприступной скале, затерянной в безмерных пространствах океана. Оно управлялось правительством, чудовищным вследствие того, что основанием его владычества являлось насилие, и признавало только одно право — право сильного. Эти смельчаки составили для себя поистине драконовский устав и назвались береговыми братьями. Они разделились на две группы: буканьеров и флибустьеров.
Буканьеры бродили по девственным лесам, охотились за бизонами, флибустьеры плавали по морям и вели непрестанную войну со всеми флагами под предлогом войны с испанцами. На самом же деле они занимались только грабежом богатых в пользу бедных — единственное найденное ими средство для установления равновесия между этими двумя классами. Береговые братья набирались из подонков без рода и племени, прибывавших из Старого Света. Они стали настолько сильными, что испанцы трепетали за свои владения. Один из блестящих королей Франции не брезговал заключать с ними договоры и направлять к ним посла. Затем в силу обстоятельств, подобно всем государствам, возродившимся из анархии и не имевшим в себе жизненного, объединяющего начала, когда морские державы почувствовали в себе силу, береговые братья как-то утихли, смирились. Чтобы отделаться от них, полагали, что их требуется не победить, а разобщить. Это оказалось не так-то легко, и вы в этом сейчас убедитесь. Прошу простить меня за длинное и скучное отступление, но оно необходимо, чтобы вы поняли то, что я вам расскажу сейчас.
— Уже половина пятого, — заметил граф, — нам остается не более сорока минут.
— Этого хоть и немного, но вполне достаточно, — ответил барон. — Итак, я продолжаю. Береговые братья не были уничтожены, и их не удалось разъединить, они преобразовались, с неслыханной ловкостью приспособившись к новым требованиям и веяниям времени. Они переменили шкуру — тигры приняли личину лисиц. Общество береговых братьев стало обществом дофиеров. Вместо того, чтобы смело идти вперед, как прежде, с топором в руках и кинжалом за поясом, бросаться на абордаж неприятельского судна, они роют ныне подземные ходы. В настоящее время дофиеры — владыки Нового Света. Их нигде нет, но они вездесущи, они царят над всем, их влияние чувствуется во всех классах общества, они встречаются повсюду, но их никто нигде не может поймать. Это они отторгли Соединенные Штаты от Англии, Перу, Чили и Мексику от Испании. Могущество их тем более безгранично, что оно сокровенно, неведомо и почти никем не признается, в этом их сила. Быть непризнаваемым — вот в чем заключается сила каждого общества, считающегося тайным, к чему оно и должно стремиться. В Америке не проходит ни одной революции, ни одного движения, чтобы в них не выразилось влияние дофиеров, и не выразилось победоносно — иногда в пользу успеха движения, иногда в пользу его уничтожения. Они всемогущи, они составляют все. Вне их круга ничего нельзя предпринять даже с малейшей надеждой на успех. Итак, вот во что в силу хода вещей преобразовались менее чем за два века береговые братья — в дофиеров, в ту ось, вокруг которой вращается, даже не подозревая об этом, вся жизнь Нового Света. Достоин сожаления жребий этой чудной страны, на который она осуждена с самого своего открытия, — быть всегда в руках бандитов всякого рода, которые, по-видимому, задались единственной целью эксплуатировать ее во всех формах, не давая ей ни возможности, ни надежды на освобождение!
Последовало довольно продолжительное молчание. Каждый раздумывал о том, что ему довелось услышать. Сам барон уронил голову на руки и, по-видимому, совсем погрузился в мир образов, им же самим вызванных, в мир воспоминаний, полных скорби и горечи.
Отдаленный звук ехавшего экипажа, быстро приближавшегося, напомнил графу де Лорайлю, что тяжелая минута отъезда наступает.
— Вот мой экипаж, — проговорил он, — я еду, я не слушаю больше.
— Еще одну минуту, — продолжал барон. — Скажите последнее прости вашим друзьям и товарищам.
И, подчиняясь против воли влиянию этого удивительного человека, граф повиновался, казалось, не обратив внимания на его слова.
Он поднялся, обнял каждого из своих друзей, каждому тепло пожал руку, выслушал искренние пожелания успеха и вышел из кабинета в сопровождении барона.
Почтовая карета ожидала у крыльца кафе. Молодые друзья открыли окна кабинета и посылали отъезжавшему другу последние прощальные приветствия.
Граф бросил долгий взгляд на бульвар. Ночь была темна, дождь хотя и перестал, но по небу неслись тяжелые тучи, газовые рожки мерцали в тумане, как далекие звезды.
— Прощайте! — проговорил граф подавленным голосом. — Прощайте! Кто знает, вернусь ли я?
— Не теряйте бодрости! — раздался над его ухом суровый голос.
Молодой человек встрепенулся, рядом с ним стоял барон.
— Садитесь, мой друг, — проговорил тот, помогая ему сесть в экипаж, — я еду с вами до заставы.
Граф влез в карету и с волнением опустился на сиденье.
— На Нормандское шоссе! — крикнул барон почтальону, захлопывая дверцу.
Почтальон щелкнул бичом, карета тронулась.
— Прощайте, до свидания, — донеслись до отъезжающих голоса друзей, оставшихся в кафе д'Англе.
Долгое время барон и граф не проронили ни слова. Наконец барон начал:
— Гаэтан, — проговорил он.
— Что вам угодно? — отвечал граф.
— Я еще не окончил свой рассказ.
— Это правда, — рассеянно проговорил граф.
— Хотите, я закончу его?
— Говорите, мой друг.
— Дорогой мой, вас выдает тон вашего голоса. Ваши мысли находятся сейчас далеко отсюда. Несомненно, выдумаете о тех, кого покидаете.
— Увы! — со вздохом промолвил граф. — Я один на земле. О чем и о ком мне жалеть? У меня нет ни друзей, ни родных.
— Неблагодарный! — с упреком проговорил барон.
— Это правда. Простите меня, дорогой, я не подумал о том, что говорю.
— Я вас прощаю, но с условием, чтобы вы выслушали меня.
— Обещаю вам это.
— Друг мой, если вы хотите иметь успех, вам необходимы дружба и покровительство дофиеров, о которых я сейчас рассказывал.
— Увы! Как я добьюсь дружбы и покровительства, я, жалкий, никому не известный человек? Я содрогаюсь теперь при мыслях об этой стране, в которой я мечтал создать такое чудесное будущее. Повязка спала с глаз моих, я вижу всю безосновательность своих планов, надежда покидает меня.
— Так быстро! — воскликнул барон. — Дитя без воли, оно уже отказывается от борьбы, которой еще и не отведало! Безвольный человек, тряпка! Покровительство и дружба так вам необходимы. Если хотите, я укажу вам, как их найти.
— Вы? — воскликнул, вздрогнув, граф.
— Да, я! Неужели вы думаете, что я для одного удовольствия мучил вас два часа, играя с вами, как ягуар с ягненком, только для того, чтобы доставить себе наслаждение поглумиться? Нет, Гаэтан. Если вы так думаете, то ошибаетесь. Я вас люблю. Когда я узнал о вашем намерении, я торжествовал, вы поднялись в моих глазах. Когда сегодня вечером вы так откровенно объяснили нам ваше положение и посвятили в ваши планы, я узнал в вас себя, мое сердце затрепетало, я чувствовал себя одну минуту счастливым и решил вывести вас на путь такой широкий, великий и прекрасный, что не достигнуть успеха, идя по нему, можно только тогда, когда не желаешь его достигнуть.
— О! — твердо проговорил граф. — Пусть мне будет суждено пасть в борьбе, которая нынче ночью начинается между мной и всем человечеством. Но не бойтесь, мой друг, я паду благородно, как подобает отважному бойцу.
— Я убежден в этом. Мне теперь осталось сказать вам всего несколько слов. Я сам также был дофиером, я и теперь принадлежу к этому товариществу и, благодаря моим товарищам, я составил себе состояние. Возьмите этот бумажник, наденьте на шею эту цепочку с медальоном, а когда вы будете один, прочтите содержащиеся в бумажнике наставления и действуйте согласно им. Если вы будете в точности следовать им, то я ручаюсь за ваш успех. Вот дар, который я сохранил для вас и который я хотел отдать вам наедине.
— О, Боже мой! — в волнении воскликнул граф.
— А вот и застава, — проговорил барон, когда карета остановилась, — пора расставаться. Прощайте, друг мой, мужайтесь и не поддавайтесь унынию! Обнимите меня. Особенно не забывайте о бумажнике и медальоне.
Оба друга горячо обнялись без лишних слов. Наконец барон открыл дверь и выпрыгнул из кареты.
— Прощайте, — крикнул он в последний раз, — прощайте, Гаэтан! Прощайте же!
Почтовая карета в это время уже катилась по большой дороге.
Странная вещь, как только эти два человека расстались, оба они, словно в отчаянии, покачали головами и проговорили одно и то же слово, хотя один шел большими шагами по улице, а другой уносился в противоположную сторону на мягких подушках почтового экипажа.
Слово это было следующее:
— Может быть!
Оно показало, что, несмотря на все их усилия, они только старались обмануть себя и питали, как тот, так и другой, весьма слабую надежду на успех.
Глава V
ДОФИЕРЫ
Покинем теперь Старый Свет и перенесемся опять в Новый.
В Америке существует необычный город, не сравнимый ни с каким другим городом на земном шаре. Этот город называется Вальпараисо.
Не правда ли, какое красивое имя! Оно ласкает ухо, как припев нежной любовной песенки.
И действительно, подобно кокетливой креолке, этот городок разбросался на берегу чудной бухты, наполнил ее шумом и жизнью, задрапировался зеленью тропических садов. Три величественные горы ревниво оберегают его, купая свои розовые основания в лазурных волнах Тихого океана и закутав задумчивые вершины в тяжелые, грозные тучи, которые идут от самого мыса Горн и густыми клубами крутятся, медленно и зловеще расползаясь по крутым склонам Кордильер.
Хотя он и расположен на чилийском берегу, но в действительности он не признает никакой национальности или, лучше сказать, он признает их все, так как в нем находятся представители всех наций.
В Вальпараисо встречаются искатели приключений из многих стран, там говорят на всех языках и процветает всякая торговля. Пестрое население его состоит из удивительнейших личностей, собравшихся со всех концов света в погоне за богатством. В этой погоне заатлантическая цивилизация пробила себе торную дорожку, и влияние ее чувствуется во всех проявлениях жизни южноамериканских республик.
Вальпараисо, как почти все торговые центры Южной Америки, представляет собой странное скопление безобразных лачуг рядом с великолепными дворцами. Они занимают береговую полосу и карабкаются дальше по склонам окружающих гор.
В эпоху, к которой относится наш рассказ, улицы его были узки, грязны, сюда не проникали ни лучи солнца, ни свежий воздух, мостовые отсутствовали, всякие нечистоты из домов выбрасывались, как в помойную яму, под ноги проезжающим, и зимние ливни размачивали почву до такой степени, что для того, чтобы перебраться к соседу, живущему напротив, приходилось седлать выносливую, привычную лошадь, так как нога пешехода увязала буквально выше колена.
Вонь и миазмы в городе стояли ужасные, об ассенизации никто не помышлял, и жестокие дизентерии и лихорадки вместе со страшным бичом тропических стран — желтой лихорадкой — никогда не оставляли город своим милостивым вниманием, выхватывая из его населения обильное число жертв.
Говорят, что ныне все это изменилось, Вальпараисо принарядился и стал чище. Охотно верим этому, хотя беспечность южноамериканского населения, превосходящая даже нашу собственную, делает это маловероятным, и мы с осторожностью относимся к подобному слуху.
На одной из самых грязных и не пользовавшихся особенно хорошей репутацией улиц Вальпараисо стоял дом, который мы намерены сейчас описать.
Надо признаться, что если архитектор выказал себя особенно воздержанным в распределении украшений этого здания, то он зато широко приспособил его к разнообразным вкусам, привычкам и занятиям его будущих владельцев, через руки которых ему предстояло пройти.
Этот дом был построен из глины, смешанной с соломой, фасадом своим он выходил на Калле-де-ла-Мерсед, а задняя часть его, опираясь на столбы, немного выдавалась в море. В этом доме жил трактирщик. Вопреки традициям постройки европейских зданий, которые кверху сужаются, описываемый дом кверху расширялся, так что верхний его этаж был просторен и светел, а торговые помещения нижнего этажа страдали некоторой теснотой и отсутствием света.
Нынешний владелец ловко воспользовался этим расположением и в безмерной толще стены нижнего этажа устроил комнату, в которую попадали по очень узкой лесенке, находившейся также внутри стены.
Эта комната была построена таким образом, что малейший звук на улице долетал сюда совершенно ясно и отчетливо, тогда как внутри нее заглушались самые сильные крики, так что уже в соседнем помещении ничего не было слышно.
Почтенный трактирщик, владелец этого дома, знался с самым разношерстным сбродом: контрабандистами, бродягами, шулерами и прочими людьми, ремесло которых привлекало иногда внимание чилийской полиции. Ввиду последнего обстоятельства окно, выходящее на море, столб, вбитый около него, и шлюпка, привязанная к кольцу в столбе, всегда готовы были дать последнее, крайнее убежище, на тот случай, если бы любопытство полицейского агента дошло до того, что угрожало бы проникнуть во все закоулки этой берлоги.
Этот дом назывался и, конечно, называется и до сих пор, если только землетрясение или пожар не уничтожили его, локанда дель-Соль.
На железном листе, висевшем на улице перед домом, неизвестным художником была изображена красная физиономия, окруженная оранжевыми лучами и долженствовавшая представлять солнце и объяснять название трактира, приведенного выше. [58]
Сеньор Бенито Сарсуэла, хозяин локанды дель-Соль, был сухопарый, худой детина с угловатым лицом и подозрительным взглядом. Он представлял помесь арауканской, негритянской и испанской крови и соединял в себе недостатки и пороки трех рас: красной, черной и белой, ни у одной из них не позаимствовав ничего положительного. Под видом содержания скромного трактира он обделывал еще десяток других дел и делишек, из которых самое невинное, если бы оно было открыто, привело бы его к пожизненному заключению в острог.
Спустя приблизительно два месяца после событий, рассказанных в предыдущей главе, около одиннадцати часов вечера, холодного и туманного, сеньор Бенито Сарсуэла сидел за своей конторкой, печально созерцая пустую залу своего заведения.
Снаружи ветер звенел вывеской, изображавшей солнце. Черные облака грозно ползли с юга, прорываясь по временам разрушительными ливнями на уже достаточно намокшую землю.
— Ну вот, — вполголоса проговорил наконец трактирщик, — еще один день оканчивается так же дурно, как другие. Милосердный Боже! — прибавил он с выражением глубокой покорности воле Божьей. — Вот уже несколько дней, как нет мне никакой удачи. Если это продолжится еще неделю, я разорен.
Действительно, вот уже почти месяц в силу каких-то необъяснимых обстоятельств локанда дель-Соль ни разу не видела в своих стенах обычного оживления, и ее удрученный владелец терялся и догадках, чему следует приписать такое затишье.
В обширной зале не слышалось более чоканья стаканов, шумных разговоров и звона разбитой посуды, которую в пылу своих споров разгорячившиеся посетители нещадно колотили, лихо бросая на пол.
Печальный пример превратности всего земного: полное до краев быстро сменяется безнадежно пустым.
Можно было бы подумать, что чума заглянула в этот дом. Наполненные бутылки стояли правильными рядами на полках, но в течение дня заходили всего два-три посетителя, осушавших по стакану писко [59] и тут же спешивших расплатиться и удалиться, несмотря на всю любезность хозяина, старавшегося их удержать, порасспросить о новостях и развлечь свою скуку.
Произнеся приведенные выше слова, достойный Бенито небрежно поднялся и в самом скверном расположении духа приготовился запереть трактир, дабы сэкономить хотя бы на освещении, как вдруг вошел посетитель, за ним другой, третий, потом их стало шесть, десять, а потом хозяин и счет потерял.
Все посетители были закутаны в широкие плащи. Надвинутые на глаза широкополые шляпы совершенно не позволяли разглядеть их лица.
В зале стало тесно от странных посетителей. Все они пили, курили, но не проронили между собой ни единого слова. Все столы были заняты, но в локанде царили столь глубокое молчание и тишина, какие можно ожидать только в церкви. Можно было различить шум дождя на улице и шлепанье лошадиных ног, с трудом пробиравшихся по неимоверной грязи.
Трактирщик, приятно удивленный таким неожиданным оборотом, едва успевал исполнять требования гостей. Но тут возникло обстоятельство, которого он далеко не ожидал. Хотя, как говорит испанская пословица, деньги считать никогда не устанешь, а пословицы составляют народную мудрость, но в данном случае дон Бенито пришел, в конце концов, в смущение. Очевидно, его заведение было избрано местом сборища какой-то неизвестной партии. Не прерывавшийся поток посетителей, как море во время прилива, наводнил большую залу, затем малую, соседнюю, потом проник на верхние этажи и заполонил их.
Часы пробили одиннадцать. В локанде собралось более двухсот человек.
Дон Бенито с характерной для него проницательностью сообразил, что готовится что-то необычайное и что дом его избран местом действия неизвестного спектакля.
Неожиданно он почувствовал прилив ужаса. Он схватился за голову и в отчаянии никак не мог придумать средства избавиться от мрачных, молчаливых гостей.
Наконец у него блеснула мысль, он поднялся с решительным видом и направился к выходной двери, словно желая ее запереть.
Посетители продолжали оставаться немы как рыбы, ни один из них даже не пошевелился, они как будто ничего не видели. Дон Бенито чувствовал, что холодеет от ужаса.
В это время ему на помощь неожиданно явился серено — ночной сторож, проходивший мимо и кричавший:
— Ave Maria purissima! Las once hondado у llueve! [60]
Это был знак, что пора запирать торговые помещения и гасить огни. Фраза эта была произнесена нараспев с такими жалобными интонациями, что они должны были бы растопить даже каменное сердце, однако на застывших посетителей локанды не произвели ни малейшего впечатления.
Ужас заставил сеньора Сарсуэлу сделать сверхъестественное усилие, и он попытался вступить в переговоры со своими настойчивыми посетителями. Он вышел на середину залы, напустил на себя самый беззаботный вид, подбоченился, поднял голову и начал так:
— Сеньоры кабальеро! — Но, несмотря на все его усилия, в голосе его слышались дрожащие ноты. — Уже одиннадцать часов, постановлением полиции запрещено производить торговлю позднее этого часа, поэтому не угодно ли вам немедленно очистить мое заведение, дабы я его запер.
Этот призыв, на который он возлагал столько надежд, произвел совершенно противоположное действие.
Неизвестные крепко ударили своими стаканами о столы и сразу все вместе закричали:
— Вина!
Трактирщик даже подпрыгнул, пораженный этим ревом.
— Однако, — попытался он снова, — полицейские постановления, кабальерос, говорят ясно. Уже одиннадцать часов и…
Но ему не пришлось договорить. Рев возобновился еще сильнее, посетители заорали, и в нижней зале пронеслось подобно громовому раскату:
— Вина!
Тогда в душе трактирщика произошла весьма понятная реакция. Вообразив, что посетители желают принести вред лично ему и что здесь задеты его интересы, он сразу из труса превратился в скрягу, с отчаянием готового защищать то, что ему всего дороже, — свое добро.
— А-а! — закричал он в исступлении. — Так вот вы как! Отлично, посмотрим, правда ли я не хозяин в своем доме. Я пойду позову алькальда!
Эта угроза в устах почтенного Сарсуэлы показалась настолько забавной, что все собрание с замечательным единодушием разразилось гомерическим хохотом. Гнев трактирщика при этом превратился в бурное бешенство. Наклонив голову, как бык, он ринулся к дверям среди несмолкаемых взрывов хохота, свиста и улюлюканья.
Но едва только он занес ногу за порог своего дома, как вновь входивший посетитель бесцеремонно взял его за руки и отбросил назад в залу, надменно и насмешливо проговорив:
— Какая муха укусила вас, хозяин? Вы с ума сошли, выходить в такое время из дома с непокрытой головой?! Вы же схватите плеврит!
И пока хозяин локанды, запуганный и смущенный этим толчком, старался удержаться на ногах и привести в порядок свои мысли, неизвестный без всякого стеснения, словно у себя дома, приказал закрыть окна ставнями и запереть дверь на замок и задвижку. Первое было исполнено несколькими посетителями, а второе самим Бенито с его обычным старанием и тщательностью.
— Ну, теперь поговорим, земляк, если хочешь, — обратился вновь вошедший к опешившему хозяину. — Ах, да ты не узнаешь меня, что ли? — прибавил он, снимая шляпу и обнажая свою красивую голову и умное лицо, на котором в это время блистала насмешливая улыбка.
— О! Сеньор дон Гаэтан, — проговорил Сарсуэла, которому это посещение не обещало ничего хорошего, а посему он едва смог скрыть ужасную гримасу.
— Ну, тише, ни слова, — проговорил вновь вошедший. — Иди сюда.
И он жестом пригласил трактирщика в отдаленный угол и там спросил его шепотом на ухо:
— Есть у тебя кто-нибудь посторонний?
— Вон, посмотрите, — с жалостливой миной указал он на толпу ранее ввалившихся посетителей, которые продолжали невозмутимо пить вино, — эта орава чертей с полчаса тому назад набилась в мое заведение. Пьют они здорово, но рожи у них больно подозрительны и не внушают особого доверия честному человеку.
— Ну, их тебе нечего бояться, речь не о них. Я спрашиваю, нет ли у тебя посторонних гостей. Что касается этих, то ты, должно быть, знаешь их не хуже меня.
— Внизу и наверху у меня сидят только эти кабальерос, которых, вы думаете, я знаю. Может быть, но так как они очень уж низко опустили свои шляпы, то я вижу только кончики их носов и никого не могу узнать.
— Ты глуп, любезный. Эти люди, которые так интересуют тебя, — дофиеры.
— Неужели? — воскликнул изумленный хозяин. — Так зачем же они закрывают свои лица?
— Вероятно, потому, дорогой Сарсуэла, что им вовсе не требуется, чтобы их видели.
И засмеявшись прямо в лицо застывшему в изумлении хозяину локанды, незнакомец сделал знак, и два человека поднялись с места.
Они бросились к Сарсуэле и, прежде чем он мог что-либо сообразить, связали его так, что он не мог шевельнуть ни одним членом.
— Не бойся, ничего дурного тебе не сделают, — продолжал дон Гаэтано. — Нам нужно побеседовать кое о чем без свидетелей, а так как ты по природе своей немного болтун, то мы и принимаем свои меры, вот и все. Но будь спокоен, немного погодя ты будешь совершенно свободен. Ну вы, скорее поворачивайтесь, забирайте его, положите на постель и заприте на два замка. До свидания, дорогой хозяин, особенно рекомендую не волноваться и не выходить из себя.
Приказание было в точности исполнено. Бедный Сарсуэла был связан, в рот ему засунули тряпку, взвалили его на плечи, отнесли в спальню, бережно положили на постель и заперли. Сарсуэла не оказывал ни малейшего сопротивления.
Оставим теперь хозяина локанды предаваться своим далеко не веселым мыслям и вернемся к остальным посетителям: они для нас гораздо интереснее, чем дон Сарсуэла.
Дофиеры, как только хозяин локанды был унесен, немедленно отодвинули к стенам столы и таким образом освободили середину залы. Здесь они установили рядами скамейки, на которые и уселись.
Локанда дель-Соль за несколько минут превратилась в некоторое подобие зала общественных заседаний.
Последний из вошедших в локанду, очевидно, играл роль главного. После удаления хозяина он снял свой плащ, дал знак замолчать и начал на прекрасном французском языке чистым звучным голосом:
— Братья, благодарю вас за вашу аккуратность.
Дофиеры поклонились в ответ.
— Господа, — продолжал он, — мы приближаемся к нашей цели. Скоро, я надеюсь, у нас появится возможность, мы выйдем из подполья, в котором мы до сих пор таимся, и займем на свете Божьем то место, на которое мы по праву можем рассчитывать. Америка замечательная страна, в ней каждый может найти удовлетворение своим желаниям и стремлениям. Я, как обещал пятнадцать дней тому назад, когда имел честь в первый раз собрать вас, отдал необходимые распоряжения. Все они были выполнены успешно. Вы сами, братья, назначили меня стать во главе мексиканского движения. Благодарю вас за эту честь, братья. Мне уже предоставлен участок в три тысячи акров в Верхней Соноре, близ Гетцали. Первый шаг сделан. Де Лавилль, мое доверенное лицо, отправился вчера в Мексику, чтобы принять во владение уступленную нам землю. У меня есть к вам просьба. Вы все, собравшиеся здесь, — или европейцы, или североамериканцы, — меня поймете. Мы, дофиеры, преемники береговых братьев, уже достаточно долго являемся как бы безучастными зрителями тех событий, которые совершаются в американских республиках, свидетелями внезапных переворотов и открытых революций в старых испанских колониях. Пришел час принять прямое участие в кипящей вокруг нас борьбе. Мне требуется полтораста преданных людей. Гетцали послужит нам отправной точкой. Я расскажу, чего ожидаю от тех, кто пойдет за мной, но пусть они стараются достигнуть поставленной цели. Предприятие, в котором я, быть может, даже погибну, задумано в наших общих интересах; если я буду иметь успех, каждый из участников получит огромные выгоды и займет блестящее положение. Вы знаете, кто ввел меня в ваше общество, ваше доверие к нему безгранично, знак, который я показал вам, доказывает, что он вполне доверяет мне. Угодно ли вам доверять мне так же, как доверял мне он? Без этого я ничего не могу предпринять. Жду вашего ответа.
Он замолчал.
Присутствующие после этого начали оживленно между собой переговариваться, не повышая, однако, чрезмерно голоса. Это продолжалось довольно долго. Наконец восстановилось молчание. Один из присутствующих поднялся:
— Граф Гаэтан де Лорайль, — начал он, — наши братья уполномочили меня говорить от их имени. В наше общество вы были введены человеком, которому мы верим безусловно. Ваш образ действий, по-видимому, вполне оправдывает такую рекомендацию. Полтораста человек, которых вы требуете, к вашим услугам и пойдут за вами, куда бы вы их ни повели. Они уверены, что, помогая вам в ваших начинаниях, они тем самым куют и свое счастье. Я, Диего Леон, прошу поставить меня первым в списки тех, кто последует за вами.
— И меня!.. И меня!.. И меня!.. — наперебой стали предлагать себя дофиеры.
Граф поднял руку, воцарилось молчание.
— Братья, благодарю вас, — вновь начал он. — В Вальпараисо останется главная штаб-квартира нашего общества, в Вальпараисо же я наберу решительных людей, которые мне скоро понадобятся. А теперь мне нужно только сто пятьдесят человек. Если мои планы осуществятся, кто знает, что еще ожидает нас в будущем? Я сам своей рукой подписал условия, которые будут в точности выполнены как мною, так и вами, я в этом не сомневаюсь. Прочтите и подпишите сами, через два дня я отправляюсь в Тальку, но не далее как через шесть недель я соберу здесь тех, кто хочет идти со мной, и самым подробным образом сообщу о своих планах.
— Капитан де Лорайль, — отвечал Диего Леон, — вы говорите, что вам нужно только сто пятьдесят человек. Выбирайте — все хотят идти с вами.
— Спасибо еще раз, мои храбрые товарищи. Поверьте мне, однако, каждому придет свой черед, и дела хватит на всех. Я задумал грандиозное мероприятие, достойное вас. Делать выбор, значит, возбуждать ревность среди одинаково достойных людей. Диего Леон, поручаю вам тянуть по жребию имена тех, кто будет участвовать в первой экспедиции.
— Будет исполнено, — отвечал Диего Леон, старый ефрейтор спаги [61], методичный и хладнокровный, сохранивший до сих пор привычку к суровой дисциплине.
— Теперь, друзья мои, еще одно слово. Помните, что в течение трех месяцев я вас буду ждать в Гетцали, а там, с Божьей помощью, счастливая звезда дофиеров выведет нас! Выпьем теперь, братья, за успех нашего предприятия.
— Выпьем! — отвечали с жаром преемники береговых братьев.
И вот вино потекло рекой.
Всю ночь длилась оргия и к утру приняла гигантские размеры. Граф де Лорайль, благодаря чудному талисману, который вручил ему при расставании барон, тотчас по прибытии в Америку очутился во главе шайки решительных, ни перед чем не останавливающихся людей, и, как человек умный, он чувствовал, что с их помощью может совершить немаловажные дела.
Спустя два месяца после описанного собрания граф и его сто пятьдесят сподвижников собрались в колонии Гетцали, прекрасном имении, которое, благодаря действию неких тайных сил, удалось получить графу де Лорайлю.
На удивление самому себе граф чувствовал себя счастливым. Все ему удавалось: планы, самые, по-видимому, безумные, были блестяще выполнены, его колония процветала, и мексиканское правительство только радовалось этому.
Граф со свойственным ему тактом и глубоким знанием света заставил замолчать завистников. Он завел известный круг друзей и влиятельные знакомства, которыми пользовался во многих обстоятельствах, умело прибегая к их помощи.
Можно представить себе, что было сделано им за такой малый промежуток времени — менее трех лет. В тот момент, когда граф предстает перед читателем, он почти достиг цели своих постоянных и страстных желаний. Действительно, он решил создать себе почетное положение в обществе, женившись на дочери дона Сильвы де Торреса, одного из наиболее богатых асиендадос Соноры, и благодаря влиянию своего будущего тестя ему удалось получить патент на чин капитана отряда охотников, который должен был оттеснить от границ Мексиканской республики апачей и команчей, беспокоивших своими набегами приграничные округа. Отряд этот граф имел право набрать из одних европейцев, если ему будет это более удобным.
Возвратимся теперь в дом дона Сильвы де Торреса, который мы покинули почти в то самое время, когда в него вошел граф де Лорайль.
Глава VI
ЧЕРЕЗ ОКНО
Когда молодая девушка покидала гостиную, удаляясь в свой будуар, граф де Лорайль проводил ее долгим взглядом с выражением полного недоумения относительно поведения своей невесты, особенно теперь, когда недалека была уже свадьба, которая должна будет соединить их навеки. Но подумав несколько секунд, он тряхнул головой как бы для того, чтобы отогнать печальные мысли, которые лезли в голову, и обратился к своему будущему тестю.
— Поговорим о делах, если это вам удобно, — начал он.
— У вас разве есть что-либо новое сообщить мне?
— Много нового.
— Интересного?
— А вот увидите.
— Посмотрим. Я сгораю от нетерпения.
— Начнем по порядку. Вы знаете, почему я покинул Гетцали?
— Достаточно хорошо. Итак, значит, вы добились успеха?
— Как я и ожидал. Благодаря некоторым письмам, которые у меня были, и особенно благодаря вашей благосклонной рекомендации генерал Маркос был очень любезен со мной. Он дал мне полную свободу действий, позволив набрать не только сто пятьдесят человек, но даже вдвое больше, если понадобится.
— Ого! Это отлично, это великолепно!
— Не правда ли? Кроме того, он прямо сказал мне, что в такой войне, какая нам предстоит, а охота за апачами — это настоящая война, он находит необходимым предоставить мне полную свободу действий, заранее утверждая своей властью все, что я найду необходимым и полезным предпринять, так как убежден, что это предпринимается для славы и в интересах Мексики.
— Великолепно! Я просто счастлив. Но в чем состоят теперь ваши намерения?
— Я решил первым делом от вас направиться в Гетцали, в котором я не был уже около трех недель. Мне нужно посетить колонию, чтобы убедиться, все ли в ней в порядке и счастливо ли живут мои колонисты. Но прежде, чем я уведу с собой большую часть сил, которыми я располагаю, необходимо возвести вокруг колонии кое-какие земляные укрепления, чтобы остающиеся могли отразить внезапное нападение индейцев. Это тем более важно, что Гетцали в любом случае останется моей штаб-квартирой.
— Это верно. И когда вы отправляетесь?
— Сегодня же ночью.
— Так скоро?
— Что же делать… Вы сами знаете, что времени у нас в обрез.
— Действительно. У вас есть еще новости?
— Простите меня, но у меня есть вопрос, который я специально оставил напоследок.
— Вы считаете, следовательно, что он имеет особенный интерес?
— Громадный.
— Ого! Так я вас слушаю, мой друг. Говорите скорее.
— Со времени моего прибытия в ваши края, в то время, когда дела, которые я, благодарение Богу, довожу ныне до благополучного конца, находились еще в состоянии прожектов, вы были так добры, сеньор Сильва, предоставив в мое распоряжение не только ваше влияние, которое громадно, но и ваше богатство, которое бессчетно и безмерно.
— Это правда, — с улыбкой отвечал мексиканец.
— Я широко воспользовался вашим предложением, часто прибегал к заимствованиям из вашего кошелька и пользовался при всяком удобном случае вашим влиянием. Позвольте же мне теперь вернуть вам часть моего долга, которую я в состоянии уплатить, причем заранее признаюсь, что я не могу уплатить вам другую часть. Вот, — прибавил он, вынув из кармана бумагу, — чек на сто тысяч пиастров, уплачиваемый по предъявлении мексиканскими банкирами Уолтер, Блоунт и К. Я счастлив, поверьте мне, дон Сильва, что могу так быстро с благодарностью возвратить взятую у вас сумму, не потому, что…
— Позвольте, — с живостью прервал его асиендадо, жестом отстраняя протянутую ему бумагу, — мы, кажется, не понимаем друг друга.
— Как так?
— Я вам сейчас объясню. Прибыв в Гуаймас, вы представили мне, граф, письмо от человека, с которым я, правда, не был связан слишком тесными узами, но которому я многим обязан и с которым мы в течение нескольких лет были в дружеских, искренних отношениях. Барон Спурцгейм рекомендовал вас скорее как любимого сына, чем друга, в котором он принимает участие. И вот перед вами сразу открылись двери моего дома. Я считал себя обязанным сделать это. Затем, когда я узнал вас и мог оценить ваш высокий ум и открытый, благородный характер, наши отношения, сперва не переходившие границ делового знакомства, стали более тесными, теплыми, близкими, я предложил вам руку моей дочери, и вы согласились.
— Я считаю это за счастье! — горячо перебил граф.
— Отлично, — воскликнул асиендадо, смеясь. — Деньги, которые я мог бы получить с постороннего, деньги, которые принадлежат мне по праву, могут свободно остаться у моего зятя. Разорвите этот чек, прошу вас, дорогой граф, и не будем говорить о таких пустяках.
— Да! — грустно возразил на слова дона Сильвы граф. — Вот это-то сильно и смущает меня. Я еще не ваш зять, и, признаюсь, боюсь, что никогда не буду им.
— А кто вам дал повод думать так? Разве вам недостаточно моего слова? Слово дона Сильвы де Торреса, граф де Лорайль, есть гарантия, в которой никто не смеет усомниться.
— Я также нисколько не сомневаюсь в нем и говорю не о вас.
— А о ком же?
— О донье Аните.
— О моей дочери?
— Да.
— Ого! Друг мой, объяснитесь, а то, признаюсь, я ничего не понимаю, — воскликнул дон Сильва, поднялся и принялся, как он всегда делал, когда был взволнован, мерить комнату шагами.
— Боже мой! Я в отчаянии от того, как она относится ко мне. Я люблю донью Аниту. Любовь, вы знаете, ослепляет. Хотя она и считается уже моей невестой, мила и любезна со мной, но, признаюсь, мне кажется, что она не любит меня.
— Гаэтан! Вы сошли с ума! Молодые девушки сами не знают, кого они любят. Не обращайте внимания на ее ребяческие выходки. Я вам ручаюсь, что она будет вашей женой.
— Однако, если она любит другого, то я не желал бы…
— Вот еще! Ну, оставим. Это все глупости. Анита никою не любит, кроме вас, я убежден в этом. Хотите убедиться в этом немедленно? Вы сегодня ночью, говорите, выезжаете в Гетцали?
— Да, сегодня ночью.
— Великолепно! Прикажите приготовить для моей дочери и для меня комнаты на вашей асиенде. Через несколько дней мы будем у вас.
— Возможно ли это?! — радостно воскликнул граф.
— Завтра на рассвете мы выезжаем. Итак, спешите.
— О-о! Тысячу раз благодарю вас.
— Ну вот! Теперь вы убедились?
— Я самый счастливый из смертных.
— Тем лучше.
Оба они еще перебросились несколькими словами и разошлись, вновь обещав друг другу скоро увидеться.
Дон Сильва, привыкнув деспотически распоряжаться в своем доме, не позволял никому вмешиваться и нарушать его волю. Он велел служанке передать своей дочери, чтобы она была готова, потому что на следующее утро с восходом солнца они отправятся в довольно далекое путешествие. Он не допускал даже и мысли о возможности неповиновения.
Это известие как громом поразило молодую девушку.
Уничтоженная, она опустилась в кресло и залилась слезами. Она видела, что это путешествие служило лишь предлогом, чтобы разлучить ее с тем, кого она любила, и отдать ее, беззащитную, в руки того человека, которого она боялась и который считался ее женихом и будущим мужем.
Бедная девушка просидела так несколько часов. За эти часы она совершенно обессилила, осунулась, отчаянию ее не было предела. Об отдыхе она и не думала, сон не шел, чтобы сомкнуть веки, опухшие от слез. Она чувствовала приступы лихорадки.
Мало-помалу город затихал, все вокруг засыпало, а тот, кто еще не уснул, искал приюта где-нибудь под гостеприимным кровом. Дом дона Сильвы стоял погруженный в полный мрак, только слабый свет горел в окнах комнаты доньи Аниты, показывая, что она не спит.
В это время на стене противоположного дома обрисовались робко и боязливо крадущиеся тени. Двое мужчин, закутанные в широкие плащи, остановились и жадно уставились на окна доньи Аниты. Эта жадность взгляда выдавала в них или воров, или влюбленных.
Двое мужчин принадлежали, очевидно, к последним.
— Гм! — проговорил один тихим голосом. — И ты уверен в том, что ты сказал, Кукарес?
— Как в своем вечном спасении, сеньор Марсиаль, — отвечал вечно веселый Кукарес, — проклятый англичанин вошел как раз в то время, когда я был в доме. Дон Сильва, кажется, в самых лучших отношениях с этим еретиком.
Надо заметить, кстати, что для мексиканцев все иностранцы — англичане, к какой бы нации они не принадлежали, и, следовательно, еретики [62]. Так было в недавнем прошлом, так, вероятно, осталось и до сих пор. Поэтому все иностранцы принадлежали к числу людей, которых можно было без малейших сомнений убивать, и это считалось не преступлением или грехом, а даже подвигом.
В оправдание мексиканцев следует добавить, что всякий раз, как представлялся случай, они избивали англичан с рвением, которое показывало их крайнее благочестие.
Дон Марсиаль угрюмо произнес:
— Честное слово, уже два раза этот человек становился на моем пути, и я щадил его. Но пусть он остережется сделать это в третий раз.
— О! — отвечал Кукарес. — Достоуважаемый брат Беччико говорит, что можно получить отпущение многих грехов, если отсечь англичанина [63]. Мне еще не случалось встретить ни одного, хотя на моей совести уже восемь смертей. Я ужасно желаю прибавить к этому списку еще и англичанина, это было бы очень выгодной штукой.
— Ну, потерпи немного, если хочешь, чтобы у тебя на плечах сидела твоя голова. Человек этот принадлежит мне.
— Хорошо, не будем больше говорить об этом, — отвечал верный спутник дона Марсиаля, подавляя вздох, — я оставлю его вам. Все равно красавица, кажется, от всего сердца чувствует к нему отвращение, в этом я уверен, и вам нечего беспокоиться.
— Есть ли у тебя доказательства того, что ты говоришь?
— Какое же еще доказательство лучше того, что она уходит всегда, как он появляется, и лицо ее без всякой видимой причины покрывается бледностью?
— О, я отдал бы тысячу унций, лишь бы узнать, как мне следует поступить!
— Кто же вам мешает? Все спят, никто вас не увидит, окна не очень высоко, не более пятнадцати футов. Я уверен, что донья Анита с радостью поговорит с вами.
— О! Если бы я был уверен в этом! — в нерешительности пробормотал Марсиаль, исподтишка бросая взгляд на все еще освещенное окно.
— Кто знает! Быть может, она ждет вас.
— Замолчи, несчастный!
— Зачем же молчать? А вы слушайте, когда говорят правду. Бедная девушка, должно быть, чувствует себя глубоко несчастной. Вероятно, ей нужна помощь.
— Кто сказал тебе это? Ну, я слушаю тебя, говори дальше, да покороче.
— Вещь очень простая: через восемь дней донья Анита де Торрес выйдет замуж за англичанина дона Гаэтана.
— Ты лжешь, негодяй! — вскричал Марсиаль, едва сдерживая гнев. — Смотри, что-то подталкивает меня всадить тебе в горло кинжал, чтобы оттуда больше не выходили такие гнусные слова, как те, что ты сейчас произнес.
— Напрасно, — спокойно и невозмутимо отвечал Кукарес, — я лишь повторяю то, что слышал, и ничего не прибавляю. Один только вы во всем Гуаймасе не знаете этой новости. Да и нет ничего удивительного в этом, так как сегодня вы в городе первый день, целый месяц вас не было.
— Это правда, но что же делать?
— Очень просто! Последовать моему совету.
Тигреро долго смотрел в окно и наконец в нерешительности, снедаемый глубокой внутренней борьбой, опустил голову.
— Что скажет она, увидев меня? — произнес он, говоря как бы сам с собой.
— Карамба! — отвечал леперо с саркастической улыбкой. — Она скажет: «Добро пожаловать, мой милый, мой дорогой». Это так же ясно и верно, как наше вечное спасение. Дон Марсиаль, неужели вы превратились в робкое дитя, которое дрожит от взгляда женщины? Счастье имеет всего три волоска и в любви, и на войне, и когда оно приближается к вам, надо суметь схватиться за один из них. Если же пропустишь удобный случай, то другой может и не представиться.
Мексиканец приблизился к леперо, положил ему на плечо руку и заглянул в его кошачьи глаза.
— Кукарес, я верю тебе, — проговорил он глухим голосом. — Ты меня знаешь, я выручал тебя не раз. Если ты меня обманешь, я убью тебя, как шакала.
Тигреро произнес эти слова с выражением, в котором слышалась такая глухая ярость, что даже видавший виды леперо побледнел и против воли задрожал всем телом, так как он хорошо знал человека, который говорил с ним.
— Я предан вам всей душой, дон Марсиаль. — ответил он голосом, которому напрасно старался придать твердость. — Что бы ни случилось, рассчитывайте на меня. Что надо сделать?
— Ничего. Ждать, не спать и при малейшем подозрительном шуме, при появлении малейшей подозрительной тени предупредить меня.
— Положитесь на меня. Ступайте, делайте свое дело. Я глух и нем и во время вашего отсутствия не сомкну глаз.
— Отлично, благодарю! — отвечал Тигреро.
Он выступил на несколько шагов вперед, снял реату, обернутую вокруг пояса, и сжал ее в правой руке. Затем он поднял глаза, смерил расстояние, с силой покрутил ее над своей головой и пустил на балкон, выходивший из комнаты доньи Аниты.
Петля закинулась за крюк, и реата крепко прицепилась к балкону.
— Помни же! — проговорил Тигреро, обернувшись к Кукаресу.
— Ступайте, — сказал тот, прислонившись к стене и закинув ногу за ногу. — Беру все на себя.
Мексиканец удовольствовался этим — или, по крайней мере, сделал вид, что удовольствовался. Он ухватился за реату и сделал громадный прыжок, как те пантеры, за которыми ему часто приходилось охотиться в пустыне, перехватил ее два раза и через несколько секунд был уже на балконе.
Затем он приблизился к окну.
Донья Анита спала в кресле, откинувшись на спинку.
Она казалось бледной и расстроенной, веки ее опухли от слез. Ее все-таки одолел сон, никогда не теряющий своей власти над молодым организмом. На ее бледных с голубыми жилками, словно мраморных, щеках еще свежа была полоса от скатившейся недавно слезинки. Марсиаль с нежностью глядел на ту, которую любил, не осмеливаясь войти и побеспокоить ее. Во время сна девушка показалась ему еще прекраснее. Казалось, ее окружал ореол девственности и чистоты, будто ангел порхал над ней и охранял ее святой покой.
Тигреро долго и с наслаждением любовался ею. Наконец он решился войти.
Стеклянная дверь была не заперта, а только затворена и отворилась от легкого толчка дона Марсиаля. Он сделал шаг и очутился внутри комнаты.
При виде этой комнаты и молодой девушки, такой чистой, такой спокойной, Тигреро почувствовал, что его охватывает религиозный ужас, сердце билось, как будто хотело выскочить из груди. Все еще колеблясь, обезумев от любви и волнения, он подошел и опустился перед доньей Анитой на колени.
Она открыла глаза.
— О-о! — вскричала она, увидев дона Марсиаля. — Да будет благословен Господь! Он посылает вас на помощь.
Тигреро смотрел на нее глазами, влажными от слез, грудь его трепетно и порывисто вздымалась.
Но вдруг девушка поспешно встала, к ней вернулось сознание и вместе с ним чувство стыдливости и робости, присущее каждой женщине.
— Уходите! — воскликнула она вдруг, отступая в глубину комнаты. — Уходите, кабальеро. Как вы сюда попали? Кто провел вас ко мне? Отвечайте, отвечайте же.
Тигреро покорно склонил голову.
— Бог, — невнятно проговорил он. — Бог один провел меня к вам, сеньорита, вы сами сказали это! О! Простите меня, что я осмелился так неожиданно обеспокоить вас. Я совершил великое преступление, я знаю это, но вам угрожает беда, я почувствовал, я предугадал это. Вы одни, без помощи, не имеете поддержки, и я пришел сказать вам, сеньорита, я грешен, я недостоин служить вам, но я был бы счастлив умереть за вас! Во имя Бога, во имя того, что вы любите и чтите больше всего в мире, не отталкивайте моей любви! Мои руки, мое сердце — все принадлежит вам, располагайте ими.
Слова эти молодой человек произнес дрожащим голосом, стоя на коленях посреди комнаты. Руки его были сложены с мольбой, и взгляд не отрывался от доньи Аниты. Вся душа его, казалось, хотела излиться в этом взгляде.
Дочь асиендадо остановила на молодом человеке ясный взгляд и, не сводя с него глаз, против своей воли подошла к нему мелкими шагами, все еще колеблясь и дрожа. Подойдя к нему, она с минуту пребывала в нерешительности. Наконец она положила ему на плечи свои маленькие ручки и настолько приблизила свое милое лицо к его лицу, что Тигреро почувствовал на своем лбу ее дыхание, а ее длинные черные косы нежно щекотали ему щеки.
— Итак, вы любите меня, дон Марсиаль? — проговорила она своим красивым голосом.
— О! — только и мог проговорить обезумевший от счастья дон Марсиаль.
Мексиканка еще ближе приблизила к нему свое лицо, и ее губы коснулись его влажного лба.
— А теперь, — воскликнула она, отскочив назад легким, изящным прыжком, как вспугнутая лань, тогда как лицо ее залилось румянцем от того усилия, которое она сделала над собой, чтобы победить свою стыдливость, — а теперь защитите меня, дон Марсиаль, так как перед Богом, который видит нас и судит, я ваша жена!
Тигреро выпрямился, словно обожженный этим поцелуем. Лицо его сияло, глаза блестели, он схватил руки любимой девушки и повел ее в угол комнаты, где находилась статуя Божьей Матери, перед которой теплилась лампадка с благовонным маслом.
— На колени, сеньорита, — проговорил он торжественным голосом и сам опустился на колени.
Донья Анита повиновалась.
— Пресвятая Богородица, — начал дон Марсиаль, — Утешительница всех скорбящих, Ты знаешь сердца наши, Ты видишь чистоту помыслов наших и чистоту любви нашей. Перед Тобою я называю женой своей донью Аниту де Торрес. Клянусь защищать ее и охранять против всех и всего, хотя бы мне суждено было лишиться жизни в борьбе, которую я ныне начинаю за счастье той, которую люблю и которая отныне есть моя нареченная невеста.
Произнеся эти слова твердым, решительным голосом, Тигреро обернулся к молодой девушке:
— Теперь вы, сеньорита, — сказал он.
Молодая девушка с жаром сложила руки и, подняв к святому изображению свои полные слез глаза, начала произносить прерывающимся от волнения голосом:
— Матерь Божья, Утешительница, защита моя с первых дней моего рождения, Ты знаешь, люблю ли я Тебя. Я клянусь, что все, что говорил этот человек, правда. Пред Тобою я называю его своим мужем, и другого у меня не будет.
Они поднялись.
Донья Анита повела Тигреро на балкон.
— Идите, — сказала она. — На жену дона Марсиаля не должно упасть ни малейшего подозрения. Идите, муж мой, брат мой. Человека, за которого хотят меня выдать замуж, зовут граф де Лорайль. Завтра на рассвете мы отправляемся в путь, вероятно, для того, чтобы где-нибудь встретиться с ним.
— А он?
— Он, должно быть, уехал сегодня ночью.
— Куда он поехал?
— Я не знаю.
— Я убью его, честное слово.
— До свидания, дон Марсиаль, до свидания.
— До свидания, донья Анита, не бойтесь ничего, я жизнь отдам за вас.
И, запечатлев целомудренный поцелуй на лбу своей невесты, он подошел к балюстраде балкона, схватился за реату и соскользнул по ней вниз.
Донья Анита скинула петлю с крюка, нагнулась и следила за Тигреро, пока могла различить его стройную фигуру в темноте ночи, затем вошла в свою комнату и заперла окна и дверь.
— Боже мой! Боже мой! — подавляя рыдания, заговорила она. — Что я наделала! Пресвятая Дева, Ты одна можешь дать мне силы пережить все это!
Она задернула занавеси на окнах, обернулась и вновь опустилась на колени перед статуей Богородицы. Но вдруг она выпрямилась и испустила крик ужаса.
В двух шагах от нее стоял дон Сильва де Торрес. Брови его нахмурились, и лицо было сурово.
— Дочь моя, — начал он медленным размеренным голосом, в котором слышалось едва сдерживаемое, клокотавшее в его груди волнение, — я все видел и все слышал. Не волнуйся, прошу тебя, отпирательство ни к чему не приведет.
— Отец мой!.. — могла только выговорить прервавшимся голосом дочь.
— Молчать! — крикнул он. — Теперь три часа утра. Мы едем с рассветом. Приготовься через две недели стать супругой дона Гаэтана де Лорайля.
И не удостоив дочь более ни одним словом, он тяжелыми шагами вышел из комнаты, тщательно заперев за собой дверь.
Оставшись одна, донья Анита наклонилась всем телом вперед, будто желая прислушаться к чему-то, обвела затем вокруг себя бессмысленным взором, сделала по комнате несколько нерешительных шагов, нервным жестом подняла руки к горлу, почувствовав, что ее словно душит что-то, испустила раздирающий душу крик и упала на пол лицом вниз.
Она лежала в глубоком обмороке.
Глава VII
ДУЭЛЬ
Было около восьми часов вечера, когда граф де Лорайль вышел из дома дона Сильвы де Торреса. Ярмарка была в полном разгаре, улицы Гуаймаса были заполнены веселой, живой толпой, крики, песни, смех раздавались отовсюду, кучи золота на столах в игорных домах блестели заманчивым блеском при ярком свете многочисленных ламп. Лихие песни, визг и топот вырывались из пулькерий, заполненных народом. Граф и сам толкал кого-то, пробираясь через толпу, и его толкали, но то, что он услышал от дона Сильвы, привело его в такое радостное настроение, что он совсем не обращал внимания на такие мелочи.
Наконец, преодолев страшные трудности и затратив на это время втрое больше обыкновенного, он достиг дома, в котором остановился.
Ему понадобилось около двух часов, чтобы пройти около шестисот ярдов.
Войдя к себе, граф в первую очередь навестил кораль, в котором находилась его лошадь. Он сам дал ей две меры альфальфы, затем, приказав разбудить себя около часу пополуночи, если бы он к этому времени еще не проснулся, он удалился в свою комнату, чтобы отдохнуть в течение нескольких часов.
Граф намеревался выехать около часа ночи, чтобы избежать дневной жары и ехать спокойнее.
Кроме того, после долгого разговора с доном Сильвой знатный искатель приключений чувствовал потребность побыть одному, чтобы восстановить в памяти все, что случилось с ним за день приятного и счастливого.
С тех пор как граф де Лорайль высадился в Америке, его сопровождало всюду, как он сам любил выражаться, чисто дурацкое счастье. Все ему удавалось, все желания его исполнялись. А произошло с ним вот что. Через несколько месяцев после прибытия ему удалось основать колонию, которая в настоящее время находилась на пути к процветанию. Сохранив свое подданство, а следовательно, и свободу действий, в смысле поддержки тех или иных политических стремлений он поступил на службу к мексиканскому правительству, получил чин капитана и стоял во главе отряда в сто пятьдесят беззаветно преданных ему людей, с которыми он мог, пожелай он того, отважиться на самые безумные предприятия. Наконец, ему предстояла женитьба на дочери человека, который оказался так богат, что до сих пор он не мог еще сам определить размеров его состояния, и, хотя это не относилось к делу, невеста его была удивительно прекрасна.
К счастью или к несчастью, смотря по тому, какой точки зрения угодно будет придерживаться читателю, чтобы судить о нашем герое, он был настолько пресыщен и испорчен излишествами парижской жизни, что сердце его уже давно отвыкло биться под наплывом радости, горя или даже страха. Несмотря на молодые годы, все омертвело в его душе.
Тем не менее он оказался хорошо приспособленным к существованию в стране, куда его забросила судьба. В этой борьбе за жизнь, которая началась для него здесь, он имел огромное преимущество перед своими противниками, состоявшее в том, что страсть, давно уже умершая в нем, никогда не руководила его действиями, и потому он с замечательным хладнокровием обходил западни, которые расставлялись перед ним, и делал это так, как будто ничего особенного он даже и не замечал.
После всего сказанного едва ли нужно говорить, что он вовсе не любил девушку, на которой собирался жениться. Она была молода и хороша собой. Тем лучше. Но если бы даже она была стара и безобразна, то и тогда он также предложил бы ей руку. Какое ему дело до своей жены? В женитьбе он ищет одного только блестящего положения, которому бы завидовали другие.
Словом, у графа де Лорайля все было взвешено и рассчитано.
Было бы, однако, ошибкой утверждать, что у графа де Лорайля не было слабых сторон. Он был крайне самолюбив.
Эта страсть, быть может, наиболее сильная из всех, которые Провидение создало для испытания человеческого существа, была единственной точкой, в которой граф еще соприкасался с человечеством.
Самолюбие его достигло такой степени, особенно в последние месяцы, приняло такие гигантские размеры, что не было такой вещи, которой бы он не пожертвовал в угоду ему.
Но к чему, собственно, стремился этот человек? О чем мечтал он? Позднее перед читателем это откроется во всех подробностях.
Граф лежал, завернувшись в свой сарапе и растянувшись на ложе из звериных шкур, которые во всей Мексике заменяли постели. Других, по крайней мере, мексиканцы не знали.
Он спал, но с той чуткостью, которая знакома людям, находящимся в походе, на войне, когда каждая минута рассчитана, и если засыпаешь с намерением встать в такой-то час, то в этот час обязательно проснешься. В периоды душевного подъема некоторая часть человеческого организма остается всегда бодрствующей.
В час ночи, подкрепив свои силы живительным сном, граф, как и предполагал, встал, зажег себо — мексиканскую восковую свечку, привел себя в порядок, тщательно осмотрел свои пистолеты и карабин, убедился, что его сабля легко и свободно выходит из ножен. Окончив приготовления, необходимые каждому заботящемуся о безопасности путешественнику в этих странах, он отпер дверь комнаты и направился к коралю.
Лошадь его с удовольствием дожевала остатки своей порции альфальфы. Граф задал ей мерку овса, которая вызвала у нее легкое ржание. Через некоторое время он оседлал ее.
В Мексике в описываемое время ни один всадник, к какому бы классу общества он ни принадлежал, не решился бы доверить заботу о своем коне другому. В этих полудиких краях спасение и надежда часто зависели от лошади.
Ворота в мексиканских гостиницах, или, лучше сказать, постоялых дворах, на одном из которых остановился граф, только затворялись, но не запирались, чтобы путешественники могли спокойно въезжать или выезжать, никого не беспокоя. Граф выехал, закурил сигару и поехал по знакомой уже читателю дороге из Гуаймаса в Ранчо.
Ничто по своей прелести не может сравниться с путешествием по мексиканским пустыням ночью. Земля, освеженная ночным ветром, орошенная обильной росой, испускает острый, живительный аромат. Тело становится бодрее и крепче, мысли яснее.
Луна, уже клонившаяся к закату, отбрасывала непомерно длинные тени от редких встречавшихся по дороге деревьев, и они казались в ее слабеющем красноватом свете рассеянной толпой чудовищных призраков.
Небо темно-синего цвета горело бесчисленным количеством звезд, между которыми чудным блеском сиял Южный Крест, которому индейцы дали название Порон, то есть Чайка. Ветер мягко шелестел засыхающей травой и ветвями деревьев. Мексиканская голубая сова издавала время от времени мелодичные крики, иногда их заглушали доносившиеся откуда-то издалека, из глубины пустыни, унылый вой кугуара, резкое мяуканье пантеры и дикой кошки или заливистый лай шакалов, стаей гнавшихся за добычей.
При выезде из Гуаймаса граф дал было шпоры своему коню, но против воли, очарованный величием и поэзией теплой осенней ночи, незаметно с галопа перешел сначала на крупный шаг, а потом и на тихий. Он отдался наплыву мыслей, роем поднявшихся в его голове, и погрузился в сладкие мечты.
Потомок старинной и гордой франкской фамилии здесь, затерянный среди пустыни, восстанавливал в воображении минувший блеск своего имени, давно уже потускневшего и затерявшегося в толпе безродных выскочек. Сердце его наполнялось радостью и гордостью при мысли, что ему, быть может, суждено восстановить блеск имени своих предков и их огромное богатство, остатки которого до сих пор он умел только расточать.
Земля, которую он попирал, должна была возвратить ему во сто крат больше того, что он так безумно промотал. Теперь настал момент, когда, свободный от всяких пут, он мог осуществить эти планы, которые уже давно роились в его голове.
Он целиком перенесся в область мечтаний и совершенно перестал обращать внимание на то, что происходило вокруг.
Звезды начали гаснуть на небе. На востоке белой полосой обозначилась заря, и в ней появились красные тона. В воздухе стало холоднее. Граф, пробужденный от своих мечтаний ощущением холода и сырости от обильно выпавшей росы, плотнее завернулся в свой сарапе и опять пустил лошадь галопом, бросив взгляд на небо и воскликнув:
— О-о! Я достигну этого во что бы то ни стало.
Гордый вызов, ответа на который он словно ждал от неба!
Хотя день уже почти наступил, но ночной мрак в борьбе со светом сгустился, и, как это всегда бывает, стало темнее. Однако через несколько минут сумерки стали проясняться, и появилось солнце.
Первые дома пуэбло Сан-Хосе обрисовались белыми силуэтами. Они словно плавали в густом тумане совсем близко. Вдруг граф услышал позади себя топот по каменистой дороге нескольких лошадей, скакавших друг за другом.
В Америке встреча ночью на пустынной дороге со всадником в девяноста случаях из ста означает опасность.
Граф остановился и насторожился. Топот приближался.
Он был храбр и не однажды доказывал это. Тем менее он мог подозревать, что ему суждено быть убитым из-за угла, на дороге, бесславно сгинуть в гнусной засаде.
Он оглянулся вокруг, чтобы определить, насколько возможно для него спасение на тот случай, если бы приближающиеся оказались врагами.
Перед ним расстилалась голая равнина. Ни кустика, ни ложбинки, ни пригорочка, за которым можно было бы укрыться.
В двухстах шагах начинались первые дома селения. Граф моментально принял решение. Он изо всех сил пришпорил коня и помчался по направлению к Сан-Хосе.
Ему показалось, что всадники последовали его примеру и также ускорили галоп своих лошадей.
Так прошло несколько минут. Всадники приближались. Графу стало ясно, что они гнались за ним.
Он оглянулся назад. Два силуэта обрисовывались вдали и быстро приближались. Кони их неслись как бешеные.
Между тем он уже въехал на улицу. Близость жилья придала ему твердости, ему показалось глупым бежать от опасности, быть может, всего лишь воображаемой. Круто повернув лошадь, он остановился посередине улицы, держа в обеих руках по пистолету, и стал ждать.
Незнакомые всадники подъезжали тем же быстрым аллюром, не сдерживая хода лошадей. Наконец они очутились в двадцати шагах от графа.
— Кто едет, откликнитесь! — крикнул он громко и твердо.
Неизвестные всадники не отвечали и только помчались скорее.
— Откликнитесь же, кто едет! — повторил граф. — Стойте, или я стреляю! — добавил он.
Последние слова он произнес так решительно, вся фигура его дышала такой отвагой, что после нескольких секунд заминки всадники остановились.
Их было двое.
Начинавшийся день позволил их ясно разглядеть: они были в мексиканских костюмах. Но, что удивительно для этих стран, где в подобных обстоятельствах разбойники оставляют обычно лица открытыми, лица незнакомцев были замаскированы.
— Милостивые государи, — крикнул граф, — что означает это упорное преследование?
— Вероятно, то, что мы хотим поскорее догнать вас, — с сарказмом ответил глухой голос.
— Так вы, значит, меня желали догнать?
— Да, если только вы тот иностранец, которого зовут графом де Лорайлем.
— Да, я граф де Лорайль, — без колебаний ответил граф.
— Хорошо, так мы желаем сказать вам пару слов.
— Говорите, хотя ваши манеры заставляют меня думать, что вы просто разбойники. Если, впрочем, дело идет о моем кошельке, то вот он, возьмите его и оставьте меня в покое, мне некогда.
— Оставьте ваш кошелек у себя, кабальеро. Нам нужна ваша жизнь, а не кошелек.
— Ага! Так это убийство?
— Ошибаетесь, вам предлагают честный бой.
— Гм! — проговорил граф. — Честный бой, двое против одного! Силы не совсем равны, мне кажется.
— Вы были бы правы, — надменно ответил тот, который говорил и раньше, — если бы это было действительно так, но мой спутник не примет участия, он ограничится ролью зрителя.
Граф подумал.
— Право, — сказал он наконец, — случай этот слишком странен! Дуэль в Мексике и с мексиканцем! Этого я никак не ожидал.
— Это верно, кабальеро, но надо быть готовым ко всему, мало ли что может случиться.
— Оставим пустые разговоры. Хорошо, я согласен драться и надеюсь доказать вам, что я человек решительный. Но прежде, чем окончательно принять ваш вызов, я желал бы знать, почему вы хотите непременно драться со мной?
— Зачем это вам?
— Как зачем? Мне это чрезвычайно интересно, pardieu! Не могу же я подставлять голову всякому шалопаю, который может встретиться мне в пути и которому взбредет в башку драться со мной.
— Не достаточно ли вам будет знать, что я вас ненавижу!
— Parbleu! Едва ли я могу удовлетвориться этим, тем более что вы предпочитаете держать свое лицо закрытым. Я желаю хотя бы видеть его.
— Довольно разговоров, — надменно прервал его незнакомец, — время идет, мы и так разговариваем слишком долго.
— Ну что ж, если так, то берегитесь! Предупреждаю, что я вызываю вас обоих. Француз нисколько не будет смущен, если увидит перед собой двух мексиканских бандитов.
— Ну, как хотите.
— Вперед!
— Вперед!
Три всадника пришпорили своих коней и рванулись с места. Съехавшись, они обменялись выстрелами из пистолетов и схватились за сабли.
Борьба была непродолжительна, но жестока. Один из неизвестных, получив легкую рану, был унесен своим конем и исчез в облаке пыли. Граф был задет пулей. Гнев его перешел в ярость. Он всеми силами старался уложить своего противника или сделать его, по крайней мере, неспособным к бою. Оказалось, однако, что этот противник был чрезвычайно силен, обладал необычайной ловкостью и ни в чем не уступал графу.
Этот человек с глазами, как уголья, горевшими сквозь прорези в маске, ездил вокруг него с необычайной быстротой, заставляя своего коня делать самые смелые вольты, колол противника, наносил удары и с невероятной ловкостью увертывался от ответных.
Граф чувствовал, что ничего не может поделать с таким неутомимым врагом, движения его потеряли уверенность, глаза застилал туман, на лбу выступил крупный пот. А противник все усиливал быстроту и стремительность натиска. Он сохранял полное молчание, и графу начинало казаться, что в этом таинственном нападении есть что-то дьявольское. Исход битвы, печальный для графа, неумолимо приближался, но вдруг он почувствовал, что на плечи его упала петля, и не успев освободиться от нее, он сразу был выбит из седла и так сильно упал наземь, что лишился сознания и не мог сделать ни малейшего движения.
Второй незнакомец, проехав некоторое расстояние бешеным галопом, сумел в конце концов справиться с лошадью. Во всю прыть вернулся он к месту битвы. Ни его товарищ, ни граф, увлеченные борьбой, не заметили его приближения. Решив, что настал момент положить конец битве, он достал реату и набросил ее на графа.
Увидев своего противника на земле, незнакомец соскочил с коня и подбежал к нему.
Первым делом он освободил графа от стягивавшей его петли, затем стал растирать ему грудь, стараясь восстановить дыхание. Это продолжалось недолго.
— А-а! — проговорил граф, открыв глаза, и губы его сложились в горькую улыбку. Он поднялся и скрестил руки на груди. — Вот что вы называли честным боем?
— Вы сами были причиной того, что случилось, — невозмутимо отвечал незнакомец, — так как вы не согласились принять моих условий.
Француз не нашел нужным продолжать спор, он только пожал плечами с видом крайнего презрения.
— Ваша жизнь в моих руках, — продолжал его противник.
— Да, вы устроили мне гнусную засаду, но что делать! Убейте меня, и покончим с этим.
— Я не хочу убивать вас.
— Что же хотите вы?
— Сообщить вам одну вещь.
— Мне?
— Вам.
Граф расхохотался.
— Вы, должно быть, сумасшедший, милейший.
— Вовсе нет. Выслушайте внимательно, что я вам скажу.
— Если при этом я могу надеяться, что, исполнив ваше требование, я избавлюсь от вашего присутствия, то говорите.
— Хорошо. Сеньор граф де Лорайль, ваше прибытие в эту страну причинило горе двум лицам, — с мексиканским акцентом проговорил незнакомец.
— Вы смеетесь надо мной, что ли?
— Я говорю серьезно. Дон Сильва де Торрес предложил вам руку своей дочери?
— Что за дело вам до этого?
— Отвечайте на вопрос.
— Да, это правда, скрывать не буду.
— Донья Анита не любит вас.
— Откуда вам это известно? — спросил граф с вызывающей насмешкой.
— Я знаю это. Я знаю также, что она любит другого.
— Вы это знаете?
— Да, а также то, что и этот другой ее любит.
— Тем хуже для него, так как, клянусь, я не уступлю ее никому.
— Вы ошибаетесь, сеньор граф, — опять со своим акцентом возразил мексиканец, — вы или уступите ее, или умрете.
— Ни то ни другое! — закричал в исступлении граф, оправившись от полученного им удара. — Повторяю вам, что я женюсь на донье Аните. Если она меня не любит — в чем я сомневаюсь, однако, — пусть так. Это очень грустно. Надеюсь, что со временем она изменит свое отношение ко мне. Этот брак мне кажется подходящим, ничто не может заставить меня отказаться от него.
Незнакомец слушал его в состоянии крайнего возбуждения, его глаза метали молнии, он яростно ударял ногой в землю. Тем не менее он сделал над собой усилие и отвечал медленно и твердо:
— Помните, кабальеро, что вы делаете. Я дал себе слово предупредить вас и предупреждаю открыто и честно! О, если бы Бог вразумил вас, если бы слова мои нашли отклик в вашем сердце и вы им последовали!.. Как только мы вновь еще раз сойдемся, один из нас двоих умрет.
— Будьте спокойны, я буду впредь осторожен. Только предупреждаю вас, что вы напрасно упускаете случай убить меня, другого такого вам не представится.
Оба всадника вскочили на лошадей.
— Граф де Лорайль, — прибавил говоривший доселе незнакомец, наклоняясь к графу, — в последний раз говорю вам, берегитесь, я имею громадное преимущество перед вами: я знаю вас, а вы меня не знаете. Мне всегда, как только я захочу этого, легче найти вас! Мы потомки индейцев и испанцев; мы глубоко ненавидим и не забываем врагов наших! Берегитесь!
Слова свои незнакомец закончил ироническим поклоном графу, захохотал, вонзил шпоры в коня и исчез с головокружительной быстротой, сопровождаемый своим молчаливым спутником.
Граф следил за ними задумчивым взглядом. Когда они исчезли в предрассветных сумерках, он тряхнул несколько раз головой как бы для того, чтобы отогнать мрачные мысли, поднял свою саблю и пистолеты, которые лежали на земле, взял под уздцы лошадь и медленными шагами направился к пулькерии, вблизи которой происходила борьба.
Свет, струившийся из щелей между досками двери, песни и смех, раздававшиеся внутри, дали ему повод думать, что он найдет в этом доме временное убежище.
— Гм! — рассуждал он сам с собой. — Этот бандит говорил правду, он знает меня, а я не могу найти его. Слава Богу! Вот и настоящая, неподдельная ненависть ко мне! Ба-а! — прибавил он после некоторого раздумья. — Что за важность! я чувствую себя очень счастливым, мне как раз не хватало врага! Честное слово, этот молодец подоспел очень кстати. Но если бы даже сам ад ополчился на меня, клянусь, и это не заставило бы меня отказаться от руки доньи Аниты.
В это время он подошел к дверям пулькерии и постучался.
Нетерпеливый по своему характеру и к тому же опечаленный постигшей его неудачей и выдержанной им борьбой, граф готовился уже совсем привести в исполнение свою угрозу — сорвать дверь с петель, как вдруг она отворилась.
— Чтоб вам всем провалиться к черту! — закричал он с крайним раздражением. — Вы позволяете убивать людей перед вашими дверьми и пальцем не шевельнете, чтобы прийти к ним на помощь!
— Ого! — воскликнул вдруг заволновавшийся содержатель пулькерии. — Разве кого-нибудь убили?
— Слава Богу, никого, но я был сейчас на волосок от смерти.
— О! — небрежно ответил пулькеро. — Если на всякий крик о помощи выскакивать ночью на улицу, то это надо совсем ночей не спать, а кроме того, это и опасно — еще ввяжешься в какое-нибудь подсудное дело.
Граф надменно пожал плечами и вошел в дом, ведя за собой лошадь. Дверь тотчас же затворилась.
Граф де Лорайль не знал мексиканского обычая, что тот, кто находил труп или возбуждал дело против убийцы в качестве частного обвинителя, нес на себе и все судебные издержки, которые были довольно велики, иск же ни в коем случае не мог, разумеется, принести ни малейшей пользы убитому.
Во всех мексиканских провинциях все были так глубоко убеждены в истине того, что мы сейчас сказали, что все свидетели убийства обыкновенно разбегались, не думая об оказании какой-либо помощи жертве. В случае, если смерть медлила прийти, чтобы прекратить страдания раненого и изувеченного, он испытывал самые жестокие муки, не надеясь, что кто-либо решится облегчить их. Горе сострадательному прохожему, который помог бы ему, а раненый на его руках умер!
В Соноре поступают еще бесчеловечнее: как только начинается драка с оружием и человек падает, все двери наглухо запираются.
Глава VIII
ОТЪЕЗД
Как объявил дон Сильва де Торрес, что они поедут с рассветом солнца, так оно и вышло.
В Мексике, а особенно в Соноре, где дорог нет совершенно, способ путешествовать не похож на тот, к которому мы привыкли в Европе.
В Мексике нет ни почтовых экипажей, ни станций. Единственный способ передвижения — путешествие верхом.
Путешествие, которое может продлиться всего несколько дней, вызывает массу сборов и хлопот. Необходимо все везти с собой, так как в дороге раздобыть ничего нельзя. Постели, палатки, провизия и даже вода, особенно вода, должны быть запасены для путешествия и размещены во вьюках на мулах. Если отнестись легкомысленно к подобному путешествию, то надо быть готовым спать на голой земле, рискуя в то же время умереть от голода и жажды.
Кроме того, следует иметь при себе достаточно сильный конвой, хорошо вооруженный, для защиты от диких зверей, индейцев и в особенности от грабителей, которыми кишат все мексиканские дороги из-за господствующей в этой несчастной стране анархии.
Поэтому вполне понятно желание дона Сильвы пораньше выбраться из города, чтобы засветло отъехать подальше.
Патио его дома уподобился в это раннее утро постоялому двору. Пятнадцать навьюченных мулов стояли, ожидая отправления. Готовили паланкин, в котором должна была ехать донья Анита.
Сорок оседланных лошадей были привязаны к кольцам в стене дома. Пеон держал под уздцы великолепного жеребца, предназначенного для дона Сильвы. Он ржал, бил копытом, раздувал ноздри и нетерпеливо грыз серебряную уздечку.
Во дворе стоял гул от криков, смеха, ржания.
На улице собралась толпа, в гуще которой стояли и Кукарес с доном Марсиалем, вернувшиеся из своей поездки в Ранчо. Люди с недоумением смотрели, не понимая, какая причина заставила дона Сильву предпринять путешествие в такое раннее время года, когда жить в сельской местности так неудобно.
Отовсюду доносились замечания и предположения относительно цели такого странного путешествия.
Среди собравшихся, привлеченных любопытством, находился один, очевидно, индеец, который, небрежно прислонившись к стене противоположного дома, не спускал глаз с дверей дома дона Сильвы и внимательно следил за всеми действиями его многочисленной прислуги.
Этот человек, еще очень молодой, был похож на индейца племени яки, но внимательный наблюдатель мог заметить иное. Широкий лоб, блестящие глаза, которые он, очевидно, нарочно сейчас щурил, надменный рот, какое-то изящество сильных, мускулистых, словно из бронзы изваянных членов, что-то смелое, решительное, независимое во всей фигуре заинтересовавшего нас человека говорили, что он скорее принадлежит к гордым команчам или свирепым апачам, чем к глупым яки. Но в настоящую минуту в толпе никто и не думал заниматься индейцем, да и сам он старался не привлекать к себе внимания.
Яки обыкновенно приходили в Гуаймас наниматься в качестве пеонов и прислуги, так что присутствие индейца не заключало в себе ничего необычного.
Наконец в восемь часов дон Сильва де Торрес появился в дверях своего жилища, ведя под руку свою дочь, одетую в изящный дорожный костюм.
Донья Анита была бледна, как лилия. Она казалась сильно уставшей; красные глаза говорили о душевных муках, которые она пережила за ночь. Она делала страшные усилия, чтобы не разрыдаться здесь, на глазах у всех.
При виде ее дон Марсиаль и Кукарес обменялись быстрым взглядом, в то время как по губам индейца, о котором мы говорили выше, скользнула чуть заметная неопределенная улыбка.
При появлении асиендадо воцарилась полная тишина. Погонщики кинулись по своим местам к порученным им мулам, конные, вооруженные с головы до ног, вскочили в седла, и дон Сильва, окинув все внимательным взглядом и убедившись, что все исполнено согласно его приказаниям, усадил дочь в паланкин, где она тотчас же закуталась в широкий ребосо, словно птичка свернулась в гнездышке.
По знаку дона Сильвы мулы, привязанные задний к хвосту переднего, начали выступать из ворот за первым, который вел их, побрякивая бубенчиками. По бокам шли погонщики.
Прежде чем сесть на лошадь, дон Сильва обратился к старому слуге, который почтительно стоял перед ним, держа в руках соломенную шляпу:
— Прощай, ньо [64] Пелучо, — сказал он, — я доверяю тебе дом. Смотри за ним, береги все, что есть там. Я оставляю тебе в помощь Педрито и Флоренсио, они в твоем распоряжении. Смотри, чтобы все было без меня в порядке.
— Будь спокоен, дорогой мой, — отвечал старый слуга своему господину, выросшему на его руках, — слава Богу, не в первый раз оставляешь ты меня здесь одного, я уверен, что и на этот раз справлюсь.
— Правда, правда, ты предан мне, ньо Пелучо, — улыбаясь ответил дон Сильва, — тебя можно только похвалить. Я совершенно спокойно оставляю все на тебя.
— Да хранит тебя Бог, дорогой мой, а также и Аниту, — добавил старик, перекрестившись.
— До свидания, ньо Пелучо, — ответила на пожелание старого слуги и донья Анита, высунувшись из паланкина, — я знаю, ты сбережешь все, что я люблю.
Старик, радостно бормоча что-то, наклонил голову.
Дон Сильва дал знак к отправлению, и весь караван зашевелился и тронулся по направлению к пуэбло Сан-Хосе.
Утро было чудное, одно из тех, которые бывают только в этих благодатных местах. Ночной ветер очистил воздух, небо стояло над головами безоблачное, матово-синее, солнце поднялось уже высоко и лило на землю свои теплые лучи, просеивавшиеся через ароматную мглу, поднимавшуюся с земли. Воздух был напоен горьким, жгучим запахом, ветерок время от времени освежал его; через дорогу то и дело перелетали ярко окрашенные птички. Мулы шли за бубенчиками нены мадрины — кобылицы, шедшей во главе каравана. Погонщики затянули песню.
Караван спокойно выступал по песчаной равнине, поднимая за собой облака пыли, длинной змеей извивался по бесчисленным поворотам наезженной дороги. Авангард из десятка всадников рыскал впереди, осматривая каждый кустик и пригорок. Дои Сильва курил сигару и перекидывался с дочерью словами. Караван замыкали двадцать испытанных вооруженных всадников, обеспечивая полную безопасность.
Мы уже говорили, что в этой стране, где власть правительственных агентов бессильна, и потому никакого надзора не существует, путешествие в пять-шесть миль — а пуэбло Сан-Хосе отстояло от Гуаймаса именно на такое расстояние — представлялось очень серьезным и требовало особых мер предосторожности. В любой момент мог показаться неприятель, с которым, может быть, придется вступить в борьбу, будь то индейские шайки или дикие звери. И те и другие были слишком многочисленны, отважны, кровожадны и быстры, так что довериться одной только быстроте лошади было, по меньшей мере, неразумно.
Уже отъехали довольно далеко от Гуаймаса. Его белые дома остались далеко за легкими, чуть заметными отлогими неровностями почвы. Капатас [65] в это время покинул свое место во главе каравана и подскакал галопом к паланкину, рядом с которым был дон Сильва.
— Ну, Блаз, что нового? Ты заметил впереди что-либо неладное?
— Ничего, сеньор, — отвечал капатас, — все идет отлично. Не более чем через час мы будем в ранчо.
— Зачем же ты так мчался ко мне?
— О, сеньор, пустяки. Мне пришла в голову одна мысль, которой я хотел бы поделиться с вами.
— Ага! — сказал дон Сильва. — Так в чем же дело, мой милый?
— Посмотрите, сеньор, — отвечал капатас, протягивая руку по направлению к юго-западу.
— Что это значит? Да там огонь, если я не ошибаюсь!
— Правда, сеньор, это огонь. Посмотрите теперь сюда.
И он указал на юго-восток.
— А вот и другой! Какой черт зажег там эти костры, с какой целью развели их на холмах?
— О! Все очень просто, сеньор.
— Ты полагаешь, друг мой? Ну, так объясни же мне.
— Я это и хочу сделать. Вот тот, — и он указал на первый костер, — разведен на холме, называемом Серро-дель-Гиганте.
— Верно.
— А этот, — продолжал капатас, указывая теперь на второй костер, — на холме Серро-де-Сан-Ксавье.
— Да, похоже.
— Я уверен в этом.
— Ну?
— Ну, костер не загорится сам собой, а в такую жару едва ли кому придет мысль разводить костер на горе…
— И ты заключаешь отсюда?..
— Я заключаю, что эти костры разведены индейцами или грабителями, которые узнали о нашем отъезде.
— Ну, ну! Звучит правдоподобно, друг мой, продолжай свое объяснение, оно крайне интересует меня.
Капатас дона Сильвы был здоровенный мужчина лет сорока, геркулесовского сложения, душой и телом беззаветно преданный своему господину, который во всем доверял ему. Услышав благосклонную речь асиендадо, этот достойный человек нагнулся вперед с улыбкой удовольствия.
— О! Теперь мне осталось сказать пустяки, — докончил он, — по этому сигналу мошенники, вероятно, хотят дать знать своим товарищам, что дон Сильва де Торрес покинул Гуаймас и направляется в пуэбло Сан-Хосе.
— Мне кажется, что ты прав, я совсем забыл об этих хищных птицах, которые подстерегают нас по дороге. Но, в конце концов, к чему все это! Пусть себе разбойники идут по нашим следам, мы не скрываемся и выехали из города при таком скоплении зевак, что каждый желающий мог знать об этом. Нас так много, что никакое покушение нам не страшно. Но если кто-либо из этих бездельников осмелится напасть на нас, у нас найдется кое-кто, кто сумеет поговорить с ними по душам! Я уверен в этом. Поэтому едем вперед смело и спокойно, мой милый Блаз, с нами не может случиться ничего неприятного.
Капатас поклонился своему господину и галопом вновь вернулся на свое место во главе каравана.
Час спустя караван без особенных приключений достиг Сан-Хосе.
Дон Сильва все время ехал рядом с паланкином дочери и разговаривал с ней, получая от нее лишь редкие односложные ответы. Несмотря на все свои старания, она не могла скрыть своей грусти. В это время асиендадо услышал, как его кто-то окликнул несколько раз. Он обернулся и узнал в человеке, звавшем его, графа Лорайля.
— Как, сеньор граф! Вы здесь? — воскликнул он. — По какой причине я встречаю вас так близко от дома? Ведь вы хотели за ночь отъехать далеко вперед.
Увидев графа, молодая девушка почувствовала, что ее охватило волнение и краска залила щеки. Она откинулась на спинку сиденья и опустила занавеси.
— О! — отвечал граф, приподняв шляпу и приветствуя асиендадо. — Со вчерашнего вечера со мной случилось нечто, о чем я расскажу вам, дон Сильва. Я знаю, это удивит вас. Но сейчас некогда разговаривать.
— Как вам угодно, друг мой. А теперь, что вы здесь делаете? Вы хотите ехать или остаться?
— Я еду, еду. Я остановился здесь лишь для того, чтобы дождаться вас. Если я не помешаю вам, поедем вместе. Вместо того, чтобы приехать в Гетцали раньше вас, мы приедем вместе, вот и все.
— Вот и отлично. Вперед, — прибавил асиендадо и сделал капатасу знак отправляться, так как, увидав, что господин его беседует с графом, он остановился. Караван тронулся.
Пуэбло Сан-Хосе скоро осталось позади. Отсюда, собственно, и начиналось настоящее путешествие.
Перед путешественниками раскинулась пустыня. Во все стороны тянулась бесконечная песчаная, слегка всхолмленная равнина. Извилистая линия, обозначенная только белеющими костями павших мулов и лошадей, представляла собой дорогу, которой следовало держаться, чтобы не сбиться окончательно с пути.
В двухстах шагах впереди каравана трусил на ослике какой-то человек. И ослик, и его всадник, казалось, вот-вот упадут на землю и заснут под горячими лучами солнца, отвесно падавшими на голову, — так они качались из стороны в сторону.
— Блаз! — подозвал асиендадо своего управляющего. — Кликни-ка этого индейца, который едет впереди, эти черти краснокожие знают пустыню как свои пять пальцев. Он будет служить нам проводником, с ним мы не заблудимся.
— Это верно, — заметил граф, — в этих проклятых песках нет ничего легче, чем потерять направление.
— Ну, ступай, догони его.
Капатас пришпорил лошадь. Подъехав к одинокому путнику, он приложил рупором руки к губам и крикнул:
— Эй, хосе!
В Мексике все индейцы, сделавшиеся мансос, то есть оседлыми, называются хосе и отвечают на этот призыв, ставший для них нарицательной кличкой.
Индеец обернулся.
— Чего надо? — спросил он, сохраняя полную невозмутимость.
Это был тот самый индеец, которого мы видели в Гуаймасе перед домом дона Сильвы, внимательно следивший за приготовлениями к отъезду.
Каким образом очутился он здесь, случайно или нарочно? Никто не мог ответить на это.
Блаз Васкес, капатас дона Сильвы, слыл человеком уже издавна хорошо знакомым со всеми хитростями индейцев, так же как с характером и нравами диких зверей, с которыми он одинаково часто сталкивался, охотясь за теми и другими. Он оглядел путника инквизиторским взглядом, который тот вынес с полным спокойствием. Голова его была боязливо наклонена, руки беспомощно лежали на шее ослика, оголенные ноги болтались по обоим бокам животного. Словом, это был тип мансоса, в полной мере переделанного гибельным влиянием белых людей.
Капатас с недовольным видом тряхнул головой, его проницательный взгляд ничего не открыл ему, поэтому он обратился к индейцу с прямыми вопросами.
— Что ты делаешь здесь один, хосе?
— Еду из дель-Пуэрто, я был там плотником. Я жил там месяц, немного заработал, как мне хотелось, и теперь еду домой в деревню.
Ни малейшего сомнения не могли возбудить эти слова, все яки поступают таким образом. Да и к чему бы человеку этому обманывать капатаса? Он был один и безоружен. Напротив, караван был многочислен и состоял из преданных людей. Чего опасаться этого индейца?
— А много ты заработал? — продолжал расспросы капатас.
— Да, — с торжествующим видом ответил индеец, — пять пиастров, да потом еще три.
— Ого, хосе, да ты богач!
Яки неопределенно улыбнулся.
— Да, у Тибурона есть деньги.
— Тебя зовут Тибурон? — с презрением переспросил капатас. — Скверное имя. [66]
— Почему же? Бледнолицые дали его своему красному сыну, он находит его хорошим, так как дали его бледнолицые, и он хранит его.
— А далеко твоя деревня?
— Если бы у меня была хорошая лошадь, я доехал бы за три дня. Деревня Тибурона находится между Рио-Хилой и Гетцали.
— Так ты знаешь Гетцали?
Индеец только пожал плечами и презрительно фыркнул.
— Краснокожие знают все земли охоты по Хиле, — отвечал он.
В это время караван нагнал разговаривавших.
— Ну что, Блаз? — спросил дон Сильва. — Что это за человек?
— Индеец племени яки. Он заработал немного в дель-Пуэрто и возвращается домой в деревню.
— Может он нам быть полезен?
— Я думаю, да. Его племя, говорит он, живет между Рио-Хилой и Гетцали.
— Не из племени ли он Белого Коня? — спросил приблизившийся в это время граф.
— Да, из племени Белого Коня, — отвечал индеец.
— О! Ну, так я ручаюсь за этого человека, — оживленно продолжал граф, — это очень смирные индейцы, это бедные, жалкие люди, они почти умирают от голода, я часто даю им работу у себя на асиенде.
— Слушай, — обратился к индейцу дон Сильва, фамильярно ударив его по плечу, — мы идем в Гетцали.
— Ну?
— Нам нужен надежный и честный проводник.
— Тибурон беден, у него только этот ослик, очень слабый, и он не может поспевать за бледнолицыми братьями.
— Об этом не беспокойся, — прибавил асиендадо, — я дам тебе такую лошадь, на какой ты еще никогда ни сиживал. Если ты будешь служить нам честно, то по приезде на асиенду я прибавлю тебе еще десять пиастров. Согласен?
Глаза индейца заблестели жадностью при этих словах.
— А где же лошадь? — спросил он.
— Вот она, — указал ему капатас на великолепного скакуна, подведенного в это время пеоном.
Краснокожий окинул коня взглядом знатока.
— Итак, ты согласен? — спросил асиендадо.
— Согласен, — отвечал индеец.
— Ну, так слезай со своего осла и едем.
— Тибурон не бросит своего ослика, Тибурон любит его и обязан ему.
— Об осле не беспокойся, он пойдет вместе с моими мулами.
Индеец кивнул в знак согласия и ничего не ответил. Через несколько секунд он уселся на коня, и караван вновь тронулся.
Один только капатас не был доволен так неожиданно встретившимся проводником и тихо пробурчал:
— Ну, уж я не спущу с него глаз.
Путешествие продолжалось. Целый день ехали, не встретив ничего особенного. Утром достигли Рио-Хилы.
Берега Рио-Хилы представляли по своему плодородию резкий и радостный контраст с полной безжизненностью окружавших ее сухих равнин. Путешествие дона Сильвы вдоль ее берегов, несмотря на то, что происходило в полдень под палящими лучами солнца, стоявшего почти над головой, походило на приятную прогулку — так густа и прохладна была тень лесной растительности.
Было около трех часов пополудни, когда вдруг из этого леса совсем близко от путешественников показалась колония Гетцали, основанная графом Лорайлем. Хотя она была основана всего года полтора тому назад, но за это время сильно разрослась.
Колония состояла из асиенды, вокруг которой были разбросаны хижины рабочих. Опишем это место в нескольких словах.
Асиенда стояла на полуострове, образованном излучиной реки, около трех четвертей мили в поперечнике. Вокруг нее расстилались рощи и луга, на них без присмотра паслись до четырех тысяч голов скота, на ночь загонявшегося в отгороженные места на берегу реки, служившей асиенде естественной защитой. Полуостров в самом узком месте, соединявшем его с остальной землей, имел не более четырех ярдов. Этот перешеек был укреплен батареей из пяти пушек большого калибра, впереди которой находился ров, наполненный водой.
Сама асиенда была окружена высокими зубчатыми стенами с башнями по углам и представляла собой крепость, способную выдержать длительную осаду. На башнях стояли восемь пушек, защищавших ворота. Внутри за стенами находилось длинное одноэтажное здание с плоской крышей. Два флигеля выдавались вперед справа и слева. Правый флигель предназначался для хранения хлеба, сена, орудий сельского хозяйства и прочего, а в левом жил капатас с многочисленным штатом прислуги.
Широкая терраса, огражденная красивой решеткой и с одной стороны покрытая крышей, лежавшей на каменных столбах, вела в комнаты, которые занимал граф и которые были меблированы с простым, но изящным комфортом загородных домов в Испанской Америке.
Между террасой и стеной, окружавшей асиенду, был разбит на откосе английский сад, содержавшийся в порядке, но такой густой и тенистый, что в двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Особую прелесть ему придавали громадные дикие камни, выступавшие кое-где из земли. Напротив входа на террасу из дома в стене, окружавшей асиенду, находилась небольшая, едва приметная калитка. Пространство до стены с другой стороны было занято коралями, между которыми на широкой площадке ежегодно в определенное время производилось убиение определенного количества голов.
Карниз дома просвечивал сквозь окружавшую его густую растительность и был виден издалека. Трудно было представить себе что-либо живописнее вида на асиенду с ее зубчатыми стенами, тонувшими в целом море зелени.
Не уступал ему и вид из окон главного дома. С одной стороны развертывалась бесконечная равнина, а с другой — серебряной лентой извивалась и исчезала в голубой дымке капризная Рио-Хила.
С тех пор как апачи пытались взять асиенду, на крыше главного дома выстроили бельведер с вышкой, на которой день и ночь ходил часовой. В его обязанности входило возвещать звуком рожка о приближении всякого постороннего человека, державшего путь на асиенду.
Кроме того, на упомянутом перешейке постоянно находился караул из шести человек, и пушки были всегда заряжены.
Неудивительно поэтому, что караван заметили с асиенды еще издали, и управляющий графа, старый солдат по имени Мартин Леру, служивший в Америке, встал за батареей, чтобы окликнуть подъезжавших, как только они будут на расстоянии человеческого голоса.
Дону Сильве были известны обычаи, принятые на асиенде. Эти обычаи были общие на всех асиендах, расположенных близ границы и потому обязанных держаться настороже из-за набегов индейцев.
Ему только показалось странным, что управляющий графа не отворяет ворот, хотя он уже должен был отлично узнать его. Он даже заметил это графу.
— Это не важно, — ответил граф, — Гетцали всегда на военном положении. Устав должен строго соблюдаться по отношению ко всем без исключения, от этого зависит жизнь в этих местах. Мартин узнал меня уже давно, я уверен в этом, но он, может быть, думает, что я попал в плен к индейцам, которые только для вида держат меня на свободе, чтобы легче овладеть асиендой. Будьте уверены, что мой осторожный управляющий только тогда пропустит нас, когда после опроса вполне убедится, что наши одежды белых не надеты на красную кожу.
— Да, — пробормотал дон Сильва в сторону, — правда, эти европейцы все предусмотрят. О! Они задавят нас!
Караван подошел к батарее шагов на двадцать.
— Я полагаю, — заметил граф, — что если мы не желаем, чтобы нас обдали градом картечи, то нам следует остановиться.
— Как! — с удивлением воскликнул дон Сильва. — Они будут стрелять?
— Обязательно.
Оба они остановили своих лошадей и стали ждать окрика.
— Кто идет? — спросил по-французски сильным голосом Мартин Леру и вышел на вал батареи.
— Ну, что скажете теперь? — сказал граф дону Сильве.
— Это великолепно… вот это дисциплина!.. — в восторге проговорил тот.
— Друзья! — ответил граф на окрик. — «Лорайль и свобода», — произнес он затем пароль.
— Отлично. Опускай, — скомандовал голос. — Это друзья, и дай Бог нам почаще принимать таких.
Пеоны опустили подъемный мост через ров, единственное средство для въезда на асиенду.
Караван перешел по мосту, который немедленно поднялся.
— Простите меня, капитан, — проговорил Мартин Леру, отдав графу честь и приветствуя его, — я давно узнал вас, но мы живем в стране, где никакая предосторожность не излишня.
— Вы исполнили свой долг, лейтенант, я могу вас только благодарить. Что нового у вас?
— Ничего особенного. Я послал в пустыню охотников, они донесли мне, что набрели на оставленный кем-то костер, — вероятно, индейцы бродят в окрестностях.
— Поглядим.
— О! Я уже приготовился, особенно теперь: приближается месяц, который команчи называют Мексиканской луной. Я не прочь, если они осмелятся подойти к нам, дать им урок, который они не забудут и впредь.
— Я разделяю ваше мнение. Удвоим осторожность, и все пройдет хорошо.
— Будут у вас еще распоряжения?
— Нет.
— Тогда я пойду. Ведь вы, капитан, возложили на меня обязанность следить за всеми мелочами, поэтому я должен поспевать всюду.
— Идите, лейтенант, я вас не задерживаю.
Старый служака взял под козырек перед капитаном, сделал капатасу дона Сильвы дружеский знак рукой и в сопровождении его и пеонов, ведших мулов, удалился.
Граф провел своих гостей в комнату, предназначенную для них и комфортабельно убранную.
— Дон Сильва, — обратился он к асиендадо, — весь дом к вашим услугам, отдохните. Вы и донья Анита, должно быть, очень устали от долгой езды. А завтра, если позволите, поговорим о делах.
— В любое время, когда вам угодно, друг мой!
Граф отвесил гостям глубокий поклон и удалился. С тех пор как он в первый раз увидел донью Аниту, ему не удалось перекинуться с ней ни единым словом.
На дворе граф нашел проводника-индейца. Он расхаживал взад и вперед и курил. Граф подошел к нему.
— Эй ты, вот тебе десять пиастров, которые тебе обещали.
— Благодарю, — сказал индеец, принимая плату.
— Что же ты теперь собираешься делать?
— Отдохнуть здесь до завтра, и завтра же отправиться в свою деревню.
— Тебе очень нужно попасть туда?
— Мне? Вовсе нет.
— Так оставайся здесь.
— Зачем?
— Я скажу тебе: быть может, через несколько дней ты мне понадобишься.
— А мне заплатят?
— И очень даже щедро. Согласен?
— Да.
— Так ты остаешься?
— Остаюсь.
Граф удалился, не заметив странного взгляда, которым проводил его индеец.
Глава IX
СВИДАНИЕ В ПУСТЫНЕ
На расстоянии приблизительно трех выстрелов от асиенды в густую поросль мастичных деревьев мексиканской смоковницы, ветел, дикого хлопчатника, перуанской акации за час до захода солнца въехал всадник, слез с коня — великолепного мустанга с горячим взглядом и красивой шеей, спутал ему ноги, проницательно взглянул кругом и, удовлетворенный окружавшей его тишиной, стал готовиться к ночлегу.
Жизнь этого человека давно перевалила на вторую половину. Это был индейский воин высокого роста, одетый в настоящий команчский костюм. Хотя на вид ему было около шестидесяти лет, он был бодр, как юноша, и ни одного признака старческой расслабленности нельзя было обнаружить ни на его умном лице, ни на его крепких мускулистых членах. Орлиное перо в густых волосах показывало, что он был облечен саном сахема [67]. Этот вождь был Орлиная Голова, с которым читатель познакомился в одном из предыдущих рассказов.
Положив подле себя карабин, он набрал сухих сучьев и зажег костер, затем бросил в огонь несколько кусков сухого мяса и маисовых лепешек. Тем и окончились все его приготовления к скудному ужину. Он закурил трубку, сел возле огня и стал курить с обычным спокойствием, которое не покидает индейцев ни при каких обстоятельствах.
Прошло два часа. Ничто не нарушало спокойствия вождя.
Настала ночь, тьма окутала пустыню, тишина, в которой слышалось дыхание природы, проникла в бесконечный таинственный простор прерий.
Индеец оставался неподвижным, изредка поглядывая на своего коня, который весело щипал цепкую повилику и молодые побеги деревьев.
Вдруг Орлиная Голова поднял голову, наклонился всем телом вперед и, не изменяя положения тела, протянул руку к карабину. Конь его перестал есть, прижал уши и заржал во весь голос.
Лес оставался все таким же спокойным, но чуткое ухо индейца различило в этом спокойствии подозрительный шорох.
Через несколько секунд нахмурившееся лицо вождя прояснилось, он поднес указательные пальцы обеих рук ко рту и с таким искусством два-три раза повторил мелодичную руладу, что любой знаток птиц, спрятавшийся по соседству, поклялся бы, что это поет настоящий мексиканский соловей.
Не прошло и минуты, как со стороны реки несколько раз послышался крик водяной курочки.
Вслед за этим последовали шаги приближающихся лошадей, треск ломавшихся сучьев и шорох листьев. Два всадника выехали к костру.
Вождь даже не повернулся, чтобы узнать, кто это такие. Вероятно, он знал, кто должен был приехать к нему сюда.
Эти двое были дон Луи и Весельчак.
Они спутали ноги своих лошадей, пустив их пастись вместе с лошадью вождя, улеглись около костра и по приглашению вождя приняли участие в предложенной им трапезе.
Вчера дон Луи и Весельчак выехали из Ранчо и без отдыха ехали на свидание с Орлиной Головой.
Граф де Лорайль предложил им в пулькерии ехать вместе, но Весельчак отклонил это предложение. Не зная, для чего звал его вождь, он считал неудобным посвящать в его тайны постороннего человека.
Тем не менее они расстались с виду весьма дружелюбно, и граф горячо упрашивал дона Луи и канадца навестить его в Гетцали, на что те тоже отвечали уклончиво.
Удивительный случай: впечатление, произведенное графом на обоих искателей приключений, было настолько не в его пользу, что оба они, как бы по молчаливому соглашению, не только не сказали ему своих имен, но не открыли даже своей национальности и все время говорили с ним по-испански, хотя с первых же слов увидели, что граф француз. Разговор все время велся, однако, с самой утонченной вежливостью.
Когда ужин был закончен, Весельчак набил свою трубку и потянулся к костру за углем.
— Пусть брат мой подождет, — вдруг остановил его индеец.
Это было первые слова, произнесенные между тремя сидевшими у костра людьми — до сих пор они упорно молчали.
Весельчак посмотрел на него.
— Что-нибудь не так? — спросил он.
— Вождь не знает, — отвечал Орлиная Голова, — вождь услышал только подозрительный шорох, и далеко с подветренной стороны он слышал, как несколько бизонов, которые спокойно паслись, вдруг без всякой причины побежали.
— Гм! — буркнул канадец. — Это неспроста. Что ты думаешь об этом, Луи?
— В пустыне, — медленно ответил дон Луи, — все имеет причину, ничего не происходит случайно. Я думаю, что если нам ничего определенного не известно, то лучше всего ни на минуту не смыкать глаз. А вот еще, — добавил он, подняв голову и указывая товарищам на быстро проносившихся над ними больших птиц, — часто ли вам приходилось видеть, чтобы кондоры стаей носились в такой час?
Вождь тряхнул головой.
— Похоже, — пробормотал он, — собаки-апачи вышли на охоту.
— Возможно, — подтвердил Весельчак.
— Прежде всего, — подал свое мнение француз, — погасим огонь. Его отблеск, как бы ни был он слаб, может выдать нас.
Его товарищи последовали этому совету, и костер тотчас же был потушен.
— Бледнолицый брат вождя умен, — с изысканностью, свойственной индейцам, заметил Орлиная Голова, — и знает прерии. Вождь счастлив видеть его около себя.
Дон Луи поклонился вождю.
— Теперь, — продолжал Весельчак, — мы почти невидимы, никакая прямая опасность не грозит нам. Поговорим о делах. Вождь первый предупредил нас об опасности, ему и слово. Пусть он скажет что думает.
Индеец запахнулся в свой плащ. Собеседники приблизились друг к другу, чтобы можно было говорить вполголоса, и совет начался.
— С утра, с восходом солнца, — начал Орлиная Голова, — вождь ехал по прерии, торопясь достигнуть назначенного места свидания. Чтобы сократить путь, вождь ехал все время прямо, не сворачивая. Повсюду вдоль дороги встречались четкие следы недавно прошедшего большого отряда. Воины ехали не друг за другом, а широкой колонной. Видно, что они не боялись, потому что их много, им не для чего скрываться. Эти следы шли долго, но вдруг исчезли, и вождь, как ни старался, не мог вновь найти их.
— Ах, черт возьми! — тихо проговорил канадец. — Это неспроста.
— Сначала, — продолжал краснокожий, — вождь не обращал внимания на эти следы, но позже он почувствовал беспокойство — и вот вождь говорит вам об этом.
— Почему вождь так обеспокоился? — невольно подражая Орлиной Голове, произнес внимательно слушавший его дон Луи.
— Вождь думает — и докажет это, — что открытые в прериях следы принадлежали многочисленному отряду, направляющемуся против большого вигвама бледнолицых Гетцали.
— Что навело тебя на эту мысль? — продолжал расспрашивать дон Луи.
— Вот что. В час, когда аллигатор вылезает из прибрежного ила и выплывает в Рио-Хилу, вождь услыхал невдалеке топот лошадиных копыт. Чтобы не быть открытым, вождь забрался в густую чащу и видел, как на расстоянии полета стрелы от него в сторону Гетцали прошел отряд бледнолицых.
— Я знаю это, — заметил Весельчак. — Дальше.
— Вождь узнал человека, служившего проводником отряду, хотя тот сделал все, чтобы стать непохожим на себя, и вот вождь разгадал адскую хитрость собак-апачей.
— Кто же был этот проводник?
— Этого человека знает брат вождя. Это Черный Медведь, великий вождь племени Белого Ворона.
— Вождь, если ты не ошибся, то здесь скоро произойдет страшная резня. Черный Медведь неумолимый враг белых.
— Вот потому-то вождь и говорит это своему брату. Но какое нам дело? В пустыне у каждого хватает забот, чтобы еще заниматься другими.
Канадец покачал головой и сказал:
— Да, то, что ты говоришь, верно, нам придется оставить жителей асиенды на произвол судьбы и не вмешиваться в дела, которые могут причинить нам только неприятности.
— Итак, сообразно с этим вы и хотите поступить? — взволнованно спросил его француз.
— Я не говорю этого окончательно, — ответил канадец, — но дело, во всяком случае, очень трудное. Против нас очень много врагов.
— Да, но те, на кого хотят напасть, ведь ваши соотечественники?
— Вот это-то и усложняет вопрос. Мне жалко, если этих несчастных оскальпируют. С другой стороны, если мы ввяжемся в это дело, то рискуем сами сделаться жертвами нашей самоотверженности.
— Ну, зачем так думать?
— Чтобы взвесить все за и против. Не рассчитав всех последствий, я никогда ничего не предпринимаю, но, раз решив, уже не сворачиваю в сторону.
Дон Луи рассмеялся, услышав такое своеобразное рассуждение.
— У меня есть план, — вновь начал через минуту канадец. — Ночь, конечно, не пройдет без того, чтобы мы не узнали чего-либо нового. Подойдем поближе к реке, и я уверен, что сомнения наши разрешатся. Мы увидим, что надо делать. Лошади здесь в безопасности, оставим их на этом месте, а то они нам могут помешать.
Все трое легли наземь и стали ползти в направлении, указанном Весельчаком.
Ночь стояла чудная. Луна светила, воздух был так чист, что на ровном месте предметы были видны с очень далекого расстояния.
Трое искателей приключений не вышли из-за своего укрытия и, достигнув опушки леса, замаскировались совершенно и стали ждать с тем терпением, на которое способны только лишь лесные американские охотники.
Тишина, царившая в великой пустыне, была настолько полная, что даже непривычное ухо без труда улавливало самые слабые звуки. Вот ветка упала на воду, вот камешек отвалился от берега, подмытый водой, вот непрерывный, неумолкаемый тихий говор речных струй, бегущих по каменистому руслу, вот сова перелетает с сучка на сучок, шелестя крыльями. Все эти звуки отчетливо выделяются в ночной тишине.
Так прошло несколько часов. Все трое лежали спокойно, не двигаясь, как бы окаменев, насторожив слух и зрение, держа пальцы на спусках карабинов. В эти минуты ничто не могло захватить их врасплох, но ничто и не подтверждало ни подозрений Орлиной Головы, ни предсказания Весельчака. Вдруг дон Луи почувствовал, что рука вождя коснулась его плеча, указывая ему на реку. Он привстал на колени и посмотрел в том направлении.
Почти незаметное движение виднелось на поверхности реки, как будто на глубине плыл аллигатор.
— Ну вот, — тихо проговорил Весельчак, — начинается то самое, чего мы ждали.
Вскоре показалась черная масса. Она скорее плыла по воздуху, чем по воде, и тихо продвигалась к тому месту, где в засаде сидели наши охотники.
Через несколько секунд эта масса остановилась, и несколько раз раздался вой луговой собаки.
Тотчас же отозвался вой шакала, раздавшийся так близко от наших наблюдателей, что они не могли удержаться и вздрогнули. Человек, висевший до того времени, уцепившись за сук громадного дуба, спрыгнул на землю в трех шагах от того места, где они лежали.
Он был одет в мексиканский костюм.
— Иди, вождь, — проговорил он вполголоса, сам не рискуя выйти на песчаную отмель, на которой стоял приплывший человек, — иди сюда, мы одни.
Человек вскарабкался на крутой берег и подошел к ожидавшему его на берегу.
— Брат вождя говорит очень громко, — заметил он, — в пустыне никогда нельзя думать, что находишься один. Листья имеют глаза, у деревьев есть уши.
— Что ты говоришь! Это вздор. Кому надо нас подслушивать? Кроме твоих воинов, которые, вероятно, скрыты вблизи, никто не увидит и не услышит нас.
Краснокожий покачал головой.
Теперь, когда он стоял так близко от наших охотников, Весельчак убедился, что Орлиная Голова был прав, это действительно был Черный Медведь.
Оба встретившихся с минуту помолчали, глядя друг на друга.
Первым заговорил вкрадчивым тоном мексиканец.
— А ты ловок, вождь. Не знаю, как ты это устроил, но ведь ты вошел внутрь асиенды.
— Да, — отвечал индеец.
— Теперь нам остается сделать последние распоряжения. Ты — великий вождь, и я на тебя всецело полагаюсь. Вот то, что я обещал тебе. Я должен был уплатить тебе после, но не хочу, чтобы даже тень легла между нами.
Краснокожий оттолкнул кошелек, который ему протягивал его собеседник.
— Черный Медведь думал, — холодно проговорил он.
— О чем, если это не тайна?
— Воин не баба и не станет терять слова даром. То, что бледнолицый брат предлагает вождю апачей, тот отвергает.
— Что это значит?
— Что все условия разорваны.
Мексиканец с трудом подавил волнение, вызванное глубоким разочарованием при этом известии.
— Итак, ты не созвал своих воинов, и когда я дам знак, ты не нападешь на асиенду?
— Черный Медведь созвал своих воинов и нападет на бледнолицых.
— Что же означают твои слова? Признаюсь, вождь, я не понимаю тебя.
— Это оттого, что бледнолицый не хочет понять. Черный Медведь нападет на асиенду сам по себе.
— Так и было установлено между нами, мне кажется.
— Да. Но Черный Медведь видел Поющую Птичку, его вигвам пуст, он хочет ввести туда бледнолицую девушку.
— Несчастный! — в страшном раздражении закричал мексиканец. — Ты изменил мне!
— В чем вождь изменил бледнолицему? — отвечал краснокожий совершенно спокойно. — Бледнолицый предложил сделку, вождь отвергает ее, в чем тут измена?
Мексиканец закусил от ярости губы. Он едва сохранял самообладание и от душившего его гнева ничего не мог говорить.
— Я отомщу тебе, — задыхаясь, проговорил он наконец.
— Черный Медведь — могучий вождь. Он смеется над карканьем ворон. Бледнолицый ничего не сделает вождю.
Во мгновение ока мексиканец ринулся на краснокожего, схватил его за горло и, выхватив кинжал, приготовился вонзить его.
Но апач следил за всеми движениями своего противника. Не менее ловким движением он освободился из его тисков и мгновенно отпрыгнул, так что мексиканец не мог достать его.
— Бледнолицый осмелился коснуться вождя, — глухим голосом проговорил краснокожий, — и потому умрет.
Мексиканец выхватил из-за пояса пистолеты.
Нельзя сказать, чем бы закончилась эта сцена, если бы неожиданное обстоятельство не изменило ее совершенно.
С того же дерева, откуда несколькими секундами раньше появился мексиканец, спрыгнул теперь еще один человек, бросился на апача, поверг его на землю и отнял у него всякую возможность даже пошевелиться прежде, чем тот успел опомниться и хоть как-то защититься.
— На этом дубе, должно быть, сидит целый легион чертей, — с невидимой во тьме улыбкой прошептал Весельчак.
Мексиканец и человек, так кстати явившийся ему на помощь, связали индейца по рукам и ногам реатой.
— Теперь ты в моей власти, вождь, согласись сделать то, что я захочу.
Апач нагло расхохотался и испустил резкий свист.
По этому сигналу словно из-под земли появились пятьдесят индейских воинов. Это произошло так быстро, что двое белых не успели оглянуться, как их окружило непроходимое кольцо.
— Черт возьми! — тихо шепнул Весельчак. — Дело осложняется. Посмотрим, что они будут делать.
— А мы что будем делать? — на ухо ему прошептал дон Луи.
Канадец ответил ему на это движением плеч, которое на всех языках означает: «Что поделаешь? Оставим все на волю Божью!» — и стал следить за всеми неожиданными перипетиями этой сцены.
— Кукарес! — крикнул своему товарищу мексиканец. — Держи хорошенько этого негодяя и при малейшем движении кольни его, как собаку.
— Будьте спокойны, дон Марсиаль, — ответил леперо, вынимая из-за пояса длинный нож, отточенный клинок которого отразил голубоватый свет луны.
— Что скажет Черный Медведь? — начал Тигреро, обращаясь к распростертому у его ног вождю.
— Жизнь вождя принадлежит бледнолицей собаке. Возьми ее, если осмелишься! — с презрительной улыбкой отвечал апач.
— Я не стану убивать тебя, но не из-за страха, так как страх мне не знаком, — сказал мексиканец, — а потому, что я презираю пролитие крови беззащитного врага, даже если враг этот такой, как ты, проклятый шакал.
— Пусть бледнолицая собака убьет вождя, но не глумится над ним, так говорит вождь. Пусть не теряет времени, а то воины могут потерять терпение, и собака-бледнолицый умрет неотомщенный.
— Напрасно ты все это говоришь, твои воины не двинут пальцем, пока ты в таком положении, ты сам это знаешь. Я предпочитаю предложить тебе мир.
— Мир! — проговорил вождь, и во взоре его сверкнула молния. — На каких условиях?
— На двух… Кукарес, отпусти реату, но смотри за ним.
Леперо повиновался. Вождь поднялся на колени.
— Пусть говорит бледнолицый, уши вождя открыты. Какие это условия?
— Прежде всего, я и мой товарищ можем удалиться куда хотим.
— Что еще?
— А затем ты обязуешься оставаться со своими воинами здесь и не возвращаться на асиенду в том обличии, которое ты принял в течение последних суток.
— Это все?
— Все.
— Пусть бледнолицый выслушает теперь вождя. Вождь принимает условия бледнолицего, но пусть бледнолицый выслушает условия вождя.
— Говори.
— Вождь войдет на асиенду в военном уборе своего племени, прежде чем солнце успеет трижды зайти за вершины высоких вечерних гор.
— Апач, ты хвастаешься, ты не можешь войти на асиенду иначе, как при помощи предательства.
— Увидим! — И, улыбнувшись зловещей улыбкой, вождь прибавил: — Поющая Птичка войдет в вигвам вождя апачей и будет жарить ему дичь.
Мексиканец презрительно пожал плечами.
— Ну что ж, попробуй овладеть асиендой, а с нею и молодой девушкой.
— Вождь попробует. Бледнолицый, руку!
— Вот она.
Апач обернулся к своим воинам, держа в своей руке руку Тигреро.
— Братья! — проговорил он повелительным властным тоном. — Этот бледнолицый — друг Черного Медведя, пусть никто не тронет его.
Воины молча наклонили головы и расступились, чтобы дать дорогу обоим белым.
— Прощай, — сказал Черный Медведь, провожая своего врага. — Двадцать четыре часа с этой минуты вождь не пойдет по следам бледнолицего. Вождь не пойдет по следам бледнолицего.
— Ты ошибаешься, апачская собака, — ответил дон Марсиаль презрительно, — это я не стану преследовать тебя.
— Отлично, так, значит, вождь и бледнолицый еще увидятся, — заметил на это Черный Медведь.
И он удалился медленным и твердым шагом в сопровождении своих воинов, звуки шагов которых вскоре затихли в лесной глуши.
— Право, дон Марсиаль, — начал леперо, — я думаю, что напрасно вы так легко отпустили эту индейскую собаку.
— Надо же было как-нибудь выйти из ловушки, в которую мы попали. Но партия еще не сыграна. Пойдем, найдем лошадей.
— Подождите еще одну минуту, — вдруг заговорил Весельчак, выходя из своей засады с двумя своими товарищами.
— Что там такое, кто там еще? — закричал растерявшийся Кукарес и схватился за свой нож, тогда как дон Марсиаль спокойно вооружился двумя пистолетами.
— Что это такое, кабальеро? — невозмутимо переспросил Весельчак. — Мне думается, вы сами это хорошо видите.
— Я вижу трех человек.
— Совершенно верно, вы видите трех человек, которые незримо присутствовали при сцене, которую вы так храбро закончили, трех человек, которые готовы были прийти к вам на помощь, если бы в этом была необходимость, и которые и теперь предлагают вам действовать вместе, чтобы помешать разграблению асиенды апачами. Согласны ли вы?
— Все это хорошо, — отвечал Тигреро, — но я хотел бы знать, что побуждает вас поступать так?
— Во-первых, мы желаем оказать вам услугу, а во-вторых, спасти скальпы несчастных, находящихся сейчас на асиенде, которым угрожают эти проклятые апачи.
— Тогда я с великой признательностью принимаю ваше предложение.
— Не угодно ли последовать за нами туда, где мы остановились, чтобы вместе обсудить план действия?
Как только Кукарес убедился, что трое так неожиданно появившихся людей не являются врагами, он заткнул мачете за пояс и пошел за лошадьми, которые паслись невдалеке. Он вернулся к концу разговора, и все трое направились к тому месту, где расположился Орлиная Голова.
— Имейте в виду, — обратился Весельчак к дону Марсиалю, — сегодня ночью вы приобрели себе неумолимого врага. Если вы не поторопитесь убить его, то не сегодня завтра Черный Медведь убьет вас. Апачи не прощают оскорблений.
— Я это знаю и приму меры, будьте спокойны.
— Это ваше дело. Не лучше ли было бы вам освободиться от него в тот момент, когда вы его повалили, чтобы не думать о последствиях.
— Могли я ожидать, что друзья мои находятся так близко от меня? О, если бы я знал это.
— Ну, что сделано, то сделано, нечего об этом и говорить.
— А как вы думаете, сдержит ли этот человек свое слово?
— О! Вы не знаете Черного Медведя, он твердо держит данное слово и не сделает ничего, что не согласуется с самыми высокими понятиями о чести. Вы видели, что пока вы говорили с ним, он не юлил, все слова его были прямы.
— Это правда.
— Так что будьте уверены, он сдержит слово.
На этом разговор прервался. Дон Марсиаль вдруг стал задумчив — он размышлял об угрозах апачского вождя.
Они подошли к потухшему костру.
Орлиная Голова тотчас же принялся разводить его.
— Что ты делаешь? — заметил ему Весельчак. — Ты дашь знать о нашем присутствии здесь.
— Нет, — ответил ему команчский вождь, отрицательно покачав головой, — Черный Медведь ушел теперь со своими воинами. Они уже далеко, предосторожности излишни.
Скоро костер разгорелся. Все пятеро с удовольствием уселись вокруг него и закурили трубки.
— Слава Богу, все окончилось благополучно, — начал после минутного молчания канадец, — без того удивительного хладнокровия, которое вы выказали, я не знаю, удалось бы вам так удачно отделаться.
— Подумаем теперь, как нам расстроить планы этих дьяволов, — сказал мексиканец.
— Очень просто, — заметил дон Луи. — Один из нас завтра явится на асиенду, расскажет обо всем случившемся, владелец примет меры, вот и все.
— Да, я согласен с этим, так и сделаем, — подтвердил Весельчак.
— Пять человек ничего не значат против пятисот, — заметил Орлиная Голова, — следует предупредить бледнолицых.
— Действительно, нам нужно привести это в исполнение, — проговорил Тигреро, — но кто из нас пойдет на асиенду? Мой товарищ и я не можем сделать этого.
— Я полагаю, что помехой тут ваша любовь, о которой вы упомянули в разговоре с индейцами, — тонко заметил канадец, — я понимаю, что вам трудно.
— Ну, что толку говорить об этом! — прервал его дон Луи. — Завтра на восходе солнца я берусь пройти на асиенду и объясню ее владельцу, какая опасность ему угрожает.
— Пусть будет так, это хорошее решение, — заключил совещание Весельчак.
— Ну, а что касается нас с товарищем, то как только наши лошади отдохнут, мы вернемся назад в Гуаймас.
— Нет, позвольте, — возразил дон Луи, — мне кажется, вам следует выработать для себя план действий и узнать результаты моего посещения асиенды. Это, я думаю, интересует вас больше, чем нас.
Мексиканец сделал движение, как будто собирался не согласиться с доводами дона Луи, но, подумав, сказал:
— Вы правы, я забыл об этом. Хорошо, я подожду вашего возвращения с асиенды.
Все пятеро искателей приключений обменялись после этого несколькими фразами, завернулись в свои плащи, растянулись на земле и заснули.
Глубочайшая тишина царила на небольшой полянке, слабо освещаемой красноватым отблеском потухавшего костра.
Около двух часов ночи, когда наши герои наслаждались безмятежным сном, кусты вдруг неслышно раздвинулись, и из них вышел человек.
Он постоял с минуту, прислушался, затем пополз, крадучись, к тому месту, где спал Тигреро.
При свете костра можно было без труда узнать, что это Черный Медведь. Вождь апачей вынул из-за пояса свой нож и тихо положил его на грудь Тигреро. Затем, оглядевшись вокруг, чтобы удостовериться, что все пятеро крепко спят, он исчез в кустарнике, который тотчас же сомкнулся за ним, словно проглотил его.
Глава Х
ПЕРЕД НАПАДЕНИЕМ
При первом крике жаворонка, то есть при самом восходе солнца, пять искателей приключений проснулись.
Ночь прошла спокойно, ничто не нарушило глубокого сна отдыхавших людей. Но под утро обильная свежая роса насквозь промочила их плащи, и они поспешили подняться, чтобы размять застывшие и онемевшие члены.
При первом движении дона Марсиаля с его груди на землю упал нож. Мексиканец подобрал его и испустил крик удивления, почти ужаса, показывая его товарищам.
Рукоятка ножа была еще покрыта большими кровавыми пятнами. Мы знаем, как этот нож попал к Марсиалю.
— Что это значит? — закричал он, потрясая ножом.
Орлиная Голова взял его и внимательно рассмотрел.
— О-о-а! — с изумлением проговорил он. — Черный Медведь приходил к нам, когда мы спали.
Охотники не могли удержаться, чтобы не выразить своего ужаса.
— Это невозможно! — заявил Весельчак.
Индеец только покачал головой.
— Нет, это скальпировальный нож апачского вождя, на рукоятке вырезан тотем его племени.
— Да, это верно.
— Черный Медведь великий и славный вождь, его сердце велико и может вместить весь мир. Черный Медведь не отступит от данного слова и показывает врагу, что он был владыкой жизни его и что он сумеет взять ее в тот час, когда найдет это удобным. Вот что значит этот нож, положенный на грудь гачупина [68] во время сна.
Четверо белых были смущены такой отвагой; дрожь пробежала по их телу, когда они подумали, что были во власти врага, который не унизился до того, чтобы убивать сонных, а удовлетворился тем, что так гордо бросил им вызов. Особенно мексиканец, несмотря на всю свою смелость, почувствовал, как замерло у него сердце, когда он представил картину: себя — спящего, и над собой апача, своего врага, с ножом.
К канадцу первому вернулось хладнокровие.
— Ах, каналья, — воскликнул он, — хорошо сделала эта собака, что предупредила нас. Теперь мы будем держать ухо востро.
— Гм! — заявил Кукарес. — Я вовсе не имею охоты быть оскальпированным. Нисколько! — И он провел рукой по своей густой, всклокоченной, войлоком свалявшейся шевелюре.
— Что же делать, — заметил ему Весельчак, — иногда нет возможности отказаться от этого.
— Быть может, но мне не хотелось бы это испробовать.
— Теперь уже день, — проговорил молчавший до этого дон Луи, — я думаю, что пора мне идти на асиенду. Как вы полагаете?
— Не следует терять ни минуты, чтобы раскрыть то, что затевает враг, — подтвердил дон Марсиаль.
— Тем более, что нам надо принять кое-какие меры и договориться обо всем поскорее, — заметил Весельчак.
Индеец и леперо в знак согласия кивнули головами.
— Теперь условимся, где нам встретиться, — продолжал дон Луи. — Вы не можете оставаться здесь, так как индейцы весьма легко могут отыскать вас.
— Да, — ответил, задумавшись, Весельчак, — но я не знаю здешних мест и не могу придумать ничего подходящего.
— Вождь знает такое место, — заявил Орлиная Голова, -вождь проведет туда бледнолицых братьев, и туда придет бледнолицый брат на пути из большого вигвама бледнолицых.
— Хорошо, но ведь мне нужно знать это место, — заметил дон Луи.
— Пусть брат вождя не смущается. Когда брат выйдет из большого вигвама, вождь будет возле брата и поведет его.
— Ну, пусть так. До свидания.
Дон Луи оседлал лошадь и галопом удалился по направлению к асиенде, стоявшей, как мы сказали, от того места, где находились наши искатели приключений, на расстоянии двух-трех ружейных выстрелов.
Граф де Лорайль с беспокойством ходил по низкой комнате, служившей прихожей в главном доме.
Против его воли встреча с мексиканцем живо занимала его. Он хотел услышать от доньи Аниты откровенное признание, которое она сделала бы перед лицом своего отца и которое рассеяло бы его сомнения и дало бы ключ к объяснению этой тайны.
Состояние его духа омрачалось еще и другим обстоятельством, порождавшим в нем немалое беспокойство.
На рассвете Диего Леон, один из лейтенантов, объявил ему, что проводник-индеец, которого он оставил вчера, ночью исчез без следа.
Последнее обстоятельство имело громадную важность. Приближалась Мексиканская луна. Проводник оказался, очевидно, индейским шпионом, имевшим намерение узнать, сколько на асиенде войска и как ею можно завладеть.
Апачи и команчи должны были быть неподалеку. Возможно, что они находились перед самой асиендой, скрытые в высокой траве прерии, готовясь в удобный момент броситься на своих заклятых врагов.
Граф не скрывал от себя, что если положение в действительности было не из благоприятных, то причиной тому — он сам.
Правительство дало ему важное поручение — защищать кусок границы от вторжений индейцев. Но до сих пор он не предпринял ничего существенно важного для исполнения этого поручения, которое он не только принял, но даже более того, сам добивался его.
Мексиканская луна индейцев начиналась в этом месяце. Необходимо было до ее наступления нанести решительный удар, который внушил бы индейцам страх, помешал бы им соединить свои силы и разрушил бы все их планы.
Граф раздумывал таким образом довольно долго, совершенно забыв о гостях, которым он еще не показывался. В это время перед ним появился старый лейтенант.
— Что вы, Мартин? — спросил его граф.
— Простите, что беспокою вас, капитан. ДиегоЛеон стоит в карауле при батарее на перешейке с восемью людьми и доложил мне, что какой-то всадник требует видеть вас по весьма важному делу.
— Что за всадник?
— Белый, хорошо одетый, на великолепной лошади.
— Гм! Больше он ничего не говорит?
— Простите, забыл. Он прибавил еще: «Скажите вашему командиру, что я один из тех людей, которых он встретил в ранчо Сан-Хосе».
Лицо графа при этом прояснилось.
— Ну, так впустите его, это друг.
Лейтенант удалился.
Оставшись один, граф вновь начал ходить из угла в угол.
— Чего хочет от меня этот человек? — бормотал он про себя. — Когда я в Ранчо предложил ему с товарищем ехать сюда вместе со мной, оба они отказались. Что же заставило их так быстро изменить свое решение? Впрочем, к чему ломать голову, — закончил граф свои размышления, услышав топот копыт по плитам перед главной дверью, — вот и он сам.
Немедленно вслед за этими словами вошел дон Луи, сопровождаемый лейтенантом, который по знаку графа тотчас же удалился.
— Какой счастливый случай, — приветливо начал граф, — доставляет мне честь видеть вас у себя, хотя я уже и надежду потерял на это?
Дон Луи сказал в ответ какую-то любезность и прибавил:
— Нет, не счастливый случай привел меня к вам. Бог судил мне, напротив, явиться сюда вестником надвигающегося несчастья!
При этих словах граф нахмурился.
— Что хотите вы сказать, сеньор? — с беспокойством спросил он. — Я не понимаю вас.
— Сейчас вы все поймете. Но будем говорить по-французски, если вам угодно, так мы лучше поймем друг друга, — продолжал дон Луи уже по-французски, тогда как до сих пор они говорили по-испански.
— Как! — в изумлении воскликнул граф. — Вы говорите по-французски?
— Да, граф, — отвечал дон Луи, — тем более, что я имею честь быть вашим соотечественником. Хотя я, — прибавил он со вздохом, — уже десять лет как покинул нашу родину, но мне всегда доставляет несказанное удовольствие поговорить на родном языке.
Выражение лица графа окончательно изменилось, когда он услышал эти слова.
— О! — проговорил он, глубоко растроганный. — Позвольте же пожать вашу руку. Два француза, встречающиеся в этих далеких краях, — братья. Забудем на минуту, где мы, и поговорим о Франции, нашем милом далеком отечестве, которое мы так любим.
— Ну что ж! — отвечал дон Луи со сдержанным волнением. — Я сам счастлив, когда хоть на минуту могу забыть окружающее и восстановить в своем воображении картины нашей родины. К несчастью, время не слишком подходит для этого. Вам грозит великая опасность, каждая минута, которую мы потеряем, может повлечь ужасную катастрофу.
— Вы заставляете меня почувствовать ужас, милостивый государь. В чем дело? О чем таком страшном хотите вы предупредить меня?
— Разве я не говорил вам, граф, что я вестник несчастья?
— Ну, так что же? Как бы ни были ужасны ваши вести, сами вы являетесь желанным гостем. В том положении, в каком находимся мы, разве можно ежеминутно ожидать чего-либо другого, кроме несчастья?
— Надеюсь, что мне удастся помочь вам предупредить это несчастье, которое, как хищная птица, парит над вами и уже готово обрушиться на вас.
— Заранее благодарю вас за ваш истинно братский поступок. Но теперь говорите, я слушаю вас. Что бы вы ни сказали, я готов ко всему.
Дон Луи, ни разу не упомянув о своей встрече с Тигреро, как было условленно, рассказал, что ему удалось услышать разговор между своим спутником и несколькими апачскими воинами, скрывавшимися в кустах близ асиенды, и узнать об их намерении в самом скором времени захватить асиенду врасплох.
— А теперь, граф, судите сами о том, насколько важны известия, переданные мною, примите меры, чтобы помешать намерениям индейцев.
— Благодарю вас еще раз, милостивый государь. Когда за несколько минут до вашего прибытия один из моих лейтенантов доложил мне об исчезновении проводника, то я сейчас же понял, что это был шпион. То, что вы сейчас сказали, подтвердило мои предположения. Как вы правильно говорите, нельзя терять ни минуты. Сейчас я приму все необходимые меры.
И приблизившись к столу, он ударил по нему несколько раз.
Вошел пеон.
— Позови старшего лейтенанта, — приказал граф.
Несколько минут спустя появился Мартин Леру.
— Лейтенант, — приказал ему граф, — возьмите с собой двадцать конных людей и произведите самую тщательную рекогносцировку окрестностей на три лье [69] вокруг. Я сейчас получил известие, что индейцы скрываются поблизости.
Старый солдат молча поклонился и вышел, чтобы привести приказ в исполнение.
— Одну минуту! — воскликнул дон Луи, жестом удерживая его. — Еще одно слово!
— Как, — проговорил в изумлении Леру, остановившись у двери, — вы стали говорить по-французски?
— Как видите, — улыбаясь, ответил ему дон Луи.
— Вы хотите сделать замечание? — спросил граф.
— Я давно живу в Америке, привык к пустыне и знаю индейцев и все их хитрости. Если вы позволите, то я дам вам несколько советов, которые, я полагаю, будут вам полезны в настоящих обстоятельствах.
— Ради Бога! — воскликнул граф. — Говорите, говорите, дорогой земляк. Ваши советы для нас дороже золота, я уверен в этом.
В этот момент в комнату вошел дон Сильва.
— А-а, — обратился к нему по-испански граф, — пожалуйте сюда, дорогой мой, мы так нуждаемся в вашем совете. Ваше знание индейских обычаев сильно поможет нам.
— Что такое, в чем дело? — спросил асиендадо и общим, полным достоинства поклоном приветствовал всех.
— Дело в том, что нам угрожает нападение апачей.
— Ого! Это дело нешуточное, друг мой. Что же вы собираетесь предпринять?
— Я еще не решил. Я только дал приказ дону Мартину, моему лейтенанту, — и граф при этих словах указал на него, — произвести рекогносцировку в окрестностях. Но вот этот господин, мой соотечественник, которого я имею честь вам представить, кажется, не согласен с этим.
— Кабальеро прав, — решил дон Сильва, сделав легкий поклон в сторону дона Луи. — Но, прежде всего, откуда вы знаете, что готовится нападение?
— Мой соотечественник приехал предупредить меня.
— Ну, тогда не может быть сомнений, надо как можно скорее принять меры. Что думаете вы об этом, кабальеро?
— Он как раз собирался высказать свое мнение, когда вы вошли.
— Ну, так я не буду прерывать вашу беседу. Я слушаю, говорите, кабальеро.
Дон Луи, в свою очередь, слегка кивнул головой и начал.
— Кабальеро, — обратился он к дону Сильве, — все, что я скажу, будет относиться к двум моим соотечественникам, которые привыкли к европейскому способу ведения войны и не знакомы, я уверен, с тактикой индейцев.
— Это правда, — заметил граф.
— Ну и что же, — хвастливо добавил Леру, крутя свой длинный ус, — теперь познакомимся!
— Смотрите, не заплатите за знакомство дорогой ценой! — продолжал дон Луи. — Индейский способ ведения войны состоит из хитростей и засад. Нападающий на вас враг никогда не пойдет на вас фронтом, он всегда скрыт и для того, чтобы победить, пользуется всеми средствами, особенно предательством. Пятьсот апачских воинов под предводительством неустрашимого вождя в прерии стоят пяти тысяч ваших отборных солдат, которые их даже не обнаружат.
— Ого! — проговорил граф. — И это их единственная манера воевать?
— Единственная, — подтвердил асиендадо.
— Гм! — вставил свое замечание Леру. — Мне кажется, это немного напоминает африканскую войну.
— Далеко не настолько, как вы это полагаете. Арабы видны, тогда как апачи, повторяю, не показываются иначе как в случае крайней необходимости.
— Так что мой план произвести разведку не годится?
— Не годится, так как ваш отряд проедет мимо апачей и не увидит ни одного из них или попадет в засаду, где ваши люди погибнут все до единого.
— Все, что говорит кабальеро, совершенно верно. Видно, что вы обладаете громадным опытом и часто бились с индейцами.
— Этот опыт куплен дорогой ценой, всем счастьем моей жизни. Те, кого я любил, истреблены этими неумолимыми врагами, — с грустью отвечал дон Луи. — Страшитесь того же, если вы не примете всех мер предосторожности. Я знаю, как рыцарскому характеру француза претят такие приемы, но, на мой взгляд, это единственный способ сохранить хоть какие-то шансы на спасение.
— У нас здесь несколько женщин, детей, наконец, ваша дочь, дон Сильва. Необходимо всеми силами оградить ее не только от опасности, но даже хотя бы от малейшего беспокойства. Я становлюсь на сторону своего соотечественника, так как вижу, что действовать надо с крайней осторожностью.
— Благодарю вас за свою дочь и за себя.
— Ну, а теперь, мой дорогой земляк, которому мы уже обязаны такими верными замечаниями, не оставляйте незаконченным того, что начато вами. Что стали бы вы делать на моем месте?
— Граф, вот мое мнение, — решительно заявил дон Луи. — Апачи хотят напасть на вас с целью, которая мне известна, но говорить о ней сейчас я не хочу. От успеха этого нападения зависит честь и слава апачей среди их соплеменников. Воспользуйтесь этим обстоятельством с наибольшей выгодой для себя. В вашем распоряжении значительный гарнизон, состоящий из испытанных людей. В этом отношении вы находитесь в благоприятном положении.
— У меня семьдесят французов, привыкших к войне.
— За крепкими стенами и при хорошем вооружении больше не нужно.
— Кроме того, сорок пеонов, привыкших к преследованию индейцев, которых я привел с собой, — прибавил дон Сильва.
— Все эти люди сейчас здесь? — спросил дон Луи.
— Да.
— Ну, это еще больше упрощает дело. Поверьте мне, теперь индейцам следует бояться вас.
— Почему же?
— Не может быть сомнения в том, что вам следует ждать нападения с реки. Вероятно, чтобы разделить ваши силы, индейцы предпримут ложную атаку со стороны перешейка, но этот пункт укреплен так сильно, что едва ли с этой стороны они отважатся на приступ. Я уверен, таким образом, что главная атака будет со стороны реки.
— Должен заметить, мсье, — вставил свое замечание лейтенант, — что в настоящее время река совершенно не пригодна для плавания на лодках, так как на ней повсюду образовались заторы из деревьев, выкорчеванных бурями в горах, откуда она принесла их во время разлива.
— Не знаю, можно ли плавать по вашей реке на лодках или нет, — продолжал уверенным тоном дон Луи, — но я убежден, что апачи нападут на вас именно с реки.
— Во всяком случае, чтобы нас не захватили врасплох, нужно взять две пушки с перешейка, где останется еще четыре. Этого вполне хватит. Необходимо поставить их над мысом, конечно, предварительно замаскировав. Затем, дорогой Леру, прикажите также поставить пушку на площадку бельведера, оттуда видно все течение Рио-Хилы. Ступайте же и немедленно исполните все.
Старый солдат, не сказав ни слова, вышел исполнить приказание.
— Вы видите, господа, — продолжал граф после ухода лейтенанта, — я уже воспользовался вашими советами. Мой опыт в войнах с индейцами сейчас обогатился, и, повторяю, я чувствую себя счастливым, имея таких наставников, как вы.
— Кабальеро все предусмотрел, — заметил асиендадо, — я сам тоже думаю, что самая слабая часть асиенды та, которая обращена к реке…
— Еще одно слово, — перебил его дон Луи.
— Говорите, говорите.
— Ведь вы, сеньор, сказали, что привели с собой до сорока человек пеонов, искушенных в войнах с индейцами, и что эти люди находятся здесь?
— Совершенно верно.
— Превосходно. Я полагаю (заметьте, кабальеро, что это только мое мнение), я полагаю, что врагу можно нанести решительный удар и вполне обеспечить себе победу, поставив его между двух огней.
— Действительно, — воскликнул граф. — Но как же сделать это? Ведь вы сами говорите, что совершенно неразумно выпускать из-за стен асиенды людей даже на разведку.
— Я и теперь это повторяю, так как из травы в прерии и из-за деревьев леса на асиенду сейчас устремлены сотни внимательнейших глаз, которые и мухи не пропустят.
— Ну вот!
— Но разве я не сказал вам, что война в этих местах — это война всякого рода уловок и хитростей?
— Да, но я пока еще ничего не понимаю.
— А между тем это очень просто, сейчас я все объясню.
— Пожалуйста.
— Сеньор, — обратился дон Луи к дону Сильве, — вы рассчитываете остаться здесь?
— Да, по некоторым семейным обстоятельствам я рассчитываю пробыть здесь довольно долго.
— Я не имею намерения вторгаться в ваши семейные дела, но вы здесь останетесь?
— Да.
— Превосходно! Есть ли у вас среди пеонов человек, на которого вы могли бы положиться, как на самого себя?
— Слава тебе, Господи! Как не быть такому человеку? Вот, например, Блаз Васкес.
— Простите за любопытство, скажите, пожалуйста, кто такой этот Блаз Васкес.
— Блаз Васкес мой капатас. Он, кажется, так верхом на коне и родился, а положиться на него я и вправду могу, как на самого себя.
— Ну и прекрасно, все идет как нельзя лучше.
— Ну, я-то пока ничего еще не вижу, — возразил граф.
— А вот сейчас увидите, — отвечал дон Луи.
— Посмотрим.
— Дайте, сеньор, вашему капатасу приказ стать во главе пеонов и немедленно выйти из асиенды по дороге в Гуаймас. Отойдя лье два-три, в месте, которое нам — ему и мне — покажется удобным, он должен остановиться, а остальное уже — мое дело, мое и моих друзей.
— О! Теперь я понял ваш план. Пеоны, скрытые вами в засаде, должны будут ударить индейцам в тыл, когда битва будет в полном разгаре.
— Вот именно.
— А апачи?
— Неужели вы думаете, что они не обратят внимания на выход отряда белых из асиенды?
— Индейцы слишком хитры для этого. Ради чего они будут следить за отрядом, который не несет с собой ничего? Если бы они напали на него, то только без всякой для себя пользы открыли бы свое присутствие, а этого они никогда не сделают. Нет, нет, сеньор, будьте спокойны, они даже не пошевелятся. Они никак не могут знать, что вы предупреждены, и потому стремятся остаться невидимыми.
— А вы сами что думаете делать?
— Что касается меня, то индейцы, несомненно, видели, что я вошел сюда, они знают, что я здесь. Если я выеду вместе с вашими пеонами, то они сейчас же угадают весь наш план. Поэтому я немедленно же отправлюсь один, как пришел.
— Ваш план настолько прост и ясен, что непременно должен удаться. Примите, дорогой земляк, нашу глубокую благодарность, и скажите ваше имя, чтобы мы знали, кому обязаны нашей жизнью.
— К чему это, сеньор?
— Кабальеро, я присоединяю и свою просьбу к просьбе дона Гаэтано, моего друга, откройте ваше имя, оно будет запечатлено в наших сердцах.
Дон Луи колебался, сам не понимая, что заставляет его поступать так. Ему почему-то не хотелось открывать перед де Лорайлем свое инкогнито.
Оба собеседника его, однако, продолжали настаивать, так деликатно и мягко, что дон Луи решился, наконец, побороть в себе инстинктивное чувство и, не видя никаких основательных причин скрываться и уступая их просьбам, назвал свое имя.
— Сеньоры кабальеро, я — граф Луи-Эдуард-Максим де Пребуа-Крансе.
— Итак, мы друзья, не правда ли, граф? — проговорил граф де Лорайль, протягивая ему руку.
— То, что я сделал, я думаю, есть доказательство моего к вам расположения, граф, — отвечал дон Луи с изысканно вежливым поклоном, но в то же время не пожал протянутой руки.
— Я благодарю вас, — вновь начал граф, делая вид, что не замечает своего неловкого положения. — Когда вы думаете ехать?
— Мне больше не следует отвлекать вас от предстоящих дел, позвольте поэтому проститься с вами сейчас же.
— Даже не позавтракав?
— Извините, но время не ждет ни вас, ни меня. Мои друзья, которых я оставил несколько часов тому назад, ждут меня и, вероятно, уже беспокоятся.
— Но они ведь знают, что вы у меня, — сказал граф, слегка задетый.
— Они не знают, прибыл ли я к вам или нет.
— Тогда не буду вас задерживать. Еще раз благодарю, дорогой граф.
— Я действовал, как велит мне совесть, вы нисколько не должны считать себя мне обязанным.
Все трое вышли после этого из дома и направились к батарее на перешейке. Разговор между ними перешел на совершенно посторонние предметы. На полпути они встретили Блаза Васкеса. Дон Сильва подозвал его, в двух словах объяснил ему положение дел и ту роль, которую он должен был сыграть.
— Клянусь Небом! — радостно воскликнул капатас. — Я вам благодарен, дон Сильва, это для меня отличная новость! Наконец-то можно будет показать этим собакам апачам, что мы не бабы. О! Честное слово, мы всыплем им так, что небу будет жарко, клянусь честью!
— Я полагаюсь на тебя, Блаз.
— Но где мне следует ожидать этого кабальеро?
— И правда. Господа! Мы не договорились, где кабальеро должен встретиться с Блазом.
— Это верно. Так пусть он поджидает в трех лье отсюда по дороге в Гуаймас, там, где дорога делает поворот. Там есть холм, называемый, кажется, Пан-де-Асукар. Вы можете засесть около этого места, и вас никто не увидит. Там я со своими друзьями и найду вас.
— Пусть так. В котором часу?
— Этого я не могу сказать, все будет зависеть от обстоятельств.
Несколько минут спустя дон Луи уже удалялся от асиенды, тогда как граф де Лорайль и оба мексиканца спешили окончить приготовления к достойному отпору.
— Странно, — говорил про себя дон Луи, плавно опускаясь и поднимаясь на быстром галопе своего коня, — как мало внушает мне симпатии этот человек, хотя он и мой соотечественник, а сейчас я даже рискую для него жизнью.
Вдруг конь его шарахнулся в сторону. Дон Луи поднял голову, поток его мыслей сразу прервался.
Из-за кустов на дорогу вышел Орлиная Голова.
Глава XI
МЕКСИКАНСКАЯ ЛУНА
После таинственного посещения становища наших охотников Черный Медведь во главе своих воинов направился к острову на Рио-Хиле, называемому Чоль-Гекель, лежащему выше асиенды. Здесь был один из апачских аванпостов на границе с Мексикой.
Черный Медведь прибыл туда на рассвете.
В этом месте Рио-Хила очень широка. Каждый из рукавов, на которые она разделяется островом, имеет в ширину около двух миль.
Остров лежит почти посередине реки, как исполинская цветочная корзина. В длину он имеет около двух миль, а расстояние в самом широком месте составляет около полумили. Он и в самом деле кажется громадным чудным букетом, полным благоухания, населенным бесчисленными пернатыми, целый день оживляющими лесную чащу, покрывающую его, чириканьем, свистом, щелканьем, переливами и Бог весть еще какими удивительными звуками.
В описываемый день солнце, словно лаская островок, заливало его целыми потоками горячих лучей. Между тем обстановка на нем далеко не соответствовала тому мирному виду, который ему так хотела придать природа.
Насколько хватал глаз, в чаще острова и по обоим берегам реки видны были палатки из бизоньих шкур и шалаши из листьев, теснившиеся друг к другу.
Многочисленные пироги, сшитые из лошадиных шкур, натянутых на круглые шпангоуты, или прямо выдолбленные из дерева, бороздили реку по всем направлениям.
Множество окрашенных в самые яркие цвета бизоньих шкур, плащей и каких-то тряпок, освещаемых ярким солнцем, утомляли и невыносимо резали глаза.
Всадники, прибывшие с Черным Медведем, спешились, расседлали лошадей и пустили их пастись. Усталые животные охотно смешались с громадным табуном, который ходил по прерии.
Вождь пошел между шалашами. Всюду развевались значки из кусков окрашенной материи и перьев, висели скальпы знаменитых воинов. Женщины готовили завтрак.
Черного Медведя все узнавали, при его появлении все вставали и почтительно наклоняли головы. Индейцы окружают своих вождей величайшим почетом. Те племена, которые и до сих пор отказываются подчиняться влиянию общеевропейской цивилизации и свободные бродят еще по остаткам некогда безграничных прерий, этот почет доводят до фанатизма и почти обоготворения, непонятного для европейцев.
Золотой обруч с двумя бизоньими рогами, украшавший голову Черного Медведя, заставлял узнавать его еще издали.
Он подошел к берегу реки и сделал знак человеку, который ловил неподалеку рыбу. Нужно было видеть, с какой радостью индеец бросил свое занятие, чтобы только услужить вождю. В его пироге Черный Медведь и переехал на остров. Там для него был приготовлен шалаш из сучьев.
Словно невидимые часовые предупредили население индейского лагеря о его прибытии. Как только он высадился на берег, немедленно явился другой вождь по имени Малая Пантера.
— Привет вождю, появляющемуся среди детей своих, — приветствовал его Малая Пантера, почтительно кланяясь, — счастлива ли была поездка вождя?
— Вождь благодарит брата. Да, Черный Медведь совершил счастливую поездку.
— Если отец народа согласен, то Малая Пантера проводит его в шалаш, построенный для него.
— Идем! — согласился Черный Медведь.
Малая Пантера опять наклонил голову и повел вождя по тропинке, извивающейся между кустами, и скоро они достигли шалаша, который по своему простору, яркости цветов, украшавших его шкуры, и по чистоте должен был представлять для индейцев идеал комфорта и изящества.
— Отец народа в своем доме, — проговорил Малая Пантера, поднимая фрессаду [70] и почтительно сторонясь, чтобы пропустить Черного Медведя.
Черный Медведь вошел.
— Пусть брат мой следует за мной!
Малая Пантера вошел за ним и опустил фрессаду.
Шалаш, куда они вошли, ничем не отличался от жилищ других индейцев. Посередине горел огонь. Черный Медведь знаком велел Малой Пантере сесть на бизоний череп у огня, а сам сел на другой.
После минутного молчания, в течение которого оба вождя курили, выпуская густые, совсем окутавшие их клубы дыма, Черный Медведь обратился к своему товарищу:
— Все ли вожди племен нашего народа явились на остров Чоль-Гекель, как приказал Черный Медведь?
— Явились все.
— Когда вожди придут в шалаш Черного Медведя?
— Это зависит от моего отца. Вожди ждут, когда будет угодно Черному Медведю видеть их.
Черный Медведь снова погрузился в курение и умолк. Прошло довольно много времени.
— Что нового произошло за время отсутствия вождя? — спросил Черный Медведь, вытрясая пепел из трубки на ноготь пальца правой руки.
— Три вождя команчей пришли от своего народа, чтобы заключить договор с апачами.
— О-о-а! — отвечал Черный Медведь. — А это знаменитые вожди?
— У них много волчьих хвостов у мокасин, должно быть, они очень храбры.
Черный Медведь в знак согласия наклонил голову.
— Один из них, говорят, Насмешник, — продолжал Малая Пантера.
— Уверен ли брат мой в том, что он сообщил мне? — живо переспросил его старший товарищ.
— Воины команчей отказались сказать, кто они, когда им объявили, что отца моего нет здесь. Команчи отвечали, что пусть будет так, они подождут его возвращения.
— Хорошо! Это — вожди. Где они находятся?
— Они развели костер и расположились вокруг него.
— Отлично. Время дорого. Пусть брат мой передаст вождям апачей, что Черный Медведь ждет их у огня совета.
Малая Пантера поднялся, не сказав ни слова, и вышел из шалаша.
Около часа индейский вождь оставался один, погруженный в свои думы. Наконец снаружи послышались шаги большого числа приближающихся людей, занавес шатра поднялся, и перед вождем предстал Малая Пантера.
— Ну что? — спросил его Черный Медведь.
— Вожди ждут.
— Пусть они войдут.
Появились апачи.
Их было человек десять. Каждый был одет в самые лучшие свои одежды, украшенные золотом и серебром; они были раскрашены и вооружены, как на войну.
Они вошли молча, кланялись поочередно вождю, целовали край его платья и так же молча садились у огня.
Как только все вожди уселись, явился отряд воинов и окружил шатер, чтобы не подпускать близко любопытных и охранять тайну совещания вождей.
Несмотря на все умение владеть собой, Черный Медведь не мог сдержать выражения удовольствия на своем лице при виде стольких преданных ему людей, с помощью которых, он был уверен, ему удастся привести в исполнение свои планы.
— Привет братьям моим! — обратился он к ним, жестом приглашая придвинутся ближе к огню. — Вождь ждет их с нетерпением.
Вожди склонили головы и придвинулись. Тогда вошел трубконосец и внес большую трубку мира, из которой вожди затянулись по нескольку раз. Когда эта церемония была закончена, трубконосец вышел, и начался совет.
— Прежде всего, — начал Черный Медведь, — вождь хочет рассказать другим вождям о том, что сделал он. Черный Медведь исполнил все, что ему поручили, он проник в большой вигвам бледнолицых, он осмотрел его во всех подробностях, он узнал число бледнолицых, которые защищают его, и, когда придет час вести туда воинов, Черный Медведь не собьется с пути.
Вожди поклонились в знак полного удовлетворения.
— Этот большой вигвам бледнолицых, — продолжал Черный Медведь, — единственное серьезное препятствие на том пути, по которому должны следовать воины в задуманном походе.
— Гачупины — трусливые собаки. Апачи пошлют им юбки и заставят их варить себе дичь, — с едким сарказмом заметил Малая Пантера.
Черный Медведь покачал головой.
— Бледнолицые в Гетцали не гачупины, и сам вигвам Гетцали подобен великой касе [71]. Вождь видел людей в Гетцали, это действительно люди. У многих из них голубые глаза и волосы цвета спелого маиса. Видно, что они очень храбры. Пусть мои братья узнают это и будут осторожны.
— А не знает ли брат мой, что это за люди? — вставил вопрос один из вождей.
— Черный Медведь не знает этого. Ему говорили, когда он был около Великого Соленого озера, что эти люди пришли из очень далекой страны, лежащей к востоку, вот и все.
— У этих людей нет, следовательно, ни деревьев, ни плодов, ни бизонов в их родных землях, и потому они пришли отнять наши.
— Бледнолицые ненасытны, — отвечал Черный Медведь, — они забывают, что Великий Дух дал им, как и остальным людям, две руки и один рот. Все, что они видят, они хотят взять себе. Ваконда, любящий своих краснокожих детей, поселил их на обильной земле и осыпал их своими дарами. Бледнолицые горят жадностью и постоянно стараются похитить дары Ваконды и завладеть ими. Но апачи храбрые воины, они сумеют защитить свои земли охоты и помешать занять их этим бродягам, прилетевшим с той стороны Соленого озера на крыльях великих чудес [72].
Вожди сочувственно приветствовали эту речь. Она так точно выразила волновавшие их чувства и ненависть, которую они питали к белым — этой неудержимо двигающейся вперед расы завоевателей, все дальше загоняющей их в глубь пустыни, лишая их былого простора, на котором они привыкли жить с незапамятных времен.
— Великое племя команчей озер, то самое, которое именует себя царем прерий, прислало народу апачей послами трех славных воинов. Черный Медведь не знает, зачем они пришли, но думает, что они пришли с мирной вестью. Угодно ли будет вождям народа апачей допустить их выкурить трубку мира, сидя с нами у костра совета?
— Отец мой — мудрый воин, — ответил Малая Пантера, — он умеет угадывать самые сокровенные мысли своих врагов. Все, что сделает он, хорошо. Вожди апачей всегда счастливы следовать его советам.
Черный Медведь обвел всех взглядом, желая удостовериться, точно ли Малая Пантера выразил мысли собрания.
Участники совета молча склонили головы в знак согласия.
Вождь улыбнулся с гордостью, увидев, что товарищи так хорошо поняли его мысли, и затем обратился к Малой Пантере.
— Пусть войдут вожди команчей.
Это было произнесено с таким сознанием собственного величия, какое было бы к лицу иному европейскому монарху, обращающемуся к парламенту.
Малая Пантера вышел исполнить приказание.
Во время его отсутствия, продолжавшегося довольно долго, в шалаше не было произнесено ни слова, царило полное молчание. Все сидели на бизоньих черепах, упершись локтями в колени, уткнувшись ладонями в подбородки, опустив вниз глаза и, по-видимому, погрузившись в глубокие размышления.
Наконец Малая Пантера вернулся. За ним шли трое вождей команчей.
Апачские вожди поднялись и приветствовали их.
Команчи отвечали на привет с той же изысканностью, но не проронили ни слова, ожидая, чтобы к ним обратились к первым.
Воины команчей были молоды, хорошо сложены. На лицах их словно застыло гордое, воинственное выражение, глаза смотрели открыто и были освещены умом и глубокой мыслью. В своем национальном костюме, с высоко поднятой головой, со своей благородной осанкой они невольно возбуждали симпатию, особенно один из них, самый младший. Едва достигший, судя по наружности, лет двадцати пяти, он был, по-видимому, главным из них. Суровые черты его лица, блеск взгляда, легкая величественная походка сразу отличали в нем не заурядного индейского воина, а вождя с особыми полномочиями.
Этого вождя звали Насмешником. Насколько можно было судить по пучку перьев кондора, приколотому к его воинскому наряду, он был одним из главных вождей своего народа.
Апачские вожди устремили на вошедших инквизиторские взгляды, ничем, однако, не выдавая этого, что умеют делать одни только индейцы.
Команчи чувствовали на себе пристальные взгляды, но ни одним жестом не показали этого. Они не сделали ни одного движения, которое бы обнаружило, что они понимают, что являются предметом всеобщего внимания.
Макиавелли, хоть и автор «Государя», хоть хитрая, лукавая, не обнаруживающая ни малейшего уголка истины политика и носит его имя, на самом деле должен показаться мальчишкой в отношении выдержки в дипломатических играх перед североамериканскими индейцами. Эти бедные дикари, как называют их те, кто их не знает, в действительности являются самыми хитрыми дипломатами, какие только существуют на свете.
Спустя минуту, Черный Медведь выступил вперед, протянул правую руку открытой ладонью к вождям команчей, наклонил голову и обратился к ним так:
— Черный Медведь счастлив принимать под тотемом народа апачей братьев своих, команчей озер. Пусть вожди команчей сядут у костра совета и выкурят трубку мира с братьями своими апачами.
— Как может быть иначе, — отвечал на это Насмешник своим суровым голосом, — разве не дети одного Ваконды и апачи, и команчи?
И не прибавив более ни слова, он подошел в сопровождении двух других вождей к костру, и все они сели рядом с апачами.
Разговор опять прервался. Каждый из присутствующих курил.
Наконец, когда в трубках остался один пепел, Черный Медведь с улыбкой обратился к Насмешнику.
— Братья команчи озер охотятся, вероятно, неподалеку за бизонами, и им пришла мысль посетить их братьев апачей? Привет братьям команчам!
Насмешник наклонил голову.
— Команчи озер еще далеко отсюда на охоте за антилопами по берегам дель-Норте [73]. Насмешник и несколько преданных воинов одни пришли в эти места охоты.
— Насмешник — знаменитый вождь, — вежливо отвечал апачский вождь, — Черный Медведь рад видеть Насмешника. Такой великий воин, как брат мой, не сойдет со своего пути без особых причин.
— Черный Медведь угадал верно. Насмешник пришел, чтобы возобновить с братьями апачами узы тесной чистосердечной дружбы. Зачем спорить нам о земле, на которую мы имеем равные права? Почему не разделить нам ее между собой? Зачем краснокожие будут уничтожать друг друга? Не лучше ли нам зарыть у огня совета топор войны так глубоко, что апач, встретив где бы то ни было команча, всегда мог бы быть уверен, что видит перед собой любящего брата? Бледнолицые, которые с каждой луной все дальше продвигаются в глубь наших земель, разве не ведут с нами ожесточенной войны, а нашими внутренними раздорами разве мы не оказываем им самой действенной помощи?
Черный Медведь поднялся и, с достоинством протянув вперед руку, отвечал на речь команча такими словами:
— Брат мой Насмешник говорит правду. Одно чувство должно отныне воодушевлять нас — любовь к родине. Отбросим в сторону наши мелкие споры и будем думать об одном — о свободе! Бледнолицые ничего не знают о наших планах, я убедился в этом, когда был в Гуаймасе. Наше внезапное наступление будет для них как удар грома, от которого кровь застынет в их жилах. При нашем приближении они уже должны считаться наполовину побежденными.
За этими словами наступило торжественное молчание.
Насмешник обвел собрание гордым и спокойным взглядом и громким голосом воскликнул:
— Через двадцать четыре часа начинается Мексиканская луна! Воины, неужели мы дадим ей пройти, не попытавшись нанести смелый удар бледнолицым, как мы делаем это каждый год в это время. Есть крепость, на которую мы должны обрушиться подобно урагану. Эта крепость устроена не гачупинами, не йори, а бледнолицыми другого племени, и она является постоянной угрозой для нас. Вождь команчей открыто, честно предлагает вождям апачей без раздумий напасть на Гетцали вместе с четырьмя сотнями команчских воинов, во главе которых будет стоять Насмешник.
При этом предложении трепет удовольствия пробежал по рядам собравшихся.
— Апачи с удовольствием принимают предложение братьев своих команчей! — воскликнул Черный Медведь. — У Черного Медведя почти такое же число воинов. Вместе, не может быть сомнения, они до основания разрушат крепость белых. Завтра с восходом луны мы вместе тронемся в путь.
Вожди встали и удалились. Черный Медведь и Насмешник остались одни.
Эти два вождя пользовались одинаковой славой, оба были одинаково уважаемы своими племенами. Они с любопытством смотрели друг на друга, так как до сих пор были врагами и видели один другого не иначе как с оружием в руках.
— Черный Медведь благодарит брата своего за искреннее предложение, — первым начал Черный Медведь. — Сейчас помощь команчей неоценима для нас. Когда будет одержана победа, два народа поровну поделят добычу.
Насмешник поклонился.
— Какой план составил брат мой? — спросил он.
— План очень прост. Команчи — отличные всадники, с братом моим во главе они должны быть непобедимы. Как только луна взойдет на небо, Насмешник возьмет своих воинов и пойдет с ними на Гетцали, сжигая впереди себя траву, чтобы густая туча дыма скрывала его движение и не давала возможности сосчитать его воинов. Если бледнолицые выставят вперед аванпосты, чтобы вовремя предупредить гарнизон, то брат мой должен овладеть ими и перебить всех воинов, чтобы они не дали знать в Гетцали. Во время этого похода, как и всегда, все, что принадлежит белым, — крепости, хакали [74], дома — должно быть сожжено, животных следует угонять в наши земли. Подойдя к Гетцали, брат мой постарается спрятаться как можно лучше и будет ждать сигнала, чтобы напасть на белых.
— Хорошо. Брат мой Черный Медведь — мудрый вождь. Дело его ждет успех. Насмешник в точности исполнит все, что он сказал. Но что думает делать он сам, пока Насмешник будет исполнять свою часть общего плана?
Черный Медведь загадочно улыбнулся.
— Брат мой увидит это, — сказал он, положив руку на плечо команча, — пусть Насмешник предоставит Черному Медведю действовать, как он сочтет нужным. Черный Медведь ручается за победу.
— Отлично, — отвечал команч, — брат мой первый в своем племени и знает, что надо делать. Апачи не женщины. Насмешник пойдет к своим воинам.
— Да, брат мой понял меня. Завтра с восходом луны…
Насмешник наклонил голову, и оба вождя расстались лучшими друзьями, по крайней мере, с виду.
Несколько минут спустя в лагере апачей уже царило общее возбуждение. Женщины разбирали шатры и навьючивали мулов, дети приводили и седлали лошадей, все готовились к скорому выступлению.
Глава XII
ЖЕНСКАЯ ХИТРОСТЬ
При восходе луны, как было условленно, Насмешник отдал своим воинам приказ трогаться в путь. Тотчас же отряд всадников выехал вперед и бросил множество зажженных факелов в сухие кусты. Через несколько минут образовалась исполинская поднимающаяся к небу огненная завеса, которая скрыла все, что происходило за ней.
Команчи в точности исполнили план вождя апачей. Менее чем через полчаса вся степь уже была объята пожаром.
Черный Медведь, скрытый со своим отрядом на острове, не делал ни малейшего движения. Следы, оставленные после себя команчами, были слишком явны. Вся долина, еще утром такая красивая, дышавшая обилием и роскошью, теперь стала печальной, пустынной и угрюмой. Исчезла зелень, исчезли цветы, исчезли птицы, порхавшие в густой листве и весело чирикавшие каждая на свой лад.
План индейцев удался вполне, и колонисты Гетцали были бы непременно захвачены врасплох, если бы посторонние люди — Весельчак с товарищами — не встретились по дороге с индейцами.
Канадец был настороже.
При первом дыме, который он заметил вдали на горизонте, он понял намерение краснокожих и, не теряя ни минуты, направил Орлиную Голову в колонию, чтобы известить графа о происходящем.
Команчи двигались, прикрытые огнем, уничтожая ногами своих лошадей все, что случайно оставалось уцелевшим после огня.
Глубокой ночью Насмешник остановился со своим отрядом недалеко от колонии. Предполагая, что благодаря быстроте его передвижения белые не имели времени принять какие-либо меры для защиты крепости, он скрыл в засаде часть своего отряда, а сам во главе остальной части двинулся дальше, соблюдая обычные в таких случаях меры предосторожности, и остановился перед батареей на перешейке.
Никто не появлялся. Шанцы казались совершенно покинутыми. Насмешник испустил воинственный клич, внезапно поднялся и, прыгая, как ягуар, начал взбираться со своими воинами на насыпь, но как раз в тот момент, когда краснокожие приготовились спрыгнуть в окопы, ужасный залп в упор уложил на месте почти половину отряда, а другая половина кинулась бежать.
Белые имели перед команчами одно громадное преимущество: у команчей не было огнестрельного оружия. Карабины белых производили в их рядах жестокое опустошение, а они могли отвечать только стрелами, копьями и камнями, пущенными из пращей.
Убедившись, хотя и слишком поздно, что белые не дремлют, Насмешник в отчаянии от неудачи и тяжелых потерь решил не ослаблять свои силы бесплодными попытками, дабы окончательно не поколебать бодрости духа своих воинов. Он засел за густой листвой девственного леса и стал ждать, что предпримет Черный Медведь.
Дон Луи следовал между тем за Орлиной Головой. Индеец, сделав несколько поворотов, привел его почти к самой батарее на перешейке, остановившись на опушке густой чащи кактусов, алоэ и флорибондов.
— Мой брат может сойти с коня, — обратился он к французу, — мы прибыли.
— Прибыли, но куда же? — спросил дон Луи, растерянно озираясь кругом.
Вместо ответа индеец взял под уздцы лошадь и повел ее. Луи все продолжал осматриваться кругом, но ничего не мог понять.
— Ну, — спросил у него Орлиная Голова, — понял ли наконец брат мой?
— Честное слово, я ничего не понимаю, вождь.
Индеец улыбнулся.
— У бледнолицых глаза крота, — сказал он.
— Быть может; в таком случае, я буду вам благодарен, если вы мне одолжите на время свои.
— Хорошо, мой брат сейчас все увидит.
Орлиная Голова лег на землю, Луи последовал его примеру. Оба поползли в глубь чащи. Спустя четверть часа, в течение которого этот неудобнейший способ передвижения довольно сильно утомил француза, индеец остановился.
— Пусть оглянется брат мой, — сказал он.
Они находились на узкой поляне, окруженной такой густой, без проблеска, чащей кустарников, сучьями деревьев, перевитых массами колючих лиан, что оставалось непонятным, каким образом можно проникнуть на эту полянку и выбраться с нее. Трудно было предположить, что существует в этой чаще такое место.
Весельчак и оба мексиканца ожидали на ней возвращения посланца и курили с философским равнодушием.
— А! Милости просим! — закричал Весельчак, увидев дона Луи. — Как нравится вам наше убежище? Прелестно, не правда ли? Это Орлиная Голова разыскал его. Эти индейцы имеют особое чутье, чтобы отыскивать укромные места. Здесь мы в такой же безопасности, как в соборе Квебека.
Во время этого потока слов дон Луи уселся поудобнее на землю и ничего не ответил, а только горячо пожал руки своим товарищам. Так как его пустой желудок давал о себе знать, он немедленно принялся утолять голод и отдал должную честь той снеди, которую предложил ему Весельчак.
— Ну, а где наши лошади? — спросил наконец он.
— Здесь, в двух шагах от нас, но ни нам, ни посторонним не найти их.
— Отлично. Ну, а можем ли мы забрать их достаточно быстро, если потребуется?
— Разумеется.
— Ну, так я полагаю, что скоро они нам понадобятся.
— Ага! Но, — прибавил Весельчак, спохватившись, — что же мы болтаем, я и забыл, что вы голодны, как койот. Ешьте, ешьте, поговорим после.
— Я могу и есть, и говорить, — ответил дон Луи.
— Нет, всему свое время, кончайте ваш завтрак, а затем мы выслушаем вас.
Когда дон Луи достаточно подкрепился, то со всеми подробностями рассказал о своей поездке.
— Все это прекрасно, — заметил Весельчак, когда дон Луи закончил свой рассказ. — Я полагаю, что теперь мы можем быть спокойны за участь наших земляков, особенно с помощью сорока пеонов капатаса, которые нападут на врага с тыла.
— Да, но где их спрятать?
— Это дело Орлиной Головы. Вождь знает эти места, как свои пять пальцев, он долго охотился здесь. Я уверен, что он найдет для мексиканцев укромное местечко. Что вы скажете, вождь?
— В прерии нетрудно скрыться, — лаконично заметил индеец.
— Да, — проговорил дон Марсиаль, — но есть обстоятельство, которое вы не приняли в расчет.
— Какое?
— Я живу на границе и давно привык к индейской тактике. Апачи подойдут только за стеной огня и дыма, скоро вся прерия станет морем пламени, с которым мы напрасно будем бороться. Оно все равно в конце концов поглотит нас, если мы не примем необходимых мер.
— Это правда, дело нешуточное. К сожалению, я вижу только одно средство избавиться от опасности, которая нам угрожает, но мы не можем воспользоваться этим средством.
— В чем оно состоит?
— Разумеется, бежать как можно скорее.
— Вождь знает другое, — заметил Орлиная Голова.
— Вы, вождь? Так сообщите нам его!
— Пусть бледнолицые слушают! Рио-Хила, как все большие реки, несет в своем течении деревья, вырванные из земли. Иногда их так много, что в некоторых местах они полностью запруживают реку. Река находит себе путь с боков, деревья прижимаются друг к другу, сучья их переплетаются, песок застревает между ними, начинает расти трава, еще плотнее связывает их своими корнями, и издали эти плоты, застрявшие на мели, кажутся настоящими островами. Потом приходит буря, высокий разлив поднимает такой остров с мели, несет его, разбивает на части и, наконец, уничтожает.
— Да, я знаю нечто подобное. Мне приходилось видеть иногда то, о чем вы говорите, вождь, — отвечал Весельчак. — Эти плоты становятся в конце концов настолько похожи на острова, что человек, даже привыкший к жизни в пустыне и к великим явлениям природы, и тот часто ошибается в подобном случае. Я понимаю, в чем состоит ваш план, но не вижу, как можно привести его в исполнение.
— Очень просто. Глаз индейца не ошибается, на расстоянии двух полетов стрелы он видит все. Разве брат мой не заметил на реке, выше большого вигвама бледнолицых, шагах в пятидесяти от берега небольшой островок?
— Действительно, — живо воскликнул Весельчак, — вы говорите правду! Верно, я припоминаю этот островок. Как же я мог забыть о нем?
— Да, там нечего бояться пожара, — заметил дон Луи, — если мы все поместимся на нем, то он нам пригодиться в качестве временного пристанища. Нечего терять время, надо как можно скорее добраться до этого места, исследовать его, и, когда мы убедимся, что он нам подходит, мы проведем туда и пеонов.
— Итак, в путь, не медля ни минуты, — сказал Тигреро и поднялся.
Остальные последовали за ним, и через минуту полянка опустела.
Взяв своих лошадей, наши искатели приключений тронулись к островку, идя вслед за Орлиной Головой.
Вождь не обманул их. С той верностью глаза, которая составляет характерную черту его племени, он безошибочно определил положение места, им самим же так умело выбранное.
К великому счастью, на берегу росли корнепуски — болотные деревья, пускавшие так называемые воздушные корни. Эти деревья уходили довольно далеко в реку и уменьшали расстояние между островом и берегом. Они представляли естественную преграду, и индейцы не смогли бы никак напасть на них без того, чтобы не оказаться под пулями отряда, скрытого в высокой траве островка.
Этот островок (будем его называть так, хотя, как мы знаем, это была застрявшая на мели масса коряг и деревьев) был покрыт сухой, жесткой и густой травой, высотой около двух метров, с головой скрывавшей всадников и лошадей. Когда обследование островка было закончено, Весельчак и оба мексиканца остановились посередине его и разбили там свой бивак, тогда как дон Луи и Орлиная Голова вернулись на берег и отправились навстречу капитану и его людям.
Дон Марсиаль не захотел идти с ними. Он боялся, что вблизи колонии его может узнать дон Сильва, что грозило совсем расстроить его дальние планы.
Дон Луи предложил ему ехать вместе, но, получив отказ, не настаивал.
Сказать по правде, дон Луи и к этому человеку питал необъяснимую антипатию. Его кошачьи манеры и постоянные колебания мало располагали в его пользу.
Орлиная Голова и дон Луи в полной уверенности, что Черный Медведь окончательно удалился из ближайших окрестностей, сочли излишним заставлять мексиканцев делать длинный и утомительный обход. Поэтому, прежде чем подойти к месту засады, они засели в кустарнике около самого перешейка и стали ждать их, чтобы отвести прямо на островок.
Внутри асиенды новость, принесенная графом Пребуа-Крансе, подняла на ноги всех и вся. Хотя со времени закладки асиенды — крупного поместья — индейцы уже не раз пытались побеспокоить французов, их попытки были беспомощны. На этот раз колонистам впервые предстояло иметь серьезное дело со своими свирепыми соседями.
Граф де Лорайль собрал на асиенде около двухсот дофиеров, явившихся из Вальпарайсо, Гуаякиля, Кальяо и тихоокеанских портов, кишевших авантюристами всякого рода.
Это была странная смесь людей всех национальностей, населяющих оба полушария нашей планеты. Преобладали там, впрочем, французы. Полубандиты, полусолдаты, эти люди не имели никакого имущества, сами не знали, к чему они стремились. Создавали ли они что-либо или разрушали, они сами не могли сказать. К своему вождю, выбранному ими по доброй воле, они питали слепое доверие.
Известие о готовящемся нападении индейцев гарнизон воспринял с криками величайшей радости и энтузиазма. Убить человека из карабина для этих авантюристов было простым развлечением, которое они позволяли себе для того, чтобы, как они говорили, прочистить стволы. Особенно им хотелось показать индейцам разницу, существовавшую между креолами-колонистами, которых краснокожие с незапамятных времен привыкли грабить и убивать, и европейцами, которых они еще не знали.
Графу, таким образом, совсем не пришлось увещевать их держаться твердо, напротив, он должен был все время умерять их пыл, прося их быть благоразумными и обещая, что скоро им представится случай встретиться с краснокожими в открытом бою.
Не надо забывать, что мексиканское правительство уступило графу де Лорайлю концессию на Гетцали с непременным условием, чтобы он беспощадно преследовал апачей и команчей и как можно дальше отгонял их от мексиканских границ, которые они издавна периодически опустошали.
На это-то условие своего договора с правительством он и намекал солдатам.
Когда все приготовления к защите были закончены, каждому было отведено место в линии обороны, распределены оружие и боеприпасы, заботу о более мелких сторонах дела граф предоставил двум своим лейтенантам: испанцу Диего Леону и Мартину Леру, двум старым служакам, на которых он считал возможным положиться. В конце концов он счел необходимым уделить долю внимания и Блазу Васкесу с его пеонами.
Необходимо было показать шпионам индейцев, если бы таковые были оставлены вокруг асиенды, что отряд этот действительно возвращается в Гуаймас. Поэтому на несколько мулов была навьючена провизия как бы для дальнего путешествия, после чего капатас, вполне войдя в роль, выступил во главе своего отряда с карабином в чехле за спиной.
Граф, дон Сильва и остальное население асиенды все время, пока была возможность, следили за отрядом, готовые выйти ему на помощь, если бы он подвергся нападению.
Но ничто не обнаруживало присутствия в прерии хотя бы одного живого существа. Царили полные спокойствие и тишина, и скоро мексиканцев скрыла высокая трава.
— Я ничего не понимаю в индейской тактике, — словно про себя проговорил дон Сильва. — Если они пропустят такой отряд, то это значит, что они замышляют какую-то штуку, с которой рассчитывают на верный успех.
— Скоро мы увидим, что нам надо делать, — ответил граф. — Во всяком случае мы готовы принять их. Меня только беспокоит, что донья Анита находится с нами. Не то, чтобы ей угрожала опасность, но ее испугает сам шум битвы.
— Нет, сеньор граф, — неожиданно ответила сама за себя донья Анита, выходившая в это время из дома, — не бойтесь за меня, я истая мексиканка и не похожа на ваших барышень, которых малейший пустяк приводит в трепет так, что они падают в обморок. Часто, и не в таком еще положении, как наше, я слышала военный крик апачей и не испытывала и доли того беспокойства, которое, как вы считаете, причинит мне это нападение.
Проговорив это тем надменным, презрительным тоном, который женщины умеют находить, когда говорят с человеком, добивающимся их любви, но которого сами они не любят, донья Анита прошла мимо графа, не удостоив его даже взглядом, и взяла под руку своего отца.
Граф ничего не ответил. Он до крови прикусил губу и немного наклонил голову, сделав вид, что не понял брошенной ему колкости. Он все откладывал решительное объяснение с молодой девушкой, так как, хотя он и не любил свою невесту, но, как всегда это случается в подобных случаях, тем не менее не мог простить ей, что она любит и любима другим. Особенно его злило ее полное к нему равнодушие. События последних двух дней, следовавшие с такой быстротой, мешали ему вызвать донью Аниту на решительное объяснение.
Дочь асиендадо, богатого землевладельца, донья Анита была мексиканка с примесью индейской крови. Предки дона Сильвы происходили из Андалусии. По характеру донья Анита была чистая андалуска; вся огонь и страсть, она повиновалась только внезапным порывам своего сердца. Дона Марсиаля она любила всеми силами своей души, а на графа де Лорайля она взирала с полнейшим хладнокровием и под оболочкой светского человека разгадала в нем самого обыкновенного авантюриста и любителя наживы. Решение свое она приняла бесповоротно, в душе решив, что брак ее с графом не состоится ни при каких обстоятельствах. Но как достигнуть этого? Выдержать открытую борьбу с отцом?.. Но она слишком хорошо знала своего отца, чтобы решиться пойти на что-либо подобное. Сила женщины заключается в ее видимой слабости, основное средство защиты ее — хитрость. И донья Анита выбрала хитрость, самое действенное оружие женщины, которое бывает иногда ужасным.
Блаз Васкес, капатас дона Сильвы, знал донью Аниту с пеленок, его жена была ее кормилицей, и он так любил молодую девушку, что не задумался бы продать свою душу черту, если бы она того потребовала.
Когда граф де Пребуа-Крансе явился на асиенду, то это посещение сильно заинтриговало девушку. После его отъезда она самым невинным образом стала расспрашивать капатаса, и тот все откровенно рассказал своей любимице, так как всем на асиенде скоро стало известно, какие новости принес незнакомый посетитель. Одного только никто не знал, но что донья Анита предугадала со свойственным женщинам чутьем, а именно, что в числе охотников, засевших вблизи асиенды, находится Тигреро.
Уходя от нее в Гуаймасе, дон Марсиаль сказал, что он постоянно будет следить за ней и сумеет предохранить ее от той судьбы, которая ей угрожает. Ясно было поэтому, что он должен был последовать за отрядом дона Сильвы, а значит, тоже должен был находиться среди великодушных людей, которые, стараясь спасти всю колонию, в это время хлопотали и о ее спасении.
Логика сердца есть единственная правильная логика, которая не обманывает никогда и ведет человека вперед, а не заставляет толкаться на одном месте. Мы видели, что рассуждения доньи Аниты, движимой страстной любовью, безошибочно верны.
Когда девушка выведала у капатаса все, что ей было надо, она обратилась к нему со следующими словами:
— Дон Блаз, когда нападение на асиенду будет отбито и вы совершите все, что от вас требуют, так что ни отец, ни дон Гаэтано не будут больше нуждаться в ваших услугах здесь, быть может, вы получите приказ вернуться в Гуаймас.
— Все возможно, сеньорита, весьма вероятно, — отвечал храбрый мажордом.
— Окажете вы мне тогда одну услугу, не правда ли? — спросила его девушка и наградила очаровательнейшей улыбкой.
— Разве вы не знаете, сеньорита, что за вас я готов броситься в огонь?
— Я не хочу до такой степени испытывать вашу любовь ко мне, мой дорогой Блаз, но благодарю вас.
— Что я должен сделать, чтобы угодить вам?
— О! Пустяки.
— Что же именно?
— Боже мой, так, вздор… Вы знаете, — продолжала она тихо, — мне уже давно хочется видеть у себя на полу в спальне две ягуаровые шкуры — такая вот у меня возникла фантазия.
— Нет, — наивно отвечал Блаз, — я этого не знал…
— Ах! Ну так знайте, я говорю вам.
— Ну, этого я не забуду, будьте спокойны, сеньорита.
— Благодарю вас. Но это просто так, к слову. Дело не в этом.
— А в чем же?
— Я думаю, каким образом раздобыть эти шкуры.
— Это уж вы предоставьте мне.
— Ну, зачем же вы из-за моего каприза будете рисковать своей жизнью. Эти ужасные животные могут разорвать вас.
— Пф! — презрительно фыркнул Блаз и, покачав головой, тоном упрека договорил: — Ах, сеньорита, ну что вы говорите!
— Но мне кажется, что их можно достать гораздо проще.
— То есть как же?
— В Гуаймас приехал несколько дней тому назад знаменитый охотник…
— Дон Марсиаль Асухена? — перебил ее мажордом.
— А! Так вы его знаете?
— Кто же не знает дона Марсиаля Тигреро!
— В этом все и дело.
— В каком смысле?
— Говорят, что этот Тигреро привез со своей последней охоты в прериях несколько чудных ягуаровых шкур, которые он, вероятно, будет согласен уступить за хорошую цену.
— Ну, разумеется.
— Вот, — проговорила она, вынув из-за складки своего платья на груди тщательно сложенную записку. — Я тут пишу ему, как должны быть отделаны шкуры и сколько я думаю предложить ему за них. Вот и деньги, — прибавила она, передавая кошелек, — вы с ним и расплатитесь.
— Да к чему тут еще записка? — недоумевал капатас.
— Друг мой, вам надо о стольких вещах помнить, что такой пустяк, я уверена, вылетит у вас из головы.
— Едва ли, хотя все возможно. Ну, пусть будет так.
— Не правда ли, так вернее? Так решено? Вы исполните мое поручение?
— Разве вы сомневаетесь?
— Нет, нет, мой друг. Ах! Еще одно слово. Не говорите ничего об этом отцу, вы знаете, он так добр, захочет мне сделать подарок, а мне хочется купить все на свои деньги, из собственных сбережений.
Капатас засмеялся, и на лице его отобразилось лукавство. Он чувствовал себя счастливым, что посвящен в тайну своей любимицы, как он называл молодую хозяйку, какой бы ничтожной ни была эта тайна.
— Ну конечно, я буду нем, как рыба.
Девушка дружески похлопала его по плечу и весело упорхнула, словно птичка.
Что означало это письмо? Что было написано в нем?
Скоро мы узнаем.
Остаток дня на асиенде прошел спокойно. Граф несколько раз пытался заговорить с доньей Анитой, чтобы вызвать ее на откровенное объяснение, но она всячески старалась избежать этого.
Блаз Васкес, выехав с асиенды, взял направление на Гуаймас и, заставив всадников ехать скорой рысью, чтобы избежать внезапного нападения, занял место впереди отряда.
Едва исчез он из глаз обитателей асиенды, скрывшись в густой траве, как вдруг на середину дороги выскочили два всадника и остановили своих коней шагах в десяти перед отрядом. С момента его выезда с асиенды к тому времени не прошло и двадцати минут.
Один из всадников был несомненно индеец, а в другом капатас сразу узнал утреннего посетителя асиенды.
Васкес жестом приказал отряду остановится и выехал вперед навстречу всадникам.
— Каким образом вы оказались здесь, сеньор? — обратился он к дону Луи. — Ведь место, где мы решили встретиться, находится достаточно далеко отсюда.
И он почтительно приветствовал графа.
Дон Луи отвечал на привет легким поклоном.
— Да, правда, до назначенного места встречи далеко. Но оказывается, в прериях нет ни одного следа апачей, и мы решили, что бесполезно заставлять вас делать такой большой крюк. Вот я и подождал вас здесь, чтобы провести прямо к месту засады.
— Это разумно. А нам далеко ехать?
— Не более четверти часа. Мы отправимся вон к тому островку, который можно увидеть, если приподняться в стременах.
— Ну что же, — заметил капатас, — место выбрано отлично, оттуда видно всю реку.
— Вот поэтому-то мы и заняли его.
— В таком случае ведите нас, сеньор, мы следуем за вами.
Отряд тронулся. Как и говорил дон Луи, через четверть часа капатас и сорок пеонов были уже на островке. Густая трава и деревья, росшие по берегам, скрывали людей на острове так хорошо, что их невозможно было открыть ни с того, ни с другого берега.
Как только капатас отдал необходимые распоряжения пеонам, он занял место у костра. Дон Луи представил его обоим мексиканцам и Весельчаку.
Первым, кого заметил Васкес, был дон Марсиаль Тигреро. Увидев его, он не мог сдержать восклицания изумления.
— Вот это, что называется, на ловца и зверь бежит! — воскликнул он и разразился смехом.
— Я не понимаю вас, — заметил ему мексиканец, не совсем довольный этой встречей, на которую он не рассчитывал и не думал, что капатас узнает его.
— А разве вы не дон Марсиаль Асухена по прозвищу Тигреро? — продолжал Блаз.
— Да, это я! — ответил дон Марсиаль, все больше приходя в беспокойство.
— Честное слово, мне трудно было бы поймать вас в Гуаймасе, и вдруг совершенно неожиданно я встречаю вас здесь.
— Объясните, пожалуйста, я ничего не понимаю.
— У меня есть к вам поручение от моей молодой госпожи.
— Что вы говорите? — почти закричал Тигреро, почувствовав, что сердце его подпрыгнуло от радости.
— Только то, что я сказал, ничего более. Донья Анита хочет, по-видимому, купить у вас две ягуаровые шкуры.
— У меня?
— Так точно.
Дон Марсиаль продолжал глядеть на него таким ничего не понимающим взглядом, что капатас залился смехом. Этот смех заставил молодого человека прийти в себя. Он тотчас же сообразил, что тут что-то кроется и что, если он по-прежнему будет показывать свое изумление, то пробудит подозрение у храброго Блаза Васкеса, которому, по-видимому, и самому не известен ключ к загадке.
— Да, да, правда, припоминаю, — начал он, как бы с трудом восстанавливая что-то в своей памяти, — я припоминаю, некоторое время тому назад…
— Вот! — перебил его капатас. — Мне поручено передать вам письмо, как только я вас встречу.
— Письмо от кого?
— Ах! Да от моей госпожи, конечно.
— От доньи Аниты?
— Ну да, от кого же еще?
— Давайте, давайте его сюда! — встрепенувшись, вскричал Тигреро.
Капатас подал ему письмо. Дон Марсиаль схватил его, дрожащей рукой сорвал печать и жадно впился глазами в мелко написанные строки.
Окончив чтение, он спрятал письмо на груди.
— Ну, что же пишет вам моя госпожа? — спросил его Блаз.
— То же самое, что и вы мне передали, — ответил Тигреро голосом, в котором слышалось плохо сдерживаемое волнение.
Блаз Васкес потряс головой.
— Гм! — проговорил он про себя. — Этот человек что-то скрывает от меня. Неужели донья Анита меня обманула?
Между тем Тигреро в волнении начал ходить по биваку, словно обдумывая какой-то план. Наконец он подошел к Весельчаку, который молча курил, нагнулся к нему и прошептал ему на ухо несколько слов, на что канадец отвечал утвердительно. Радость засветилась в черных глазах Тигреро, он сделал Кукаресу знак следовать за собой и покинул бивак.
Через несколько минут дон Марсиаль и его верный леперо, оба верхом на лошадях, переплывали узкий рукав реки, отделявший островок от берега.
Капатас увидел их, когда они уже выезжали из воды, и испустил крик изумления.
— Что же это такое? — растерянно обратился он к оставшимся. — Тигреро уезжает от нас. Но куда он едет?
Весельчак лукаво посмотрел на Васкеса и ответил:
— Вероятно, он поехал за ответом на письмо, которое вы ему вручили.
— Весьма возможно, — задумавшись, ответил капатас.
В это время солнце скрылось в золотом пурпуре далеко за горизонтом, за снежными вершинами Сьерры-Мадре. Ночь не замедлила окутать землю темным покровом.
Глава XIII
НОЧНОЙ ПОХОД
В эту ночь произошло столько событий, что мы, для того, чтобы рассказать читателю о них в той же последовательности, в какой они совершались, должны будем постоянно переходить от одного действующего лица к другому.
Дон Марсиаль был богат, даже очень богат. Страстно любя приключения, увлекаемый своим беспокойным, воинственным характером, он избрал своей профессией истребление пум, ягуаров и прочих диких зверей. Это давало ему повод и являлось целью его постоянных скитаний по пустыне, и он всю свою жизнь проводил, бродя по ней из конца в конец.
Название тигреро дается обыкновенно опытным, выдающимся охотникам, которые оговаривают с асиендадос условия, состоящие в том, что охотники обязуются истреблять в их владениях всех диких зверей, опустошающих стада, и получают за каждую шкуру определенную плату.
То, что другие делают из-за денег, дон Марсиаль совершал из любви к искусству и для своего удовольствия. Поэтому его всюду по мексиканской границе знали и любили, особенно асиендадос, которые в неустрашимом охотнике находили не только действительно полезного человека, но и хорошего товарища, приятного собеседника, словом, настоящего кабальеро во всех отношениях.
Дон Марсиаль впервые увидел донью Аниту, когда бродячая жизнь завела его на одну из асиенд, принадлежащих дону Сильве, где менее чем за месяц он перебил до десятка диких зверей.
С первого же дня Тигреро — слово это стало для дона Марсиаля прозвищем — влюбился в донью Аниту со всей свойственной ему кипучей страстью. Он стал постоянно следить за ней, и однажды ему пришлось быть свидетелем, как лошадь, на которой она каталась, понесла. Он был неподалеку и кинулся спасать девушку, рискуя собственной жизнью.
Во время этого приключения донья Анита в первый раз обратила внимание на своего обожателя и, произнося слова благодарности, заметила, что, при своей рыцарской храбрости, он чрезвычайно красив. Остальное читателю известно.
Прочтя письмо доньи Аниты, дон Марсиаль покинул островок в сопровождении Кукареса.
Эта поездка повергла леперо в мрачное настроение. В душе он проклинал себя за то, что имел безумие связаться с человеком, за которым в настоящую минуту следовал, как упрямый ослик на привязи. Переход по открытой прерии не сулил ему ничего приятного, он бессмысленно подвергался ежеминутному риску быть настигнутым шальной отравленной апачской стрелой. Но Кукарес был не способен хоть сколько-нибудь долго рассуждать, он горел желанием действовать. Леперо остановился на мысли, что, если уж Тигреро покинул с наступлением ночи вполне защищенную от нападения индейцев стоянку и, отказавшись от помощи товарищей, отправился как будто безо всякой ясной цели бродить по пустыне, то он имел на то какие-либо важные, ему, Кукаресу, непонятные причины. Ему, правда, хотелось узнать эти причины, но он в то же время знал, что дон Марсиаль болтать попусту не любит, а особенно не любит, чтобы кто-то совал нос в его тайные планы. Поэтому леперо отложил удовлетворение своего любопытства до более удобного момента, так как к дону Марсиалю, несмотря на все свое легкомыслие, он чувствовал великое уважение, смешанное с немалой долей страха.
Оба всадника ехали друг возле друга, храня полное молчание, опустив поводья и предавшись каждый своим мыслям. Кукарес скоро заметил, что Тигреро вместо того, чтобы углубиться в лесную чащу, старался держаться берега реки.
Тем временем мрак окончательно сгустился. Отдаленные предметы стали сливаться с массами теней на горизонте. Скоро нельзя было различить и ближайшие предметы.
Некоторое время леперо старался, то глубоко вздыхая, то испуская благочестивые восклицания, обратить на себя внимание своего спутника. Но все было напрасно. Наконец, когда темнота стала, что называется, хоть глаз выколи, он решил, что Тигреро теперь уже ни о чем не может думать, кроме того, как бы не сбиться с пути, не завязнуть и не выколоть себе глаз. Тогда Кукарес набрался смелости и обратился к нему со словами:
— Дон Марсиаль… — проговорил он.
— Ну? — небрежно отозвался дон Марсиаль.
— Не находите ли вы, что пора остановиться?
— Зачем?
— Как это «зачем»? — с изумлением переспросил леперо, ободренный вниманием, оказанным его словам.
— Мы еще не приехали куда следует.
— А разве мы едем в какое-то определенное место?
— А зачем же, по-твоему, мы оставили безопасный островок и друзей?
— Это верно. Но куда же мы едем, вот что хотелось бы знать мне?
— Скоро ты это узнаешь.
— Признаюсь, мне это будет очень интересно.
Они оставили на расстоянии приблизительно двух ружейных выстрелов холм Гетцали и достигли небольшой бухточки, которая из-за извилистости реки находилась как раз в тылу асиенды, встававшей темной массой перед ними и закрывавшей их своей тенью.
Дон Марсиаль остановился.
— Вот мы и приехали, — проговорил он.
— Наконец-то, — со вздохом облегчения буркнул про себя леперо.
— Я хочу сказать, что самая легкая часть нашего путешествия закончена.
— Значит, нам предстоит серьезное дело?
— Разумеется! Разве ты до сих пор думал, что эту прогулку по берегу Рио-Хилы мы предприняли ради наслаждения красотами природы?
— Меня и самого это удивляло.
— Ну, а теперь начнется, собственно, само дело, ради которого мы ехали.
— Отлично.
— Только я должен предупредить тебя, что дело это довольно опасное. Но я рассчитываю на тебя.
— Благодарю вас, — отвечал на это Кукарес, скорчив гримасу, которая должна была изображать улыбку.
На самом деле эта улыбка показала, что Кукаресу было бы гораздо приятнее, если бы в этом случае ему меньше доверяли.
Дон Марсиаль продолжал:
— Мы пойдем туда, — он протянул руку по направлению к реке.
— Куда «туда»? На асиенду?
— Да.
— А вы разве полагаете, что у нас с вами по две головы?
— Нет, я думаю, по одной, если только у тебя есть хоть одна.
— Неужели вы думаете, что мы достигнем асиенды и нас не заметят?
— Попытаемся, по крайней мере.
— Отлично, но, так как это, конечно, нам не удастся, то эти черти французы примут нас за индейцев и пошлют нам в лоб пулю, это как пить дать.
— Да, это может случиться.
— Благодарю. В таком случае я предпочитаю остаться здесь, так как, признаюсь, я еще не настолько сошел с ума, чтобы совать свою башку в волчью пасть. Ступайте, если уж вам так приспичило, а я и здесь могу подождать.
Тигреро не мог сдержать улыбки.
— Опасность вовсе не так велика, как тебе кажется, — сказал он, — на асиенде нас будет ждать одно лицо, которое постарается удалить часовых с того места, куда мы направимся.
— Все это так, но я все-таки предпочитаю не ставить подобного опыта. Пуля не знает пощады, а французы стреляют без промаха.
Тигреро не отвечал, как будто даже не расслышал замечания своего товарища. Он нагнулся вперед и слушал.
Пустыня в несколько минут пробудилась, из глубины непроходимых чащ доносился какой-то шум. Звери выходили из своих логовищ и, словно растерянные, проходили мимо двух людей, не замечая их. Птицы, пробудившись от первого сна, взлетали, испуская резкие крики, и описывали в воздухе широкие круги. На реке видны были силуэты животных, которые изо всех сил спешили переплыть на другой берег. Очевидно, происходило что-то необычное.
По временам сухой треск, свист, глухой шум, словно от прорвавшей плотину воды, раздавались в тишине и с минуты на минуту становились все сильнее, все явственнее.
На краю горизонта появилась широкая полоса кроваво-красного пламени и залила всю окрестность зловещим фантастическим отблеском.
Раза два наших искателей приключений уже покрывали темные облака дыма, в котором неслись искры и горящие хлопья сухой травы.
— Ах! Боже мой, что это такое? Дон Марсиаль, глядите! — воскликнул леперо. — Посмотрите на наших лошадей!
Благородные животные стояли, вытянув шеи, прижав уши, вдыхая расширенными ноздрями удушливый, наполненный запахом гари воздух и с силой ударяя копытами о землю.
— Что же тут такого? — спокойно ответил Тигреро. — Они чувствуют, что прерия горит, вот и все.
— Как, прерия горит? Неужели вы думаете, что прерия горит?
— Я не думаю, я это вижу. Тебе стоит только хорошенько присмотреться, как это сделал я.
— Гм! Отчего же она загорелась?
— Да очень просто! Это одна из обычных индейских хитростей. Наступает Мексиканская луна, разве ты забыл об этом?
— Позвольте, я ведь не охотник. Признаюсь, что меня все Это ужасает, и я дорого бы дал, чтобы очутиться подальше отсюда.
Леперо сделал жест отчаяния.
— Да ты просто ребенок, — смеясь, заметил ему дон Марсиаль. — Индейцы, чтобы скрыть свое наступление, подожгли прерию, они двигаются следом за огнем. Скоро ты услышишь их боевой клич посреди пламени и дыма, которые охватят тебя со всех сторон. Если ты останешься здесь, то подвергнешься трем неизбежным опасностям: изжариться, быть оскальпированным или убитым. И то, и другое, и третье, вероятно, тебе будет не особенно приятно. Положись на меня и следуй за мной. Если тебя убьют — ну так что же? Значит, этого не избежать… Ну что, едем? Огонь приближается, скоро будет уже поздно. Ну, на что же ты решился?
— Я следую за вами, — упавшим голосом проговорил леперо, — будь, что будет! Какой дурак я был, что уехал из Гуаймаса, где мне жилось так хорошо, где я ничего не делал, а теперь то и дело попадаю в подобные переделки. О! Да пусть гром разразит меня, если я еще раз пущусь бродить с вами по прерии, если только сегодня все сойдет благополучно.
— Ну да, ну да! Всегда так зарекаются… однако, надо спешить, время не терпит.
И действительно, прерия на пространстве в несколько миль кругом пылала, как кратер огромного вулкана. Пламя ходило волнами, как на море в бурю, деревья вспыхивали, как снопы сена, к небу поднимались столбы густого, черного дыма с искрами, горящими хлопьями. Пустыня наполнилась свистом, шипением, шумом. Крики птиц, вой зверей затихали: и птицы, и звери или гибли, или убирались в безопасные места за реку.
Дон Марсиаль и леперо сели на лошадей и пустили их, совсем бросив поводья. Благородные животные, руководимые инстинктом, изо всех сил рванулись к воде.
Та часть прерии, которая лежала за рекой, представляла полный контраст с той, которую покидали наши искатели приключений. Последняя казалась морем пламени, которое поглощало на своем пути все, что попадалось живого и цветущего, превращая все в тончайший, подхватываемый вихрями пепел, спускаясь в долины, поднимаясь на холмы.
Рио-Хила в то время года, к которому относится наш рассказ, поднялась от дождей, ливших в горах, и была вдвое шире обыкновенного. Течение ее было по этой причине необыкновенно быстрым и в некоторых местах весьма опасным. Но когда наши путники спустились к берегу, они увидели, что через реку переправляется такая масса всякого зверья, хищного и нехищного, совершенно забывшего свою вечную непримиримую вражду, что течение было просто задержано массой тел. Дон Марсиаль и леперо поспешили присоединиться к спасавшим свою жизнь живым существам и переплыли на другой берег сравнительно быстро.
— Эге! — заметил Кукарес, успокоившись, когда почувствовал, что лошадь его опять коснулась ногами дна и стала взбираться на небольшую кручу зеленого берега. — Ведь вы говорили мне, что мы идем на асиенду, а теперь, не правда ли, мы выбрали совсем другое направление? Так ведь я говорю?
— Нет, дружище, ты говоришь вовсе не так. Помни, что в пустыне часто приходится поворачиваться спиной к тому месту, которого ты стремишься достичь, и все это для того, чтобы добраться туда наверняка.
— Что вы этим хотите сказать?
— Мы спутаем своих лошадей под этими акациями и флорибондами, так как здесь они будут в полной безопасности, а сами вернемся к асиенде.
Тигреро тотчас же спрыгнул с лошади, подвел ее к группе деревьев, снял узду, чтобы она могла пастись, и стреножил. Затем он вернулся на берег.
Кукарес с тем отчаянием, которое в известных случаях, дойдя до предела, превращается в тупую покорность судьбе, имеющую некоторое сходство с мужеством, в точности повторил то, что проделал его товарищ. Достойный леперо, глубоко убежденный, что все погибло, отдался на произвол своей, быть может, несчастной звезды с тем фатализмом, который составляет характерную черту миросозерцания восточных народов.
Мы уже говорили, что на этом берегу реки царило спокойствие, только у воды раздавались самые разнообразные звуки — мяуканье, урчание, лай и прочее, — исходившие от зверей, выражавших таким образом радость по поводу своего спасения и спешивших поскорее убраться прочь в глубь прерии. Леперо наконец сообразил, что теперь он также в безопасности, и обратился к дону Марсиалю:
— Но как же мы попадем туда, на асиенду? Река широка, а плавать я не умею.
— Подожди немного. Мы сейчас кое-что найдем, я в этом уверен, если только хорошенько поищем, и облегчим нашу переправу. Э! Ну вот, смотри, — прибавил дон Марсиаль через минуту, — разве не правду я говорил?
И он указал леперо на пирогу, причаленную в маленькой бухточке по эту сторону реки.
— Колонисты ловят здесь рыбу, — продолжал Тигреро, — и в нескольких местах по берегу держат пироги. Мы возьмем эту и через две минуты будем опять у стен асиенды. Умеешь ли ты хоть владеть веслом?
— Да, когда я спокоен.
— Слушай, друг мой Кукарес, — оборвал его Марсиаль, положив ему на плечо руку и с минуту пристально смотря ему в глаза, — у меня нет сейчас времени разговаривать с тобой. У меня серьезные причины поступать так, как я поступаю. Мне нужна твоя самоотверженная помощь, ты должен помогать мне без всякой задней мысли, слышишь? Ты меня знаешь. При первом твоем подозрительном движении я всажу тебе в череп пулю, я убью тебя, как шакала. Теперь помоги мне достать эту пирогу, и быстрее в путь.
Леперо понял, что с ним не шутят, и вновь бессильно отдался на волю судьбы. Через несколько минут пирога была отвязана, и оба мексиканца уже сидели в ней.
Чтобы добраться до той части асиенды, что лежала против батареи, им нужно было проплыть совсем немного, но этот короткий путь был полон опасностей. Во-первых, река несла в своем быстром течении множество вырванных с корнями деревьев, которые плыли, наполовину выглядывая из воды, и на каждом шагу могли зацепить и опрокинуть зыбкое суденышко. Кроме того, через реку продолжали переправляться стадами звери, и если бы пирога попала в середину одного из таких стад, то она неизбежно была бы увлечена им и также перевернута вверх дном. Самая малая опасность, которой наши герои подвергались, состояла в том, что они могли получить в лоб пулю от часовых, расставленных в чаще под стенами асиенды и охранявших доступ к ней со стороны реки. Но эта последняя опасность была ничтожной по сравнению с двумя первыми, так как все заставляло предполагать, что привлеченный заревом гигантского пожара гарнизон направит все свое внимание от реки в сторону прерии. Наконец, дон Марсиаль не думал, что часовые стояли у самой воды.
По его знаку леперо взял весла, и они отчалили.
Пожар быстро проходил по направлению к западу, уничтожая все на своем пути.
Пирога медленно продвигалась вперед среди бесчисленных препятствий, замедлявших ее ход.
Кукарес, бледный как смерть, с развевающимися волосами, с выпученными от страха глазами, словно безумный работал веслом, с отчаянием поручив свою душу всем святым, каких только он мог припомнить из бесконечных испанских святцев. Он был убежден, что теперь-то ему уж никак не выйти живым из пироги.
Да и действительно, положение было не из приятных. Требовались вся решимость и отвага Тигреро, подогретые целью, к которой тот стремился, чтобы он сам решился проделать то, во что втянул и своего спутника.
Чем дальше продвигались они, тем ужаснее и многочисленнее становились окружающие их опасности. То и дело они были вынуждены изменять направление, чтобы избежать плывших по реке деревьев. Они постоянно останавливались, раз десять проплывали по одному и тому же месту, так как водоворот и быстрое течение то и дело сносили их вниз.
Около двух часов длилась эта трудная переправа. К асиенде они приближались крайне медленно, и ее темная масса, вырисовывающаяся на звездном небе, оказывалась у них то справа, то слева. Вдруг ужасный крик множества голосов донесся из-за асиенды, с прерии, и за ним, как гром небесный, последовал залп артиллерии и сухой треск ружейных выстрелов.
— Пресвятая Дева! — закричал Кукарес, бросив весло и сложив руки. — Мы погибли! Мы погибли!
— Что ты орешь? — спокойно остановил его Тигреро. — Напротив, мы спасены! Индейцы пошли на приступ, все французы теперь обратились в ту сторону, никто и не подумает смотреть, что делается на реке. Смелее, compadre! Еще два-три сильных гребка, и мы у цели.
— Да услышит вас Господь! — проговорил леперо, вновь принимаясь грести дрожащей рукой.
— А приступ, кажется, нешуточный. Ну, тем лучше! Чем дольше они будут сражаться по ту сторону асиенды, тем меньше будут смотреть на реку.
Со стороны перешейка доносился между тем гул схватки, которая с каждой минутой становилась все жарче.
Оба мексиканца, скрытые в темноте, бесшумно подплывали к асиенде.
Дон Марсиаль стал вглядываться вперед. Все было безмолвно с этой стороны. Берег возвышался уже шагах в двадцати от них. Все, по-видимому, говорило о том, что их не заметили.
Тигреро наклонился к своему спутнику:
— Довольно, мы приехали.
— Приехали? — как безумный переспросил леперо. — Но до берега еще далеко!
— Нет, в том месте, где мы стоим, тебе нечего бояться, что бы вокруг тебя ни происходило. Сиди в пироге, привяжи ее к какой-нибудь коряге и жди меня.
— Вас?
— Да, меня. Я оставлю тебя часа на два. Смотри, не зевай. Если заметишь что-либо подозрительное, то дай мне знать. Сигналом будет крик водяной курочки, который ты повторишь два раза, понял?
— Понял. Но если нам будет угрожать что-нибудь особенное, что мне делать?
Тигреро задумался на минуту.
— Что же может еще угрожать нам?
— Я не знаю. Но эти индейцы такие дьяволы, что от них можно ожидать чего угодно.
— Это верно. Ну, так в случае особенной опасности, и только в этом случае — понимаешь? — ты должен дать мне сигнал — прокричать два раза курочкой — и отъехать вон туда, к тем ивам над водой. Там ты будешь в полной безопасности, и я сейчас же приду к тебе.
— Хорошо. Но как же вы? Как я найду вас?
— Я два раза пролаю луговым шакалом. Ну, а теперь будь благоразумен и не трусь.
— Положитесь на меня.
Тигреро снял с себя всю лишнюю одежду, которая могла его стеснять — свой сарапе и сапоги, и остался в камзоле и панталонах. Засунув за пояс нож и пистолеты, закинув карабин за плечи, взяв картечь и пороховницу, он затем два раза попытался воспроизвести руладу жаворонка. Немедленно с берега последовала ответная трель. Тогда Тигреро вновь повторил своему товарищу совет держаться настороже, привязал оружие к голове и тихо спустился в воду. Леперо увидел его плывущим к асиенде сильными, но бесшумными взмахами рук. Скоро Тигреро исчез из виду, слившись с ночной темнотой.
Оставшись один, Кукарес, словно по какому-то наитию, стал осматривать свое оружие, переменил затравки, словом, приготовился на всякий случай, чтобы не быть застигнутым врасплох. Затем, успокоенный тишиной, которая царила вокруг, он, несмотря на предупреждения Тигреро, растянулся на дне пироги и приготовился спать.
Шум схватки понемногу затихал и, наконец, совсем смолк. Не стало слышно ни воинственных криков, ни выстрелов. Индейцы, встретив серьезный отпор колонистов, отступили. Пожар удалялся, зарево меркло, пустыня вновь погружалась в свои обычные молчание и тишину.
Леперо, лежа на спине на дне лодки, смотрел на звезды, сиявшие на темном небе. Легкая зыбь укачивала лодку, как колыбель, глаза его по временам слипались. Наконец он погрузился в дремоту и скорее всего заснул бы окончательно, если бы в тот самый момент, когда он готовился совсем сомкнуть веки, его не посетил последний проблеск сознания, заставивший вспомнить положение, в котором он находился, и осмотреться вокруг полусонными глазами. То, что увидели эти полусонные глаза, заставило его задрожать всем существом. Крик ужаса готов был вырваться из его груди, но он остался нем и только быстро поднялся в пироге, так что она закачалась и зачерпнула бортом воды.
Кукарес увидел ужасное зрелище. Он протер глаза, чтобы убедиться в том, что не спит, и осмотрелся вновь.
То, что он поначалу счел видением, на самом деле было действительностью.
Мы говорили, что река несла множество коряг, корней, вырванных деревьев с сучьями. В продолжение уже довольно долгого времени около того места, где находилась пирога, эти деревья стали образовывать затор. Почему это произошло, леперо не мог объяснить себе. Деревья должны были бы следовать по течению и спускаться вниз, а тут, поравнявшись с асиендой, они оставляли середину реки и мало-помалу приближались к берегу, на котором стояла асиенда.
Но что особенно удивительно, так это то, что все эти деревья направлялись к одному месту, а именно к оконечности мыса на стороне асиенды, противоположной перешейку, соединяющему асиенду с берегом, на котором стояла батарея. Но не это возбудило ужас Кукареса. Он увидел, как между странно переплетающимися сучьями сверкают глаза, скоро он разглядел также страшные очертания голов и ужасные профили в индейских воинских уборах.
Сомнений быть не могло — на каждом дереве сидел, по крайней мере, один индеец. Леперо решил, что, потерпев неудачу с одной стороны, индейцы попытались повторить нападение с другой и пробирались вплавь, уцепившись за суковатые деревья, спускавшиеся по реке, в ветвях которых они и спрятались.
Положение леперо становилось затруднительным. До сих пор индейцы не обращали внимания на пирогу, предполагая, что она принадлежит, вероятно, кому-нибудь из них, но каждую минуту истина могла открыться, и тогда, леперо знал, ему нечего ждать пощады.
Уже не один раз за борта пироги хватались сильные руки и держались за них по нескольку секунд, хотя те, кому эти руки принадлежали, не догадывались заглянуть внутрь ее, что Кукарес благочестиво приписывал действию Провидения.
Все эти размышления, как и многие другие, приходили в голову Кукаресу, когда он лежал на дне лодки, легко покачивавшейся на зыби, и смотрел на небо, усыпанное тихо мигающими звездами. Лицо его исказилось от ужаса, руки словно замерли, схватив ложа двух пистолетов, он мысленно возносил последнюю свою молитву и поручал себя своему святому. Каждую минуту он ждал ужасной развязки, которая, чем больше протекало времени, тем становилась все грознее и неизбежнее.
Ждать ему пришлось недолго.
Глава XIV
ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ
Среди непокоренных индейских племен, кочующих по громадным пустыням, ограниченным реками Рио-Хилой, Рио-Браво-дель-Норте и Колорадо, в эпоху, к которой относится наш рассказ, два племени оспаривали первенство между собой: апачи и команчи.
Непримиримые враги, находящиеся в непрестанной войне друг с другом, эти племена иногда объединялись общей своей ненавистью к белым и ко всему тому, что имело какое-либо отношение к этой враждебной им расе.
Превосходные наездники, бесстрашные охотники, жестокие, безжалостные воины, команчи и апачи являлись для жителей северных областей Мексики ужасными соседями. Ежегодно в одно и то же время их отряды, насчитывавшие по нескольку тысяч человек, выходили из глубины пустынь, переплывали реки и в нескольких местах сразу проникали в пределы Мексики, сжигая и убивая все, что встречалось им на пути, захватывая женщин и детей и распространяя горе и разрушение миль на двадцать в глубь страны, занятой оседлыми европейскими поселениями.
В эпоху испанского владычества дело обстояло иначе. По границе были устроены многочисленные крепости и форты, между ними располагались в удобных для зашиты пунктах отряды войск, содержащиеся исключительно с целью отражать нападения индейцев и прогонять их в глубь прерий и не выпускать с их земель охоты. Но со времени провозглашения независимости Мексики граждане настолько втянулись в бесконечные и бесцельные междоусобицы и революции, что войска были отозваны и употреблялись для совершенно других нужд, форты были упразднены, и пограничным жителям предоставили защищаться самим, как они смогут и сумеют, то есть оставили их без всякой защиты. Следствием этого явилось то, что индейцы стали понемногу приближаться, перешли реки, не встречая никакого серьезного сопротивления. Произошло это по той простой причине, что мексиканское правительство под страхом самого сильного наказания запретило продавать оседлым индейцам огнестрельное оружие, а эти индейцы только одни и могли оказать достойное сопротивление нападавшим соплеменникам. Последние же без труда за несколько лет вернули себе все то, что Испания при всем своем могуществе с трудом приобрела за несколько веков. В результате получилось, что плодороднейшие в мире земли стояли без обработки и по этой несчастной стране нельзя было сделать шага, чтобы не натолкнуться на еще дымящиеся развалины. Дерзость индейцев дошла до того, что они даже не скрывали своих намерений вторгнуться в мексиканские пределы. Эти вторжения они стали повторять в определенное время года, регулярно в одни и те же месяцы и даже в одни и те же дни. В насмешку они называли эти месяцы Мексиканскими лунами, то есть такими месяцами, когда они отправлялись грабить мексиканцев.
Черному Медведю удалось основать сильную конфедерацию с целью поднять в глазах соплеменников свой престиж, который было сильно поколебался из-за неудач, преследовавших его в нескольких последних походах. Это и было уже описано нами в одной из предшествующих глав. Как все индейские вожди, он был крайне самолюбив. Несмотря на свои молодые годы, он успел уже разорить несколько мелких племен и присоединить их к своему племени. Он стремился теперь покорить команчей и заставить их признать его главенство. Замысел этот был смел, трудноисполним, пожалуй, даже и совсем не исполним, так как команчи по праву считались самым воинственным и сильным племенем в прериях. Это племя гордо именовало себя царем прерий и только терпело присутствие апачей на землях, которые считало входящими в состав своих земель охоты. Команчи имели перед другими племенами в прериях громадное преимущество, которое составляло их силу и делало их ужасными для тех, с кем они вели войны. Преимущество это заключалось в том, что они не употребляли никаких спиртных напитков и потому избежали повального развращения и болезней, которые поразили другие племена и в гораздо большей степени, чем пули, облегчили победу европейским пришельцам. Команчи же сохранили всю силу, выдержку и природный ум дикарей.
Насмешник точно так же, как и Черный Медведь, не верил в прочность союза двух племен. Ненависть, которую он чувствовал к апачам, слишком глубоко укоренилась в его душе. Но основание французами колонии Гетцали, установление постоянного владычества белых над землями, которые все краснокожие считали своими, грозило слишком серьезными последствиями одинаково для всех индейских племен, и потому нет ничего удивительного, что они соединились вместе, чтобы одержать победу над общим врагом. Они отложили на время свои давние неразрешимые раздоры и заключили союз для совместного похода на Гетцали, но только для этого. Между ними установилось безмолвное, но тем не менее прекрасно понимаемое обеими сторонами соглашение, что после изгнания иноземцев каждый волен поступать как ему угодно.
Мы описали уже, как начал военные действия Насмешник. Черный Медведь держал в голове план, который обдумал уже давно, но из-за недостатка средств не мог привести в исполнение. Желая получить сведения, необходимые для задуманного набега, он отправился в Гуаймас. Там Тигреро, преследуя, в свою очередь, собственные цели, предложил ему втереться в состав каравана дона Сильвы, направлявшегося в Гетцали, в качестве проводника. Апач ухватился за это предложение, прекрасно выполнил свою роль и за те несколько часов, которые провел на асиенде, со свойственной индейцам проницательностью самым подробнейшим образом ознакомился со всеми слабыми пунктами крепости.
Существовала еще одна цель, увеличившая его стремление овладеть асиендой. Как у всех краснокожих, у него была мечта иметь женой бледнолицую женщину. Когда ему довелось увидеть донью Аниту, в нем внезапно загорелась страсть, и он решил привести в исполнение мечту, которую давно лелеял, и ввести в свой вигвам чудный цветок, подобного которому, конечно, отродясь не имел ни один индейский вождь.
Пусть не подумает читатель, что Черный Медведь почувствовал к донье Аните какое-либо подобие любви. Вовсе нет — ему просто хотелось иметь белую жену, вот и все. Ему казалось обидным, что у всех прочих вождей его племени были белые жены, а у него нет. Если бы донья Анита была безобразна, то он и тогда попытался бы овладеть ею. Но она была на редкость хороша — тем лучше! Нужно прибавить, что апачский вождь даже не находил ее особенно красивой; по индейским понятиям молодая девушка была не более как недурна собой. Единственное, что он ценил в ней, это цвет кожи.
Черный Медведь, сидя с самыми важными из вождей на оконечности острова Чоль-Гекель, хранил серьезное молчание и, скрестив на груди руки, уставился в пространство, пока зарево пожара, пущенного в прерии Насмешником, не озарило окрестностей своим кровавым отблеском.
— Брат мой Насмешник — опытный вождь и верный союзник, он честно выполнил поручение, данное ему. Он сжигает сейчас бледнолицых собак. Что команчи начали — апачи докончат.
— Черный Медведь — великий вождь своего племени. Кто осмелится спорить с ним? — льстиво заметил в ответ Малая Пантера.
Сахем улыбнулся.
— Если команчи — антилопы, то апачи — выдры. Они умеют, когда надо, плавать по воде так же хорошо, как и ходить по земле, могут и летать по воздуху. Дни бледнолицых сочтены. Великий Дух обитает в Черном Медведе и говорит словами, исходящими из груди его.
Воины почтительно наклонили головы.
После минутного молчания Черный Медведь продолжал:
— Что значат для индейских воинов огненные трубы бледнолицых? Разве у них нет острых желобчатых стрел и разве не бесстрашны сердца их? Да последуют за мной дети мои, мы возьмем скальпы бледнолицых псов, привяжем их к гривам наших коней, и их женщины будут нашими рабынями!
Слова вождя были заглушены криками радости и энтузиазма.
— Река несет много деревьев. Братья мои не бабы, чтобы напрасно утомлять себя. Они сядут на эти деревья, и река донесет их до большого вигвама бледнолицых. Пусть приготовятся дети мои. Черный Медведь выступит в шестнадцатый час, когда синяя сова пропоет два раза и куропатка испустит свой резкий крик. Я сказал. Двести воинов последуют за Черным Медведем.
Вожди почтительно поклонились сахему и оставили его одного.
Черный Медведь закутался в бизонью шкуру, растянулся перед горевшим возле него костром, раскурил трубку при помощи священной палочки, украшенной погремушками и перьями, и замер, неподвижно устремив взор на зарево, которое ширилось, все сильнее захватывая горизонт.
Остров Чоль-Гекель, на котором апачский вождь расположился лагерем, находился не очень далеко от французской колонии. Перспектива плыть на деревьях, вырванных рекой, отдавшись на волю течения, не таила в себе ничего опасного для этих людей, с детства привыкших к разного рода телесным упражнениям и плававших в воде подобно рыбам. Между тем этот способ представлял то преимущество, что позволял воинам, во-первых, сохранить свои силы, а во-вторых, приблизиться к крепости совершенно незаметно под прикрытием воды и коряг и по данному сигналу, подобно стае голодных коршунов, кинуться на приступ.
Черный Медведь был настолько уверен в успехе своего плана, который он обдумал во всех мелочах, что даже не захотел брать с собой больше двухсот отборных воинов, считая излишним нападать большими силами на врага, которого следовало захватить врасплох и который должен был в то же время отбивать нападение команчей Насмешника. Он полагал, что, если французы подвергнутся еще и нападению с тыла, он успеет их перебить всех до одного прежде, чем они опомнятся.
В этих широтах сумерки длятся всего несколько минут, ночь наступает внезапно. Словно по мановению волшебного жезла, все окуталось тьмой, и только вдали яркая полоса цвета красной меди показывала, куда направился пожар, за которым, подобно стае волков, следовали команчи. Их привычные ко всему кони ступали по не остывшей еще земле топча копытами головни и угли, хотя и потухшие, но еще горячие.
Когда Черный Медведь решил, что пришла пора действовать, он потушил свою трубку, хладнокровно вытряс из нее пепел и сделал знак, который был тотчас понят Малой Пантерой, готовым немедленно исполнить любой приказ вождя.
Почти немедленно появились двести воинов, отобранных сахемом для набега.
Это были отборные люди, вооруженные копьями и стрелами. Колчаны у них были закинуты за плечи.
— Воины апачей идут на битву, — обратился к ним прочувствованным голосом Черный Медведь, — бледнолицые, с которыми им придется сразится — не йори. Говорят, что они очень храбры, но апачи — самые храбрые воины в мире. Никто не может сравниться с ними. Дети мои могут быть убиты, но они победят.
— Воины могут быть убиты, — в один голос отвечали воины.
— О-о-а! — продолжал Черный Медведь. — Дети мои хорошо говорят, Черный Медведь верит в их отвагу. Ваконда, Великий Дух, не оставит их, он любит краснокожих. Теперь пусть дети мои сядут на деревья, плывущие по реке, и отдадут себя на волю течения. Крик кондора будет для них сигналом, когда следует броситься на белых.
Индейцы тотчас же отправились исполнять приказание вождя. Обгоняя друг друга, они бросились к реке и стали притягивать к берегу плывшие мимо деревья и коряги. В самое короткое время на оконечности островка они собрали значительное количество деревьев. Черный Медведь в последний раз окинул взглядом остров и дал знак к отправлению. Он первым спустился в воду, прицепился к дереву и поплыл вниз по течению. Остальные без колебания последовали за ним.
Апачи так ловко расположили деревья еще у острова и так ловко правили ими, что, когда они оттолкнулись, деревья немедленно направились на середину реки, где было самое быстрое течение, и понесли их к крепости. Против крепости деревья, направляемые теми же умелыми руками, незаметно поворачивали к берегу и останавливались в том месте, о котором уже упоминалось.
Плавание это все-таки представляло для воинов значительную и серьезную опасность.
Индейцы не имели весел, поэтому, чтобы держаться в нужном положении, они вынуждены были прилагать невероятные усилия, так как деревья вертелись, качались и ежеминутно грозили утопить плывших на них. Была еще одна трудность: перед самой асиендой воины должны были полностью погрузиться в воду, чтобы вывести деревья из течения и заставить их направиться к берегу. Было, наконец, и еще одно, не последней важности обстоятельство. Деревья, на которых плыли индейцы, беспрестанно сталкивались с другими, также уносимыми рекой, сучья цеплялись друг за друга так, что невозможно было их расцепить, и волей-неволей приходилось, вместо одного, направлять по нескольку деревьев, так что через полчаса перед асиендой образовался громадный затор, занявший почти всю ширину реки.
Индейцы очень настойчивы. Раз они начали какое-то дело, они уже не бросят его до тех пор, пока не получат ясного как день доказательства, что неудача неминуема. В противном случае они лезут напролом, чего бы им это ни стоило. То же самое происходило и сейчас. Несколько человек утонули, несколько получили серьезные раны и должны были выплыть на берег, но остальные без колебаний продолжали спускаться вниз по течению, подбадриваемые своим вождем.
Прошло довольно много времени с тех пор, как они покинули свой остров, и он исчез из виду за одним из причудливых поворотов реки. Мыс, на котором стояла асиенда, обозначился уже не на далеком расстоянии, и черный силуэт крепости вырисовывался на темно-синем безоблачном, звездном небе. До места, к которому они должны были причалить, оставалось уже не более одного полета стрелы, когда Черный Медведь, державшийся все время впереди и непрестанно вглядывавшийся вперед, заметил всего в нескольких шагах перед собой легкую пирогу, покачивавшуюся на поверхности реки и привязанную к выступающей из воды коряге.
Эта пирога возбудила подозрение в осторожном индейце. Ему показалось странным, что в такой поздний час кто-нибудь мог оставить лодку, привязанную на середине реки. Черный Медведь был человек решительный, ни при каких обстоятельствах не колебавшийся. Еще раз внимательно оглядев эту пирогу, мирно продолжавшую покачиваться перед ним, он наклонился к Малой Пантере, который уцепился за то же дерево, что и он, и плыл, ежеминутно готовый передать плывущим сзади воинам или самому исполнить любое приказание вождя, взял в зубы его нож, отделился от дерева и поплыл.
Он вынырнул у самой пироги, схватил ее сильными руками, нагнул в свою сторону и прыгнул в нее прямо на грудь Кукаресу, которого сразу схватил за горло.
Это было исполнено так быстро, что леперо не успел воспользоваться своим оружием и в мгновение ока оказался во власти врага, не успев даже сообразить, что случилось.
— О-о-а! — с удивлением произнес индеец, узнав его. — Что делает здесь брат мой?
Леперо также узнал вождя, и это, как ни странно, придало ему бодрости.
— Ты видишь, — отвечал он, — я сплю.
— О-о-а! Брат вождя боится огня, потому он и остановился посередине реки.
— Совершенно верно, ты сразу угадал, вождь, я боюсь огня.
— Хорошо, — отвечал на это апач с ядовитой, только ему свойственной улыбкой. — Но брат вождя не может быть один. Где Толстый Бизон?
— Гм! Какой еще Толстый Бизон? Я не знаю, вождь, никакого Толстого Бизона! О ком ты говоришь?
— Все бледнолицые лгут. Почему брат вождя не хочет сказать правду?
— Я с удовольствием скажу ее, только я не понимаю, о чем ты говоришь.
— Черный Медведь — великий вождь апачей, он умеет говорить на своем языке, но плохо знает язык гачупинов.
— Я не то хочу сказать, ты очень хорошо говоришь на кастильском наречии, но ты спрашиваешь меня о человеке, которого я совершенно не знаю.
— О-о-а! Возможно ли это? — произнес индеец с притворным изумлением. — Неужели брат вождя не знает воина, с которым он находился вместе два дня тому назад?
— А! Теперь я понял. Ты говоришь о доне Марсиале! Ну да, я его знаю, конечно.
— Хорошо, — ответил апач, — вождь знает, что он не ошибся. Но почему сейчас нет с братом моим этого воина?
— Черт возьми! Вероятно, потому, что я здесь, — ехидно отвечал леперо.
— Это верно, но так как вождю некогда терять на пустые разговоры время, а мой брат не желает отвечать, то вождь сейчас убьет его.
Это было произнесено таким тоном, который не допускал и мысли о каком-либо колебании. Черный Медведь поднял свой нож. Леперо понял, что, если не удовлетворит желания индейца, он погиб, и на него, словно по вдохновению, нашла решимость.
— Что ты хочешь от меня? — спросил он.
— Чтобы мой брат сказал правду.
— Спрашивай!
— Мой брат ответит?
— Да.
— Хорошо. Так где же Толстый Бизон?
— Там, — указал он в направлении асиенды.
— Давно?
— Более часа.
— Зачем он пошел туда?
— Ты сам догадаешься об этом.
— Да. Значит, они вместе?
— Они должны быть вместе, так как она вызвала его.
— О-о-а! А когда же он вернется?
— Я не знаю.
— Разве он не сказал этого моему брату?
— Нет.
— Он вернется один?
— Не знаю.
Индеец окинул леперо пристальным взглядом, будто хотел проникнуть в самую его душу. Леперо остался бесстрастным, он честно сдержал свое слово и сказал все, что знал.
— Хорошо, — вновь начал вождь через минуту, — не условился ли Толстый Бизон с моим братом о каком-нибудь сигнале?
— Условился.
— Что же это за сигнал?
Блестящая идея озарила при этом Кукареса. Мексиканские леперос представляют собой класс людей, которых можно сравнить разве что с неаполитанскими лаццарони: расточительные и жадные в одно и то же время, алчные и бескорыстные, то безумно отважные, то, как бабы, трусливые, эти люди представляют самое странное сочетание порочного и злого с добродетельным. Они совершают поступки, руководствуясь сиюминутным побуждением, без размышления, но и без страсти. Они постоянно веселы, верят всему, но в то же время и не верят ничему, одним словом, жизнь их представляется рядом самых удивительных крайностей. Из-за мальчишеской глупости они рискнут жизнью, с легким сердцем предадут своего самого преданного друга, но, может быть, и самоотверженно спасут его.
Кукарес представлял собой олицетворение этой эксцентричной группы людей. Хотя кинжал вождя апачей был всего в дюйме [75] от его груди и хотя он отлично знал, что его жестокий враг не даст ему пощады, он решил любой ценой сыграть с ним злую шутку. Мы не будем утверждать, что он решился сделать это из чувства дружбы к дону Марсиалю (повторяем, леперо ни к кому не чувствовал любви и дружбы, быть может, даже не исключая и самого себя). Сердце существовало в груди его только как некий внутренний орган, выполнявший известные физиологические функции, но действия Кукареса предопределялись его веселым характером.
— Вождь хочет знать, что это за сигнал? — спросил он.
— Да! — отвечал апач.
Кукарес с изумительным хладнокровием и спокойствием издал крик водяной курочки.
— Молчать! — крикнул Черный Медведь. — Зачем ты подал сигнал?!
— Прости, — ответил леперо, язвительно усмехаясь, — я, должно быть, не так сделал, — и он повторил изданный звук.
Индеец, взбешенный дерзостью своего врага, бросился на него с намерением прикончить леперо одним ударом.
Но, ослепленный яростью, он плохо рассчитал движение, утлая пирога качнулась, опрокинулась, и оба врага очутились в воде.
Леперо плавал, как выдра, и потому не растерялся, нырнул и изо всех сил поплыл по направлению к асиенде.
Но если он и хорошо плавал, то Черный Медведь уж никак не уступал ему. Через секунду вождь оправился, огляделся и кинулся вслед за своим врагом.
Между ними началось соревнование в силе и ловкости. Вероятно, оно кончилось бы в пользу белого, который намного опередил своего противника, если бы несколько воинов, бывших свидетелями происходящего, также не бросились в воду наперерез леперо.
Кукарес увидел, что бегство невозможно. Тогда, не желая продолжать далее бесцельную борьбу, он направился к дереву, уцепился за него и с изумительным хладнокровием стал ожидать, что будет дальше.
Черный Медведь немедленно очутился возле него. Он не выказывал ни малейшего озлобления за его проделку.
— О-о-а! — произнес он, также ухватившись за ветви дерева. — Брат мой истинный воин, он обладает хитростью.
— К чему мне она, все равно мне не сохранить моего скальпа.
— Может быть, — ответил индеец, — но пусть брат мой скажет, где находится Толстый Бизон?
— Я уже сказал тебе, вождь!
— Да, мой брат сказал, что Толстый Бизон находится в большом вигваме бледнолицых, но пусть он скажет, в каком именно месте.
— Гм! А если я покажу тебе это место, буду ли я свободен?
— Да! Если язык у моего брата не раздвоен и он скажет мне всю правду, то, как только мы будем на берегу, его освободят.
— Печальная свобода! — пробормотал леперо, покачав головой.
— Ну, так что же выбирает брат мой?
— Честное слово! — ответил на это Кукарес, окончательно решая, что ему нужно делать. — Я сделал для дона Марсиаля все, что было в моих силах. Он предупрежден, теперь мне надо позаботиться и о своей шкуре, а он пусть действует сам как знает. Смотри, вождь, куда я показываю пальцем. Ты видишь отсюда эти ивы на мысу?
— Вождь видит.
— Ну вот, за этими ивами ты найдешь того, кого ты называешь Толстым Бизоном.
— Ну, хорошо. Слово Черного Медведя всегда одно, бледнолицый будет свободен.
— Благодарю.
Разговор на этом прервался, да и пора было, так как почти все апачи уже подплыли к берегу.
Индейцы пустили по течению большую часть деревьев, на которых приплыли, и целыми гроздьями повисли на нескольких самых толстых.
Асиенда безмолвствовала. Не видно было ни одного огонька. Все было спокойно, как будто жители покинули ее.
Это глубочайшее спокойствие возбудило подозрение Черного Медведя, тишина предвещала для него бурю. Он решил, что прежде, чем дать сигнал к высадке на берег и нападению, следует убедиться собственными глазами, какая опасность грозит индейцам. Он издал переливчатый звук, подобный крику игуаны [76], и нырнул в воду.
Апачи поняли намерение своего вождя и остановились.
Через несколько секунд они увидели, что он уже взбирается по песчаному откосу наверх. Черный Медведь сделал несколько шагов по берегу и прислушался. Он ничего не увидел и не услышал и тогда, уверенный в полной безопасности, обернулся к реке и дал сигнал к высадке.
Апачи покинули свои деревья и поплыли. Кукарес воспользовался этим моментом и исчез, что не составило особого труда, так как на него никто не обращал внимания.
Апачи быстро плыли к берегу сомкнутой колонной. Через несколько минут они уже вышли на прибрежный песок и взяли немного вверх по реке.
— Пли! — раздалась вдруг громкая команда.
Вслед за этим почти в упор апачам последовал страшный залп.
Апачи ответили яростным воем, их захватили врасплох те, на кого они сами надеялись напасть совершенно неожиданно. Они бросились прямо на звук залпа, потрясая оружием.
Глава XV
НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Вернемся теперь к нашим охотникам, которых мы совсем уже забыли. В продолжение предыдущего рассказа они не сидели сложа руки.
После ухода обоих мексиканцев Весельчак и его друзья несколько минут сидели молча.
Канадец носком сапога катал по земле уголья, выпавшие из костра и, по-видимому, полностью погрузился в это занятие. Граф Пребуа-Крансе сидел, уткнувшись подбородком в ладони и уперев локти в колени, и рассеянным взглядом смотрел на искры, вырывавшиеся из пламени, сверкавшие в густом дыму и гаснувшие одна за другой высоко в небе. Один Орлиная Голова, закутавшись в бизонью шкуру, курил свою трубку, храня полное бесстрастие и видимое спокойствие, свойственные его племени.
— А что ни говори, — прервал молчание канадец, скорее отвечая на свои собственные размышления, чем с целью возобновить разговор, — поведение этих двоих кажется мне странным, чтобы не сказать более.
— Вы подозреваете с их стороны измену? — спросил его дон Луи, подняв голову.
— В пустыне всегда нужно ожидать измены, — неопределенно заметил Весельчак, — особенно со стороны случайных знакомых.
— Однако у этого Тигреро, дона Марсиаля, — так, кажется, его зовут, — такая открытая внешность, что, друг мой, я никак не могу предположить, чтобы он был предателем.
— Это правда, но согласитесь, что с момента нашей самой первой встречи он вел себя крайне двусмысленно.
— Согласен. Но ведь вы знаете, что страсть ослепляет человека, а он, кажется, страстно влюблен.
— Это я вижу. Но заметьте, пожалуйста, что во всем этом деле, — которое ближе всего касается его самого, а мы, кстати сказать, здесь, что называется, сбоку припека и только напрасно теряем драгоценное время, — он постоянно прячется за нас, словно боится выйти вперед.
В это время к костру подсел Блаз Васкес, закончивший обход островка и расставивший своих пеонов в точках, с которых они могли наблюдать всю реку, оставаясь сами невидимыми.
— Ну, теперь милости простим, все готово. Милости просим, сеньоры апачи, в любую секунду готовы принять вас с честью.
— Одно слово, капатас, — обратился к нему Весельчак.
— Даже два, если угодно!
— Знаете вы человека, которому передали сейчас письмо?
— А что?
— Я хочу спросить у вас о нем кое-что.
— Лично я его знаю очень мало. Все, что я могу сказать о нем, это то, что во всей округе он пользуется самой завидной репутацией, все знают его как храброго, истинного кабальеро и вполне светского, принятого в лучшем обществе человека.
— Все это так, — проговорил про себя канадец, качая головой, — а все-таки, я сам не знаю почему, меня ужасно беспокоит его внезапный отъезд.
— О-о-а! — вдруг вмешался в беседу Орлиная Голова, вынимая изо рта трубку, наклоняя вперед голову и давая знаком остальным понять, что он прислушивается к чему-то.
Все умолкли и уставились на вождя.
— Что такое? — спросил наконец Весельчак.
— Огонь! — медленно ответил индеец. — Апачи идут. Прерия горит.
— Как! — воскликнул Весельчак, поднимаясь и оглядываясь по сторонам. — Я нигде не вижу огня.
— Нет, мой брат еще не может видеть, но Орлиная Голова чувствует огонь.
— Гм! Если вождь говорит, то, значит, это правда; уж он-то не ошибется. Что же нам делать?
— Нам здесь нечего бояться пожара, — заметил капатас.
— Нам нечего, ну а обитателям асиенды? — с живостью вмешался граф.
— Им — еще меньше, — отвечал ему Весельчак. — Вы ведь видели, что вокруг асиенды срублен и выкорчеван весь лес на большом пространстве, и огню не дойти до нее. Это просто индейская хитрость, чтобы скрыть свою численность.
— Однако я согласен с кабальеро, — заметил капатас, — думаю, что было бы лучше предупредить их.
— Есть вещь еще более важная, — продолжал граф, — надо бы послать умелого разведчика, чтобы точно узнать, с каким врагом нам придется иметь дело и как велико число его.
— Одно другому не мешает, — отвечал на это Весельчак. — В таких обстоятельствах две предосторожности лучше, чем одна. Вот мое мнение: Орлиная Голова пусть добудет сведения о враге, а мы пойдем к асиенде.
— Все? — спросил капатас.
— Нет, ваша позиция здесь безопасна, в случае серьезного нападения вы можете оказать нам значительную пользу. На асиенду пойдем мы с доном Луи. Помните, что вы не должны выдавать своего присутствия здесь. Что бы ни случилось, ждите сигнала к действию, понимаете?
— Ступайте, кабальеро, я буду действовать как надо, будьте уверены.
— Хорошо. Приступим к делу. Вам, вождь, конечно, нечего давать советы, но вы найдете нас на асиенде, если узнаете что-нибудь важное.
Приняв такое решение и не привыкнув терять время попусту, все трое немедленно переправились на берег, и дон Луи и Весельчак отправились к асиенде, а вождь команчей двинулся в противоположную сторону.
Блаз Васкес остался один со своими пеонами.
Блаз Васкес был человек, смолоду привыкший к войнам с краснокожими. Он знал, какая ответственность ложится на него с этого момента, и счел необходимым удвоить осторожность. Он привел это в исполнение, почти три четверти своего отряда выставив в качестве часовых чуть не под каждым кустом, убедительнейше увещевая их быть бдительными и ни на минуту на смыкать глаз, вернулся к костру, закутался в свой сарапе и спокойно уснул, уверенный в том, что пеоны разбудят его, если произойдет что-нибудь особенное.
Покинем на время графа Пребуа-Крансе и Весельчака и последуем за Орлиной Головой.
Поручение, которое было на него возложено, казалось очень легким. Но вождь команчей был опытен во всех индейских хитростях и одарен, сверх того, тем невозмутимо-флегматичным характером, который при известных обстоятельствах сильно помогает успеху. Расставшись со своими друзьями, он наметил для себя план действий.
Вместо того, чтобы следовать по берегу, по которому двигался вслед за пожаром неприятель, вождь повернул лошадь к воде, подъехал к броду и переправился на противоположный берег. Выйдя на берег, он дал своей лошади несколько минут отдохнуть, обтер ее сухой травой, затем положил шкуру пантеры, служившую ему седлом, одним прыжком вскочил на нее и во весь опор помчался по направлению к становищу апачей на острове Чоль-Гекель.
Ехал он часа два. По временам ему приходилось покидать берег причудливо извивавшейся реки, и тогда он направлял коня прямо на зарево.
Через два часа он уже стоял против оконечности острова, где в это время апачи собирали плывущие коряги, чтобы спуститься на них к асиенде.
Орлиная Голова осадил коня.
Направо от него весь горизонт пылал заревом пожара, который он встретил и миновал, двигаясь по другому берегу. Вокруг него все было погружено во тьму и молчание.
Долго команчский вождь смотрел на остров. Тайный голос говорил ему, что там таится опасность.
Зрело все обдумав, он решил вновь переправиться на другой берег, но уже выше острова; тишина на нем казалась ему подозрительной.
Он совсем уже приготовился привести свое намерение в исполнение, как вдруг его осенила внезапная мысль. Он слез с лошади, спрятал ее в кустарнике, снял свой карабин и бизоний плащ. Затем внимательно огляделся, стараясь проникнуть взглядом во мрак, лег на землю и пополз, как змея, среди высокой травы к берегу. Как черепаха, неслышно сполз он в воду и бесшумно поплыл к острову, которого достиг довольно скоро.
Но как раз в тот момент, когда он почувствовал под ногами дно и хотел встать, его слуха коснулся едва заметный звук. Ему показалось, что в воде совсем близко от него происходит что-то необычное, какая-то странная возня. Орлиная Голова опять погрузился в воду и отплыл от острова.
Через минуту он вновь показался на поверхности воды, чтобы набрать свежего воздуха, но как раз встретился с двумя горящими, как угли, глазами, словно сверлящими его. Сильный удар в грудь оглушил его, он перевернулся и почувствовал, что в его горло нервно впилась и сжимает, как железом, чья-то рука.
Минута была решительная. Орлиная Голова понял, что только сверхъестественное усилие еще может спасти его. Он сделал такое усилие. Схватив неведомого врага, он также вцепился в него со всей силой отчаяния.
В реке началась безмолвная, ужасная борьба. Оба нападали, и каждый хотел нанести смертельный удар, нисколько не помышляя о защите. Вода вокруг боровшихся кипела, как будто бились два крокодила. Наконец на поверхность вынырнуло окровавленное, обезображенное тело и бессильно закачалось на волнах. Через несколько секунд за ним из воды показалась голова с искаженным от перенесенной борьбы выражением лица и бросила налево и направо дикий взгляд.
При виде трупа врага победитель испустил тихий злорадный хохот. Он направился к нему, схватил за волосы и, работая одной рукой, поплыл, но не к острову, а к берегу.
Победителем вышел Орлиная Голова, убивший так неожиданно напавшего на него апача.
Вождь команчей доплыл до берега, не отпуская труп, вытащил его из воды, снял скальп, привязал этот ужасный трофей к своему поясу, вывел лошадь из кустов и сел на нее.
Орлиная Голова понял план апачей. Нападение, жертвой которого он чуть было не пал, открыло ему замышляемую ими хитрость. Бесполезно было продолжать дальнейшее исследование острова. Нельзя было ему также и оставить труп в реке, так как апачи, наверное, обнаружили бы его и узнали, что к ним пробирался шпион. Поэтому Орлиная Голова и выволок его на сухое место, где его никто не мог найти до утра, если бы, конечно, врагам не помогла какая-нибудь случайность.
Несколько минут отдыха полностью восстановили силы его коня. Вождь мог бы теперь возвращаться к своим друзьям, так как то, что он узнал, имело для них огромное значение, но Весельчак поручил ему также определить число и состав неприятельского отряда, выступавшего против колонии. Орлиная Голова решил исполнить и это поручение. Схватка, из которой он только чудом вышел победителем, вызвала в его душе глубокое нервное напряжение, которое толкало его довести начатое им дело до конца.
Он взял несколько сухих листьев, приложил их к легкой ране на левой руке, обвязал руку лубом, чтобы остановить кровь, и вновь пустил лошадь в воду. Так как на этой стороне реки ему ничего не нужно было узнавать и высматривать, он переправился далеко выше острова.
На противоположном берегу, благодаря тому, что индейцы шли за огнем, след их представлял широкую ясную полосу. Несмотря на тьму, вождю было нетрудно ехать по этому следу.
Огонь, пущенный индейцами, как это обыкновенно бывает, не причинил такого сильного разрушения, какого можно было бы ожидать, судя по зловещему виду широко разлившегося пламени. На прерии не было ничего, кроме немногих мексиканских тополей, стоявших на далеком расстоянии один от другого, и сухой травы, уже наполовину спаленной жгучими лучами летнего солнца.
Эта трава и горела быстро, давая (а это и нужно было нападавшим) большую дымовую завесу, но не настолько раскаляя землю, чтобы по ней нельзя было идти следом за пламенем. Последнее обстоятельство и позволило краснокожим быстро подойти к асиенде.
Благодаря быстроте своего коня, а также тому, что шедший впереди него отряд должен был потерять несколько часов, Орлиная Голова подошел к асиенде почти в одно время с ним. Он присоединился к команчам в тот момент, когда они, сделав неудачную попытку взять приступом батарею на перешейке, бежали, поражаемые картечью и пулями из карабинов. Их положение усугублялось теперь тем, что они сами же выжгли всю траву и должны были бежать по совершенно голой земле, где все было видно как на ладони. Несмотря на это, благодаря темноте и быстроте своих лошадей, они отделались сравнительно небольшими потерями.
Орлиная Голова очутился, вовсе не предполагая и не ожидая этого, в самой середине бегущей толпы. В первый момент каждый был слишком занят собственным спасением, и никто не обратил на него внимания. Вождь воспользовался этим бросился в сторону и притаился за небольшим обрывом.
Но тут произошло нечто удивительное. Едва вождь почувствовал, что он укрыт от взоров бегущих, он присмотрелся к ним внимательнее, и неопределенная усмешка осветила его лицо. Он дал шпоры коню и бросился опять в середину бегущих, испустив дважды резкий, прерывистый, вибрирующий крик.
Услышав этот крик, индейцы остановились и со всех сторон бросились к тому, кто его издал. Быстро выстроились они вокруг Орлиной Головы, взирая на него со священным ужасом, готовые повиноваться, что бы он ни приказал им совершить.
Орлиная Голова гордым взглядом обвел собравшуюся толпу, над которой он возвышался на целую голову.
— О-о-а! — начал он наконец тоном горького упрека. — С каких пор команчи стали робкими антилопами и бегут от пуль бледнолицых, как псы апачи?
— Орлиная Голова! Орлиная Голова! — радостно закричали воины, но глаза их невольно опускались вниз под горящим взглядом вождя. Их мучил стыд.
— Зачем дети мои покинули без приказания сахема земли охоты по реке дель-Норте? Разве дети мои ищейки апачей?
Подавленный ропот пробежал по рядам при этом горьком упреке вождя.
— Сахем кончил, — продолжал Орлиная Голова. — Разве нет здесь никого, кто мог бы ему ответить? Разве у команчей озер нет более вождей, которые ведут их?
Из тесно сплотившихся рядов команчей вышел воин, приблизился к вождю и почтительно склонил голову до самой шеи коня.
— Насмешник вождь, — проговорил он мягким голосом.
Лицо Орлиной Головы прояснилось, с него сошло гневное выражение, он бросил на приблизившегося воина взгляд, полный любви, протянул к нему правую руку ладонью вверх и проговорил:
— О-о-а! Сердце сахема радуется при виде сына его Насмешника. Воины пусть отдохнут, пока сахемы будут держать совет.
И, сделав величественный жест, он отошел с Насмешником в сторону. Краснокожие проводили их взглядами и поспешили воспользоваться так кстати полученным дозволением отдохнуть.
Орлиная Голова и Насмешник отошли, чтобы их слова не могли быть услышаны остальными воинами.
— Сахем хочет держать совет с сахемом, — проговорил Орлиная Голова, садясь на кочку и знаком приглашая Насмешника сесть рядом.
Насмешник безмолвно повиновался.
Последовало продолжительное молчание. Оба вождя внимательно разглядывали друг друга, хотя на их лицах нельзя было прочесть ничего, кроме полнейшего бесстрастия.
Наконец Орлиная Голова начал речь — медленно, внушительно, временами возвышая голос и подчеркивая слова:
— Орлиная Голова — знаменитый воин своего народа, он первый сахем команчей озер. Его тотем покрывает тенью своей и защищает бесчисленных детей великой священной черепахи Чемиин-Анту, блестящий щит которой поддерживает мир с тех пор, как Ваконда низверг в пропасть первого человека и первую женщину после их греха. Слова, исходящие из груди Орлиной Головы, суть слова Сагамора, язык его не раздвоен, и ложь никогда не оскверняла его губ. Орлиная Голова заменил Насмешнику отца, он учил его укрощать и объезжать дикую лошадь, поражать быстрой стрелой легкую антилопу, душить руками ужасного медведя. Орлиная Голова любит Насмешника, он сын сестры его третьей жены. Орлиная Голова дал Насмешнику место у костра совета, он сделал его вождем, и когда Орлиная Голова уходит из селений своего народа, то говорит Насмешнику: «Сын мой будет предводительствовать воинами команчей, он будет вести их на охоту, на рыбную ловлю, на войну». Верны ли эти слова? Лжет ли Орлиная Голова?
— Слова отца моего истинны, мудрость говорит его устами, — отвечал Насмешник, почтительно склоняясь.
— Так зачем же сын мой вступил в союз с врагами моего племени, чтобы сражаться против друзей своего отца, сахема?
Вождь еще ниже склонил в смущении свою голову.
— Зачем, не посоветовавшись с тем, кто всегда давал ему советы, начал он несправедливую войну?
— Несправедливую войну? — с оживлением переспросил младший вождь.
— Да, потому что сын мой ведет ее в союзе с врагами своего племени.
— Но апачи — краснокожие.
— Апачи — псы трусливые и воры. Я вырву у них их лживые языки.
— Но бледнолицые враги краснокожих!
— Те, на кого напал сегодня ночью сын мой, не йори, а друзья Орлиной Головы.
— Пусть мой отец простит Насмешника. Он не знал.
— Действительно ли не знал этого Насмешник? Искренне ли хочет он искупить свою вину?
— Под тотемом Насмешника триста воинов. Орлиная Голова пришел, теперь они принадлежат ему.
— Хорошо. Я вижу, что Насмешник воистину мой возлюбленный сын. С каким вождем заключил он договор? Уж не с Черным ли Медведем, непримиримым врагом команчей? Четырех месяцев еще не прошло, как он сжег четыре селения нашего племени.
— Облако затмило ум Насмешника, ненависть к белым ослепила его, мудрость покинула его, и он заключил договор с Черным Медведем.
— О-о-а! Орлиной Голове надо скорее возвратиться в селения отцов своих. Будет ли повиноваться сын мой сахему?
— Что бы ни повелел он, Насмешник повинуется.
— Пусть будет так! Пусть последует за сахемом сын мой.
Оба вождя поднялись.
Орлиная Голова направился к перешейку, размахивая в знак мирных намерений своим бизоньим плащом. Насмешник следовал в нескольких шагах позади него.
Команчи с изумлением смотрели, как их сахемы отправились на переговоры с йори. Но, привыкнув во всем повиноваться своим вождям, не обсуждая полученных приказаний, они не выражали ни малейшего неудовольствия по этому поводу, хотя не могли понять цели подобного поступка.
Часовые, стоявшие на батарее, легко различили при свете луны бизоний плащ, и так как парламентеров было только двое, то они свободно дали им приблизиться ко рву.
— Сахем желает говорить с вождем бледнолицых, — прокричал оттуда Орлиная Голова.
— Хорошо, — отвечал по-испански голос с батареи, — подожди минуту, ему передадут твою просьбу.
Команчи поклонились и, скрестив руки на груди, стали ждать.
Граф Пребуа-Крансе и Весельчак имели в это время на асиенде продолжительный разговор с доном Сильвой и графом де Лорайлем, причем они объяснили, каким образом им удалось узнать, что индейцы хотят напасть на французов, открыли им имя человека, уговорившего их сделать это, и описали странное поведение этого человека, который, заставив их определенным образом вмешаться в весьма опасное дело, лично их вовсе не касающееся, вдруг безо всякой видимой причины покинул их под нелепым предлогом отъезда в Гуаймас, куда, как говорил он, его срочно отзывали важные обстоятельства.
Эти новости произвели сильное впечатление на дона Сильву и графа. Первый распалился ужасным гневом, узнав, что этой личностью был именно дон Марсиаль. Он понял и цель Тигреро, который надеялся, без сомнения, во время суматохи похитить донью Аниту. Дон Сильва не выразил, однако, своих подозрений будущему зятю. Он решил, если потребуется, сделать это впоследствии, а также понял, что с дочери не следует теперь спускать глаз, так как во внезапном отъезде Тигреро он почуял ловушку.
Весельчак объяснил тем временем графу, какую позицию занял капатас со своими пеонами, зачем уехал Орлиная Голова, который, несомненно, скоро вернется на асиенду с необходимыми сведениями.
Граф де Лорайль горячо благодарил обоих искателей приключений, оказавших ему совершенно бескорыстно уже столько неоценимых услуг. Он велел накормить их, а сам удалился, чтобы предупредить своих лейтенантов о том, что они должны впустить в крепость одного индейца, который придет для переговоров.
Дон Сильва также удалился — для того, как он сказал, чтобы самому обойти всех часовых, стоявших под стенами асиенды у реки, на самом же деле, чтобы посмотреть, что делает его дочь.
Когда команчи атаковали батарею на перешейке, французы приняли их таким дружным залпом, что индейцы сразу поняли, что дальнейшие попытки будут тщетны, и в беспорядке отступили.
Граф де Лорайль все еще говорил с доном Луи и Весельчаком, рассказывая им разные эпизоды только что отбитого нападения и недоумевая по поводу непонятного отсутствия дона Сильвы, который уже более часа назад ушел, и его нигде не могли найти, как вдруг отворилась дверь, и в комнату, где сидели трое собеседников, вошел Леру.
— Что вам надо? — спросил его граф.
— Капитан, — ответил он, — два индейца ждут у рва и просят, чтобы их впустили.
— Два? — спросил Весельчак.
— Да, два.
— Это странно, — заметил канадец.
— Что же делать? — встревожился граф.
— Пойдемте посмотрим сами.
Все четверо направились к батарее.
— Ну что? — спросил де Лорайль, когда они подошли.
— Да, один из этих людей несомненно Орлиная Голова, а другого я не знаю.
— Ваше мнение?
— Конечно, впустить их. Этот индеец, судя по наружности и костюму, вождь, а так как он пришел вместе с Орлиной Головой, то, значит, он друг.
— Ну, пусть будет так.
Граф дал знак; подъемный мост опустился, и оба вождя прошли за укрепления.
Индейские сахемы приветствовали графа и остальных присутствующих с тем достоинством, которое никогда ни при каких обстоятельствах не покидает краснокожих, облеченных этим саном. Затем по приглашению Весельчака Орлиная Голова дал отчет о том, что ему поручено было разузнать.
Французы слушали его с вниманием и изумлением не только перед его ловкостью и знанием места и людей, среди которых он действовал, но еще больше перед его непоколебимой отвагой, которую он продемонстрировал столь решительно.
— Теперь, — продолжал вождь, заканчивая свой рассказ, — Насмешник понял свою ошибку, к которой его подтолкнула слепая ненависть. Он разрывает союз с апачами и повинуется во всем своему отцу Орлиной Голове, чтобы искупить свою вину. Орлиная Голова — сахем, слово его, как гранитная скала, он отдает в распоряжение бледнолицых братьев своих триста команчских воинов.
Граф де Лорайль нерешительно посмотрел на Весельчака. Зная коварство индейцев, он боялся довериться им.
Весельчак незаметно приподнял плечи.
— Великий вождь бледнолицых благодарит брата своего Орлиную Голову, — отвечал он за графа, — он с радостью принимает его предложение. Всегда его рука будет открыта для команчей, и сердце его чисто перед ними. Отряд моего брата разделится на две части: одна часть под начальством Насмешника засядет по другую сторону реки, чтобы отрезать апачам отступление, другая часть во главе с Орлиной Головой войдет в крепость и будет помогать бледнолицым. Воины йори скрыты на острове выше по реке, в двух полетах стрелы от великого вигвама. Они присоединятся к Насмешнику.
— Хорошо! — ответил Орлиная Голова. — Пусть будет так, как желает мой брат.
Оба вождя простились с присутствующими и удалились.
Весельчак объяснил графу, как он условился с вождем команчей.
— Черт возьми! — отвечал ему на это граф. — Признаться, я не питаю ни малейшего доверия к индейцам. Вы знаете, что предательство — их любимое оружие.
— Вы не знаете команчей, а особенно Орлиной Головы. Я беру на себя ответственность за все.
— Делайте как знаете. Я вам обязан столь многим, что никогда не пойду наперекор вашим распоряжениям, если только вы говорите, что ручаетесь за них.
Весельчак сам отправился предупредить капатаса относительно изменений, внесенных в план защиты.
Насмешник и сто пятьдесят команчей в сопровождении сорока пеонов тотчас же переправились на противоположный берег и засели там в зарослях, готовые появиться по первому же сигналу.
Десяток французов и Орлиная Голова с остальными индейцами остались защищать перешеек, нападения на который теперь вовсе не ожидалось. Прочие колонисты были рассеяны в густых зарослях, покрывавших склоны холма, на котором стояла асиенда. Они получили приказ не выходить на открытое место и не стрелять, пока не будет дана команда «пли». Когда все было готово, граф де Лорайль и его товарищи в глубоком волнении стали ожидать нападения апачей.
Ожидание их не было долгим. Мы уже описали, как был встречен французскими стрелками Черный Медведь, едва успев высадиться со своими воинами.
Вождь апачей был отважен, как лев. Под его началом были отборные воины. Удар был ужасен, но краснокожие не отступили ни на шаг. Непрестанно отражаемые, они вновь бросались в бой и бились с тем отчаянием, которое удесятерило их силы. Они боролись с французами лицом к лицу, и те, несмотря на всю свою выдержку, дисциплину и превосходство оружия, не могли ничего с ними сделать.
Битва перешла в страшную резню. Каждый боролся, старался нанести кинжалом удар врагу, не думая о защите. Весельчак видел, что следует попытаться нанести решительный удар, чтобы избавиться от этих демонов, казавшихся непобедимыми и неуязвимыми. Он нагнулся к дону Луи, который дрался радом с ним, и сказал несколько слов по-французски. Дон Луи кое-как отбился от наседавшего на него апача и куда-то убежал.
Через минуту выше по реке раздался боевой клич команчей, ужасный и пронзительный, и краснокожие воины, прыгая, как ягуары, ринулись на апачей, потрясая своими топорами и длинными копьями.
В первую минуту Черный Медведь думал, что это прибыла помощь, что асиенда взята его союзниками, но велики были охватившие его через минуту отчаяние и бешенство, когда он понял в чем дело… Апачи заколебались, потом стали поддаваться, все слабее становилось оказываемое ими сопротивление, наконец они разом повернулись к напиравшему неприятелю спиной и с криком беспорядочно бросились вниз к реке, оставив более двух третей своих воинов убитыми и тяжело ранеными.
Французы преследовали их всего лишь несколькими залпами картечи в полной уверенности, что они не избегут приготовленной для них засады.
И точно, вскоре с другого берега долетели звуки выстрелов пеонов, и опять прозвучал военный клич команчей.
В этот несчастный набег Черный Медведь менее чем за час потерял весь цвет самых славных воинов своего племени. Сам он, покрытый ранами, с каким-нибудь десятком людей едва спасся от смерти или плена.
Победа французов была полная. Колония Гетцали благодаря этому славному делу надолго обрела покой и оградила себя от нападения индейцев.
Когда битва была закончена, принялись всюду искать дона Сильву и его дочь. Но все поиски оказались тщетными, отец и дочь исчезли, и нельзя было даже узнать, каким образом и когда.
Это таинственное происшествие привело всех обитателей колонии в уныние, и радость победы омрачилась печалью. Все сразу решили, что дона Сильву и его дочь похитил Черный Медведь.
Когда граф де Лорайль после самых тщательных розысков окончательно убедился, что асиендадо и его дочь исчезли, не оставив следа, он предался ярости со всем пылом своего характера, посылал апачам самые ужасные проклятия, клялся преследовать их и истреблять без сожаления и пощады до тех пор, пока не найдет ту, которую уже считал своей женой и потеря которой разрушала все его блестящие мечты, готовые было осуществиться в ближайшем будущем.
Глава XVI
КАСА-ГРАНДЕ МОКТЕСУМЫ
В древние времена ацтеки, народ, о происхождении которого ничего определенного историкам не известно, как бы руководимые самим Провидением, двигались тихо, но неуклонно, как река течет к океану, стремясь овладеть плоскогорьем Анауак. Они сами не давали себе отчета, что влечет их туда, но они не могли отвратить своих жадных взоров от заповедной страны, в которой им суждено было впоследствии создать могущественное государство. Иногда они как бы останавливались, надежда словно покидала их, но это продолжалось недолго. Это было одно из тех переселений народов, которые иногда можно явно проследить в мировой истории и в которых нельзя не видеть руки Божией.
В подобные моменты упадка духа, продолжавшиеся, однако, десятилетиями, ацтеки не просто располагались лагерями, но делали вид, что хотят остановиться навсегда, и строили города.
Протекли века, исчезла с лица земли сама раса ацтеков, но остатки основанных ею городов уцелели. Грандиозные, величавые развалины их рассеяны на пространстве нескольких тысяч квадратных миль по Центральной Америке и вызывают изумление путешественников, достаточно смелых для того, чтобы достичь их, невзирая на бесчисленные опасности и лишения.
Самыми замечательными из этих развалин являются, несомненно, развалины, известные под названием Каса-Гранде Моктесумы, или Моктекузомы. Они расположены на расстоянии около двух миль от извилистых берегов Рио-Хилы, среди бесплодной, необитаемой равнины, на самой границе ужасной песчаной пустыни дель-Норте.
Место, на котором воздвигнут древний замок, со всех сторон совершенно плоско.
Развалины города тянутся более чем на две с половиной мили к югу. В других направлениях вся почва усеяна обломками и черепками сосудов, ваз, тарелок и разной домашней утвари. Большинство их раскрашены в разные цвета: белый, синий, желтый, красный. Это показывает, что город был богат и важен в промышленном отношении и что в нем жили не те индейцы, которые кочуют в настоящее время в окрестных прериях, так как они совершенно не имеют понятия о подобных изделиях.
Сам замок построен в виде продолговатого четырехугольника со стенами, обращенными на четыре стороны света.
Вокруг него возвышаются стены, окружавшие и другие здания, остатки которых еще можно различить. Немного позади находится хорошо сохранившееся одноэтажное здание, разделенное на несколько частей.
Главный дом и стены сооружены из валунов громадной величины, связанных крепчайшим цементом. Дом имеет три этажа, все внутреннее устройство — полы, потолки — ныне, конечно, обрушилось и даже исчезло бесследно.
На каждом этаже находилось по пять обширных зал, освещавшихся, насколько это можно судить по сохранившимся остаткам, лишь через двери и круглые отверстия; двери находились в северных и южных стенах, а отверстия — в восточных и западных.
Через эти отверстия Моктесума — El hombre amargo, Горький Человек, как до сих пор называют в своих преданиях повелителя ацтеков окрестные индейцы, — приветствовал восход и закат солнца.
Сохранились также и остатки канала, сейчас совершенно высохшего, но некогда подводившего к городу из реки живительную воду.
В настоящее время эти руины печальны, пустынны. Днем их накаляет отвесными лучами горячее южное солнце, ночью на них оседает холодная роса, и эта постоянная смена холода и тепла, сырости и абсолютной сухости превращает в мельчайшую пыль гранитные валуны, из которых сложена твердыня. Уже много веков длится эта неустанная работа, и доберется когда-нибудь ничего не щадящее время, сравняет с землей и мелким прахом развеет по соседней пустыне гордое создание рук человека. Пока же оно является удобным и чрезвычайно любимым местопребыванием сов, шакалов, гиен, змей и прочего зверья.
Индейцы испытывают суеверный ужас перед этими развалинами и стараются не приближаться к ним.
Именно поэтому какой-нибудь команч, сиу, апач или пауни, которого охота или преследование врага случайно увлекли бы в ближайшие окрестности этого страшного места, в ночь на четвертое или пятое число Champaski-Oni — месяца вишен, то есть спустя месяц после событий, описанных в прошлой главе, бросился бы прочь отсюда, так как глазам его внезапно представилось бы необычное, полное ужаса зрелище.
Древний замок ацтекских царей гигантским силуэтом вырисовывался на темно-синем небе, усеянном звездами. Но он не был погружен в свое обычное мертвенное безмолвие. Из всех отверстий в его Стенах, круглых и четырехугольных, проделанных людьми и временем, струились потоки красноватого света, неслись крики, песни и смех и тревожили диких зверей, которые вышли из своих убежищ, с недоумением бродили вокруг и негромко рычали и выли, словно вопрошая, зачем и кто нарушил их так долго длившийся безмятежный покой. Внутри развалин можно было различить силуэты людей и лошадей, сгруппировавшихся в разных углах за громадными стенами. Десяток неподвижных всадников, словно сделанных из бронзы, охраняли вход в крепость, опершись на копья.
Внутри отжившие уже развалины вновь наполнились шумом и жизнью, но снаружи по-прежнему царила тишина: вид действительно был ужасен.
Ночь кончалась. Луна совершила уже две трети своего небесного пути. Не поддерживаемые никем костры гасли один за другим, и только отверстия в доме продолжали гореть, как крошечные маяки, в сгустившейся предрассветной тьме.
В это время вдали послышался сухой цокот копыт по песку.
Часовые, поставленные при входе, с трудом подняли отяжелевшие головы и уставились глазами туда, откуда доносились звуки.
На повороте дороги, ведущей к замку, показался всадник и, как будто нисколько не удивившись и не смутившись необычным видом древнего здания, продолжал быстрым галопом приближаться к нему.
Миновав небольшую группу развалившихся домов, он подъехал к часовым на расстояние десяти шагов, спешился и твердым шагом направился к ним. Часовые глядели на него безмолвно и неподвижно.
Не успел он сделать и пяти шагов, как копья были направлены на его грудь. Грубый голос крикнул ему:
— Стой!
Незнакомец остановился, не отвечая ни слова.
— Кто вы такой? Что вам нужно? — спросил его начальник караула.
— Я костеньо [77]. Я долго ехал, чтобы увидеть вашего предводителя, с которым мне необходимо поговорить, — отвечал вновь прибывший.
Начальник караула тщетно старался при бледном свете луны различить черты лица незнакомца. Это было невозможно, так как он закутался в свой плащ и надвинул широкополую шляпу на самые глаза.
— Ваше имя? — опять спросил недовольным голосом начальник, убедившись, что все его усилия ни к чему не приводят.
— Зачем? Ваш предводитель меня не знает, так что мое имя все равно ему ничего не откроет.
— Может быть, ну, да это все равно. Сохраняйте ваше инкогнито, если хотите. Только не знаю, понравится ли это вам, но я не допущу вас к капитану. Он сейчас будет ужинать со своими офицерами и, конечно, не станет менять планы среди ночи, чтобы поговорить с каким-то неизвестным.
Незнакомец сделал движение, как будто хотел что-то возразить.
— Может быть, скажу я вам, в свою очередь, — продолжал он, овладев собой, — но выслушайте, ведь вы были солдатом, не правда ли?
— Я и теперь солдат, — горделиво приосанившись, ответил начальник караула.
— Хотя вы прекрасно говорите по-испански, но мне сдается, что вы француз.
— Да, имею честь быть им.
Незнакомец улыбнулся: он задел слабую струну этого человека.
— Ну, так я один, а вас не знаю сколько. Пропустите меня к вашему капитану, мне нужно говорить с ним, чего вы боитесь?
— Ничего, но у меня есть строгий приказ, я не могу не выполнить его.
— Мы в самом сердце пустыни, более чем в ста милях от ближайшего человеческого жилья, — настойчиво продолжал незнакомец. — Поймите же, наконец, что только особо важные причины могли побудить меня подвергнуться бесчисленным опасностям длинного пути, чтобы сказать несколько слов графу де Лорайлю. Я теперь на пороге его дома, мне нужна от вас лишь самая ничтожная услуга, и я получу все, что мне нужно. Но вы все-таки не хотите оказать мне ее.
Сержант колебался. Доводы незнакомца, по-видимому, убедили его, однако, подумав несколько секунд, он тряхнул головой и отвечал так:
— Нет, это невозможно. Капитан суров, я вовсе не желаю, чтобы он лишил меня заслуженных мною знаков отличия. Все, что я могу для вас сделать — это дозволить вам провести ночь с моими людьми под открытым небом. Завтра днем капитан выйдет, вы ему скажете что надо, а там уж его и ваше дело, дальнейшее меня не касается.
Незнакомец только хмыкнул и тихо проговорил:
— Это очень долго!
— Ба-а! — весело продолжал начальник караула. — Да ведь ночь-то прошла. Да и сами вы виноваты в этом, какого дьявола вы скрываете свое имя! Скажите, кто вы?
— Но я повторяю, что ваш капитан, как и вы, никогда не слышал его.
— Ну так что же! Все-таки имя и фамилия… есть имя и фамилия — все-таки дело ясней, — добавил несколько затруднившийся в изложении своей мысли по поводу значения имени и фамилии достойный начальник караула.
— Ах! — вдруг словно озаренный почти вскрикнул незнакомец. — Я нашел средство все устроить.
— Ну-ка, посмотрим, в чем заключается ваше средство. Если оно хорошо — мы воспользуемся им, если плохо — отбросим.
— Оно великолепно!
— Тем лучше! Я слушаю.
— Скажите капитану, что человек, который месяц тому назад стрелял в него из пистолетов в пуэбло Сан-Хосе, близ Гуаймаса, здесь и желает говорить с ним.
— Как, что такое?
— Разве вы не расслышали меня?
— Напротив, прекрасно расслышал.
— Ну, так в чем же затруднение?
— Черт возьми! Сказать по правде, рекомендация не из особенно завидных и приятных.
— Вы думаете?
— Боже мой! Он подвергался опасности быть вами убитым. Так это вы покушались на него?
— Ну да, конечно! Я и мой товарищ!
— Мы не считаем особенным подвигом нападение вдвоем на безоружного.
— Благодарю за комплимент, но вы все-таки ничего не предпримете?
— Гм! Признаться, я сомневаюсь. Рекомендация довольно странная.
— Совершенно напрасно. Граф де Лорайль человек храбрый, настоящий рыцарь, о нашей встрече он мог сохранить только самое хорошее воспоминание.
— Все это так, все возможно, как бы там ни было. К тому же вы долго ехали. Следовало бы отказать вам, но делать нечего, пойду доложу капитану. Постойте здесь и вооружитесь терпением, однако, за успех не ручаюсь.
— Ну, а я уверен в нем.
— Увидим.
Старый солдат пожал плечами, слез с лошади и вошел в ворота.
Отсутствие его продолжалось довольно долго.
Незнакомец, по-видимому, нисколько не сомневался в успехе переговоров, так как тотчас же после ухода сержанта он приблизился к воротам.
Минут через десять начальник караула вернулся.
— Ну что? — обратился к нему незнакомец. — Что ответил вам капитан?
— Он расхохотался и приказал ввести вас.
— Вот видите, я был прав.
— Это правда, но все равно, представились вы довольно-таки оригинально: «Я тот, кто пытался убить вас».
— Что же делать, такой случай, — ответил незнакомец.
— Не знаю, как вы называете такой случай здесь, но во Франции он называется подлой засадой. Ну, идемте.
Незнакомец ничего не ответил, вздернул подбородок и последовал за достойным солдатом.
В громадной зале, растрескавшиеся стены которой каждую минуту грозили обвалиться и потолком которой служило тёмно-синее усеянное звездами небо, вокруг стола, уставленного с самой изысканной роскошью яствами и прекрасной посудой, сидели четыре человека. Жизнь в пустыне наложила печать суровости на их загорелые решительные лица. Глаза их горели неукротимой отвагой и смелостью.
Это были граф де Лорайль, два главных офицера его штаба, лейтенанты Диего Леон и Мартин Леру, и старый капатас дона Сильвы де Торреса, Блаз Васкес.
Граф де Лорайль уже пять дней как остановился со своими сподвижниками в Каса-Гранде Моктесумы.
После нападения апачей на колонию граф, надеясь отыскать свою невесту, исчезнувшую так таинственно во время битвы и похищенную, по всей вероятности, индейцами, решился, наконец, выполнить поручения, которые ему давно уже дало мексиканское правительство и которые он все медлил исполнить под более или менее обоснованными предлогами, а на самом деле потому, что, как он ни был храбр, он не горел желанием помериться с индейцами силами в открытом бою, зная, как они ужасны и как трудно их победить в родных им прериях.
Граф собрал отряд из двухсот пятидесяти французов. Капатас, горевший жаждой отыскать своего господина и свою молодую госпожу и освободить их из плена, присоединил к ним тридцать пеонов. Все вместе они представляли значительный для тех мест и для того времени отряд хорошо вооруженных и воинственно настроенных людей.
Нашим охотникам, дону Луи, Весельчаку и Орлиной Голове, помощь которых оказалась для него такой драгоценной, граф де Лорайль предложил сопровождать его в походе. Он почувствовал бы себя необыкновенно счастливым, если бы ему удалось таким образом не только приобрести неустрашимых товарищей, но и вернейших проводников, которые повели бы его отряд по следам индейцев, которых он намеревался загнать в самую глубь прерий, но дон Луи и оба его друга, сославшись на то, что им необходимо срочно продолжать свое путешествие, простились с графом, не прельстившись его блестящими обещаниями.
Граф был вынужден удовлетвориться капатасом и его пеонами. К сожалению, люди эти были костеньо, то есть прибрежные жители, плохо знавшие внутренние области страны и обычаи ее обитателей.
Вот под руководством таких-то неопытных проводников граф покинул Гетцали и направился в земли апачей.
Экспедиция началась весьма успешно: дважды французы внезапно настигали краснокожих и истребляли их без пощады.
Граф не желал оставлять у себя пленников и, чтобы внушить краснокожим страх, расстреливал всех попадавших к нему живьем индейцев и вешал их по прерии вверх ногами.
Ознакомившись, однако, в этих двух несчастных для них стычках с приемами врага, индейцы стали осторожнее, и, несмотря на все усилия, графу никак не удавалось вновь так же удачно напасть на них.
Методы наказания пойманных врагов, применяемые графом, казалось, возымели действие более сильное, чем он сам мог ожидать, потому что индейцы вдруг как сквозь землю провалились.
В течение трех недель граф тщетно искал их следы. Наконец, накануне того дня, с которого мы вновь начали наш рассказ, семьсот или восемьсот лошадей вступили средь бела дня в развалины древнего мексиканского города. По индейскому обычаю, всадники лежали пластом на этих лошадях и были почти невидимы, так что с первого взгляда казалось, что идет огромный табун. Этот необычный отряд ринулся на Каса-Гранде с ужасающей стремительностью.
Залп из карабинов, раздавшийся из-за наскоро сложенных баррикад, несколько расстроил передние ряды, но не ослабил стремительности нападения. Индейцы, как поток лавы, бросились на французов.
Они выпрямились на своих конях. Полуобнаженные, в воинских головных уборах из перьев, в своих длинных плащах из бизоньих шкур, развевающихся по ветру, управляя лошадьми при помощи колен, они имели дикий, воинственный вид и могли вселить ужас даже в очень смелых людей. Французы мужественно встретили нападение, хотя и были оглушены криками и ослеплены тучей перистых стрел, сыпавшихся на них градом. Апачи, а тем более так долго искавшие их французы, не хотели, однако, ограничиться одной сшибкой. Как бы придя к согласию, враги кинулись друг на друга с оружием в руках.
Среди индейских воинов нетрудно было различить по высокому головному убору и украшавшим его орлиным перьям Черного Медведя. Отважный вождь ободрял своих воинов, увещевал их отомстить за понесенные поражения разгромом Каса-Гранде. Завязалась одна из тех ужасных битв, довольно обычных на границах индейских земель, где не берут пленных, где жестокость и животное остервенение с обеих сторон достигают неслыханных размеров, где совершаются такие нечеловеческие преступления, что всякое описание их невозможно. Единственным оружием защиты служили штык, копье и болас-пердидас — свинцовые шары, привязанные к концам ремня, которыми при удачном ударе сразу можно было проломить противнику череп. Битва длилась часа два, но защитники баррикад решили, что скорее погибнут все до единого, чем уступят хотя бы пядь земли. Индейцы подавляли своей численностью и постоянно сменяли друг друга.
Французы, сами утомленные нечеловеческим сопротивлением, надеялись, что долгая борьба утомит индейцев, и они не замедлят в скором времени отступить, так как уже появились признаки того, что они колеблются. Надежда удваивала силы защищающихся. Вдруг в тылу у них раздался крик:
— Измена! Измена!
Граф и капатас, сражавшиеся в первых рядах как львы, обернулись.
Положение становилось критическим: французы очутились буквально между двух огней.
Малая Пантера с отрядом в пятьдесят воинов обошел позицию французов и уже проник внутрь стен крепости.
Индейцы, опьяненные успехом, так легко им доставшимся, с воем торжества и радости принялись уничтожать все, что попадалось им под руку.
Граф окинул взглядом поле битвы, и в его голове мгновенно созрел отчаянный план.
Он сказал два слова капатасу, который немедленно обратился к сражавшимся, объяснил им, что они должны делать, и стал ждать удобного момента, чтобы привести в исполнение то, о чем они условились с графом.
Граф также не терял времени. Он взял жестянку с порохом, вставил в нее горящую свечу и швырнул в самый центр толпы индейцев. Раздался страшный взрыв, который внес в гущу врагов ужасное замешательство и многих убил и ранил.
Испуганные апачи в беспорядке бросились в разные стороны, боясь, что их настигнут осколки этой необычной бомбы.
Ловко воспользовавшись этим моментом, французы по команде капатаса внезапно повернули фронт и бросились на апачей, пришедших с Малой Пантерой и уже стоявших всего в нескольких метрах от них со своими грозно поднятыми томагавками.
Место было неудобным для индейцев, они находились в тесном проходе, где нельзя было свободно управлять лошадьми.
Малая Пантера и его воины с воем устремились на французов. Последние, не уступая им в отваге и ловкости, твердо встретили их и штыками отразили обрушившийся на них удар.
Краснокожие заколебались, среди них началась паника, еще минута — и они кинулись бежать во все стороны.
Граф с несколькими пеонами бросился их преследовать.
И только к вечеру они вернулись.
Апачи соединились и отступили в глубь прерий.
Граф, хотя и был доволен достигнутой победой, так как потери врага были чрезвычайно тяжелы, видел, что не все еще сделано: Черный Медведь ускользнул от него, и самое главное, он еще не нашел тех, кого поклялся спасти и освободить.
Он дал приказ своей квадрилье — так назывались в Мексике отряды волонтеров — готовиться на следующий день к выступлению и распорядился принять все меры предосторожности, необходимые в походе по пустыне.
Утром французы должны были выступить из Каса-Гранде. Граф решил отпраздновать со своими офицерами вчерашнюю победу и выпить за успех предстоящего похода.
Возбужденный выпитым вином и бесчисленными тостами, которые он произнес за полный и скорый успех, граф находился в прекрасном расположении духа, когда к нему подошел его старый сержант, начальник караула, и сообщил об удивительном посетителе, желавшем его видеть.
— Что же это за личность, судя по наружности? — спросил он, когда сержант не без смущения окончил доклад.
— Честное слово, капитан, — отвечал сержант, — насколько я мог разглядеть его, это еще очень молодой детина, здоровый и уж слишком самоуверенный, пожалуй, даже нахальный.
Граф подумал с минуту.
— Расстрелять его? — подсказал сержант, полагая, что об этом именно и думает граф.
— Ну вот еще! Что вы выдумали, Буало! — ответил граф, расхохотавшись и закидывая назад голову. — Нет, нет! Нам очень повезло, что приехал этот негодяй. Напротив, пойдите и приведите его сюда, и как можно вежливее.
Сержант отдал честь и вышел.
— Господа, вы помните ловушку, в которую я попал и чуть было не поплатился жизнью? Это дело окружает какая-то тайна, которую мне до сих пор никак не удается раскрыть. Человек, который хочет говорить со мной, сдается мне, должен сообщить кое-что, и это даст мне ключ к разрешению многих неясных вопросов.
— Сеньор граф, — заметил капатас, — смотрите, будьте осторожны. Вы еще не знаете характера людей этой страны.
Человек этот пришел, может быть, только затем, чтобы вовлечь вас в новую западню.
— С какой целью?
— Кто знает?! — отвечал Блаз Васкес.
— Да! — прибавил граф. — А вы, дон Блаз, поможете мне, конечно, если этот малый и впрямь шпион, вывести его на чистую воду, хотя я так не считаю.
Капатас ограничился лишь тем, что незаметно пожал плечами. Граф принадлежал к числу тех резких, надменных натур, которые не допускают, чтобы им хоть в чем-то противоречили.
Европейцы, а особенно французы, в Америке усваивают в своем отношении к местному населению, будь то белые, метисы или краснокожие, оттенок презрения и высокомерия, который так и сквозит во всех их действиях. Убежденные в своем умственном превосходстве над жителями той страны, в которой сами являются пришельцами, они с обидной и невыносимой иронией относятся к обычаям, верованиям, убеждениям местного населения и готовы, кажется, снисходительно допустить только то, что они по своему умственному развитию стоят все-таки выше зверей.
Мысль эта несправедлива и абсолютно неверна. Испано-американцы, правда, отстали в цивилизации, промышленности, ремеслах и прочем, прогресс у них идет медленно, они опутаны суеверием, составляющим основу их религиозных взглядов. Но их нельзя считать единственными виновниками такого порядка вещей, они стремятся изменить его. Однако испанцы так долго держали население своих колоний в состоянии ужасного гнета и унижения, над ним в течение нескольких веков тяготела столь неслыханная тирания и жители колоний скорее были рабами гордых и неумолимых властителей, а не гражданами государства, что это не могло не отразиться на их характере — рабском, коварном, лживом.
За исключением некоторых выдающихся личностей, масса населения, индейского в особенности, двулична, зла, развратна, коварна. Быть может, в гораздо меньшей степени относится эта характеристика к белому населению, которое гигантскими шагами стремится вперед к истинному просвещению.
Вследствие этого почти всегда, когда европеец и метис встречаются вместе, первый, несмотря на все превосходство, которое он сознает за собой, обыкновенно остается в дураках, туземец его проводит.
В Испанской Америке считается чуть ли не догматом веры, что индейцы и метисы всего лишь жалкие создания, способные только на то, чтобы изо дня в день поддерживать свое существование, и только белые имеют право именоваться мыслящими людьми, одаренными разумом и сотворенными по подобию Божию.
Нужно прибавить, что после пребывания в Америке в течение нескольких лет взгляды европейцев на метисов мало-помалу меняются. После более близкого общения с туземным населением они начинают менее предубежденно судить о местных жителях и видят, что это такие же люди, только испорченные условиями быта своей страны. Граф не пережил еще этого поворотного момента и продолжал видеть в метисе существо, лишенное разума, и действовал соответственно своим взглядам.
Убеждение это дорого обошлось впоследствии графу.
Движение плеч капатаса не ускользнуло, однако, от его внимания. Он хотел было что-то сказать ему, но в это время появился сержант в сопровождении незнакомца, и глаза всех присутствующих впились в него.
Незнакомец, нисколько не смущаясь, выдержал перекрестный огонь взглядов и, оставаясь по-прежнему закутанным в свой плащ, самым непринужденным образом приветствовал графа и его товарищей.
Появление этого человека в зале пиршества произвело на сотрапезников неприятное впечатление, словно он чем-то стеснил их. Чем — они не могли объяснить, но все сразу умолкли.
Глава XVII
КУКАРЕС
Молчание длилось довольно долго, так что всем стало неловко. Граф это понял первым. Светский человек до кончиков ногтей, то есть человек, привыкший легко и незаметно выпутываться из самых трудных положений, он поднялся, с улыбкой подошел к незнакомцу, протянул ему руку и сказал, обращаясь к своим офицерам, мягким, томным голосом, совсем как в парижском салоне, с чуть заметным приветливым поклоном, в котором в то же время сквозила ирония:
— Господа, позвольте вам представить кабальеро — я не имею чести знать его имени, — который, как он сам отрекомендовался, состоит в числе моих самых непримиримых врагов.
— О, сеньор! — подавленным голосом только и мог произнести незнакомец.
— Слава Богу! Я в восхищении! — живо воскликнул граф. — Не защищайтесь, мой дорогой враг, прошу вас сесть рядом, к столу.
— Вашим врагом я никогда не был, сеньор граф. Доказательство тому, что я сделал восемьдесят миль, чтобы просить вас об одной услуге.
— Вы должны сначала заплатить за нее. Дела оставим до утра. Попробуйте теперь это шампанское, прошу!
Незнакомец поклонился, взял стакан и торжественно обратился к присутствующим с таким тостом:
— Senores caballeros, пью за счастливый успех вашего похода! — И, поднеся стакан к губам, он залпом опорожнил его.
— В обществе вы премилый человек, кабальеро. Благодарю за тост, он ободрил нас. Он предвещает нам нечто хорошее.
— Капитан, — обратился к графу лейтенант Мартин, — будьте так добры, расскажите нам, что произошло между вами и этим кабальеро.
— С удовольствием, господа. Но только я попросил бы кабальеро, раз уж он попал ко мне в гости — чего он так страстно, по-видимому, желал, — я просил бы его, повторяю, быть столь любезным и открыть нам свое инкогнито, оно продолжается чересчур долго. Хотелось бы узнать, как его зовут, кого мы имеем честь принимать.
Незнакомец рассмеялся и откинул свой плащ, который до сих пор закрывал его лицо.
— С величайшим удовольствием, кабальеро, но я думаю, что имя мое, так же, как и лицо, которое вы теперь видите, не скажет вам ничего. Мы встречались всего один раз, сеньор граф, и во время этой встречи, во-первых, было довольно темно, а, во-вторых, у вас шло слишком горячее дело с моим товарищем, так что, если даже вы и видели мои черты, то едва ли они запечатлелись в вашей памяти.
— Действительно, сеньор, — отвечал граф, внимательно оглядывая своего бывшего противника, — должен признаться, что решительно не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь встречался с вами.
— Я это знал.
— В таком случае, — живо воскликнул граф, ударив рукой по столу, — почему вы так упорно и старательно скрывали свое лицо?
— Э! Сеньор граф, у меня на то были свои причины. Кто знает, не пожалеете ли вы сами, что заставили меня открыть свое инкогнито, которое мне хотелось бы сохранить.
Эти слова были произнесены язвительным тоном, в котором явно слышалась угроза. Это поняли все сидевшие, несмотря на видимую беззаботность незнакомца.
— Пустяки, сеньор, — презрительно взглянув на него, ответил граф. — Я принадлежу к числу людей, которые подкрепляют свои слова концом своей шпаги. Но довольно чесать языком даром, говорите же нам, кто вы такой.
— Какое из моих имен желаете вы знать, кабальеро? Мое военное имя, имя, которое я ношу в походе, или имя…
— Говорите любое! — нетерпеливо перебил его граф. — Лишь бы только знать, с кем мы имеем дело.
Незнакомец поднялся, обвел всех надменным взглядом и твердым голосом начал так:
— Я уже сказал вам, войдя в эту залу, что я сделал восемьдесят миль, чтобы просить вас оказать мне помощь. Но это неверно, я не жду ничего от вас, ни милости, ни помощи, напротив, я могу оказать вам помощь, я вам могу быть полезен. Именно для этого я и пришел сюда, и не для чего другого. Почему же вы хотите знать мое имя? Я ничем не обязан вам, а вы обязаны мне.
— Это еще одна причина, кабальеро, — отвечал ему на это граф, — чтобы вы открыли нам свое имя. Я уважаю ваши права, как права всякого гостя, хотя вы и злоупотребляете ими, и не хочу заставлять вас силой открыть нам ваше имя. Но имейте в виду, что если вы немедленно же не исполните моего требования, то я вынужден буду просить вас покинуть наше общество, несмотря ни на какие блага, которые вы пришли сулить нам.
— Вы пожалеете об этом, сеньор граф, — продолжал незнакомец все с той же дьявольской усмешкой. — Одно слово, кабальеро, одно только слово. Я согласен открыть вам свое имя, но только вам, так как то, что я скажу, можете слышать только вы один.
— Позвольте! — вмешался лейтенант Мартин. — Это невероятно, это упорство странно.
— Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, — заговорил, наконец, и капатас, — но мне кажется, что я до некоторой степени посвящен в тайну, которая окружает кабальеро, и что если кто и смущает его, так это я.
— Вы угадали, сеньор Блаз, — отвечал незнакомец, слегка поклонившись ему. — Вы видите, что я знаю и помню вас. Кроме того, вы меня знаете не только в лицо, но, к счастью для меня, и по имени, и по тому, что обо мне говорят. Ну так вот, я думаю, хотя, быть может, и напрасно, что если я произнесу вам свое имя, то вы будете упрашивать ваших друзей не слушать меня.
— И что же из этого выйдет? — спросил капатас.
— Вероятно, великое несчастье, — твердо отвечал незнакомец. — Вы видите, что я нисколько не боюсь вас, какие бы ни были у вас намерения относительно меня. Я прошу у графа подарить мне только десять минут, после чего он может открыть кому угодно тайну, которую я ему сообщу.
Наступило молчание.
Граф де Лорайль внимательно, в упор смотрел на насмешливое лицо незнакомца и думал. Наконец незнакомец поднялся и, поклонившись графу, сказал:
— Что должен я делать, сеньор, оставаться или уходить?
Граф бросил на него пронизывающий взгляд, но и этот взгляд не произвел никакого действия на его собеседника.
— Останьтесь, — произнес граф.
— Хорошо, — ответил незнакомец и снова сел на бутаку.
— Господа, — продолжал граф, обращаясь к остальным присутствующим, — вы слышали сейчас наш разговор, прошу меня извинить и оставить нас на несколько минут.
Офицеры отряда графа поднялись и вышли.
Капатас вышел последним, окинув незнакомца таким взглядом, как будто хотел проникнуть в самые сокровенные тайники его души.
Но тот смотрел, словно мраморное изваяние. Лицо незнакомца оставалось неподвижным.
— Ну, сеньор, — начал граф де Лорайль, обращаясь к своему гостю, как только дверь закрылась, — теперь мы одни, жду исполнения вашего обещания.
— Готов удовлетворить ваше желание.
— Как вас зовут? Кто вы такой?
— Извольте, сеньор, — отвечал по-прежнему с язвительной насмешкой незнакомец, — если мы будем так говорить, то это займет очень много времени, и притом вы ничего или очень мало узнаете.
Граф подавил нетерпеливое движение.
— Ну, так говорите, как и что хотите, — и он махнул рукой.
— Отлично! Таким образом мы очень скоро поймем друг друга.
— Я слушаю.
— Так вот, сеньор. Вы — иностранец, приехали сравнительно недавно и не знаете ни характера местных жителей, ни здешних нравов, ни обычаев. Вы сильны связями, приобретенными вами еще на родине, и думаете, поселившись среди нас, что все пойдет по вашему желанию. Вы считаете себя умнее нас и действуете соответственно этому.
— К делу, сеньор, к делу, — не сдержавшись, прервал его граф.
— Я уже перехожу к самому делу, сеньор. Итак, благодаря своим могущественным связям вы с первых же шагов оказались в совершенно исключительном положении. Вы основали великолепную колонию в самой плодородной части провинции, на границе пустыни, вы просили затем у правительства чин капитана с правом собрать отряд добровольцев из ваших же соотечественников, предназначенный для охоты за апачами, команчами и другими племенами. Оно и понятно, что из ваших соотечественников, ведь мы, мексиканцы, все такие трусы!..
— Сеньор, сеньор, должен поставить вам на вид, что все, что вы мне говорите, по меньшей мере, совершенно бесполезно, — с раздражением перебил его граф.
— Вовсе не так бесполезно, как вы полагаете, — отвечал совершенно спокойно его собеседник. — Не волнуйтесь, вступление кончено, я перехожу к главному, наиболее интересному для вас предмету. Должен только заметить, что если вы меня не знаете, то я, наоборот, знаю вас так, как вы даже и предположить не можете.
Граф едва сдерживал себя. Он нетерпеливо ударил рукой по столу и нервно закинул ногу за ногу.
— Я продолжаю, — заметив его волнение, сказал незнакомец. — Конечно, высаживаясь в Мексике, вы никоим образом, несмотря на все свое самомнение, не рассчитывали так скоро завоевать себе столь блестящее положение. Легкое счастье, однако, плохой советник. Того, что вчера казалось избытком, сегодня уже мало. Когда вы увидели, что всюду вас сопровождает успех, вы захотели сразу довершить дело и навсегда оградить себя от неожиданных превратностей счастья, которое сегодня рабски служит вам, а завтра может повернуться к вам спиной. Я не осуждаю вас. Вы поступаете, как расчетливый игрок. Я сам игрок в душе, но не расчетливый, к сожалению, хотя умею ценить это качество в других.
— О! Боже мой, — не выдержал наконец граф.
— Терпение, граф, терпение. И вот вы огляделись кругом и, естественно (в этом, конечно, не могло быть никакого сомнения, так и следовало ожидать от такого умного, знающего людей человека, как вы) взоры ваши обратились на дона Сильву де Торреса. Этот кабальеро совмещал в себе все качества, которых вы могли требовать от хорошего тестя, так как вы хотели завершить начатое вами выгодным браком. Э! Вы не обманете меня теперь, мой рассказ о вашей собственной особе начинает интересовать вас. Дон Сильва добр, доверчив, кроме того, он колоссально богат, даже и для такой страны, как та, в которой мы имеем счастье беседовать с вами, где вообще состояния огромны. К тому же донья Анита, его дочь и ваша невеста, прелестна. Словом, вы вошли в дом дона Сильвы, предложили свою руку его дочери, и предложение было принято. Свадьба должна была состояться еще в прошлом месяце. Удвойте теперь ваше внимание, кабальеро, так как я перехожу к наиболее интересной части моего рассказа.
— Продолжайте, сеньор. Вы видите, что я прилагаю все усилия, чтобы слушать вас с должным терпением.
— Вы будете вознаграждены за вашу любезность, кабальеро, не волнуйтесь, — сказал незнакомец с едва уловимым оттенком иронии.
— Страстно желаю, чтобы вы поскорее закончили, сеньор.
— И я тоже спешу. К сожалению для ваших планов, донья Анита не посоветовалась со своим отцом относительно выбора мужа. Уже давно она тайно любила одного молодого человека, которому однажды посчастливилось оказать ей важную услугу.
— Имя этого молодого человека вы, конечно, знаете?
— Разумеется, сеньор.
— Так сообщите его мне.
— Нет, не сообщу. Этот молодой человек тоже любил ее. Донья Анита и молодой человек виделись тайно от дона Сильвы и поклялись друг другу в вечной любви. Когда донья Анита по приказанию своего отца была вынуждена стать вашей невестой, она притворилась, что повинуется его приказу, так как не решилась открыто сопротивляться отцу, но она предупредила своего возлюбленного, и оба они нашли способ расстроить этот ненавистный брак.
Граф в продолжение последней части речи незнакомца поднялся и стал нервно ходить взад и вперед по зале. При последних словах он остановился перед гостем.
— Таким образом, — мрачно насупившись, проговорил он, — нападение в Ранчо…
— Было средством, к которому прибег молодой человек, чтобы избавиться от вас, сеньор, — невозмутимо докончил незнакомец.
— Следовательно, этот молодой человек — подлый разбойник! — заметил на это граф с глубочайшим презрением.
— Ошибаетесь, кабальеро. Он хотел только заставить вас отказаться от вашего намерения жениться на донье Аните. Доказательство в том, что жизнь ваша была в его руках, но он не воспользовался этим.
— В конце концов, — воскликнул граф, — разбойник он или нет, но скажите же мне, кто он! Надеюсь, вы окончили свой рассказ?
— Нет еще. После случая в Ранчо вы должны были продолжать свой путь на асиенду вместе с вашим будущим тестем и невестой. Но и там вас преследовала ненависть возлюбленного доньи Аниты, не давая вам ни минуты покоя. На вас напали апачи.
— Ну и что же?
— Ну, и… все говорить вам? Разве вы не понимаете, что этот молодой человек был в союзе с краснокожими?
— И донья Анита знала это?
— Я не могу утверждать этого, но весьма вероятно.
— О!
— Хорошо было устроено, не правда ли?
Граф до крови закусил губу, еле сдерживаясь.
— А знаете вы, кем похищена донья Анита?
— Знаю.
— Так, значит, не краснокожими?
— Нет.
— Этим молодым человеком?
— Да, этим молодым человеком.
— А ее отец, дон Сильва де Торрес, он также захвачен им?
— Да, но могу вас уверить, совершенно против своей воли.
— Где же в настоящее время дон Сильва?
— Спокойно живет в своем доме в Гуаймасе.
— А его дочь с ним?
— Нет.
— Так, значит, она с этим молодым человеком?
— Вы просто ясновидящий, дорогой граф.
— А знаете вы, где они сейчас находятся?
— Знаю.
Быстрее молнии граф ринулся на незнакомца, левой рукой схватил его за горло, а правой приставил пистолет к груди его.
— Ну, теперь, несчастный, — прохрипел он, — ты… ты скажешь мне, где они?
— А, вот вы в какую игру желаете играть со мной? Но вы меня не поняли, — нисколько не изменившись в лице, проговорил незнакомец. — Впрочем, я к вашим услугам, кабальеро.
С этими словами он распахнул плащ, и граф увидел перед собой дула двух направленных на него пистолетов, которые незнакомец держал в руках.
Движение это было таким быстрым, что граф не успел упредить его. Он опустил пистолет, заткнув его за пояс.
— Я с ума сошел, — пробормотал он, — простите меня, я не сдержался и вспылил.
— От всей души! — ответил незнакомец, кладя пистолеты на стол рядом с собой.
— Простите меня еще раз. Теперь я подумал и успокоился. Я вижу, что вы хотите быть мне полезным.
Незнакомец утвердительно кивнул головой.
— Есть еще одна вещь, которой я не могу найти объяснение, — продолжал граф.
— Какая? — спросил незнакомец.
— Для чего вы все это мне сообщаете?
— Все очень просто.
— Премного обяжете, если объясните мне это.
— С удовольствием, кабальеро. Ведь на вас напали в Ранчо двое незнакомцев?
— Да.
— Я тот самый, которого вы опрокинули.
— А-а! — с какой-то особенной интонацией в голосе протянул граф.
— Одним словом, меня зовут Кукарес, я -леперо, то есть человек, предпочитающий солнце тени, покой — труду удар кинжала, когда он хорошо оплачивается, — самоотречению, которое ничего не приносит. Ну, поняли меня?
— Вполне.
— Итак, мы можем сговориться?
— Думаю, можем.
— Гм! И я того же мнения. Вот это-то и привело меня сюда.
— Еще один вопрос.
— Говорите.
— Но ведь вы изменяете своим друзьям, предаете их?
— Я? Каких?
— Тех, которым вы до сих пор служили.
— Человек, подобный мне, кабальеро, не имеет друзей, у него есть только клиенты.
— Клиенты или друзья, но ведь вы все-таки совершаете измену?
— Мы с ними покончили счеты, ни они не должны мне, ни я им, мы расквитались. Вы видите, кабальеро, в каждом деле существуют две стороны, и каждую умный человек может обратить себе на пользу. Я извлек все, что я мог, из первой, теперь же я хочу попытать счастье на второй.
Граф слушал, как леперо развивал свою теорию двустороннего пользования обстоятельствами, с изумлением и омерзением. Цинизм, такой откровенный, ничем не прикрытый, против воли поражал его, но граф де Лорайль, несмотря ни на что, устоял. Наставления его парижского друга барона Спурцгейма пошли впрок.
— Мы скажем, что вы пришли оказать мне услугу.
Леперо улыбнулся.
— Думаю, мы сторгуемся, — ответил он. — Я говорю это сейчас, наедине, чтобы не бередить совести этих кабальерос, которые вышли отсюда, когда я входил, но с вами я буду откровенен.
— Что вы хотите сказать?
— То, что я пришел сюда, чтобы все это продать.
— Идет.
— Я не продам дешево.
— Ну что же!
— Я дорого возьму.
— Все равно, лишь бы стоило того.
— Ну и отлично! — радостно воскликнул леперо. — Вы именно тот человек, которого я хотел найти. Так можете, любезный граф, смело положиться на меня.
— Приходится, так как ничего другого не остается.
— Что делать? Все люди таковы: сегодня я — вам, завтра вы — мне. Ба-а! Несколько тысяч пиастров за такое дело нечего жалеть.
— Ну так, прежде всего, имя моего соперника?
— Это будет стоить вам пятьдесят унций. Ведь это не дорого?
— Вот они, — отвечал граф и положил на стол требуемую сумму.
Леперо, словно в бездонную пропасть, сбросил их со стола в свой огромный карман.
— Ваш соперник, кабальеро, зовется дон Марсиаль, он же Тигреро. Он страшно богат.
— Дон Сильва, кажется, произносил это имя.
— Возможно, но дон Сильва терпеть его не может, особенно после того, как дон Марсиаль спас его дочь.
— Действительно, я и это припоминаю, дон Сильва говорил об этом несколько раз. Теперь, каким образом дон Марсиаль похитил донью Аниту?
— Очень просто. Стоило ему только проникнуть в крепость, как она уже готова была следовать за ним куда угодно. Во время битвы с апачами он усадил донью Аниту в пирогу, в которую я раньше уже втащил ее отца, связанного, с заткнутым ртом. Затем мы поплыли. Всю ночь плыли мы по реке, чтобы скрыть всякие следы нашего бегства. На рассвете мы были уже в пятнадцати милях. Здесь мы уже не боялись, что нас откроют, и пристали к берегу. Индейцы мансос продали нам лошадей, дон Марсиаль поручил мне препроводить отца молодой девушки в Гуаймас, я исполнил это поручение. Дон Сильва не желал следовать за мной, но в конце концов мне у далось доставить его домой. Я оставил его там и присоединился к дону Марсиалю, который поручил мне принести кое-какие вещи и ждал меня в условленном месте.
— Так, — проговорил граф, — но почему же вы разошлись с ним?
— Боже мой! Кабальеро, мы разошлись, как это бывает между лучшими друзьями, вследствие недоразумения.
— Отлично! Он вас прогнал?
— Почти что так, должен сознаться.
— Давно вы разошлись с ним?
Леперо прищурил правый глаз.
— Нет, — ответил он.
— Можете вы показать дорогу туда, где он в настоящее время находится?
— Когда угодно.
— Отлично. Далеко это отсюда?
— Нет, но простите, кабальеро, давайте все по порядку.
— А именно?
— Сколько вы мне дадите, чтобы узнать, где находятся дон Марсиаль и донья Анита?
— Двести унций.
— Идет.
— Вот они.
Граф подошел к железному ящику в углу залы, достал оттуда несколько пригоршней золота и передал его леперо.
— С вами приятно иметь дело, — проговорил Кукарес, присоединив новые золотые к прежде положенным. — Вот теперь вы сами, вероятно, согласитесь, что я был прав, говоря, что пришел оказать вам услугу.
— Это правда, и я вам очень благодарен. Так где же донья Анита и дон Марсиаль?
— Они в миссии Сан-Франциско. А теперь я прошу у вас позволения покинуть вас.
— Нет, я не дам пока этого позволения.
— Почему же?
— По двум причинам: во-первых, потому что, хотя я и питаю полное доверие к вам, я еще не убедился, что вы говорили мне правду.
— О! — проговорил леперо, и тоном, и жестом показывая, что в правдивости его слов не может быть ни малейшего сомнения.
— Это верно, это верно, я это хорошо знаю, но что вы хотите, я по природе очень недоверчив.
— Хорошо, я останусь. Но в чем заключается вторая причина?
— Вот в чем: теперь я, в свою очередь, хочу попросить вас об одной услуге.
— За плату?
— Ну, разумеется.
— К вашим услугам.
— Я вам дам сто унций, если вы проведете меня к моему сопернику.
— Caspita! — вскричал леперо.
— Еще сто унций, — повторил граф.
— Я понимаю. Сто унций — это прекрасная вещь! Но видите ли, кабальеро, я, во-первых, костеньо, житель берега, а, во-вторых, леперо. Жизнь в пустыне мне не подходит, она вредна для моего здоровья. Я дал себе слово бросить ее. Дорога отсюда в миссию Сан-Франциско трудная, надо идти по настоящей пустыне. Нет, это невозможно.
— Досадно, — холодно проговорил граф.
— Да.
— Так как я хотел предложить вам не сто, а двести унций.
— Ну? — насторожившись, переспросил его собеседник.
— Но так как вы отказываетесь — ведь вы отказываетесь, не правда ли? — то я, к моему сожалению, вынужден вас расстрелять.
— Неужели?! — с ужасом воскликнул леперо.
— Конечно, — продолжал граф невозмутимо. — Послушайте меня, любезнейший, вы очень ловкий человек, и если вы нашли в этом деле две стороны, то, кто вас знает, может быть, вы найдете и третью.
И прежде чем Кукарес успел что-либо сообразить, граф быстрым движением схватил пистолеты, которые лежали на столе.
Леперо побледнел.
— Позвольте, позвольте, кабальеро, — заговорил он неуверенным голосом. — Если уж вы так этого желаете, то я почувствовал бы себя глубоко несчастным, если бы не угодил вам. Я согласен на двести унций.
— Ну, вот так-то лучше! — тихо проговорил граф. — Я и сам был уверен, что мы в конечном счете поймем друг друга.
Он вынул из железной кассы золото. Стоя у кассы спиной к Кукаресу, граф не мог заметить той особенной улыбки, в которую сложились губы леперо. Если бы он увидел ее, то не стал бы в душе поздравлять себя с так легко доставшейся победой.
Глава XVIII
НЕСКОЛЬКО ШАГОВ НАЗАД
Рассказ леперо, верный по своей сути, был совершенно неверен и ложен по своей форме. Имел ли он намерение обмануть графа Лорайля, читатель узнает позже.
Ускользнув так чудесно из рук апачей под стенами асиенды, как это описано нами выше в одной из предыдущих глав, Кукарес нырнул и, насколько хватило у него сил, плыл под водой, направляясь к середине реки. Вынырнув на поверхность, чтобы перевести дух, он огляделся. Он был один.
Кукарес подавил в себе крик радости и, подумав с минуту, изо всех сил поплыл по направлению к тому месту, где его уже некоторое время должен был ждать дон Марсиаль, предупрежденный его сигналом.
Несколько взмахов — и он достиг мелкого места, покрытого высокой травой. Здесь ждало его неожиданное счастье: его пирога, плывя по течению, пристала сюда вместе с несколькими корягами и вырванными деревьями.
Кукарес встал на ноги, без труда выплеснул из пироги набравшуюся воду и вывел ее на глубокое место. Пирога эта отличалась, как и вообще индейские пироги в той местности, чрезвычайной легкостью, она была сделана из березовой коры, снимаемой размачиванием срубленного березового ствола в теплой воде.
Едва пирога коснулась берега, как к его уху кто-то нагнулся и прошептал:
— Ты запоздал.
Кукарес чуть было не подпрыгнул от неожиданности, но тотчас же узнал дона Марсиаля. В двух словах леперо объяснил, что с ним произошло.
— Все идет к лучшему, теперь ты тут, — ответил Тигреро. — Спрячься в этих кустах и ни под каким видом не трогайся, пока я не приду.
С этими словами Тигреро быстро удалился.
Кукарес повиновался с большой охотой, тем более что неподалеку слышался шум ожесточенной битвы, происходившей в это время между апачами и французами.
Дон Марсиаль, как призрак, проскользнул к группе флорибондов, где его ожидала, вся дрожа, донья Анита.
Он был уже готов раздвинуть последние ветви, отделявшие его от девушки, как вдруг остановился: она была не одна.
Он услышал ее голос, прерывавшийся от волнения и гнева. Она говорила, обращаясь к кому-то короткими, резкими фразами.
Но к кому были обращены ее слова? Кто был этот человек, обнаруживший ее в таком месте, где она считала себя в полной безопасности? Человек этот, по-видимому, хотел заставить ее следовать за собою.
Тигреро весь превратился в слух.
Но он не мог тут же удержаться от гневного угрожающего движения. Он узнал по голосу того, кто говорил с доньей Анитой. Это был ее отец.
Все было потеряно.
Асиендадо пытался заставить свою дочь вернуться назад, приводя самые убедительные доводы, указывая ей на все опасности, которым она подвергла свою честь и жизнь. Относительно того, что заставило ее покинуть дом графа Лорайля и явиться сюда, он, по-видимому, не имел ни малейшего сомнения.
Донья Анита отказывалась следовать за отцом, ссылаясь на то, что они могут встретиться с каким-нибудь отошедшим в сторону индейцем и таким образом подвергнуться уже совсем нежелательной опасности.
Дон Марсиаль ударил себя по лбу, на губах его появилась усмешка, в глазах засветился огонь, и он быстро удалился по направлению к берегу.
Битва тем временем продолжалась. Иногда казалось, что она приближается, в ушах раздавались вопли и проклятия раненых. По временам, как гром, раздавался пушечный выстрел, и ядро, свистя и шипя, проносилось над головами сражающихся, по большей части не принося никому вреда, возбуждая лишь ужас в тех, кому впервые приходилось видеть настоящую битву.
— Умоляю именем Бога, всеми святыми, моя дорогая дочь, — уже ласково, но тем не менее настойчиво продолжал дон Сильва, — идем, нельзя терять ни минуты, через несколько секунд, быть может, возвращение будет уже невозможным. Идем, умоляю тебя.
— Нет, отец мой, — отвечала она, отрицательно качая головой, — я решилась. Что бы ни произошло, повторяю вам, я не тронусь с места.
— Но ведь это безумие, — с горечью воскликнул асиендадо. — Значит, ты хочешь умереть?
— Ну так что же, — твердо отвечала она, — так или иначе, а мне один конец. Бог свидетель — я готова умереть, лишь бы не выходить замуж за того человека, которого вы мне выбрали в мужья!
— Дочь моя, умоляю тебя всеми святыми!
— Ну, что за важность, не все ли равно, отец, тут ли меня захватят дикари, или не сегодня-завтра вы сами своими руками отдадите меня во власть человека, которого я ненавижу.
— Не говори так, дочь моя, к тому же здесь крайне неудобно говорить о таких вещах. Идем скорее. Слышишь, крики все ближе, через минуту будет уже поздно.
— Так идите скорее, если вы считаете, что так лучше, а я останусь, что бы ни случилось, — отвечала она решительно.
— Поскольку ты упорствуешь, я буду вынужден заставить тебя повиноваться силой.
Девушка быстро обхватила левой рукой тонкий, прямой ствол росшей тут же мексиканской сосны и, бросив на отца взгляд, полный неукротимой воли, не проговорила, а скорее крикнула ему вызывающе:
— Попробуйте, если вы осмелитесь сделать это. Только я предупреждаю вас, что при первом же вашем шаге ко мне произойдет именно то, чего вы так стремитесь избежать: закричу так сильно, что индейцы непременно услышат прибегут сюда.
Дон Сильва остановился в нерешительности, ему хорошо был знаком характер дочери. Он был уверен, что она приведет свою угрозу в исполнение.
Прошло несколько минут. Дочь и отец стояли безмолвно друг против друга, глядя друг на друга, но не произнося ни слова, не делая ни одного жеста.
Но тут неожиданно раздвинулись кусты, и появились два человека или скорее два демона. В мгновение ока они набросились на асиендадо и повалили его на землю. Прежде чем дон Сильва успел сообразить что-либо, он уже был связан, рот заткнут платком, руки скручены назад, ноги связаны, глаза завязаны шарфом, и он не мог видеть, что делается вокруг.
Донья Анита при неожиданном появлении этих людей испустила было крик ужаса, но тотчас же подавила его, узнав дона Марсиаля.
— Тише! — быстро прошептал Тигреро. — У меня не было иного средства помочь вам выйти из затруднительного положения. Идите, идите скорее за мной. Будьте уверены, что жизнь и здоровье вашего отца для меня священны.
Молодая девушка не отвечала.
По знаку дона Марсиаля Кукарес не без труда взвалил себе на плечи тучного дона Сильву и направился к берегу, где в чаще корнепусков они оставили пирогу.
— Куда мы идем? — дрожащим голосом спросила донья Анита.
— Туда, где мы будем вместе и счастливы, — ласковым голосом тихо ответил ей Тигреро, нежно обняв и осторожно посадив ее в неустойчивую пирогу.
Донья Анита не сопротивлялась, она обняла за шею своего возлюбленного, помогая ему сохранять равновесие в то время, как он бесстрашно перепрыгивал по скользким воздушным корням, хватаясь за перепутанные лианы и взглядами ободряя свою дорогую ношу.
Кукарес достиг пироги раньше, положил на дно дона Сильву, поднял весло и нетерпеливо ожидал Тигреро, так как шум становился все сильнее, хотя по участившимся выстрелам можно было судить, что победа переходит на сторону французов.
— Что же мы будем делать? — спросил Кукарес.
— Выгребай на середину реки и плыви вниз по течению.
— А лошади? — заметил леперо.
— Спасемся сначала сами, а потом будем думать о лошадях. Уже ясно, что победят белые. Как только битва кончится, граф де Лорайль бросится во все стороны разыскивать свою невесту и дона Сильву. Необходимо, чтобы не осталось следов, иначе все будет потеряно. Французы — черти, они нас непременно найдут.
— Но я полагаю… — робко заметил Кукарес.
— Греби живо, — перебил его Тигреро, нетерпеливо и сильно толкнув ногой пирогу по направлению к середине течения.
Они поплыли.
Сначала они плыли безмолвно, каждый про себя обдумывал, что произошло.
Дон Марсиаль взял на себя слишком много, поставив сразу, так сказать, на карту счастье любимой девушки вместе с безопасностью и спокойствием ее отца. Но раздумывать было некогда. Правда, он видел, что попал в очень затруднительное положение, выйти из которого было нелегко.
Донья Анита, опустив голову, рассеянным взглядом следила за струями воды, отстававшими от быстро спускавшейся вниз по течению пироги.
Кукарес изо всех сил работал веслом, раздумывая о трудностях и превратностях той жизни, которую ему пришлось вести в последнее время, с досадой вспоминая, как спокойно ему жилось в Гуаймасе, когда, положив голову в тень и протянув ноги под горячие лучи солнца, он сидел на соборной паперти, довольный своей скудной сиестой, освежаемый легким дуновением морского бриза и убаюкиваемый таинственным рокотом прибоя.
Что касается дона Сильвы, то он не раздумывал — он метался в бессильной ярости, которая грозила перейти в полное безумие, грыз платок, засунутый ему в рот, тяжело ворочался, стараясь освободить хотя бы одну руку, а по временам, совсем изнемогая, словно успокаивался.
Шум битвы понемногу смолкал и, наконец, вовсе затих.
Путники, обуреваемые каждый своими чувствами, продолжали плыть в полном молчании. Они не могли не поддаться влиянию торжественной тишины и покоя, которые царили в пустыне и которые неизбежно передаются возбужденному уму нервно настроенных людей. А в пустыне царило такое величественное спокойствие, что никакое перо человеческое не в состоянии его описать.
Звезды на небе между тем стали бледнеть, на востоке неясно обозначилась розовая полоса. Грузные аллигаторы начали выползать из грязи и гоняться за утренней добычей, сова прокричала прощальный привет ночи, где-то далеко с лаем пронеслись шакалы, дикие звери, переступая тяжелым, сонливым шагом, направились в свои тайные убежища. Наконец совсем рассвело. Донья Анита любовно склонила голову на плечо дона Марсиаля.
— Но куда же мы плывем? — спросила она его после долгого молчания мягким доверчивым голосом.
— Мы бежим, — коротко ответил он.
— Вот уже шесть часов, как мы все плывем по течению, да к тому же вы работаете в два весла. Неужели нас все еще могут догнать?
— Едва ли, но сейчас я боюсь не французов.
— А кого же?
Тигреро глазами показал ей на дона Сильву, который, вконец обессилев от волнения и досады, смирно лежал на дне пироги. Самой позой своей он молчаливо признавал, что побежден. Казалось, он погрузился в глубокий сон.
— Увы! — проговорила донья Анита. — Вы правы. Но дальше так продолжаться не может, это невыносимо.
— Если вы предоставите мне действовать по моему усмотрению, то, ручаюсь вам, и четверти часа не пройдет, как ваш отец будет благодарить меня.
— Разве вы не знаете, что я ни в чем не стану противоречить вам?
— Благодарю!
И дон Марсиаль обернулся к Кукаресу и шепотом сказал ему несколько слов.
— Эге! Это мысль, — отвечал, усмехаясь, леперо.
Через пять минут пирога пристала к берегу. Дон Марсиаль с Кукаресом осторожно подняли дона Сильву и перенесли его на берег. Тот не проснулся.
— Теперь, — обратился дон Марсиаль к молодой девушке, — вам остается только позволить привязать себя к этой акации, чтобы наша хитрость увенчалась полным успехом.
— Делайте со мной что хотите.
Тигреро взял ее своими сильными руками, перенес на землю и привязал поясом к стволу дерева.
— Теперь, — быстро проговорил он, — помните: вас и вашего отца похитили из асиенды апачи. Случайно мы встретили вас в таком положении, и …
— Вы нас спасли, не правда ли? — докончила, весело смеясь, донья Анита.
— Совершенно верно! Только представьте, что вы еще не освободились от пережитого вами ужаса, плачьте, рыдайте погромче. Понимаете?
— Очень хорошо.
Далее сцена разыгрывалась по этому быстро составленному сценарию. Молодая девушка стала пронзительно кричать, а оба искателя приключений выстрелили из карабина и револьверов и бросились к асиендадо, которого поспешили освободить от связывающих его пут, возвратили ему свободу движений, сняли повязку с глаз и освободили рот от платка.
Дон Сильва приподнялся и огляделся вокруг. Первое, что он увидел, была его дочь, растерзанная, в полубесчувственном состоянии, привязанная к дереву и истерично рыдавшая. Двое мужчин поспешно старались освободить ее. Асиендадо возвел глаза к небу и мысленно поблагодарил Всемогущего за Его милости.
Донья Анита была немедленно освобождена. Она подбежала к отцу, бросилась ему в объятия, обхватила руками его шею и спрятала на его груди свое лицо, невольно покрасневшее от стыда за ту недостойную проделку, в которой она согласилась участвовать, чтобы обмануть старика.
— Бедное, дорогое дитя! — проговорил он со слезами на глазах. — Я за тебя, и только за тебя дрожал всю эту ночь, пока мы плыли по реке.
Донья Анита не нашлась, что ответить. Она почувствовала, что ласковые слова отца звучат для нее упреком.
Дон Марсиаль и Кукарес сочли этот момент благоприятным и приблизились, держа в руках свои еще дымящиеся карабины.
Увидев их, асиендадо сразу их узнал, тень набежала на его лицо. Неясное подозрение зародилось в его душе. Он окинул обоих проницательным взглядом, перевел взгляд на дочь и поднялся, нахмурившись, с дрожащими губами и не произнеся ни слова.
Тигреро смутился от этого молчания. Он совсем не ожидал подобного приема. Но после той услуги, которую, как считалось, он оказал асиендадо, он счел себя вправе первым обратиться к дону Сильве.
— Я счастлив, — начал он, запинаясь и подыскивая слова, — что встретил вас здесь. Я, благодарение Богу, получил возможность вызволить вас из рук краснокожих.
— Я вам благодарен, сеньор дон Марсиаль, — сухо ответил асиендадо, — при вашей храбрости этого и следовало ожидать. Вам предопределено спасти сначала дочь, а затем такую же услугу оказать и отцу. Судьба назначила вам, я вижу, быть освободителем всего моего семейства. Примите мою искреннейшую благодарность.
Эти слова были произнесены с такой иронией, что Тигреро почувствовал, будто его точно что-то ужалило, он не нашелся, что ответить, и только неловко поклонился, чтобы скрыть свое замешательство.
— Отец, — вкрадчиво вступила донья Анита, — дон Марсиаль рисковал из-за нас своей жизнью.
— Да я его и благодарю, — отвечал дон Сильва. — Должно быть, схватка была жаркая. Краснокожие что-то чересчур быстро удрали. Убитых не было?
Говоря это, асиендадо с притворным изумлением оглядывался вокруг себя.
Дон Марсиаль выпрямился и опять подошел к дону Сильве.
— Сеньор дон Сильва де Торрес, — начал он твердым голосом, — судьба вновь свела нас, можно сказать, с глазу на глаз, позвольте же мне воспользоваться случаем и заявить вам, что едва ли среди ваших друзей найдется человек, столь преданный вам, как я.
— Вы это и доказали, кабальеро.
— Оставим это! — перебил живо дон Марсиаль. — Теперь вы свободны и можете действовать как вам угодно. Так говорите, приказывайте, чего вы желаете от меня. Я готов сделать для вас все, лишь бы показать, как я счастлив, как ценю ваше расположение.
— Вот это я понимаю, кабальеро, и отвечу вам откровенно. Важные причины заставляют меня вернуться во французскую колонию Гетцали, в которой я находился в то время, когда индейцы так коварно похитили нас.
— Когда вам угодно будет отправиться?
— Сейчас же, если это возможно.
— Все возможно, кабальеро. Но я должен предупредить вас, что мы находимся почти в ста двадцати милях от Гетцали, отделяет нас от нее дикая пустыня, лошадей достать здесь очень трудно, а пешком мы не можем пройти это расстояние, несмотря на все наше желание.
— Особенно моя дочь, не правда ли? — заметил дон Сильва с ядовитой усмешкой.
— О! — отвечал, не смущаясь Тигреро. — Да, особенно сеньорита.
— Ну, так как же быть? Мне непременно нужно вернуться туда вместе с дочерью, — дон Сильва произнес последние слова с особым ударением, — и притом как можно скорее.
Тигреро говорил неправду, уверяя дона Сильву, что они находились в ста двадцати милях от колонии. До нее было едва семьдесят пять миль, но в такой стране, как Сонора, и пятнадцать миль являлись бы непреодолимым препятствием для того человека, который не привык к жизни в пустыне и не научился переносить ее лишения. Хотя дон Сильва и путешествовал обычно с полнейшим комфортом, какой только можно обеспечить в этих местах, но все же он знал, если не по опыту, то понаслышке, обо всех трудностях, которые встречаются на подобном пути, о препятствиях, возникающих на каждом шагу. Решение свое он принял, не беря в расчет всего вышесказанного.
Дон Сильва, как и большее число его соотечественников, был одарен страшным упрямством. Раз он решил что-нибудь, то чем больше препятствий вставало на пути к исполнению задуманного, тем больше разгоралось у него желание во что бы то ни стало довести дело до успешного конца.
— Слушайте, — обратился он к дону Марсиалю, — я буду откровенен с вами. Думаю, что не скажу вам новости, если сообщу, что готовится свадьба моей дочери с графом де Лорайлем. Свадьба эта состоится, клянусь вам, что бы там ни говорили и каких бы препятствий ни ставили нам разные лица. Теперь же я желаю испытать вашу преданность, о которой вы сейчас говорили.
— Говорите, сеньор.
— Вы пошлете своего товарища к графу де Лорайлю. Он успокоит его на наш счет и известит его о нашем скором прибытии.
— Хорошо.
— Вы распорядитесь?
— Немедленно.
— Благодарю. Теперь, что касается лично вас, то вы вольны покинуть нас или сопровождать, если вам будет угодно. Но, прежде всего, нам нужны лошади, оружие и особенно провожатые. Я нисколько не боюсь вновь попасть в руки краснокожих нехристей, хотя, быть может, нам и не удастся так легко отделаться от них, как сегодня.
— Оставайтесь здесь. Через два часа я вернусь с лошадьми, что же касается провожатых, то я постараюсь достать вам их, но ручаться за успех не могу. Если вы позволите, я провожу вас до самого графа. Надеюсь, что пока я буду иметь счастье находиться в вашем присутствии, мне удастся доказать вам, что вы ошибались относительно меня.
Эти слова были произнесены так задушевно, что тронули асиендадо.
— Что бы ни произошло, — ответил он, — я остаюсь вам благодарен. Вы окажете мне неоценимую услугу, за которую я вам вечно буду признателен.
Дон Сильва вырвал листок из своей записной книжки, написал на нем несколько слов карандашом, свернул его и вручил Тигреро.
— Уверены ли вы в этом человеке? — спросил он его.
— Как в самом себе, — отвечал уклончиво дон Марсиаль. — Будьте уверены, он проникнет к самому графу.
Асиендадо наклонил голову в знак своего полного удовлетворения. Тигреро приблизился к Кукаресу.
— Слушай, — громко проговорил он, обращаясь к нему, — требуется, чтобы ты в два дня передал это письмо начальнику гарнизона Гетцали… Понимаешь меня?
— Вполне! — подтвердил леперо.
— Отправляйся, и да хранит тебя Бог… Через четверть часа за тем холмом, — быстро прибавил он, понизив голос;
— Понимаю, — ответил тот, наклонив голову.
— Возьми эту пирогу, — продолжал Тигреро.
Если у асиендадо и шевельнулись какие-либо подозрения относительно намерений Тигреро, то они окончательно рассеялись, когда он увидел, что Кукарес прыгнул в пирогу, схватил весло и удалился, даже не обменявшись с Тигреро знаком, ни разу не обернувшись.
— Ну вот, первая часть ваших распоряжений исполнена, — начал Тигреро, возвратившись к дону Сильве. — Теперь перейдем ко второй. Возьмите мои пистолеты и мой кинжал, в случае тревоги вы сможете защищаться. Я оставлю вас здесь. Прошу вас, не отходите далеко. Часа через два, не позже, я вернусь.
— Так что, вы знаете, где найти лошадей?
— Разве вы забыли, что в пустыне я как у себя дома? — отвечал Тигреро с улыбкой. — Скоро вы увидите, что я не хвастаюсь. До свидания.
И он удалился твердыми шагами в направлении, противоположном тому, куда поплыл Кукарес.
Но как только он скрылся из глаз дона Сильвы за густой группой прибрежных деревьев, то сразу круто повернул, обошел стороной и очутился опять на берегу, немного выше того места, где оставил дона Сильву с дочерью.
Кукарес, ожидая его, сидел, небрежно прислонившись к стволу дерева, и курил папиросу.
— Ну, некогда болтать, надо делать дело, — начал, приблизившись к нему, Тигреро. — Время не ждет.
— Я слушаю.
— Видишь ты этот бриллиант? — и он показал ему на массивное кольцо, стягивающее его галстук и украшенное бриллиантом чистейшей воды.
— Он стоит тысяч шесть пиастров, — оценил его леперо взглядом знатока.
Дон Марсиаль протянул ему бриллиант:
— Дарю его тебе.
Леперо взял его и сжал в руке.
— Что надо делать?
— Прежде всего, возвратить мне записку.
— Вот она.
Дон Марсиаль взял ее и разорвал на мелкие кусочки.
— А теперь? — вновь спросил Кукарес.
— А теперь у меня для тебя есть другой такой же бриллиант. Ты меня понимаешь?
— Что ж, я его возьму.
— Но с одним условием.
— Я знаю, с каким, — ответил Кукарес, утвердительно кивая головой.
— Ты принимаешь это условие?
— Разумеется. Никогда уже он не будет становиться вам поперек дороги.
— Хорошо, но ты знаешь, что я требую доказательств.
— И вы получите их.
— Тогда до свидания.
Оба товарища расстались, очень довольные тем, что поняли друг друга с полуслова.
Мы уже видели, каким образом Кукарес исполнил поручение, возложенное на него доном Сильвой де Торресом.
После описанного краткого разговора с Кукаресом дон Марсиаль принялся разыскивать лошадей.
Часа через два он уже возвращался и не только вел с собой двух великолепных коней, но откуда-то достал и двух пеонов, или выдававших себя за таковых, которые должны были служить провожатыми.
Асиендадо вполне оценил великодушие дона Марсиаля и, хотя манеры и вид его телохранителей не внушали особого доверия, он тепло благодарил Тигреро за участие и за старания сделать путешествие по возможности менее тяжелым. Он с большим аппетитом позавтракал задней лопаткой лани, орошенной пульке — и то, и другое также достал откуда-то предусмотрительный дон Марсиаль. Когда завтрак кончился, небольшой отрад, довольно хорошо вооруженный, двинулся в путь по направлению к колонии Гетцали, куда дон Сильва при благоприятных обстоятельствах рассчитывал добраться за три дня.
Глава XIX
В ПРЕРИЯХ
Мексиканская граница, вплоть до отдаленных иезуитских миссий, тогда уже оставленных и разрушавшихся, представляла собой край громадных прерий по Рио-Хиле, известных в то время под именем Апачерии, или земель апачей. Они тянулись вплоть до мрачной пустыни дель-Норте.
Эту часть Америки природа одарила чудной растительностью, чрезвычайным плодородием и разнообразием флоры и фауны, что редко можно встретить в каком-либо другом месте на земле.
Гетцали, колония, основанная графом Лорайлем, представляла не что иное, как бывшую миссию достопочтенных отцов-иезуитов, некогда процветавшую, но затем упраздненную декретом, предписывающим изгнать орден достопочтенных отцов за пределы Мексики. Миссия постепенно пришла в запустение и была восстановлена графом.
Мы не будем приводить здесь доводы за или против ордена Иисуса, но мимоходом должны заметить, что в Америке он оказал громадные услуги делу распространения просвещения. Все основанные им на границе пустыни миссии процветали, индейцы тысячами приходили в них, слушали проповеди на родном им языке, имели случай видеть ближе преимущества оседлой жизни и земледелия и в большом числе переходили под отеческое покровительство миссии, увеличивая собою их паству. Были миссии, которые насчитывали до шестидесяти тысяч новообращенных. Когда вышел декрет об изгнании иезуитов и о передаче основанных ими миссий в руки других орденов, эти прозелиты [78] провожали их со слезами и скорбью, движимые только любовью к своим просветителям, протестуя против такой непонятной им меры, предлагая даже защищать их права от всякого посягательства с оружием в руках.
Наша несколько запоздалая защита отцов-иезуитов, которым мы хотели воздать должное после стольких лет, прошедших со дня их изгнания, основана на той памяти о них, которая и доселе жива в сердцах окрестных индейцев. Эти индейцы, некогда их неусыпными трудами приведенные в лоно христианской церкви, в настоящее время совсем забыли преподанные им зачатки цивилизации и вновь стали кочующими дикарями. Но и до сих пор в поздний час вокруг бивачных костров, среди разных тем для бесед и рассказов, преобладают предания о благочестивых, самоотверженных миссионерах.
Дон Сильва де Торрес хотел поскорее кратчайшим путем добраться до Гетцали. К сожалению, ему нужно было преодолеть значительное расстояние по такой местности, где не было ни одной тропинки. К тому же из-за полного незнания этой местности он был вынужден довериться дону Марсиалю, проводнику во всех отношениях прекрасному, предусмотрительность которого и глубокое знание пустыни не подлежали никакому сомнению, но к которому он, сам не зная почему, мог питать только крайне ограниченное доверие.
Тем не менее Тигреро, по крайней мере с виду, выражал полную преданность асиендадо, вел его по наиболее проторенным тропинкам, помогал ему избегать наиболее трудных переходов и самым заботливым образом оберегал безопасность своего отряда.
Каждый вечер они располагались биваком на вершине какого-нибудь пригорка, с которого просматривались все окрестности.
Вечером четвертого дня, после утомительнейшего перехода по чрезвычайно неровной местности, они достигли вершины холма, на котором дон Марсиаль предполагал остановиться.
Асиендадо согласился на это с тем большим удовольствием, что сам испытывал крайнюю усталость, так как не привык к подобного рода путешествиям. После скудного ужина, состоявшего из маисовых лепешек и жареных водяных курочек, обильно посыпанных перцем и облитых пульке, дон Сильва даже не подумал выкурить сигару, что он неизменно делал каждый вечер перед отходом ко сну, а прямо завернулся в свой сарапе, растянулся на земле ногами к огню и мгновенно заснул.
Дон Марсиаль и донья Анита сидели несколько минут молча, устремив глаза на асиендадо и с беспокойством следя за его сном. Наконец, когда Тигреро окончательно убедился, что дон Сильва действительно спит, он приблизился к молодой девушке и, наклонившись к ее уху, тихо проговорил:
— Простите меня, донья Анита, простите меня!
— Простить вас? За что? — удивленно спросила она.
— Боже мой, да ведь я вижу, что вы из-за меня переносите все эти лишения.
— О, эгоист! — ответила она, взглянув на него своими жгучими глазами. — Да разве я и не для себя переношу их?! Ведь я люблю вас!
— Благодарю, благодарю вас! — закричал он вне себя от радости. — Вы мне возвращаете бодрость, которая, я уже чувствовал, покидала меня! Но, Боже мой, как теперь выкрутиться из всего этого?
— Как выкрутиться? Я знаю, как, — живо отвечала она. — Надо только иметь терпение. Мой отец, поверьте мне, скоро изменит свое мнение относительно вас.
Тигреро печально улыбнулся.
— Но ведь не могу же я без конца водить вас по прерии.
— Это верно, — сказала Анита упавшим голосом. — Что же делать?
— Не знаю. Вот уже два дня мы ходим вокруг Гетцали. Отсюда до колонии всего лишь около двенадцати миль, но я никак не решусь войти в нее.
— Неужели! — пробормотала молодая девушка.
— Ах! — продолжал Тигреро, и в глазах его загорелся огонь. — И почему только человек этот — ваш отец, донья Анита?
— Не говорите так, дорогой мой! — воскликнула она и зажала ему рот своей маленькой ручкой. — Зачем отчаиваться? Бог добр, Он не оставит нас. Мы не знаем, что нас ожидает, возложим на Него надежды наши.
— Однако положение наше незавидное, — отвечал на это Тигреро, покачав головой. — Ходить вот так, бесцельно, наудачу далее невозможно. Хотя ваш отец совершенно не знает прерий, но в конце концов все же догадается, что я его обманываю, и тогда я безнадежно упаду в его глазах. С другой стороны, войти в колонию, это значит отдать вас в руки человека, которого вы ненавидите. Это возмутительно, и я не желаю способствовать этому. О! Я с удовольствием отдал бы десять лет жизни, чтобы знать, что мне делать.
В это время как будто само Небо услышало его слова и пожелало прийти ему на помощь. Произнося последние слова, Тигреро машинально огляделся по сторонам. Прерия лежала окутанная тьмою, но неподалеку от того места, где они расположились, он заметил светящуюся точку, которая два раза поднималась к небу из высокой травы, описывая каждый раз странные, причудливые линии в воздухе. В то же время его привычное ухо различило тихое ржание лошади.
— Странно, — проговорил он будто сам с собою, — что бы это значило? Не сигнал ли это? Но мы здесь одни, вчера весь день я не мог обнаружить ни малейшего следа. Что же это за свет показался и сейчас же исчез? И это ржание?..
— Что с вами, дорогой мой? — заботливо спросила его донья Анита. — Вы чем-то обеспокоены. Не угрожает ли нам какая-нибудь опасность? Говорите, вы знаете, я не из трусливых, а рядом с вами разве может что-то испугать меня? Не скрывайте ничего. Происходит что-то необыкновенное, не правда ли?
— Да, правда, — отвечал дон Марсиаль, — происходит что-то не совсем обыкновенное, но успокойтесь, опасности нет никакой.
— Но что же это такое? Я ничего не вижу.
— Смотрите! — проговорил дон Марсиаль, показывая рукой в направлении привлекшего его внимание места.
Девушка внимательно посмотрела в ту сторону и увидела то, что несколько раньше заметил дон Марсиаль. В траве засветился слабый свет и описал в воздухе замысловатую линию.
— Это сигнал, несомненно, — заметил Тигреро, — кто-то засел там.
— Разве вы кого-то ждете? — спросила она его.
— Никого, но только мне кажется, что этот знак относится ко мне.
— Не забывайте, что мы находимся в прерии и, по всей вероятности, окружены индейскими отрядами. Может быть, это они переговариваются между собой при помощи этого света, который мы видели уже два раза.
— Нет, донья Анита, вы ошибаетесь. В настоящее время вокруг нас не может быть ни одного индейского отряда. Мы одни, совершенно одни.
— Откуда вам это известно? Ведь вы ни на минуту не отходили от нас и не можете знать, что делается вокруг.
— Донья Анита, дорогая моя, — отвечал дон Марсиаль торжественным голосом. — Прерия есть великая книга Господня, на ней Бог запечатлел неизгладимые письмена, которые тот, кто привык к жизни в ней, может читать легко и свободно. Ветер, шумящий среди деревьев, ручей, катящийся по песку, птица, летящая в воздухе, лань или бизон, пасущийся в высокой траве, аллигатор, лениво валяющийся на брюхе в иле, — все это для меня знаки, которые никогда не обманут. Два дня, как мы не встречаем ни одного следа индейцев. Бизоны и другие животные, которые попадались нам, пасутся спокойно, не выказывая ни малейшей тревоги, птицы также не выражают никакого волнения, аллигаторы почти совершенно зарылись в ил. Все эти живые существа чуют приближение человека, и особенно индейца, на значительном расстоянии, и как только почувствуют его, убегают и скрываются со страшной быстротой — такой страх внушает им венец творения — человек. Повторяю вам, мы здесь одни, совершенно одни, сигнал может относиться только ко мне. Вот он повторяется опять, смотрите.
— Да, да, верно, я вижу.
— Надо узнать, что мне хотят сообщить! — воскликнул он громко и взялся за карабин.
— О! Дон Марсиаль, умоляю вас, будьте осторожны, будьте благоразумны. Подумайте обо мне, — прибавила она с беспокойством.
— Не волнуйтесь, донья Анита, я слишком опытный охотник, чтобы попасться на какую-нибудь грубую уловку. Я мигом.
И не слушая более молодой девушки, которая старалась мольбами и слезами удержать его, дон Марсиаль быстро поднялся и сбежал, чутко прислушиваясь ко всему окружающему, с холма.
Спустившись вниз, Тигреро остановился, чтобы осмотреться. Бивак был расположен на расстоянии двух полетов стрелы от берега Рио-Хилы, почти напротив большого острова, представляющего собой громадный обломок скалы, несколько напоминающий своими очертаниями человеческую фигуру, почему индейцы называли его Господином Человеческой Жизни.
Во время своих набегов на мексиканские территории индейцы никогда не забывали останавливаться на этом острове, чтобы принести жертву — обряд, состоящий в том, что в воду бросались с подходящими к случаю плясками такие предметы, как табак, волосы и птичьи перья.
Эта скала издали имеет чрезвычайно живописный вид. Здесь расположены две естественные пещеры, каждая около сорока шагов в ширину, стены их вверху сходятся в виде свода.
Что особенно возбудило любопытство Тигреро и заставило его убедиться в значении замеченного им сигнала, так это то обстоятельство, что сигнал посылался с описанного здесь острова. Этого он никак не мог объяснить себе, так как знал, что индейцы испытывают к этому месту религиозный страх, и ни один индейский воин, как бы храбр он ни был, не осмелится перебраться на него ночью. Это и подбивало его разгадать тайну.
Высокая жесткая трава буйно разрослась до самого берега реки. Скрываясь сначала в траве, затем в густой чаще корнепусков, лиан, плюща, Тигреро незаметно проскользнул к самому краю воды и так тихо зашел в нее, что самое чуткое ухо не могло бы слышать его движения.
Погрузившись в воду, он поплыл к острову, работая одной рукой, а другой держа над водой карабин. Скоро он достиг того места, где хотел выйти на берег.
Выбравшись на остров, он пополз между кустами, прислушиваясь к малейшему шуму и внимательно вглядываясь в густую тьму.
Он никого не увидел, ничего не услышал и направился к одной из пещер, перед входом в которую он заметил горевший костер. Около костра сидел человек, подперев рукой подбородок, и так спокойно курил, как будто он находился в пулькерии в Гуаймасе.
Дон Марсиаль с минуту вглядывался в этого человека, но затем, едва сдержав радостное восклицание, быстро, уже больше не скрываясь, подошел к нему.
В сидевшем у костра он узнал своего доверенного, леперо Кукареса.
Шаги приближавшегося Тигреро заставили того быстро обернуться.
— Э! Добро пожаловать, дон Марсиаль! — воскликнул он. — Вот уже целый час я бьюсь, подаю вам сигналы, какие только могу, а вы даже не замечаете их.
— Compadre, — весело отвечал дон Марсиаль, — если бы я знал, что это ты, то давно был бы тут, но я вовсе и не ожидал тебя…
— Вы правы. Мы находимся в местах, где никакая предосторожность не помешает.
— Ну, есть что-то новое? — обратился к нему с вопросом Тигреро, садясь перед огнем, чтобы обсушиться.
— Caspita! Есть ли что-то новое?! Да разве я был бы здесь, если бы не было ничего нового?
— Это правда. Ты хороший товарищ; благодарю, что ты пришел. Ты знаешь, что память у меня хорошая.
— Я знаю это.
— Ну, к делу. Что хочешь ты рассказать мне нового?
— Спрашивайте.
— Дурные или хорошие вести принес ты?
— Превосходные! Вы это сейчас увидите.
— Слава Богу, если это так. Возьми этот перстень. Я должен был бы отдать его тебе, когда мы закончим дело, но будь уверен, что при окончательном расчете я найду что-нибудь другое, что понравится тебе так же, как этот перстень.
Глаза леперо загорелись от жадности. Он схватил перстень и присоединил его к тем драгоценностям, которые получил от дона Марсиаля несколько дней тому назад.
— Благодарю, — проговорил он. — Какое счастье иметь с вами дело. Ничего не скажешь, вы не скряга!
— Ну, какие новости?
— Их мало, но они хорошие. Сеньор граф в отчаянии от исчезновения своей невесты, которую, он полагает, похитили апачи. Он покинул асиенду во главе своего отряда и теперь мечется по прерии во всех направлениях, гоняясь за Черным Медведем.
— Благодарение Богу! Это самая лучшая новость, которую ты только мог принести мне. А ты сам, что думаешь делать ты?
— Э! Разве между нами не было условлено, что граф…
— Конечно, — живо перебил его Тигреро. — Но для этого его, прежде всего, нужно встретить, а это в настоящее время, я думаю, нелегко.
— Напротив.
— Ну, как же?
— Сеньор дон Марсиаль, вы совершенно несправедливо принимаете меня, кажется, за неотесанного мужика!
— Нисколько, compadre, нисколько, но…
— Да нет, я вижу, что это так… Ну ладно, только вы ошибаетесь, кабальеро, я вот сейчас вам докажу, что ошибаетесь. В течение нескольких часов, которые я провел на асиенде, я обращался ко всем с вопросами, и так как я объявил, что у меня очень важное письмо к графу, то никто не скрывал от меня ничего. Оказывается, апачи не только ничего не взяли, но французы так здорово их поколотили (хотя, заметим, они все-таки продолжают чувствовать немалый страх перед краснокожими), что индейцы отступили в самую глубь прерий к пустыне дель-Норте, к своим селениям, и граф, конечно, будет преследовать их.
— Да, ты мне это уже говорил.
— Ну вот, только едва ли граф решится углубиться в саму пустыню.
— Ну конечно, — согласился Тигреро и почувствовал, как дрожь пробежала по его телу при воспоминании об ужасах, таящихся в глубине американской пустыни.
— Значит, он может остановиться только в одном месте.
— В Каса-Гранде! — живо воскликнул дон Марсиаль.
— Совершенно верно! Вот я и уверен, что встречу его там.
— Заклинаю тебя Святым Телом Иисуса Христа, отправляйся туда.
— Я отправлюсь туда сразу же после вашего отъезда.
Тигреро с изумлением посмотрел на него.
— Великий Боже! — воскликнул он через минуту. — Да ты действительно умнейший человек, Кукарес. Как я счастлив, что не ошибся на твой счет!
— Что же делать, — скромно отвечал на это Кукарес, ехидно прищуривая глаза, — мне так нравится иметь дело с вами, что я не в силах в чем-либо вам отказать.
И оба они принялись хохотать, довольные тем, что так хорошо поняли друг друга.
— Теперь, когда мы обо всем переговорили и обо всем условились, нам остается только разойтись каждому в свою сторону, — предложил дон Марсиаль.
— Как вы попали сюда?
— Вплавь, конечно. А ты?
— Верхом на лошади. Я бы предложил доставить вас на берег, но нам в разные стороны.
— Что ж, это правильно.
— Итак, вы рассчитываете переправиться сейчас?
— Да, хотелось бы, — отвечал дон Марсиаль с неопределенной усмешкой.
— О! Ну, так мы скоро увидимся.
— Надеюсь.
— Слушайте, дон Марсиаль, теперь платье ваше высохло, мне не хотелось бы, чтобы вы его снова замочили. Кажется, я видел где-то здесь пирогу — вы ведь знаете, что индейцы всюду прячут пироги.
Тигреро вошел в грот и нашел в глубине его тщательно запрятанную за камнями пирогу. Он взял ее и легко взвалил себе на спину.
— Вот еще что, — опять обратился он к Кукаресу. — Зачем ты назначил мне свидание на этом островке?
— Чтобы нам никто не помешал. Ведь вы не хотите, чтобы нас кто-нибудь подслушал?
— Нет, согласен с тобой. Итак, до свидания.
— До свидания.
Два приятеля, довольные друг другом, расстались. Один отправился в долгий и утомительный путь, а другой вернулся к своим спутникам.
Оба они, однако, ошибались, полагая, что их никто не слышал.
Едва они покинули островок, разойдясь в разные стороны, как густая чаща далий и флорибондов, закрывавшая вход в грот, раздвинулась, и из нее выглянула голова в уборе из орлиных перьев, с горящими, как уголья, глазами. Голова осторожно повернулась направо и налево. Затем, минуту спустя, сучья затрещали, раздвинулись еще больше, и вслед за головой появилось туловище апачского воина, расписанного и вооруженного по-боевому.
Апачским воином, так неожиданно появившимся, был Черный Медведь.
— О-о-а! — проговорил он с угрожающим жестом. — Бледнолицые собаки! Апачские воины пойдут по их следам.
Несколько минут он стоял, уставившись в небо, усеянное звездами, затем вошел в грот.
Дон Марсиаль в это время достиг своего бивака.
Донья Анита, обеспокоенная долгим отсутствием, ожидала его с живейшим нетерпением.
— Наконец-то, — воскликнула она, увидев его, и бросилась навстречу.
— Добрые вести, — отвечал он ей.
— О! Я так беспокоилась!
— Благодарю вас. Случилось то, что я и предвидел. Мы видели сигнал, поданный мне.
— Так что…
— Я встретил друга, который подсказал мне, каким образом выйти из нашего сложного положения.
— Как же?
— Не беспокойтесь ни о чем. Повторяю вам опять, предоставьте действовать мне.
Молодая девушка покорно склонила голову и, несмотря на снедавшее ее любопытство, удалилась, не говоря более ни слова, в хакаль, приготовленный специально для нее.
Дон Марсиаль после ее ухода не заснул, а сел у костра, скрестил на груди руки, прислонился к дереву спиной и так до самого рассвета и просидел неподвижно, погруженный в невеселые думы.
Когда настал день, Тигреро стряхнул с себя оцепенение ночи, поднялся и разбудил своих товарищей.
Десять минут спустя небольшой отряд дона Марсиаля тронулся в путь.
— Ого, дон Марсиаль, вы что-то сегодня раненько проснулись и нас подняли! — обратился к нему дон Сильва.
— А вы разве не заметили, что мы даже не позавтракали перед отправлением в путь, как делали каждое утро?
— Да, правда. Что это значит?
— А то, что завтракать мы будем в Гетцали, куда прибудем через два часа.
— Наконец-то! — воскликнул обрадованный асиендадо. — Вы мне доставили необыкновенное удовольствие этим известием.
— Неужели?
— Честное слово.
Донья Анита, услышав слова Тигреро, бросила на него взгляд, полный изумления и ужаса, но, увидев его спокойное выражение лица и веселую улыбку, успокоилась и сама, уверив себя, что скрытность Тигреро объясняется его желанием приготовить ей неожиданный приятный сюрприз.
Как и обещал дон Марсиаль, через два часа они действительно прибыли в Гетцали.
Как только часовые узнали их, немедленно был спущен подъемный мост, и они вступили внутрь крепости. Их приняли с такими почетом и предупредительностью, какие только могли быть им оказаны со стороны оставшихся в колонии.
Донья Анита не спускала с Тигреро глаз. Она то краснела, то бледнела и не могла понять абсолютного спокойствия дона Марсиаля.
Они сошли с лошадей в патио перед парадной дверью.
— Где же граф де Лорайль? — обратился асиендадо к встретившим его, удивленный тем, что его будущий зять не только не вышел приветствовать его у входа в крепость, но не появляется даже и тогда, когда они уже стоят на пороге его дома.
— Граф будет в отчаянии, когда узнает, что вы прибыли, а он даже не мог вас встретить, — отвечал мажордом, рассыпаясь в извинениях.
— Стало быть, его нет дома?
— Да, сеньор, он отсутствует.
— Но ведь он скоро вернется?
— Не думаю. Капитан отправился во главе своего отряда преследовать индейцев.
Известие это прозвучало для дона Сильвы, как удар грома.
Тигреро и донья Анита обменялись взглядами, в которых светилось счастье.
Глава ХХ
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД
Великая пустыня дель-Норте представляет собой подобие африканской Сахары, но она больше и ужаснее Сахары.
В ней нет веселых оазисов, затененных красивыми деревьями и освежаемых бьющими из земли ключами. Это царство бесплодного песка.
Каса-Гранде Моктесумы, где стоял в описываемое время со своим отрядом добровольцев граф де Лорайль, находилась, да и теперь, вероятно, находится на самой границе прерии, милях в восьми откуда уже начинается собственно дель-Норте.
После разговора с Кукаресом граф позвал своих лейтенантов, и снова началось прерванное было веселье, и снова обильно полилось вино.
Далеко за полночь, почти к утру сотрапезники разошлись, чтобы освежить себя сном.
Кукарес не спал, он раздумывал весь остаток ночи. Теперь мы знаем истинную причину его прибытия к графу.
На восходе солнца трубачи проиграли зарю.
Солдаты поднялись с земли, на которой спали, и принялись за чистку лошадей и за приготовления к завтраку.
Лагерь сразу приобрел тот оживленный, шумный, веселый вид, который составляет, кажется, характерную особенность лагерей французских войск во время похода.
В большой зале Каса-Гранде происходил военный совет. Граф и его лейтенанты сидели на выбеленных солнцем бизоньих черепах. Шел оживленный спор.
— Через час, — говорил граф, — мы тронемся в путь. У нас двадцать мулов, нагруженных провизией, десять с водой, восемь с боеприпасами. Бояться нам, следовательно, нечего.
— Это верно лишь до некоторой степени, сеньор граф, — заметил капатас.
— До какой именно?
— У нас нет проводников.
— Зачем же нам проводники? — нетерпеливо перебил граф капатаса. — Мы пойдем по следам апачей, которые и будут нашими проводниками. Мне кажется, здесь все ясно.
Блаз Васкес покачал головой.
— Вы не знаете еще, должно быть, дель-Норте, граф, — отчетливо, с ударением на каждом слове продолжал Блаз.
— Это правда, меня в первый раз приводит сюда судьба. Вот я и познакомлюсь с вашей дель-Норте.
— Прошу у Господа, чтобы это было не в последний раз.
— Что вы хотите этим сказать? — иронически-надменно переспросил граф, чувствуя, однако, в душе, что им овладевает смущение.
— Сеньор граф, дель-Норте не пустыня, как называют иногда и прерию, где стоит ваша Гетцали. Это пучина движущихся песков. При малейшем дуновении ветра в этих безотрадных местах песок поднимается тучами и погребает под собой и коня, и всадника, не оставляя даже следа. Все исчезает навеки.
— Ого! — уже серьезно задумавшись, только и мог проговорить граф.
— Послушайте меня, сеньор граф, не рискуйте углубляться со своими храбрыми солдатами в эту неумолимую пустыню. Никто из вас не выберется оттуда.
— Однако апачи не храбрее нас, не лучше снабжены всем, чем мы, не правда ли?
— Да, правда.
— Ну так вот, они проходят через дель-Норте с севера на юг и с востока на запад, и это не раз в году и не десять, а всякий раз, как им придет в голову подобная фантазия.
— Но не забывайте, какой ценой достается им это, сеньор граф! Посчитайте, сколько трупов людей и животных оставляют они на пути, по которому проходят! А кроме того, не стоит равняться с этими нехристями. Пустыня — их дом, они знают ее самые сокровенные тайны.
— Итак, — нетерпеливо вновь перебил его граф, — по-вашему…
— По-моему, — заключил Блаз Васкес, — апачи, напав на вас два дня тому назад и отступив, готовят вам ловушку, они хотят завлечь вас по своим следам в пустыню дель-Норте в полной уверенности, что вы не только не настигнете их, но еще сами со своими людьми погибнете там.
— Однако согласитесь со мной, мой дорогой дон Блаз, — уже совсем иным тоном заговорил граф, — ведь странно, если между всеми вашими пеонами не найдется ни одного, который бы мог указать нам дорогу в этой пустыне. Ведь это же мексиканцы, pardieu!
— Совершенно верно. Но я уже несколько раз имел честь говорить вам, что все они костеньо и сами впервые зашли так далеко внутрь страны.
— Ну, так как же быть? Что делать? — в страшном колебании вопрошал граф.
— Возвратиться в колонию, — подал совет капатас, — другого средства я не вижу.
— А донья Анита? Что же, мы так и бросим ее, оставив безутешным старика?!
Блаз Васкес нахмурил брови, на лбу его появились складки. Он отвечал серьезным голосом с глубоким волнением:
— Граф, я рожден на земле семейства Торресов, никто более меня не предан душою и телом тем, чьи имена вы только что произнесли. Но что можно сделать перед невозможностью? Идти в пустыню в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, значило бы искушать Бога. Не следует рассчитывать на чудо, а только чудом мы можем пройти через пустыню целыми и невредимыми.
Воцарилось тягостное молчание. Эти слова произвели на графа такое глубокое впечатление, что, несмотря на все усилия, он никак не мог от него отделаться. Леперо угадал, что происходит в душе его, и, подойдя, вкрадчиво произнес:
— Почему же вы не предупредили меня, сеньор граф, что вам нужен проводник?
— Зачем?
— Разве вы забыли, что я взялся проводить вас к донье Аните?
— А вы знаете дорогу?
— Да — настолько, насколько может знать ее человек, дважды прошедший по ней.
— Слава Богу! — воскликнул вне себя от радости граф. — Вопрос решен, мы выступаем, ничто больше нас не удерживает. Диего Леон, распорядитесь, чтобы дали сигнал к сбору в поход, а вы, дружище, будете нашим проводником. Впоследствии вы будете иметь случай убедиться в моей благодарности.
— О! Положитесь на меня, граф, — отвечал леперо со своей наглой, коварной усмешкой, — уверяю вас, что вы прибудете благополучно.
— Это нам только и нужно.
Блаз Васкес, сам не отдавая себе отчета (как все честные натуры в присутствии мерзавцев), чувствовал в душе необъяснимые недоверие и отвращение к леперо. Он ощутил это с того самого момента, когда Кукарес появился среди них прошлой ночью. Услышав, что между ним и графом установились какие-то близкие отношения, он сильно обеспокоился и некоторое время внимательно присматривался к леперо, затем отозвал графа в отдаленный угол залы. Граф последовал за ним. Капатас обратился к нему шепотом:
— Берегитесь, этот человек вас обманывает.
— Вы его знаете?
— Нет, но в том, что он мерзавец, я уверен.
— Почему?
— Что-то говорит мне это.
— А есть у вас доказательства?
— Никаких.
— Ну, так вы с ума сошли, дорогой дон Блаз! От страха вы совсем голову потеряли.
— Дай Бог, чтобы я ошибался!
— Слушайте, вас ничто не принуждает идти с нами. Оставайтесь здесь и ждите нас. Таким образом, что бы ни случилось, вы не подвергнетесь тем опасностям, которые, по-вашему, угрожают нам.
Капатас выпрямился с решительным, гордым видом.
— Довольно, дон Гаэтан, — холодно ответил он графу. — Предостерегая вас, я действовал, как велит мне моя совесть. Вы вольны принимать или не принимать в расчет мои слова. Вы свободны, а я лишь исполнил свой долг, как и должен был поступить. Вы желаете идти вперед? Я последую за вами и надеюсь, скоро мне удастся доказать вам, что если я благоразумен, то это не значит, что я трус. Когда надо, я храбр, какая бы опасность ни грозила мне.
— Благодарю вас, — с чувством отвечал тронутый этой речью граф, горячо пожав руку Блазу. — Я был уверен, что вы не покинете меня.
В этот момент снаружи послышался сильный шум, и лейтенант Диего Леон быстро вошел в залу.
— Что с вами, лейтенант? — холодно обратился к нему граф. — Почему у вас такой растерянный вид? Зачем вы пришли сюда?
— Капитан, — задыхающимся голосом проговорил лейтенант, — отряд взбунтовался.
— Как! Вы говорите, что взбунтовались мои солдаты? Все до единого?
— Да, капитан.
— Ах! — и граф в смущении стал нервно крутить свои усы. — А вы не знаете, чего они хотят, отчего взбунтовались?
— Они не хотят идти в пустыню дель-Норте.
— Любопытно посмотреть на все это, — проговорил граф, делая шаг по направлению к выходу.
— Стойте, капитан! — разом крикнули все офицеры, преграждая ему дорогу. — Люди ожесточились, они могут совершить ужасное преступление.
— Милостивые государи, прошу оставить меня в покое! — проговорил граф, стараясь сохранить спокойное выражение лица и жестом отстраняя своих подчиненных. — Они меня еще не знают. Я покажу этим бандитам, что в состоянии командовать ими.
И не говоря более ни слова, он твердым, спокойным шагом медленно вышел из залы.
Солдаты между тем потрясали оружием, яростно выкрикивая угрозы в адрес графа и его офицеров.
В это время дверь дома отворилась, и в ней появился граф.
Он был бледен, но спокоен. Надменным, презрительным взглядом он обвел бушевавшую вокруг него толпу.
— Капитан! Вот капитан! — закричали солдаты.
— Убить его! — подхватили другие.
— Смерть ему, смерть ему! — глухо и зловеще отозвались задние ряды.
Все бросились к графу с оружием в руках, произнося проклятия.
Граф не отступил, напротив, он сделал шаг вперед.
В зубах у него была сигара, которой он попыхивал так же беззаботно, как после изысканного завтрака в кафе д'Англе.
Ничто не действует на возбужденную толпу так сильно, как полнейшее, но в то же время естественное — не показное — хладнокровие.
Наступающие остановились.
Капитан и его солдаты стояли друг против друга, оценивая друг друга взглядами, как кровожадные тигры, готовые броситься и разорвать противника на куски.
Граф воспользовался так неожиданно наступившим моментом тишины, чтобы обратиться к солдатам с речью.
— Что вам угодно? — начал он спокойным голосом, невозмутимо вынимая изо рта сигару и следя взглядом за облачком выпущенного голубоватого дыма, уплывающего к небу.
При этом вопросе капитана оцепенение солдат исчезло, крики и вой возобновились с удвоенной силой. Бунтовщики как будто решили нарочно не поддаваться влиянию смело глядевшего на них капитана. Все заговорили сразу, обращались к нему со всех сторон, требуя, чтобы он выслушал их.
Граф, теснимый со всех сторон солдатами, забывшими всякую дисциплину и уверенными в своей безнаказанности в стране, где справедливый суд не существовал вовсе, устоял, однако, и сумел сохранить хладнокровие. Он дал всем этим людям с глазами, налитыми кровью, и с пеной на губах наораться вволю, а когда решил, что они немного подустали и не знают, что еще сказать, вновь начал таким же спокойным голосом, как и в первый раз:
— Друзья мои, так беседовать крайне неудобно, я не могу понять ничего из того, что вы говорите и чего требуете. Выберите кого-нибудь из своих рядов, пусть этот выборный передаст мне ваши пожелания. Если они справедливы, будьте уверены, я удовлетворю их. Успокойтесь же.
Произнеся эти слова, граф прислонился плечом к притолоке двери, из которой вышел, и принялся курить, не обращая внимания на происходящее вокруг, словно забыв обо всем.
Хладнокровие и твердость графа стали приносить свои плоды, многие из солдат склонены были перейти на его сторону. Правда, они пока еще не осмеливались открыто признать это перед своими товарищами, так как составляли ничтожное меньшинство, но горячо поддержали его предложение.
— Капитан прав, — говорили одни, — если ему все сразу будут трубить в уши тысячи глупостей, то как же он поймет, что, собственно, нам нужно.
— Нужно и его положение принять во внимание, — успокаивали своих более ретивых товарищей другие. — Ну как же он может сделать то, что нам надо, если мы ясно не объясним ему, в чем состоят наши требования.
Но и сами требования несколько изменились к этому моменту. Уже не было разговора о том, чтобы отнять власть у капитана. Все признавали его своим вожаком, надо было только сформулировать остальные пожелания.
После долгих перекуров, которым не было конца и в течение которых единодушие бунтовщиков не раз грозило нарушиться и привести к образованию нескольких враждующих групп, был выбран один солдат, уполномоченный говорить от имени всех.
Это был коренастый, невысокого роста человек, чрезвычайно крепкого сложения, с сухим худощавым лицом, освещенным двумя маленькими, злобно горящими глазками. Он представлял собой тип искателя приключений самого низкого пошиба, для которого смысл жизни заключался в грабеже и убийстве. По характеру он был отъявленным негодяем.
Этого человека в отряде звали Курциус, родом он был из парижского предместья Сен-Марсо. Он отведал и солдатчины, и службы в матросах, перепробовал все ремесла и занятия, но ему ни разу не приходила мысль стать честным человеком. С самого прибытия в колонию он отличался духом полнейшего неповиновения, жестокостью и особенно своим бахвальством. Он хвастался, что за ним восемь смертей, а на языке негодяев это означает, что он совершил восемь убийств. Своим товарищам он внушал неосознанный страх.
Когда его выбрали парламентером, он привычным движением заломил шапку набекрень, как будто собирался говорить с своим приятелем, и тихо шепнул окружающим:
— Смотрите, как я его сейчас отделаю.
Он выступил вперед и вразвалку подошел к капитану, следившему за ним с бесстрастным выражением лица. Внезапно как по команде воцарилась полнейшая тишина, слышно было, как бились у всех сердца, глаза горели беспокойством, каждый чувствовал, что близится решительная минута.
Подойдя к капитану, Курциус остановился, смерил его наглым взглядом и обратился к нему со словами:
— Ну, здравствуйте, любезный капитан. Дело вот в чем. Товар…
Но граф не дал Курциусу договорить. Он быстро вытащил из-за пояса пистолет, приставил к его лбу и, прежде чем тот что-либо успел сообразить, всадил ему пулю в голову.
Бандит упал на песок с раздробленным черепом.
Граф спокойно заткнул за пояс пистолет, поднял голову и холодно произнес:
— Может, еще кто-нибудь желает сделать замечание?
Все молчали, дикие звери стали кроткими ягнятами.
Никто не двинулся, все стояли, опустив головы, перед своим вождем. Они поняли его.
Граф презрительно улыбнулся.
— Уберите эту падаль, — проговорил он, брезгливо ткнув ногой труп, — мы на войне. Горе тому, кто откажется исполнять хотя бы малейшую статью нашего устава, я уложу того на месте, как собаку. Повесить этого негодяя за ноги, чтобы тело его клевали стервятники. Через десять минут труба протрубит выступление в поход, и плохо придется тому, кто не будет готов к этому времени.
Произнеся эту краткую, но внушительную речь, граф вошел в дом тем же твердым шагом, каким он из него вышел.
Возмущение было подавлено. Все почувствовали, что под шелковой аристократической перчаткой графа находятся ежовые рукавицы с железными иглами, которыми он умеет пользоваться. Они были укрощены навсегда и впредь без малейшего рассуждения исполняли приказ.
— Это верно, Курциус негодяй, — говорили между собой после этого солдаты, — его нечего жалеть, и капитан хорошо сделал, что прострелил ему башку. А капитан молодец, с ним ухо держи востро.
После этого все быстро принялись готовиться к походу.
Через десять минут, как и обещал, капитан появился. Весь отряд был уже на конях, выстроился в походном порядке и ждал сигнала к отправлению.
Капитан улыбнулся и велел протрубить сигнал.
— Гм! — бормотал между тем Кукарес. — Как жаль, что у дона Марсиаля такие чудные бриллианты. После того, что мне довелось увидеть, я не без удовольствия взял бы свое слово назад.
В это время весь отряд охотников во главе со своим капитаном выезжал из ворот Каса-Гранде по направлению к пустыне дель-Норте.
Глава XXI
ПРИЗНАНИЕ
Асиендадо и его дочь выехали из Гетцали под охраной дона Марсиаля и четырех пеонов, которых тот принял к себе на службу.
Небольшой отряд направился на запад, туда же, куда, преследуя апачей, ушел граф де Лорайль с отрядом охотников.
Дон Сильва хотел поскорее соединиться с графом еще и потому, что, как было ему известно, единственной целью экспедиции французов было освобождение его самого и его дочери из плена.
Путешествие протекало в тоскливом безмолвии. По мере того как они приближались к пустыне, пейзаж принимал мрачный вид, свойственный безлюдным местам и навевающий грустное, подавленное настроение.
Исчезли хижины, хакали, редкие селения, исчезли встречные путники, посылающие привет и пожелания счастливого пути. Перед глазами расстилалась неровная местность, там и здесь виднелись непроходимые леса, полные всякого зверья, высокие травы и перепутанные кустарники покрывали землю.
Иногда появлялись следы французов: на почве видны были отпечатки копыт множества лошадей. Но местность вдруг резко менялась, и следы исчезали.
Каждый вечер после нескольких выстрелов, посылаемых Тигреро в чащу кустарника, чтобы отогнать диких зверей, на берегу ручья разбивался бивак, зажигались огни, наскоро выстраивался шалаш для доньи Аниты, чтобы предохранить ее от пронзительного ночного холода, и после скудного ужина все завертывались в свои сарапе и засыпали до утра.
Единственным развлечением, нарушавшим утомительное однообразие пути, была охота за попадавшимися время от времени горными сернами и антилопами, за которыми тут же бросались в погоню дон Марсиаль и его четыре пеона, гнавшие жертву до тех пор, пока бедное животное не изнемогало от усталости и не доставалось им в виде легкой добычи.
Но все это не заменяло разговоров, которые так скрашивают время, прогоняют тяжелые думы и помогают развеять скуку бесконечного пути. Путники сторонились друг друга, и между ними не только не устанавливалось никакой близоста, но, напротив, день ото дня все более росло недоверие. Они говорили только тогда, когда возникала крайняя необходимость, но и тогда разговор их ограничивался самыми короткими фразами.
Происходило это оттого, что из трех путешественников два держали про себя тайну от третьего, и оттого, что в глубине души они сами краснели за эту тайну и стеснялись себе признаться в ней, она тяготила их.
Человек — существо несовершенное, он ни добр, ни зол. Большей частью сначала он совершает тот или иной поступок, повинуясь безудержному порыву страсти или сообразуясь с личными интересами. Когда с возрастом к нему приходит благоразумие, и он спокойно начинает оценивать сделанное им, то испытывает сожаление от того, что предыдущая жизнь его не была безупречной.
В таком именно положении находились дон Марсиаль и донья Анита. Оба, увлекаемые взаимной любовью, пошлина обман, о котором теперь горько жалели. Заметим здесь, чтобы не оставлять в заблуждении читателя, что наши герои имели доброе сердце, и когда они, ослепленные страстью, задумали свой побег, то были далеки от мысли, что он повлечет за собой такие последствия, как это бесконечное путешествие.
Дон Марсиаль не мог не отдавать себе ясного отчета в том, что положение его становилось с каждым часом все затруднительнее и безвыходнее из-за того приказа, который был им дан Кукаресу.
Таким образом, влюбленные связанные между собой взаимной тайной задуманного побега, старались скрыть друг от друга мучившие их угрызения совести. Они не находили себе места.
Жизнь в подобном положении становится невыносимой; между тремя заброшенными в самую глубь пустыни человеческими существами не было ни общения, ни взаимопонимания. Это положение грозило разрешиться ужасным столкновением между ними. Так и случилось — быть может, даже раньше, чем они ожидали, в силу тех обстоятельств, в которых они находились.
После двух с лишним недель пути, не отмеченного, однако, никакими событиями, достойными особого упоминания, дон Марсиаль и его спутники, пользуясь то сведениями, добытыми на асиенде, то следами, оставленными людьми, которых они хотели догнать, достигли, наконец, развалин Каса-Гранде Моктесумы. Как уже известно читателю, за развалинами начиналась ужасная пустыня дель-Норте.
Было около шести часов вечера, когда наш небольшой отряд вступал в древний вымерший город. Солнце уже зашло за горизонт, настали короткие южные сумерки, прерия освещалась странным, неверным, изменчивым светом.
Следуя на небольшом расстоянии друг за другом, дон Сильва и Тигреро пытливо озирались вокруг. Они двигались вперед с крайней осторожностью, положив пальцы на собачки взведенных курков карабинов, так как бесконечный лабиринт улиц и переулков мертвого города способствовал засаде индейцев.
В конце концов они благополучно достигли развалин касы, не встретив на пути ничего примечательного.
Ночь уже совсем спустилась на землю, предметы начали сливаться с тьмою. Дон Марсиаль приготовился было сойти с лошади, как вдруг остановился, испустив крик ужаса и изумления.
— Что такое? — с беспокойством спросил немедленно подъехавший к нему дон Сильва.
— Смотрите, — ответил ему Тигреро, указывая на группу искривленных деревьев, росших между валом и густыми зарослями, уходившими в прерию.
Человеческий голос оказывает странное влияние на животных: он вселяет в них непобедимый страх. Достаточно было нескольких слов, которыми обменялись между собой два неожиданно появившихся перед развалинами человека, как им ответили нестройные зловещие крики, и семь или восемь стервятников взмыли вверх и с криками стали описывать над головами наших путников широкие круги.
— Но я ничего не вижу, — заметил дон Сильва, — темно, хоть глаз выколи.
— Правда, но если вы приглядитесь, то в той стороне легко увидите странную вещь.
Не дожидаясь дальнейших объяснений, асиендадо пришпорил лошадь.
— Какой-то человек висит вверх ногами! — закричал он, вдруг остановившись с выражением крайнего ужаса и отвращения. — Что могло здесь произойти?
— Кто знает? Это не индеец, цвет его кожи и костюм не оставляют в этом отношений ни малейшего сомнения. Его волосы на месте, так что убит он не апачами. Что это может означать?
— Быть может, произошли беспорядки? — предположил асиендадо.
Дон Марсиаль задумался, на лбу его появились морщины.
— Едва ли! — пробормотал он.
Через минуту он прибавил:
— Войдем в дом, не следует так долго оставлять донью Аниту в одиночестве, наше отсутствие удивит ее, а если оно продлится слишком долго, то обеспокоит. Когда мы приготовим все необходимое для хоть сколько-нибудь сносного ночлега, я постараюсь найти ключ к этой ужасной загадке и буду считать себя неудачником, если ничего не выясню.
Оба они отошли от ужасного места и присоединились к донье Аните, ждавшей их в отдалении под охраной пеонов.
Когда все слезли с лошадей и переступали порог древнего дворца императора Моктесумы, дон Марсиаль зажег несколько факелов из смолистого дерева окота и, освещая путь, прошел, сопровождаемый остальными, в большую залу, где нам с читателем уже довелось пробыть довольно длительное время.
Тигреро уже не в первый раз посещал эти развалины. Во время своих долгих охот в западных прериях он находил здесь приют и давно изучил все закоулки касы.
Именно по его настоянию дон Сильва и согласился направиться в Каса-Гранде, так как Тигреро полагал, что только здесь граф де Лорайль может найти надежное и удобное пристанище для себя и своих солдат.
Посередине большой залы стоял огромный стол, а сама зала еще хранила явные следы недавнего продолжительного пребывания в ней большого числа людей.
— Вы видите, — обратился дон Марсиаль к асиендадо, — я не ошибся. Те, кого мы ищем, останавливались здесь.
— Это так, но как узнать, давно ли они ушли отсюда?
— В данную минуту я не могу вам этого сказать, но пока вы будете устраиваться и пока приготовят ужин, я пройдусь и осмотрю окрестности. Вероятно, тогда я смогу полнее удовлетворить ваше любопытство.
Укрепив на стене факел, который он держал в руке, Тигреро вышел из дворца.
Донья Анита в глубоком раздумье присела на грубо сколоченную бутаку, стоявшую возле стола.
При помощи пеонов асиендадо принялся устраиваться на ночь. Лошади были расседланы и отведены в корраль, пристроенный к наружной стене, откуда они не могли уйти. Им задали полную порцию альфальфы, сняли с них вьюки, содержимое которых перенесли в большую залу. Там их сложили в кучу, предварительно вынув из мешков необходимую провизию. Затем развели громадный костер и повесили жариться над ним заднюю четверть туши лани.
Когда все эти приготовления были окончены, асиендадо также уселся на бизоний череп, скрутил сигаретку и стал курить, бросая по временам беспокойный взгляд в сторону своей дочери, которая продолжала сидеть, погруженная в грустные думы.
Дон Марсиаль совершал свой обход довольно долго, и только через два часа на мощеном плитами дворе раздался стук копыт его лошади, и он появился.
— Ну что? — встретил его дон Сильва.
— Сначала подкрепимся, — уклончиво ответил Тигреро, жестом указывая на молодую девушку. Асиендадо понял этот жест.
Ужин был краток, так как все были заняты и утомлены долгим путешествием. Кроме упомянутой задней части лани, имевшей весьма аппетитный вид, он состоял из мексиканского блюда каинк, маисовых лепешек и водяных курочек, обильно приправленных красным перцем.
Донья Анита, запив ужин водой с несколькими ложками тамариндового варенья, встала, слегка поклонилась отцу и дону Марсиалю и прошла в небольшую смежную комнату, где для нее была приготовлена довольно жесткая постель из звериных шкур. Вход в комнату она завесила тяжелой попоной, которая висела на гвоздях, вбитых в стену.
— Ну, а вы, — обратился Тигреро к пеонам, — смотрите, держите ухо востро, если хотите, чтобы на ваших головах уцелели скальпы. Предупреждаю, что мы находимся на вражеской территории, и если вы заснете, то дорого заплатите за это.
Пеоны заверили Тигреро, что удвоят бдительность, и вышли, чтобы исполнить полученное приказание.
Дон Сильва и дон Марсиаль остались одни.
— Ну что? — вновь обратился к Тигреро с тем же вопросом дон Сильва. — Узнали вы что-нибудь?
— Все, что можно было узнать, — сухо ответил дон Марсиаль. — Если бы было иначе, то я был бы плохим охотником, и ягуары уже давно с удовольствием полакомились бы мною.
— Благоприятны ли для нас те сведения, которые вам удалось собрать?
— Это как смотреть на дело. Французы были здесь и стояли в течение нескольких дней. За это время им пришлось выдержать нападение апачей, которых они отбросили. Затем, что весьма вероятно, хотя я и не берусь утверждать этого, так как не могу определить причины, солдаты отряда взбунтовались, и тот несчастный, которого мы видели повешенным на дереве, погиб для усмирения остальных, став добычей для стервятников.
— Благодарю вас за эти сведения. Они показывают, что мы не ошиблись и идем по верному следу. Теперь не могли бы вы как-нибудь узнать, давно ли французы покинули эти развалины и куда они пошли?
— И эти вопросы легко разрешить. Отряд волонтеров покинул эти места вчера рано утром и направился в пустыню дель-Норте.
— В пустыню дель-Норте?! — в ужасе всплеснув руками, воскликнул дон Сильва.
На несколько мгновений воцарилось молчание. Каждый про себя оценивал этот факт. Наконец дон Сильва заговорил первым.
— Это невозможно.
— А между тем это так.
— Но ведь это безрассудство… Это просто сумасшествие!
— Не спорю.
— О, несчастные! — вновь всплеснув руками, произнес дон Сильва и через минуту добавил: — Ведь если они уцелеют, то это будет означать, что Бог захотел сотворить чудо.
— Я согласен с вами. Но что сделано, того не изменишь, наши сожаления тут не помогут. Итак, дон Сильва, я полагаю, что благоразумнее не думать об этом и предоставить им самим выкручиваться из тех обстоятельств, в которые они попали по собственной воле.
— Это ваше мнение?
— Именно так, — небрежно отвечал Тигреро.
— Итак, ваше мнение…
— Мое мнение таково, — резко перебил дон Марсиаль, — что нужно остаться здесь на два-три дня — возможно, за это время придут важные известия. Если по истечении этого срока ничего нового не произойдет, сядем на лошадей и вернемся в Гетцали той же дорогой, по которой мы ехали сюда, не останавливаясь нигде, даже не оборачиваясь назад, чтобы как можно скорее выбраться из этих ужасных мест.
Асиендадо отрицательно покачал головой. У него созрело какое-то решение.
— Ну, так вам придется отправиться одному, дон Марсиаль, — сухо заметил он.
— Что такое? — внимательно вглядываясь в лицо асиендадо, переспросил дон Марсиаль. — Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что я не буду возвращаться той дорогой, по которой сюда пришел, что я не пойду вообще назад… не побегу, одним словом.
Этот ответ как громом поразил Тигреро.
— Что же вы думаете делать?
— А вы не догадываетесь? Зачем мы сюда пришли? Зачем мы так долго идем по пустыне?
— Но, дон Сильва, теперь обстоятельства изменились. Воздайте мне справедливость, до сих пор я шел с вами безропотно и все это время был превосходным проводником.
— Охотно признаю это. Но прошу пояснить мне вашу мысль.
— Дон Сильва, до тех пор, пока мы должны были бродить только по прериям, я покорно повиновался вам во всем, не пытаясь противится вашим планам, так как хорошо понимал, что вы должны были так поступать, и соглашался с вами. Теперь же, если бы мы были одни, я бы также безропотно склонился перед вашим твердым решением. Но подумайте, ведь с вами ваша дочь, ведь вы и ее хотите подвергнуть невообразимым мучениям дикой пустыни, куда вы собираетесь заставить ее следовать за собой и откуда вы оба, вероятно, не выберетесь живыми.
Дон Сильва не отвечал.
Тигреро продолжал:
— Отряд у нас совсем маленький, припасов едва хватит на несколько дней, а вы прекрасно понимаете — чтобы осуществить задуманное вами, нужно очень хорошо подготовиться. Если нас там застигнет буря, то мы погибнем!
— Все, что вы говорите, справедливо, я это понимаю, и все-таки не могу последовать вашему совету. Выслушайте меня, в свою очередь, дон Марсиаль. Граф де Лорайль — мой друг, скоро он будет моим зятем, и я говорю это не для того, чтобы огорчить вас, а чтобы объяснить вам мое отношение к нему. Ведь это для меня, чтобы вырвать из рук индейцев меня и мою дочь, он без всякого колебания, не раздумывая, движимый только благородством своего сердца, отправился в глубь пустыни. Могу ли я дать ему погибнуть, даже не попытавшись спасти его? Разве он не иностранец в Мексике, наш гость, одним словом? Мой долг попытаться спасти его, чего бы это ни стоило.
— Ну, если это так, дон Сильва, то я не буду больше отговаривать вас. Не буду говорить также, что человек, за которого вы хотите отдать замуж свою дочь, не более чем авантюрист, изгнанный из своей страны за неблаговидные поступки, который в браке с доньей Анитой видит одно только ваше непомерное богатство. Всему этому и еще многому другому, чему я могу представить вам неопровержимые доказательства, вы все равно не поверите, так как увидите в моих действиях стремление уничтожить соперника. Поэтому не будем больше говорить об этом. Вы хотите проникнуть в пустыню, и я последую за вами, чего бы это мне ни стоило. Вы всегда будете меня видеть рядом с собой, готового защитить вас и помочь вам. Но раз уж настал час откровенных, чистосердечных признаний, то, чтобы между нами не было ни малейшего облачка, чтобы вы хорошо знали человека, с которым вы решаетесь на такой отчаянный шаг, чтобы вы могли питать к нему полное и сердечное доверие…
Асиендадо с изумлением уставился на него.
В этот момент занавесь, закрывавшая вход в помещение доньи Аниты, поднялась. На пороге появилась молодая девушка, медленно вошла в залу, тихо опустилась перед отцом на колени и, обернувшись к Тигреро, произнесла.
— Теперь, дон Марсиаль, продолжайте, быть может, отец нас простит, видя, что я так молю его о прощении.
— Простить?.. Кого?.. За что?.. — говорил в недоумении асиендадо, переводя взгляд с дочери на молодого человека, который стоял перед ним с опущенной головой, покрытый краской смущения. — Что это значит? Что такое сделали вы?
— Нет, это я один… Мною совершен обман, дон Сильва, за который я один должен нести кару, я недостойным образом обманул вас. Это я похитил вашу дочь из асиенды.
— Вы?! — закричал асиендадо, и глаза его засверкали бешенством. — Так я служил вам игрушкой?!
— Страсть не рассуждает. В свою защиту я приведу только одно: я люблю вашу дочь! Увы, дон Сильва, я сознаю теперь, как глубоко я виновен. Запоздалое, к сожалению, размышление показало мне, что я наделал, и вот вместе с доньей Анитой, которая плачет сейчас у ваших ног, я также хочу упасть перед вами и просить простить меня!
— Отец, прости нас! — слабо проговорила донья Анита.
Асиендадо отрицательно покачал головой.
— О! — вновь с живостью начал Тигреро. — Будьте великодушны, дон Сильва, не отталкивайте нас! Раскаяние наше искренне и чистосердечно. Я готов жизнью искупить содеянное. Я был безумцем, страсть ослепила меня. Не проклинайте меня.
— Отец, — заговорила донья Анита, захлебываясь от рыданий, — я люблю его! Но когда мы оставляли колонию, мы только намеревались бежать, покинув тебя, мы и в мыслях не держали, что случится то, что произошло. Мы сами подавлены всем этим. Теперь мы оба готовы повиноваться тебе и безропотно исполнить приказания, которые тебе угодно будет дать нам. Но не будь неумолим, отец мой, прости нас!
Асиендадо встал.
— Вы видите, что теперь я совсем не могу сомневаться, — сухо заметил он, — чего бы это ни стоило, я непременно должен спасти графа де Лорайля, иначе я буду вашим пособником и соучастником вашего заговора против него.
Тигреро в волнении прошелся по зале. Брови его были нахмурены, лицо покрылось смертельной бледностью.
— Да, — заговорил он прерывающимся голосом, — да, его нужно спасти, что бы потом ни случилось! Прочь, подлое малодушие! Я совершил преступление, пусть же на меня падут и все последствия его!
— Помогите мне, помогите открыто и честно, — серьезным голосом заметил ему дон Сильва, — и вы будете прощены мною полностью, без всякого воспоминания о вашем проступке. На мою честь по вашей вине пала тень, теперь я доверяю ее вам.
— Благодарю вас, дон Сильва, вы не будете раскаиваться в этом, — ответил Тигреро, и его лицо осветилась радостью и надеждой, а сердце затрепетало, охваченное страстным порывом самоотречения.
Асиендадо поднял нежно свою дочь, прижал ее к груди и поцеловал несколько раз в голову.
— Ну, а тебя, бедное дитя мое, — произнес он, обращаясь к ней, — я прощаю. Боже мой! Если бы случилось иначе, быть может, мне через несколько дней пришлось бы рыдать перед тобой и у тебя просить прощения за все то великое и безысходное горе, которое я причинил тебе своей гордостью! Иди, отдохни, уже поздно, тебе нужен покой.
— О, отец, вы добрый, я люблю вас! — воскликнула донья Анита и порывисто прижалась к его лицу. — Не бойтесь ничего. Что бы ни готовило мне будущее, я перенесу его безропотно. А теперь я счастлива, что вы простили меня!
Дон Марсиаль проводил взглядом девушку.
— Когда вы думаете отправиться в путь? — спросил он дона Сильву, подавляя вздох.
— Если можно, завтра.
— Пусть будет, с помощью Божьей, завтра.
Поговорив еще немного о некоторых вещах, касающихся сборов в столь далекий и трудный путь, дон Сильва завернулся в свой плащ и сразу глубоко заснул. Что же касается Тигреро, то он вышел из дома, чтобы удостовериться, бодрствуют ли пеоны.
«Лишь бы Кукарес не сумел исполнить моего распоряжения», — подумал он про себя.
Глава XXII
ПО СЛЕДАМ ФРАНЦУЗОВ
На рассвете следующего дня знакомый нам небольшой отряд покинул древнее жилище Моктесумы. Два часа спустя он уже входил в пустыню дель-Норте.
При виде пустыни сердце молодой девушки болезненно сжалось. Смутное предчувствие говорило ей, что это путешествие будет для нее последним земным путешествием. Она обернулась, бросила печальный взгляд на темные леса, зеленевшие на горизонте в покидаемой прерии, и не могла подавить тяжелого вздоха.
Стояло теплое время, небо синело, ни малейшего ветерка не проносилось в воздухе. Следы, оставленные отрядом графа, были еще ясно видны.
— Мы на верном пути, следы очень четкие, — заметил асиендадо.
— Да, — пробурчал сквозь зубы Тигреро, — они останутся до первого сильного ветра.
— О! Да поможет нам Господь Бог! — молитвенно проговорила донья Анита.
— Аминь! — хором произнесли, как бы согласившись, ее спутники, не исключая и пеонов. Но невесело было на сердце у всех, тайный голос неотступно твердил о ждущем впереди несчастье.
Прошло несколько часов.
Погода оставалась все такой же чудесной. Временами на огромной высоте над головами путников проносились громадные стаи перелетных птиц, направлявшихся в теплые страны с севера. Они спешили миновать пустыню.
Повсюду глаз встречал только серый однообразно-печальный тон бесплодного песка, окружавшего со всех сторон поднимающиеся из него группы таких же бесплодных, таких же печальных скал. Эти скалы громоздились друг на друга, словно развалины дворцов и замков каких-то неведомых, живших до всемирного потопа циклопов, так они были причудливы по своим очертаниям.
Караван, когда приходил вечер, располагался под каким-нибудь обломком гранитной скалы и разводил слабый костер, тепла которого едва хватало для того, чтобы хоть немного обогреться, так как ночью на этих высоких плато обыкновенно царит невыносимый холод.
Дон Марсиаль в течение целого дня галопировал почти всегда где-нибудь в стороне от своих спутников, то справа, то слева, с сыновней нежностью заботясь о безопасности вверившихся ему людей. Ни на минуту он не оставался в покое, несмотря на убеждения дона Сильвы и просьбы его дочери.
— Нет, — отвечал он им на это, — от моей бдительности зависит ваша безопасность. Лучше уж я буду действовать по собственному усмотрению. Я не прощу себе, если на вас нападут врасплох.
Мало-помалу, однако, следы, оставленные отрядом французов, становились все менее явственными и наконец исчезли совсем.
Однажды вечером, когда наши путешественники расположились под громадной скалой, как бы нависшей над их головами, асиендадо указал дону Марсиалю на легкий беловатый пар, ясно видневшийся на голубом небе.
— Небо теряет свой ясный, лазурный тон, — начал он, — вероятно, погода скоро изменится. Дай Бог, чтобы не начался ураган!
Тигреро покачал головой.
— Нет, — ответил он, — вы ошибаетесь, ваши глаза не привыкли еще так безошибочно читать в небе, как мои. Это не облако.
— А что же это такое?
— Это дым от костра, на котором жарится бизон. У нас появились соседи.
— О! — проговорил асиендадо. — Может быть, мы идем совсем не по следам наших друзей, которых так долго ищем?
Дон Марсиаль ничего не ответил, он внимательно смотрел на дым. Это было легкое, как пар, беловатое облачко, быстро таявшее в лазури неба. Наконец он вымолвил:
— Дым этот не предвещает ничего доброго. Друзья наши, как мы их называем, французы, совершенно не знают жизни в пустыне. Если бы они были поблизости от нас, то нам было бы так же легко увидеть их, как вон ту скалу внизу. Они зажгли бы не один костер, а десять или двадцать, и от этих костров поднялся бы к небу такой дым, что мы увидели бы его издалека. Едва ли они будут отбирать деревья для костра, сухое или сырое дерево — им все равно. Они не обращают никакого внимания на то, что находятся в пустыне и что надо ежеминутно подстерегать врага, отнюдь не выдавая ему своего присутствия.
— Каково же ваше мнение?
— Я полагаю, что костер, дым от которого вы заметили, разведен краснокожими или, по крайней мере, охотниками, хорошо знакомыми с индейскими обычаями. Все заставляет предполагать это. Смотрите: вы сами, хотя и имеете известное представление о жизни в пустыне, приняли этот дым за облако. Всякий поверхностный наблюдатель на вашем месте сделал бы то же. Действительно, очертания его так тонки, расплывчаты, так высоко поднимается он кверху и так незаметно сливается с лазурью, что практически невозможно отличить его от испарений, которые солнечные лучи непрестанно поднимают от земли. Люди, разложившие этот костер, все предусмотрели, все приняли в расчет. Или я ошибаюсь, или, что вернее всего, это враги.
— А как полагаете вы, далеко они отсюда?
— Не более чем в четырех милях. Что могут значить эти четыре мили в пустыне, когда их так легко проехать по прямой линии?
— Итак, ваше мнение?.. — решительно обратился к нему асиендадо.
— Взвесьте хорошенько мои слова, дон Сильва. Я очень прошу вас не давать им иного объяснения, кроме того, которое я сам даю им. Чудом — пример которому едва ли можно найти в необъятных просторах дель-Норте с тех пор, как она сотворена Всемогущим, — вот уже три недели, как мы блуждаем по пустыне, и ничто не потревожило нас. Вот уже восемь дней, как мы идем наудачу, стараясь открыть потерянный нами след.
— Да, это правда!
— Я рассуждаю теперь так и надеюсь, что вы поддержите меня: французы случайно зашли в пустыню, их целью было преследовать апачей. Вы согласны с этим?
— Совершенно!
— Хорошо. Следовательно, они должны были двигаться преимущественно по прямой. Погода, благоприятствовавшая нам, благоприятствовала, конечно, и им. Их интересы, поставленная ими цель — все заставляло их совершить этот путь с максимальной скоростью. Преследование, как вы согласитесь, конечно, требует напряжения сил. Один стремится достигнуть безопасного места первым, а другой старается ему в этом препятствовать…
— Итак, вы предполагаете… — перебил его дон Сильва.
— Я не предполагаю, но я вполне уверен, что французов уже давно нет в пустыне и что они идут теперь по землям апачей. Этот дым, замеченный нами впереди, является для меня неопровержимым доказательством.
— Каким образом?
— Сейчас вы поймете. Апачи должны всячески стараться отвлечь французов от своих земель охоты. Отчаявшись прогнать их из пустыни, они, весьма вероятно, зажгли этот костер, чтобы обмануть их и заставить вернуться.
Асиендадо глубоко задумался. Доводы дона Марсиаля казались ему верными. Он колебался.
— Что же, — наконец промолвил он, — что заключаете вы отсюда? Какой делаете вывод?
— А такой, что мы совершенно напрасно будем впредь терять здесь время и искать тех, кого давно нет, подвергаясь опасности быть застигнутыми бурей. А опасность бури ежечасно приближается. В этих краях редко случается, чтобы подолгу не было страшных ураганов.
— Следовательно, вы возвращаетесь к вашему первому плану?
— Вовсе нет! Напротив, я предлагаю как можно скорее идти вперед, в земли апачей, так как я уверен, что мы быстро нападем там на след наших друзей.
— Да, я, пожалуй, согласен с вами. Но ведь отсюда еще далеко до границ пустыни.
— Не так далеко, как вы, может быть, думаете… но оставим пока этот разговор. Я пойду и посмотрю, что это за костер, он чрезвычайно интересует меня.
— Будьте осторожны.
— Разве здесь речь идет не о вашем спасении? — отвечал Тигреро, бросая нежный, но печальный взгляд на донью Аниту.
Он поднялся, оседлал свою лошадь, огляделся и пустился в галоп.
— Бесстрашный! — тихо проговорила донья Анита, следя за тем, как он исчезал в надвигавшихся сумерках.
Асиендадо глубоко вздохнул, ничего не сказал и опустил голову.
Дон Марсиаль продвигался вперед при неверном свете луны, фантастически освещавшей окрестности.
После полутора часов скорого галопа Тигреро остановил коня, слез на землю и внимательно огляделся.
Он нашел то, что искал. Неподалеку от того места, где он находился, ветры и ливни вырыли огромную яму. Он заставил спуститься туда свою лошадь, крепко привязал ее к огромному камню, заткнул ей ноздри, чтобы она не ржала, закинул за плечи карабин и удалился.
Скоро он увидел перед собой костер. Красное пламя резко выделялось в потемневшем воздухе.
Вокруг огня неподвижно, углубившись в свои мысли, сидели несколько человек. Тигреро без труда узнал в них индейцев.
Но что это были за краснокожие? Друзья или враги?
Мексиканец лег на землю и тихо, медленно и осторожно начал подбираться, ползя на локтях и коленях, к костру.
Чтобы проползти таким образом около двадцати ярдов, Тигреро потребовалось полчаса.
Наконец он достиг цели, остановился, чтобы перевести дух, и вздохнул.
Он узнал в сидевших у костра индейцах апачей.
Таким образом, все его предположения сбывались.
Вокруг костра, на котором жарился горб бизона и который давал огромное пламя, испуская в то же время чуть заметную струйку серо-голубоватого дыма, сидели несколько вождей. Все они мрачно уткнулись в колени подбородками и курили трубки, кутаясь в плащи, чтобы согреться, так как вдруг стало очень холодно.
Дон Марсиаль признал среди них Черного Медведя.
Лицо сахема было серьезно, казалось, гнев кипел в его душе. По временам он беспокойно поднимал голову и устремлял свой взор в пространство, как будто стараясь проникнуть в окружавший его мрак. Послышался звук копыт, и в освещенное костром пространство въехал индейский всадник.
Соскочив с лошади, этот всадник подошел к огню, сел рядом со своими земляками и закурил. Лицо его было совершенно спокойно и бесстрастно, хотя пыль, покрывавшая его густым слоем, и учащенное дыхание ясно говорили, что он только что проделал длинный и трудный путь.
Черный Медведь окинул его долгим проницательным взглядом, но не прервал своего занятия: индейский этикет требовал, чтобы сахем обращался к курящему с вопросом не раньше, чем тот вытрясет в костер пепел из своей трубки.
Но нетерпение Черного Медведя, видимо, разделяли и другие вожди, хотя они по-прежнему продолжали оставаться серьезными и сосредоточенными. Наконец вновь прибывший затянулся в последний раз, выпустил изо рта и через ноздри целое облако дыма, вытряс пепел и засунул трубку за пояс.
Только тогда Черный Медведь обратился к нему:
— Малая Пантера сильно опоздал.
Слова эти были произнесены не вопросительно, а скорее с упреком. Индеец ограничился тем, что склонил голову, не сказав ни слова.
— Стервятники летают большими стаями над пустыней, — вновь начал, немного помолчав, вождь, — шакалы точат свои острые когти, апачи чувствуют запах крови, и он заставляет радостно трепетать их сердца. Неужели сын мой ничего не видел?
— Малая Пантера — великий воин своего племени. Как только распустятся листья, Малая Пантера будет вождем. Он выполнил все, что отец поручил ему.
— О-о-а! Что делают Длинные Ножи?
— Длинные Ножи — собаки, умеющие лаять и злиться, но не способные укусить. Апачский воин внушает им страх.
Вожди улыбнулись, услышав эту похвальбу, принятую ими за чистую монету.
— Малая Пантера видел их лагерь, — продолжал прибывший воин, — он пересчитал их. Они плачут, как женщины, кричат, как малые дети, еще не имеющие ни силы, ни мужества. Двое из них не займут сегодня ночью привычного места у костра своих братьев.
И жестом, не лишенным величия, индеец поднял подол коленкоровой рубахи, ниспадавшей ему до колен и показал два окровавленных скальпа, привешенных к его поясу.
— О-о-а! — сразу радостно воскликнули вожди. — Малая Пантера храбро сражался!
Черный Медведь дал воину знак подать ему скальпы. Воин отвязал их от пояса и передал ему.
Сахем внимательно осмотрел их. Апачи, не отрываясь, глядели на него.
— Прекрасно! — промолвил наконец Черный Медведь. — Мой сын убил одного Длинного Ножа и одного гачупина.
И он возвратил оба скальпа воину, который опять прицепил их к поясу.
— Открыли ли бледнолицые следы апачей?
— Бледнолицые — кроты, они хороши только в своих каменных селениях.
— Что же сделал мой сын?
— Малая Пантера в точности исполнил все, что приказывал ему сахем. Когда он убедился, что бледнолицые не хотят идти в пустыню, то появился перед ними и стал дразнить их. Они гнались за ним в течение целых трех часов и вновь оказались в глубине великой пустыни.
— Хорошо! Мой сын поступил как следует. Что еще он сделал?
— Когда Длинные Ножи зашли достаточно далеко, он скрылся, убив двоих из них, которые отъехали в сторону. Он оставил по себе память. Затем он направился к лагерю воинов своего племени.
— Мой сын устал, час покоя пришел для него.
— Нет еще, — серьезно ответил индеец.
— О-о-а! Что хочет сказать этим мой сын?
При этих словах Тигреро почувствовал, как сердце у него замерло от какого-то ужасного предчувствия.
Индеец продолжал:
— В пустыне Длинные Ножи не одни. Малая Пантера открыл и другой след.
— Другой след?
— Да! Этот след едва заметен. Отряд состоит всего из семи лошадей и трех мулов. Я даже узнал по поступи одну из этих лошадей.
— О-о-а! Пусть мой сын объяснит, что это за след.
— В пустыню вошли семь гачупинов с одной женщиной.
Взор сахема загорелся.
— С бледнолицей женщиной? — переспросил он.
Индеец утвердительно кивнул головой.
Сахем с минуту размышлял, затем на лицо его опять легла маска обычного бесстрастия.
— Черный Медведь не ошибся, — начал он. — Он чувствовал запах крови. Его дети апачи будут иметь хорошую возможность поохотиться. Завтра на рассвете воины сядут на коней. Вигвам сахема пуст. Предоставим Длинных Ножей их судьбе, — прибавил он, обращая глаза свои к небу, — Нианга, дух зла, скоро ополчится на них и поглотит их в песках. Владыка Жизни призовет бурю. Наш труд совершен, пойдем теперь по следам гачупинов и как можно скорее возвратимся в наши земли охоты. Скоро в пустыне завоет ураган и всю ее перевернет. Дети мои могут предаться сну, вождь один будет бодрствовать за них. Я сказал.
Воины поднялись, молча поклонились и один за другим отошли, чтобы улечься на песке.
Через пять минут они уже глубоко спали, один Черный Медведь бодрствовал. Подперев голову руками, он упорно глядел на небо. Иногда суровое выражение лица его сменялось едва заметной усмешкой.
Какие мысли посещали сахема? О чем думал он?
Дон Марсиаль угадывал эти мысли, и кровь леденела в его жилах.
Еще полчаса оставался он неподвижен в своей засаде, чтобы не подвергнуться опасности быть открытым, затем спустился так же, как и пришел, с еще большими предосторожностями, так как в пустыне воцарилась такая тишина, что самый легкий звук неминуемо уловило бы чуткое ухо индейского вождя.
Теперь же, после всего услышанного, он более чем когда-либо боялся быть захваченным в плен.
Наконец он целым и невредимым добрался до места, где оставил свою лошадь.
Некоторое время Тигреро, бросив поводья на шею благородного животного, ехал шагом, обдумывая то, что ему довелось услышать, и прикидывал, каким образом можно было бы отвести от его спутников ужасную опасность, нависшую над ними.
Как спасти донью Аниту? Бесчисленное число раз повторял он себе этот вопрос, но не находил ответа.
Долго ехал он так, свесив голову на грудь, тщетно отыскивая подходящее средство, которое дало бы ему возможность выйти из ужасного положения, в котором они очутились. Вдруг у него блеснула мысль, он гордо выпрямился, бросил вызывающий взгляд в сторону невидимых уже врагов, пребывающих в предвкушении победы и легкой добычи, всадил шпоры в бока лошади и поскакал галопом.
Когда он прибыл к месту стоянки своего отряда, то увидел, что все спали глубоким сном, за исключением пеона, стоявшего на часах.
Было уже довольно поздно, около часа ночи. Луна светила так ярко, что все было видно как днем. Тигреро знал, что до рассвета апачи не тронутся с места. В его распоряжении оставалось еще часа четыре, и он решился воспользоваться ими наивыгоднейшим для себя образом. Четыре часа, если не упускать благоприятного случая, много значат для преследуемого.
Тигреро начал с того, что стал обтирать свою лошадь сухой травой. Такой массаж должен был возвратить бодрость и эластичность ее мышцам; это было необходимо для нее в предстоящем путешествии. Затем при помощи пеонов он навьючил мулов и оседлал остальных лошадей.
Сделав все это, он с минуту постоял в раздумье и затем стал обвязывать копыта лошадей небольшими кусочками бараньей кожи, наполненной песком.
Хитрость эта должна была, по его мнению, сбить с толку индейцев, которые, потеряв ведущий их след, предположили бы, что идут не в ту сторону.
Для большей верности он приказал оставить под скалой две-три бутылки с мескалем. Он знал, что апачи большие любители спиртного.
Когда все было сделано, Тигреро разбудил дона Сильву и его дочь.
— В седло! — проговорил он тоном, не допускающим возражений.
— Что такое, что случилось? — вопрошал, еще не успев стряхнуть с себя сон, асиендадо.
— Случилось то, что, если мы немедленно не тронемся в путь, мы погибли.
— Что вы этим хотите сказать?
— В седло! В седло! Каждая минута, которую мы проводим здесь, приближает нас к смерти! Я расскажу вам все после.
— Друг мой, во имя Неба, умоляю вас, что это значит?
— Скоро узнаете, а теперь живей, живей!
И не слушая больше ничего, он почти насильно заставил асиендадо сесть в седло. Донья Анита была уже на лошади. Тигреро в последний раз огляделся и дал знак к отправлению.
Небольшой караван тронулся в путь со всей быстротой, на какую были способны животные.
Глава XXIII
АПАЧИ
Нельзя представить себе ничего печальнее ночного путешествия по североамериканской пустыне, особенно в обстоятельствах, подобных тем, в которых находились герои нашего рассказа.
Ночь — время призраков, во тьме самый веселый пейзаж становится мрачным, все оживает, все страшит путешественников. Луна, как бы ярко она ни светила, сообщает предметам фантастический вид, одевает их странной игрой мертвенного света и теней, и даже отчаянный храбрец чувствует невольное смущение.
Трудно привыкнуть к этому покою, к этой тишине, которая давит на вас, вы теряете реальность ощущений, и ваше воображение населяет призраками окружающее вас пространство. Таинственный мрак, окутывающий все вокруг, стягивает вас, как свинцовый обруч, и вызывает лихорадочно-боязливое состояние, и только живительные лучи солнца в состоянии рассеять его.
И дон Сильва, и донья Анита, и даже пеоны не могли устоять против угнетающего влияния ночи в пустыне. Нелепые страхи томительно мучили их. Они ехали целую ночь, сами не зная, куда и зачем. Они не могли даже как следует сориентироваться. Некоторые предметы то, казалось, стояли на месте, то быстро двигались назад, то обгоняли их. Очевидно, они не раз меняли направление. В голове чувствовалась тяжесть, глаза смыкались, одолевало одно-единственное желание — уснуть. Иногда они с трудом озирались, но хаотичное движение близких и далеких предметов, производимое быстрым ходом умных, словно чуявших беду животных, вызывало головокружение, и они плотнее усаживались в седла, бессильно опуская головы, сон властно брал верх над утомленными людьми.
За исключением дона Марсиаля, привыкшего всегда сохранять бодрость и ясное сознание, остальные члены каравана были похожи на лунатиков. Едва удерживаясь в седлах, с потухшими глазами, без малейшего проблеска сознания ехали они, и если бы дать им уснуть, а затем, после пробуждения, спросить, что с ними произошло ночью, то, несомненно, они сказали бы, что перенесли кошмар при полном оцепенении мыслей и чувств.
Так прошла вся ночь.
Проехали они более сорока миль и почти падали от изнеможения.
Однако при восходе солнца, под влиянием его теплых лучей путники понемногу оживились, взоры стали яснее, они выпрямились, огляделись, и, как всегда бывает в подобных случаях, в мыслях возникли тысячи вопросов, так что они даже не успевали их высказывать.
Они достигли берегов Рио-дель-Норте, мутные воды которой образуют с этой стороны границу пустыни.
Дон Марсиаль, внимательно изучив место, где они находились, остановился у самой воды на отмели.
С копыт лошадей были сняты кожаные мешки с песком, им задали корм. Что касается людей, то им пришлось довольствоваться порцией коньяка, чтобы подкрепить силы.
Пейзаж на другом берегу совершенно менялся: сочная, густая трава покрывала почву, далеко на горизонте зеленели леса.
— У-у-ф! — тяжело опустившись на землю, проговорил дон Сильва, и на его лице отразилось несказанное удовольствие по поводу того, что эта дьявольская скачка наконец подошла к концу. — Вот это путешествие! Я весь разбит. Если бы пришлось ехать еще и днем, то, хоть режьте меня, клянусь всеми святыми, не смог бы! Мне совершенно не хочется ни есть, ни пить, хочу только спать.
Проговорив это, асиендадо тут же стал укладываться поудобней, чтобы предаться сну.
— Нет, еще рано, дон Сильва! — живо воспротивился его намерению Тигреро, изо всех сил тормоша его. — Разве вы хотите уснуть здесь навсегда, чтобы на этом месте и застала вас труба архангела при втором пришествии?
— Убирайтесь все от меня! Я хочу спать, говорю вам.
— Хорошо, — сухо заметил на это дон Марсиаль, — но если вы и донья Анита попадете в руки апачей, то не вините меня и пеняйте на себя!
— Как! — встрепенулся асиендадо и, вытаращив глаза, уставился на дона Марсиаля. — О каких еще апачах вы говорите?
— Я повторяю вам, что за нами гонятся апачи. Мы опережаем их всего на несколько часов. Если не поспешить, мы погибли!
— Пресвятая Богородица! Надо бежать! — закричал, уже совсем проснувшись, дон Сильва. — Я вовсе не хочу, чтобы моя дочь попала в лапы к этим чертям!
Что касается доньи Аниты, то она уже ничего не могла говорить. Она улеглась на землю, свернулась калачиком и моментально уснула.
— Пусть лошади поедят, а затем мы снова поедем. Нам предстоит еще очень долгий путь, надо, чтобы они были в хорошей форме. К тому же короткая остановка позволит донье Аните восстановить свои силы.
— Бедное дитя! — с жалостью глядя на нее, проговорил асиендадо. — Я один — причина всего, что тебе приходится выносить. Это все мое проклятое упрямство!
— Ну, что говорить об этом, дон Сильва! Все мы виноваты. Забудем прошлое, надо думать о настоящем.
— Да, вы правы, что толку говорить о том, что уже сделано! Теперь, когда я совсем проснулся, скажите мне, что вы делали прошлой ночью и почему вы заставили нас столь поспешно покинуть стоянку?
— Боже мой! Дон Сильва, рассказ мой будет краток, но, я полагаю, вы найдете его интересным. Судите сами. Покинув вас вчера вечером, я отправился, как вы, может быть, помните…
— Да, да… как же, помню… вы отправились поближе посмотреть на заинтересовавший нас костер.
— Совершенно верно. Ну вот, как я и предполагал, костер этот оказался засадой, приготовленной краснокожими для привлечения внимания отряда графа де Лорайля. Краснокожие оказались апачами. Мне удалось незаметно подкрасться совсем близко к ним и подслушать их разговор. Знаете ли вы, о чем они говорили?
— Откуда же мне знать, о чем говорят эти идиоты!
— Ну, вовсе не такие уж идиоты, какими вам угодно, быть может, считать их, дон Сильва. Как раз в это самое время явился один из разведчиков и принялся рассказывать сахему племени о том, как ему удалось выполнить возложенное на него поручение. Среди прочих интересных вещей он сообщил, что обнаружил в пустыне следы бледнолицых и что в числе этих бледнолицых находится женщина.
— Карамба! — в ужасе закричал асиендадо. — Но вы уверены в этом, дон Марсиаль?
— Тем более уверен, что своими ушами слышал ответ сахема. Слушайте внимательно, дон Сильва.
— Я слушаю, слушаю, продолжайте, мой друг.
— При восходе солнца, сказал сахем, мы отправимся в погоню за белыми, вигвам сахема пуст, он требует для себя бледнолицей жены.
— Да будет проклят этот сахем!
— И вот, убедившись, что уже достаточно узнал о намерениях индейцев, я ползком пробрался назад, как можно скорее достиг нашей стоянки и… остальное вы знаете.
— Да! Я знаю, — с чувством отвечал дон Сильва, — я знаю остальное, дон Марсиаль, и благодарю вас от всего сердца, благодарю не только за вашу предусмотрительность, но и за самоотверженность, с которой вы заботились о нашей безопасности, заставив нас так или иначе побороть усталость и следовать за вами.
— Я сделал только то, что должен был сделать, дон Сильва. Я дал клятву не щадить для вас своей жизни.
С тех пор как асиендадо узнал дона Марсиаля, он впервые разговаривал с ним от всего сердца, называя его другом. Тигреро был тронут этим до глубины души, и если до сих пор он относился к дону Сильве с некоторым предубеждением, то в настоящее время оно исчезло, и он питал к асиендадо только глубочайшее, нежное, почти что сыновнее расположение.
Пока происходил этот разговор, донья Анита проснулась. Вид двух людей, — которых она любила больше всего на свете, и отношения между которыми причиняли ей великое огорчение, — разговаривавших так дружески, наполнил радостью ее сердце.
Когда отец объяснил ей причину их внезапного отъезда среди глубокой ночи, она также горячо поблагодарила дона Марсиаля и наградила его таким пылким взглядом, какие умеют посылать только женщины, когда они любят.
Тигреро, увидев, что его труды оценены по достоинству, забыл про свою усталость и горел одним желанием — удачно завершить так хорошо начатое дело.
Когда лошади поели, их вновь оседлали.
— Я весь в вашем распоряжении, дон Марсиаль, — обратился к нему асиендадо. — Вы один можете спасти нас.
— С Божьей помощью, надеюсь, мне удастся, — с чувством проговорил Тигреро.
Путники вошли в реку, довольно широкую в этом месте. Вместо того, чтобы переплыть ее по прямой, дон Марсиаль долгое время следовал по ее руслу, приближаясь то к одному берегу, то к другому, старясь как можно больше запутать свои следы.
Наконец они достигли места, где реку с обеих сторон сжимали высокие скалистые берега. Течение здесь было таким быстрым, что тотчас же смывало всякие следы. Дон Марсиаль решил выйти на берег.
Теперь караван покинул пустыню. Перед ними расстилалась бесконечная, слегка всхолмленная прерия, постепенно поднимавшаяся до самых предгорий Сьерры-Мадре и Сьерры-де-лос-Команчес. Бесплодная, печальная равнина без воды и деревьев осталась позади. Впереди была роскошная растительность, бившая неслыханной силой жизни: деревья, цветы, травы, бесчисленное количество разных птиц, радостно перелетавших, певших и щебетавших в густой листве, и всякого рода зверье.
Около одиннадцати часов утра лошади устали настолько, что путники вынуждены были сделать привал, чтобы подкрепить лошадей, самим отдохнуть и переждать полуденный зной.
Дон Марсиаль выбрал место на вершине холма, откуда на много миль вокруг видна была прерия, но которое само было закрыто деревьями.
Тигреро, однако, воспротивился разведению костра для приготовления пищи, так как дым помог бы открыть их убежище, а в их положении никакая предосторожность не была излишней. Несмотря на все принятые меры и уловки, дон Марсиаль все-таки не был уверен, что ему удалось провести таких знатоков пустыни и прерий, как апачи. Несомненно было только, что с восходом солнца апачи должны были со всей возможной для них скоростью пустится в погоню за ними. Правда, скрыть свое местопребывание в холмистой, поросшей растительностью прерии было сравнительно легко.
Наскоро перекусив, Тигреро предложил своим спутникам отдохнуть, что им было в данном случае положительно необходимо, сам же поднялся, чтобы идти на разведку.
Человек этот, казалось, был сделан из стали, утомление не оказывало на него ни малейшего влияния, он обладал железной волей, не склонявшейся ни перед чем, желание спасти любимую девушку придавало ему сверхъестественные силы.
Он медленно сошел с холма, осматривая каждый куст, продвигаясь вперед с крайней осторожностью, положив палец на курок и прислушиваясь к малейшему шуму.
Спустившись в долину, он большими шагами направился к густому девственному лесу, могучие деревья которого подходили к самому холму, на котором он расположился со своими спутниками. В уверенности, что высокая трава представляет для него надежное убежище и его ниоткуда не видно, он шел довольно быстро.
Лес оказался действительно девственным, деревья росли так густо и настолько тесно были перевиты плющом и лианами, что проникнуть в него можно было только с помощью топора или огня. Если бы Тигреро был один, он спокойно справился бы с этим препятствием, с виду непреодолимым. Будучи ловким и сильным, а главное привыкшим к подобного рода вещам, он взобрался бы на вершину первого попавшегося дерева и стал бы перебираться с ветки на ветку на такой высоте, до которой лианы и цепкая поросль уже не доходили, как ему приходилось поступать уже не раз. Но что мог сделать он, того нельзя было требовать ни от дона Сильвы, ни от его дочери.
С минуту Тигреро чувствовал, как сердце падает в груди и бодрость его покидает. Но слабость эта продолжалась одно мгновение. Дон Марсиаль уверенно выпрямился, к нему вернулась решимость, он продолжил свой путь по лесу, потом повернул вдоль его опушки и пошел, выслеживая и крадучись, как дикий зверь охотится за добычей.
Вдруг он испустил негромкое радостное восклицание.
Он нашел то, чего почти не надеялся найти.
Перед ним открылась под сводом густой зелени едва заметная тропа, протоптанная дикими зверями к водопою. Требовался опытный взгляд Тигреро, чтобы обнаружить эту тропу. Он быстро и решительно направился по ней.
Как и все подобного рода тропинки, настоящая делала бесчисленное множество поворотов, постоянно возвращаясь к одному и тому же месту. Он углубился в лес довольно далеко, и затем опять вернулся на холм.
Спутники, обеспокоенные долгим отсутствием Тигреро, ждали его с нетерпением. Его встретили радостными восклицаниями. Он рассказал им, что видел и что нашел.
Во время рассказа дона Марсиаля один из пеонов сделал на склоне холма открытие, особенно ценное в настоящее время для путешественников.
Этот человек, от нечего делать бродя по окрестностям, наткнулся на вход в пещеру, но войти в нее не осмелился из боязни встретится с каким-либо зверем.
Дон Марсиаль задрожал от радости при этом известии. Он взял в руки факел из окотового дерева и приказал пеону проводить его к пещере.
Она начиналась всего в нескольких десятках шагов на склоне, обращенном к реке.
Вход в нее густо зарос кустарником и травой, и было ясно видно, что уже много лет в нее не заглядывало ни одно живое существо.
С большим трудом Тигреро раздвинул кусты, стараясь не помять и не поломать их, и проскользнул внутрь.
Вход был достаточно высок, хотя и узок. Дон Марсиаль высек огонь и зажег факел.
Пещера эта была естественного происхождения, из тех, что часто встречаются в предгорьях Скалистых гор. Стены ее были высоки и сухи, пол усыпан толстым слоем тончайшего песка. Воздух сюда, очевидно, проникал через незаметные скважины, сообщавшиеся с земной поверхностью. В ней не чувствовалось на малейшей духоты, дышалось легко и свободно, словом, в ней можно было неплохо устроиться. Она шла, постепенно понижаясь, и расширялась затем в большую залу, посредине которой открывалась пропасть. Сколько ни напрягал своего зрения дон Марсиаль, вытягивая факел, он так и не увидел дна этой пропасти. Он огляделся, нашел камень, оторвавшийся от свода, и бросил его в пропасть.
Долгое время камень отскакивал от стен, звук удара его слабел, наконец откуда-то со страшной глубины донесся чуть слышный всплеск.
Дон Марсиаль, по-видимому, удовлетворился полученными сведениями, обошел пропасть и продолжил свой путь в глубь пещеры. Проход опять стал очень узок и продолжал идти с сильным уклоном вниз. Минут десять шел он таким образом и наконец увидел вдали свет.
Он тотчас же повернул назад.
— Мы спасены! — были первые слова, с которыми, вернувшись, он обратился к своим спутникам. — Следуйте за мной, не теряя ни минуты. Воспользуемся убежищем, которое дарует нам Провидение.
Все последовали за ним.
— Но, — заметил дон Сильва, — что же нам делать с лошадьми?
— Не беспокойтесь, я знаю, куда их спрятать. Внесем в пещеру провизию, так как, по всей вероятности, нам придется пробыть здесь некоторое время. Надо забрать также упряжь и седла, а то их негде оставить. Что же касается лошадей, то это уже мое дело.
После этого все с жаром принялись за работу, горя нетерпением поскорее очутиться подальше от опасности. Менее чем через час вся кладь, какую они везли с собой, упряжь и люди исчезли в пещере. Никто ни на минуту не усомнился в том, что в пещере им не грозит никакая опасность, так как дону Марсиалю все слепо верили, хотя и не понимали, в чем тут состоит спасение.
Дон Марсиаль опять закрыл вход в пещеру пригнутым кустарником, расправил примятую траву и, уничтожив все следы прохода своих спутников, вздохнул с тем облегчением, которое чувствуется после завершения смелого, казавшегося невозможным дела, и поднялся на вершину холма.
Он связал вместе лошадей и мулов реатой, затем, спустившись в долину, направился к лесу и пошел по звериной тропе, которую открыл раньше.
Тропа была страшно узкой, лошади могли пройти по ней по одной и то не без труда. Наконец он достиг поляны, где и оставил бедных животных на произвол судьбы, бросив им весь фураж, предусмотрительно навьюченный на мулов.
Дон Марсиаль знал, что лошади не отойдут далеко от того места, где их оставят, и в случае нужды их можно будет без труда найти.
Все это заняло столько времени, что когда Тигреро вышел, наконец, из лесу, день уже клонился к вечеру.
Огромный красный солнечный диск приближался к горизонту. Тени деревьев удлинялись. Чувствовалась вечерняя прохлада, поднимался ветерок. Из глубины леса раздавались резкие завывания — верный знак близкого наступления ночи и пробуждения диких зверей, остающихся в течение ее бесспорными хозяевами прерий.
На вершину холма дон Марсиаль прибыл уже тогда, когда край солнца коснулся горизонта. Он оглянулся вокруг.
Вдруг он побледнел, нервная дрожь прошла по его телу, глаза расширились от ужаса, словно прикованные к реке. Он гневно топнул ногой и глухо произнес:
— Уже!.. Проклятие!
То, что увидел Тигреро, действительно было ужасно.
Через реку, как раз в том месте, где несколько часов назад он проходил со своими спутниками, переправлялся отряд индейских всадников.
Дон Марсиаль с возрастающим беспокойством следил за их движениями. Достигнув берега, они, не останавливаясь и не колеблясь, повернули как раз по оставленному им следу и взяли по руслу реки вниз, как будто кто-то указывал им путь.
Сомнений быть не могло: апачи не поддались ни на одну из хитростей охотника, они неотступно следовали той же дорогой. До холма они должны были добраться менее чем за час, и тогда, при их дьявольском умении видеть и чуять самые ничтожные следы, мог ли он ожидать чего-либо иного, кроме как немедленно быть обнаруженными в так счастливо найденном убежище.
Тигреро чувствовал, как сердце застучало в его груди. Обезумев от горя, он в отчаянии бросился в пещеру.
Увидев его, бледного, с искаженными чертами лица, асиендадо и его дочь бросились ему навстречу.
— Что случилось? — сразу обратились они к нему.
— Все погибло! — в исступлении закричал он. — Апачи уже здесь!
— Апачи! — повторили в ужасе отец и дочь.
— Господи! Господи! Спаси нас… — взмолилась донья Анита, бросаясь на колени и всплеснув руками.
Тигреро наклонился к девушке, взял ее на руки и крикнул, обращаясь к асиендадо:
— Идите скорей, идите за мной! Быть может, у нас еще есть возможность спастись!
Отчаяние удвоило его силы, он бросился внутрь пещеры, остальные кинулись за ним. Они бежали долго. Донья Анита почти без чувств склонила свою бледную голову на могучее плечо Тигреро. Он бежал, не останавливаясь.
— Смотрите, смотрите, — наконец воскликнул он, — мы спасены!
Его товарищи испустили крик радости. Они увидели перед собой слабый свет вечерней зари.
Но вдруг, как раз в тот момент, когда дон Марсиаль добрался до выхода из пещеры и собирался выйти наружу, ему загородила путь человеческая фигура.
Это был Черный Медведь.
Тигреро отпрянул назад и завыл, как дикий зверь.
— О-о-а! — спокойно нассмешливым тоном произнес апач. — Мой брат знает, что вождь любит эту девушку, и чтобы угодить вождю, сам скорее несет ее к нему.
— Она еще не твоя, дьявол! — закричал дон Марсиаль, становясь с двумя пистолетами в руках между ним и доньей Анитой. — Попробуй взять ее!
В глубине пещеры слышались приближающиеся шаги.
Мексиканцы очутились между двух огней.
Черный Медведь, устремив глаза на Тигреро, следил за каждым его движением. Вдруг он присел и прыгнул вперед, как ягуар, испустив воинственный клич.
Дон Марсиаль разрядил в него оба пистолета, и они схватились.
Два врага стали кататься по земле, переплетясь, словно две змеи.
Дон Сильва и пеоны неравным отчаянным сопротивлением старались удержать натиск других индейцев.
Глава XXIV
ЛЕСНЫЕ ОХОТНИКИ
Вернемся теперь к другим героям нашего рассказа, которых мы покинули уже давно, со времени их вступления в пустыню дель-Норте.
Хотя французы и остались победителями во время нападения на асиенду апачей и прогнали их за Рио-Хилу, тем не менее они хорошо понимали, что этой неожиданной победой они лишь до некоторой степени обязаны своей храбрости. Они и сами сознавали, что победа окончательно склонилась на их сторону только после атаки, произведенной команчами под предводительством Орлиной Головы. Поэтому, как только неприятель удалился, граф де Лорайль с редким, особенно для людей его склада, великодушием и чистосердечностью горячо поблагодарил команчей и сделал охотникам чрезвычайно выгодное предложение поступить к нему на службу.
Краснокожие герои, так же как и белые охотники, скромно выслушали льстивые комплименты графа, но последние решительно отклонили его предложение.
Как объяснил ему: Весельчак, они действовали, руководствуясь единственно побуждением оказать помощь своим землякам. Теперь же, когда все кончено и французы надолго могут считать себя в безопасности от индейских набегов, им больше здесь делать нечего, поэтому они будут немедленно иметь честь откланяться графу и отправятся продолжать свое прерванное путешествие дальше.
Граф де Лорайль просил их, однако, остаться на асиенде еще хоть дня на два.
Донья Анита и ее отец исчезли так таинственно, что французы, не знакомые с приемами индейцев и совершенно не умеющие находить следы в пустыне и идти по ним, совсем растерялись и не знали, что предпринять для розыска пропавших.
Граф де Лорайль твердо рассчитывал на опытность Орлиной Головы и на отвагу его воинов, чтобы поскорее вызволить асиендадо из плена.
Он самым подробным образом объяснил охотникам, чего ожидает от их снисходительного согласия, и вполне надеялся, что после этого не встретит отказа.
На рассвете Орлиная Голова разделил свой отряд на четыре части и разослал их в четыре стороны от асиенды, поставив во главе каждой опытного воина.
Команчи осмотрели каждый куст, каждую звериную тропу, приложили все свое искусство ведения разведки, в необычайной степени развитое у индейцев. Все было напрасно.
Один за другим вернулись на асиенду индейские отряды, ничего не обнаружив. Они обшарили всю местность вокруг миль на восемьдесят, но следы отца и дочери как в воду канули. Нам известно, что последнее образное выражение следовало в данном случае понимать почти буквально, так как дон Сильва и донья Анита были увезены из асиенды по воде, которая следов не хранит.
— Вы видите, — заметил графу Весельчак, — что мы сделали все, что возможно было сделать из любви к ближнему, чтобы освободить из плена ваших друзей. Теперь ясно, что похитители увезли их на далекое расстояние по реке, не выпуская на берег. Кто может сказать, где они находятся сейчас? Краснокожие передвигаются быстро, особенно, когда они убегают от преследования. Они теперь далеко впереди нас, это доказывает неудача самых тщательных поисков. Надеяться догнать их — безумие. Позвольте теперь нам проститься с вами. Быть может, во время скитаний по прерии нам удастся собрать сведения, которые впоследствии будут вам полезны.
— Я не хочу более злоупотреблять вашей снисходительностью по отношению ко мне, — с чувством ответил граф. — Ступайте куда и когда вам угодно, мсье, но примите заверения в моей искреннейшей благодарности и верьте, что я был бы счастлив, если бы мог проявить ее не одними словами. Кроме того, я и сам хочу покинуть завтра колонию. Быть может, мы встретимся в пустыне.
Утром, при восходе солнца, охотники и команчи вышли из крепости и углубились в прерию.
Вечером Орлиная Голова приказал остановиться и развести костры на всю ночь.
После ужина, в то самое время, когда все уже собирались предаться сну, он вдруг велел глашатаю сообщить вождям, чтобы они собрались на совет.
— Бледнолицые братья пусть сядут с вождями, — сказал Орлиная Голова, обращаясь к канадцу и французу.
Оба они молча поклонились и сели перед костром, вокруг которого уже сидели сосредоточенные и безмолвные вожди, ожидая, что сообщит им великий сахем племени.
Когда Орлиная Голова занял место, он дал знак хранителю священной трубки.
Хранитель священной трубки вышел на середину круга, благоговейно неся в руках священную трубку. Эта трубка была украшена перьями и увешана бесчисленным множеством побрякушек. Она была сделана из белого камня, который можно найти только в Скалистых горах.
Трубка была набита и зажжена.
Хранитель священной трубки, войдя в круг, четыре раза наклонил трубку в направлении четырех главных ветров, низким голосом пробормотал таинственные заклинания, призывая на совет благодать Ваконды, Владыки Жизни, и отгоняя от вождей злое влияние первого человека.
Затем, держа в руке дымящийся конец трубки, он протянул ее мундштуком к Орлиной Голове и произнес высоким, звучным голосом:
— Отец мой — первый сахем могучего племени команчей, на нем почила мудрость, но время еще не убелило волос его и мысли в голове его не заледенели. Как все люди, отец мой не закрыт от ошибок, пусть подумает он прежде, чем сказать слово. Слова, вытекающие из его груди на губы, должны быть такими, чтобы команчи не могли изменить их.
— Хорошо сказал сын мой, — ответил сахем.
Он взял трубку и несколько раз молча затянулся, затем передал ближайшему соседу.
Трубка обошла таким образом круг, каждый участник совета затянулся несколько раз. При этом никто не проронил ни слова.
Когда все покурили из священной трубки и весь табак выгорел, хранитель священной трубки вытряс пепел на левую ладонь, бросил его в костер и громко воскликнул:
— Вот вожди сошлись на совет. Речи их священны. Ваконда услышал нашу молитву, он принял ее. Горе тому, кто забудет, что только совесть должна быть его руководительницей.
Эти слова он произнес громким голосом, величественно простерев руку, и после этого вышел из круга. В последний раз он оглянулся на вождей, сидевших возле костра и опять, на этот раз тихо, хотя и отчетливо, проговорил:
— Как пепел, который я бросил в костер, исчез навсегда, так и слова вождя должны быть священны и никогда не выйти из круга совета сахема. Пусть говорят отцы мои, совет начался.
После этого хранитель священной трубки удалился. Его слова еще звучали в ушах, как голос свыше, когда поднялся Орлиная Голова, окинул взглядом собравшихся воинов и начал речь такими словами:
— Вожди и воины команчей! Много лун протекло с тех пор, как сахем покинул селения своего племени, и много лун пройдет, прежде чем всемогущий Ваконда даст ему сесть у огня совета великих сахемов команчей. В жилах его всегда текла красная кровь, и сердце его никогда не было обернуто кожей для братьев его. Слова, поднимающиеся из груди его, внушены ему Великим Духом, который видит любовь его к братьям команчам. Племя команчей могуче, оно царит над прериями. Земли охоты его покрывают всю землю. Зачем вступать ему в союз с другими племенами, чтобы мстить за их обиды? Разве царственный ягуар позволяет скрываться в своем жилище подлому шакалу, разве осмеливается сова класть яйца свои в гнездо орла? Зачем племя команчей пошло по тропе войны рядом с собаками апачами? Апачи — женщины, распутницы и предательницы! Сахем благодарит братьев своих, что они не только разорвали союз с апачами, но еще помогли ему сразить их. Но теперь сердце опечалилось, туман ложится на душу его, так как вождь должен расстаться с братьями своими. Примите его прощальное слово. Пусть Насмешник заменит его. Вдали от детей своих он всегда будет ходить, как во мраке; как бы ни были горячи лучи солнца, они не согреют его. Вождь сказал. Так ли сказал он, могучие мужи?
Орлиная Голова сел и закрыл лицо свое краем плаща. Ропот скорби пронесся по собранию.
Воцарилось молчание. Насмешник как будто вопрошал взглядом других вождей. Наконец он поднялся и обратился к сахему с ответом.
— Насмешник молод, — начал он, — ум его ясен, но он не имеет великой мудрости своего отца. Орлиная Голова — возлюбленный сахем Ваконды. Для чего Владыка Жизни поставил его вождем среди воинов его племени? Разве для того, чтобы он все время покидал их? Нет! Владыка Жизни любит команчей, своих детей, он не хочет этого! Воинам нужен вождь мудрый и опытный, чтобы руководить ими на тропе войны и наставлять их у огня совета. Голова отца моего седеет, она будет наставлять и вести воинов. Насмешник не может сделать этого, он молод, опыта у него нет. Куда пойдет отец мой, туда последуют за ним и дети его, чего захочет отец мой, того пожелают и дети его. Но пусть не говорит он, что оставит их! Пусть рассеет он облако, омрачившее их дух, дети сахема умоляют его, Насмешник говорит за них. Сахем взрастил его, он возлюбил его, он воспитал его и сделал воином. Я сказал. Вот мой вампум. Так ли я сказал, могучие муха?
Произнося последние слова, вождь снял с шеи вампум, бросил его к ногам сахема и сел.
— Пусть останется великий сахем с детьми своими! — воскликнули разом все вожди и также бросили свои вампумы к ногам Орлиной Головы.
Орлиная Голова открыл свое лицо, поднялся с места, исполненный величия и благородства, и обратился к совету, тревожно насторожившемуся, готовому ловить каждое его слово.
— Вождь услышал, в ушах его прозвучала песнь куропатки, любимой птицы Ваконды, ее сладкий голос проник ему в сердце, и оно затрепетало от радости. Дети племени команчей добры, и вождь любит их. Насмешник и десять воинов, которых он выберет, последуют за сахемом, остальные пусть возвратятся к великим селениям племени и возвестят возвращение Орлиной Головы к своим детям. Я сказал.
Насмешник тотчас потребовал священную трубку. Хранитель принес и раскурил ее. И вновь среди глубокого молчания трубка обошла весь совет.
Когда последний клуб дыма рассеялся в воздухе, Насмешник наклонился к глашатаю и сказал ему несколько слов на ухо. Глашатай тотчас же громко объявил имена воинов, назначенных следовать за сахемом.
Вожди поднялись, поклонились Орлиной Голове, молча сели на коней и галопом удалились.
Насмешник и Орлиная Голова долгое время тихо о чем-то говорили между собой. После этого разговора Насмешник также удалился со своими воинами.
Орлиная Голова, Весельчак и дон Луи остались втроем.
Канадец рассеянным взглядом следил за удалявшимися индейцами. Когда они скрылись, он обратился к вождю и сказал:
— Гм! Вот, наконец, мы и одни. Скажите, вождь, разве не настал еще час откровенно поговорить? С тех пор как мы покинули населенную местность, мы все занимались другими и совсем забыли о себе. Не пора ли нам подумать и о своих делах?
— Орлиная Голова не забыл, он хотел помочь своим бледнолицым братьям.
Весельчак начал смеяться.
— Позвольте, вождь. Что касается меня. то здесь все очень просто: вы просили меня сопровождать вас, и вот он я. Больше я ничего не знаю, пусть я буду другом апача-собаки. Луи — другое дело, он разыскивает своего друга. Помните, что мы обещали помочь в этом.
— Орлиная Голова, — отвечал на это вождь, — разделяет сердце свое между бледнолицыми братьями. Каждому из вас принадлежит по половине его. Путь, который мы должны совершить, долог, он продлится несколько лун. Мы пройдем через великую пустыню. Насмешник и его воины пошли на охоту за бизонами, чтобы заготовить их на далекий путь. Я проведу братьев моих в место, открытое мною несколько лун тому назад и известное только мне одному. Когда Ваконда сотворил человека, он дал ему силу, мужество, бескрайние земли для охоты и сказал ему: «Будь свободен и счастлив». Он дал бледнолицым мудрость, знание и научил их узнавать цену самоцветным камням и желтому песку. Краснокожие и бледнолицые — каждые идут по своему пути, начертанному им Великим Духом. Я проведу братьев моих к россыпям.
— К россыпям?! — с изумлением воскликнули оба охотника.
— Да. Что делать сахему команчей с этими непомерными богатствами? Золото — для бледнолицых. Пусть будут счастливы мои братья, Орлиная Голова даст им золота столько, что они не в силах будут увезти его.
— Постойте, постойте, вождь, на кой черт мне ваше золото? Я охотник, и мне моего ружья и коня вполне достаточно. В то время, когда я бродил по прерии с Чистым Сердцем, нам часто попадались тяжелые золотые самородки, но мы всегда с презрением отбрасывали их.
— На что нам золото и что нам делать с ним? — согласился с другом дон Луи. — Забудем лучше про эти россыпи, как бы богаты они ни были. Лучше даже и говорить не будем про них никому. Разве недостаточно каждый день совершается из-за золота преступлений? Оставьте свое намерение, вождь. Благодарим за ваш щедрый дар, но мы не можем воспользоваться им.
— Хорошо сказано! — радостно проговорил Весельчак. — Прочь золото, не надо нам его, будем жить вольными лесными охотниками! Честное слово! Уверяю вас, вождь, что, если бы вы еще на асиенде де-ла-Нориа сказали мне, для чего хотите взять меня с собой, я бы не пришел сюда.
Орлиная Голова улыбнулся и сказал:
— Я ожидал такого ответа от братьев моих. Я рад, что не ошибся. Да, золото бесполезно братьям моим, они правы, но этого недостаточно, чтобы презирать его. Как и все вещи на земле, сотворенные Великим Духом, золото полезно. Пусть пойдут братья мои со мной к россыпям, но не для того, чтобы набрать самородков, а для того, чтобы знать, где находится золото и взять его в случае нужды. Горе приходит всегда неожиданно, ведь тот, кого сегодня любит и ласкает Великий Дух, завтра может быть сурово наказан им. И вот, если золото этих россыпей ничего не значит для счастья моих братьев, то, кто знает, придет день, и с его помощью они спасут друга от отчаяния.
— Это верно, — отвечал дон Луи, тронутый его словами. — Вы говорите, как мудрец, и это нельзя упускать из виду. Сами мы можем отвергать богатства, ненужные нам сейчас, но не должны делать этого за других. Мало ли кому эти богатства пойдут на пользу!
— Если это ваше мнение, то и я согласен с ним. Раз уж мы пошли по этой дороге, надо идти по ней до конца. Скажу только, что, если бы мне кто-либо сказал, что в один прекрасный день я буду гамбусино [79], я бы не поверил ему. Ну, а пока что пойду поохочусь за ланью.
С этими словами Весельчак поднялся, закинул за плечи ружье и отправился в прерию, насвистывая песенку.
Насмешник отсутствовал два дня. К полудню третьего он вернулся. Шесть лошадей, которых вели в поводу, были нагружены съестными припасами, шесть других везли меха с водой.
Орлиная Голова остался доволен тем, как вождь исполнил его поручение, но так как путь предстоял длинный — предстояло пересечь вдоль всю пустыню дель-Норте, — то приказал, чтобы каждый всадник привязал к седлу кроме альфорхи — глиняной бутыли с водой — еще по два небольших меха. Это было необходимо для лишней предосторожности.
Все было исполнено, лошадям и людям дан отдых, они приободрились, повеселели, и на другой день рано утром небольшой отряд тронулся в путь по направлению к пустыне.
Мы не будем описывать это путешествие, скажем только, что, благодаря опытности, осторожности и предусмотрительности сахема, оно совершилось вполне благополучно, даже несколько скучновато.
Команчи со своими друзьями прошли пустыню быстро, подобно буре, с выдержкой и умением, которые являются их секретом и которые делают их такими страшными, когда они нападают на мексиканцев.
Достигнув прерий Сьерра-де-лос-Команчес, Орлиная Голова приказал Насмешнику с воинами остановиться на опушке девственного леса, на огромной поляне, у самого берега безымянной речки, которая через какие-нибудь десять верст самого причудливого течения впадала в Рио-дель-Норте. Сам же он удалился со своими белыми друзьями.
Сахем предусмотрел все. Хотя он и питал полное доверие к Насмешнику, но из благоразумной предосторожности не хотел открывать ему местоположение россыпи. Позже ему не раз пришлось благодарить себя за это.
Охотники направились к горам, поднимавшимся перед ними непроходимой, отвесной гранитной стеной.
Чем ближе они подходили, тем более отлогими оказывались склоны. Скоро они вступили в тесное ущелье, при входе в которое вынуждены были оставить лошадей. Быть может, именно из-за этого-то обстоятельства россыпь и осталась до сих пор не открытой индейцами. Краснокожие никогда в пути не слезают с лошадей. О них, как о гаучо в пампасах восточной части Патагонии, можно сказать, что они живут на лошадях.
Однажды на охоте Орлиная Голова ранил лань, которая убежала сюда. Вождь, разгоряченный долгой охотой, длившейся уже несколько часов, желая захватить добычу, последовал за ней пешком. Пройдя все тесное ущелье, он достиг глубокой долины, так ревниво окруженной природой отвесными скалами, что не будь в ней узкого входа, через который он проник, до конца света ее не увидел бы глаз человеческий. Между тем в этой небольшой долине заключалось много интересного. Орлиная Голова нашел издыхавшую лань на песке, в котором было так много золота и крупных самородков, что они буквально горели и сверкали на солнце, как не потухшие еще уголья.
Искатели золота, чтобы отделить золото от песка, к которому оно даже в богатейших россыпях примешано в самых ничтожных, неуловимых количествах, взмучивают золотоносный песок с водой и заставляют эту воду течь по отлогим желобам с низкими поперечными перегородками. Золото, как более тяжелое, оседает перед каждой перегородкой скорее, чем песок, который уносится дальше. Эти осевшие пески собираются, вновь взмучиваются с водой, которая опять пускается течь по желобам и вымывает новые количества пустых песчаных пород, и таким образом за перегородками постепенно остается все более чистое золото. Желоба эти называются вашгердами.
В отдаленную геологическую эпоху, когда ледники, покрывавшие весь североамериканский континент и доходившие почти до знойной ныне Мексики, начали таять, и на поверхности земли возникли такие потоки, перед которыми самые крупные современные реки кажутся мелкими ручейками, в описываемом месте много лет происходило, вероятно, чудное и величественнейшее явление. Колоссальный поток, исходивший из выше лежащих и не растаявших еще ледников Сьерры-Мадре, низвергался долгое время в пучину. На своем пути он отрывал от скал обломки, крутил их, бил со страшной силой и растирал в мелкий песок. В этих скалах были вкраплены крупицы золота. Золото вместе с песком низвергалось с водой в пропасть, но в этой пропасти вода находила временный покой, из нее вел узкий проход. Вода устремлялась в него, но уносила с собой только самые легкие частицы песка, а тяжелое золото и более крупный песок успевали осесть, и таким образом природа образовала в этом месте своеобразный огромный золотопромывной вашгерд.
Сами седые скалы, вероятно, уже стали забывать о том ужасном шуме и треске низвергавшихся с них льдин, огромных камней и бешено клокотавшей воды, когда в описываемый чудесный теплый день при ярком смеющемся солнце наши путники очутились на дне давно уже пересохшей, ревниво скрываемой от людских глаз пропасти, где природе по необъяснимому капризу угодно было собрать безмерные сокровища. Невольно они испустили крик изумления и почувствовали, что их охватило необъяснимое чувство радости.
Как бы ни был бескорыстен человек, как бы ясно он ни осознавал в определенные моменты полную бесполезность богатства для него, золото все-таки оказывает на него какое-то необъяснимое влияние.
Весельчак опомнился первым.
— Ого! — проговорил он. — Здорово же, однако, в иных уголках для кого-то мать-природа скопила богатства. О, если бы Господь устроил так, чтобы они послужили для счастья людей!
— А нам, нам что делать с ним? — вопрошал, ни к кому не обращаясь, дон Луи, прерывисто дыша и сверкая глазами.
Один Орлиная Голова взирал на эти сокровища таким же бесстрастным взглядом, как на простой песок.
— Гм! — начал канадец. — Это, конечно, наша собственность, так как вождь отказывается от своих прав.
Сахем утвердительно кивнул головой и махнул рукой с приветливой улыбкой: берите, дескать.
— Вот что я предлагаю, — продолжал Весельчак. — Сейчас нам нет нужды в золоте, теперь оно нам скорее вредно, чем полезно. Но так как никогда нельзя ручаться за будущее, то, чтобы обеспечить наши права, прикроем это место листьями и ветвями, чтобы какой-нибудь охотник, случайно взобравшись на эти скалы, сверху не увидел бы блеска золота. Затем вход сюда мы загородим камнями, так как то, что случилось с Орлиной Головой, может случиться и с любым другим охотником. Что думаете вы, дон Луи?
— К делу! — воскликнул дон Луи. — Я не могу видеть этого дьявольского блеска, этот металл своим видом вызывает у меня головокружение.
— К делу, так к делу! — отвечал Весельчак.
Все трое принялись срезать ветви и скоро завалили все дно пропасти так, что самородки совсем исчезли, укрытые ветвями.
— Не хотите ли взять для образчика один самородок? — предложил Весельчак графу. — Может быть, если взять несколько штук с собой, впоследствии они пригодятся.
— Честное слово, не стоит, — отвечал граф, пожимая плечами. — Если хотите, возьмите, а я не дотронусь до них.
Канадец захохотал, поднял два или три самородка величиной с орех и положил их в мешок с пулями.
— Черт возьми! Если я всажу такие пули в апачей, то они, вероятно, будут мне благодарны.
Они вышли из долинки, завалив вход в нее камнями. Скоро они нашли своих лошадей и вернулись в лагерь, сделав на деревьях насечки, чтобы впоследствии узнать дорогу, если бы обстоятельства вновь заставили их вспомнить об этой сокровищнице, чего — к их чести сказать — ни один из них не желал.
Насмешник ожидал наших друзей с великим нетерпением.
В прерии стало неспокойно. Еще утром охотники издали видели, как небольшой отряд переправился через дель-Норте и последовал на вершину невысокого холма, где и остановился. Расстояние было так велико, что можно было только разобрать, что это белые, а не индейцы.
Теперь же в этом месте реки переправился отряд апачей и, по-видимому, имел намерение догнать первый отряд.
— Ого! — решил Весельчак. — Нет сомнения, что эти собаки преследуют белых.
— Неужели мы дадим убить их на наших глазах? — с негодованием заметил дон Луи.
— Конечно, нет, насколько это зависит от нас! — возразил канадец. — Быть может, этим добрым делом мы искупим перед Господом обуявшую нас сейчас жадность. Говорите, Орлиная Голова, что вы собираетесь предпринять?
— Спасти бледнолицых, — коротко ответил сахем.
Распоряжения, отданные им, были приведены в исполнение с такой быстротой, спокойствием и ловкостью, которые сразу доказали, что вождь и его воины вполне достойны друг друга.
Лошади были оставлены под наблюдением одного индейца, отряд разделился на две части, и каждая осторожно двинулась своим путем вперед по прерии.
Кроме Насмешника, Орлиной Головы, Весельчака и дона Луи, которые имели при себе карабины, все остальные были вооружены копьями и стрелами.
— Ага! — тихо заметил канадец. — Нашла коса на камень. Мы неожиданно нападем на тех, которые сами хотят врасплох напасть на других.
В этот момент один за другим быстро раздались два выстрела, затем послышался боевой клич апачей.
— А-а! — закричал Весельчак, бросаясь вперед. — Они и не предполагают, что мы так близко.
Все последовали за ним.
Битва в пещере между тем приняла отчаянный характер: дон Сильва с пеонами защищались мужественно, но что они могли сделать одни против целой оравы теснивших их отовсюду врагов!
Тигреро и Черный Медведь, вцепившись друг в друга и переплетясь, как змеи, катались по земле, стараясь поразить один другого кинжалом.
Дон Марсиаль, увидев индейца, так быстро попятился назад, что освободил проход, и теперь они боролись уже почти в середине залы, в которой открывалась упомянутая ранее пропасть. К краю этой-то пропасти и катились оба врага. Глаза их сверкали, они крепко держали друг друга, губы их были плотно сжаты от бешенства. Враги напрягали последние силы.
Вдруг раздалось несколько выстрелов из карабинов, и послышался военный клич команчей.
Черный Медведь бросил дона Марсиаля и кинулся к донье Аните. Молодая девушка в невыразимом ужасе со сверхъестественной силой оттолкнула краснокожего.
Черный Медведь, уже раненный двумя пулями Тигреро, покачнулся и очутился на краю пропасти. Он потерял равновесие и почувствовал, что падает. Инстинктивно апач протянул руку и уцепился за дона Марсиаля, который в этот момент поднимался, еще не очнувшись от выдержанной им борьбы. Он также покачнулся, и оба врага, испустив раздирающие крики, полетели в бездну.
Донья Анита в отчаянии кинулась вперед.
Вдруг она почувствовала, что сильная рука схватила ее и оттолкнула назад. Она упала в обморок.
Команчи прибыли слишком поздно.
Из семи человек, составлявших отряд, пятеро были убиты. В живых остались только одни тяжело раненый пеон и донья Анита.
Девушку спас Весельчак.
Когда она, очнувшись, снова открыла глаза, то сладко улыбнулась и детским, мелодичным голосом, напоминавшим пение птички, запела мексиканскую сегидилью [80].
Охотники в ужасе отступили.
Донья Анита сошла с ума!
Глава XXV
АГУЭГУЭЛЬТ
Граф де Лорайль вошел в великую пустыню дель-Норте, следуя за Кукаресом.
Первые дни все шло хорошо, погода стояла прекрасная, припасов и воды было в изобилии. Со свойственной французам беззаботностью, солдаты быстро забыли все свои страхи и даже подсмеивались над боязнью, которую не переставали обнаруживать мексиканцы. Между тем последние были лучше знакомы с положением дел и открыто выражали свое беспокойство по поводу столь продолжительного пребывания в этих опасных местах.
Французы обладают одним особенным качеством, которое поставило их — быть может, совершенно неожиданно — во главе цивилизации и прогресса. Это качество — их кажущаяся беззаботность, которую другие народы, вынужденные считаться с их капризами, как с решениями безапелляционного суда, из зависти называют легкомыслием.
На самом деле нет ничего несправедливее упрека в легкомыслии, в котором они постоянно, без всякого повода обвиняются. Как и у каждого народа, кого судьба поставила во главе мировой цивилизации, глаза француза смотрят в будущее, голова наклонена вперед, уши насторожены и жадно схватывают едва уловимые слова, идущие с Небес. Вчерашний день для них не существует, сегодня — ничего не стоит, вся сила в дне завтрашнем, так как завтрашний день есть будущее, то есть именно в нем лежит разрешение вечных вопросов жизни. Отсюда некоторые видимые противоречия, которые их враги и завистники, к своему удовольствию, постоянно обнаруживают в действиях французов, но вникнуть в которые не дают себе труда.
День за днем проходил в пустыне в напрасной погоне за апачами, которые как сквозь землю провалились. Иногда вдали они замечали индейского всадника, который, словно дразня их, носился взад и вперед на виду у всех.
Если это случалось на стоянке, то немедленно давали сигнал к выступлению, и весь отряд пускался в погоню за этим всадником. Но все было напрасно, расстояние между всадником и белыми не уменьшалось ни на шаг и, помаячив некоторое время, всадник вдруг исчезал, словно призрак.
Такая жизнь со временем начала становиться невыносимо тоскливой. Все песок, песок и песок, ни птицы, ни зверя, серые, бесплодные скалы, громадные смолистые агуэгуэльты, покрытые сероватым мхом, ниспадавшим длинными космами, попадавшиеся, впрочем, очень редко, — все это доставляло мало освежающих ум впечатлений.
Блеск солнечных лучей, отражаемый песком, вызывал воспаление глаз. Вода портилась от жары и стала под конец совсем непригодной для питья. Портились и остальные продукты, скорбут [81] начинал пожинать среди солдат обильную жатву. В то же время их охватила тоска по родине.
Положение становилось безнадежным, приходилось думать, каким образом можно поскорее выйти из него.
Граф собрал военный совет.
В состав совета вошли лейтенанты Диего Леон и Мартин Леру, сержант Буало, Блаз Васкес и Кукарес.
Эти пятеро, под председательством графа, уселись на вьюках. Неподалеку от них измученные солдаты, лежа на земле, тщетно старались укрыться от палящих лучей в тени, отбрасываемой лошадьми, привязанными к камням.
Необходимо было согласовать действия и взгляды членов совета. В отряде быстро падала дисциплина, в воздухе пахло бунтом, уже слышались не раз произносимые вслух угрозы. Расправа с Курциусом в Каса-Гранде скоро была забыта, требовалось немедленное в решительное воздействие, иначе трудно было сказать, куда могло привести это всеобщее недовольство.
— Господа, — начал граф де Лорайль, — я собрал вас, чтобы сообща найти средство поднять дух отряда, который, я замечаю, вот уже несколько дней все падает. Положение тяжелое, и я буду вам глубоко благодарен, если вы откровенно выскажете мне свое мнение. Речь идет о нашем общем спасении, и каждый должен откровенно выразить свое мнение без боязни задеть чье-либо самолюбие. Говорите, я слушаю вас. Сначала вы, сержант Буало, как самый младший по чину, вам принадлежит слово.
Сержант Буало был старый солдат, воевавший в Африке, насквозь пронизанный суровой военной дисциплиной, тянувший солдатскую лямку в течение всей эпохи африканских войн. Однако надо признаться, что этот истый служака был начисто лишен ораторского таланта.
Услышав обращение к себе со стороны начальника, он улыбнулся, покраснел, как молодая девушка, опустил голову, открыл свой большой рот, но остался нем.
Граф де Лорайль, заметив его смущение, самым любезным образом убеждал его не стесняться и высказать свое мнение. Наконец достойный сержант собрался с духом, и изысканный голос графа сменился каким-то густым хриплым треском и гудением, непонятным образом слагавшимися в довольно бессвязную речь приблизительно следующего содержания:
— Да! Черт возьми, капитан, — говорил он, — да, это правда, черт их побери, положение, можно сказать, невеселое, но на войне, так уж на войне, значит, что ж делать… значит… назвался груздем, полезай в кузов. А что касается всего прочего, то, как вы изволите спрашивать нашего мнения насчет того… значит… то я должен доложить вам, что, как мы все должны вам повиноваться как начальнику, и это есть наша обязанность… долг солдатский, то мы и должны… значит… вас во всем слушаться… без всяких там глупостей.
Услышав такое изложение взглядов добродушного сержанта, остальные участники совета, не знакомые с вылощенными обычаями европейских собраний и заседаний всякого рода, не могли удержаться и так и прыснули со смеху. Почтенный сержант замолчал, совсем пристыженный.
— Слово за вами, капатас, — обратился капитан к дону Блазу. — Выскажите, прошу вас, ваше мнение.
Блаз Васкес пристально посмотрел на графа.
— Вы требуете, чтобы я вполне откровенно высказал вам свое мнение, капитан? — обратился он к графу.
— Конечно.
— Ну, так прошу всех выслушать, — начал он твердым и решительным тоном. — Мое мнение состоит в том, что мы стали жертвой предательства, и у нас нет шансов выбраться из этой пустыни. Мы все до единого погибнем здесь. Гоняясь в бессильной ярости за неуловимым врагом, мы все попадем в западню, из которой нам уже не выйти.
Слова эти произвели на присутствующих поражающее впечатление, подобное удару грома, но в душе каждый почувствовал их справедливость.
Капитан задумчиво покачал головой.
— Дон Блаз, — проговорил он, — вы возводите на одно лицо ужасное обвинение. Взвесили ли вы всю важность ваших слов?
— Вполне, — отвечал капатас, — только…
— Примите во внимание, что мы не можем довольствоваться одними предположениями. Обстоятельства очень серьезны. Хотя я ни на минуту не допускаю ни малейшего сомнения в справедливости ваших слов, но вам, конечно, известно, что в таких случаях требуется привести прямые доказательства, а также произнести имя обвиняемого.
— Сеньор граф, я понимаю всю ответственность, которую принимаю на себя, но никакие посторонние соображения, как бы ни были они сильны, не заставят меня отступить от того, что я считаю своим священным долгом.
— Тогда говорите, именем Господа заклинаю вас, и не дай Бог, чтобы ваши слова заставили меня покарать кого-либо из наших товарищей.
Капатас с минуту соображал, все с нетерпением смотрели на него. Кукаресу едва удавалось скрывать под личиной спокойствия охватившее его волнение.
Наконец Блаз Васкес начал говорить, упорно, со странным выражением глядя на графа, который сам начинал понимать, что вместе со всем своим отрядом стал жертвой гнусного предательства.
— Сеньор граф, — так начал Блаз, — мы все мексиканцы именем закона, от которого не отступаем никогда. Закон, хотя и не писаный, но начертанный в сердцах наших, как он должен быть начертан в сердцах всех честных людей. Вот этот закон: как лоцман отвечает за корабль, который он взялся провести в порт, так же точно и проводник отвечает своей жизнью за безопасность и благополучие людей, которых он взялся провести через пустыню. Много думать здесь не приходится. Существуют две возможности: или он не знает дороги, или он знает ее. Если он не знает ее, то почему, вопреки мнению остальных, побудил нас войти в пустыню, приняв всю ответственность на себя одного? Если же он знает дорогу, то почему не указал нам путь прямо через пустыню, а заставил нас метаться по пескам в поисках врага, который, как он сам хорошо знает, не останавливается в дель-Норте, но минует ее так быстро, как это только позволяет ему резвость его лошадей. На проводника должно пасть обвинение за все то, что мы сейчас переживаем, так как от него зависело, в каком направлении будут развиваться события. Он предпочел, чтобы все пришло к нынешнему положению.
Смущение и беспокойство Кукареса во время этой речи постепенно росли, он не знал, какое выражение придать своему лицу. Его поведение было замечено всеми.
— Что вы ответите? — обратился к нему капитан.
В обстоятельствах, подобных описываемым, человеку, на которого ложится обвинение, остается два средства защиты: негодование и презрение.
Кукарес выбрал презрение.
Собрав всю свою дерзость и придав твердость своему голосу, он презрительно пожал плечами и ответил насмешливым голосом:
— Я не окажу словам дона Блаза чести оспаривать их. Существуют обвинения, которые честные люди не трудятся опровергать. Я должен был действовать, сообразуясь с приказаниями капитана, который один является здесь начальником. С тех пор, как мы вошли в пустыню, мы потеряли двадцать человек от болезней и индейских стрел. Неужели справедливо выставлять меня виновником стольких смертей? В моей ли власти избавить каждого из вас от того, чем грозит ему судьба? Если бы капитан приказал мне с самого начала идти через дель-Норте, не сворачивая в сторону, то мы давно бы уже вышли из нее. Он говорил мне, что желает настигнуть апачей, а я вынужден был считаться с его волей.
Как ни скользки были приведенные доводы, они, однако, примирили офицеров с Кукаресом. Кукарес вздохнул, но от капатаса отделаться было не так-то легко.
— Хорошо, — продолжал он, — строго говоря, вы, может быть, и имеете право говорить так, и я поверил бы вашим словам, но у меня есть еще более очевидные факты против вас.
Леперо опять пожал плечами.
— Я знаю и могу доказать, что своими разговорами вы сеете возмущение среди пеонов я солдат. Еще сегодня утром, полагая, что вас никто не видит, так как все еще спали, вы поднялись и кинжалом прокололи десять мехов с водой из пятнадцати, находившихся у нас. Шум, который я нечаянно произвел, когда бежал, чтобы поймать вас на месте преступления, помешал вам довершить его. Я приготовился сообщить о вашем поступке, но в это время мы все были созваны на этот совет. Что скажете вы на это? Защищайтесь, если можете.
Все глаза опять обратились на леперо. Он был мертвенно бледен, глаза его налились кровью. Прежде чем кто-либо мог угадать его намерение, он выхватил пистолет и в упор выстрелил в грудь капатасу. Честный, преданный Блаз Васкес свалился, как сноп, не произнеся ни слова. Совершив это преступление, Кукарес одним нечеловеческим прыжком вскочил на лошадь и помчался прочь.
Поднялся невыразимый переполох, все бросились преследовать леперо.
— На коней! На коней! В погоню за убийцей! — кричал граф, жестами и голосом подстегивая своих людей.
Французы кинулись за ним. Невозможно было в первые минуты описать охватившую их ярость. В леперо стреляли, как в дикого зверя. Долгое время он бросался галопом то в одну сторону, то в другую, стараясь скрыться от преследователей. Но все было напрасно. После первых минут замешательства всадники стали упорядочение заезжать с обеих сторон и, пока он бросался из стороны в сторону, успели окружить его плотным кольцом. Вид леперо был ужасен и омерзителен, он струсил, его охватил страх смерти. Глаза его вылезли из орбит, молитвенные слова срывались с губ вместе с гнусным богохульством, у рта показалась пена. Он завыл, зашатался в седле, судорожно ухватившись за гриву лошади, и вдруг свалился безжизненной массой на песок, испустив последний крик ярости.
Он был мертв!
Это событие вызвало страшное волнение среди солдат. С этой минуты они поняли, что стали жертвой предательства и оказались в безнадежном положении.
Напрасно капитан старался вернуть им бодрость, они ничего не слушали и предались отчаянию, которое грозило привести к полной деморализации.
Граф отдал приказ выступать. Немедленно двинулись дальше.
Но куда идти? В какую сторону направиться? Не было видно ни малейшего следа. Однако они шли — шли просто для того, чтобы переменить место, уже не надеясь выйти из песчаной могилы, в которой они считали себя похороненными навсегда.
Прошло восемь дней — восемь веков, во время которых отряд испытывал самые жестокие муки голода и жажды.
Отряда графа де Лорайля, собственно, уже не существовало. Не было ни офицеров, ни солдат, это была толпа изможденных призраков, стая диких зверей, готовых пожрать друг друга.
Надрезали уши лошадей и мулов и пили их кровь.
Они бродили то в одном направлении, то в другом. Мираж дразнил и обманывал, раскаленные лучи солнца доводили до безумия. Их охватило отчаяние. Одни смеялись идиотским смехом, и это были самые счастливые, так как, сойдя с ума, не чувствовали своего горя. Другие яростно потрясали своим оружием, произносили угрозы и проклятия, поднимая к небу кулаки, а небо стало раскаленно-красным и безжалостно взирало на расстилавшуюся внизу огромную песчаную могилу. Некоторые, наконец, дойдя до границы отчаяния, но все еще сохраняя ясный ум, пускали себе пулю в лоб, призывая к тому же своих менее решительных товарищей.
Хотя французы и считают себя самым храбрым народом в мире, они легче других приходят в отчаяние и деморализуются. Ничто не может им противиться, когда они идут вперед, но, с другой стороны, ничто не может их удержать при отступлении — ни убеждения, ни принуждения.
Граф де Лорайль в страшной скорби смотрел на крушение всех своих надежд. Он первым шел вперед, последним успокаивался на стоянках, ел на ходу, когда убеждался, что все его товарищи получили свою долю. Он одинаково заботливо относился ко всем своим солдатам, которые, удивительная вещь, хотя и испытывали ужасные муки, ни разу не упрекнули его.
Пеоны Блаза Васкеса были уже в основной части мертвы, остальные искали спасения в бегстве, то есть нашли себе неведомые могилы где-нибудь поблизости. Верными капитану остались только белые, по большей части французы, храбрые офицеры, совершенно не умеющие биться с таким врагом, как пустыня, и тем более победить его.
Из двухсот сорока пяти людей, составлявших отряд, вышедший из колонии, в описываемый момент в живых остались только сто тридцать три, но и те скорее были похожи на растерзанных, обезумевших призраков, чем на живых людей.
Самая жестокая болезнь, какую только может испытывать человек в пустыне, есть ужасное душевное состояние, называемое мексиканцами калентура.
Калентура проявляется в том, что истощенный человек по временам видит перед собой самые тонкие и приятные яства, прозрачную, как кристалл, холодную воду, чудные ароматные вина. Ему кажется, что всем этим он наслаждается, это возбуждает его, но потом галлюцинация проходит, и человек остается в полном изнеможении и чувствует себя еще более опустошенным, чем раньше, так как в воображении его еще живо минувшее видение.
Настал, однако, день, когда несчастные французы, не выдержав горя и мук, отказались идти дальше и решились умереть там, куда их завела судьба. Они легли на горячий песок в тени громадного агуэгуэльта с твердым желанием оставаться без движения до тех пор, пока смерть, которую они давно призывали отчаянными криками, не придет и не освободит их от мучений.
Солнце опустилось за горизонт в облаках золота и пурпура, сопровождаемое мольбами и проклятиями несчастных, ничего не ожидавших, ни на что не надеявшихся и сохранивших только первобытные инстинкты.
Ночь сменила день, покой сменил смятение и муки, сон — великий утешитель — отягчил веки несчастных, которые, если и не спали, то впали в дремотное состояние и забыли на миг свои муки.
Вдруг среди ночи внезапно пронесся ужасный шум. Это жгучий ураган налетел на отряд, с громом и молнией разразилась гроза.
Небо приобрело чернильный оттенок, не было видно ни звездочки, ни одного лучика луны. Пустыню окутал такой густой мрак, что нельзя было различить даже самые близкие предметы.
Пораженные солдаты в ужасе вскочили. Новое неожиданное несчастье на минуту словно заставило их очнуться, инстинктивно они сбились в кучу, как овцы.
— Ураган! Ураган! — кричали все, и невозможно описать весь ужас, все отчаяние, слышавшиеся в этом крике.
Это действительно был ураган, ужасное и величественное явление природы в пустыне дель-Норте, после которого совершенно изменяется вид ее поверхности.
Ветер ревел с неслыханной силой, песок взвивался в воздух. Казалось, будто все песчаное море до самого дна хочет взлететь в воздух. Смерчи носились с ужасной быстротой, сталкивались, выли.
Они поднимали в воздух людей и животных и уносили куда-то в безысходный мрак, как соломинки.
— Ложись на землю, ложись на землю! — в исступлении кричал граф. — Это африканский самум! Ложись на землю, кому жизнь дорога!
И удивительно, все эти подавленные нечеловеческими испытаниями люди послушались, как дети, голоса своего командира — так велик ужас, внушаемый человеку смертью во тьме.
Они легли ничком, уткнувшись в песок, чтобы избежать жгучих ударов песчинок, носившихся в воздухе. Животные последовали их примеру, распростерлись по земле и вытянули шеи.
Иногда буря на минуту будто стихала, словно природа желала посмотреть на произведенные ею опустошения, насладиться мучениями несчастных. Тоща из тьмы слышались стоны, проклятия и горячие молитвы несчастных людей.
Ураган свирепствовал всю ночь, ярость его все возрастала. К утру стало тише, с восходом солнца он истощил свои силы и унесся в другие места.
Вид пустыни изменился до неузнаваемости. Там, где накануне находилась долина, теперь вырос холм. Редкие деревья, ободранные, лишенные листьев, спаленные ураганом, печально возвышались своими безжизненными скелетами. Не осталось ни одного следа, ни одной тропинки, вся поверхность стала гладкой, плоской, уплотнилась, подобно льду.
В живых остались только шестьдесят французов, остальные были увлечены вихрем или погребены под песком. Никакие поиски ни к чему не могли привести, песок покрыл их однообразным серым саваном.
Первым чувством, которое испытали оставшиеся в живых, был ужас, его сменило отчаяние, и тоща поднялись и стали неудержимо расти бесконечные вопли и стенания.
Граф, пораженный глубокой скорбью, с невыразимым сожалением глядел на этих несчастных.
Вдруг лицо его озарилось нервной улыбкой, он подошел к своей лошади, которая каким-то чудом уцелела, оседлал ее и, ласково потрепав рукой, стал напевать сквозь зубы одну из давних песенок, о которых он не вспоминал с тех пор, как покинул Париж.
Его товарищи, сохранившие еще долю рассудка, посмотрели на него с каким-то смутным беспокойством. Они сознавали, что, как ни были они несчастны, их капитан всегда представлял собой воплощение несокрушимой воли и ума, стоящего выше всех опасностей и несчастий. Две эти силы всегда оказывают сильное влияние на простых людей. В своем бедственном положении они жались к своему предводителю, как дети во время грозы жмутся к матери. Он утешал их, подавал им пример самоотречения и силы духа. Постоянно видя его бодрым, не терявшим надежды, хотя и задумчивым, могли ли они ожидать, что последнее, самое горькое несчастье наступит так быстро.
Оседлав лошадь, граф вскочил на нее и несколько минут понукал бедное животное, едва державшееся на дрожащих ногах.
— Храбрые товарищи! — вдруг закричал он. — Идите, идите ко мне! Выслушайте мой добрый совет, мое последнее слово, которое я дам вам прежде, чем расстаться.
Солдаты, качаясь от изнеможения, поднялись, кто как мог, и подошли к нему.
Граф окинул их довольным взглядом.
— Не правда ли, друзья мои, какая глупая штука — жизнь, — обратился он к ним и разразился диким смехом. — Ведь это какая-то несносная тяжелая цепь, которую приходится влачить. Сколько раз с тех пор, как мы попали в это бесконечное пекло, вам тайно приходила на ум мысль, которую я в настоящий момент решаюсь произнести во всеуслышание! И вот, признаюсь, пока у меня была надежда спасти вас, я крепился. Этой надежды больше нет. Так как с этого момента до жалкой кончины нам остается не более нескольких дней, даже, может быть, нескольких часов, то я предпочитаю покончить счеты с жизнью сейчас. Поверьте мне, последуйте моему примеру. Вперед, решайтесь, вы увидите, что я прав!
С этими словами он вынул из-за пояса пистолет.
В это время в толпе раздались крики.
— Что такое там еще случилось?
— Глядите, капитан, к нам идет, наконец, помощь, мы спасены! — закричал лейтенант Мартин Леру и, как привидение, вырос перед ним и схватил его за руки.
Граф, усмехнувшись, высвободился.
— Вы обезумели, мой бедный друг, — произнес он, глядя в ту сторону, куда указывал ему добрый лейтенант и где действительно виднелось быстро приближавшееся облако пыли. — К нам нельзя даже проникнуть, чтобы помочь, мы обречены на гибель в этой адской пустыне. Прощайте, все прощайте!
И он вновь поднял пистолет.
— Капитан! — с упреком закричал лейтенант. — Стойте, вы не имеете права убивать себя. Вы начальник и вы должны умереть последним, иначе вы трус!
Как ужаленный змеей, отпрыгнул граф, услышав упрек в трусости, и сделав движение, как бы готовясь кинуться на сержанта. Выражение его лица стало ужасным, не было сомнения, что он сошел с ума. Лейтенант невольно попятился назад.
Капитан воспользовался секундой замешательства, приложил дуло пистолета к правому виску и спустил курок. Раздался выстрел, и граф упал на песок с простреленной головой.
Оставшиеся в живых еще не успели выйти из оцепенения, в которое привело их самоубийство графа, по ужасу своему превзошедшее все, что они до сих пор перенесли, как облако пыли, которое они заметили, приблизилось, и все увидели, что это скачет отряд индейских всадников, среди которых находились двое или трое белых и одна женщина. Они мчались во весь опор по направлению к французам.
Убежденные, что это апачи, обнаружив противника, как коршуны падаль, спешат нанести последний удар, который даст им наконец давно желанное избавление от мук, французы даже и не пытались оказать ни малейшего сопротивления.
— О! Боже мой! — воскликнул один из подъехавших охотников, на всем скаку сдерживая сытого и бодрого коня и соскочив на землю как раз возле распростертых на земле французов. — Бедные люди!
Это были Весельчак, граф Луи и их друзья команчи.
В немногих словах им рассказали все, что произошло, о тех мучениях, что перенесли французы.
— Но ведь, — воскликнул Весельчак, — если у вас даже и кончились припасы, то каким образом у вас не хватило воды в мехах, почему вы жалуетесь на жажду?
Не говоря ни слова, Орлиная Голова и Насмешник принялись рыть своими ножами землю у корня агуэгуэльта. Через десять минут показалась вода, и ее обильная, прозрачная свежая струя оросила бесплодный горячий песок.
Французы, давя и отталкивая друг друга, в беспорядке прильнули к воде.
— Бедные люди! — говорил дон Луи. — Их надо вывести отсюда.
— А зачем же иначе мы ехали сюда? Неужели для того, чтобы только сказать им «здравствуйте», — проговорил никогда не терявший хорошего расположения духа Весельчак. — Теперь мы принесли им надежду.
— Бедная девушка! — проговорил дон Луи, бросив взгляд на донью Аниту, которая смеялась, пела, глядела ничего не понимающими глазами и перебирала пальцами, словно руки ее держали кастаньеты. — Если бы можно было возвратить ей рассудок!
Весельчак вздохнул, но ничего не ответил.
Французы узнали тогда, что спасло бы их, если бы они знали об этом раньше. Оказалось, что агуэгуэльт по-индейски означает господин воды. Это дерево растет в бесплодных местах и указывает или на источник, или на присутствие воды близко от поверхности земли. По этой-то причине индейцы так почитают агуэгуэльт и дали ему еще прозвище — великое чудодейственное средство путешественников.
Два дня спустя французы вместе с охотниками и команчами покинули пустыню.
Они скоро достигли Каса-Гранде, где их спасители, оставив им достаточное количество провианта, покинули их, сопровождаемые благословениями и благодарностями без числа.