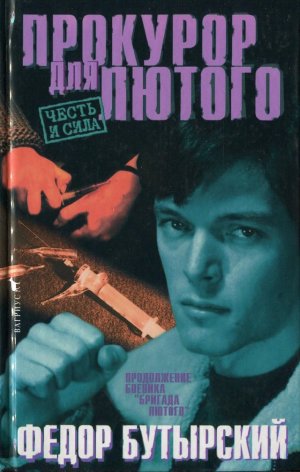
Пролог
На бесконечную серую ленту шоссе опускался плотный туман, от него сердце сжималось тоской и тревогой.
Такой туман — большая редкость на польских дорогах в мае, но уж если он ложится на землю, то лучше не ехать вовсе. Свет противотуманных фар выхватывает едва различимые контуры дорожной разметки, нечеткие очертания полосатых придорожных столбиков, размытые деревца по обочине. В конусах слепого электричества шевелятся рваные белые клочья, но что за ними — угадать невозможно. Поворот, еще поворот, пронзительный скрип тормозов, машину заносит, и усталый водитель, утирая пот, глушит мотор.
В то раннее утро, 4-го мая 1994 года, туман был особенно густ: видимость на дороге — хуже не бывает. Шоссе Варшава — Белосток, современная европейская трасса, связывающая центр страны с восточной границей, обычно оживленное, вот уже несколько часов оно оставалось непривычно пустынным.
Неожиданно где-то совсем рядом пробился мерный шум двигателя, где именно, определить было нельзя: звуки вязли в плотной вате тумана. Вскоре, однако, со стороны Варшавы «прокмонулся» громоздкий угловатый силуэт грузового «мерседеса» с двумя жиденькими каплями-фарами и морковно-алыми габаритами. Гул из тумана нарастал, и вскоре машина, ехавшая на предельно малой скорости, выплыла из молочного марева почти целиком.
Две семерки на русском номере говорили о московской прописке «мерса». За рулем двадцатичетырехтонной фуры с броской надписью «Совтрансавто» по тенту — типичный водила-дальнобойщик. Видно, большая нужда вынудила его взяться за баранку в столь опасных условиях…
Впрочем, в кабине рядом с ним сидели еще двое. Один — высокий, плечистый, с мощной бычьей шеей, выдававшей в нем бывшего спортсмена-тяжелоатлета, — все время угрюмо молчал. Зато второй — вертлявый, с выщербленными зубами и густыми фиолетовыми татуировками на руках — был неестественно весел. Сидя с краю, у правой двери, он то и дело улыбался, припоминая что-то приятное, щурился взглядом то вперед, пытаясь что-то разглядеть в парном молоке тумана, то на соседа.
— Хвост, а Хвост, — наконец-то подал он голос, подтолкнув набыченного атлета локтем в бок. — А сколько ты той лярве в Варшаве палок кинул?
Атлет насупился. Он явно не был расположен к разговору.
— А чмара-то твоя, полька, Божена, кажется, маленькая, что пацанчик, — не унимался щербатый. — Вот, помню, когда я на «общаке», — несомненно, обладатель татуировок имел в виду ИТУ общего режима, — последний год мотал, к нам пацан один в отряд заехал, из Караганды. Нормальный такой пацан: видак в отряд приволок и телек — после отбоя мы порнуху смотрели. Как новую партию кассет ему привезут — отрядные пидары так и клеются. Мы, бля, от порников в натуре возбудимся, баб ведь нет — так мы на них…
Водила-дальнобой, плюгавенький, в потертой кепке и до голубизны застиранных джинсах, видимо, опасался спутников, но во время столь пикантного монолога не мог сдержать улыбки.
— Нечо лыбиться, ты водила — так на дорогу лучше смотри, а то еще нас угробишь, — деловито прикрикнул на него татуированный и продолжил мечтательно: — Вот бы тех бикс, которых мы в Варшаве драли, да туда, на зону…
Водила, торопливо закурив «беломорину», тут же поперхнулся дымом и, чтобы скрыть свое беспокойство, принялся жевать бумажный мундштук.
— Вот бы их братве на раздербан отдать!.. Слышь, а ты с той польской биксой как?
Тот, кого татуированный пассажир грузового «мерса» назвал Хвостом, не успел ответить: неожиданно из густого тумана вырос темный силуэт в форме, стоявший рядом раскрашенный «полонез» с включенным проблесковым маячком на крыше не оставлял сомнений: это — наряд польской дорожной полиции.
— Чо это, Чирик? — Хвост вопросительно взглянул на татуированного.
— Тьфу, бля, и тут менты поганые, — засокрушался тот. — Только из России свалили — и на тебе… Слышь, водила, как там тебя, — скомандовал Чирик дальнобою. — Тормози давай…
Водитель послушно затормозил — грузовой «мерседес», скрипнув гидравликой, медленно и грузно съехал на обочину.
— Давай ты по-культурному с псами три, — предложил татуированный Чирик атлету, оценив обстановку. — Здешние мусора — не то, что у нас в Москве: по фене не въезжают…
А к кабине уже подходил полицейский. Бронежилет, короткоствольный автомат на шее, бряцающие на поясе наручники — с тех пор, как польские дороги оккупировал русский и чеченский рэкет, подобные меры предосторожности ни для кого не кажутся лишними.
— Дзень добры, паньство, — польский полицейский по-уставному приложил два пальца к козырьку. — Дорожна полицья. Прошен о лигитьмации…
— Это он документы требует, — прокомментировал опытный дальнобой.
— Ну, так дай ему, — Чирик на всякий случай поглубже засунул густо татуированные руки в карманы куртки.
Сперва пан полицьянт ознакомился с паспортами пассажиров. Все было в порядке: контрольная отметка о пересечении границы, служебное приглашение польско-российской фирмы в Белостоке, даже таможенные декларации.
— Дзенкуен, — он вновь приложил два пальца к козырьку, возвращая документы пассажирам и, обернувшись к водителю, выразительно взглянул на него.
Тот засуетился.
— Вот, вот…
Полицейский долго рассматривал техпаспорт, водительское удостоверение, командировку, накладные, сертификаты и прочие сопроводительные документы на груз. Дальнобой вылез из кабины, разминая отекшие от долгого сидения ноги.
— Гу-ма-ни-тар-на-я по-мощь, — прочитал полицейский по складам: видимо, он, закончивший среднюю школу еще при Ярузельском, когда изучение языка старшего брата по соцлагерю было обязательным для всех, еще не разучился читать по-русски. Однако тут же перешел на родной: — Пшепрашем, але цо то есть? — спросил он, стукнув костяшками пальцев по фуре.
— А я почем знаю, — дальнобой передернул плечами, всем своим видом демонстрируя безразличие к рутинной проверке. — Я человек маленький — начальство велело какие-то ящики перегнать — я и гоню.
— Добже, — полицейский недоверчиво поджал губы. — Але хцялбым забачыць…
— Посмотреть то есть? — понял водитель. — Ну, смотрите, смотрите…
Тем временем сопровождающие груз — и атлет, и татуированный — тоже вылезли из кабины. Ни Хвост, ни Чирик не проявляли видимого беспокойства: атлет лениво ковырял в зубах обгрызенной спичкой, а его напарник, закурив, осмотрелся.
Недалеко от полицейского «полонеза» слабо вырисовывался контур еще одной машины — серой «ауди». Оттуда доносилась негромкая польская речь: видимо, всего полицейских было человек пять.
Дальнобой направился в хвост своего «мастодонта», долго возился с задвижкой, а когда открыл дверцы, взору полицейского предстали ровные ряды каких-то картонных ящиков.
— Цо то ест? — спросил поляк.
— Я ж грю — гуманитарная помощь… Чо там внутри — не знаю. В накладной записано — лекарство, еда, витамины, еще что-то…
Глаза полицейского подозрительно сузились. Кивнув в сторону ящиков, он категорически потребовал:
— Прошен о една скрыня.
— Один ящик хотите открыть? — понял водила и тут же неуклюже полез наверх. — Держите…
Хвост и Чирик переглянулись — они явно не ожидали подобного поворота событий. Хвост очень осторожно, не делая резких движений, потянулся к левой подмышке. Послышался тихий щелчок — с таким звуком обычно снимается пистолетный предохранитель.
— Да тихо ты, — одернул его Чирик, — там еще один ихний мусоровоз, я уже осмотрелся… Вишь, звери какие, — кивнул он на короткоствольный автомат, болтавшийся на шее полицейского, — завалят, как пить дать…
Тем временем придирчивый поляк в сопровождении водителя проследовали к «полонезу». Было слышно, как открылась дверь полицейской машины, потом прозвучало несколько встревоженных фраз по-польски, затем наступила тишина.
— Чо делать, чо делать… — забеспокоился атлет. — Нам же Заводной головы поскручивает…
— Ладно, ты с ним пока не три, я сам попытаюсь добазариться. Попробую им на лапу дать, — после некоторого колебания решил татуированный. — Нет таких мусоров, которые стейтовское лавье не любят. А мусор — он и в России, и в Польше мусор…
Тем временем полицейский офицер, производивший проверку документов, вернулся к грузовому «мерсу». Теперь от официальной учтивости не осталось и следа. Решительно взобравшись в кабину, он выдернул ключи из замка зажигания и произнес, кивнув в сторону фуры:
— Ту ест моцны наркотык кислотны. Пшепрашем, але змушаны заарыштаваць панув ды паньски самохуд, — полицейский имел в виду арест и водителя с пассажирами, и автомобиля с грузом кислотного наркотика.
Видимо, Чирик был уже готов к такому повороту событий и потому, напустив на себя беспечный вид, произнес, подходя поближе:
— Да ладно… Какой там наркотик? Гуманитарная помощь — для малых детишек витамины. Пошли перетрем, — хмыкнул он и, вспомнив о том, что он все-таки беседует не с русским, а с польским мусором, перевел: — в смысле — поговорим о деле…
Официальное выражение не сходило с лица полицейского, однако он прекрасно понял, что от него требуется.
— Цо пан хцэ? — сухо спросил офицер — пальцы левой руки уже нетерпеливо теребили висевшие на поясе вороненые наручники.
— Да что хочу… Денег хочу тебе дать, — без обиняков сообщил Чирик. — Зарплата-то, небось, у тебя маленькая… Давай я тебе лав… то есть денег подкину, а ты нас дальше пустишь, а?
Поляк непонятливо заморгал.
— Слышь, водила, полиглот херов, иди, объясни, что я ему лавья хочу сыпануть, — крикнул он драйверу. — Откупиться… Пусть берет и валит отсюда… Ну?..
Побледневший от страха дальнобой, немного знавший польский, перевел, запинаясь.
— Пенендзе? Не, пан, — холодно и высокомерно улыбнулся офицер. — Неестэм корумпованым полицьянтом. Кэды пан хцэ купиць полицью, ходзь до Москвы… до вшыстких дьяблув.
— Слушай, — голос Чирика приобрел заговорщицкие интонации, — я тебе много-много дам… Пятьдесят штук баксов.
Переводчик-водитель, услышав о такой фантастической взятке, замялся, но все-таки перевел.
— Пеньдзесёнт тысенцув дольцев? — казалось, ни один мускул не дрогнул на лице полицейского офицера.
— Не хочешь? Сто штук баксов… Прямо сейчас, а? Большие деньги…
— Не, пан, — офицер уже снял с пояса наручники: видимо, не для того, чтобы застегнуть их на запястьях собеседника, а чтобы поскорей завершить этот неприятный разговор.
— А если сто пятьдесят? — сделал Чирик последнюю попытку, теперь уже менее уверенно.
Поляк оказался на удивление неподкупным — вновь забрав документы у всех троих, он двинулся к полицейскому «полонезу».
— Все, киздец, — Хвост совсем упал духом. — Сейчас ихние мусора налетят, «цацки» на руки — и на «хату»…
— Не налетят, — угрюмо процедил Чирик сквозь зубы и потянулся во внутренний карман за сотовым телефоном.
Полицейский автомобиль стоял недалеко, и до слуха русских то и дело долетали обрывки фраз — обеспокоенные поляки разговаривали по рации с каким-то высоким начальством.
— Что он говорит? — растерянно спросил Хвост у водителя.
— Звонят в Острув-Мазовецки, говорят, что обнаружена большая партия наркотиков, — деревянным от страха голосом ответил тот.
Тем временем Чирик, быстро набрав какой-то номер, приложил черную трубочку с коротким толстым отростком антенны к уху.
— Алло? Да, это я… Слышь, братан, тут такие дела… Похоже, нас польские менты сейчас заметут. Да, груз накрыли… Ага… Скоро? Понял.
Поляки говорили с Острув-Мазовецким долго, минут двадцать — видимо, там никак не могли решить, как поступать в столь нестандартной ситуации. Наконец, к водителю приблизился тот самый офицер — вид у поляка был решителен и суров.
— Прошен паньство… — начал было он, но завершить фразу не успел: неожиданно где-то совсем близко послышалась дробная автоматная очередь, и поляк, раскинув руки, упал к самым ногам водилы.
— Ложись!.. — Чирик, видимо ожидавший такого поворота событий, дернул Хвоста за рукав, увлекая за собой на мокрый асфальт шоссе.
И не зря: спустя несколько секунд мирная тишина утреннего шоссе была безжалостно вспорота сухими автоматными очередями. Стреляли, казалось, отовсюду — теперь в густом тумане вряд ли можно было определить количество нападавших и их вооружение.
Полицейские — и те, что были в «полонезе», и в стоявшем неподалеку сером «ауди», — так и не успели сделать ни единого выстрела в ответ: спустя полминуты со стороны «полонеза» что-то глухо ухнуло, и Хвост, приподнявший голову, увидел, что на месте полицейской машины медленно вырастает огромный ярко-красный гриб, подкрашивая белесый туман нежно-розовым цветом. Крики умирающих заглушали стрельбу, звук осыпающегося стекла, треск металла.
Спустя несколько минут все стихло также быстро, как и началось. Густая белая пелена скрывала по-прежнему неизвестных нападавших. Чирик, осторожно приподнявшись на локте, осмотрелся, прислушался: все было тихо.
Он поднялся на ноги, отряхнулся и легонько тронул ногой лежавшего ничком Хвоста.
— Кажись, все…
Внезапно из тумана возникла какая-то фигура, затем — еще одна, затем — еще… Наверняка так бы выглядели марсианские роботы, прилетевшие на Землю, чтобы поработить ее: огромные пластиковые шлемы со стеклянными пуленепробиваемыми забралами и отростками антенн, бронежилеты, баллоны с каким-то газом, висящие на широких поясах, миниатюрные автоматы на шеях…
Они двигались плавно, совершенно бесшумно и казалось, что люди эти не идут по земле, а медленно плывут в густой молочной пелене.
— Ну, бля… — только и мог выдавить из себя пораженный Чирик; несмотря на то, что теперь его жизни, казалось, ничего не угрожало, руки татуированного тряслись мелкой дрожью.
И тут совсем рядом, над ухом прозвучала фраза по-русски, с характерным московским акающим акцентом:
— Сдрейфили, а?
Чирик обернулся — прямо перед ним стоял невысокий мужчина в строгом костюме: бескровные синие губы, бледное лицо садиста, вкрадчивые кошачьи движения…
— Заводной? Ты?
— Я, я, куда же мне деться, — тот, кого татуированный назвал Заводным, протянул руку для пожатия — не как равный равному, а будто бы делал одолжение. — Так, потом обо всем расскажете… Теперь по-быструхе сматываться надо. Они в Острув-Мазовецкий звонили, тут польских мусоров через полчаса будет немеренно… Ну?!
И хотя времени, судя по фразе бледного, действительно оставалось немного, Чирик нашел в себе силы спросить, осторожно кивнув на ближайший силуэт в пластиковом шлеме:
— Кто это?
— Польский спецназ, специальная антитеррористическая группа, — торопливо объяснил Заводной, поднимая Хвоста. — Потом, потом все базары… Ну, вставай же, вставай… Времени нет.
Внезапно послышался шум двигателя, по звуку — грузовика. Это и был грузовик — темно-синий «вольво» с крытым верхом.
— Так — груз туда перегнать, — Заводной, достав из подмышечной кобуры пистолет, ткнул им в бок дальнобоя. — Чо стоишь?..
Несчастный драйвер от всего пережитого едва не сошел с ума — он был бледен, как смерть, зубы его выбивали крупную дробь, руки тряслись.
— Естем… кировцем… — почему-то по-польски пробормотал он.
— Да и так знаю, что водила ты, а не Лех Валенса, — поморщился бледный. — Давай, помогай… Потом мне свою автобиографию расскажешь…
Спустя пятнадцать минут все было закончено: многочисленные картонные ящики перегружены из фуры в крытый «вольво», трупы полицейских обысканы, конфискованные ими документы забраны.
— А с этим что делать? — Хвост кивнул в сторону водилы-дальнобоя, растерянно стоявшего рядом с открытой дверцей кабины своего «мерса».
— А то не знаешь… Свидетель, — равнодушно кивнул Заводной. — Да и фуру эту на хер сжечь… Наследили, насрали. Следов много.
Хвост потянулся к левой подмышке…
Через минут пять фура пылала. Языки пламени жадно лизали надпись «Совтрансавто», выведенную по всему борту. А рядом с открытой дверцей «мерса», на усыпанном гильзами асфальте, навзничь лежал водила-дальнобой: на лице его застыло недоуменное выражение.
Грузовой темно-синий «вольво» с крытым верхом, взвизгнув тормозами, остановился перед массивными металлическими воротами, подвижная створка которых, приведенная в действие мощным электромотором, отъехала в сторону, и тяжелая машина плавно вкатила во двор.
Во всем Белостоцком воеводстве нельзя было отыскать места более унылого, чем это. Земля без признаков какой-либо растительности, ржавые, помятые кузова КРАЗов, перевернутая темно-зеленая БМП со снятыми колесами и без пулеметной башни, разбитые аккумуляторы, обрывки кабелей — так выглядел внутренний двор.
Лет десять назад тут была советская военная база. После распада Варшавского Договора войска были выведены на Родину, а недвижимое имущество — брошено. И хотя сразу после проводов «оккупантов» власти воеводства предлагали купить то, что осталось от базы, местным бизнесменам по самой бросовой цене, охотников так и не нашлось. Земля, отравленная мазутом, кислотами и ракетным топливом, свалка отслужившей свое боевой техники, развалины ангаров, казарм и боксов, изрытый траншеями и воронками танкодром, отравленный ядохимикатами искусственный пруд — на обустройство такого «хозяйства» потребовались бы многие сотни тысяч злотых.
Место это давно уже считалось недобрым, а в темное время суток — и небезопасным. Даже молодые паны и паненки из ГКСа, польского колхоза, редкие огоньки которого мигали невдалеке, предпочитали обходить стороной бывшую базу братьев по оружию, будто бы тут обитал сам Пан Дьябул; люди же пожилые, все как один — добрые католики, еще хорошо помнившие буйный гарнизон, глядя на развалины, сразу же отводили взгляд на кресты облупленного костела, бормоча привычное: «Матка Боска-Ченстоховска, зьлитуйся над нами, а над москалями як собе хцэш!»
Однако бывшая военная база была обитаема: по крайней мере, теперь.
Темно-синий грузовик «вольво» с крытым верхом, проехав между двумя заржавленными остовами грузовиков, остановился.
Из кабины вылез Заводной.
— Так, сидеть тут, никуда не уходить, — негромко скомандовал он оставшимся в машине Хлысту и Чирику и, взглянув вперед, поморщился: — Никак гости?..
Действительно: рядом с единственным уцелевшим ангаром были припаркованы три легковые автомашины. «Навороченный» шестисотый «мерседес», попсовый «бимер» и скромный белый «полонез»; казалось, последняя тачка попала сюда совершенно случайно.
Тихо выругавшись, Заводной поспешил внутрь строения.
Ангар выглядел огромным. Тут могло бы поместиться, как минимум, штук десять танков. Но теперь он был почти пуст. Скупое электрическое освещение выхватывало из темноты строительный мусор, черные масляные пятна на цементном полу, несколько ржавых железяк у двери.
Посередине стоял стол — обыкновенный, канцелярский, двухтумбовый, наверняка вынесенный из бывшего кабинета какого-нибудь командира. А за столом сидел высокий мужчина — шрам через все лицо, тяжелая челюсть, цепкий взгляд. Позади мужчины возвышалось несколько качков с лицами убийц — высокие шнурованные ботинки и серо-зеленый камуфляж делали их обладателей похожими на наемников из «горячих точек».
В эту минуту, если бы тут, в ангаре стоял танк Т-90 с заряженным орудием, направленным в лицо Заводного, он обрадовался бы больше.
— Мир твоему дому, — миролюбиво произнес человек со шрамом первым.
— Здравствуй, Макинтош, — тот, кого Заводной назвал Макинтошем, кивнул безмолвному камуфлированному охраннику — тот мгновенно принес гостю стул. Усевшись, Заводной заложил ногу за ногу и, чтобы скрыть выдающее его замешательство волнение, закурил. — Только почему ты в наш дом без приглашения? Где мои люди?
— А мы уже давно добазарились насчет приглашения, — спокойно напомнил Макинтош. — Да ты все оттягивал, оттягивал… Пришлось вот без приглашения, извини уж. А твои люди — рядом, отдыхают в подсобке. Я даже распорядился, чтобы им браслеты не надевали.
Сигарета слабо тлела в нервных тонких пальцах Заводного — он даже забыл о ней.
— Ну, — снисходительно улыбнулся Макинтош. — Что скажешь?
— А что ты хочешь услышать? — Заводной начал медленно приходить в себя.
Дальнейшая беседа была предельно лаконичной — точнее, не беседа, а монолог. Говорил, естественно, Макинтош.
Он, выполняя волю пахана, смотрящего Польши из Москвы, давно следит за успехами Заводного. Он знает, что тайный заводик-лаборатория тут, в Польше, под маленьким поселком Малкиня, успешно гонит очень дешевый синтетический наркотик, уже известный как «русский оргазм». Себестоимость его предельно низкая, окупаемость измеряется в тысячах процентов. Наркотик медленно, но верно завоевывает рынки сбыта, прежде всего необъятные просторы России и других постсоветских республик: это совершенно естественно, потому что порция стоит чуть больше бутылки водки. Но вот доходы скрывать нехорошо: надо уважить воровскую идею, надо отстегнуть на «общак». В Москве трастовые компании платят до девяноста процентов с прибыли, коммерческие банки — до пятидесяти, бизнесмены — до двадцати пяти. Он, Макинтош, пока что хочет по-божески: всего лишь двадцать процентов.
— …что составляет, — в руках Макинтоша появился калькулятор. — Что составляет…
Терпеливо выслушав оппонента, Заводной, стараясь не смотреть на калькулятор, стал выдвигать свои доводы.
Да, «русский оргазм» — это хорошо. Это выгодно. Это принципиально новый наркотик: цепляет куда сильней анаши, крэка, кокаина или «джефа», столь любимого русскими пэтэушниками. Очень возможно, что вскоре «русский оргазм» действительно вытеснит в России традиционный национальный наркотик — водку. Доходы на самом деле могут быть фантастическими — но потом, чуть позже, потому что наркотик еще не завоевал рынка сбыта. Надо бы чуть обождать, дать возможность раскрутиться…
Макинтош деловито защелкал кнопками калькулятора.
— Мы с тобой уже базарили об этом… Когда ты все это затеял, я предложил, ты согласился. Ты сказал, я слышал — чо, не так?.. И пахан тоже…
— Так что же твой Коттон, такой правильный вор, «нэпманский», а с наркотой связался? Ведь таким, как он, по ихним «понятиям» нельзя с иглы греться! — неожиданно для себя выпалил Заводной и тут же осекся, потому что после его слов из-за спины Макинтоша, из темноты, донесся скрипучий, но очень уверенный старческий голос:
— А вот это уже не твое дело, Заводной…
Из чернильного чрева огромного ангара плавно и неотвратимо, как в замедленной киносъемке, выплыло морщинистое стариковское лицо. Сперва наркоделец увидел одни только глаза — страшные, всепроникающие, придавливающие, как каменная глыба. Затем в полосе света показались татуированные руки. Спустя минуту старик уже стоял в узкой, резкой полосе света, рядом со столом.
— Коттон?.. — невольно вырвалось у Заводного.
— Коттон, Коттон, — спокойно ответил старик, щурясь против света. — Что — шибко грамотный, в «понятия» въезжать стал? Ты же никогда рамс от косяка не отличал, даже на хате ИВС не сидел… А законного вора хочешь жизни научить, — голос говорившего звучал сдержанно, даже немного доброжелательно, но Заводной все равно почувствовал себя на удивление неуютно.
— Прости, если что не так… — заюлил он, явно не ожидая встретить тут, в заброшенном ангаре, уважаемого вора в законе.
— Бог простит, — равнодушно ответил тот. — Бог или народный судья. А если хочешь понять, почему я с этим связался… — старик прикусил губу, на мгновение задумался. — Что ж, мы вроде как компаньоны, потому разотру. — Он помолчал, а потом задумчиво, с расстановкой продолжил: — Жизнь теперь резко изменилась, и не тебе об этом судить… Теперь трудно сказать, где косяк[1], а где нет. Кому-то нравится качать наркоту — пусть качают. Это же не с «сейфа мохнатого» жить — не баб на Запад продавать… Не мы ее качаем, а вы. Вы и так будете ее качать, и будете грести лавье. Так что — мимо нас? Иногда цель оправдывает средства, а теперь все чаше и чаще…
Несомненно, старый вор имел явную склонность к «диалектическому» мышлению.
— Но ведь все равно… — бормотал Заводной. — Твое дело, конечно… Но ведь наркота и есть наркота… Барыжничество…
Коттон словно бы не расслышал этой реплики:
— Так барыжничаете вы, а не мы. Главное — с этих огромных прибылей двадцать процентов, как и положено, должны сливаться в общак, — веско резюмировал он. — Вот я-то и контролирую ситуацию… Я — третейский судья, смотрящий, я слежу, чтобы все было правильно, путем… И ничего с этого не имею… Все доходы — только в общак. И сам с общака греюсь…
Теперь Заводной побледнел больше обычного: даже тут, в полутьме, его лицо выглядело словно восковое. Да, деньги на общак придется дать — это было для него совершенно очевидным.
Однако даже тут, в присутствии смотрящего, он попытался съехать с темы:
— А что до контроля? Вон, польский спецназ — наш, по московским меркам и недорого… — говоривший кратко обрисовал недавнее происшествие на шоссе. — Зато круче любой московской бригады!..
Вор взглянул на него с ухмылкой явного превосходства — как, наверное, несколько лет назад, когда был паханом в колымском лагере, смотрел на заехавших туда «бывших спортсменов, а ныне рэкетсменов», возомнивших себя суперменами, а потому пытавшихся тянуть на блатных мазу. Наконец, подумав, снизошел до объяснения:
— Как компаньон компаньону скажу: тут — может быть и круче… А в России?.. Россия — большая, там всех не купишь… Если концы перекроют — что с грузом делать будешь? Самому пригорошнями свою отраву жрать придется… Хотя, ты, видно, не один.
Заводной сглотнул некстати набежавшую слюну — говорить о том, кто стоит за ним, он не смел даже в самых критических случаях.
Впрочем, Коттон прекрасно разбирался в людях и обстоятельствах, а потому понял: если и интересоваться компаньонами и покровителями, то прямо тут и сейчас.
— А кто за тобой? — вкрадчиво спросил он.
Вопрос явно застал собеседника врасплох.
Он стушевался и, поперхнувшись сигаретным дымом, принялся что-то втолковывать о купленном польском спецназе.
— Ну, тут ведь одними наездами не отделаешься, — вставил вор. — Что — лабораторию твою тоже быки из спецназа организовали? Сырье, аппаратуру, документацию, прикрытие… Ботаников этих или химиков, кто там у вас… А?..
— А вот это не ваше дело, — неожиданно резко огрызнулся Заводной, которому весь разговор становился все более и более неприятным.
— Ты чо — вора не уважаешь?.. — неожиданно насупился Макинтош, бывший доселе молчаливым свидетелем словесного поединка; огромный шрам через все лицо набух кровью. — Ты как с паханом базаришь, зяблик? Рога пообламывать? У-у-у, бычь-ё-ё-ё голимое, обшустрились…
После этого деловая беседа возобновилась — и вопрос о тех неизвестных, но, видимо, очень влиятельных людях, что стояли за спиной Заводного, больше не поднимался, теперь наркоделец говорил с гостями много почтительней.
— Ну, так чо делаем? — в руках Макинтоша вновь появился калькулятор. — Значит, щас ты должен слить на общак…
«Торпеда», то есть блатной, состоящий в порученцах у вора в законе (а именно такую роль выполнял при Коттоне Макинтош), деловито, как заправский бухгалтер, щелкал кнопками, сыпал цифрами — Заводной только кивал. Теперь сумма не казалась ему слишком большой.
— Ладно, — поморщился он, — сейчас пацанам позвоню, в машине сидят. Принесут, обождите…
— Ну-ну, — кивнул пахан и, достав «Беломор», смял гильзу старческими пальцами. Макинтош предупредительно поднес зажигалку.
Заводной достал сотовый телефон, набрал номер — через несколько минут в ангаре появился Хвост с небольшим атташе-кейсом в руках.
— Ну, пижон, — ухмыльнулся старый вор, — пацан-то твой в машине сидел, мог и своими ногами дойти позвать его… А ты по «ручнику», а?.. Да и вообще, людей не ценишь: зачем на трассе своих подставил? Зачем столько пшеков вальнул?
— Что поделать, пахан: у богатых — свои привычки, — понимающе вздохнул Макинтош, окидывая вошедшего атлета цепким, внимательным взглядом.
Деньги пересчитали — их было ровно столько, сколько требовалось.
— Кстати говоря, может быть, мы вас и подогреем, — осторожно произнес Коттон, глядя, как ловко Макинтош раскладывает по столу банковские «брикеты» со стодолларовыми купюрами.
— В смысле? — не понял Заводной.
— Наверное, пока тормошить не будем, а, наоборот, вложим в вас лавье: в сырье, людей, производство, прочее, — задумчиво пояснил вор. — Но уже потом, когда раскрутитесь, должны будете сливать не двадцаточку, а много больше.
— А такого уговора у нас не было, — казалось, наркоделец так и не понял, почему в него хотят вложить какие-то деньги.
— Я же говорю: теперь реалии мира очень изменились, — кивнул вор-диалектик. — А потом как-то странно выходит: ведь по идее, мы с самого начала должны были тереть не с тобой, а с твоими хозяевами… А они тебя просто так нам бросили. С нами базлать не хотят, а?..
Наркоделец деликатно промолчал.
— Через месяц встретимся вновь, — деловито подытожил «торпеда». — Думаю, раскрутишься по полной. Перетрем насчет того, что пахан сказал. Не забывай о нас… Мы-то о тебе не забудем.
Мужчины обменялись рукопожатиями — Макинтош, прощаясь с Заводным, отметил про себя, что рука наркодельца какая-то влажная и вялая, словно дохлая рыбина…
Та весна в Варшаве выдалась на удивление теплой. На небе — ни облачка, в воздухе — точно парное молоко разлито, клумбы и лужайки радовали глаз свежими цветами и изумрудной травой.
По историческому центру — Краковскому предместью, левобережной Праге — бродили целые табуны праздных туристов. В основном — немцы, голландцы, бельгийцы. Цокая языками, они то и дело щелкали затворами фотоаппаратов, показывая друг другу наиболее понравившиеся уголки исторического центра города: Колюмну Жигимунта, Бельведерский дворец, памятник Копернику, Барбаканские форты, костел Св. Креста, где похоронено сердце Шопена.
Кофейные ароматы, доносившиеся из маленьких полуподвальчиков-кофеен, невольно манили к себе всех, кто проходил мимо — даже вечно спешащих по своим делам варшавян, не говоря уже о приезжих.
Именно в таком полуподвальчике 8-го мая 1994 года сидел за столиком высокий мужчина в костюме консервативного покроя, галстуке либеральной расцветки и старомодных очках в тонкой золотой оправе. Фасон очков делал их обладателя чем-то неуловимо похожим на генсека Андропова.
Мужчина выглядел задумчивым и сосредоточенным. Не надо было быть большим специалистом в прикладной психологии, чтобы понять причину такого настроения: в руках посетителя кафе шелестела газета «NIE!» — самое скандальное варшавское издание, аналог российского «Московского комсомольца». Главный редактор и фактический хозяин «NIE!», пан Ежи Урбан, не давал пощады никому: ксендзам — католическим священникам, нунцию Папы Римского (и это в католической стране!), депутатам сейма, лидерам парламентской оппозиции, популярным артистам, литераторам и шоуменам — короче, всем, чьи имена были на слуху. Специальная рубрика — «Пан Президент сказал» — посвящалась наиболее скандальным высказываниям самого Леха Валенсы, бывшего электрика Гданьской судоверфи, ставшего волею судеб и профсоюза «Солидарность» главой страны.
На этот раз журналисты не пугали доверчивых читателей ни повальным развратом в среде католического духовенства, ни жуткими выходками «скинов» — польских бритоголовых, ни даже очередными пьяными скандалами с участием президентского сына; почти половина номера была отдана под материалы о русской мафии в Польше.
Злоязычные щелкоперы крыли всех подряд, не взирая на должности и фамилии: «Всеобщая коррумпированность», «Русские бандиты», «Татуированная рука Москвы» — все эти заголовки, не говоря уже о содержании статей, давали понять, что стабильная жизнь в стране, а может быть — и основы государственности Речи Посполитой, теперь зависят не столько от воли паньства, то есть граждан, а исключительно от пришлых уголовников из-за Буга.
В статье, посвященной недавним скандальным событиям на трассе Варшава — Белосток, писалось и о тотальном подкупе должностных лиц, и о позорной импотенции полиции, несомненно купленной, и о том, что деньги налогоплательщиков уходят невесть куда, и о том, что Польша вновь превращается в московскую вотчину — правда, не кремлевскую, а преступного мира.
Мужчина в золотых очках, сделав микроскопический глоток давно остывшего кофе, вновь зашелестел газетой, взглянул на первую полосу: огромный снимок остова сожженной фуры «Совтрансавто» невольно притягивал к себе внимание. В статье сообщалось, что перед своей загадочной гибелью полицейские позвонили в Острув-Мазовецкий, в управу, сообщив о найденном наркотике. Но наркотиков в сожженной фуре обнаружено не было… А сами бандиты как в воздухе растворились — хотя полиция оперативно перекрыла все дороги, никто из русских мафиози так и не был обнаружен.
Посетитель помрачнел. Аккуратно сложив газету, он извлек из кармана сотовый телефон и, на всякий случай оглянувшись по сторонам, набрал какой-то номер.
— Алло… Пригласите, пожалуйста, Алексея Николаевича, — произнес он по-русски. — Что? Кто спрашивает? — мужчина назвал себя.
Видимо, недавний читатель «NIE!» пользовался таким авторитетом, что Алексей Николаевич был приглашен незамедлительно.
— Добрый вечер, — корректно поздоровался звонящий, — Алексей Николаевич, вы газеты читаете? Что? Уже в курсе? Нет, не знаю, а мне-то зачем? Я этим не занимаюсь, это ваши проблемы, — переложив трубку мобильного телефона в другую руку, он метнул быстрый взгляд в сторону зашедших в кафе подростков и, не найдя в их облике ничего подозрительного, продолжил: — Срочно надо встретиться. Когда? Прямо сегодня. Срочно. Я в Варшаве, в своем любимом кафе на Маршалковской. Кофе пью. Ага, на машине… Где? — посмотрев на часы, он произнес веско и внушительно: — Через два часа, где обычно, на Радомском. Успею.
Спрятав телефон и поднявшись, обладатель очков в тонкой золотой оправе расплатился и быстро направился к выходу.
Рядом с кафе стояла черная тридцать первая «Волга» с дипломатическим номером, свидетельствовавшим о ее принадлежности к российскому посольству. Недавний телефонный собеседник Алексея Николаевича сел за руль и, плавно выкатив со стоянки, поехал в сторону Радомского шоссе…
Черная тридцать первая «Волга» с дипломатическим российским номером, съехав на обочину оживленного Радомского шоссе, плавно затормозила. Дверца раскрылась, и из машины вылез уже знакомый нам высокий мужчина в костюме консервативного покроя. Поправив очки, он осмотрелся по сторонам — невдалеке, ближе к молодому придорожному леску, стоял скромный белый «полонез». Черный номерной знак с буквами ВТК говорил о его белостоцкой прописке.
В машине сидели двое. За рулем — высокий мужчина в свитере грубой вязки. Можно было заметить, что лицо его пересекает грубый шрам. Второй — старик с рельефными морщинами — находился рядом. Пассажиры в белой машине о чем-то дружески беседовали, но при появлении владельца дипломатической «Волги» тут же умолкли.
— Здравствуйте вам, — вылезая из машины, приветливо улыбнулся старик.
Похожий на Андропова с оттенком официальной учтивости кивнул:
— Еще раз добрый вечер, Алексей Николаевич…
— А вы опоздали, — осторожно сказал старик.
Прибывший взглянул на часы.
— Звонил я с Маршалковской в семнадцать ноль-десять, договорились через два часа. Теперь девятнадцать ноль-девять. Это ты прибыл раньше, а я не опаздываю никогда. Ну, может быть, прогуляемся?
Недавний пассажир «полонеза» согласился:
— А почему бы и нет? Свежий воздух, природа оживает, птички поют… Музыка, так сказать, и забесплатно, к тому же.
И собеседники неторопливо пошли в глубь редкого леска. В вечереющем небе носились ласточки, и казалось, их острые крылья чертят на глубокой синеве едва различимые линии. Лесок благоухал расцветающей сосной, и первые комары наполняли воздух едва уловимым звоном. На недалеком лугу паслись сытые крестьянские бычки — пасторальный звон их колокольчиков изредка долетал до шоссе. В такие минуты кажется: в этом вечно возрождающемся мире нет ни зла, ни зависти, ни даже смерти; только такие идиллические картинки. Пройдет еще пять, десять, сто лет — и точно также маленькие одуванчики будут поворачивать растрепанные солнечные головки к дневному светилу, точно также будут жужжать пчелы, а майские жуки будут прятаться в свежей листве кленов и цветуших акаций…
Но это только казалось.
Некоторое время спутники шли молча, глядя себе под ноги. Первым нарушил молчание обладатель очков в старомодной золотой оправе — он, как всегда, был осторожен и потому вопрос прозвучал обтекаемо-привычный, на который и ответа-то не требуется:
— Как дела, Алексей Николаевич?
— Да ничего дела, вашими молитвами, — вздохнул тот и внезапно для собеседника произнес как бы не к месту: — Извините, но я как-то больше привык, когда меня называют просто Коттон.
— Никаких кличек, никаких псевдонимов, — улыбнулся мужчина в очках с золотой оправой. — К тому же, я совершенно не настаиваю, чтобы вы называли меня Прокурором.
— Слово-то какое нехорошее, — согласно кивнул вор; это был именно он.
— Ну, от сумы да от тюрьмы…
— Ваше дело у других суму отнимать да в тюрьму сажать, — хмыкнул пахан.
— Ну, вы явно преувеличиваете мои возможности. Я не сажаю и не отнимаю. Я…
Внезапно старик перебил говорившего:
— Ну, понимаю, понимаю, я ведь не какой-то там фраер позорный… Я — смотрящий от братвы, от преступного мира, вы — смотрящий от извечного нашего врага, государства… У каждого из нас свои понятия, свое погоняло, — конечно же, пахан имел в виду клички «Коттон» и «Прокурор», — только задачи диаметрально противоположные.
— Но теперь они совпали самым парадоксальным образом, — тонко улыбнулся тот, кого старый вор назвал Прокурором. — Так, ближе к делу.
Старик изобразил на лице внимание.
— Ага…
— Я как посмотрю — большим скандалом пахнет, — Прокурор развернул давешнюю, читанную в кафе газету… «Русский оргазм» — как там ситуация?
Вор был краток.
Подробно рассказав о последней встрече с Заводным, о событиях на шоссе Варшава — Белосток, он высказал все свои соображения о Заводном, акцентируя внимание на том, что так и не выяснил, кто может стоять и за ним, и за всем производством нового наркотика.
— Смотрю, в Польше ты всего год, а уже так всем владеешь, — удивился собеседник.
— Муг-ум, — хмыкнул Коттон, но тут же осекся и тяжело, как только он умел это делать, взглянул на собеседника — тот выдержал взгляд, — я этим занимаюсь не по своей воле. Я только контролирую ситуацию — вы меня тут поставили, я забираю лавье… Якобы в общак. Что-то туда идет, а что-то и не туда… Я-то догадываюсь, для чего я вам тут нужен, — старик говорил медленно и ровно, будто бы обращался не к Прокурору, а к самому себе. — Но, если честно, мне это противно и гнусно. Я все время чувствую себя законченным негодяем. И не потому, что с вами связался — я ведь не сука, не на мусоров работаю; не было бы вас, не было бы вообще этого дела, братва бы ни цента не получила. — Заслуженный уркаган закурил — глаза его сузились, как у человека, вспоминающего что-то неприятное. — Тогда, когда начались эти рамсы с Атасом, ты меня выручил… А теперь вот не слазишь. И кинуть тебя невозможно. Ты просто используешь мой авторитет, мои связи среди пацанов, — удивительно, но в беседе с Прокурором пахан почти не употреблял уголовную феню и не потому, что собеседник не знал ее — видимо, просто из невольного уважения.
Мужчина в золотых очках согласно закивал.
— Да, конечно же использую… И не скрываю этого. Ты ведь сам только что сказал — забесплатно только птички поют. В жизни ничего просто так не делается. Тогда, в девяносто втором году я тебя выручил — теперь, пока не отработаешь… Короче — нечего говорить, ты сам все прекрасно понимаешь.
Старик выслушал собеседника молча, ни разу не перебив — глубокая морщина прорезала его лоб. Видимо, он был согласен со всеми пунктами, да и помощь, оказанная ему Прокурором два года назад, оказалась столь весомой, что теперь вор действительно чувствовал себя должником.
— И все-таки… Знаете, какая-то сявка, «шестерка», фуцин позорный, и то мне тычет: как можно наркоту качать! — несомненно, старик вспомнил последний разговор с Заводным. — Да и самому мне это не по нутру — отравой заниматься. Я ведь уже старый — скоро на седьмой десяток пойдет. Пора бы и на покой.
Прокурор взглянул на вора предельно серьезно.
— Уйдешь, уйдешь… Ничего не вечно под луной, даже под польской. Последний раз в дела влезаешь, — говоривший на всякий случай оглянулся по сторонам — вокруг никого не было. — Слушай: очень серьезное дело, наверное, самое серьезное из всех, которыми ты за свою жизнь занимался. Как мы с тобой и договаривались, на днях в Польшу упадет огромная сумма… Налом и без документов. Инвестиционные фонды вроде «МММ», деньги рядовых вкладчиков, трастовые компании и так далее… Плюс — деньги кремлевских чиновников — уже личные. Теперь понятно, почему без документов? Люди, которые дают такие деньги, просто верят на слово, а светиться им крайне невыгодно.
Вор насторожился — это было как раз то, о чем он уже предупреждал Заводного.
— И что я должен делать?
— Проследишь, чтобы все это прокрутили через «русский оргазм» в последний раз, чтобы больше такого, как на трассе, не случилось. Полный, тотальный контроль за Заводным. Потом отдаешь прокрученное, получаешь свой законный процент и валишь куда захочешь… Документы и прочие формальности, как всегда, — за мной. А потом не забывай — в Москве осталась твоя малолетняя племянница Наташа, — напомнив о московской племяннице, Прокурор испытующе взглянул на старика — тот сразу же стал угрюмым и печальным. — Так вот, получишь и ее. Как раз в этом году школу заканчивает. Кстати, Сухой, наследник Атаса, тебя ищет по всей Москве… А ведь вражда с тобой досталась ему по наследству. По сути, я делаю тебе «крышу»!.. Или хочешь вернуться в Москву, на раздербан тем отморозкам? Так они тебя ждут…
И хотя предложение Прокурора относительно «русского оргазма» звучало более чем конкретно, и хотя оно имело для собеседника несомненную практическую выгоду (наконец отойти от дел, а заодно — получить свою племянницу Наташу), пахан насторожился: собеседник явно недоговаривает о Заводном. Почему Прокурор обращается с такой просьбой именно к нему, а не к тем, кто стоит за тем бледным наркодельцом? Боится? Не такой это человек, чтобы вообще кого-то бояться: кремлевский истеблишмент высшей пробы, лицо, приближенное к самым что ни на есть заоблачным структурам, вроде Совета Безопасности, руководству ФСБ, МВД и ГУО Президента… Не знает? Не хочет узнать?
При упоминании о «крыше» на лице вора появилось выражение неприкрытого ехидства.
— А вам кто «крышу» ставит?.. — удивительно, но Коттон, несомненный криминальный авторитет, даже в подобных щекотливых вопросах обращался к собеседнику на «вы», несмотря на то, что и был лет на пятнадцать старше. — Или у вас нет своих «кровельщиков»?
Выслушав подколку насчет «крыши», Прокурор ушел от ответа — умно и изворотливо, как это умел делать только он:
— А вот этого ты никогда не поймешь, хотя ответ на поверхности… Ну, так что?..
Коттон колебался долго — наверняка он бы ответил отказом, если бы не упоминание о любимой племяннице Наташе.
— Согласен, — угрюмо произнес он. — Но ты сам сказал: в последний раз, последнее дело. Все, ты сказал, я слышал…
Сделав круг по редколесью, они вновь вышли к шоссе — правда, не к своим машинам, а метрах в ста от них. Макинтош по-прежнему сидел в салоне — вне сомнения, он внимательно следил и за паханом, и за его высокопоставленным загадочным собеседником.
Они уже попрощались, уже пожали друг другу руки. Но в самый последний момент пахан спросил осторожно:
— Послушай… А вот этот человек, Лютый…
— A-а, Максим Нечаев? — перебил Прокурор так, словно бы и ожидал этого вопроса.
— Да, Максим…
— Зачем он тебе? Скучаешь?
— Не то, чтобы скучаю… Просто во всей той истории с Атасом он оказался одним из немногих порядочных людей. А ты его так подставил. Чо — на хозяина пашет, на лагерных шконках вшей собой кормит?
— Подогреть хочешь? — понимающая улыбка заиграла на лице собеседника.
Вор был серьезен:
— Да, грев[2] бы ему не помешал. Так ведь он бывший комитетчик, наверное, на «красную» зону заехал, для бывших мусоров, судей и прокуроров. Есть такая под Нижним Тагилом. И почему вы его так подставили? — в этом вопросе звучало явственно: а уж не подставите ли вы и меня так же, уважаемый Прокурор?
— Ну, насчет «красной» зоны ты угадал лишь частично. А о Лютом ты еще услышишь, — миролюбиво ответил собеседник, пряча усмешку. — И может так статься, что и пожалеешь, что вообще вспомнил о нем. Ну, всего хорошего…
Глава первая
Окраинные варшавские микрорайоны почти не отличаются от московских: те же блочные многоэтажки, те же супермаркеты со стандартным среднеевропейским набором товаров, те же вечно спешащие домохозяйки, те же озабоченные молодые мамы, прогуливающие детей. И по весне грязны эти окраины так же, как какие-нибудь московские Медведково или Бутово: кучи догнивающего мусора, порванные картонные коробки, пустые пластиковые бутылки, жестяные баночки из-под пива, слежавшиеся прошлогодние листья…
В квартире, расположенной именно в таком, до боли знакомом, окраинном районе польской столицы, 11 мая 1994 года происходила нехитрая, но весьма загадочная беседа.
Разговаривали двое.
Первый — небольшого роста, но жилистый, с массивными округлыми плечами, в очень дорогом, но несколько безвкусном костюме, с аляповатым перстнем на толстом волосатом пальце, украшенным брюликом чуть поменьше булыжника, — сидел лицом к окну, и лица его не было видно; словно бы он боялся быть узнанным случайными гостями. Наверное, поэтому обладатель перстня с бриллиантом заметно нервничал: курил, стряхивая пепел не в пепельницу, а на стол, ерзал на месте, не в силах задержать взгляд на чем-то одном, поминутно водил глазами по стенам, столу, письменному прибору на столе; при этом он почему-то тщательно избегал смотреть собеседнику в глаза.
Зато второй — невысокий, худощавый, с зачесанными назад русыми волосами, в скромном, но элегантном костюме-тройке — ничего и никого не боялся, чувствуя себя хозяином не только квартиры, но и положения. Он смотрел на собеседника с неподдельным интересом, и во взгляде его угадывалась целая гамма чувств, из которых, пожалуй, преобладало любопытство, смешанное с брезгливостью: так непосвященный впервые рассматривает на столе паталогоанатома препарированный труп.
Квартира, очевидно, была казенной, нежилой: хромоногие стулья, цветы на подоконниках, засохшие от нерегулярной поливки, густая паутина в углах, колыхавшаяся на скозняке. Да и запах тут стоял, будто бы в присутственном месте: пахло пылью, нафталином, лежалыми бумагами, проникшей за оконные рамы влагой…
— Ну что — пан не передумал? — по-русски, однако с явственным польским акцентом спросил мужчина в тройке.
— Да чо там, уже сто раз терли на этот счет… Не, не передумал, — хрипловатым, но твердым голосом ответил собеседник — судя по первым словам это, вне сомнения, был русский, и к тому же, принадлежавший к весьма специфическим кругам. — Хорош рамсы гонять, решили — делаем.
— Убедительно прошу пана не употреблять речевых фольклорных оборотов ваших московских коллег, — с едва заметной усмешкой произнес поляк мягко, внимательно следя, как огромный бриллиант на перстне собеседника отбрасывает в самые темные уголки комнаты веселые солнечные зайчики. — А потом не забывайте, что все-таки перед вами — сотрудник Службы Бясьпеки…
Польская СБ, Служба Безопасности, аналогичная российской ФСБ, занимала эту квартиру, используемую исключительно для консперативных встреч. Как правило, в распоряжении СБ была не одна квартира, а целая лестничная площадка — квартиры три-четыре. Потайные переходы из одной в другую (классически, как в шпионских фильмах, замаскированные под платяные шкафы и книжные стеллажи), а главное — техническая оснащенность соседних помещений подсматривающей, подслушивающей и записывающей электроникой и давала хозяину возможность ощущать себя столь вольготно.
Несомненно, и эта беседа не была исключением: не много надо времени, чтобы подготовиться к такой встрече — отладить скрытые портативные видеокамеры, отрегулировать звукозаписывающие устройства, установить сканеры — специальные приспособления, позволяющие обнаружить подобные устройства у гостя…
— Значит — завтра? — деловито уточнил хозяин и, взяв со столика перекидной календарь, небрежно пролистал странички.
— Да, пан Анжей, — после просьбы не «базлать по фене» гость чувствовал себя немного неуютно.
— А теперь еще раз уточним, что мы с этого будем иметь. Скажу честно, — положив календарь на место, поляк пружинисто поднялся и, пройдясь по комнате, механическим жестом пригладил волосы. — Пенендзе, то есть деньги, — тут же поправился он и, уж совсем снизойдя к гостю, неожиданно продолжил синонимический ряд, продемонстрировав при этом незаурядно знание диалекта собеседника, — то есть лавье или, как там у татуированных панов говорят, — филки, идут вам. Кстати, сумма огромная, бесследно исчезнуть не может, а потому советую как можно быстрей переправить деньги подальше от России. Деньги уже в пути и завтра прибудут в Белосток. Получатель — совместная российско-польская фирма «Таир». Техническая сторона операции и ее осуществление — на мне. Конечно, стрельба в Белостоке не сделает нам чести, но взять деньги по дороге не получится. Ничего страшного — найдем виновных. Затем: заводом и лабораторией в Малкиня пану придется пожертвовать, потому что без этого мотивация наших совместных действий становится слишком очевидной — я, как говорят в вашей среде, тем самым подставляю вас. А так — обыкновенное силовое давление или, как вы любите говорить, — наезд… Кто, почему — неизвестно. Зато сможете спросить вашу «крышу», этих татуированных уголовников, почему допустили. Я-то понимаю, что тут, в Польше, вы не можете без них обойтись. Далее, — поляк говорил твердо, как человек, давно знающий, как будут выстраиваться события. — Далее. Куда вы перебазируете производство «русского оргазма» — нас совершенно не волнует. Хоть на Красную площадь, хоть в Кремль — только побыстрей, только подальше от нас. Нам не нужен рассадник наркоты в центре страны: мы не азиатская Россия, пся крэв, а цивилизованное европейское государство. Ну, а лавры ликвидаторов очага промышленного производства наркотиков — нам. Это сильно успокоит общественное мнение, — завершил свои загадочные построения офицер польской СБ.
Русский поддакивал, кивал — очевидно, этот человек занимал в своей весьма специфической среде какое-то очень серьезное место и потому не имел привычки выслушивать собеседника, не перебивая.
Правда, при упоминании о Малкиня он засокрушался, зацокав языком:
— Да, да… Досадно.
Пан Анжей улыбнулся немного надменно, точно старопольский магнат, беседующий в своем дворце с пленным татарским князьком:
— Вы что — не согласны?
— Все верно, придется отдать вашим псам на раздербан, — вздохнул русский. — Только… только… Да хер с ним, мы уже базарили об этом.
— Я об этом помню, — мягко подтвердил поляк. — И не отказываюсь от своих слов. Теперь второй пункт. Этот самый человек со шрамом… Как его там — пан Макинтош? Ту ест назвиско? — почему-то пан Анжей резко перешел с русского на родной язык, однако, взглянув на собеседника, сразу же поправился: — Фамилия?
— Какая назвиска… Кличка у него такая… Как у собаки. Скоро деревянный макинтош получит, — довольно хмыкнул русский, видимо посчитав свою последнюю фразу за тонкую игру слов.
Офицер польской СБ дипломатично улыбнулся и не стал развивать это тему дальше.
— Ну, думаю, все пройдет удачно. Мы ведь оба представляем заинтересованные стороны. — Пан Анжей подошел к бару, открыл его, извлекая початую бутыль дорогого коньяка и два сужающихся кверху бокала — из таких и положено пить этот благородный напиток. Плеснул себе и собеседнику на самое донышко, граммов по тридцать, улыбнулся благодушно: — Ну, пан, давайте за удачу!..
Бокалы сошлись с мелодичным звоном — звук был несильным, но вполне достаточным для того, чтобы оказаться записанным на магнитофоны в соседней квартире…
Спустя минут десять мужчина в дорогом костюме вышел из подъезда девятиэтажки в чрезвычайно скверном расположении духа. То ли он не до конца был доволен результатами переговоров с паном Анжеем, то ли выпивки оказалось недостаточно (скорей — и то, и другое), но зайдя в ближайший супермаркет, он немедленно направился в винно-водочный отдел.
— Водяры бутылку, — буркнул он продавщице, нимало не заботясь о том, что тут, на окраине Варшавы, его своеобразного русского могут и не понять.
Однако продавщица, наверняка обогащенная опытом общения с русскими челноками, сразу же догадалась, что от нее требуется.
— Цо пан хцэ? — дежурно-любезно улыбнулась она, окидывая взглядом стойку позади себя: водки было никак не менее двадцати сортов.
— Самой забористой… Чтоб пробрала, — уточнил свою просьбу русский.
— А, разумям, пан хцэ вудки? «Выборовая» — можа быць?..
Спустя минут двадцать мужчина в дорогом костюме, держа в одной руке бутыль «Выборовой», то есть «Отборной», водки, а в другой — литровый баллон с «колой», курил на скамеечке, бросая в сторону дома, откуда недавно вышел, откровенно неприязненные взгляды.
Тут, на ободранной лавочке у подъезда, с бутылкой в руке, украшенной грубой «гайкой» с бриллиантом стоимостью, как минимум, тридцать тысяч долларов, он смотрелся так же дико и нелепо, как, наверное, смотрелся бы Ватиканский кардинал, пьющий неразведенный спирт где-нибудь в портовой забегаловке Гданьска. А ведь обладатель этого массивного перстня в своем, очень специфическом кругу занимал никак не менее влиятельное положение, чем какой-нибудь кардинал в иерархии католической церкви. Правда, тут опасаться было нечего, никакого риска быть узнанным: откуда на пустынной окраине Варшавы московские знакомые? Можно и расслабиться, можно немного побыть самим собой; никаких фраков и смокингов, никаких понтов, никакого закоса «под культурного», никакого бонтона. А особенно — после напряженного разговора с этим увертливым зализанным офицером польской «конторы».
Водка не пошла: мужчина хотел было бросить ее в мусорку — следом за недопитым баллоном с «колой», но затем, подумав, сунул во внутренний карман и, выйдя на дорогу, принялся ловить такси…
Восточное Белостоцкое воеводство, наверное, одно из самых бедных во всей Польше. И хотя средняя зарплата мужчины тут почти двести долларов, это все равно намного меньше, чем в столице — не говоря уже о приграничных с Германией районах. Тут, в отличие от Варшавы, Гданьска или Лодзи, почти нет ни навороченных тачек, ни дорогих магазинов, ни ультрасовременных коттеджей.
Впрочем, в последнее время и то, и другое, и третье все-таки начало появляться: как правило, показные признаки богатства демонстрировали те, кто занимался торговлей с восточными соседями: Беларусью и Россией.
И крутой коттедж, построенный на самой окраине города, видимо, также принадлежал коммерсантам, успешно раскрутившимся на приграничной торговле.
Огромный, в три этажа, он действительно впечатлял: кирпичные стены, черепичная крыша, тускло поблескивающие в окнах пуленепробиваемые стеклопакеты, металлические ворота с электроприводом, видеокамеры наружного наблюдения, декоративный трехметровый забор с чугунными решетками — все это создавало впечатление солидности и респектабельности. Башенки по углам, стрельчатые окна, стилизованные под крепостные зубцы замысловатыми навершиями делали этот дом похожим на эдакий средневековый замок, нафаршированный современной техникой.
Яркая латунная табличка рядом с калиткой, весело блестевшая в лучах майского солнца, извещала, что тут находится офис совместной польско-российской фирмы «Таир».
Неподалеку от главного входа стоял микроавтобус «форд» с четырьмя русскими охранниками. Рослые, в защитном темно-зеленом камуфляже, в шнурованных ботинках на толстой «тракторной» подошве, они тем не менее выглядели не устрашающе, а скорей — благодушно.
К этому располагало не только ласковое майское солнышко, не только солидность охраняемого объекта, но и общая расслабленная атмосфера: бояться тут, в Белостоке, — некого и нечего. Бандитов в воеводстве, несмотря на близость восточной границы, почти нет, потому что белостоцкая полиция практически не поддалась коррупции. Тут, в маленьком городке, где все друг друга знают, вступать в сомнительные отношения с русскоговорящим рэкетом — себе дороже. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, а уж если тебя выгонят из полиции с «волчьим билетом», то это ляжет вечным позором и на родственников, и на друзей, и даже на будущих детей и внуков.
В микроавтобусе запищал сотовый телефон, и камуфлированные охранники переглянулись.
— Привезли-таки, наверное, — сказал один, глядя на часы. — Что-то быстро…
Он взял телефон, выслушал команду и, равнодушно бросив «да, обязательно, как всегда», обернулся к своим товарищам.
— Минут через пять тут будут.
— Сейчас сгрузить поможем — и до семи вечера свободны, — улыбнулся тот, что сидел за рулем. — В центр поедем, пивка попьем…
Через несколько минут на дороге, ведущей из города, показался ярко-желтый банковский броневичок. Впереди катила полицейская машина с включенным проблесковым маячком, сзади — еще одна. Правда, скромный белый «полонез» с местным, белостоцким номером, аккуратно ехавший немного поодаль эскорта, мог бы внушать некоторые опасения, но ни полицейские, ни водитель банковского броневичка не обращали на него никакого внимания — стало быть, там наверняка ехал кто-то из своих.
Бесшумно раскрылись металлические ворота, и броневичок веселого желтого цвета вкатил во двор фирмы «Таир»; полицейские машины остались снаружи, а белый «полонез» отъехал в сторону и остановился на обочине.
Охранники вразвалочку двинулись к броневичку — помочь разгрузиться.
Впрочем, вчетвером перетащить каких-то десять цинковых ящиков в подвал дома ничего не стоило — с этой задачей они управились минут за пять.
— И чего это с таким конвоем привезли? — один из бойцов, присев у ящика на корточки, прочитал: «Российская Федерация. Посольство в Варшаве. Дипломатическая почта. Не кантовать!»
Ящики, как и положено, были опломбированы, и это почему-то сильно позабавило сотрудника службы охраны.
— Глянь-ка: и пломбы стоят. И что там эти дипломаты прячут — письма от любовниц?..
— Да ладно, давай быстрей в подвал, — заторопил любопытствующего товарищ и выразительно посмотрел на часы. — У нас перерыв, больше чем на бокал пива времени нет.
Спустя минут пятнадцать «форд» с бойцами охраны уже катил по направлению к центру города. «Полонез», проехав следом за ними несколько кварталов, вскоре свернул в сторону загородной трассы.
Сидевший за рулем «форда» успел заметить, что лицо водителя белой машины пересекает большой продольный шрам, но, естественно, не придал этому обстоятельству никакого значения…
Охранники, конечно же, не ошиблись: больше чем на бокал пива времени у них не хватило. Но это далеко не повод для расстройства: по дороге можно свернуть к супермаркету «АВС» и взять с собой хоть ящик (что и было сделано). Впереди — томительная ночь дежурства, привычная скука достаточно долго знающих друг друга мужчин, когда разговоры о бабах, тачках и деньгах уже наскучили, и теперь остается — пиво цедить да в подкидного дурачка играть.
Тем более, что «боевая» задача службы безопасности фирмы выглядела куда скромней, чем можно было бы предположить: вынести мусор, тщательно закрыть все двери, включить сигнализацию, проверить запоры на окнах, позвонить руководству и доложить, что все в порядке, после чего сесть в небольшой комнатке на первом этаже и раздать карты на четверых.
Город хотя и приграничный, но тихий, маленький, серьезных преступлений тут почти не бывает…
Чего же бояться?!
К тому же польская полиция в приграничных городках вроде этого всегда славится своей бдительностью: вон, в безбрежной лазури неба деловито тарахтит небольшой вертолетик, явно полицейский.
Один из охранников, приставив к глазам руку козырьком, чтобы вечернее солнце не било в глаза, смотрел, как полицейская винтокрылая машина медленно приближается к офису фирмы «Таир». Она летела на небольшой высоте — на белом фюзеляже уже различались надпись «ПОЛИС» и герб Белостока. В этом не было ничего необычного и не вызывало подозрений.
— Саш, а Саш, не хрена тут стоять, ворон считать, пора пиво пить, — беспечно бросил ему сослуживец. — Ящик купили, без тебя не осилим…
— Сейчас, — буркнул охранник, продолжая следить за маневрами патрульного вертолета. — Слышь, Васек, а чего они тут, за городом, разлетались?
— А черт их знает, — раздраженно бросил тот, открывая бутыль янтарного напитка. — Может, школьники у какого-то пана машину угнали, девчонок катать, может, сами блядей катают… Ладно, пойдем.
Тот, кого боец назвал Сашей, взял бутылку, поднял голову — теперь полицейский вертолет висел над коттеджем метрах в тридцати. Удивительно, как это он успел так быстро снизиться. Короткие волосы на головах Саши и Васька ерошились, ветер от винтов бил в лица, пронзительный свист лопастей и двигателя заглушал слова…
— К нам, поди…
Охранник отставил бутылку и обернулся — за воротами виднелись крыши только что подъехавших полицейских автомобилей.
— Раз, два, три… — принялся считать обалдевший охранник подкатившие машины, — слышь, Васек, чего это они? Совсем рехнулись? Давай, шефу звони… А вообще, на ментовский наезд похоже.
Безусловно, эта догадка делала честь уму старшего группы охраны: с низко зависшего вертолета упала веревочная лестница, и по ней принялись спускаться какие-то странные люди. Лучи закатного солнца отражались от гладких пластиковых шлемов со стеклянными пуленепробиваемыми забралами и отростками антенн; бронежилеты и баллоны с каким-то газом, висящие на широких поясах, тяжелили спуск; короткоствольные автоматы ритмично болтались на толстых шеях…
Злые инопланетяне из «Звездных войн» — и те выглядели куда более мирно.
И хотя оба охранника наверняка видели подобное впервые, реакция была разной: Сашок так и остался стоять с открытым ртом, а Вася сразу же полез во внутренний карман камуфляжа за сотовым телефоном…
Позвонить он так и не успел: первый из спустившихся привычным жестом вскинул автомат с глушителем — послышался звук, с каким обычно град барабанит по металлическому подоконнику, и оба охранника, обливаясь кровью, свалились на бетонные плиты двора.
А из стоявших у ворот «Таира» машин уже бежали люди — точно такие же шлемы с выпуклыми стеклами-намордниками, точно такие же автоматы…
Сопротивление охраны было подавлено за несколько секунд. Впрочем, никакого сопротивления и не было: третий из бойцов потянулся было к кобуре, но сразу же ткнулся коротко стриженной головой в разложенные на столе карты, а четвертый, поняв, что рыпаться бесполезно, тут же поднял руки.
Вертолетный десант занял позиции во дворе, заодно обесточив сигнализацию, а нападавшие, прибывшие на полицейских машинах, мгновенно ворвались внутрь коттеджа.
Заклацали автоматы, топот тяжелых армейских ботинок наполнил офис. Нападавшие действовали слаженно и профессионально: четверо побежали на второй этаж, трое — на третий, а остальные рассыпались по первому. Старший группы, подойдя к единственному оставшемуся в живых охраннику, жестом потребовал открыть подвал.
— Да… Да… — деморализованный боец охраны полез в карман за ключами, — нате, нате… Все берите, только не убивайте!.. — в его взгляде сквозил животный ужас.
Спустя минут двадцать все было закончено. Десять цинковых ящиков с надписью «Российская Федерация. Посольство в Варшаве. Дипломатическая почта. Не кантовать!» были в считанные минуты загружены в полицейский вертолет. Взревел двигатель, и винтокрылая машина начала медленно подниматься в бирюзовое вечернее небо. Прибывший на автомобилях спецназ не спешил покинуть офис. Когда вертолет уже скрылся из виду, люди в пластиковых шлемах затащили в коттедж канистры с бензином и быстро разлили горючее по всем этажам.
Старший группы достал спички…
Еще десять минут — и все три машины рванулись от «Таира» — внутри современного замка под декоративной черепичной крышей гудело ровное, злое, всепоглощающее пламя…
Над безбрежьем польских равнин, над деревушками Мазовецкого воеводства пылал майский закат. Багровым и мрачным светом озарялись черепичные крыши домиков, верхушки золотистых сосен, однообразно-унылые бетонные столбы вдоль железной дороги. Пожаром горели стекла старинного костела, причудливо подсвечивая витражи, и старенький бритый ксендз, читавший с кафедры проповедь, подслеповато морщился, опуская голову, чтобы солнце не било в глаза.
Величественные аккорды католических хоралов совершенно не проникали внутрь небольшой лаборатории, расположенной на окраине польского местечка Малкиня. Стены были толсты, как в казематах, окна защищены стеклопакетами, а пол со специальным покрытием гасил любой звук. И неудивительно — тут, в центре маленького польского местечка, располагались лаборатория и небольшой заводик по производству принципиально нового наркотика, уже известного за восточной границей как «русский оргазм».
Странное дело, но ни пан ксендз, ни пан начальник местной полиции, ни паны муниципалы, ни всезнающие активисты профсоюза «Солидарность», обосновавшиеся неподалеку, даже не догадывались, что происходит за этими толстыми стенами: все были уверены, что двухэтажный минизаводик производит нечто фармацевтическое — не то аспирин с двусмысленным названием «У-пса», не то противозачаточные средства. Конечно же, такая конспирация стоила дорого, но производимый наркотик стоил еще дороже, не говоря уже о перспективах…
Комната, в плане квадратная, была целиком заставлена спецоборудованием. Суперсовременный компьютер соседствовал с примитивной спиртовкой; архаического вида песочные часы стояли под пультом управления аппарата для сканирования мозга. Множество реторт, реостатов, колб, колбочек, пробирок и спиртовок — все это вызывало в памяти то ли обиталище средневекового алхимика, то ли какую-то жуткую лабораторию при фашистском концлагере.
Впрочем, это и была лаборатория.
Сам же хозяин выглядел не менее диковинно, чем его кабинет: небольшого роста, толстенький, в засаленном свитере, с клочковатой бородой и с блестящей лысиной, в темных круглых очках, он чем-то неуловимо напоминал полусумасшедшего террориста-бомбометателя старых времен.
Подойдя к столу, он наклонился к мерцающему монитору компьютера и, несколько раз щелкнув «мышкой», вызвал какой-то файл. Ровные ряды цифр, некие непонятные формулы и спецсимволы — все это имело смысл лишь для посвященного.
Улыбнувшись ухмылкой сытого людоеда, ученый-химик отошел от компьютерного стола и направился в соседнюю комнату — там находился пульт управления производством. Множество приборов, кнопок, рычагов, два монитора, а самое главное — прозрачная стена, позволяющая наблюдать за процессом изготовления розоватого порошка — наверняка, так будут выглядеть заводы будущего. Ни одного человека, сплошная автоматика, электроника и роботы: человеческие руки не прикасались к продукту от первых этапов производства до расфасовки в маленькие полиэтиленовые пакетики.
Бородатый вновь улыбнулся, мельком взглянул на приборы и, нажав какую-то кнопку, проследовал в свое логово.
Рабочий день кончался, план по производству «русского оргазма», как всегда, был выполнен. Да, что поделаешь: план есть не только при социализме, но и при диком капитализме, особенно, если каждый вложенный доллар приносит не одну сотню прибыли…
Внезапно за окнами послышался шум подъезжающей машины. Захрустел под колесами гравий, автомобильный двигатель, несколько раз чихнув, замолк. Звук тяжелых, грузных шагов прибывших проникал даже сюда, за толстые стены.
Бородатый встрепенулся. Медленно подойдя к окну, осторожно выглянул наружу — перед воротами стояло несколько автомашин с полицейской символикой. За кирпичным забором маячили яйцевидные каски польского спецназа: несомненно, заводик был окружен.
— Во, бля… — выразительно пробормотал хозяин лаборатории; несомненно, это был русский.
Дальнейшие действия химика наверняка бы сделали честь любому профессионалу: достав из-под столика короткоствольный автомат Калашникова, он тут же закрыл все двери (запирались они автоматически, из лаборатории, при помощи пульта) и занял позицию у окна. Затем извлек из кармана сотовый телефон, неспешно, без паники набрал какой-то номер — абонент не отвечал.
— Во, бля… — вновь пробормотал хозяин, передергивая затвор. — Приплыли, значит…
Такую решимость химика можно было понять. В случае его поимки надеяться на снисходительность польской Фемиды не приходилось: местные законы очень суровы к изготовителям наркотиков — вряд ли бородатый, в отличие от бойцов-охранников, не мог рассчитывать на высылку в Россию.
Охрана наркозаводика — шесть человек, — вряд ли представляла для польского спецназа серьезную опасность. И, видимо, поняв это, бойцы решили не подставляться под пули: через несколько минут хозяин лаборатории с ужасом увидел, как все шестеро гуськом спускаются с крыльца с поднятыми руками.
Тем временем один из спецназовцев, взяв в руки мегафон, крикнул из укрытия по-русски, с сильным польским акцентом:
— Дом окружен, предлагаю добровольно сдаться… Сопротивление бессмысленно.
— Хер тебе бессмысленно, — хмыкнул бородатый и, вскинув автомат, толкнул стволом раму — стекло с жалобным звоном разлетелось по лаборатории, и гулкая автоматная очередь прошила вечернюю тишину…
Сопротивление и впрямь было бессмысленно: бородатый отчаянно отстреливался лишь потому, что ничего другого ему не оставалось. Хватило его ровно на шестьдесят шесть патронов — именно столько бывает в двух магазинах «Калашникова». Стрельба из окна не причинила нападавшим большого вреда: все они находились за укрытием, и лишь несколько человек получили легкие царапины.
Ну, а дальнейшие события происходили по давно отработанной схеме: сперва в окно полетели гранаты с оглушающе-ослепляюшим эффектом, а затем под автоматный треск, сквозь огонь и дым в лабораторию ворвался спецназ.
Удар — и бородатый, отлетев на насколько метров, упал на столик; задребезжало стекло, и колбы, пробирки и реостаты с небесным звоном посыпались на пол. Затем на хозяина лаборатории обрушился еще один страшный удар, затем — еще… Спустя несколько минут лицо химика представляло собой один большой багрово-синюшный кровоподтек.
— Стоп, стоп, — неожиданно послышалась команда по-русски. — Не мудохайте так, а то ваще на хер завалите… Он еще нужен.
Бойцы спецназа резко обернулись — в дверной проем в сопровождении командира вошел невысокий, очень жилистый мужчина лет двадцати семи; неправдоподобно огромный бриллиант перстня на его пальце преломлял закатный свет в тысячи блестящих искр. Удивительно, но суровый, звероподобный командир спецназа Службы Безопасности держался с вошедшим русским на редкость уважительно — чтобы не сказать подобострастно.
— Цо?.. Цо?.. — не понял один из экзекуторов, а жертва, с трудом подняв на вошедшего глаза, пробормотала что-то удивленное; видимо, он хорошо знал обладателя печатки с брюликом. Теперь во взоре завлабораторией засветилась надежда близкого спасения.
Командир, подойдя к подчиненному, сказал ему несколько слов, после этого спецназовцы, включая начальника, покинули помещение.
Ждали они недолго: спустя минут десять странный русский вышел из лаборатории, засовывая в боковой карман пиджака нечто, напоминающее дискетницу — специальный ящичек для хранения компьютерных флоппи-дисков.
Командир кинулся в помещение — бородатый лежал на полу ничком, из его рта под голову натекала тонкая струйка крови; теперь, в сумерках, она казалась совершенно черной, похожей на кофейную гущу. Химик не двигался и не дышал; мертвые глаза стеклянными пуговицами страшно таращились куда-то в сторону.
Системный блок компьютера был раскрыт — видимо, из него были изъяты какие-то части.
А непонятный русский, подойдя к командиру, произнес на редкость самоуверенно и развязно:
— Слышь, мне пан Анжей говорил, что вы меня до Варшавы подбросите… Давай, пан Войцех — у меня через шесть часов самолет в Швейцарию…
Приблизительно в то самое время, когда спецназ польской Службы Безопасности штурмовал заводик в Малкиня, на низеньком бетонном парапете рядом с популярным белостоцким супермаркетом «АВС» сидел мужчина несколько устрашающей наружности. Огромный шрам через все лицо, квадратная челюсть, тяжелый взгляд из-под бровей — наверняка все это невольно вызывало у проходивших мимо неприятные ощущения. А уж если бы польские граждане видели, какие крутые татуировки нанесены на тело этого человека, если бы знали, по каким статьям был в свое время осужден обладатель шрама, то и вовсе бы обходили его за версту.
Впрочем, Макинтош — а это был именно он, порученец вора в законе Коттона, — теперь не думал ни о прошлых судах, ни о «командировках», ни даже о пахане Коттоне, известном также как Алексей Николаевич Найденко.
«Торпеда» просто наслаждался тишиной майского вечера, теплым ветерком, темным пивом, смотрел на покосившиеся деревянные домики напротив и щурился на закатное небо. Улыбка блуждала на его лице, и от этой улыбки шрам причудливо изгибался.
Неожиданно откуда-то сбоку послышались шаги — Макинтош не придал этому никакого значения. Мало ли, кто тут может ошиваться — польские алкоголики, русские «челноки» или просто влюбленная парочка?
Шаги приближались — коттоновский порученец, лениво отставив бутылку, обернулся: к нему подошел некто незнакомый и, судя по походке, очень нетрезвый. Он что-то бормотал по-русски и, казалось, даже не замечал человека, пьющего пиво на парапете. А когда уперся в него взглядом, сразу глупо заулыбался:
— Братан, дай пивка хлебануть… Холо-о-од-ненькое небось…
Подошедший — несомненно, русский — был вдымину пьян. Рваные лохмотья в каких-то вонючих потеках, трехдневная щетина, стойкий запах немытого тела… Наверняка какой-нибудь батрак из-за Буга, работающий на стройке или в свинарнике у пана: тут таких немало.
Такому запомоенному чертиле не то чтобы глоток пива — пинка западло давать.
— Эй, ты, свалил отсюда быстро, — недовольно поморщился Макинтош и вновь лениво потянулся к бутылке.
Но незнакомец не внял доброму совету, еще на шаг приблизился, состроил на грязной физиономии нечто вроде обиды и прохрипел:
— Чо — жаба душит? Братан, всего один глоточек, трубы горят…
Запах перегара ударил Макинтошу в ноздри, и он невольно отпрянул — по всему было видно, что он не привык, когда с ним разговаривают подобным тоном.
— Слышь, козлина, вали на хрен отсюда, — ласково посоветовал он алкашу.
Однако тот совершенно неожиданно ответил:
— Да чо ты, я к тебе, как к братану, а ты мне глоток пива жалеешь… — странно, что человек, принявший «на грудь» так много, нашел в себе силы передвигаться — впрочем, не без помощи стеночки.
Макинтош несколько отодвинулся назад, видимо боясь, что этот урод своими грязными ручищами испачкает его белоснежную сорочку.
— Свали на хер, зяблик, пока цел, — по-блатному душевно предупредил он, пристально взглянув на алкаша.
В этот момент их взгляды встретились: неожиданно Макинтош поймал себя на мысли, что приблудный зяблик совсем не пьян; на него смотрел совершенно трезвый, осмысленный взгляд.
Последнее, что видел «торпеда» — тускло блеснувшее длинное, острое жало. Шило, оцарапав ребро, пронзило сердце — на белоснежной сорочке жертвы медленно расплывалось багрово-красное пятно…
Недавний бомж быстро стянул с себя рванину, под которой оказался спортивный костюм. Небрежно бросив ее на мертвое тело, киллер, осторожно оглянувшись по сторонам, быстро отошел от трупа.
Спустя несколько секунд неприметный «фиат польский» быстро отъехал от супермаркета «АВС»…
Глава вторая
Жидкий электрический свет колыхался в бокале с коньяком, стоявшем на столе, отражался на тусклой полировке антикварной мебели, причудливо преломлялся в хрустале люстры, утопал в текинском ковре благородной темно-бронзовой окраски. Ковер был огромен — чтобы не сказать необъятен. Он, словно поле зрелой пшеницы, раскинулся во весь кабинет. Шелковистый, мягкий ворс ласкал ступню — человек, проходивший по нему босиком, наверняка вспоминал ощущения, которые возникают при переходе вброд небольшой речки. Впечатляли и гобелены — пастухи и пастушки, нежные пасторальные идиллии восемнадцатого века, тонкая ручная работа эпохи Людовика XVI, рядом с ними драгоценный текинский ковер смотрелся грубым половиком. Свободная от гобеленов стена была обшита мореным дубом, и это удачно сочеталось с вычурным баром в стиле ампир. Банкетки, кресла, диван — все было обтянуто тончайшей алой кожей с золотым тиснением; на стене висели три картины, изображающие морские пейзажи — одна Айвазовского и две Констебля, несомненно, подлинники.
Правда, компьютер с огромным монитором, со змеящимися по ковру переплетениями проводов несколько не вписывался в общий стиль кабинета. Еще менее гармонировал со всем этим показушным великолепием человек, сидевший за компьютером. Невысокий, но довольно жилистый, с округлыми плечами, с круглой красной физиономией и чуть выпученными глазами, делавшими его немного похожим на вареного рака, с аляповатым бриллиантовым перстнем на волосатом сосисочном пальце, он в подобном интерьере мог бы претендовать на роль лакея, максимум — дворецкого…
На самом деле это был хозяин.
Сидевший за компьютером достал из ящика дискетницу, открыл ее и, взяв первый попавшийся флоппи-диск сунул его в дисковод. Посмотрел на разложенную под клавиатурой бумажку, вызвал базу данных — спустя несколько секунд на мониторе зарябило от формул, цифр и каких-то значков. Мужчина долго и безуспешно пытался вникнуть в суть, наконец ему это наскучило, и он, выключив компьютер, залпом допил стоявший на столе коньяк.
Конечно же, оставив в покое компьютер, хозяин кабинета поступил совершенно справедливо, потому как вряд ли мог понять даже самую простейшую химическую формулу. Незаконченное среднее образование, судимость, срок, а затем — весьма специфическая, далекая от законопослушания деятельность вряд ли располагают к научным познаниям, даже если пытаешься заработать на них деньги. Он-то и на компьютере до сих пор работал со шпаргалкой: не в силах был запомнить, какую кнопку и когда нажимать.
Хозяина звали Иван Сергеевич Сухарев, но и в Москве, и далеко за ее пределами человека этого гораздо чаще упоминали под кличкой Сухой; одни — с подобострастным уважением, другие — с подсознательным трепетом, третьи — с откровенной ненавистью.
В современной России, где гнусность, нищета и пороки множатся с каждым днем, где путь из грязи в князи зачастую еще короче, чем до тюрьмы и сумы, редко рождаются владельцами таких шикарных апартаментов. И Сухой, естественно, не был исключением…
Еще несколько лет назад он, только что «откинувшись», то есть отмотав срок, растерянно стоял за воротами главной проходной ИТУ общего режима, решительно не зная, куда ему податься и чем заняться. Работать он не умел да и не желал, зато так хотелось иметь всего много-много и немедленно. Пачка стодолларовых купюр, шикарная припопсованная тачка с тонированными стеклами, трехкомнатная квартира да свора красивых блядей, похотливых и глупых — на большее его воображения не хватало.
Ведь есть же люди, у которых всего этого в избытке… Так чем же он хуже их?
С такими мыслями Сухарев вернулся домой, в Москву. Так уж получилось, что вскоре он сошелся с Валерой Атласовым, другом детства; жили когда-то в Сокольниках, в соседних дворах. Жизненные ориентиры Атаса (именно на такое погоняло[3] отзывался Атласов), кстати говоря, бывшего спортсмена, в то время мало чем рознились от сухаревских, а если и отличались, то только масштабами: не одна тачка, а две, а лучше — три или пять, не пачка вечнозеленых банкнот, а — портфель, а еще лучше целый ящик, не трехкомнатная квартира, а пятикомнатная… И так далее.
В конце восьмидесятых Москва и москвичи успешно осваивали законы новых для них, рыночных отношений: слова «бизнесмен» и «кооператор» еще не приобрели отрицательной окраски.
Атас (а вместе с ним и Сухой) быстро уловили веяния времени, которые сводились к следующему: если деньги не хочется зарабатывать, их можно и должно отнимать у тех, у кого их много.
Валерий Атласов, в недавнем прошлом мастер спорта международного класса по боксу, был вынужден уйти с ринга из-за травмы. Спортсмен, обладавший недюжинными организаторскими способностями, вскоре сколотил небольшую, но очень мобильную бригаду: под ее знамена рекрутировались каратисты, боксеры, борцы, биатлонисты, штангисты — люди, не отягощенные интеллектом, не владеющие какими-либо иными навыками, кроме умения бить морды, но, тем не менее, желавшие получить максимум жизненных удовольствий и как можно скорее. (Кстати говоря, большинство московских бандитских группировок, названия которых нынче у всех на слуху, начиналось именно так: дворовая шпана, друзья по «качалке»-подвалу, армейские товарищи…)
Бригада бывшего боксера быстро отвоевала свое место под солнцем в преступном мире столицы СССР: сперва делала «крышу» наперсточникам, пасла валютчиков, лотошников и мелких торгашей на рыночках у станций метро — так создавался стартовый капитал. Вскоре к Атасу, в одночасье ставшему крутым авторитетом, начали стекаться и ранее судимые, мелкие приблатненные, и просто косящие под блатных, и бывшие сотрудники силовых ведомств, привнесшие в дело нешуточный профессионализм. Вновь созданная криминальная структура вскоре превратилась в одну из самых влиятельных в столице. Валера и его бригада потеснили и «чичиков» — так обычно называют в криминальном мире чеченцев, и знаменитые бандформирования из многочисленных подмосковных пригородов, ореховые и солнечные названия которых внушали столичным жителям суеверный трепет.
За короткое время небольшая бригада Атаса превратилась в стройную, отлично организованную группировку со своими штатными экономистами, разведчиками, контрразведчиками, экспертами, сверхмощным «силовым аппаратом» — «быками» и стоявшими во главе их «звеньевыми». Щупальцы вездесущего Валеры тянулись везде: к банкам, фирмам, биржам, милиции, судам и прокуратуре, а по слухам — и к высокопоставленным государственным чиновникам, и к депутатам Государственной Думы…
Естественно, Сухой, стоявший у истоков организации, быстро продвинулся по иерархической лестнице: в девяносто втором году он был первым заместителем, правой рукой Атласова.
Атас, считавший себя кем-то вроде абсолютного монарха, всегда занимался стратегией, общим планированием и практически никогда — черновыми вопросами: «стрелками», «наездами», «терками» и прочим; неограниченный властелин был выше этого. Он сбросил всю повседневную работу на Сухого, и последний в этом явно преуспел.
Несомненный лидер бригады, «бывший спортсмен, а ныне рэкетсмен» Атласов, равно как и другие авторитеты молодого поколения, совершенно не придерживался пресловутых традиционных «понятий» русской уголовщины, выработанных едва ли не во времена Беломорканала и сталинского ГУЛАГа, и во всех спорных вопросах упрямо гнул свою линию. Правда, в связи с принципиальным изменением обстановки в обществе, в криминальном мире на подобные вещи теперь смотрели проще, чем всего несколько лет назад.
Но далеко не все…
Уважаемый вор в законе Алексей Николаевич Найденко, он же Коттон, относился к классическому, босяцкому или нэпманскому поколению российских уголовников. Понятия и все связанное с ними он блюл свято. В лагере под Магаданом, где Коттон был смотрящим, он мотал десяточку аж с 1982 года, от звонка до звонка. Естественно, новый расклад сил в столице не мог понравиться откидывающемуся с зоны пахану, который в этой ситуации наверняка бы почувствовал себя первоходом; но не за решку — решетку, не за колючку, а на волю…
И начал наводить свои порядки. Это был очень авторитетный и влиятельный урка: за его спиной стоял воровской общак, поддержка подавляющего большинства татуированных коллег и, что главное — корпоративная солидарность и сплоченность блатных.
Но и это было еще не все. Так уж получилось, что интересы Валеры-Атаса и его бригады и интересы Коттона должны были непременно перехлестнуться. И дело не только в деньгах или разделе сфер влияния.
Во-первых, в разное время от рук киллеров, купленных Сухаревым на деньги Атаса, погибло два уважаемых вора в законе — больших друзей Алексея Найденко. Во-вторых, Атас, классический беспредельщик и отморозок, невзирая на предупреждения, внагляк обложил «данью» несколько крупных столичных фирм, сильно подогревавших воровской общак. Ну, а в-третьих — и это главное! — невиданное усиление в криминальном мире какой-нибудь одной фигуры неминуемо приводило к общему дисбалансу, к полной перестановке фигур на шахматной доске преступного мира…
До Валеры-Атаса то и дело доходили тревожные слухи: Коттон на своей солнечной Колыме очень недоволен им, Коттон по приезде в Москву обещал разобраться, положить конец беспределу и навести в столице порядок.
Так оно и случилось.
Найденко, выйдя на свободу, решил положить конец бесчинствам, прямо заявив: «Пока я на Москве, беспредела не будет». Но беспредел, тем не менее, множился — так, спустя несколько дней после своего появления в столице вор выяснил, что его единственную и горячо любимую племянницу, пятнадцатилетнюю Наташу пыталось изнасиловать какое-то атасовское бычье — среди них был и Сухой… Тогда Наташе просто повезло — случайный прохожий Максим Нечаев спас ее от надругательств. (Кстати говоря, этому человеку, более известному как Лютый, по иронии судьбы несколько позже предстояло сыграть решающую роль в судьбе Атласова — впрочем, не только его).
Но это было позже, много позже…
А тогда Атас решил принять вызов, и он знал, что делал.
В 1991 году для борьбы с оргпреступностью в России была создана совершенно новая, сверхсекретная структура — так называемый «13 отдел». Это подразделение не подчинялась никому, кроме некоего загадочного человека из заоблачных кремлевских сфер — никто не называл его иначе, как Прокурор. Современные меченосцы, не видя иной возможности борьбы, уничтожали лидеров преступного мира физически: полномочия были даны воистину безграничные, а на такие мелочи, как презумпция невиновности, внимания не обращалось совершенно. Высокий профессионализм сотрудников «13 отдела», в недавнем прошлом — офицеров ГРУ, КГБ, МВД и многочисленных спецназов, не оставлял лидерам организованных преступных группировок никаких шансов. Бывший полковник 2-го Главупра КГБ (контрразведка) Владимир Николаевич Борисов, поставленный во главе подразделения, был непоколебим: с бандитским беспределом следует бороться его же методами, то есть черным террором.
По Москве, да и не только по Москве, прокатилась серия громких убийств…
Правда, подбор кадров в «13 отдел» был довольно странным: сюда приглашали лишь тех, на кого у руководства был серьезный компромат. Это давало редкую возможность тонко манипулировать людьми, что при общей щекотливости ситуации вокруг секретной структуры (антиконституционная практика и отсутствие информации) выглядело естественным.
Естественно, однако, было и другое: на самого руководителя, Владимира Николаевича Борисова, тоже был компромат, и так уж получилось, что он попал в руки Атаса.
Атласов быстро просчитал единственно верный путь. Шантажируя бывшего полковника КГБ, он добился, казалось, невозможного: совсекретная, законспирированная структура, созданная для черного террора против оргпреступности, незаметно превратилась в бригаду одного из ее лидеров; физически уничтожая воров в законе и авторитетов, она, казалось, выполняла свою прямую функцию, но на самом деле — устраняла конкурентов Атаса.
Таким образом, приняв вызов Коттона, Атас стравил его с секретной спецслужбой…
Борьба была упорной, кровавой; она тянулась несколько месяцев с переменным успехом; чаша весов перевешивала то на одну, то на другую сторону. В ходе противостояния погиб большой друг Коттона, «лаврушник» (то есть кавказский вор) Реваз Сухумский, несколько жуликов и «торпед» окружения самого Найденко, была похищена и лишь чудом уцелела племянница Наташа (ее вновь спас Нечаев). И, удивительно, Коттон вышел из этого кровопролития победителем: Атаса застрелил киллер в самом центре Москвы, «13 отдел», как структуру подзаконную и антиконституционную, тихо расформировали после того, как информация о нем просочилась в Думу и газеты, а полковник Борисов пал жертвой «несчастного случая». К этому приложили руку и Прокурор — тот самый высокий кремлевский чиновник из Совета Безопасности, и бывший офицер «13 отдела» Максим Александрович Нечаев-Лютый — тот самый случайный спаситель Наташи Найденко.
Как бы то ни было, но после всех передряг во главе огромной мафиозной империи покойного Атласова встал Сухой, что было вполне естественно. Этот человек, прошедший нелегкий путь от рядового «гоп-стопника» до крутейшего криминального авторитета, резко изменил всю политику. Атас, по натуре буйвол, умел лишь топтать, бодать, крушить — может быть, несколько лет назад, когда никем не занятые территории только-только осваивались, это было оправдано. Теперь же, когда вся Москва (да что Москва — вся Россия!) была строго поделена между группировками, когда нерушимость границ сфер влияния блюлась свято, надо было изыскивать новые пути. И они находились, эти пути: все больше и больше лидеров организованной преступности входило в русло легального бизнеса, все больше и больше авторитетов стремилось к показной респектабельности.
Как-то в поле зрения Сухого попал мелкий уголовник со странной кличкой Заводной. Наведя справки, авторитет быстро понял, что этот человек перспективный: он раскопал какого-то полусумасшедшего химика, который синтезировал очень сильный и дешевый наркотик, и теперь организовывал мини-производство розоватого порошка, уже известного как «русский оргазм». Разумеется, для серьезного широкомасштабного разворота у Заводного не было денег — зато у Сухого они водились в избытке. Посоветовавшись с экспертами, специалистами по наркорынку, с финансистами, специалистами по «отмывке» денег, Сухарев решил вложить небольшие деньги в производство розоватого порошка и выждать — что из этого получится.
Результаты превзошли все ожидания — «русский оргазм» завоевал рынок молниеносно. Чистый доход даже от суррогатного, неочищенного «оргазма» превышал пятьсот процентов…
Тогда Сухой решил рискнуть и сыграть по-крупному. Он вложил огромные даже по своим понятиям филки[4] в опыты, технологические разработки, оборудование, походя купил несколько других химиков, ранее работавших в закрытом оборонном НИИ, заодно подписав под себя и самого Заводного, после чего организовал первый пробный заводик в недалекой Польше: ставить производство в России было делом рискованным.
Но тут выяснилось: заниматься такими вещами в Польше не менее опасно, и дело даже не в строгости польских законов и не в патологической ненависти местной полиции к русским бандитам. Дело в том, что смотрящим Польши воровской сходняк поставил никого иного, как заклятого врага его покойного босса Атаса — того самого вора в законе Коттона. А ведь вражду с Найденко (а в его лице — и со всеми нэпманскими ворами, со всем традиционным криминалитетом) новый авторитет получил как бы в наследство… И так уж вышло, что и заводик, и лаборатория сразу же оказались на чужой территории. Качать права на Польшу, утверждая, что это исконные земли бригады Сухого, новый авторитет, при всех своих амбициях, не мог: во-первых — вновь глобальная война, а во-вторых, как справедливо заметил Коттон при беседе с Заводным в ангаре заброшенной воинской части, у новоиспеченного наркодельца могли бы возникнуть серьезные проблемы с пересечением границы, транспортировкой и сбытом. Короче говоря, Найденко и его люди, узнав о производстве, тут же переподписали Заводного (бывшего теперь никем иным, как подставным лицом) под себя, хотя и подозревали, что за ним кто-то стоит. Сухой замешкался — ситуация складывалась явно не в его пользу.
Но тут или Бог, или дьявол сказочно помогли Сухареву: стало известно, что какие-то очень авторитетные люди (то ли кремлевский истеблишмент, то ли криминальный, то ли и те, и другие) по каким-то неизвестным каналам перевели в Польшу сто миллионов долларов наличными, желая через Коттона-Сухого вложить эти деньги в производство «русского оргазма» и с выгодой их провернуть.
Это-то и побудило Сухарева на совершенно нестандартные действия. Но боялся, риск был велик… Впрочем, вроде бы все закончилось благополучно.
Закончилось ли?
Хозяин роскошных апартаментов, с трудом подавив в себе позыв к зевоте, вновь потянулся к компьютеру, но в это самое время запищал телефон внутренней связи.
— Алло, Ваня, к тебе этот хмырь… Заводной, кажись, — прозвучало из динамика.
— И что?
— Хочет видеть.
— Пусть войдет, — невозмутимо откликнулся авторитет, он уже знал, что не сегодня-завтра шестерка объявится на Москве.
Заводной не заставил себя долго ждать. Он появился спустя минут пять — в белом костюме с искрой, с дорогой сигарой в зубах, изображая из себя крутого босса сицилийской мафии. Он явно упивался своей новой ролью.
— А-а-а, привет, — довольно развязно приветствовал он хозяина кабинета.
— Здравствуй, — даже не обернувшись, буркнул Сухарев. — Как долетел?
— Ничего себе… — шестерка стоял у края ковра, не зная, как отнесется хозяин, если он пройдется по нему в обуви.
Это обстоятельство не укрылось от внимания Сухого.
— Ну, что стал? Стесняешься? Гостям всегда рад… Проходи, — с нарочитым радушием предложил авторитет.
Обладатель мафиозного прикида несмело шагнул к столу, утопая в ковре по щиколотку.
— Здравствуй еще раз…
Мужчины обменялись рукопожатиями — хозяин сразу же отметил про себя, что рука у гостя была вялой, холодной и потной.
— Присаживайся… — несколько надменно предложил Сухой, небрежно придвигая подошедшему миниатюрную банкетку на витых ножках; он наверняка знал, что сидя на ней, гость будет чувствовать себя неуютно, потому как она была куда ниже кресла хозяина — это не могло не льстить хозяйскому самолюбию. — Ну, что у тебя нового?
— Да ты чо!..Разве не знаешь, какие в Польше дела? — шестерка, не утопая в прелюдиях, сразу же перешел к делу. — Завод наш в Малкиня раздербанили, все прахом… У охраны, бычья голимого, очко взыгрануло, польские мусора наехали, те — копыта кверху… Один мой химик, ботаник хренов отстреливался, — казалось, при упоминании о случившемся первоначальная робость покинула Заводного.
Удивительно, но эта информация не произвела на хозяина должного эффекта.
— Ну, что поделаешь, Заводной, — немного помолчав, вздохнул он и продолжил философски: — Жизнь — девка продажная. Сегодня тебе во все дыры дает, завтра откажет… Ничего страшного, никому еще без потерь прожить не удавалось.
Заводной раскрыл рот.
— Ваня, там же на сотни тысяч баксов дури было… Я уже об оборудовании не говорю.
— Наживем, наживем, — нарочито беспечно поморщился авторитет. — Никогда нельзя жалеть о том, что можно купить за деньги… А купить можно все и всех. Ну, что там у тебя еще?
— Так ведь… Как эту дурь теперь делать… Технологический процесс, — щегольнул шестерка ученым словом, — только тот ученый-химик знал… А польские мусора его завалили и компьютер уничтожили. Со всей информацией.
— Успокойся — купим другого химика, — небрежно бросил Сухой подходя к бару. Он долго, несколько минут стоял перед ним, рассматривая, чем бы угостить гостя. Наконец его взгляд остановился на початой бутылке с водкой.
— Да ведь лавье какое вложено! — заблеял шестерка. — Формулы, цифры, расчеты…
— А я и сам знаю, как эту дурь делать, — неожиданно прервал поток его слов хозяин.
— Откуда?
— В химический институт на заочное поступил, — неуклюже пошутил тот. — Не ссы, новых заводов понаставим… Ну, еще что?
— А про Белосток — в курсах?
— А-а-а, как пшецкие мусора офис «Таира» раздербанили? — лениво откликнулся Сухой; казалось, удивить его чем-либо было невозможно.
— Ну да…
— И что с того?
— Что ты об этом думаешь?
— А ничего не думаю, — Сухарев был само безразличие. — Раздербанили, значит, раздербанили. Значит, это кому-то было нужно. Не наш, не жалко. Ладно, не зацикливайся на пустяках… Давай лучше выпьем за твой приезд, — рука с огромным перстнем потянулась к початой бутылке.
— Давай, — гость окончательно упал духом.
Спустя несколько минут живительная влага была разлита по стопочкам.
— Ну, что, Заводной, — авторитет с усмешкой смотрел на шестерку, изо всех сил гнущего пальцы под пахана, — за успех…
Тот не понял.
— За успех чего? Какой успех?
— Ну, был завод в Польше — была проблема… Нет завода — нет проблемы. Чтобы у нас с тобой поменьше проблем было, — прокомментировал хозяин на редкость замысловато. — Понял?
Мужчины чокнулись, выпили, хотя один из них явно ничего не понял.
— Так что — съезжаем с темы?
— Я этого не говорил, — немного подумав, ответил Сухой. — Тема остается та же… Заводы будут, и не один, а много. Только там, куда грязные грабли Коттона не дотянутся. Не в Польше. Тут, в России. — Он вновь выдержал паузу и прошептал на выдохе: — На контроль хотели поставить? Кроить от нас? Чтобы мы свое кровное лавье в их сраный общак сливали? Ни хера, не прохиляет! На хитрую жопу всегда есть болт с левой нарезкой, — последние фразы относились не столько к собеседнику, сколько к ненавистному Найденко.
При упоминании о заслуженном воре Заводной болезненно поморщился.
— Я тер с ним в Польше… Нагрянул нежданно-негаданно. Даже филки пришлось отдать. Ты ж сам сказал, чтобы…
— И что? — перебил авторитет.
— Говорил, что под наш проект в Польшу должны огромную сумму налом слить… На днях.
— Ну, вот видишь, как хорошо вышло, — Сухой вновь подлил водки себе и гостю. — Меньше чужого нала — меньше чужих проблем. — Он немного помолчал, а затем спросил неожиданно: — Слушай, а та малолетка, племянница этой ходячей Третьяковской галереи… Где она теперь?
— Да тут, в Москве… Где ей еще быть? Школу вроде как в этом году заканчивает.
— М-да… — многозначительно причмокнул губами Сухарев и, поправив печатку с брюликом, поднял стопочку: — Ну, давай, что ли…
После того как выпили по второй, Заводной взял в руки бутыль с водкой и, критически рассмотрев этикетку, прочитал по складам:
— Вуд-ка «Вы-бо-ро-ва»… Польская, что ли? А откуда это у тебя?
Подобное спиртное продается только в Польше; возить паршивую польскую водяру в Россию так же глупо, как ездить в Тулу со своим самоваром или в Мюнхен, где производят БМВ, — на «Запорожце».
— Да так… — Сухой замялся. — Давно в моем баре стояла… И забыл о ней вовсе.
От внимания гостя, конечно же, не укрылся, штампик даты розлива — если верить ему, водка была разлита всего неделю назад.
Заводной хотел было что-то сказать, но, столкнувшись с тяжелым, недобрым взглядом хозяина, тут же замолчал…
За окнами вагона «Варшава — Москва» набухала ночь — тяжелая, беспросветная, пахнущая сыростью, креозотом и прелой листвой.
Купе вагона СВ было освещено лишь на четверть: единственный пассажир, весьма пожилой мужчина, не любил яркого света. И не только потому, что у него были явные нелады со здоровьем, подорванным несколько лет назад в БУРе. Дело в том, что на зоне под Магаданом ему часто приходилось засыпать при сильном электрическом свете; тут, на воле, яркий свет по-прежнему раздражал его — резал глаза, навевая недобрые воспоминания о неволе.
Единственным пассажиром купе СВ был не кто иной, как вор в законе Коттон. Сидя у окна, он печально наблюдал, как за стеклом мелькают яркие станционные фонари, небольшие домики с желтыми каплями горящих электрическим светом окон. Поезд приближался к восточной границе.
Пахан мотнул головой, словно бы пытаясь стряхнуть с себя груз былого, словно бы отгонял нехорошие мысли. А таких мыслей — по поводу далекого и не очень далекого — у Алексея Николаевича Найденко было более чем достаточно. Последняя — о смерти Макинтоша. Его убили не потому, что он кому-то мешал. Это был прямой вызов ему, Коттону, это был знак: убирайся из Польши, теперь это место не твое, это место забито. И уж наверняка не надо было быть ясновидцем, чтобы понять кем: теми, кто стоял за той шестеркой, с которой еще несколько дней назад он снизошел до беседы в ангаре. Заводной был классическим Фунтом, он не представлял из себя ничего. Его использовали. Так, по крайней мере, казалось с первого взгляда…
Но тогда как объяснить события в Малкиня? Получается, что наехали не только на него, Коттона, но и на компаньонов (не Заводной же уничтожил все производство!). Стало быть, есть какая-то третья сила…
Кто?
Пока пахан не мог ответить на этот вопрос. Он хотел задать его тому самому человеку, с которым несколько недель назад встречался недалеко от Варшавы, на Радомском шоссе. Несмотря на то, что Прокурор был смотрящим от государства, а он, пахан, смотрящим от преступного мира, цели их вроде бы совпадали — по крайней мере, сейчас.
Правда, разговор с представителем кремлевского истеблишмента обещал быть неприятным: тогда, на Радомском, бывший куратор бывшего «13 отдела» говорил о каких-то огромных деньгах наличкой, которые вроде бы должны были быть переправлены в Польшу. Коттон должен был проследить, чтобы деньги прокрутили через «русский оргазм» — часть шла в общак, на грев братве, часть — по назначению, то есть вкладчикам: владельцам инвестиционных фондов вроде «МММ», хозяевам трастовых компаний и так далее… Плюс — деньги кремлевских чиновников — уже личные.
Выполнить это уже не представлялось возможным: прокручивать было не через что: завода в Малкиня больше не существовало. Наверняка польские менты действовали по чьей-то наводке.
Коттон вздохнул, откинулся на спинку сидения, смежил веки…
Теперь он был меж двух огней. С одной стороны — Прокурор, своих обещаний которому он не выполнил, с другой — воровская сходка, как высший орган традиционного криминалитета. Ему кинут предъяву — какой базар он будет держать в ответ?
А там, на Радомском, Прокурор что-то говорил о его племяннице Наташе — школьница, последний класс, отличница… Единственная радость заслуженного вора на старости лет, единственное утешение…
Такие вот «парадоксы», такие вот гримасы жизни: чем заслуженней уголовник, чем больше преступлений на его совести, тем он сентиментальней.
Коттон достал из кармана фотографию, положил ее перед собой, умильно вздохнул… Трогательное, детское личико, копна темных волос, первые, неумелые опыты с косметикой… Что будет с ней, что будет с ним, что будет с ними всеми?
Неожиданно по коридору зацокали каблучки, и русская проводница, идя через вагон, громко проговорила:
— Станция Кузьня-Бялостоцка. Сейчас будет пограничный контроль, приготовьте ваши документы. Пограничный контроль…
И действительно: минут через десять в дверь купе деликатно постучали. Алексей Николавевич спрятал фотографию племянницы и приготовил паспорт.
— Да, — скрипуче проговорил он, — открыто…
Польский пограничник был корректен, вежлив и сух. Поздоровался, взял паспорт, полистал, взглянул на штемпели пересечения границы и фотографию…
Паспорт был не простым, а дипломатическим — наверняка бдительный пограничник нимало удивился, заметив его в густо татуированных руках…
— Пан ест дыпломатом? — спросил он, недоверчиво глядя на фиолетовые перстни-портаки на пальцах странного пассажира.
— Да. Дипломат в законе, — буркнул вор неприязненно. — А чо — не видно?
Вроде бы все сходилось — и фотография, и печати. А потому поляк, вежливо улыбнувшись, протянул документ владельцу и наверняка подумал о странной кадровой политике российского МИДа.
— Вшисткего найлепшего, пан дыпломат, — иронично пожелал он пассажиру; мол — всего наилучшего.
Вор даже не удостоил его взглядом.
Поезд тормозил. За окном колыхалась густая ночь, кое-где разреженная одинокими огоньками. Глядя на них, Коттон ощущал тоску и безысходность.
Глава третья
В семнадцать лет не ходят, а летают. Весна, молодость, беззаботность; лучится васильковое небо над головой, играют солнечные блики, прозрачный воздух весны кружит голову и немного пьянит, как шампанское. В семнадцать все впервые!.. Хрустальным от счастья голосом заливается птица за открытым окном, и цветет сирень во дворах, и кажется — впереди все также безоблачно и светло, и нет в мире зла, а только цветы и улыбки, и радуга над головой, и так будет всегда, вечно…
Молоденькой девушке с пышной копной светло-каштановых волос, которая стояла теперь на последней в своей жизни школьной линейке, было как раз семнадцать. И все в ее жизни было в первый раз: и аттестат, и школьный бал, на который она собралась сегодня вечером… Была, конечно же, и первая любовь (как же без нее в семнадцать!), но выпускница не чувствовала себя счастливой; скорей, наоборот — самой несчастной на всем белом свете.
Девочку, стоявшую на школьной линейке под лучами майского солнца, звали Наташа Найденко, и не было, наверное, не единого мальчика в ее классе (а также в параллельных), который хоть раз бы в нее не влюбился. Небольшая, хрупкая, большеглазая, с удивительно правильными чертами лица, приветливая, непосредственная в естественном девичьем кокетстве — она вызывала доброжелательное отношение к себе абсолютно у всех: от самых прожженных хулиганов-двоечников, имевших привычку распивать на большой перемене в школьном туалете дешевый портвейн, до директора школы, пожилого и жутко строгого физика, лепившего двойки и колы всем подряд. Сколько записок с признаниями в любви получала Наташа на уроках и после них, сколько мальчиков дрались между собой за право донести ее портфель до дома, сколько их, гиперсексуальных, угреватых и неуклюжих, терзалось по ночам от игры воспаленного воображения!
Но девочка, одаривая всех без исключения стеснительной улыбкой, оставалась такой же ослепительной и недоступной для поклонников.
Так продолжалось все время — вплоть до окончания школы. Школа, где училась Найденко, была специальной, элитной — именно потому и последний звонок, и выпускные экзамены, и вручение аттестатов происходило тут намного раньше, чем в обыкновенных.
— В этот знаменательный, торжественный день… вступаете в новую, взрослую жизнь… идти по жизни с гордо поднятой головой… никогда не забывать то разумное, доброе, вечное, что вы почерпнули тут, в родной школе… — донеслись до ее слуха слова строгого директора, многократно усиленные динамиками.
Наташа вздохнула и, опустив руку в карман, нащупала разодранный конверт. Там лежало письмо, его написал ей тот, единственный и неповторимый, которому, как неподдельно искренне утверждала в разговорах с подругами девочка периода полового созревания, «навечно принадлежали ее душа и сердце».
Звали этого счастливца Максим Нечаев, и было ему тридцать два года. Правда, в отличие от прыщавых подростков — одноклассников Найденко, был он далеко не мальчиком, и к его жизненным вехам вряд ли подходило слово «впервые». Куда больше подошло бы слово «бывший». Бывший контрразведчик бывшего Комитета Государственной Безопасности, бывший наемник в одной из горячих точек на Кавказе, бывший сотрудник так называемого «13 отдела», известный под оперативным псевдонимом Лютый, а ныне — осужденный на пять лет лишения свободы в исправительно-трудовом учреждении строгого режима, он был старше Наташи на целых пятнадцать лет, но это совершенно не мешало нынешней выпускнице школы обожать его со всей пылкостью, на которую была способна девушка в таком возрасте.
И было за что…
Познакомились они при весьма драматических обстоятельствах. Однажды, непогожим октябрьским днем 1992 года, Наташа возвращалась домой от подруги со дня рождения. Там девочка выпила шампанского — чуть-чуть, однако даже этого чуть-чуть оказалось достаточным, чтобы у нее с непривычки закружилась голова. Наташа остановилась, случайно опершись о какую-то машину, — истошно завопила сигнализация, и спустя несколько минут рядом возникли два урода: бритые затылки, кожаные куртки, спортивные штаны и очень специфический жаргон не оставляли сомнений в их профессиональной принадлежности. Естественно, бандиты решили изнасиловать малолетку, и уже почти достигли желаемого, но в самый критический момент, подобно джину из доброй сказки, рядом появился Максим. Проучив негодяев, он запихнул Наташу, дрожавшую от страха, в такси и привез домой. Нечаев, не требовавший ничего, даже благодарности, выглядел в глазах ошарашенного всем происшедшем ребенка (тогда девочке было всего лишь пятнадцать) эдаким Робин Гудом, благородным и бесстрашным рыцарем. И надо же было такому случиться, чтобы пути их скрестились вновь…
В эту пору Наташа даже не догадывалась, кем же на самом деле был ее дядя — а дядя Леша, Алексей Николаевич Найденко как раз и появился в их доме через месяц после столь неприятного события. Отмотав в колымском лагере общего режима, где был смотрящим, две «пятилеточки», законный вор наконец-то вернулся в столицу. Дядя Леша был, наверное, единственным (после мамы) человеком, который не чаял в девочке души, младший родной брат пахана, Вася, погиб в автомобильной катастрофе, когда дочь была еще совсем маленькой, и все заботы принял на себя старший брат Алексей. Мысли о маленькой племяннице согревали зачерствелую душу старого уркагана на этапах, в централах, на зонах и пересылках и, наверное, во многом благодаря этим мыслям Коттон сохранил в себе остатки человечности.
Хотя, именно за эту человечность ему пришлось поплатиться — так уж получилось…
Любимая племянница, конечно же, не могла знать полного расклада криминальной колоды Москвы, и уж тем более — подробностей «рамсов» вроде того, что произошел между ее уважаемым татуированным дядей и отмороженным беспредельщиком Атасом, решившим превратить мир в черствую корку для других и белый хлеб для себя.
«Понятия» старых воров так называемых нэпманских, босяцких, были по-своему очень предусмотрительными и дальновидными. По этим самым понятиям настоящему законному вору нельзя было иметь — кроме собственности, квартиры, машины, дачи, — еще и постоянную семью, нельзя было поддерживать связь с родственниками. Любимая женщина, дети от нее — все это давало возможность шантажировать любого авторитетного человека; шантаж, прессинг, скрытое и явное давление — излюбленный мусорской прием. Люди, которых любишь, о которых беспокоишься, — это всегда болевые точки, а чем больше у человека, противопоставившего себя государству, болевых точек, тем он уязвимей для этого самого государства.
Впрочем, как выяснилось несколько позже, — не только для него.
Когда начались жестокие и кровавые разборки с Атасом, обуревший отморозок быстро и грамотно вычислил единственную болевую точку своего идейного оппонента. Наташа была похищена из больницы, где лежала после операции аппендицита и увезена на подмосковную виллу Валерия Атласова, в Воскресенском. После чего любящий дядя с воровскими татуировками подвергся грубому, неприкрытому шантажу по сотовому телефону: мол, если что не так, мы с твоей малолеткой тако-о-е натворим! Так что слушайся нас.
И вновь ее спас тот самый благородный рыцарь без страха и упрека — Максим…
Да разве в такого можно не влюбиться?!
— …наша школа — особенная, одна из немногих в Москве, где аттестаты вручаются в мае… чтобы вы имели возможность подготовиться к поступлению в институты… многие из вас продолжат образование в высших учебных заведениях… неоднократно вспомнят школу, которая… в наше время, когда все двери открыты перед вами, когда вы, молодые граждане свободной России… только честным и упорным трудом вы должны завоевывать честное имя… — несся из динамиков металл директорского голоса, и девочка, тяжело вздохнув, вновь опустила руку в карман, нащупав заветное письмо.
Конечно же, она читала его раз сто пятьдесят, наверняка уже выучила наизусть, но ведь так хотелось еще раз взглянуть на аккуратно катящиеся буквы, на первые строки: «Здравствуй, дорогая Наташа»!..
Прощальная линейка наконец закончилась. Над микрорайоном поплыли звуки старого шлягера, и динамики, надрываясь, хрипло выплевывали: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе…» Выпускники разбрелись по пыльному школьному плацу, где каждая трещина в асфальте, каждый камешек были до боли знакомы. Мальчики украдкой курили, девочки, достав из сумочек косметику, красились, исподтишка поглядывая на мальчиков. Теперь оставалось самое приятное — застолье в честь получения аттестатов и бал.
Наташа отошла в тень, достала письмо, нетерпеливо раскрыла конверт…
Здравствуй, дорогая Наташенька!
Я по-прежнему очень далеко от Москвы. Я там, где нет городского шума, нет суеты, зато какое великолепие природы! Какие тут сосны, какие закаты, как чист и прозрачен воздух…
Бумага письма была серой, тонкой, ломкой и просвечивающийся — короче говоря, казенной, а на конверте стояли какие-то непонятные буквы, цифры — что поделаешь, если получено это письмо из казенного дома!
Два года назад Нечаев получил срок в «пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовом учреждении строгого режима» — стало быть, оставалось ждать его еще три года. А это — целая вечность!
Из-за чего сидит?
Наташа и сама толком не знала — когда ее возлюбленный был еще не на зоне, а в ожидании суда парился на шконках следственного изолятора, девочка написала ему в Лефортово письмо, в котором призналась в любви; она почему-то вбила себе в голову, что Максима осудили именно из-за нее, за то, что он вызволил ее из пыточной камеры виллы Атласова. Пятнадцатилетняя школьница обещала любить его вечно и ждать хоть сто лет, а когда Максим наконец вернется — выйти за него замуж, прожить еще сто лет и умереть счастливыми в один день.
…свежий воздух, посильный труд, здоровый образ жизни — что еще надо для полного счастья? К тому же дисциплина, жизнь строго по распорядку. Это организовывает, не позволяя расслабляться. И какая разница, что меня ограждает от людей: бетонные коробки моего родного микрорайона или же колючая проволока? Знаешь, мне иногда даже кажется, что проволока и заборы чем-то лучше: сюда не могут проникнуть негодяи… Хотя тут и своих предостаточно. Что поделать: долгое сидение на одном месте невольно способствует занятиям философией…
Конечно же, узник сильно преувеличивал: лишение свободы еще никого не располагало к абстрактному философствованию. Но Наташе казалось: что, как он пишет, так, наверное, и есть на самом деле.
Значит, все будет хорошо — и встретятся они, и поженятся, и будут жить сто лет в любви и счастье, и умрут в один день.
А уж последние строки и вовсе внушали здоровый оптимизм:
Ничего, Наташенька, ты дождешься меня, меня там все дождутся, и я еще вернусь. Мы еще повоюем…
— Наташа, где ты пропадаешь, мы тебя повсюду ищем! — послышалось над самым ее ухом.
Девочка обернулась, судорожно сунула письмо с синим штампиком ИТУ в карман: перед ней стоял высокий, низколобый, прыщеватый одноклассник Игорь, сосед по парте в девятом классе. Впрочем, с сегодняшнего дня — уже бывший одноклассник…
— Что?.. Что?.. — непонятливо заморгала она, нервно заталкивая конверт поглубже в карман.
— Так после бала и гулянки идем по ночной Москве бродить?
— А кто еще идет? — заветное письмецо надежно покоилось на дне кармана.
— Да конечно все! День-то какой… Наверное, в последний раз вместе. Ну?
— Идем, — кивнула девочка с тихой грустью…
И были новые напутственные слова, и поднимались бокалы с шампанским, и был бал, и выпускницы — счастливые, с раскрасневшимися лицами танцевали с неуклюжими одноклассниками, и разлетались платья, шитые не менее чем за полгода, и наверняка каждая воображала себя Наташей Ростовой и Скарлетт одновременно.
А потом, как сложилось с давних времен, — традиционные гуляния по ночному городу, вдоль набережной Москвы-реки.
Выпускников, праздновавших последний звонок, было много, наверное, весь город — ломкие тенорки мальчиков, кокетливые повизгивания девочек, взрывы смеха — такой запомнилась выпускникам Москва в тот памятный день. И никто не заботился о том, что дома — «комендантский час» и что родители будут ругаться, если не придешь домой ночевать. Ведь родители, пусть даже самые строгие, тоже когда-то заканчивали школы, и тоже была в их жизни такая волшебная весна, и тоже цвели сирень и ландыши, и хотелось улыбок, вина, счастья, хотелось ходить по улицам так, чтобы не было у тех улиц тупиков, и хотелось встречать рассвет на Москве-реке…
Чего уж там, какой «комендантский час»: такой праздник бывает только раз в жизни!
А если праздник, если рядом девчонки, которых когда-то дергал за косички, у которых списывал контрольные и по которым вздыхал украдкой, то не грех показать себя настоящим гусаром, чтобы было почти как у взрослых.
Небольшая компания стояла в вечерних сумерках на набережной, рядом с пристанью прогулочных катеров. Девочки живо обсуждали, кто в чем был одет на выпускном балу и какое платье выглядело самым эффектным, а мальчики предавались более серьезному занятию — распитию спиртного и ностальгическим воспоминаниям.
— А ты помнишь, Наташка, — расчувствовавшийся Игорь, бывший сосед по парте, отер губы от шампанского и протянул девушке бутылку, — помнишь, как я у тебя классно сочинение содрал? Мне училка пятерку поставила, а тебе за это же самое — четверку…
— Да ладно, нашел о чем вспоминать, — его сосед, маленький, толстенький, потянулся за бутылкой. — Ты куда поступать надумал?
— А на фиг еще куда-то поступать, — отмахнулся недавний удачливый специалист по списыванию, — учиться? Чему учиться — как бедным быть, да? Или ты всерьез поверила той муре, которую директор нам на уши на линейке вешал? В школе горб поломал — и хватит…
— А я вот в экономический собралась… — мечтательно протянула одна из одноклассниц, любовно глядя на гусарствующего Игоря — он так лихо пил шампанское прямо из горла!
— Ну, бизнесменом станешь, — юноша, почесав угреватый подбородок, пристально вглядывался в ночную тьму, стараясь рассмотреть сквозь легкий туман, стелящийся над Москвой-рекой, очертания противоположного берега, — а толку что? Бизнесмены — не самые крутые люди. Над бизнесменами и поглавней есть.
— А кто, по-твоему, самый крутой? — немного обиделась будущая бизнесменша. — Президент, что ли? Или премьер-министр?
Бывший Наташин сосед по парте вновь потянулся к шампанскому и, достав из кармана сигареты, подчеркнуто небрежно щелкнул зажигалкой. Допив напиток, он швырнул бутыль в воду и наконец-то снизошел до ответа:
— Ха — президент!.. Премьер! Тоже мне, нашла с кем равняться… Бандиты — ясно кто! Вот если бы в какую-нибудь солнцевскую или долгопрудненскую группировку пойти!.. Тачка — обязательно шестисотый «мерс», баксов полные карманы, делать ничего не надо, в друзьях — крутые политики, и все тебя уважают и боятся… — размечтался искушенный в бандитской жизни подросток.
— Ладно, будет у тебя шестисотый «мерс», — успокоил толстенький, — а пока его нет, давайте на катере прокатимся. Кто хочет?
Захотели, естественно, все — и Наташа не была исключением. Игорь, как старший, быстро договорился с владельцем прогулочного катера — тот оказался на редкость сговорчивым.
Юноши и девушки взошли на палубу и расположились с шампанским. Взревел двигатель, послышался шум воды, и прогулочный катерок медленно отчалил от одетого в камень берега.
Ровные ряды электрических фонарей по набережным плыли в ночном тумане. Катер, оставляя позади себя две причудливые световые дорожки, медленно двигался вниз по течению. Ночной воздух отдавал теплой влагой, свежей травой, цветущими садами и немного бензином — запахами самостоятельной жизни. Недавние школьники, стоя на носу, вглядывались вперед — и наверняка многим пришло на ум банальное сравнение: вот так будет и дальше, так будут плыть они по реке жизни, и не будет на этой реке ни штормов, ни преград…
Наташа, держась за поручень, улыбалась мягко и отрешенно — ветер трепал ее густые каштановые волосы. Сейчас ей было как никогда хорошо: не хотелось думать ни о былых неприятностях, ни даже о будущем… Наверняка в этот момент она на секунду забыла и о своем загадочном дяде Леше, и даже о далеком Максиме…
Внезапно где-то сбоку истошно взвыла сирена, и из разреженного тумана показался нос катера с надписью «Речная милиция».
— Эй, вы, там, остановитесь, — послышалось из динамика.
Владелец послушно заглушил машину, и через несколько минут на борт прогулочной посудины поднимались какие-то невзрачные, серенькие типы в штатском — видимо, водные менты.
Один из них двинулся в рубку, а трое других пошли в сторону отдыхающих.
— Извините, что беспокоим вас в ваш праздник, — довольно миролюбиво произнес один, с на редкость незапоминающейся внешностью. — Но только что тут, неподалеку, совершено убийство. Обыкновенная проверка — приготовьте документы.
— А аттестаты — пойдут? — спросил пьяноватый Игорь, гордый сознанием, что он может документально подтвердить свое очень среднее образование.
— Вполне, — кивнул серенький.
Девушки потянулись к сумочкам, юноши — во внутренние карманы пиджаков.
Проверка документов заняла немного времени — старший наряда почему-то задержал свое внимание на Наташе Найденко.
— Извините, но вам придется пройти на наш катер, — произнес он, прищурившись.
— А это почему?
— По описаниям, вы похожи на преступницу… Мы должны кое-что уточнить.
— Какую преступницу, что за бред!.. — Игорь, который уже два года был безнадежно влюблен в Найденко, тут же вышел вперед.
— А вы, молодой человек, успокойтесь. Проверим и отпустим, — насупился мент.
Если бы не юношеская влюбленность прыщавого юноши, если бы не молчаливая, но все-таки поддержка одноклассников и одноклассниц, если бы не шампанское, которое всегда горячит кровь и зовет на подвиги, он бы наверняка не встревал в беседу с этими мусорами. Но теперь, да еще в такую ночь — первую ночь взрослой жизни…
Решительно взяв Найденко за руку, он произнес:
— Никуда она не пойдет.
— Молодой человек, отойдите, а то и вас заберем, — неприметный нехорошо взглянул на внезапно возникшее препятствие.
— Да пошел ты…
А вот это было уже и вовсе зря: второй водный милиционер, быстро достав из кармана наручники, попытался защелкнуть их на запястьях юноши. Тот, отпрянув, изловчился садануть наглого мента по физиономии… Внезапно на помощь Игорю пришел его толстенький товарищ — он, подобно бычку, наклонил голову и боднул ею старшего наряда, и тот, потеряв равновесие, шлепнулся на палубу.
Началась свалка, и тишину ночной Москвы-реки прорезали звонкие девичьи крики. Старший милиционер, с перекошенным от злобы лицом, поднявшись с влажной палубы, сделал незаметный знак глазами третьему, стоявшему в стороне. Тот медленно достал пистолет с глушителем…
Тихий хлопок прозвучал почти неслышно — Игорь потерял равновесие и, несколько секунд пробалансировав на краю борта, свалился в реку — послышался характерный всплеск воды. Второй хлопок — и толстенький подросток отлетел на нос, к перилам; на лбу, как раз между его бровями чернела правильная круглая точка.
Наташу схватили в охапку и грубо потащили на «милицейский» катер. Она не сопротивлялась: девочка была в шоке — точно также, как и другие невольные свидетели этой жуткой сцены…
На стандартной семиметровой кухне окраинной московской квартиры вовсю кипела работа. Хозяйка — пожилая женщина с лицом, изборожденном глубокими резкими морщинами, — пекла торт. Духовка капризничала, коржи пригорали, и это немного выводило кондитера из себя.
— Вот, опять из-за этой плиты дурацкой не успеваю… — шептала она себе под нос, критически осматривая первый корж, светло-коричневого цвета, — Наташенька вернется, придется ждать…
Людмила Борисовна Найденко — а именно она в то утро пекла торт, — как и многие немолодые одинокие женщины, имела обыкновение разговаривать сама с собой. И неудивительно: второй год на пенсии, никого дома нет, единственная дочка, которой после трагической смерти мужа посвятила свою жизнь — то в школе, то во дворе с подругами…
Людмила Борисовна была очень довольна Наташей. Девочка умная, никаких глупостей себе не позволит — несмотря на наше развратное время. Несколько раз, правда, порывалась рассказать о каком-то «человеке, который ей нравится», но потом почему-то не захотела; тактичная мама решила не возобновлять разговора.
Правда, полтора года назад, после приезда с Колымы дяди Леши у Наташи были серьезные неприятности: то ли бандиты украли, то ли маньяк пытался надругаться… Наверняка это было каким-то косвенным образом связано с Алексеем Николаевичем, но Людмила Борисовна не хотела об этом даже думать. В конце концов — все закончилось благополучно, а если бы не Алексей, то они с доченькой наверняка бы ноги протянули: в Москве нынче вон какая дороговизна, прожить решительно невозможно, а девочка-то растет, наряды надо там разные… после школы где-нибудь учиться в конце концов. А все Алексей помогает — дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни.
Размышления Наташиной мамы прервал звонок в дверь. Утерев лоб, хозяйка оставила пригоревший корж и пошла открывать.
— Кто там?
— С телефонной станции.
Людмила Борисовна заглянула в глазок — перед дверью стояли двое. У одного из них был в руках потертый чемоданчик, вроде тех, с которыми ходят монтеры, и это косвенно как бы подтверждало, что неизвестные действительно с телефонной станции.
Она открыла дверь, отступила на шаг.
— Простите, мы никого не вызывали…
— Ваш телефон на блокираторе, соседи жалуются, что долго прозвониться не могут, — извинительно прикладывая руку к груди, произнес обладатель монтерского чемоданчика. — Мы просто проверим — и все. Минут десять, не больше. Где тут у вас аппарат?
Людмила Борисовна, закрыв входную дверь, провела гостей в зал.
— Прошу…
Первый связист взял старенький телефон и зачем-то отключил его, а второй неожиданно зашел Людмиле Борисовне за спину — это показалось подозрительным, и хозяйка инстинктивно обернулась… Но в то же самое мгновение тонкая удавка сдавила ее шею — хозяйка захрипела и, несколько раз дернувшись, обмякла. Все произошло быстро и без лишних движений — наверняка «связистам» уже не раз приходилось посещать квартиры с подобными целями.
— Давай быстро, через пять минут уходим… — глухо произнес убийца, и его напарник деловито раскрыл чемоданчик.
Достал баллончик с бензином для заправки зажигалок, вставил самодельный фитиль, чиркнул спичкой…
— Пошли.
Ни он, ни его напарник, конечно же, не видели, как уже через десять минут во дворе, под горящими окнами набухала встревоженная толпа, как к дому с сиплым пронзительным свистом подъезжали пожарные машины, как пожарники разматывали рукава брандспойтов, как выдвигались лестницы…
К этому времени «монтеры» наверняка были очень далеко.
Глава четвертая
Половину кабинета занимал стол — тяжелый, стильный, красного дерева, затянутый тонким темно-зеленым сукном. На нем — факс, несколько телефонов, правительственная «вертушка» с гербом уже несуществующего СССР на наборном диске, компьютер, принтер, модем, тяжелая бронзовая чернильница, пресс-папье. Остальное пространство — неброская, но дорогая и комфортная мебель, стеллажи с книгами. Но главное — стол; неестественно широкий и длинный, он невольно вызывал в памяти взлетно-посадочную полосу Шереметьева. Такие солидные столы бывают лишь у очень больших кремлевских начальников.
На начальственном месте восседал человек, известный очень узкому кругу высшего политического истеблишмента России, близкого непосредственно к силовым структурам и Совету Безопасности при Президенте РФ, как Прокурор. Имя этого человека вряд ли могло что-нибудь сказать рядовому российскому налогоплательщику, потому что почти никогда не упоминалось в официальной газетной хронике, не звучало с экранов телевизоров. Занимаемая им должность была настолько важной, что даже весьма влиятельный истеблишмент предпочитал ее вслух не называть (а если и произносил, как и само имя, то исключительно в кулуарах и шепотом). Впрочем, и службу, подведомственную Прокурору, также боялись поминать всуе: располагалась она в 14-м корпусе Кремля — там, где еще недавно находилась привилегированная «девятка», 9-е Главупр КГБ, в ноябре 1993 года реорганизованная в Службу Безопасности Президента РФ и переведенная отсюда на Варварку, 5.
К людям вроде Прокурора как нельзя лучше подходит слово «хозяин». И это — не только из-за официальной роскоши и основательности казенного кабинета, не только из-за недосягаемости для простых смертных: весь «экстерьер» самого владельца свидетельствовал о принадлежности к рафинированной начальственной популяции — такие обычно обитают в Кремле, на Варварке, на Лубянке, в Белом Доме…
Высокий, спортивно-стройный, он казался значительно моложе своих лет, — а ведь Прокурору было уже за пятьдесят. На его вытянутом лице, с постоянно поджатыми губами, выделялись старомодные, как у покойного Андропова, очки в тонкой золотой оправе. Безукоризненный костюм консервативного покроя и белоснежная тонкая сорочка были, однако, украшены цветастым галстуком легкомысленной расцветки. Холодные голубые глаза, ироничный пронизывающий взгляд — наверное, даже рентгеновские лучи были ничто в сравнении с ним. Человек с таким взглядом не мог быть ни бизнесменом, ни банкиром, ни университетским профессором, ни знаменитым нейрохирургом. Крупный дипломат, генерал спецслужб, Верховный магистр тайного ордена, короче говоря, хозяин — вот, что приходит на ум.
Это, впрочем, действительно был хозяин — и не только кабинета; хозяин множества человеческих судеб, хозяин самой разнообразной информации, стекавшейся сюда по бесчисленным каналам… Короче говоря, истинный хозяин жизни — только не припопсованный «новый русский», ковыряющий в носу антенной сотового телефона, герой многочисленных анекдотов, а настоящий, патентованный — из тех, что всегда остаются за кулисами. Такие, как Прокурор, обычно искусно манипулируют другими, предпочитая не раскрывать своей истинной роли.
Марионетка на шестисотом «мерседесе», одетая в обязательный малиновый пиджак, с золотой цепью на шее, из кожи вон лезет, изображая из себя крутого. Пусть хоть царя! Это не она из себя корчит — кукловод незаметно дергает за ниточки. И заставляет изображать исключительно то, что ему, стоящему за кулисами, хочется, что выгодно. И чем тоньше его искусство, тем незаметней движение ниточек; и подчас марионетка и не подозревает об их существовании. А таких ниточек в этот кабинет сходилось много, очень много… И не только из промышленных кругов, не только из финансовых и политических, не только из телевизионно-газетных, но и из высших эшелонов российского криминалитета.
Правда, роль кукловода зачастую куда сложней, чем может показаться на первый взгляд. Дергать за ниточки — не развлечение, так как им, видимым и невидимым, несть числа, все они каким-то непостижимым образом переплетены, и зачастую, дернув одну с целью добиться определенного эффекта, получаешь нечто совершенно противоположное.
Так, видимо, случилось и на этот раз; хозяин кабинета то и дело отрывался от бумаг, нервно щурился, курил, небрежно стряхивая сигарету мимо пепельницы — это говорило о высшей степени волнения.
А беспокоиться было из-за чего…
Десять дней назад Прокурор был в Варшаве, где беседовал с Коттоном, смотрящим Польши из России. Он хорошо знал этого человека, он почти целиком доверял своему партнеру, к тому же, Найденко был очень обязан ему, Прокурору, — лично. Криминальному авторитету в этом кукольном спектакле отводилась серьезная роль: он должен был проконтролировать деньги, которые высшие эшелоны политической и экономической элиты России тайно прокручивали с помощью нового наркотика «русский оргазм» — такой, во всяком случае, была версия, которую он преподнес пахану. Естественно, Прокурору в силу его положения было известно гораздо больше, чем Коттону, — он прекрасно знал и человека, стоявшего за производством «русского оргазма», он отлично понимал роль во всей этой истории польских спецслужб. Прокурор знал многое, очень многое — знал, когда и за какую ниточку надо дернуть, знал, какая кукла и в какой момент должна выйти из игры, знал, какие новые куклы должны появиться на сцене…
Но последние события показали, что ниточки перепутались в такой клубок, который было не под силу распутать даже отсюда, из Кремля.
Найденко бесследно исчез, его люди перебиты, а деньги — сто миллионов долларов наличными, безо всяких документов (и какой сумасшедший согласится светиться на наркодолларах?!) исчезли бесследно — впрочем, к этому надо было быть готовым. Более того — это должно было случиться. Теперь обманутые вкладчики, разумеется, встанут на уши, а крайним для них, властей предержащих, будет не Коттон. Что с него возьмешь, с уркагана татуированного?! Крайним сделают Прокурора, «смотрящего из Кремля», как справедливо определил его роль воровской авторитет. А спрашивать будет кому: в нигде не существующем списке лиц, вложивших деньги в производство нового наркотика, числились самые влиятельные люди России — их фамилии ежедневно печатались в официальной хронике правительственных газет, звучали с экранов телевизоров, а некоторые, к слову сказать, даже имели официальный статус «кукол» — в популярном проекте НТВ.
Тут было над чем задуматься…
Поднявшись из-за стола, хозяин кабинета подошел к окну, разминая отекшие от долгого сидения ноги, и приподнял жалюзи: бездонная синева утреннего неба странно соседствовала с буростью кирпича древнего Кремля… Говорят, когда-то эти стены были белыми, только потом потемнели. Наверное, от пролитой тут, в Кремле, крови.
Обладатель золотых очков долго смотрел в какую-то одному ему известную точку пространства, будто бы пытался увидеть там спасительный конец той самой ниточки, которая и могла бы вывести к единственно правильному ответу. Снял очки, рассеянно протер линзы белоснежным носовым платком, повертел в руках…
В это время тишину огромного кабинета нарушил пронзительный телефонный звонок — и хотя аппаратов на аэродромном столе было великое множество, Прокурор безошибочно определил по звуку нужный.
— Алло… Да?.. Что?.. Как пропала?.. Куда пропала?.. — казалась, полученная информация окончательно вывела абонента из колеи. — Два трупа?.. А что милиция?.. Кто-нибудь еще знает?..
Выслушав невидимого подчиненного, Прокурор положил трубку на рычаг и вновь потянулся за сигаретой — наверное, десятой за сегодняшнее утро. Долго прикуривал, силясь унять волнение. Наконец, окутавшись густыми клубами сизоватого дыма, откинулся на высокую кожаную спинку кресла и, смежив веки, задумался…
Информация, полученная им только что, окончательно запутывала клубок. Сегодня ночью при загадочных обстоятельствах была похищена Наталья Найденко — единственный человек, по-настоящему дорогой Коттону.
Подобное уже случалось два года назад. К счастью для пахана, все закончилось благополучно. Но теперь — кто, зачем, для чего?
Обладатель очков в золотой оправе принялся жевать сигаретный фильтр — в этот момент лицо Прокурора выражало крайнюю степень напряжения.
Вне сомнения, очередное похищение малолетней племянницы Алексея Николаевича Найденко имело непосредственное отношение к «русскому оргазму» и, разумеется, к тем ста миллионам долларов наличкой, которые исчезли из белостоцкого офиса российско-польской фирмы «Таир».
Кто ее похитил на этот раз?
Зачем?
Почему?
Впрочем, дело не только в малолетней племяннице: Наташа Найденко — маленькая кукла, которой суждено сыграть в спектакле всего лишь эпизодическую роль.
А глобальных версий подоплеки происшедшего было четыре.
По первой — его, Прокурора, решили искусно подставить. Тот самый кремлевский истеблишмент, который вложил деньги в «русский оргазм»; друзья они, что ли? Временные союзники, а точней — компаньоны… Деньги вкладываются в предприятие, затем в результате силового «решения» изымаются (механизма наезда на «Таир» Прокурор еще не знал) и возвращаются в Москву. Денег якобы нет: пропали, испарились. Крайним делается он, «смотрящий из Кремля» — со всеми вытекающими последствиями.
Поразмыслив, Прокурор отбросил эту версию. Слишком громоздко, слишком много людей замешано в этой истории, а значит — слишком много лишних свидетелей, да и очень щепетильное это дело, чтобы впутывать сюда еще и польские спецслужбы. И малолетняя Наташа тут вроде бы не при чем — зачем ее похищать, какое давление можно оказывать на Коттона? Он-то вообще выпадает из этого пасьянса… К тому же гешефт, чистая прибыль пятьсот долларов на доллар вложенный; играть в такие рискованные игры крайне невыгодно.
Стало быть, компаньоны-вкладчики тут не при чем.
По второй версии, польские спецслужбы решили разыграть свою собственную карту. С первого, поверхностного взгляда, им могло быть выгодно уничтожить завод в Малкиня, тогда они как бы избавляли Польшу от рассадника наркомании и заодно задарма получали кремлевские сто миллионов долларов. Впрочем, при более детальном рассмотрении эта версия тоже не выдерживала критики: в подобном случае операция выходила за рамки разовой силовой акции по борьбе с наркомафией — словно из тумана выплывали контуры глобального международного скандала. Безусловно, руководители польской Службы Бясьпеки были не новичками в международных интригах, чтобы не понять очевидного. Да и Коттон при таком раскладе оказывался картой из совершенно другой колоды. Что — поляки будут творить такой беспредел в столице России?..
По третьей версии, человек, стоявший за производством «русского оргазма» (не какая-то мелочь, «шестерка» Заводной), настоящий глава предприятия, тот, в Москве, надумал пожертвовать малым (экспериментальное производство в Малкиня), чтобы получить большее. Так, хороший шахматист зачастую жертвует в дебюте важной фигурой, чтобы обрести темп. А малолетнюю племянницу похитили, чтобы держать своего давнего врага Коттона на коротком поводке: мол, только рыпнись…
Глядя на черный эбонит телефонного корпуса, Прокурор рассеянно постукивал карандашом по столу: третья версия выглядела весьма правдоподобной. Человек, организовавший проект «Русский оргазм», был достойным противником — жестким, умным, изворотливым и решительным. Но он, ослепленный ста миллионами долларов наличкой, не учел одного: деньги в его проект вложили не рядовые лохи, вроде тех, что подогревали какие-нибудь «МММ» или «Тибет», а кремлевские бонзы — по сути, персонифицированное государство. А иметь в числе своих ненавистников весь госаппарат — такое и врагу не пожелаешь.
Впрочем, оставалась еще одна версия — четвертая и вроде бы (пока) последняя. По этой версии деньги могли оказаться в руках у Коттона. Правда, непонятно, каким образом криминальный авторитет вошел в тесный контакт с варшавской Службой Бясьпеки… Но если дело идет о многомиллионном деле, почему бы и нет? Откроить филки от кремлевских вкладчиков, чтобы слить в общак положенный четвертак (по ихним татуированным понятиям вору только несомненный плюс — «государство развел»), после чего быстро затеряться, подобно унесенной ветром песчинке, в какой-нибудь замечательно нищей латиноамериканской стране с мягким климатом и либеральным иммиграционным законодательством. А чтобы окончательно запутать следы — получив желаемое, нужно имитировать похищение собственной племянницы. Правда, на Коттона это не совсем похоже. Нэпманский вор, в отличие от современных отморозков, сто раз подумает, сто раз взвесит, прежде чем организовать мокруху — убить двух ни в чем неповинных ее одноклассников. Но ведь в самый последний раз…
Почему бы и нет?
А ведь могли быть еще и пятая, и шестая версии…
Вот что бывает, когда «куклы» воображают себя важными персонами — они путают роли, искажают сценарий, начисто игнорируют режиссерский замысел…
Нити окончательно запутывались.
Мозг Прокурора вполне мог бы сравниться с самым современным компьютером — при условии, если бы компьютеру были свойственны изощренные силлогизмы и парадоксы. Хозяин кабинета умел просчитывать на десять, двадцать ходов вперед. Помимо этого, он обладал колоссальной интуицией, которая еще ни разу не подводила его.
Вот и теперь он мгновенно понял: для поиска неожиданно пропавшей куклы надо срочно вывести на сцену другую; он уже знал, какую именно.
Подойдя к столу, Прокурор сел, включил компьютер и, несколько раз щелкнув «мышкой», вызвал нужную ему информацию.
Сперва на мониторе появилась фотография довольно молодого человека — хищно прищуренные глаза, сеть редких морщинок, крупные, волевые черты лица. Хозяин кабинета щелкнул «мышкой» — сканированная фотография пропала, и на ее месте появился ровный ряд строчек:
Код 00189/341 — «В»
Совершенно секретно
Нечаев Максим Александрович, 1962 г. р. русский. Старший лейтенант ФСБ резерва.
Женат с 1985 г., вдов с 1992 г. Супруга — Нечаева (в девичестве — Наровчатова) Марина Андреевна погибла в Подмосковье вместе с сыном Павлом в результате бандитского нападения.
Нечаев М. А. родился в г. Москве.
Отец: Александр Александрович, инженер завода им. Лихачева, скончался в 1991 г.
Мать: Екатерина Матвеевна, урожденная Алейникова, чертежница ВНИИ тяжелого машиностроения, скончалась в 1991 г.
После окончания средней школы № 329 г. Москвы поступил в строительный техникум. Получив специальность водителя большегрузного автомобиля, год работал шофером самосвала в объединении Мосметрострой.
В 1981 г. призван на срочную службу в армию, службу проходил в погранвойсках Северо-Западного погранотряда, Эстонская ССР, г. п. Кунда. В 1982 г. вступил в КПСС. В 1983 г. с блестящими характеристиками командования поступил в Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР. В 1987 г. закончил 1-й контрразведовательный факультет по специальности военная контрразведка.
В 1990 г. вышел из КПСС.
С 1987 по 1990 г. работал оперуполномоченным КГБ в г. Ленинграде, международный аэропорт Пулково. В 1990 предпринял неудачную попытку поступить в аспирантуру Высшей Краснознаменной Школы КГБ СССР, на 1-ю спецкафедру; специализация — контрразведовательная деятельность.
В 1990 г. присвоено очередное звание — старший лейтенант.
В1989 — 1990 гг. — оперуполномоченный оперативно-аналитической службы 2-го Главного Управления КГБ СССР.
В октябре 1990 года уволен из КГБ в запас за проступки, несовместимые с моральным обликом офицера спецслужб.
С января 1991 до сентября 1992 г. по контракту находился в г. Тбилиси, выполняя специальные задания режима Президента Грузинской Республики Звиада Гамсахурдия. После свержения Гамсахурдия перебрался из г. Тбилиси в г. Зугдиди, оттуда — в г. Грозный. В октябре 1992 г. вернулся в Москву.
После этого подвергся прессингу преступной группировки Валерия Атласова (Атаса). С ноября 1992 г. — оперуполномоченный т. н. «13 отдела». После убийства жены и сына перенес тяжелую душевную травму. В составе опергруппы т. н. «13 отдела» участвовал в многочисленных операциях по физической ликвидации лидеров организованной преступности. После ликвидации т. н. «13 отдела», как антиконституционной организации, вошел в тесный контакт с вором в законе Коттоном, он же — Найденко Алексей Николаевич (см. досье). Осужден по статье… УК РФ на пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительно-трудовом учреждении строгого режима.
Характер в основном мягкий, но временами бывает крайне неуравновешен и склонен к жестокости.
Интеллигентен, начитан, умен.
Обладает хорошими организаторскими способностями. Проницателен. Способен мгновенно принимать правильные решения…
Прокурор читал, едва слышно шевеля губами. Иногда снимал с переносицы очки в золотой оправе, протирая их безо всякой нужды — видимо, просто хотел сосредоточиться, хотел еще раз осмыслить прочитанное, и манипуляции с очками помогали ему собраться с мыслями. Дойдя до места, где было указано о «тесном контакте с вором в законе Коттоном, он же — Найденко Алексей Николаевич», хозяин кабинета мягко улыбнулся; так мог улыбнуться лишь человек, хорошо знающий подтекст этой скупой строки. Он еще несколько раз щелкнул «мышкой». Вызывая другой файл, Прокурор успел вспомнить свой последний разговор с вором. Удивительно, но Коттон еще помнил о Лютом и, самое главное, отзывался о нем с уважением…
И вновь фотография — молоденькая девушка, почти девочка, с пышной каштановой копной волос. После очередного щелчка изображение на мониторе исчезло и взору читающего открылась страничка досье:
Характеристика на ученицу 8 «А» класса 777 средней школы г. Москвы Найденко Наталью Васильевну.
Найденко Наталья Васильевна, 1977 г. р. учится в нашей школе с 1 класса. Девочка старательная, трудолюбивая, способная, с твердым характером, учится на «4» и «5». Пользуется авторитетом и уважением одноклассников. Имеет ярко выраженные склонности к гуманитарным предметам, в частности к языкам и литературе.
Требует специфического педагогического подхода, так как легко ранима, что связано с тем, что воспитывалась в неполной семье, отец погиб в автомобильной катастрофе.
Иногда, по отзывам одноклассников, бывает заносчива и высокомерна…
Обладатель золотых очков смотрел на экран напряженно, почти не мигая — он впитывал информацию, как губка впитывает влагу. Теперь взгляд его стал стальным: голубоватый мерцающий свет монитора причудливо отражался в глазах читавшего.
Следующие строки вновь заставили Прокурора улыбнуться — правда, не мягко, как при упоминании о «тесном контакте с вором в законе Коттоном», а иронично.
Найденко Н. В. — единственный человек, к которому вор в законе Коттон относится с любовью и симпатией.
…переписывается с осужденным Нечаевым Максимом Александровичем (см. досье).
Дальше шли сканированные на диск письма, аккуратно пронумерованные: сперва — Лютого к Наташе, от того самого первого, написанного ею в Лефортово, затем — письма Максима к ней.
Здравствуй, дорогая Наташенька!
Я по-прежнему очень далеко от Москвы. Я там, где нет городского шума, нет суеты, зато какое великолепие природы! Какие тут сосны, какие закаты, как чист и прозрачен воздух. Только теперь я оценил, что такое настоящая жизнь: свежий воздух, посильный труд, здоровый образ жизни — что еще надо для полного счастья? Жизнь на так называемой воле хаотична, неупорядочена, непредсказуема. Тут же — полное спокойствие. Перспективы заборов, правильная геометрия вышек с охранниками и колючки. К тому же дисциплина, жизнь строго по распорядку. Это организовывает, не позволяя расслабляться. И какая разница, что меня ограждает от людей: бетонные коробки моего родного микрорайона или же колючая проволока?..
Теперь Прокурор вроде бы успокоился. Движения обрели былую сдержанность и вальяжность, а взгляд, еще недавно заметно беспокойный, вновь стал уверенным и чуточку ироничным.
Интуиция говорила: он на верном пути, все закончится именно так, как и было задумано.
Сняв трубку телефона внутренней связи, мужчина в старомодных золотых очках произнес по-хозяйски сдержанно:
— Через десять минут машину к третьему подъезду…
Лимузин двигался по центру Москвы среди множества автомобилей. День обещал быть жарким — теплый асфальт Китай-города отдавал резиной и горелым бензином, в легкой нежно-голубой дымке проплывали привычные ориентиры центра столицы: кремлевские башни с кроваво-рубиновыми звездами, позолоченные купола древних церквей, назойливые рекламы, призывающие нищих граждан покупать американские джипы и японскую видеотехнику.
Прокурор рассеянно курил, глядя на машины, катившие справа. Хищные джипы, вальяжные «мерсы», поджаро-спортивные «порши»; почему-то дорогих иномарок в центре было больше. В машинах сидели — кто развалившись, кто задрав ногу на колено, кто упершись взглядом в деловые газеты — так называемые «новые русские», это позолоченное быдло, вообразившее себя хозяевами жизни. Кто в офис, кто на деловую встречу, кто на пьянку под модным нынче словом «презентация», кто от стервы-жены к любовнице-фотомодели, кто в модные бутики за тряпьем…
Откуда, из какого зловонного омута постперестроечной России они вынырнули? Где они были еще несколько лет назад? И кем? Комсомольскими секретарями? Поездными ворами? Референтами ЦК КПСС? Содержателями тайных борделей?
Ведь не родились же они прямо в восьмисот пятидесятых «бимерах» и шестисотых «мерседесах», не сидели в чреве матери с сотовыми телефонами в руках, разбрасывая пальцы веером!..
Мысли блуждали далеко, пока не вернулись в главное русло.
Вот тот же Сухой, он же Иван Сергеевич Сухарев, который, как совершенно точно знал Прокурор, и стоял за производством «русского оргазма», наверняка считает, что действует самостоятельно. И шаг, который тот предпринял, был ожидаем: Прокурор просчитал его еще несколько месяцев назад. Но он, Прокурор, немного недооценил Сухого. Этот человек действовал слишком нестандартно и оперативно. Но польские спецслужбы, как и польский спецназ, — это серьезно лишь в Польше. А тут, в России, спецслужбы совсем другие… Впрочем, и спецназ тоже другой.
На базу одного из таких подразделений сейчас как раз и ехал обладатель очков в золотой оправе. Машина с кремлевским номером, быстро миновав центр города, теперь неспешно катила по Ленинскому проспекту. Прокурор взглянул на часы — минут через сорок он должен был быть на месте…
Трехметровый забор серого бетона огораживал комплекс кирпичных зданий административно-казенного вида. Огромные металлические ворота — точно такие же, как на контрольно-пропускных постах воинских частей; впрочем, привычной таблички с надписью «МО РФ, воинская часть №…» видно не было. Несколько видеокамер наружного слежения, пуленепробиваемые стекла КПП — вряд ли все это походило на обыкновенную в/ч.
Створка ворот, приводимая в движение бесшумным электромотором, отъехала в сторону — машина вкатила вовнутрь.
Типовые трехэтажные строения, соединенные между собой переходными коридорами, напоминали одновременно и казармы, и кинематографические декорации. Во дворе сразу бросались в глаза несколько дорогих иномарок.
Прокурор находился на подмосковной базе специального подразделения, известного узкому кругу лиц в МВД и ФСБ под аббревиатурой «КР». Ни одно государство в мире, пусть даже самое раздемократическое, не может существовать без засекреченных спецслужб, созданных для применения как внутри страны, так и за ее пределами. Всем известно про американские ЦРУ и ФБР, но мало кто знает про АНБ, Агентство Национальной Безопасности, структуру, правда, преимущественно не силовую, а аналитическую. Но это там, в пресыщенных и цивилизованных Штатах; тут же, в России, с ее первобытным, пещерным капитализмом еще не до изощренной аналитики. Тут «тридцатые годы» — неизбежный этап жуткой кровавой романтики «крестных отцов», который американцы уже счастливо прошли — этап собственных Аль Капоне и Диллинджеров. Тут все просто, закономерно и потому предсказуемо. Засекреченные российские спецслужбы в условиях криминального беспредела должны ставить прежде всего на грубую силу или, как выражаются идейные оппоненты, — на наезды. Но они ни в коем случае не должны думать для чего наезжают: думать есть кому. Они должны быть слепыми исполнителями — не более. Прокурор, стоявший у истоков «КР», еще в конце 1992-го года имел несчастье убедиться лично, что слишком большие полномочия, даваемые теневым службам, ведут к их неминуемому краху. Предыдущая структура, печальной памяти «13 отдел», имела разведку и контрразведку, сверхмощную аналитическую базу — в результате руководитель «13 отдела» полковник Владимир Николаевич Борисов, земля ему колом, решил шантажировать не кого-нибудь, а его, Прокурора…
Внезапно откуда-то со стороны полосы препятствий донеслись воинственные восклицания, и это невольно заставило пассажира отвлечься от размышлений и обернуться.
Человек двадцать — все, как один, широкоплечие амбалы в защитных камуфляжах, разбившись на пары, отрабатывали приемы рукопашного боя. Молниеносная реакция, отточенные удары, изощренность тактики — это свидетельствовало, что они — настоящие профессионалы. Рядом с ними стоял высоченный мужчина — обнаженный торс, накачанные бицепсы, уверенные движения — все выдавало в нем командира.
— Я наверх, а ты Рябину позови, — бросил пассажир водителю, выходя из машины и, взглянув на часы, добавил: — У меня для него только полчаса…
Прокурор пошел к ближнему строению, а водитель, добежав до мужчины с обнаженным торсом, сказал ему несколько слов.
— Так, продолжайте, я сейчас буду, — крикнул тот и рысцой направился к тому самому дому, где его уже дожидался высокий кремлевский чин…
Прокурор, как и многие люди его круга, не любил демонстрации грубой физической силы. Тонкие многоходовые комбинации, изощренная игра ума, интриги в лучшем понимании этого слова (а в Кремле худшего быть не может) — такова его стихия. Интеллектуал не может понимать примитивного атлета из «качалки»; впрочем, и тому не дано оценить глубину замыслов первого. Правда, первые обычно используют вторых в своих целях — и никогда еще не случалось наоборот.
Вот и теперь, глядя на потный торс Рябины, на выпуклые бицепсы и трицепсы, вдыхая терпкий запах его пота, Прокурор недовольно морщился.
В последнее время Рябина, руководитель засекреченной силовой структуры «КР», выглядел не то чтобы слишком вызывающе… нет, но не в меру самостоятельным. Второстепенная в этом спектакле кукла — а ведь тоже вот берет на себя несвойственную себе роль. Да она, эта кукла, и на человека-то не похожа: масластые пальцы, толстые суставы, вздутые мышцы… Эдакая машина смерти. Со дна глубоких провалов черепа изучающе сверкают две фиолетовых лужицы марганцовки — подобие глаз.
— В последний раз, когда вам вручали в Кремле Звезду Героя России, вы выглядели более респектабельно, — улыбнулся Прокурор неестественно-лучезарно.
— Простите… — замялась кукла и, смяв в извинительную гримасу одутловатое мясистое лицо, поежилась под начальственным взглядом, — мне сказали, что у вас мало времени… В это время у нас плановые занятия по рукопашному бою. Не успел принять душ и переодеться…
— Ладно, ладно, ничего, — хмыкнул Прокурор и тут же преобразился: теперь всепроникающие голубые глаза буквально просвечивали собеседника. — Рябина, первое: этого человека, — он протянул в руки атлета несколько дискет, — срочно извлечь из исправительно-трудового учреждения, где он теперь пребывает.
Рябина взял дискету, повертел ее в руках и положил на стол.
— Как? — этот человек не привык задавать лишних вопросов — его совершенно не интересовала личность человека, ныне находящегося в местах лишения свободы, а уж тем более — статья приговора.
— Завтра же вам пришлют соответствующие бумаги. У него сроку — пять лет строгого режима. Два уже отсидел… — говоривший наморщил лоб, вспоминая компьютерную информацию, которую он сегодня просматривал. — Амнистия подходит к тем, кто отбыл две трети… Ничего, оформлю амнистию. Не самое сложное, — теперь Прокурор говорил рубленным фразами, справедливо решив, что подобная манера общения ближе собеседнику.
— И дальше что?
— Перевести в спецшколу, сюда к тебе, занятия по полной программе. Не спускать с него глаз. Второе, — Прокурор протянул еще одну дискету, — все бросить и искать Коттона. Кто-то похитил его племянницу. Тут вся информация. Племянницу найти во что бы то ни стало. Здесь, в Москве, осталась его ближайшая связь, жулик по кличке Вареник. Информация о нем на дискете. Он должен знать многое. И заняться Сухаревым и Митрофановым… Тотальный контроль: все связи, прохождение денег, хорошенько потрясти их фирмы и банки… — после этого Прокурор коротко пересказал собеседнику некоторые подробности чисто технического толка; несомненно, Рябина был в курсе некоторых последних событий в Польше. — У меня все. Желаю успеха. Об исполнении докладывать поэтапно.
Рябина смотрел на высокого чиновника так, как, наверное, смотрел бы солдат-первогодок на Маршала, предложившего ему временно побыть командиром полка. На щеках выступили розоватые пятна, и лишь глубоко посаженные фиолетовые глазки выражали некоторое недоумение.
— Что-то еще? — Прокурор со скрытой иронией взглянул на руководителя «КР».
— А как же… У нас план, спецзадания, акции по ликвидации… На планерке же беседовали, по селектору…
Прокурор махнул рукой с подчеркнутым пренебрежением:
— А-а-а… Ничего, время терпит, планы обождут. Подкорректируем. России не привыкать к преступности. А потом — все равно спросят не с нас, а с МВД. Мы — структура теневая, никому не подчиняемся и ни перед кем отчитываться не должны. — Немного помолчав, он иронично взглянул на собеседника и пожелал на прощание: — Всего хорошего, господин Рябина…
Глава пятая
Баня в России — явление внеклассовое, внепартийное и надгосударственное. Березовый веник и полку в парной любят и национал-патриоты, и традиционалисты, и анархисты, и сторонники демократических преобразований, и коммунисты, и фашисты, и правые, и левые, и центристы, и активисты Партии любителей пива, и отпетые уголовники, и примерные менты. Наверное потому, что именно в бане, как нигде, очевиден демократический принцип «свободы, равенства и братства». Все нагие и потому все равны. Это уже потом, когда распарившийся любитель одевается, когда он идет в буфет, когда выходит на улицу — свобода, равенство и братство заканчиваются, потому что один облачается в красный пиджак с золотыми пуговицами, а другой — в потертые джинсы; один заказывает дорогое немецкое пиво с омарами, а другой — классическое «жигулевское» со звенящей, как струна, пересушенной воблой; один садится за руль сияющего хромом и никелем шестисотого «мерса», а другой бредет на станцию метро…
Одно время, в конце восьмидесятых — начале девяностых, столичный криминалитет среднего звена иногда собирался в Сандуновских или Краснопресненских банях на традиционный сходняк.
Конечно же, увиденная картинка могла впечатлить кого угодно и запомниться надолго: наколотые тела — синие, как амурские волны со всеми этими гладиаторами, тигровыми оскалами, Мадоннами, церковными куполами, гусарскими эполетами, сложными композициями со шприцами, колодами игральных карт и решками; «голдовые цепуры» на коротких бычьих шеях, суммарный вес которых наверняка превышал золотой запас Российской Федерации; сотовые телефоны, с которыми обладатели цепей и наколок не расставались даже в парной. Разговоры по мобильным телефонам могли бы ошарашить любого университетского профессора филологии, в смысле — как это так можно общаться с окружающим миром при помощи всего четырех слов: «пидарас», «наличка», «бригада» и «лавье».
Однако вскоре эта практика закончилась сама собой — нынче обладатели сотовых телефонов, успешно миновав первоначальный этап накопления капитала, имеют в своем доме, кроме прочего, и собственные сауны. Во-первых, не грех подумать о своей безопасности: в общественные сауны иногда наведываются профилактические рейды ОМОНа и СОБРа; а во-вторых, сауна у себя дома — писк моды, верх престижа.
И в самом деле: если человек любитель бани действительно богат, к тому же не просто богат, а богат сверхъестественно, если у него за городом огромный трехэтажный коттедж, то почему бы, кроме гаража на пять машин да зимнего сада, не завести собственную парную или сауну?!
Иван Сергеевич Сухарев, более известный просто как Сухой, принадлежал к одним из самых богатых людей Москвы, а значит, и всей России. И сауна в коттедже у него, естественно, была. Коттедж этот, расположенный в живописном Воскресенском, как и многое-многое другое, достался Сухареву в наследство от своего предшественника Атаса, Валерия Атласова, убитого в конце 1992 года в центре Москвы неизвестным киллером. Правда, кроме коттеджа с подземным гаражом и зимним садом, кроме банков, фирм, стволов боевиков, связей и власти, а так же всего прочего, Сухой унаследовал и кое-что менее приятное — непримиримую вражду с традиционной генерацией российского криминалитета. Но теперь, сидя в собственной сауне, авторитет меньше всего хотел думать об этом, а уж тем более — о свободе, равенстве и братстве…
Теперь, когда все складывалось именно так, как и было им задумано, Сухому хотелось хоть немного расслабиться — тем более, общество для этого подобралось самое подходящее: девицы.
Есть в Москве категория проституток, склонных исключительно к банному разврату. Они не появляются в дорогих кабаках, их не увидишь на улицах ночной столицы, едущих домой к клиенту на навороченной иномарке. И это совсем не потому, что эти девицы не хотели бы провести вечер в ресторане или прокатиться с ветерком по ночному городу на крутой тачке, вовсе нет; просто в дорогих ресторанах да казино все места забиты более удачливыми конкурентками. Банные проститутки сравнительно дешевы. Сауна, «поляна», плотно заставленная водкой и закусью, плюс пятьдесят баксов на рыло каждой — вот уровень их притязаний. Наверное, подобное положение вещей проистекает исключительно из-за хронических голода и жажды да похвальной склонности таких проституток к гигиене тела, как собственного, так и клиента. Это, как правило, начинающие торговать собственной плотью: такие часто ошиваются под дверями оздоровительных комплексов, где есть сауны, в ожидании, когда их позовут; таких опытные банщики часто предлагают захмелевшим клиентам, особенно если тела клиентов татуированны и на шеях висят массивные золотые цепи.
Какая же баня, эта национальная гордость великороссов, может обойтись без девок?! Все равно, что парная без веника…
В тот день досуг Сухого скрашивали две платных девки — криминальный авторитет всегда отличался склонностью к разнообразию.
Одна — совсем молоденькая, лет восемнадцать, не больше, выглядела стройной и подтянутой. Небольшой упругий бюст, грудь точь-в-точь такого размера, что могла бы уместиться в мужской ладони. Длинные, волнистые распущенные волосы доходили до середины спины, голубые глаза казались чистыми и непорочными — такой, в представлении многих, должна быть типично славянская красота.
Вторая была постарше, лет двадцати трех, с пышными рубенсовскими формами. Такую хлопни ладонью по мягкой заднице — заколышется вся, как студень, и будет трястись еще минут пять. Может быть, не очень эстетично для кино или телевизионной рекламы, но на любителя в самый раз. Темные прямые волосы, ровно подстриженная челка и томный, с поволокой взгляд, который вполне бы подошел какой-нибудь молодой колхозной телке.
В маленькой парилке тускло горели две неяркие лампочки. Лежанка ступенями круто уходила под самый потолок, груда раскаленных камней источала хлебный жар: горячий ржаной ветер с едва заметной примесью мяты и эвкалипта обжигал кожу, щекотал ноздри до озноба. На верхней полке, с веником в руках сидел хозяин; внизу, у его ног примостились платные девки.
— Ну что — непривычно? — хохотнул Сухой, нещадно хлестая себя веником по округлым бокам.
— Жарко что-то… — растерянно пробормотала молоденькая; видимо, сказывался недостаток профессионального опыта.
— Что — раньше никогда с мужиками в баню не ходила, что ли? — не поверил Сухарев.
— Да ходили, ходили, — успокоила более опытная подруга.
— И как? — полюбопытствовал уголовный авторитет.
— Что значит как, Ваня? Зачем мужчины вроде вас молоденьких девушек в баню-то приглашают? — удивилась полная и тут же сама ответила на свой вопрос: — Потрахаться, конечно… Заодно и помыться.
— Ох, и блядь же ты, Лиля, — развеселился Сухой, отложив веник.
— Да не блядь я, — серьезно опровергла проститутка, почему-то вздохнув.
— Извини, ты платная шлюха, лярва… — вспомнив о заплаченных авансом деньгах, внес существенную поправку хозяин.
— Я не проститутка. Просто судьба у меня не сложилась… — видимо, девице был не чужд философский взгляд на вещи.
— Спохватилась девка о целке после пятого аборта, — понимающе хмыкнул авторитет, отлепливая приставший к груди березовый листок.
— Ладно, пойдем в бассейн, что ли… — полушепотом пробормотала молоденькая проститутка, — а то я что-то совсем сопрела.
— Ну, давайте, — соблаговолил Сухой и, спустившись с верхней полки, открыл дверь.
Тапочки хозяина зашлепали по мокрому кафелю пола, спустя минуту послышались характерный шлепок тела о воду и злое фырканье — Сухарев нырнул в бассейн. Девицы последовали за ним.
— Слышь, компрессор, а как насчет подводного минета? — деловито поинтересовался Сухарев, желавший, чтобы заплаченный им аванс был отработан на все сто процентов. — Исполнишь, а?
— Любой каприз за ваши деньги, — с готовностью откликнулась девка.
— Ну, так давай…
Девица, набрав в легкие побольше воздуха, послушно нырнула. В это время неожиданно зазвонил сотовый телефон, лежавший на краю бассейна.
Сухой взял трубку.
— Алло… Что говоришь?.. Еще не приехал?.. А что — Вареника пробили?.. Где говоришь зашился — в Черемушках?.. И адрес есть?.. Хорошо. — Былое благодушие совершенно исчезло с лица говорившего. — А что Крест?.. Прибыл уже?.. И что твои пацаны пробили?.. Сегодня гуляют?.. Со своими?.. В каком кабаке?.. А-а-а… Знаю, знаю. Коттона друг, насчет этого я тоже в курсах, иначе бы этого базара не было. Так — все бросай и срочно ко мне. Я в сауне — скажешь Штуке, он тебя проведет.
Девица под водой старалась вовсю. Огромный бюст расплывался в голубом бассейне, подобно гигантской медузе; задница то и дело всплывала, как поплавок, а на поверхности воды скупо булькали мелкие пузырьки. Удивительно, что проститутка могла так долго обходиться без воздуха — наверное, в прошлой жизни она была профессиональной ныряльщицей, ловцом жемчуга.
Но теперь ее замечательные таланты мало интересовали Сухого — куда больше занимала только что полученная информация.
— Ладно, хватит… Сосешь, что тот компрессор, — недовольно поморщился авторитет и, легонько оттолкнув проститутку, вылез из бассейна. — Так, ко мне сейчас придут, а вы, русалки, не скучайте, тут поплавайте, лесбосом позанимайтесь… А я скоро буду.
И вышел, плотно закрыв за собой дверь.
Звонивший не заставил себя долго ждать. Он был в комнате отдыха уже через полчаса.
Высокий, метра под два амбал с классическим лицом убийцы, с квадратными плечами, в спортивных штанах и дорогой лайковой куртке, с толстой «бригадирской» цепью червленого золота — одного взгляда, брошенного на этого человека, было достаточно, чтобы безошибочно определить его профессиональную принадлежность. Одетый в «адики» и кожу бригадир смотрелся в комнате отдыха сауны немного диковато; наверное, точно также, как смотрелся бы новый русский в своем традиционном прикиде где-нибудь на нудистском пляже.
Сухой встретил его ласково, приветливо, усадил за стол, предложил выпить и закусить. Отказываться не приходилось: разница в рангах не позволяла. Обладатель «цепуры голдовой» приличия ради пригубил водки, занюхал хлебной корочкой, после чего вопросительно уставился на хозяина: мол, чего вызывал?
А тот и впрямь выглядел хозяином: белоснежная простыня ниспадала живописными складками, напоминая тогу древнеримского патриция; золотая «гайка» с перстнем, украшенным неправдоподобно огромным бриллиантом, вальяжность движений и уверенность тона…
— Так, первое: этого, как его… «жулика» этого, друга Коттона…
— Вареника, что ли? — подсказал гость.
— Да. Срочно сюда. Мы с этим расписным по-своему тереть будем.
Собеседник закивал угрюмо.
— Наши пацаны его уже третьи сутки пасут. Живет в какой-то хрущебе на Новочеремушкинской, типичная хавера, бомжатник… Телефоны на прослушку поставили, саму хату тоже прослушали — один живет. И в гости к нему никто не ходит, даже бляди…
— Так, меня не интересует, с кем он там живет и кто к нему ходит, — нетерпеливо перебил говорившего Сухарев. — Я сказал, ты сделал.
Гость вновь закивал.
— Сейчас Кабана пошлю. Этот сделает.
— Второе, — продолжил Сухой. — Бери пацанов, едь в тот кабак, где этот Крест гуляет…
Крест, очень авторитетный вор в законе, приехал в Москву из Питера по каким-то своим делам. Он действительно корефанился с Коттоном; по слухам, Алексей Николаевич Найденко несколько лет назад приложил руку к коронации Креста на вора. Как было точно известно Сухареву, вопросы, заставившие вора прибыть в столицу, косвенным образом касались и его самого…
— …и устрой фестиваль по полной программе, — закончил мысль авторитет.
Обладатель массивной золотой цепи позволил себе осклабиться — правда, почти незаметно, как и положено младшему по званию в беседе со старшим:
— Мы им там сюрпризик один приготовили. «Халдей» в том кабаке, — так на жаргоне именуют официантов, — наш человек…
— Ваш, не ваш, меня это не колышет, — неожиданно Сухареву почудилось, будто за дверью послышались осторожные шаги и он, быстро поднявшись, заглянул к девицам — нет, его не подслушивали, проститутки, стоя у душа, шушукались о чем-то своем. — Так вот, поясняю задачу: валить всех на хер. Понятно?..
На небольшой кухоньке горело тусклое электричество, несмотря на то, что на улице было еще светло. Невысокий мужчина, стриженный бобриком, одетый в какие-то рваные штаны и дырявую серую майку, стоя у плиты, осторожно ссыпал в закопченную металлическую кружку целый цыбик чая.
Квартира, запущенная и грязная, являла собой типичный бомжатник; в сравнении с ней какая-нибудь котельная или бойлерная выглядела бы стерильной операционной в отделении нейрохирургии.
Серые стены в безобразных коричневых потеках и пятнах от раздавленных тараканов; облезлый, обтрепанный линолеум; трехногий стол, предусмотрительно придвинутый к стене, чтобы не упал; самодельные навесные шкафчики из старой фанеры; желтые от никотина кисейные занавесочки и засохшая герань в вазонах — эту картину завершала замызганная газовая плита. Короче говоря — мерзость запустения…
На открытом огне варился чифирь; тот самый напиток, который придает бодрое и вместе с тем философское расположение духа. По всему было видно, что мужчина у плиты, конечно же, был блатным. Об этом свидетельствовали и многочисленные татуировки на его теле — от классических восьмиконечных звезд на предплечьях («никогда не надену погоны») до церковных куполов на спине. Во всем облике хозяина хазы — в согбенности фигуры и усталости взгляда угадывался человек, прошедший не одну «командировку».
Любителя чифиря звали Вареник — это был жулик законного вора Коттона, его ближайшая и постоянная связь в Москве.
Порученец вора действительно жил тут, в запущенной хрущебе, один. Он уже знал и о последних событиях в Польше, и о смерти Макинтоша от рук киллерюги, и о том, что пахан через несколько часов должен прибыть в столицу: Вареник собирался его встречать на Белорусском. Хаза на Новочеремушкинской не вызывала подозрений, не была «паленой», то есть засвеченной в ментовке, и потому Вареник мог быть спокоен — и за себя, и, конечно же, за вора-авторитета, которого он рассчитывал поселить тут на некоторое время, пока все уляжется.
Пока же Леха был на подъезде к Москве, Вареник утешал себя чифирем — в его изготовлении он был настоящим профессионалом.
Вообще, этот замечательный напиток, изготавливаемый из чая, в зоновской семье так же традиционен, как и наколки. Истинно воровской напиток. Чифирь, если он действительно настоящий, — единственная, пожалуй, радость в тюрьме или на зоне. Скрашивает жизнь, сплачивает и объединяет людей. В мире российских уркаганов существует великое множество разновидностей этого замечательного напитка, и рецепты, конечно же, разные: тот, который пьется на зоне, изготовляется одним способом, а тот, который пьется перед выходом на дело, — другим. Вареник, истинный блатной по духу и убеждениям, досконально знал все рецепты: считал пузырьки, поднимавшиеся со дна кипящей кружки, засекал время, заботясь, чтобы вода не перекипела…
Это был истинный виртуоз своего дела, не меньший, чем Гарри Каспаров в шахматах, Святослав Рихтер в фортепианном исполнительстве или какой-нибудь заматерелый «вертухай»-прапорщик Бутырского следственного изолятора в своем главном искусстве — шмоне. Рассказывают, что однажды в Омской пересыльной тюрьме жулик умудрился сварить чифирь, ведя отвлекающий базар через кормушку-«намордник» с «рексом»; при этом чифирист держал в одной руке кружку, а в другой — сложенную веером газету.
Несмотря на многочисленные неприятности в Польше, Вареник был спокоен. К неприятностям — неизбежному спутнику блатной жизни — жулик относился со стоической невозмутимостью. Ничего, бывало и хуже. Главное, что скоро пахан прибудет в Москву — он-то разведет все «рамсы».
Склонясь над плитой, уркаган осторожно снял закопченую кружку с чифирем и, поставив ее на стол, уселся на колченогий табурет. Накрыл божественный напиток блюдечком, закурил и, ощутив, как в ноздри пахнул аромат крепчайшего чая, неожиданно улыбнулся.
Вот уже полдня в голове Вареника вертелся незамысловатый мотив старой лагерной песенки, известной наверняка со времен Беломорканала и ГУЛАГа:
Продолжая мурлыкать, жулик снял блюдечко и, зажмурившись, сделал первый глоток — он был обжигающий, пронзительный. Недовольно поморщился, сделал еще один глоток, еще…
Чифирь на этот раз не получился: такое случалось с Вареником редко. Видно вода из московского водопровода оказалась неподходящей, а чай — не настоящим цейлонским. Жулик, поморщившись, решительно отодвинул от себя напиток.
— Хоп-па, Зоя… Кому дала ты стоя… — продолжая напевать нехитрую мелодию, Вареник принялся одеваться, чтобы купить другой чай, — …начальнику конвоя…
Казалось, опытного уркагана не могла вывести из себя даже такая серьезная неприятность, как скверно сваренный чифирь.
Нащупав в кармане ключи и кошелек, жулик накинул прямо на грязную майку легкую куртку и вышел из квартиры.
— Эй, мужик, прикурить не найдется? — неожиданно окликнул его чей-то голос на лестнице.
Вареник обернулся — прямо на него спускался амбалистый тип лет двадцати двух. Бесцветные, ничего не выражающие глазки, наглая харя, мазовый прикид… Теперь на Москве таких много.
— Я тебе не «мужик», — дельно поправил блатной, понимая под этим словом определенную категорию осужденных в ИТУ.
— Да ладно, не кипешуй ты… — амбалистый, нехорошо скалясь, медленно спускался к Варенику.
Хозяин хаверы быстро скосил глаза в сторону — наверх, к его площадке поднимались еще двое.
Менты?
Нет, это определенно были не менты…
Жулик мгновенно сунул руку в карман — там всегда лежало «перо»-выкидуха. Быстрое движение — и тишину подъезда нарушил тихий, но угрожающий щелчок.
— Ну, пиши, пиши… — ухмыльнулся абмал, отступая на шаг. — Только не промахнись…
Вареник поднял голову — на него в упор смотрела черная точка пистолетного дула.
— Ие-ех!.. — тонкое лезвие, описав дугу, оцарапало куртку амбала — видимо, тот был тренированным и потому успел отскочить в сторону, к перилам.
В это самое время двое других, как спущенные с цепи псы, бросились на блатного. Завязалась борьба, но силы были неравны — через несколько секунд «перо»-выкидуха звякнуло о бетон лестничной площадки, а на запястьях Вареника мгновенно защелкнулись никелированные наручники.
— Ну чо… Не вышло пописать, а? — амбал осматривал порез на куртке с явным неудовольствием. Поднял нож, критически осмотрел его и, сунув в карман, неожиданно саданул жертве кулаком под дых. — На, козлина!..
Спустя минуту обессиленного блатного уже вели под руки к машине — темно-зеленый джип «опель-фронтера» стоял у самого подъезда.
Амбал в порезанной куртке приоткрыл дверь.
— Давай, урка расписная… Карета пода…
Он не успел договорить: короткий хлопок выстрела, смазанный глушителем, — и атлет медленно осел под переднее колесо джипа.
Двое остальных так ничего и не поняли, даже не успели потянуться к стволам, покоившимся в подмышечных кобурах: они были застрелены в течение нескольких секунд.
Пронзительный скрип тормозов — и рядом с хищным джипом появилась серая тридцать первая «Волга», столь неприметная на московских дорогах.
Двое мужчин в камуфляже, с лицами, скрытыми черными вязанными шапочками с прорезями для глаз (так называемая маска «ночь») выскочили из машины. Они быстро затолкали пленника в салон и, даже не взглянув на трупы, уселись рядом. Серая «Волга», описав по двору правильный полукруг, выехала на Новочеремушкинскую…
— …ой, что творится, что творится… — седенькая старушка с аккуратно подстриженными седыми волосами и любопытным взглядом, осторожно поправив кисейную зановесочку и отойдя от окна, тяжело опустилась в кресло.
Так уж получилось, что соседка Вареника стала невольной свидетельницей происшествия. Сперва, услышав какую-то подозрительную возню на лестнице, осторожно посмотрела в дверной глазок: трое здоровенных парней избивали какого-то старика, стриженного бобриком, заламывали ему руки…
Седенькая испугалась не на шутку: вон, и по телевизору, единственной радости пенсионера, рассказывают ужасы об этих преступниках, о том, какие они жестокие и коварные… А ведь это наверняка были преступники!
— Ой, что творится, что творится… В милицию, что ли, позвонить? — вопрошала бабушка сама себя. — Надо позвонить… Ох, грехи наши тяжкие…
Старушка уже поднялась, подошла к телефонной полочке и даже сняла трубку, склеротично вспоминая, по какому же номеру следует вызывать милицию: «01», «02» или «03».
Однако поразмыслив, решила этого не делать: даже у нее, такой правильной и законопослушной, милиция вызывала не меньший страх, нежели самые матерые уголовники…
Глава шестая
— …Скорый поезд Варшава — Москва прибыл на вторую платформу, четвертый путь. Повторяю: скорый поезд Варшава — Москва…
Безразличный голос диспетчера, искаженный хрипом динамиков, разносился по всему Белорусскому вокзалу, гулко отражаясь от нагретых за день каменных стен.
Поезд — запыленная темно-зеленая гусеница — замедлил ход и остановился, уткнувшись в тупик. Гулко лязгнули бампера, открылись двери вагонов, и усталые проводницы сошли на перрон, вытирая поручни тряпками.
Из вагона СВ вышел невысокий пожилой мужчина — легкий люстриновый пиджак, модельные штиблеты и небольшой чемоданчик в руках придавали бы их обладателю сходство с мелким коммивояжером, если бы не вытатуированные на пальцах фиолетовые перстни. Постояв рядом с вагоном, недавний пассажир варшавского поезда закурил «беломорину» и взглянул на часы.
Пассажиром вагона СВ был Коттон — он наконец-то добрался до конечного пункта следования.
По неписанному, но тем не менее неукоснительно соблюдаемому блатному этикету, пахана обязательно должен был встретить жулик — его Московская связь Вареник. Усадить в свою тачку или, как минимум, в такси, отвезти на хату, дать возможность отдохнуть, а заодно и рассказать обо всех последних новостях криминальной столицы России. Ну, а потом, наверное, на следующий день предстояло самое приятное и волнительное: поездка к любимой племяннице Наташе и ее маме, жене покойного брата Василия. Застолье, разговоры за жизнь, воспоминания и планы на будущее…
С момента прибытия поезда прошло пять минут, «беломорина» в желтых от никотина и чифиря зубах уже успела истлеть, осыпаться на лацканы пиджака серым пеплом, а Вареника почему-то не было.
Коттон нахмурился: человек очень обязательный, пунктуальный даже в мелочах, он требовал того же и от окружающих. Тем более, что такие вещи — далеко не мелочи. Точность — вежливость не только королей и поваров, но и блатных. Для блатного — косяк, в натуре…
Минуло еще пять минут — Вареник по-прежнему не появлялся.
Найденко зашел в забегаловку рядом со входом в билетный зал, заказал что-то прохладительное: при этом вор предусмотрительно встал так, чтобы видеть всех входящих и выходящих. Затем вновь нервно закурил и, не взяв сдачи, вышел на перрон.
Толпа прибывших и встречающих уже схлынула. Рядом с вагонами оставались лишь толстомясые тетки с баулами на колесиках — челночницы, привезшие в столицу незамысловатый товар со Стадиона, самого большого варшавского рынка. Что ж, в стране, где одно из самых популярных присловий «чемодан-вокзал-Россия», подобные тетки с тележками — извечный типаж.
Минуло еще минут двадцать. На Белорусский вокзал незаметно, неотвратимо наплывали синие сумерки — но Вареник так и не появился. Это не было похоже на жулика и невольно наводило на неприятные мысли — или мусора замели, или…
В голове Коттона мелькнула недавняя картинка: бетонный парапет белостоцкого супермаркета «АВС», запрокинутое лицо Макинтоша, огромное кровавое пятно на белоснежной рубашке… Тогда, в Белостоке, он прибыл на место убийства «торпеды» спустя каких-то десять минут — Макинтош ждал его, пахана, чтобы перебазарить о Заводном. Вроде бы «торпеда» выяснил кое-какие подробности об этой шестерке и хотел поделиться ими.
Кто его завалил?
Для чего?
Почему, в конце концов, Вареник…
Коттон бросил окурок в мусорку и, взглянув на толстомясых нехорошими волчьими глазами, двинулся в сторону стоянки такси.
— Командир, в Черемушки, — скомандовал он водителю, усаживаясь на заднее сидение.
Всю дорогу до Новочеремушкинской пахан бросал напряженные взгляды в зеркальце заднего вида. Но ничего подозрительного не заметил, слежки не было — такси привычно катило в московском автомобильном потоке. Таксер тоже не вызывал подозрений, обыкновенный работяга, каких в столице тысячи. Когда салатовая «Волга» с таксистскими шашечками подъехала к пятиэтажке, Коттон несколько успокоился.
Опытный вор, естественно, знал основы конспирации и потому попросил водителя остановить машину не рядом с нужным подъездом, а у соседнего. Расплатился, поднялся на лестничную площадку, откуда осмотрел двор: несколько недорогих тачек, припаркованных вдоль дома — ничего подозрительного.
Найденко закурил, вышел и, проходя рядом со стоявшими во дворе малолитражками, как бы невзначай провел рукой по капотам: они были холодны, и это означало, что машины стоят тут долго. Затем осторожно поднял взгляд на окна хазы, где должен был ждать его жулик, — на кухне горел тусклый свет. Это успокоило: уж если бы в хавере его ожидала засада, вряд ли бы там включили электричество.
— Небось, дрыхнет… — пробормотал про себя пахан, взявшись за дверную ручку. — Ну, зараза!.. На зоне не отоспался…
В подъезде Вареника света не было: наверное, черемушкинские аборигены до сих пор воруют сами у себя лампочки на площадках. Ориентироваться приходилось наощупь. В ноздри пахнуло половиками, позавчерашним перестоявшим борщем, кошачьими пачулями и помойкой — знакомый запах, от которого вор, впрочем, уже успел отвыкнуть. Выщербленные ступеньки, четыре двери на каждой площадке, все, как одна, оббитые потрескавшимся дерматином, мутные амбразуры дверных глазков…
Поднявшись на нужный этаж, пахан остановился — он страдал одышкой. Сперва он думал позвонить, но спустя несколько секунд, нащупав в кармане пиджака собственный ключ от обиталища Вареника, вставил его в замочную скважину и осторожно повернул.
На вешалке в прихожей болтался лишь старый, потертый плащ жулика — ни чужой одежды, ни обуви видно не было. Впрочем, как и самого хозяина.
— Гражданин подследственный, на выход с вещами, пришла ксива от прокурора, обещают полную загрузку, годочков эдак на пятнадцать… — нарочито-официальным голосом произнес пахан.
Квартира была пустынна; хозяин не откликался.
Коттон быстро осмотрел единственную комнату, балкон, санузел и зашел на кухню. Треногий стол, несколько табуреток, закопченная металлическая кружка. Вор, прикоснувшись к ней, определил, что она была еще теплой. Наклонился, понюхал: это был чифирь.
Ситуация отдавала самой натуральной мистикой. Получалось, что Вареник недавно сварил чифирь и, даже не попробовав его, куда-то испарился. А ведь знал, что должен быть сегодня на Белорусском.
Тогда где же он?
Неожиданно в дверь позвонили — резко, пронзительно. Пахан, схватив со стола столовый нож, сунул его в пиджачный рукав и, стараясь придать своему лицу выражение беспечности и доброжелательности, пошел открывать.
На пороге стояла седенькая бабулька: судя по тому, что она была в домашних шлепанцах и драном халате — соседка по площадке.
— Здравствуйте… — проблеяла она, и Найденко, человек приметливый, сразу же прочел в ее глазах испуг.
— Здравствуйте и вам… — осторожно откликнулся он, просвечивая незваную гостью острым кинжальным взглядом.
— Я из двадцать седьмой квартиры, как раз напротив, — теперь, кроме испуга, в глазах старушки светилось какое-то непонятное любопытство, — соседка я ваша, Галина Сергеевна, мое, значит, имя-отчество…
— Валерий Андреевич, — на всякий случай соврал вор, пряча в карман руки, испещренные татуировками и засовывая столовый нож поглубже в рукав. — Очень приятно, Галина Сергеевна… И что? Чем обязан?
— Ой, я так переволновалась, так переволновалась… Тут тако-ое было!..
Рассказ старушки, путаный и бестолковый, занял минут двадцать. Она очень подробно рассказала и о драке на лестничном пролете, и о том, что жильца тридцатой квартиры сперва побили какие-то неизвестные хулиганы в кожаных куртках, а, потом, когда вели его к дорогой импортной машине, на тех хулиганов напали другие хулиганы, начали стрелять из какого-то бесшумного оружия, точно как в фильмах по телевизору, а потом затолкали в какую-то советскую машину и увезли…
— Я думала в милицию обращаться, а они потом сами приехали. И «неотложка» тоже… — облизывая губы, пересохшие от переживаемого заново ужаса, закончила старушка, — мертвецов этих, значит, которых убили, в «скорую», а машину импортную, на которой они приехали, на буксире куда-то повезли… А вы кто ему будете?
Фиолетовые круги плыли перед глазами Коттона; сердце стучало, кровь отдавала в висках. Услышанное настолько поразило его, что он не сразу нашелся с ответом.
— М-да, такой вот шалман… — пробормотал вор почти растерянно.
— Что, что? — не поняла старушка.
— Да это я так… Не обращайте внимание.
Соседка, желая окончательно удовлетворить свое естественное любопытство, не унималась:
— Так кто вы ему, жильцу этому?
— Родственник, — деревянным голосом промолвил Найденко.
— А какой? — не унималась дотошная бабушка. — Отец, наверное?
— Близкий родственник, — Коттон с трудом совладал с собой. — Самый близкий. Почти что отец родной. Других у него не было. Вот, издалека прибыл, из-за границы, специально на него посмотреть… А когда, Галина Сергеевна, его забрали?
— Да час назад, поди, — вздохнула соседка горестно. — Я в окно смотрела-смотрела… Такой сосед этот, ваш родственник, обходительный, такой душевный! Всегда, когда видел меня, первым здоровался. А как вы считаете, и те, и другие хулиганами были, или кто-то из них все-таки в милиции работает?..
Говорят, старость — самое печальное время жизни: отложение солей, ревматические боли перед сменой погоды, систематическое выпадение оставшихся зубов и волос, изжога; всегда серое, всегда пасмурное небо над головой, мелко моросящий дождь, склеротическое брюзжание на погоду, природу, почтальона, не приносящего вовремя пенсию и хулиганов-внуков, старческая болтовня у камина…
Все это неправда. Особенно, когда ревматизм, отложение солей и изжогу можно запросто излечить в закрытой кремлевской поликлинике, когда собственные зубы бесплатно или по льготному тарифу меняются на вечные фарфоровые, все в той же поликлинике, когда московское ртутное, плачущее небо в любой момент можно сменить на синий небосвод Калифорнии или Багам…
Внуки второй год учатся за границей: один — в Оксфорде, другой — в Йеле; до пенсии еще далеко, хотя шестьдесят лет — время, когда обычно уходят на покой.
Высокий, седовласый мужчина представительной внешности мягко улыбнулся своим мыслям и, подойдя к окну, выглянул наружу. Котельническая набережная, известная в Москве сталинская высотка, где обитают исключительно академики, народные артисты, финансисты, банкиры да представители политической элиты, вид отсюда самый престижный: представительские лимузины под окнами, веселая Москва-река, прогулочные катера на ней, рубиновые звезды над Кремлем…
Обитатель дома на Котельнической, несомненно, принадлежал к кремлевскому истеблишменту. Человек этот был довольно известен — во всяком случае, имя его было на слуху у всех, кто хотя бы несколько раз в неделю смотрит программу «Время».
Усевшись за антикварный, ручной работы стол, он вновь задумался. О чем? О суровой реальности, о прозе жизни? Скорее — о скромном обаянии буржуазности и приятной легкости бытия. Такая старость — не тяжкое бремя. Скорей — время подведения итогов и сбора плодов.
У хозяина огромной пятикомнатной квартиры на Котельнической набережной оснований для подобных выводов более чем достаточно. Ну хорошо: пусть он здравомыслящий и умудренный жизненным опытом человек. Но ведь тут, в Москве, этим никого не удивишь… Ну достиг он куда больше, чем другие — пусть такие же пожилые, но менее здравомыслящие и потому менее основательные, поверхностные люди. Он — функционер, человек, который выполняет в государстве определенную функцию. И ничего зазорного в этом определении нет. Того, кто режиссирует, называют режиссером, того, кто пишет сценарии, — сценаристом, того, кто ворует, — вором. А его задача — функционировать таким образом, чтобы и режиссеры, и сценаристы, и даже воры крутились на пользу этому самому нефункционирующему Государству…
Кстати, о последнем…
Несколько месяцев назад его старый товарищ, известный в Кремле, на Лубянке и на Варварке как Прокурор, как бы между прочим, поведал об одном замечательном проекте, который назывался столь же заманчиво, сколь и неприлично: «Русский оргазм». Речь шла вроде бы о наркотике, наподобие «экстази», но не совсем: люди, компетентные в подобных вещах, утверждали, что это — уникальное средство для манипулирования массовым сознанием. Подсевшие на «русский оргазм» становятся легко внушаемыми и, как следствие, управляемыми: в условиях политической и экономической нестабильности это решает все. А ведь пробный выброс наркотика (да и наркотика ли?) на «черный» рынок показал его сверхокупаемость: вложенный доллар давал многие сотни прибыли — естественно, не облагаемой никакими налогами.
Многие, очень многие люди — как из финансово-промышленных, так и из политических кругов — вложили в этот проект огромные деньги. По слухам, соблазнились даже генералы высокого полета из ФСБ и МВД, высшие кремлевские чиновники, короче говоря — суперэлита. Их не интересовало, кто стоит за этим проектом; ключевым словом была «прибыль».
Он тоже решил вложить деньги — и немалые. Наверное, даже большие, чем все остальные. За судьбу денег и успех проекта в целом он не беспокоился: Прокурор, который выступал гарантом, имел репутацию кристально честного человека. К тому же, ему был обещан определенный процент с прибыли, так что стараться было за что.
— Все у нас получится… — пробормотал функционер, прикидывая неизбежные прибыли.
Неожиданно на столе зазвонил телефон — хозяин кабинета, продолжая улыбаться, взял трубку.
Звонили то ли из Кремля, то ли с Лубянки, то ли с Варварки (высокий абонент не разобрал хорошенько). Некая мелкая канцелярская сошка, трепеща и заикаясь, сказала, что на высокое имя пришли какие-то совсекретные документы.
— Завтра ознакомитесь? — спросила сошка.
Воскресенье — день нерабочий, а значит, можно отдохнуть и от государственного функционирования, и от своего комфортного кабинета в Кремле. Но чутье редко подводило хозяина квартиры. Он почему-то подумал, что эти документы имеют самое непосредственное отношение к проекту «Русский оргазм».
— Пришлите ко мне домой курьером, — соблаговолил приказать абонент и положил трубку.
Курьер прибыл минут через двадцать. Отдал запечатанный сургучом пакет, попросил расписаться на каком-то гербовом бланке и, пожелав приятных выходных, неслышно вышел.
Функционер читал бумаги долго — и чем больше читал, тем больше мрачнел: кусал синие губы, дергал синюшной ногой, одетой в расшитый золотом тапочек, ерзал в дорогом кожаном кресле… Наконец, когда последняя была прочитана, он судорожно взял со стола платок и промакнул покрытый испариной лоб.
Новости, полученные им, были страшными, но хуже всего было то, что они свалились на голову высокопоставленного чиновника внезапно. Завод-лаборатория по производству «русского оргазма» был безжалостно ликвидирован польской Службой Бясьпеки, фирма-посредник «Таир» уничтожена, а деньги — и его, и остальных вкладчиков (это хоть немного, но радовало) исчезли.
Это было как дурной сон, как наваждение; хотелось ущипнуть себя за руку, чтобы проснуться, хотелось отмотать время назад, хотя бы минут на десять, когда он, уверенный в себе и своем глубокомыслии, подводил итоги, мечтал о будущем…
Нет, это невозможно, этого не могло произойти, потому что не могло произойти никогда…
Хозяин кабинета судорожно схватил мобильный телефон, долго названивал Прокурору: на службу, домой, на сотовый, но безуспешно — нигде не брали трубку.
Отложил телефон, задумался, еще раз осторожно пробежал глазами по бумагам, словно бы от этого содержание написанного могло измениться.
Нет, все то же — тот же кошмар.
— Деньги… мои деньги… — хрипло прошептал функционер и схватился за сердце — так резко в нем закололо. Перед глазами плыли большие радужные пятна, вид комнаты двоился, троился, потом сознание на какое-то время покинуло его, а когда на мгновение он пришел в себя, то понял — еще минута, две, три — и его не станет, потому что такой мучительной боли вытерпеть просто невозможно…
Слабеющими руками он набрал номер приемной кремлевской поликлиники и вызвал врача.
Желтый фургончик реанимации прибыл минут через пятнадцать. Врачи констатировали инфаркт и, погрузив обессиленное тело на носилки, осторожно понесли его к лифту.
Но сам функционер уже ничего не слышал и не видел: в его слабеющем мозгу пульсировали лишь два слова: «Деньги… мои деньги…»
Глава седьмая
К криминалу в России склонны все: от обитателей бедных пригородов до завсегдатаев престижных клубов и казино; от «новых русских», раскатывающих на шестисотых «мерседесах» и не расстающихся с сотовыми телефонами, и до старых — тех, у кого не хватает денег на жетоны метро и телефона-автомата; от грязных вонючих бомжей до тихих законопослушных домохозяек; от работников искусства до генералов Генштаба. И было бы удивительным и непостижимым, если бы к криминалу не склонялись и те, кто, по логике, должен от этого самого криминала защищать и чиновников, и домохозяек, и бомжей, и работников искусства, и даже генералов: сотрудники органов внутренних дел.
Милицию в России ненавидят лютой ненавистью все или почти все — что, впрочем, достаточно справедливо. Мент, мусор, лягавый — вот далеко не полный перечень только цензурных определений, которыми «самодеятельное население» определяет людей в форме. И немудрено: теперешняя милиция зачастую мало чем отличается от самых отмороженных бандитов-беспредельщиков.
И российский милиционер, и российский бандит, по большому счету, занимаются одной и той же деятельностью — вымогательством у населения денег и ценностей, притом вымогательством, основанным на силе и власти. Но российский милиционер еще и получает зарплату раз в месяц плюс пайки за вредность, а российский бандит — эдакий свободный художник — работает исключительно на свой страх и риск.
Но сходство, тем не менее, разительное…
По марксистско-ленинскому определению, нация — историческая общность людей, объединенная языком, государственностью, общей территорией и экономикой. Этнографы могут добавить еще национальную одежду.
Почему бы тогда не считать нацией люберецкую, таганскую, долгопрудненскую, мазуткинскую или ореховскую группировки в Москве?
Язык — общий (рамсы, качалово, лепень, кидалово, балдоха, стрелка, терка), государственность — конституционная монархия (в качестве конституции выступают понятия), а монарх — основной пахан или небольшая группа паханов. Сфера территориальных интересов давно определена и поделена на зоны влияния, также, как и экономика со своим основным бюджетом (общак). Этнографы могут добавить национальную одежду в виде коротких кожаных курток, дорогих «адидасовских» спортивных костюмов с красными лампасами у быков, золотых цепей и гаек у звеньевых и бригадиров.
А что же по другую сторону баррикад?
То же самое: язык — общий (висяк, зачистка, демократизатор), государственность — парламентская монархия в лице главного пахана, министра внутренних дел или небольшой группы паханов (а парламентская республика — потому как парламент, Дума, утверждает главного ментовского пахана), сфера территориальных интересов загодя определена административным делением Российской Федерации, также, как и экономика (кто, сколько и откуда получает взятки плюс, конечно, федеральный бюджет). Этнографы могут добавить потертую, засаленную форму, шнурованные ботинки и кирзовые сапоги у «чертей», то есть быдла, рядового и сержантского состава ГАИ и ППС, простых райотделовцев, камуфляжную форму, черные вязаные маски «ночь» и черные же береты «быков»-ОМОНовцев и СОБРовцев, дорогие костюмчики основных начальственных паханов.
Сотрудники внутренних дел и прокуратуры тоже подпадают под действие Уголовного Кодекса — к большому сожалению для них самих и радости остальных россиян. Попадают, как правило, редко: или по собственной врожденной дебильности, или из-за полной потери бдительности, или из-за упрямства, или вследствие серьезных ссор с начальством. И иногда их даже осуждают к лишению свободы. Но отправить бывшего мента, прокурора или судью куда-нибудь на общий режим равносильно приговору к смерти. Блатные, люди жестокие и безжалостные, неминуемо завалят его еще в следственном изоляторе каким-нибудь замысловатым способом — это в лучшем случае, а в худшем затолкают ногами под шконку, предварительно сделав из мента поганого легкодоступную девочку для всей хаты. А что уж говорить про зону… Именно потому для осужденных стражей порядка придуманы собственные исправительно-трудовые учреждения.
Порядки там строгие — куда строже, чем на зоне для рядовых осужденных. Про «хозяев» подобных ИТУ говорят: мол, если на свете и есть дьявол во плоти, то это тот самый гражданин начальник.
И было бы удивительно, если бы при таком разительном сходстве между милицией и их оппонентами за решками, за колючками, за заборами осужденные сотрудники правоохранительных органов не скопировали понятия тех, с кем еще недавно они боролись: то есть с блатных.
Внутрилагерная иерархия целиком и полностью списана с иерархии классических российских уркаганов.
Пидарами на такой зоне, как правило, становятся осужденные за коррумпированность судьи, прокуроры и охранники лагерей. Таких, по заезде на зону, часто еще в карантине спрашивают: много ли ты, падло, хороших пацанов загубил? Пикантность ситуации состоит в том, что подобный вопрос задает не законный вор или криминальный авторитет, а какой-нибудь осужденный за взятки бывший майор, бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью или следователь по особо важным делам из прокуратуры. Говорят, что на «красной» ментовской зоне под Нижним Тагилом «королем всех мастей», то есть главпидаром зоны, долгое время успешно подвизался осужденный за взятки бывший генерал ГУИНа, то есть Главного Управления Исполнения Наказаний.
В касту «чертей», стоящую чуть выше «акробатов», то есть пассивных гомосексуалистов, попадают, как правило, недавние участковые и гаишники.
Есть на «красной» зоне и свои блатные; гнут пальцы осужденные оперы МВД и прокуратуры. Они и держат масть.
Что поделаешь — в перевернутом мире, каковым является современная Россия, все поставлено с ног на голову, даже пенитенциарная система.
Именно об этом и размышлял осужденный Максим Александрович Нечаев, стоя на утреннем разводе. Командир отряда, пожилой капитан внутренней службы, сурово оглядывал бывших коллег, а осужденный, отключившись, думал о своем…
Бывший старший лейтенант КГБ, бывший оперативник так называемого «13 отдела», он в конце 1992 года был осужден на пять лет лишения свободы. За что — Максим и сам не мог сказать толком. Во всяком случае, еще и еще раз прокручивая в памяти киноленту событий двухлетней давности, Лютый убеждался: он все или почти все делал правильно, и если бы ситуации повторились, он поступил бы также.
Но это — тогда.
А теперь…
Теперь перед глазами маячила фигура новенького — присланного «мотать пятилеточку» бывшего лейтенанта из какого-то провинциального РОВД. Широкая спина, что плита — на ее обладателе пахать можно, а он бандитов на хаты жирных карасей наводил. Видать, с начальством не делился, зажрался — вот и променял «мышиный макинтош» на зоновский клифт[5]. Наверное, этот свежий «зэ-ка» в его отряде — единственная новость за последние две недели.
В остальном же — все тот же пейзаж, все та же картина: побуревшие от дождей и снегов вышки, приземистые строения жилых блоков, кирпичная труба котельной, коротким обрубленным перстом упирающаяся в веселое голубое небо. За зоной, за «запретками», где начинается желанная «воля» — сочная зеленая травка, золотистые в рассветном солнце сосны. И вся эта радость — там, вдали, за геометрически-правильными, параллельными рядами колючей проволоки.
Развод только-только начался: ежедневная рутина, ничего интересного. Разве что этот придурковатый капитан что-нибудь скажет, чтобы потешить блатных, своих бывших коллег, «держащих масть»…
Старшина отряда, бывший областной прокурор, заискивающе глядя в белесые, бесцветные глаза капитана, заученно произнес:
— Гражданин начальник, отряд для развода на работу построен.
Захрустел гравий под хромовыми сапогами — капитан медленно прошелся вдоль чернеющего бушлатами строя, глядя куда-то поверх их голов.
Миновав три или четыре человека, он остановился перед известным в отряде пидаром с гигиеническим погонялом Тампакс, бывшим старшим следователем Владимиром Ивановичем Понтелеевым, осужденным за растление пятилетнего мальчика, которого мусор, будучи пьяным, противоестественным способом изнасиловал прямо в песочнице: косяк, за который опускают или петушат на три-пятнадцать, ибо таких мерзких насильников справедливо не любят даже бывшие коллеги.
— Выйди из строя! — толстый сосисочный палец начальника уперся в рваный бушлат мента-пидара.
— Осужденный Владимир Понтелеев, статья сто семнадцатая, часть третья, срок семь лет, окончание срока четырнадцатого мая две тысячи первого года, — заученной скороговоркой произнес «петух»; это был щуплый чернявый мужчинка с выбритыми до синевы щеками; болезненно согбенная спина, потухший взгляд и вислая женская задница говорили опытному наблюдателю о многом — о многом, если не обо всем.
— Как живешь?
Тампакс глупо заморгал.
— Плохо, гражданин начальник… Месячные третий день — гнилой селедкой объелся.
Заключенные, для которых пидары вроде бывшего следака Понтелеева одно из немногих развлечений в серой зоновской жизни, понимающе заулыбались — некоторые из них, бывшие судьи, прокуроры и оперуполномоченные минувшей ночью вступали с бывшим коллегой в гомосексуальную связь, несмотря на понос партнера.
Капитан вяло пошевелил пальцами.
— Встань в строй, не стой на ветру… А то еще и яичники простудишь.
По строю пронеслась струя веселья.
Развод продолжался. Нечаев, на какое-то время отключившись, листал в памяти книгу жизни, но печальных страниц там было куда больше, чем радостных…
А началось все дождливым, пасмурным октябрем позапрошлого года, когда он вернулся с Кавказа, где подвизался наемником. Максим, примерный семьянин и любящий отец, привез из Тбилиси десять тысяч долларов — деньги для 1992 года вполне серьезные, даже для ко всему привыкшей и пресыщенной Москвы. И так уж получилось, что об этом стало известно бандитам. Классический наезд — Максиму с семьей пришлось срочно ретироваться. Но неприятности продолжались: и когда пути для отступления, казалось, не было вовсе, когда Нечаев оказался загнанным в угол, помощь пришла с совершенно неожиданной стороны.
Полковник 2-го Главупра, где в свое время служил изгнанный из органов старший лейтенант КГБ, Владимир Николаевич Борисов в то время возглавил так называемый «13 отдел» — совершенно секретную организацию, созданную исключительно для физического устранения авторитетов преступного мира. Нечаеву было предложено вновь поступить на службу. Выбора не оставалось: так Лютый оказался в новой структуре. Однако вскоре выяснилось — «13 отдел» превратился в бандитское подразделение по ликвидации конкурентов крутого московского «отморозка» Атаса: тот тонко шантажировал Борисова компроматом. Разумеется, рядовые сотрудники вроде Лютого об этом даже не догадывались — они просто выполняли свою работу. Однако и у Атласова были на Москве смертельные враги: нэпманский вор в законе Коттон, а в его лице — весь традиционный криминалитет России. В ходе противостояния погибла Марина Нечаева и четырехлетний сын Павлик, была похищена и лишь чудом избежала надругательств племянница вора Наташа (спас ее Максим). Однако и оппоненты понесли невосполнимые потери: Атласов среди бела дня был застрелен неизвестным киллером, а полковник Борисов пал жертвой загадочного несчастного случая. В самом конце того жуткого и кровавого спектакля под названием «Борьба с организованной преступностью» на сцене неожиданно возникла фигура, все время стоявшая за кулисами: правительственный чиновник высокого ранга, известный как Прокурор.
Тогда Лютый многого не понимал, считая Прокурора скрытым пособником Алексея Николаевича Найденко, и когда вор в законе предложил ему временный союз, Максим посчитал, что из двух зол нужно выбрать меньшее, и согласился. Как выяснилось, сделал он это совершенно зря: союз Прокурора и влиятельного пахана также был временным. Каждый преследовал свои интересы. А вот Лютому накрутили пять лет строгого режима — статьи по оргпреступности отличаются редкой суровостью.
И лишь теперь, спустя почти два года Максим понял: его не подставили, вовсе нет — его просто упрятали сюда от возможных неприятностей, сдали, как сдают в бронированную камеру сейфа временно ненужную вещь.
Что может быть надежней, чем зона для бывших мусоров?
За это время Лютый изменился, и сильно — если раньше импульсивность поступков иногда и мешала ему, то ныне от этого свойства его натуры не осталось и следа.
Размеренность движений, осторожность и рассудительность разговора, хитрый прищур глаз — все это выдавало в Максиме человека тертого, опытного.
Бывший комитетчик был ровен со всеми, приветлив — в то же время он не примыкал ни к каким группировкам, ни к каким «семьям»; таких, как он, в обычных зонах иногда называют «мамонами». Правда, первое время бывшие сыскари, «державшие масть», несколько раз наезжали на бывшего офицера спецслужб. Причины, конечно же, найти было нетрудно. Во-первых, отношения между МВД и КГБ всегда отличала острая, хотя и затаенная вражда, и вражда эта неожиданно давала знать о себе и тут, на «красной» зоне, а во-вторых, бывшие мусора и тут не могли избавиться от профессиональной привычки кошмарить тех, кто не принадлежит к их малопочтенному классу. Тем более, что осужденный офицер спецслужб, пусть даже и бывший — весьма нечастый гость в местах лишения свободы. Пришлось отстаивать свою честь всеми доступными способами: где — кулаками, где — дипломатически. Драки сменялись штрафным изолятором (хозяин явно благоволил блатным), после выхода оттуда бывшего офицера КГБ били вновь, но Лютый не сломался, и в конце концов его оставили в покое; видимо — окончательно.
Мало ли тут других объектов для издевательств?
Время шло, кто-то откидывался, кто-то наоборот — вливался в огромную лагерную семью, занимая экологическую нишу по мастям — среди блатных, мужиков, «чертей» или «петухов». И Максим Нечаев привык к этому вечному круговороту зэков, как привыкают к смене дня и ночи.
Да, время шло, летело, или, наоборот, — тащилось как опомоенные «черти», недавние участковые, тащат бочку с нечистотами из зоновского туалета, и бывший комитетчик, бывший опер совсекретной структуры даже не предполагал, что в жизни его может что-нибудь круто и кардинально измениться — по крайней мере, в самое ближайшее, обозримое будущее.
Ошибался ли он?
Трудно сказать.
Жизнь любого человека, будь то блатной, бывший оперативник, мужик, бывший следователь, придурок (зэк с образованием, какой-нибудь недавний сотрудник НИИ МВД, кандидат юридических наук), или даже круглый проткнутый пидар вроде Тампакса — своего рода рулетка, где все, независимо от желания, едва ли не каждый день ставят на черное или красное. И часто бывает, что после длительной полосы невезения, когда отчаявшийся игрок, выбирая между последней грошовой ставкой и пулей в висок за растрату казенных денег, отваживается на первое и — чудо! — удача поворачивается к нему лицом. Ставки удваиваются, потом — утраиваются, учетверяются, удесятеряются, и тот, кто еще недавно влачил, казалось бы, жалкое существование, меняет зоновский клифт на черный смокинг, а тюремную шконку — на огромную четырехспальную арабскую кровать с электроподогревом. А ему фартит, фартит и дальше, и удача теперь не просто улыбается, а семенит следом, как покорная восточная рабыня, и длится это…
— …осужденный Нечаев!.. — размышления Лютого прервал голос начальника отряда.
По правилам, надо было назвать статью, срок, окончание срока — процедура, которая повторялась по четыре раза на день.
Максим откликнулся.
— После развода — к хозяину. От промзоны ты на сегодня освобожден.
— Понял, — не глядя на капитана, ответил Лютый.
— Не слы-ышу… Ответь по уставу!.. Тоже мне, Джеймс Бонд сраный… Ты тут не на воле… На службе надо было из себя Джеймса Бонда изображать, а тут не хрен… Ну?.. Не слышу!..
— Понял, гражданин начальник, — совершенно невозмутимо отчеканил Лютый: ссориться с тупицей-капитаном, которому все равно ничего не докажешь, не хотелось.
Да и что он знает про волю?
Счастье набитого брюха, довольное урчание похоти…
Отряд двинулся в сторону промки, а Лютый в сопровождении капитана пошел в сторону административного корпуса, где располагался кабинет начальника ИТУ.
Обычные команды — «лицом к стене, руки перед собой, ноги на ширину плеч», дотошный шмон рекса, мерзкое ощущение чужих грубых рук, рыщущих по телу…
И чего они от него опять хотят?!
Этот ресторан не значился ни в одном московском путеводителе для гурманов; на фасаде его не мелькали призывные электрические буквы, и строгий швейцар еще на улице не оглядывал придирчиво будущих клиентов.
Располагался он в пределах Садового кольца, в месте тихом и уютном: заканчивающаяся тупиком узкая улочка, нежная зелень старых лип, мощеный булыжником дворик, литая чугунная ограда.
Прислуга отличалась предупредительностью и ненавязчивостью, метрдотель, пожилой мужчина, напоминающий, скорей, оперного певца — понятливостью, а сервировка наверняка была бы достойна любой коронованной особы, возникни у нее каприз тут отобедать или отужинать: серебряные приборы, посуда севрского фарфора, хрустящие крахмалом кружевные салфетки с вышитыми вензелями князей Гагариных…
Кухня, утонченная и изысканная, составляла особую гордость заведения. Трудилось тут три повара и один кондитер, выписанные специально из Парижа — это были настоящие кудесники и маги. Они учитывали все: очередность блюд; психологию еды, основанную на ассоциациях и воспоминаниях о когда-то съеденном, физиологию — интенсивность выделения желудочного сока у клиента, приливы крови, естественное утомление от процесса пищеварения…
Впрочем, швейцара тут все-таки тоже предусмотрели: огромный шкафообразный амбал, который, судя по виду, мог запросто выбросить из заведения любого сомнительного посетителя — хоть бы им оказался Арнольд Шварценеггер — был вышколен и вперед не выпячивался. Ресторан был закрытым, элитным — вход исключительно по пригласительным билетам, по предварительному согласованию с владельцем — тихим и скромным молодым человеком с физиономией бывшего комсомольского секретаря.
В тот вечер здесь собралось общество рафинированное, хотя и своеобразное: исключительно мужчины. Правда, то ли в силу каприза, то ли из-за профессиональных особенностей посетителей, то ли еще по каким-то причинам одеты они были весьма разношерстно: красные златопуговичные пиджаки соседствовали с грубыми кожанками, а чопорные смокинги классического английского покроя смотрелись на фоне спортивных костюмов, как минимум, нелепо.
Тем не менее публика чувствовала себя исключительно комфортно. Спаржа в белом вине, осетрина, черная и красная икра, консоме, соус пикан, устрицы, суп из акульих плавников, лягушачьи лапки — все это в сочетании с дорогими французскими и испанскими винами веселило дух и клонило к нехитрой застольной беседе.
В приглушенном, без суеты, гомоне, перестуке приборов и чавканье иногда различались отдельные фразы:
— …Лепеню еще четыре года на «балдоху» через решку смотреть…
— …а эта дешевка у своих кроить решил, филки закрысил…
— …натурально, катала. Но какой! — банкует, что стир не видно!.. Я с ним в лобовую — пять штук за полчаса просадил!..
Присутствуй тут посторонний человек, ему бы обязательно понадобился переводчик: для полноты восприятия и наслаждения изыском своеобразного языка говоривших. Переводчик бы пояснил, что неизвестному Лепеню оставалось еще четыре года смотреть на солнце через тюремную решетку, что какой-то нехороший человек присвоил чужие деньги, а один опытный карточный шулер сдает так, что даже карт не видно.
Но ведь тут были все свои, и переводчик им явно не требовался.
Председательствовал лысый, невысокий, очень низкий и очень тучный мужчина с густыми, косматыми бровями и одутловатым лицом. Пальцы его покрывали фиолетовые татуировки-«гайки», маленькие глазки буравили присутствовавших, будто бы просвечивая их невидимыми лучами. Впрочем, татуированный всегда смотрел на людей именно так, вне зависимости от ситуации; положение обязывало. Это был известный и авторитетный питерский вор в законе Крест: недавно он вышел на вольняшку (братва выкупила у следствия) из СИЗО города на Неве, название которого, по иронии судьбы, звучало почти также, как и воровское погоняло: Кресты.
Крест специально прибыл сюда, в Москву: во-первых — повидаться со старыми друзьями, а во-вторых — решить кое-какие деловые вопросы, навести подробные справки. Питерского вора очень интересовал новый отморозок, вставший во главе криминальной империи покойного Атласова: Иван Сергеевич Сухарев, он же Сухой.
Но об этом Крест предполагал поговорить попозже, в более узком кругу. Пока же приглашенные выпивали и закусывали, обмениваясь столичными новостями и профессиональными впечатлениями.
— …а тот фраер, дешевка, решил в мусарню ломануться, — кривясь, рассказывал высокий, атлетического сложения молодой человек с золотой цепью на бычьей шее тяжелоатлета. — Ну, ломанулся, и чо? Сдали его нам менты тепленького, и взяли недорого…
— Ты, Казан, неправильно мыслишь, — высокомерно прервал его высокий, худой старик с типичной внешностью голливудского «Крестного отца», сосед справа. — Теперь с этими бизнеснюгами, жирными клопами, связываться влом… «Крышу» ставить, долги вышибать… «Крышу» теперь менты да «контора» не хуже нас с тобой ставят. И на стрелку приехать могут — вон, пацаны Серого рассказывали — постреляли в его бригаде троих, а остальные еле ноги унесли. Теперь надо другой подход, другое мышление… Новое.
— И чо? — тот, кого высокий старик назвал Казаном, обернулся к собеседнику всем корпусом, едва не скинув на пол огромное блюдо с лобстером.
— Легальный бизнес — вот что. Лавье есть, связи наработаны, все куплены… Зачем быть бандитом — лучше быть бизнесменом, не так ли?
— Так чо — самим фраерами заделаться, так, что ли? — не понял сосед слева; это был типичный блатной, с синими от наколок руками, с очень выразительными взглядом и мимикой. — Раздербанить ведь проще…
— Это пока проще. А завтра будет не проще, — поучал более опытный коллега. — Вон — новый Уголовный Кодекс должны ввести… Говорят — в Думе одна очень серьезная московская группировка депутатов подкупила, чтобы те проект завалили или хотя бы на доработку отправили, чтобы отсрочить. Да и менты теперь лютуют — с нами наобщались, опыта поднакопили… Другой подход нужен. Вон, Сухой, говорят, какое-то дело с наркотой затеял…
При упоминании о Сухареве за столом воцарилась неловкая пауза: этот человек давно пользовался на Москве самой скверной репутацией.
— Да ладно, пацаны, — Крест, на правах старшего, вмешался в разговор, предотвращая зреющий инцидент. — Мы чо тут собрались — развлекаться или о делах тереть?
Казан, теребя золотую цепь, неожиданно пробасил некогда популярный блатной куплет:
— Ну, на тебя посмотришь, так сразу подумаешь: такой никогда не ослабнет. Такой как ты, способен институт благородных девиц превратить в институт Склифосовского… Сколько целок фуфлыжных на британский флаг порвал? — заржал блатной с выразительной мимикой.
— А я чо — считать буду, что ли? — со скрытым самодовольством хмыкнул атлет. — Я ж баб только в очко трахаю… Обыкновенно уже неинтересно.
— На зоне успеешь, — успокоил Крест примирительно. — Ладно, пацан, будут тебе бабы…
Ждать баб пришлось недолго: после первой перемены блюд в зальчике появилось штук десять красоток. Все, как на подбор — молодые, рослые, длинноногие, в мазовом прикиде, с улыбками, будто приклеенными к наштукатуренным лицам.
— Из театра моды взял, манекенщицы, — прокомментировал Крест, довольный собой. — Делают абсолютно все. Эй, Надя, — щелкнув пальцами, он схватил за ягодицы ближайшую к нему красавицу и, указывая в сторону Казана, спросил: — Вон, видишь, мой корефан сидит?
Та дежурно улыбнулась:
— Ага, дядя Сева.
— Так он в очко тебя трахнуть хочет.
— Прямо сейчас? — казалось, ничто не могло вывести платную красавицу из состояния душевного равновесия.
— Да ладно, Крест, пожру, тогда и трахну, — скривился обладатель золотой цепи. — Только не здесь, чтобы тебе да пацанам аппетит не портить.
— Да ладно тебе… За портьеру зайди, она, лярва, такие чудеса покажет! — подначивал питерский вор. — Или в рот. Надька — знатная минетчица. Сигарету выкурить не успеешь, как кончишь!
— А что, — старик, похожий на Крестного отца уже немного опьянел, — я когда в Таиланде был, так тамошние малолетки тако-о-е вытворяли! Сижу, значит, в ночном клубе, вискарем оттягиваюсь. Чувствую — кто-то ширинку расстегивает. Я скатерть приподнял, смотрю — девочка лет четырнадцати. Припала, как к мамкиной груди… Наверное, как от цицьки оторвали, так к другому и присосалась. Красота, бля буду!..
Народ пил и жрал, жрал и пил и, наконец, многих потянуло на подвиги и свершения. Девицы, окончательно раскрепостившись, принялись честно отрабатывать полученное от Креста лавье. Одни полезли под стол, дабы продемонстрировать, что они ничем не хуже таиландских малолеток; другие стриптиз; третьи, сдвинув со стола блюда, демонстрировали чудеса лесбийской любви в положении стоя. Оргия, немыслимая даже среди политической элиты времен КПСС, достигла предела разнузданности.
Гости — и татуированные, и нетатуированные — ржали от удовольствия, хлопали себя по ляжкам, живо комментируя происходящее.
И никто из них не обратил внимания, как привычно-невозмутимый официант поставил на свободный от лесбиянок и объедков край стола огромное блюдо, на котором возвышался жареный тетерев. Птица красовалась в оперении — будто бы живая.
Официант, обведя публику прищуренным взглядом, сразу же вышел на кухню…
Спустя какую-то минуту в зале прогремел взрыв — послышались истошные женские визги, звон посуды, стоны умирающих и ругательства. Затем прогремело несколько выстрелов: видимо, собравшиеся так и не поняли, что взрывное устройство было скрыто в жареной птице и потому стреляли наугад. Прогремел еще один взрыв, послабее, а потом все стихло…
Официант, добежав до черного входа, повернул торчащий в замке ключ, и тотчас же в полутемный коридор ворвались человек шесть с короткоствольными автоматами десантного образца. Двое трусцой побежали в холл — через минуту там раздалась короткая очередь; видимо, завалили шкафообразного швейцара.
Остальные бросились в зал.
Взору ворвавшихся предстало незабываемое зрелище: куски человеческих тел, перемешанные с дорогими блюдами, зловонные желтоватые кишки, свисающие с драгоценной хрустальной люстры, мозги, валяющиеся на полу…
Все были мертвы: было бы чудом, если после таких взрывов хоть кто-то остался жив.
Однако неожиданно в углу что-то зашевелилось — один из бойцов, пинком отбросив тонкую белую руку с наманикюренными ногтями, подошел к лежащему ничком старику голливудской внешности и стволом автомата резко перевернул его на спину.
Мужчина агонизировал: кровавая пена пузырилась на его губах, из перебитого горла вырывался тоненький свист…
Автоматчик, грубо раскрыв умирающему рот стволом своего АКСа, нажал на спусковой крючок…
— …что-то не вижу радости в ваших глазах, гражданин Нечаев, — Лютый поднял глаза, усилием воли заставляя себя взглянуть на собеседника; именно для беседы с ним начальник отряда и вызвал зэка к хозяину.
Вот уже полчаса он сидел в кабинете и слушал визитера из Москвы. Огромный, какой-то упругий, словно гуттаперчевый сейф, эдакий мешок, набитый бицепсами, трицепсами и сухожильями, он и на человека был мало похож: скорей — киборг из попсового американского видика. Глаза, глубоко посаженные, неживые, словно лужицы застывшей марганцовки, смотрели на Максима совершенно безразлично.
Одет он был в строгий костюм консервативного покроя, но Нечаев, едва взглянув на этого человека, почему-то подумал: такому куда больше подошли бы скафандр какого-нибудь отрицательного героя из «Звездных войн» или, как минимум, защитный камуфляж.
Визитер из Москвы принес весть столь же невероятную, сколь и радостную до неправдоподобия: с сегодняшнего дня он, Максим Александрович Нечаев, никакой не осужденный, а вольный человек. Специальным указом, подписанным очень высоким кремлевским начальством ему, в порядке исключения, была дарована амнистия.
Впрочем — дарована ли?
Ведь такие подарки не делаются просто так…
Стараясь придать своему голосу спокойствие с явным оттенком безразличия, Лютый спросил:
— Я что-то должен буду взамен?
— Разумеется, — голос столичного гостя был ровен и бесстрастен.
— Кому?
— Человеку, который хлопотал за вас. Человеку, благодаря которому вы становитесь свободным.
Максим, нервно нащупав в кармане сигарету и спички, закурил.
— Вы имеете в виду Прокурора?
— Да, — ответил гость, — я имею в виду человека, известного как Прокурор. Больше вам о нем знать не положено.
— И что я должен буду делать?
— То, что вам скажут, — собеседник поморщился — видимо, он был некурящий и не переносил табачного дыма. — И вообще, советую не задавать лишних вопросов.
— А если я не соглашусь?
— Почему? — этот вопрос немного удивил визитера.
— Ну, потому, скажем, что я теперь свободный человек, и потому вправе сам распоряжаться своей жизнью. Я принадлежу только сам себе…
На резиновых губах киборга обозначилось некое подобие улыбки.
— Вы ошибаетесь. Я не принадлежу себе. Прокурор не принадлежит себе. Президент не принадлежит себе. Никто не принадлежит себе. И вы тоже не принадлежите себе, Лютый, — по тому, что его назвали не по фамилии и не по имени, а по старому оперативному псевдониму, Максим приблизительно понял, какая плата за свободу от него потребуется.
— И все-таки? — не сдавался Максим, желая внести ясность.
Ни слова не говоря, гость щелкнул замочками атташе-кейса и выложил перед собеседником пачку цветных фотографий.
На одной были изображены внутренности дотла обгоревшей квартиры и обугленный труп какой-то женщины. На другой…
Максим вздрогнул от неожиданности: пышная копна каштановых волос, по-девичьи острый подбородок, печальный взгляд…
Это была Наташа Найденко — единственный человек, которому он посылал отсюда письма.
— На первом снимке — квартира, в которой проживала Наталья Васильевна Найденко. Вы видите обгоревший труп матери. Судебно-медицинская экспертиза установила следы удушения. А саму девочку похитили. Сразу же после выпускного вечера. И до сих пор не нашли, — прокомментировал собеседник. — И ваша задача… Надеюсь, теперь вы поняли, Лютый, что больше не принадлежите себе? И никогда не принадлежали, — как бы между прочим добавил он.
Нечаев взял снимок, пристально всмотрелся в него, словно пытаясь воскресить в памяти черты лица девушки…
Да, выбора не было: его вновь использовали, из него вновь делали марионетку, и вновь приемы были самыми недостойными.
Прокурор для Лютого: кто он — друг, враг?
— Собирайтесь, с вашим начальством я уже обо всем договорился, — посланец Прокурора деловито сложил снимки в конверт. — Через пять с половиной часов у нас самолет на Москву…
Глава восьмая
Дорога до аэропорта заняла не более сорока минут — все это время Максим провел в напряженном молчании, то и дело посматривая на спутника. Тот выглядел совершенно невозмутимым — шелестел газетами, решал кроссворды (притом самые сложные, из пятидесяти двух пунктов, занимали у него не больше десяти минут). Киборг не обращал на недавнего зэка никакого внимания — словно бы Лютый и не человеком был, а каким-то неодушевленным предметом, который следовало доставить по месту назначения и сдать под расписку.
— Да, чуть не забыл: называйте меня Рябина, — неожиданно представился киборг.
— А по имени-отчеству? — осторожно поинтересовался Лютый.
— Большего вам знать не следует, — коротко отрезал Рябина, всем своим видом давая понять, что разговор на этом завершен.
Не следует так не следует. Только непонятно, что означало «Рябина» — фамилию, оперативный псевдоним?
Максим отвернулся. Долго смотрел сквозь пыльное стекло автобуса на долгожданную волю, о которой так долго мечтал, на пробегавшие мимо окон перелески, нежно-изумрудные луга с пасущимися на них пятнистыми коровами, небольшие поселки. На маленьких огородах копошились люди — серые, грязные, угрюмые. Вид их никак не гармонировал с сочной, цветущей зеленью мая и вообще с тем, что называют «свободой».
Тут, на вольняшке, все осталось по-прежнему — ничего не изменилось. Изменился только он, Лютый…
Максим сомкнул веки, откинул голову на спинку сидения и, отодвинув локоть в сторону, чтобы не касаться Рябины, задумался…
Что ждет его на воле, в Москве?
Для чего его так подозрительно спешно освободили?
Верить в благородство не приходилось — у бывшего офицера спецслужб, человека опытного и проницательного, и в мыслях не было подобного: такие, как Прокурор, действуют исключительно из соображений целесообразности. Тогда, два года назад, подставил его, потому что это было целесообразно, теперь целесообразно изъять из зоновской жизни, переправив, как чемодан, в Москву… Холодный расчет интригана, позволяющий осуществить задуманное — не более.
Какой сюрприз приготовил он для Лютого на этот раз?!
Естественно, вопросы не находили ответов, а спрашивать у бездушного киборга было бы глупо.
Уже в аэропорту, в кассах, взяв у подопечного справку об освобождении, порученец Прокурора приказным тоном попросил ее обладателя держаться рядом.
— Вы бы меня к себе наручниками пристегнули, как кейс с совсекретными документами, — не выдержал Максим.
Рябина посмотрел на него с укором.
— Я просто выполняю свою работу. Я на службе, и делаю то, что мне приказано. Я строго следую инструкции. И кому, как не вам, бывшему старшему лейтенанту КГБ, не знать этого…
И вот — стойка аэропорта, паспортный контроль, заплеванная комнатка под омерзительным названием «накопитель», желтый аэрофлотовский «Икарус», подвозящий пассажиров к трапу ИЛа…
Вот она, желанная воля — дорога домой.
Пассажиры расселись по местам. Максим, устроившись у иллюминатора, печально взглянул на приземистые строения аэропорта, ангары, склады, на бело-голубые самолеты, застывшие на взлетной полосе. Этому суровому краю он отдал почти два года жизни — не дай Бог вернуться сюда еще раз.
Заревели двигатели — самолет, качнувшись, медленно подался вперед.
— Товарищ Рябина, — Лютый со скрытой издевкой произнес слово «товарищ», до сих пор принятое в чекистских кругах, — а в Москве вам приказано доставить меня домой? Или сразу к товарищу Прокурору?
Киборг не прореагировал никак — даже не взглянул в сторону спутника. Неожиданно Лютому пришло в голову странное сравнение с электрическим турникетом в метро — бросил жетончик, турникет открылся. Бросил пуговицу — не открылся. Только тут вместо жетончика вопросы, но варианта, как и в метрополитене, два: ответить или проигнорировать. Видимо, последний вопрос-жетончик не проходил в каком-то фильтрационном механизме электронного мозга киборга: жетончик не соответствовал, входа нет, турникет выставил штангу, ответа не будет.
Максим, отвернувшись, долго и растерянно смотрел в налитое неестественно глубокой голубизной небо, в перистые облака, скрывавшие землю под крылом самолета они казались совершенно неподвижными.
А ИЛ тем временем быстро набрал высоту — от перемены высоты и шума двигателей ватно закладывало уши. Лютый, опустив сидение, задремал: теперь душевное спокойствие было ему нужней всего…
Самолет приземлился во Внуково ночью — на взлетной полосе стояла серая тридцать первая «Волга», и Максим безошибочно определил, что машина прибыла за ним и Рябиной.
Сойдя с трапа, Лютый вдохнул воздух полной грудью… Воздух Москвы, воздух свободы: он не дышал им столько времени! И пусть ругают столицу за грязь, за пыль и загазованность, но ее атмосфера несравнима ни с какой другой.
— Прошу вас, — корректно произнес Рябина, легонько взяв спутника за локоть и, указывая в сторону машины, добавил: — У нас мало времени…
Спустя час «Волга», оставив за собой ряд московских магистралей, снова выехала за пределы столицы.
— Куда вы меня везете? — Максим не скрывал беспокойства; впрочем, оно было вполне объяснимо.
— На загородную базу структуры «КР», — наконец-то снизошел до объяснения киборг. — Пока вас поселят в казарме. После все узнаете…
Максим не стал спрашивать — что это за структура, почему так загадочно называется, и почему, собственно, его вновь будут держать в положении арестованного (а то с чего бы вдруг в казарме селить?): Рябина и так сказал слишком много. Наверное, даже больше, чем допускалось по инструкции…
Наверное, никогда еще Сухой не был так доволен собой, как теперь. Сидя в своем роскошном кабинете, он с улыбкой слушал доклад старшего группы ликвидаторов о событиях в элитном ресторане.
— Так говоришь — в жареного тетерева взрывчатку подложили? — рачьи глазки Сухарева словно маслянистым налетом подернулись.
— Да, я ж тебе говорил: халдей, официант ихний — наш человек. От него мы о том сходняке и узнали. Ну, дальше и вычислили, что и как… Остальное, как говорится, дело техники.
Конечно же, и Крест, и Казан, и Краб, и Гаврила, и прочие авторитетные люди, присутствовавшие в ресторане, не были личными врагами Сухого. Более того — никого из них он ни разу не видел, ни с кем не был знаком и даже не имел общих интересов.
Но теперь в этом сволочном мире, в этой долбанной стране все друг другу враги: и чем весомей твои успехи, тем этих врагов больше. Враги могут быть реальные и потенциальные. Реальных вроде бы не осталось (не считая Коттона), а вот потенциальные…
Нанести упреждающий удар, нажать на спусковой крючок первым, чтобы потенциальные никогда не превратились в реальных — Сухарев никогда не отступал от столь нехитрой, жестокой, но, тем не менее, очень верной для криминального мира философии.
Люди, собравшиеся на празднестве в честь «откидки» Креста, были врагами потенциальными — пока что. Но в будущем, как справедливо просчитал Сухой, они несомненно должны были стать настоящими, стопроцентными, недругами: непримиримыми и заклятыми. Во-первых, из-за его суперграндиозного проекта «Русский оргазм», а во-вторых, питерский вор босяцкой формации Крест (отморозок знал это точно) поддерживал Коттона, врага более чем реального. Вопрос перехода из состояния хорошо сдерживаемой неприязни в состояние открытой вражды был вопросом времени…
«Звеньевой», нервно теребя толстую цепь на бычьей шее, продолжал делиться подробностями:
— Ну, сперва один взрыв, потом второй. Всех в мелкую капусту, на куски. Руки, ноги по залу, только кровищи литров двадцать! Ноги скользят, прикидываешь? Кишки на люстре висят, мозгами все стены запачканы — крас-сота! Один только и уцелел — старик какой-то.
Сухарев сдвинул брови, недовольный.
— Что? Ушел?
— Да нет, чего там, — хмыкнул собеседник, явно довольный собой. — Смотрю: дергается. Ну, я его и завалил. Ствол в рот и — полный рожок… У меня всегда все путем — не то, что у Кабана, земля ему колом…
При упоминании о Кабане Сухарев нахмурился. Этому «звеньевому» было предписано отправиться в Черемушки, на хазу Вареника и привезти жулика сюда, на виллу в Воскресенское, чтобы допросить с пристрастием. Однако случилось непредвиденное: «звеньевого» и трех его бойцов быстро и грамотно ликвировали какие-то неизвестные — вместе с ними исчез и сам Вареник. Сухой не сомневался, что это дело рук какой-то неизвестной пока бандитской бригады, подписавшейся под Коттона.
Подвинув на край стола рюмку с дорогим коньяком, Сухой зашуршал свежим номером «Московского комсомольца», в котором события на Новочеремушкинской живописались предельно натуралистично, со всеми кровавыми подробностями. Подчеркнув ногтем заметку на первой странице, Сухарев сунул газету собеседнику.
— На, взгляни-ка…
Тот пробежал глазами всего один столбец, предложений десять: кого нынче в Москве такой мокрухой удивишь?!
— М-да, офаршмачился Кабан, офаршмачился… — процедил «звеньевой», возвращая газету. — Всегда дураком был, дураком и подох. — Бандит истово, широко перекрестился. — Нехорошо, конечно, о жмурах так базарить, но — правда ведь…
— А ты думаешь — кто это мог? — Сухарев пригубил коньяк.
— Ну, урки эти… Татуированные. Наши потом соседей опросили — никто ничего не видел, никто ничего не знает. Типа — «моя хата с краю». Да и верно: под вечер это случилось, пролетарии, что в тех хрущобах живут, еще со своих заводов не вернулись…
— Вот и я думаю, что это Коттон, — задумчиво согласился Сухой, глядя не на собеседника, а куда-то в сторону. — Все правильно, все сходится: с Польши его согнали, лавье в общак не ссыпается, осталось ему одно — на Москве объявиться. У корефанов помощи просить — у того же Казана… Его пацанов работа, точно.
— А узнали откуда?
— А это уже мой косяк, — Сухому было не чуждо чувство здоровой самокритичности, — точно, мой… Помнишь, когда в бане мы с тобой базар держали, со мной две лярвы были… Так вот они, наверное, и сдали. А то кому же еще? Вишь, до чего блядство-то людей доводит? — закончил он немного нравоучительно.
— Так давай вычислю их, — с готовностью предложил «звеньевой», — пацанам на раздербан отдадим, те — с радостью…
— Да я к ним Штуку с пацанами посылал — Квартира была съемная, они там больше не живут. Короче, тут все понятно: сдали и свалили в тот же день. Поди, поищи-ка их теперь в этом городе. Ладно, — Сухарев пружинисто поднялся, — мир тесен, шарик круглый, даст Господь, свидимся когда-нибудь. Поквитаемся. А теперь надо Коттона искать. Все накидки прокачивай: родственники, друзья, подельники, кореша, с которыми сидел… Искать надо, искать: покуда эта татуированная картинная галерея жива, не будет у нас спокойной жизни.
— Понял, — кратко ответил собеседник.
— Ладно, ты иди, если что, я тебе сам позвоню…
Когда «звеньевой» ушел, Сухарев, спустившись на лифте в цокольный этаж, загремел ключами. Открыл тяжелую металлическую дверь, прошел гулким коридором и остановился у другой двери: в нее был вделан дверной глазок, только не наружу, а вовнутрь помещения.
Хозяин виллы припал к глазку, открывавшему панорамный обзор.
Небольшая, но уютная и чистая комнатка: телевизор, видеомагнитофон, столик, стулья, полочка с книгами. Окошко под потолком. Еще одна дверь — видимо, в туалет и ванную. Кровать. На ней, поджав под себя ноги, сидела молоденькая девушка: густые каштановые волосы, огромные печальные глаза, ломкие полупрозрачные руки… Девушка, не мигая, смотрела в пространство перед собой. Вид пленницы выражал смертельную, беспросветную тоску.
Сухой поднялся в свой кабинет, уселся у компьютера и, сняв секретный код с какого-то файла, долго читал текст, беззвучно шевеля губами:
Даже однократное употребление дозы «русского оргазма» создает стойкий синдром привыкания. В современной медицине не существует способов реабилитации, потому что с подобным препаратом наркологи еще не сталкивались.
Потребление «русского оргазма» делает человеческую психику предельно неустойчивой и аморфной, позволяя манипулировать поступками и даже мыслительными процессами…
Нажав кнопку селектора внутренней связи, Сухарев что-то пробурчал, вновь закодировал информацию и выключил компьютер. Спустя минут пять появился мрачный горбатый уродец — весь какой-то квадратный: плечи, кулаки, туловище — даже голова. Это был телохранитель, камердинер и эконом загородного хозяйства.
— Ну, Штука, как там эта девка?
— Сперва скандалила, ругалась, плакала, меня, сучка, за палец укусила, а теперь успокоилась вроде, — ответил тот, кого хозяин назвал Штукой. — Мы ей бром в питье подмешиваем.
Криминальный босс облизал губы.
— Я вот чо подумал…
— Что?
— Попробуй-ка потихоньку присадить ее на «русский оргазм».
— Так ведь… привыкнет, — квадратный горбач почесал под мышками, будто бы там водились какие-то назойливые мелкие насекомые. — Ты ведь сам говорил — мол, одного раза достаточно, чтобы всю дорогу на нем сидеть.
— Делай, что говорю, — грубо прервал его Сухой. — Только незаметно… В еду подмешай, в питье… Вместо брома. Понял? А насчет того, что подсядет — и сам знаю. На то и наркотик…
Слово «наркотик» ни разу не прозвучало на расширенном заседании совместных коллегий МВД и ФСБ, но оно неслышно витало в воздухе — словно пронизывая атмосферу, незримо электризуя ее.
Заседание проходило в просторном, ярко освещенном помещении. Присутствовавшие — все, как один, генералы, — слушали докладчиков, кивали, иногда даже вступали в прения, но как-то вяло. Видимо потому, что самые влиятельные силовики, сидевшие в президиуме, выглядели предельно озабоченно: их не интересовал ни разгул преступности, ни криминальный беспредел, захлестнувший не то что Москву — всю Россию.
Их явно интересовало что-то другое…
Впрочем, последнее сообщение о массовом уничтожении ряда московских авторитетов и питерского вора Креста вызывало у присутствовавших некоторый интерес.
— Следствие уже теперь располагает всей необходимой информацией, — сделавший это сообщение полковник из «мурки», Московского Уголовного Розыска (кстати, единственный полковник тут, в зале) еще долго и нудно повествовал о борьбе двух ветвей российского криминалитета: несомненно, массовый завал имел к этому противостоянию самое непосредственное отношение.
В первом ряду сидел мужчина, одетый в консервативный костюм, освеженный, впрочем, легкомысленной расцветки галстуком. Он специально не сел в президиум — не потому, что не положено (а кому же, как не ему?); просто этот человек не любил светиться на людях. Слушая докладчика, он с трудом подавлял зевоту. Все это было ему известно — даже слишком хорошо.
Более того, Прокурор (а это был именно он) вполне мог предотвратить акцию по уничтожению авторитетов: агент Рябины «Лиля», работавшая под банную проститутку, сообщила о готовящейся акции — также, как и о планах по похищению Вареника.
Вареник теперь находился там, где ему и было положено. А авторитеты… Что ж поделать: жизнь таких, как Крест, Казан или Ракита, как и у всех людей, состоит из будней и праздников. Отправляться на тот свет приятней в приподнятом праздничном настроении — пусть еще «спасибо» скажут…
Первое действие спектакля под названием «Общероссийская борьба с организованной преступностью» было закончено и теперь, по логике, должен был наступить антракт: актеры, смешавшись с публикой, пойдут в буфет пить пиво, есть бутерброды и обсуждать наиболее запомнившиеся подробности.
А после антракта, как и положено, ожидается появление на сцене главного героя. Герой этот, недавно извлеченный из мест лишения свободы, находится на подмосковной базе «КР», и им занимается Рябина. Правда, Лютому еще предстоит подучить свою роль, но ничего — если забудет, суфлер поможет справиться с текстом. Да и стимул есть…
— Перерыв на пятнадцать минут, — объявил председательствующий замминистра, и самые высшие генералы пошли в специальную курительную.
Прокурор, поймав себя на мысли, что слово «перерыв» звучит куда более пошло и приземленно, чем «антракт», о котором он только что подумал, поправил сползающие с переносицы очки в старомодной золотой оправе и поднялся со своего места. Спустя несколько минут он уже небрежно кивал на подобострастные приветствия высшего правоохранительного генералитета.
Правда, подобострастие это было немного не таким, как обычно: взгляды казались косыми, растерянными, даже убитыми…
Да, что и говорить: слово «наркотик», хотя и не звучало в открытую, но — подразумевалось. Прокурор знал, и знал отлично: многие, очень многие из этих борцов с оргпреступностью вложили в «русский оргазм» деньги — как свои, так и тех коммерческих структур, которым подчиненные им силы делали «крышу» от бандитов.
И уж наверняка все они были в курсе событий в Малкиня и Белостоке…
Перекинувшись с эфэсбэшным генерал-лейтенантом несколькими ни к чему не обязывающими фразами, Прокурор затушил недокуренную сигарету и ушел, спиной ощущая, как тот неприязненно посмотрел ему вслед.
Уже в машине, протирая линзы очков белоснежным носовым платком, их обладатель почему-то подумал, что после его ухода плотину прорвало, и теперь борцы с оргпреступностью, а на самом-то деле — обыкновенные марионетки его спектакля склоняют только четыре слова: «деньги», «оргазм», «Польша» и «проценты»…
От этой мысли Прокурору почему-то стало весело. Откинувшись на спинку сидения, он негромко скомандовал водителю:
— На базу «КР»…
Глава девятая
Казалось, ничто не нарушало покоя небольшого подмосковного городка, лежавшего в зелени влажной долины извилистой речушки, петлявшей между невысокими, пологими холмами.
На пыльных, залитых солнцем улицах с раннего утра постукивали подошвы школьников — до конца учебного года оставалось всего несколько дней. Женщины катили детские колясочки в спасительную тень лип и каштанов. Бабушки с сумками да авоськами, возвращаясь из продуктовых магазинов, останавливались, перебрасываясь дежурными вопросами о здоровье, невыплаченной пенсии и последней серии «Санта-Барбары». Понурые, похмельные бомжи, коих в городе было не меньше, чем школьников, печально бродили по мусоркам да помойкам в поисках пустых бутылок.
Старика с вытатуированными на пальцах перстнями не интересовали ни счастливые школьники, ни молодые мамы, ни глупые старушки. Он жил тут, в ста километрах от Москвы, уже четвертый день — представившись администраторше гостиницы вернувшимся с Севера богатым вахтовиком-нефтяником, старик снял скромный однокомнатный номер. Документы гость предъявил очень своеобразные — новенькую стодолларовую бумажку, за что администраторша полюбила богатого вахтовика на всю оставшуюся жизнь. На улицу новый постоялец почти не выходил, пьяных дебошей не устраивал, песен не горланил, девчонок в номер не водил: неизвестно, чем он там занимался. Правда горничная, убиравшая его номер, как-то обратила внимание на какой-то странный телефон, лежавший на столе — черный, с толстым отростком антенны, с каким-то серым табло над кнопками цифр, он был без привычных проводов.
— Сотовый, — с краткой суровостью пояснил старик, перехватив ее недоуменный взгляд, — связь через спутник. Через космос, — и жестом гуру какой-то восточной секты глубокомысленно указал пальцем в потрескавшийся потолок, видимо подразумевая под ним недоступные, невидимые астральные сферы.
Этот мобильный телефон был единственной пуповиной, связывавшей Алексея Николаевича Найденко с внешним миром. Целыми днями он названивал по каким-то одному ему известным номерам, беседуя с загадочными абонентами на весьма своеобразном языке, для глупой горничной явно непостижимым:
— Что с теми марамойками дешевыми? «Заводного» не пробили? А когда? Кто вместо Креста над Питером будет — Гарик из Зугдиди? «Пиковый»? Это же натуральный «апельсин», знаю его, всего три года на общаке под Мурманском парился, потом масть пошла, филки откудав-то повалили, «коронацию» у Гейдара Бакинского и Демы с Фиолетовым купил… Те только и могут, что «сухарей» плодить. Гарик думает, коль лавье есть, то все можно… Нет, добро не даю, конечно. Не тянет этот маслокрад на вора. Был уже такой Пушкин — завалили, и всех делов. Что? А если собраться всем? Насчет Сухого, а то… Что — аж через два месяца? А что? А? Так чо — беспредел этот терпеть? Порядка нет, весь город на ушах… Что значит — «времена изменились»? Времена всегда были хреновыми, и тогда, и теперь. Тогда мусора гнобили, теперь эти, отмороженные… А работать с кем собрался — с лотошниками? Почему два месяца, почему раньше нельзя? Да к тому времени пасти мне шалман на Хованском кладбище, в натуре! Я ж на дно залег, в камышах сижу — трубы на секе!..
Коттон скрывался — тут, в Подмосковье, он чувствовал себя в относительной безопасности. Хотя — как сказать… Пахан, оставшийся один, практически без ближнего окружения, без преданных пацанов, знал отлично: Сухарев разыскивает его по всей Москве, Сухарев поднял на ноги всех, кого можно поднять, Сухарев не даст ему пощады.
Найденко уже знал и о поджоге квартиры жены покойного брата, и о ее смерти, и, конечно же, об очередном похищении любимой племянницы, с которой ему так и не довелось свидеться. Наташа нужна была Сухому как приманка, наживка — авось клюнет?
Но Алексей Николаевич, скрепя зубами, никак не выдавал своего теперешнего убежища. Он названивал всем, кому мог: корефанам, бывшим подельникам, авторитетным людям, ворам — как в Москве, так и в других городах, но ответы были неутешительными. После образцово-показательного расстрела в элитном ресторане традиционная, босяцкая генерация криминалитета присмирела, видимо, подспудно осознав, что ее время заканчивается. На смену приходили люди с железной психикой и корабельными канатами вместо нервов, люди суровые, расчетливые и безжалостные, у которых не было совершенно никаких принципов, кроме одного: подгрести под себя все, что можно.
С такими трудно сражаться — наверное, почти невозможно…
Несколько раз Коттон брал в руки телефон, чтобы позвонить Прокурору: вне сомнения, только этот человек мог ему действительно помочь. Но в самый последний момент пахан откладывал «ручник»; он никогда еще не был столь нерешительным. Причин было великое множество, но главная — все-таки та, что и этот кремлевский чиновник, единственный представитель власти, которому он когда-то верил, продался отмороженным негодяям.
Прокурор всю жизнь использовал других людей. Использовал и его, пахана, поставив смотрящим над проектом «Русский оргазм». И того пацана, бывшего офицера «конторы», которого затем упрятал на шконки «красной» зоны.
И много кого еще…
Да, Алексей Николаевич отлично помнил последний разговор на Радомском шоссе под Варшавой: мол, ты — смотрящий от преступного мира, я — из Кремля. Наши интересы совпадают, но — временно. Кто может дать гарантии, что теперешние интересы Прокурора не совпадают с интересами Сухого? Тогда кремлевскому бонзе есть резон сдать отморозку недавнего союзника. А ведь у него практически неограниченные возможности, и рычагов давления куда больше, чем надо: прокуратура, мусора, та же «контора»… А самое главное — Наташа, к похищению которой, как был твердо уверен старый вор, приложил руку сам Прокурор.
Несколько раз вор даже набирал первые цифры номера, но в самый последний момент неожиданно менял решение. Отследить обладателя сотового телефона спецсредствами ФАПСИ, Федерального Агентства Правительственной Связи и Информации — раз плюнуть. Можно, конечно, попытаться прозвониться с Главпочтамта, но где гарантии, что и там не ждет подстава?
И Коттон всякий раз откладывал телефон, разминал сухими, желтыми от никотина пальцами «беломорину» и прикуривал, окутываясь сизым дымом.
Да, что-то очень непонятное происходит в мире, какой-то такой странный и жуткий, неправдоподобно дикий спектакль разыгрывается в России, в Москве — вор все чаще и чаще задумывался над происходящим, но никак не мог разобраться. Криминал и высокая политика переплетены в России настолько тесно, что понять, кто есть кто, практически невозможно. Продолжается все та же, криминально-политическая мистерия, вот уже который год длится она, и роли в ней, в этой мистерии-монстриаде, давно расписаны, как и сценарий — на несколько актов вперед… И ему, старому уважаемому человеку, для которого любая пересылка, любая зона, любое СИЗО — дом родной, человеку, которому давно уже пора на покой, отводится заведомо третьестепенная роль.
Пахан поднялся, решительно затушил папиросу.
Что ж, иногда даже марионетки способны кардинально изменить ход спектакля.
От него требуют уйти со сцены? Публика захлопывает, суфлер шипит из будки, режиссер-постановщик делает страшное лицо из-за кулис?
Хорошо, он согласен…
Но совершит это по-своему — так, чтобы в последнем акте появиться вновь.
Эти кооперативные гаражи, расположенные на окраине городка, ничем не отличались от московских — в Чертаново, Сабурово или Медведково: безразмерно-длинный бетонный забор, испещренный матерными пожеланиями, выполненными аэрозольной краской, а также лаконичными сообщениями о том, что «Саша Лукашев — козел», «Лена — лесбиянка», а «Спартак — чемпион!», смертельная тоска замкнутого с четырех сторон мертвого бетонного мира, ржавые, догнивающие кузова автомобилей, осколки разбитых аккумуляторов, бурая прошлогодняя листва, которую иногда палили вредные окрестные ребятишки…
Невысокий старик с вытатуированными на пальцах перстнями, помахивая спортивной сумкой, задумчиво шел вдоль ряда металлических ворот, глядя себе под ноги.
Унылый ряд гаражей заканчивался небольшим тупичком. Ворота крайнего, под номером «129» были ржавыми, потечными, царапины от створ на крошащемся цементе съезда выглядели размытыми — по всему было видно, что они не открывались с прошлого года.
Старик остановился, поставил сумку на землю и, закурив «беломорину», хищно осмотрелся по сторонам: никого. Опустил руку в карман, нащупал набор отмычек…
Замок — одна из немногочисленных преград, издревле существующих между вором и терпилой, то есть потерпевшим, натуральным или потенциальным. Чем выше статус терпилы, тем лучше у него замок. Замки совершенствуются, но совершенствуется и мастерство тех, от кого они и поставлены…
У человека, стоявшего рядом с заржавленными воротами гаража номер «129», замок никогда не вызывал раздражения и злости — только уважение. Уж какие сложные «механизмы» были в квартире сотрудника аппарата ЦК КПСС, которую он вскрыл в 1984 году, и то сдались. Замок — загадка, ребус, головоломка, шарада. Она нуждается в разгадке, в разговоре на равных. И разговор должен быть вдумчивым, терпеливым и трепетным. Замок — не враг, а хитрый, умный собеседник — точно опытный следак, он пытается запутать, поймать на слове, передернуть сказанное-сделанное ранее…
Для человека, считавшегося в семидесятые годы одним из лучших квартирных воров советской столицы, открыть банальный амбарный замок очень просто. Это не опытный следак прокуратуры, вызывающий уважение профессионализмом, а тупой сержант ППС, бычье из бычья. Такому «форель прогнать» — плевое дело.
Короче говоря, спустя несколько секунд замок-собеседник уже беспомощно болтался в петле, а обладатель татуировок-«гаек» медленно открывал металлическую дверь. Запах бензина, краски, отработанного масла и пыли ударил ему в ноздри. Найденко, еще раз оглянувшись по сторонам, отодвинул половинку гаражных ворот: на вора смотрела печальная морда четыреста седьмого «Москвича» — облупленная краска капота, круглые фары, побитая решетка радиатора, погнутый бампер… Удивительно, но эти антикварные машины ездят в России до сих пор.
Коттон быстро и цепко осмотрел внутренности гаража. На самодельных полках стояло множество банок, баночек, пластиковых емкостей из-под масла, бутылки с какими-то химикатами. Рядом с машиной чернела большая металлическая канистра — открыв ее, Алексей Николаевич безошибочно определил: бензин. За машиной хранилось еще штук пять таких же канистр: видимо, хозяин гаража отличался похвальной запасливостью.
Прикрыв ворота, пахан отправился к выходу из кооператива — полчаса назад, по дороге сюда, он заприметил там старого, похмельного бомжа, рывшегося на помойке в поисках пустых бутылок: судя по виду — одного с ним возраста и телосложения.
Разговор был недолгим, но очень содержательным: за бутылку водки грязный обитатель помойки, представившийся «Андрюхой с Бульвара», с радостью согласился помочь автолюбителю.
— Мне только гайки подкрутить надо, — нехорошо глядя на лицо без определенного места жительства, сказал старик, — а один не смогу, не подлезу. Я крутить буду, а ты только подержишь…
— Не вопрос, — жадно ощерился Андрюха с Бульвара, предвкушая в зловонном пересохшем рту халявную выпивку, — да за пузырь я тебе… хоть всю машину разберу!.. Ну, отец родной, веди в свой гараж, а то у меня с утра трубы горят…
Коттон завел бомжа в гараж и, пропустив вперед, осторожно поднял с пола тяжелый газовый ключ — любитель дармовой водки, занятый изучением наклеек на бутылках с химреактивами, не мог видеть, что теперь движения старика стали мягкими и расчетливыми, словно у рыси…
Удар — грязный бомжара, обливаясь кровью, с тихим стоном свалился на промасленный пол гаража.
Остальное было делом техники.
Сперва Найденко обшмонал карманы жертвы — никаких документов у бульварного бомжа Андрюхи, естественно, не было. Затем извлек свои документы, сотовый телефон, несколько старых кредитных карточек: все это легло на капот. Затем раздел ватное тело, облачил его в свою одежду — неброскую, но довольно дорогую — паспорт, сотовый телефон и кредитные карточки были рассованы по карманам. Затем достал из спортивной сумки другую одежду, черные солнцезащитные очки-«хамелеоны», гримерный наборчик и небольшое зеркальце.
Спустя минут двадцать все было готово: приклеенные усы, парик и огромные каплевидные «хамелеоны» делали его совершенно неузнаваемым.
Вор открыл канистру, облил бесчувственное тело бензином — по закрытому гаражу пронесся резкий сладковатый запах. Затем извлек из спортивной сумки загодя подготовленную ветошь, зажег ее и положил рядом с бензиновой лужей — ткань тихо затлела…
Через пять минут Коттон, то и дело поправляя сползавшие с переносицы «хамелеоны», бодро шагал вдоль длинного бетонного забора, помахивая пустой сумкой. Когда он подошел к железнодорожному переезду, тишину предместья вдребезги разбил страшной силы взрыв. Обернувшись, Найденко увидел, как над огромным гаражным комплексом вздыбился черно-алый огненный гриб — в гараже взорвались канистры с бензином. Гриб этот, как при ядерном взрыве, медленно и неотвратимо рос, увеличиваясь в размерах — даже сюда, к далекой насыпи, доносился жар. Послышались встревоженные крики, какие-то люди, скорее всего владельцы других гаражей, метнулись к главному входу…
Широко расставив ноги, вор стоял, обернувшись лицом в сторону жуткого огненного шара — теперь огненная роза цвела, казалось, над всей округой. Безумные блики играли на стеклах «хамелеонов», и пахан, закуривая «беломорину», едва слышно пробормотал:
— Вы хотели, чтобы я исчез? Хорошо, считайте, что меня нет. Но в последнем акте я все равно появлюсь и поступлю по-своему…
Обуглившийся остов человеческого тела лежал на блестящем цинковом столике с аккуратными желобками для стока жидкостей. В помещении — небольшом, с люминисцентными лампами под низкими потолками — стоял запах формалина и гниющего человеческого тела.
Да, здесь в городском морге, властвовала смерть — она была повсюду, в этом ведомстве бога Танатоса, и наука, которая вторгается в его святая святых, то есть изучает причину смерти, называется танатология. Она изучает не только причины, но и ее механизмы, признаки. Бог Танатос не любит, когда кто-нибудь несет смерть насильственную, отбирая у него жертву; и тогда он появляется сам, давая в руки следователя и эксперта невидимые нити — почти неощутимые, эфемерные, но все-таки реальные. Они-то и позволяют если и не определить убийцу, то хотя бы выяснить, кем был убитый при жизни.
Впрочем, бывают ситуации, когда сделать это трудно, почти невозможно — как, например, теперь. Эту головешку привезли сегодня утром из взорванного гаража: от человека осталось всего лишь шесть с половиной килограммов обуглившейся органической ткани. Такого вскрывай, не вскрывай — все равно ничего не прояснишь. Ни «пальчиков», ни лица, ни зубов, ни внутренних органов — короче говоря, никаких идентификационных особенностей.
Патологоанатом, отложив блестящий трепан в сторону, обернулся к плотному мужчине с явно милицейским выражением лица.
— Товарищ майор, тут — тяжелый случай. Вряд ли нам удастся установить личность.
— При погибшем найдены какие-нибудь личные вещи или документы? — спросил тот, стараясь не смотреть на лежавшие перед ним зловонные шесть с половиной килограммов органики.
— Да какие там вещи, какие документы! — безнадежно махнул рукой хозяин морга, — вон, кости — и те оплавились!.. Хотя…
Он подошел к письменному столу, выдвинул ящик и извлек оттуда прозрачный целофановый пакет.
— Это все.
В пакете лежали обгоревшие документы — удивительно, но обложка паспорта, обуглившись сверху, сохранила под собой несколько ломких страничек с читаемыми серией и номером. Тут же находилась расплавленная до бесформенности пластмассовая коробочка, ранее, по всей вероятности, бывшая когда-то сотовым телефоном и какие-то кусочки пластика, на одном из них при желании можно было разобрать:… ER… AN EXPR…
— Я возьму это с собой, — майор протянул руку.
— Ваше право, — равнодушно ответствовал патологоанатом. — А этого я в холодильник засуну, как и положено по закону — на три месяца…
Уже к вечеру личность погибшего была установлена: кредитная карточка «AMERICAN EXPRESS», сотовый телефон, а главное — номер и серия, чудом сохранившиеся на обгоревшем паспорте свидетельствовали, что в гараже погиб ни кто иной, как Алексей Николаевич Найденко, известный в уголовном мире как вор в законе Коттон.
Как он оказался в том городке, что делал в гараже, наконец, была эта смерть насильственной или случайной, — установить не удалось. Во всяком случае, на Петровке, 38, узнав о загадочной смерти уважаемого на Москве вора, вздохнули с нескрываемым облегчением. Милиция городка возбудила уголовное дело, но оно, вне сомнения, сразу же попало в категорию «висяков»: смерти, подобные этой, почти никогда не раскрываются.
А спустя день о гибели Коттона стало известно Прокурору. И, наверное, этот человек был единственным, кто усомнился в истинности гибели уголовного авторитета…
Глава десятая
В небольшом помещении было душно: несмотря на июньскую жару, окна не открывались. Более того, все они были сверху донизу задернуты аккуратными белыми занавесочками; видимо, чтобы скрыть происходящее тут от чужих взоров. Хотя ничего странного тут и не происходило: обыкновенная комната — вроде семинарских аудиторий ВУЗов, в ней — пять человек, все как один, облаченные в темно-зеленые пятнистые камуфляжи и высокие шнурованные ботинки. Все здесь напоминало атмосферу какого-нибудь провинциального института — желтые канцелярские столы, скрипучие стулья с обшарпанными сидениями, сумасшедшая июньская муха, бьющаяся под низким потолком. Правда, в отличие от ВУЗа, слушатели ничего не записывали — у них не было даже тетрадей и авторучек…
На кафедре возвышался лектор — небольшой, сухонький старичок. Аккуратный седой пробор, скромный, но явно сшитый на заказ костюм, какие были популярны в начале восьмидесятых, старомодные скрипящие туфли, неестественно здоровый румянец — все это делало его похожим на безобидного пенсионера, эдакого преуспевающего завсегдатая подмосковных шести соток, знатока овощей и корнеплодов.
Но слова, которые произносил лектор, никак не соответствовали его мирному виду — вещи, о которых он вел речь, были страшны и чудовищны, но старичок тем не менее, повествовал спокойно и невозмутимо — так, будто бы делился способами борьбы с колорадским жуком:
— По вашим личным делам мне известно, что всем вам приходилось убивать людей; более или менее профессионально. Так или иначе, в дальнейшем всем вам также придется убивать. Но убить грамотно, умно, спрятать следы, запутать следствие или пустить его по ложному следу, короче говоря, представить последствия убийства с выгодой для себя — наука весьма сложная. А потому слушайте и запоминайте — напоминаю, что записывать категорически воспрещается, — старичок кашлянул и, внимательно обведя взглядом пятерку слушателей, продолжил деловито: — Любое убийство можно представить в шести вариантах. Первое — убийство, представленное как несчастный случай, второе — убийство, представленное как самоубийство, третье — убийство, представленное как исчезновение без вести, четвертое — убийство, представленное как естественная смерть, пятое — убийство якобы по неосторожности и, наконец, шестое — убийство, представленное как собственно убийство. Начнем с одного из самых сложных: убийства, представленного как несчастный случай…
Вот уже третий день Максим Нечаев находился на базе загадочной совсекретной струкруты «КР», изучая то, что Рябина скромно называл «теорией спецдеятельности». Шесть часов в день, три «пары» — занятия в аудиториях, притом наименование дисциплин наверняка бы сделали честь элитным спецшколам ЦРУ, МИ-6 или «Моссада»: «Основы диверсионной деятельности в условиях современного мегаполиса», «Выживание в экстремальных ситуациях», «Теория и практика компьютерного взлома», «Разведывательная деятельность», «Поведенческие модели потенциальных жертв», «Криминалистика», «Физиогномистика», «Пиротехника», «Прикладная наркология», «Средства спецсвязи»…
Особое внимание уделялось компьютеру — взлом кодов, сетевое пиратство, уничтожение баз данных посредством грамотно подобранных вирусов: специалист, ведший эту дисциплину, утверждал, что в современной информационной структуре спецдеятельность невозможна без компьютерной грамотности.
Все лекции сопровождались учебными и документальными фильмами, великолепно снятыми — так сказать, для пущей наглядности и лучшего усвоения материала. Записывать что-либо категорически запрещалось — услышанное и увиденное следовало подробно удерживать в памяти, и притом — на всю оставшуюся жизнь.
— Экзаменов у вас не будет, — равнодушно сообщил Рябина после первого дня занятий, — только единственный зачет по выживанию в экстремальных условиях. Вы — как саперы: экзамены придется держать каждый день, и в случае малейшего прокола…
Впрочем, он мог и не продолжать: Лютый уже прекрасно понимал, что с «красной зоны» его выдернули не для душеспасительных бесед, которые так любил зоновский «кум», в духе — «своим трудом смыть позор преступления», «на свободу с чистой совестью». Правда, конечная цель спецподготовки по-прежнему была тайной, покрытой мраком.
Кроме Нечаева, на занятия ходили еще четыре человека — лекции были построены так, что курсанты никоим образом не могли общаться друг с другом. Вход в аудиторию по одному, выход — тоже по одному. Никаких вопросов лекторам и друг другу, никаких имен и фамилий, никакой педагогики, никакого чувства здорового коллективизма. Лютый даже не пытался выяснить личности остальных — это было невозможно. Для житья были предназначены боксы. Питание развозили по комнатам на тележках. Это очень напоминало одноместные «хаты» следственного изолятора. Сразу же после занятий камеры запирались извне, превращая их хозяев в пленников. Рукомойник, унитаз, кровать, полочка со специально подобранной литературой, небольшое окно с синеватым пуленепробиваемым стеклом — вот и весь джентльменский набор. Правда, суперсовременный компьютер несколько скрашивал одиночество, однако «Ай-Би-Эм» стоял тут не для игр или письменных посланий по «Интернету» электронным любовницам: исключительно для упражнений.
Пока это была лишь теория — но зато какая! Курсантов учили всему, что касалось спецдеятельности: акциям по физической ликвидации, которые никогда не будут раскрыты, хакерской работе, изготовлению взрывных веществ из, казалось бы, совершено безобидных вещей, вроде тех, что продаются в магазине «Бытовая химия», методике установки и использованию прослушивающих устройств, основам слежки и конспирации, скорочтению, гримировке, прикладной медицине, воздействию на организм медикаментов, наркотиков, отравляющих веществ и радиоактивных элементов…
Конечно же, множество подобных дисциплин Максим когда-то уже изучал на 2-м факультете Высшей Краснознаменной Школы КГБ, учась на контрразведчика, но тот курс ни в коем случае не мог сравниться с курсом «КР» — ни содержанием, ни насыщенностью.
Серьезных практических занятий пока еще не было — если не считать утренней физподготовки в спортзале, занятий боевыми единоборствами да регулярных стельб в тире. На стрельбу отводилось два часа утром и два часа вечером, притом стрелять приходилось из любого оружия, использовавшегося почти всеми армиями и спецслужбами мира: от американской автоматической винтовки М-16 до родного «Калашникова», от австрийского пистолета «Глок» до снайперских винтовок, от станкового пулемета до сверхсовременного арбалета с лазерным прицелом… Из курсантов методично делали настоящих снайперов. Это ведь только в дебильных американских боевиках какой-нибудь Грязный Гарри палит во все стороны. Настоящий профессионал делает один-единственный выстрел…
Максим, подняв голову и прищурившись против солнца, внимательно взглянул на лектора — несомненно, он когда-то и где-то видел этого внешне безобидного старичка. Такие, как этот — люди непростые, штучная работа. Такие, как этот, опасней целой роты элитного спецназа. Интересно — где и как этому благообразному дедушке приходилось применять свои страшные знания на практике? Сколько человек на его совести?
Старичок, усмехнувшись так сладко, будто бы речь шла о каких-то очень милых и приятных вещах, продолжал мягко и безмятежно мурлыкать:
— Итак, рассмотрим первый вариант: убийство, заведомо представленное как несчастный случай. Наиболее типичны ситуации в так называемых «зонах риска»: верхние этажи зданий, шахты лифтов, практически любой наземный, подземный, воздушный и водный транспорт, бытовая электротехника, открытые водоемы…
Лютый сидел, не шелохнувшись — услышанное только раз, навсегда запечатлевалось в его памяти. Его глаза внимательно, почти не мигая, смотрели на старичка — лишь к концу лекции он вспомнил, где его видел: в восемьдесят четвертом году, когда Максим учился на втором курсе «вышки», этот человек выступал перед курсантами с лекциями — кажется, начальство представило его как бывшего резидента советской разведки в одной из ближневосточных стран. Кажется, он даже что-то вел на 1-м, разведовательном факультете…
Но ведь это — 1-й Главупр, разведка, выведенная ныне в отдельную структуру и переименованная в СВР.
Против кого теперь направлена мощь некогда грозных советских спецслужб?
На подавление новой, страшной волны криминала, почти полностью захлестнувшего Россию? Положение таково — мафия угрожает основам российской государственности, и если спустя несколько лет вместо Конституции будет принят Свод воровских понятий, это мало кого удивит; скорей, обрадует.
Но ведь был уже «13 отдел», спецподразделение, созданное для борьбы за конституционные нормы антиконституционными методами — проект провалился.
Тогда — зачем, для чего, почему? На чьей стороне ему придется воевать — а главное, против кого?
Эти вопросы не давали Лютому покоя ни на лекциях по «теории спецдеятельности», ни после них…
Больничная палата была очень большой. В ней — огромная деревянная кровать, вроде той, на которой почивали августейшие короли, стильные жалюзи на пуленепробиваемых окнах, телевизор с экраном в полстены, видеомагнитофон, два холодильника с прозрачными дверками — сквозь стекло виднелись такие деликатесы, названия которых среднестатистический гражданин вряд ли произнесет без ошибок.
Рядом с кроватью стоял столик — мудреная медицинская аппаратура в два этажа, тускло мерцающий экран осциллографа, зеленая точка на нем, выписывающая замысловатые траектории, компьютерный монитор с постоянно меняющимися данными состояния больного…
Человек, лежавший в этой палате, наверняка был не бедней французских королей эпохи абсолютной монархии — «богатство и власть» прочитывалось на его лице, несмотря на бледность и болезненную одутловатость. «Государство — это я», — сказал кто-то из Людовиков. Теперешние же хозяева жизни, хотя и вынуждены договариваться между собой, как именно следует делить общероссийские богатства друг с другом (таким образом, естественно ограничивая общероссийское воровство), могут с уверенностью сказать: «Государство — это мы».
А уж если такой человек имеет статус функционера…
Тогда даже такого чрезмерного комфорта может показаться мало. Правда, показной комфорт почти никогда не приносит комфорта внутреннего, и к обитателю палаты это относилось в полной мере.
Больной — высокий, седовласый мужчина представительной внешности — осторожно опустив подагрические ноги на пол с электроподогревом, нащупал ступнями мягкие тапочки. Теперь, когда первый кризис прошел, он чувствовал себя значительно лучше. Правда, главный вопрос — что будет с его деньгами, вложенными в проект «Русский оргазм», до сих пор не давал ему покоя. Но сегодня он кажется получит ответ и на этот вопрос… Это должно было произойти сейчас — пять минут назад охрана доложила по мобильному телефону, что сюда следует тот самый человек, от которого зависел внутренний комфорт функционера — и не одного его.
Скрипнула дверь — обитатель палаты поднял глаза и, насилуя мышцы лица, изобразил нечто вроде улыбки. Консервативный костюм, либеральный галстук, очки в старомодной золотой оправе, а главное — жесткий, всепроникающий взгляд долгожданного посетителя всегда заставлял функционера ежиться — и двадцать лет назад, когда он работал в аппарате ЦК КПСС, и лет десять назад, когда получил свой первый министерский портфель, и даже теперь, когда находился, казалось, на одной из заоблачных вершин кремлевской власти.
— А, Прокурор… — улыбка на лице больного вышла неестественной, резиновой, и он поспешил спрятать ее, — очень тронут…
Прокурор мягко подошел к кровати, осторожно присел на краешек и, одернув полу белоснежного халата, с показным чувством пожал руку функционера.
Начало беседы было недолгим, но легко предсказуемым. Неизбежные сочувствия, сдержанные восклицания, вопросы «как здоровье?», «что говорит лечащий профессор?», «когда мы вас, наконец, увидим на службе?» — и столь же неизбежные ответы: «спасибо, что пришел ко мне, дорогой друг — только ты меня и помнишь», «как Бог даст», «помаленьку», «без меня, наверное, эти подлецы совсем работу забросили». Дипломатический этикет для людей калибра Прокурора и его собеседника — тягостная, неизбежная рутина.
Обитатель люксовой палаты, бормоча нечто однообразно-успокоительное, смотрел на собеседника исподлобья и немного настороженно — не для протокольных же вежливостей пожаловал к нему этот страшный человек! Не радость же свою демонстрировать!
Прокурор, задав все положенные вопросы и дождавшись угадываемых ответов, замолчал, замешкался — перехватив взгляд функционера, он сразу же перешел к делу:
— К сожалению, пока никаких следов. Работаем.
— А что говорят в МИДе? — лицо высокого кремлевского бонзы враз посерело.
— Занимаются поляками, — кратко и уклончиво ответил Прокурор.
— Долго еще? — вопрос прозвучал на редкость резко и напряженно.
Обладатель золотых очков печально взглянул куда-то поверх головы собеседника.
— Очень много вариантов, надо все просчитать. Потом, разумеется — естественные трудности. Теперь, к сожалению, не времена Ярузельского, мы не можем им так запросто приказать…
— Но ведь ты… должен был держать это на контроле? Почему не уследил? — казалось, еще вот-вот, и больной вновь схватится за сердце, как недавно в своем домашнем кабинете.
— За всем не уследишь…
Функционер наконец-то взял себя в руки — это стоило ему немалого труда. Взгляд его был каким-то странным, загадочным, но собеседник тем не менее понял, что тот имеет в виду.
— Ты что — действительно считаешь, что деньги забрал я? — наконец расшифровал Прокурор, внося необходимую ясность. — Зря считаешь. Мне это ни к чему. Сто миллионов долларов — кажется, это много… Но… — он не успел договорить — больной перебил его куда эмоциональней, чем требовали обстоятельства:
— Я знаю тебя двадцать пять лет!.. Столько всего пережили: крах КПСС, развал Союза, все эти путчи, реформы, весь этот бардак… Я знаю тебя как человека кристальной честности… Ты ведь никогда…
Функционер недоговаривал, но Прокурор прекрасно понимал, что тот имеет в виду. Он, Прокурор, вот уже столько лет принадлежал к высшей политической элите страны. Он был своим, он был одним из тех, кто создавал теперешнюю Россию, а свои неспособны на предательство.
— Сто миллионов долларов — огромная сумма. Слишком огромная. Она не может распылиться по частям, не может исчезнуть бесследно. Мои структуры уже отслеживают прохождение денег по всем крупнейшим банкам мира. Думаю, что скоро многое прояснится, и это снимет с меня нелепые подозрения, — пряча осторожную полуулыбку, Прокурор незаметно полез в боковой карман пиджака — так, будто бы хотел убедиться в наличии чего-то мелкого, но, тем не менее, необходимого в беседе, — а потом и ты, и твои люди в МВД, ФСБ, Кремле и Думе заинтересовали меня, и не только материально… Зачем мне терять репутацию? Зачем настраивать против себя столько уважаемых людей? Что я от этого выиграю? Я ведь, как говаривал один сказочник, дедушка этого поросенка, твоего оппонента по экономическим реформам — «свой, буржуинский». Достаточно того, что мне было обещано. Это немало… Да и сам… — гость скорбно вздохнул и осекся; впрочем, он мог и не продолжать — функционер прекрасно понял, что тот имел в виду: зачем, мол, мне на самого себя компромат плодить?!
— Но кто — кто мог взять? Кто все это организовал? — Ватные щеки собеседника наливались болезненной синевой. — Почему? Ведь все было рассчитано, все было продумано до мелочей! Как так могло получиться?!
Прокурор с самого начала построил беседу так, что функционер оказывался в заведомо невыгодном положении. Гость клиники сознательно недоговаривал, давая повод для двусмысленных трактовок и интерпретаций, обозначал темы скрыто, как бы пунктиром, якобы по забывчивости передергивал известные обоим факты, вынуждая себя постоянно поправлять, неожиданно и без явной на то нужды уходил в глухую оборону, вынуждая оппонента наступать, оголяя тылы.
Гость явно провоцировал функционера на излишнюю откровенность: это было слишком очевидно, но обитатель больничной палаты не замечал подвоха: ему было не до того.
И в конце концов его словно бы прорвало: как из дырявого мешка, посыпались имена, фамилии и должности уважаемых людей, поставивших на «русский оргазм», заскакали аббревиатуры — МВД, ФСБ, ГУО ПР, ФАПСИ, Минюст, Минфин, беспорядочно запрыгали цифры фантастических сумм вкладов…
Прокурор слушал внимательно, ни разу не перебивая собеседника. Когда же тот, обессилев, замолчал, произнес с хорошо скрываемой патетикой:
— Я обещаю тебе… Я сделаю все, что в моих силах — деньги будут возвращены в самое ближайшее время. Тебе и всем нам воздастся сторицей — как и было договорено. Не переживай, не волнуйся — лечись, набирайся сил. Думай о себе. Все образуется. И помни главное: ты нужен России, ты нужен всем нам. Я говорю тебе это, как твой самый близкий и искренний друг…
— …я знаю тебя двадцать пять лет!.. Столько всего пережили: крах КПСС, развал Союза, все эти путчи, реформы, весь этот бардак… Я знаю тебя как человека кристальной честности… Ты ведь никогда…
Прокурор, поправив старомодные золотые очки на переносице, нажал на кнопку «стоп» — лежавший на столе миниатюрный диктофончик послушно замолк.
Сегодняшний день, в отличие от большинства предыдущих, был удачным — даже слишком. Кто мог подумать, что высокопоставленный функционер расколется, что он выдаст абсолютно всех? Конечно же, Прокурор знал большинство вкладчиков, о многих догадывался, но теперь признания кремлевского чиновника, записанные на пленку, из разряда досужих домыслов переходили в разряд вещественных доказательств.
Обладатель очков в золотой оправе улыбнулся, но улыбка вышла какой-то нервной, кислой: получалось, что в высшем чиновничьем истеблишменте преступников больше, чем во всех московских группировках.
— Банановая республика… Мафиозное государство, — бормотал Прокурор. — «Коза ностра», «Коморра» и Солнцево, вместе взятые — детский лепет на лужайке в сравнении с Кремлем. М-да: «Кремлевская преступная группировка» — это серьезно. Это звучит.
Казалось, услышанное в спецклинике повергло в растерянность даже его — такого информированного и спокойного человека.
— Продажные шкуры… — печально произнес хозяин кабинета. — Вот против кого надо спецотделы организовывать…
Тонкий палец Прокурора лег на кнопку диктофончика. Послышался тихий щелчок, и из динамика вновь заскрипел голос:
— …но кто — кто мог взять? Кто все это организовал? Почему? Ведь все было рассчитано, все было продумано до мелочей! Как так могло получиться?!
Прослушав разговор до конца, Прокурор извлек из диктофона микрокассету и спрятал ее в сейф. После чего, набрав какой-то, одному ему известный, номер телефона, произнес в трубку голосом скрипучим и важным:
— Рябина? Да, это я. Усильте контроль прохождения денег по всем ведущим европейским банкам — это первое. Второе — надави на милицию, чтобы усилили работу с Вареником. Этот тип должен знать многое… Третье — продолжить поиск Натальи Найденко. Четвертое — постоянно поддерживать контакт с Варшавой. Что — предлагаете Сухого брать? А вот этого делать не стоит, — в голосе звонившего неожиданно зазвучали металлические нотки. — Зачем он нам теперь? К тому же — без денег. Нет, ни в коем случае. — Прокурор, взяв со стола «Паркер» с золотым пером, принялся выводить на пустом гербовом бланке какие-то замысловатые узоры — видимо, чтобы лучше сосредоточиться. — А что наш молодой друг Лютый? Как успехи — хорошо, говорите? Форсируйте программу — он мне скоро понадобится, — сотовый телефон лег рядом с правительственной «вертушкой».
Прокурор, закурив, задумчиво посмотрел в окно, на красно-бурый кирпич древнего Кремля…
Глава одиннадцатая
…Подмосковье — низкие шиферные крыши тихой деревеньки, прозрачно-алый закат и три силуэта на фоне заходящего солнца: молодая женщина в воздушном платье, маленький ребенок и крепкий мужчина. Взявшись за руки, они идут по берегу пруда, о чем-то беседуя. Шуршат под ногами слежавшиеся еще с осени листья, уклейки вздувают на поверхности воды рельефные сферические круги, острокрылые ласточки носятся в вечернем воздухе, рыбаки вскидывают над солнечной дорожкой свои длинные, невесомые удилища.
Идиллия, спокойствие, тихая радость — и кажется, что так будет всегда…
Мужчина — это он, Максим Нечаев, просто Максим, и никакой еще не Лютый, а примерный муж и любящий отец. Женщина в воздушном платье — его жена Марина, а маленький мальчик — сын Павел. И лепечет что-то восторженное ребенок, и тихо улыбается мать, и дробится закат в рябоватой воде пруда, и счастливы все… И не покоятся они третий год на Хованском кладбище, а рядом, живые…
Резкий, чужой, металлический голос, прозвучавший над головой, полыхнул пронзительно, жутко, вдребезги разбивая картину, казалось бы, навсегда забытого прошлого:
— Тревога! Вариант номер два. Лютый, приказываю вам покинуть помещение, цель — пункт пять, двадцать пять минут на все. Время пошло.
Максим, словно заведенный этой фразой, вскочил с измятой постели и, мгновенно одевшись, рванулся к стальным дверям; удивительно, но они оказались наглухо заперты. Нечаев еще не успел стряхнуть с себя остатки сна, все происходившее с ним теперь казалось странным и нелепым: там — естественный ход вещей, счастливая, а потому нормальная жизнь; тут — металлическая обшивка бокса, тусклая лампа под потолком и какие-то команды, которые он должен выполнять…
А голос, многократно усиленный скрытыми в стенах бокса динамиками, вбивал в сознание тупые, злобные, непонятные слова — словно молотком гвозди в толстую сырую доску:
— Повторяю: тревога, вариант номер два. Лютый, приказываю вам покинуть помещение, цель — пункт пять, двадцать пять минут на все. Прошло уже пятнадцать секунд…
Это был единственный зачет, предусмотренный на подготовительной базе «КР» — зачет по практическим занятиям. Лютого поместили в этот бронированный бокс еще с вечера, предупредив: все, что будет происходить в случае тревоги, — всерьез. Он — жертва, он должен выполнить вариант «номер два» — пожалуй, самый сложный из всех. У него нет никакого оружия, а у условного противника может быть все, что угодно. И охотиться на него будут не понарошку, как в детской «войнушке» — «падай, ты убит!». Охотиться будут по всем правилам егерского искусства, и он обязан противопоставить противнику все, на что способен он сам, все, чему его тут учили. Правда, всех частностей варианта «номер два» он и сам не знал; известно было лишь то, что он, Лютый, должен выбраться из бокса, овладеть оружием и уйти от погони, если таковая последует, после чего, проникнув в «пункт пять», то есть базовый учебный центр, расположенный в четырех километрах отсюда, «ликвидировать» охрану и взломать закодированную базу данных компьютера. И на все про все — нормативные двадцать пять минут…
Неожиданно где-то зажурчала вода, Максим, застегивая пуговицу камуфляжа, увидел рядом с койкой огромную лужу. Вода прибывала и прибывала…
Подергав хромированную ручку бокса несколько раз, Максим понял всю тщетность своих усилий: ручка даже не проворачивалась. Разогнавшись, насколько позволяла теснота жилища, он в высоком прыжке ударил намертво задраенную дверь ногой — никакого результата. С равным успехом можно было попытаться сдвинуть с места Кремлевскую стену.
А из динамика — сквозь надсадный вой душераздирающей сирены — заунывный голос повторял снова и снова:
— Тревога, вариант номер два. Лютый — приказываю вам покинуть помещение…
А тем временем тесный бокс медленно, но неотвратимо наполнялся холодной водой. Нечаев попытался установить источник течи, но так и не нашел злополучного отверстия — казалось, что жидкость просачивается сквозь толстые бетонные стены.
В какие-то считанные секунды уровень воды достиг пояса и продолжал увеличиваться все так же быстро; еще немного и холодная жидкость смоет побелку с потолка.
Заметавшись по комнате, Лютый натолкнулся на оцинкованное ведро, стоявшее под рукомойником. Набрав полную грудь воздуха, Максим нырнул за спасительной посудиной и крепко сжал ее в закоченевших руках, перевернув вверх дном — таким образом у него появился пусть мизерный, но все-таки запас необходимого воздуха. Что делать дальше, пленник пока не знал. Нечаев предположил, что и коридор заполнен водой, а потому единственным путем к спасению могло стать небольшое зарешеченное окно под самым потолком.
А вода прибывала катастрофически. Чтобы покинуть бокс, надо попытаться выломать решетку окна. Но чем?
В глазах уже мелькали красные мушки. Наполняющееся водою пространство казалось застывающим бетоном, который сковывал движения рук и ног.
Неожиданно мозг обожгла спасительная мысль: металлическая кровать!
Максим, нырнув вниз, ломая в кровь ногти, с трудом отодрал от койки небольшой прут; когда он выскочил на поверхность, вода уже подбиралась к самому потолку. Лютый судорожно поддел прутом решетку и с силой надавил — дерево затрещало, но с первого раза не поддалось. Воздуха почти не осталось — еще немного, и вода коснется лампочки. Максим вспомнил про плававшее рядом, донышком вверх, металлическое ведро — «эн-зэ» — этого воздуха ему хватило ровно на два глотка. В последний раз вдохнув спасительного кислорода, Нечаев, задерживая дыхание как только возможно, вновь набросится на решетку… Силы словно удвоились, утроились — спустя минуту решетка, плавно опустилась на дно комнаты. Удар кулаком, треск — осколки толстенного стекла полетели наружу, и вода с шумом вырвалась из бокса. Курсант едва успел упереться руками в стену, чтобы его не поранило остатками битого стекла, торчащего в раме.
Наконец-то Лютый покинул бокс.
Мокрая одежда неприятно липла к телу, мешая движениям, но Максим не обращал на это никакого внимания: теперь его занимали более важные вещи.
Определить, где находится учебный центр, труда не составляло: редкие огоньки светились в стороне от шоссе. Времени оставалось минут пятнадцать, а до центра — что-то около четырех километров. Стало быть, единственное, на что можно рассчитывать — автомобиль…
Неподалеку в темноте явственно вырисовывались контуры армейского УАЗика.
Неожиданно раздался зычный голос:
— Стоять!
Нечаев обернулся: рядом с автомобилем замаячил высокий силуэт — слабое электричество высветило мертвенно-зеленые пятна защитного камуфляжа.
Медлить было нельзя…
Условный противник успел сделать только первый шаг, как получил мощный удар в нижнюю челюсть — нога Лютого резко взметнулась и припечатала камуфлированного к железному корпусу машины. Из разбитого рта охранника потекла темная струйка крови. В следующую секунду Максим оказался позади противника, и мощный рывок бросил охранника на холодные бетонные плиты; наверняка к чувству потери ориентации у камуфлированного примешалась нестерпимая боль в хрустнувших суставах правой руки — Лютый вывернул ее за спину, а большим пальцем своей левой провел по горлу, прошипев:
— Если бы вместо ногтя был нож, то ты сейчас уже булькал бы теплой жижей. Все, ты уже труп, — в интонации последней фразы послышалось зловещее придыхание профессионального убийцы.
Спустя минуту Лютый уже выезжал со двора, тараня закрытую железную дверь капотом… Сзади послышалась стрельба, какие-то голоса, визг тормозов…
Максим потом часто вспоминал этот «зачет», удивляясь самому себе: как сумел протаранить ворота, казавшиеся такими прочными, как уходил от двух «Волг», столкнув одну в кювет, как получил автоматную очередь по лобовому стеклу, чудом уцелев (хотя пули и были пластиковыми), как бесшумно обезвредил охрану «пятого объекта», как на удивление быстро взломал компьютерный код…
Но самым страшным воспоминанием остался медленно затопляемый бокс — наверное, потому, что там почти ничего нельзя было сделать. А ведь сделал! — нет, стало быть, безвыходных положений!
Единственное, что он, мокрый, измученный, запомнил очень хорошо — последние слова, сказанные Рябиной — все это время он, казалось, незримо присутствовал рядом, с секундомером в руках фиксируя каждое движение:
— Двадцать две минуты сорок семь секунд. Мы просчитали все ваши действия — почти ничего лишнего. Будто бы на автопилоте…
Наверное, впервые в интонациях киборга послышалось невольное уважение — во всяком случае, Нечаеву так показалось.
А потом, пытаясь заснуть, он вновь и вновь вызывал в себе тот сон, безжалостно разбитый металлическим голосом киборга. Он вновь хотел отправиться в то время, когда еще не был винтиком секретного государственного механизма, а был самим собой, когда обращались к нему не по оперативному псевдониму, а по имени…
Тщетно. Едва Лютый положил голову на подушку, ему привиделся давешний бокс, так страшно, так неотвратимо наполнявшийся водой, но только окна в нем не было, и вода натекала в легкие, и глушила крики, и тянула на дно…
И видение это было страшно, потому что выхода не предвиделось.
Вареник, жулик Коттона, казался совершенно невозмутимым и даже флегматичным: ну, замели какие-то неизвестные, усадили в казенного «экстерьера» машину, ну, отправят в «дом родной», то есть в тюрьму…
В первый раз, что ли?
Жаль только, что не сумел встретить пахана на вокзале — да уж ничего, такой вот рамс вышел: кому, как не Коттону, понять ментовское задержание!
Сразу же из Черемушек неприметная тридцать первая «Волга» с бойцами в черных вязанных шапочках «ночь» прямиком привезла Вареника в Бутырскую тюрьму, именуемую официально следственный изолятор № 2, ее толстые стены, помнящие и Емельяна Пугачева, и белогвардейских офицеров, и «сталинских соколов», и «врачей-вредителей», и многочисленных воров с авторитетами, были для Коттоновского порученца почти что родными. Он, неисправимый рецидивист, парился тут до суда три раза — и ничего. И жив остался. И авторитет приобрел.
Привычно стоя в шмональном боксе и глядя на рекса, деловито обыскивающего его кишки, то есть одежду, Вареник был уверен или почти уверен: все обойдется и на этот раз.
Однако он явно ошибался…
После того как обязательная процедура шмона была завершена, Вареника повели не на хату, как должно было по логике произойти, а в какой-то служебный кабинет. Жулик не выказывал беспокойства: ну, может быть какой-нибудь гражданин-начальник хочет с ним перетереть, может быть, наконец предъявят ксиву от прокурора о мере пресечения, может быть…
Кто их там знает, этих мусоров поганых?!
В небольшом, прокуренном помещении с единственным зарешеченным окном и невыразительной казенной мебелью сидели двое, оба были в штатском, но по коротким стрижкам, специфическому выражению лиц и особенно — по казенному блеску пуговичных глаз многоопытный блатной сразу же распознал в них ментов. Первый — высокий, с острым, костистым лицом свежемороженой скумбрии, был, видимо, старшим по званию; второй — маленький, с круглым лицом и усиками, делавшими его неуловимо похожим на помойного кота, при появлении задержанного сразу же маслено заулыбался, как старому знакомому.
— Присаживайтесь, — произнес он, кивнув на свободный стул.
Вареник осторожно опустился на стул — он ничего не говорил, не спрашивал, прекрасно понимая, что в его положении лучше молчать. Надо будет — сами начнут. Для того и привели.
Менты пока выжидательно молчали — наверняка, это были люди многоопытные, видавшие за свою жизнь и не таких, как этот жулик.
Пауза затянулась до неприличия — первыми не выдержали оперативники.
— Ну, вы ничего не хотите у нас спросить? — поинтересовался костистый.
— Жду, пока вы сами скажете, — равнодушно отвечал задержанный.
— Удивительно, — похожий на кота милиционер закурил и, предложив сигареты жулику (тот, естественно, отказался), продолжил: — человека забирают с его лестничной площадки после драки, в которой он, к тому же, несомненно был пострадавшим… Кстати, а вы знаете, кто это был? Кто на вас напал?
— Это о тех, которых ваши у джипа завалили? — безо всякого выражения спросил Вареник.
— Да.
— Понятия не имею.
— И почему завалили — тоже? — оперативник подался всем корпусом вперед.
— Вам видней, — хмыкнул блатной подчеркнуто-уклончиво. — Завалили, значит, вам эти люди не нравились.
— А когда среди бела дня людей убивают прямо на улице, а вас самих безо всяких объяснений привозят сюда, в следственный изолятор, — неужели это тоже не удивляет?
Жулик промолчал — в вопросе чувствовался явный подвох.
— Тогда я внесу некоторую ясность, — костистый закинул ногу за ногу. — Люди, приехавшие за вами на джипе, принадлежали к устойчивой организованной преступной группировке небезызвестного вам Ивана Сухарева, более известного в специфических кругах под прозвищем или, как вы любите говорить, погонялом Сухой. И если бы не наши люди…
— Из вашей преступной группировки? — арестант сознательно сделал ударение на слове «вашей». — Как это теперь называется? «Менты за беспредельный передел», что ли?
Человек с костистым лицом сделал вид, что не заметил сарказма и продолжил спокойно:
— …сидели бы вы, дорогой гражданин, в сыром подвале, и отрезали бы от вас тупой ножовкой по сантиметру в день… Так что считайте, что мы вас спасли.
— Ну, если вы довели страну до того, что единственное спасение от беспредела — тюрьма, то спасибо, — Вареник пристально посмотрел в мусорские глаза. — А постановление о мере пресечения у вас имеется? И вообще, по какой статье меня закрыли?
У оперов нашлось все — и постановление о взятии под стражу, подписанное районным прокурором, и, естественно, статья — восемьдесят восьмая УК РФ.
— Так, все понятно, — казалось, прожженного блатного было трудно чем-нибудь удивить. — «Две восьмерки»? Какая часть? Ах, вторая? Замечательно: сейчас кухонный нож или заточку мне подбросите и все такое. Беспределом занимаетесь, гражданин начальник. Шьем дело из материала заказчика — да?
— Да, у вас нет выбора, — снисходительно продолжал опер, довольный понятливостью собеседника, — на вольняшке-то вас люди Сухого на части разорвут. Но если мы сумеем договориться…
С этими словами он открыл выдвижной ящик письменного стола и извлек оттуда самодельный кастет.
— Вам знаком этот предмет?
— Нет, — спокойно ответил допрашиваемый.
— Ну и зря. Это нашли у вас при первом обыске. Отпечатки пальцев сняты и запротоколированы, — буднично объявил оперуполномоченный. — Так что пятилеточка вам, как особо опасному рецидивисту, обеспечена.
Вареник молчал — все складывалось далеко не так, как он рассчитывал. Налицо — типичный мусорской беспредел. Но ведь даже самые беспредельные мусора просто так, за здорово живешь, наезжать не будут. Значит, ему хотят что-то предложить. Что? Наверняка скурвиться, ссучиться. А то для чего же разыгрывать эту дешевую комедию?!
— Так, гражданин начальник, сукой я не был и не буду. А ты мне волну не гони. Лучше я по вашему беспределу еще один груз взвалю, но на своих сту… — он не успел договорить — котообразный перебил его:
— Вы еще не знаете, чего мы хотим, а поднимаете кипеш. Мы не просим никого сдавать, никого закладывать. Нам надо установить место нахождения одного человека.
— Кого же? — Вареник напряженно вытянул шею.
— Алексея Николаевича Найденко, более известного как Коттон, так называемого вора в законе, — при упоминании о пахане его порученец даже бровью не повел. — Только не утверждайте, будто бы этот человек вам не знаком, — поспешно завершил говоривший.
— Впервые слышу, — глаза жулика словно непроницаемой пленкой подернулись.
— Ну как же, как же… Вместе сидели, даже в одном отряде были, — ласково напомнил похожий на кота милиционер.
— Я много с кем сидел, — спокойно парировал Вареник. — И это не значит, что должен всех помнить?
— Да ладно тебе, давай, колись, да я сержанта за водкой на угол пошлю, и на лучшую хату определю, — неожиданно панибратски предложил ментяра выгодную, как ему показалось, сделку. — Пахан твой ведь не в федеральном розыске… Никто его закрывать не собирается. Просто перетереть с ним надо.
— Вот и три… Если найдешь такого, — сверкнул глазами блатной.
— Смотрите, чтобы хуже не было, — насупился костистый, — вы в нашей власти, вы — особо опасный рецидивист, и если…
— А ты на понт меня не бери, не бери, — нервно перебил задержанный, — не такие брали… Хочешь на меня груз навесить — вешай, хрен с тобой… А сукой я не был и не буду никогда.
Костистый и котообразный обменялись многозначительными взглядами — к удивлению Вареника, беседа оборвалась на полуслове и спустя несколько минут его вывели из кабинета…
Согласно популярной татуировке-аббревиатуре, ТУЗ — «тюрьма учит закону». Вареник знал эти законы отлично — многочисленные тюремные университеты не прошли для него даром. «Вор должен сидеть в тюрьме», — с этой крылатой фразой Глеба Жеглова целиком и полностью солидарны все или почти все уголовники «босяцкой» формации. Есть другая татуировка, не менее популярная в блатном мире — «Не забуду мать родную», где под «матерью» подразумевается прежде всего казенный, хорошо охраняемый, дом без архитектурных излишеств. И уж если «командировка» в материнские объятия третья, то бояться нечего. Да и не фуцин[6] он позорный, а человек.
К немалому удивлению жулика, его определили не на обыкновенную хату, а в одиночку — это было тем более удивительно, что Бутырка всегда славилась жуткой перенаселенностью. Коричневое чугунное «очко», мрачные голые стены, испещренные многочисленными надписями, шконка, привинченная к полу табуретка, именуемая по-здешнему «трамваем» — вот и все убранство. Так сказать — скромно и со вкусом.
Определение в одиночку оправдывало самые худшие опасения: Вареник утвердился в мысли, что просто так от него не отстанут, и пока он не выдаст пахана, с него не слезут.
Где он теперь, друг сердечный Лexa?
Наверняка с ним все благополучно: сумел уйти от ментов — иначе бы его, Вареника, тут не держали.
Но все-таки одиночка — это скверно. Ни маляву передать, ни подогреться… Один, как в безвоздушном пространстве.
На следующий день на хату к задержанному пришел тот самый мент с физиономией свежемороженой рыбы: на этот раз один.
Неизбежные вопросы — «как устроился», неизбежные ответы — «нормально»; неизбежные угрозы — «поработаешь на хозяина пятилеточку», неизбежные отмашки — «и там люди есть», неизбежные предложения — «да ты не стесняйся, закуривай», неизбежный отказ «да у таких как ты, порядочному человеку западло…»
— А ведь ты зря упорствуешь, — сладко замурлыкал мент, неожиданно перейдя к самому главному.
— Сукой не был и не буду, — отрезал Вареник, прекрасно понимая, куда тот клонит, и давая понять менту, что уходит в глухой отказ.
— Мы не причиним вашему другу Алексею Николаевичу никакого зла, — продолжал улыбаться опер тоном школьного врача, приглашающего первоклассника на безболезненную прививку.
— Не сомневаюсь, — хмыкнул Вареник.
— Дайте хотя бы его телефон! — не унимался собеседник.
— Позвоните в Мосгорсправку и ждите ответа, — посоветовал блатной сердечно.
Видимо, гость одиночки был достаточно опытен, чтобы понять — Вареник не сдаст пахана. Пробыв на хате еще несколько минут — приличия ради, он злорадно улыбнулся и направился к выходу.
— А зря ты упорствуешь… Никто не сделает человеку так плохо, как он сам, — эта, последняя, немного загадочная фраза опера сильно насторожила задержанного.
Вареник, человек очень неглупый, понял: Коттона наверняка крутит не ментовка. На такой беспредел — валить среди бела дня людей, похищать его и вести на хату «мурка», то есть Московский угрозыск, вряд ли пойдет; тем более теперь. Правда, непонятно, почему его тогда привезли сюда, а не в Лефортово. Понятно другое: за арестом его, Коттоновского порученца, и за усиленными поисками Лехи стоят более серьезные силы, чем просто мусора.
А коли так — на арестанта будет оказано самое серьезное давление…
Опытный Вареник знал, и знал отлично: существует великое множество способов выбивать из задержанного необходимую информацию — в этом внутренние органы, наследники и продолжатели славных традиций, преуспели, как ни в чем другом.
Можно элементарно подсадить в камеру наседку, то есть стукача, который будет все время склонять задержанного к даче нужных показаний; Вареник уже испытал этот способ не раз и не два.
Можно сулить задержанному, что угодно: хоть досрочное освобождение, хоть орден за особые заслуги — только бы раскололся.
Можно давить на него через родственников, предварительно их как следует обработав.
Но это — мягкие, относительно гуманные способы. Не веришь наседке, делай так, как считаешь нужным сам.
Не веришь своему следаку (тем более, что ничего из обещанного он исполнить не может, все это решает суд и прокуратура) — ну и не верь, оставайся при своем мнении.
Не веришь искренности родственников — твои личные сложности.
В богатейшем арсенале органов внутренних дел есть способы куда менее гуманные, но более действенные: во-первых, так называемая «козлодерка», которая существует почти при каждой тюрьме еще, наверное, со времен Ежова, Берии и ГУЛАГа, а во-вторых, камера с так называемой шерстью; подобные хаты также есть почти при каждой тюрьме, где только эта шерсть существует, такая камера обычно называется пресс-хатой.
«Козлодерка» — это специальная нежилая камера, где заключенных прессуют, в переводе на нормальный язык, выбивают признания грубой физической силой. Прессовать можно самыми разнообразными способами, насколько хватит фантазии и профессионального опыта: подвесить к перекладине и оставить висеть на неопределенное время, избивать электрическими шнурами, тушить о голое тело окурки, бить резиновой дубинкой по почкам. Можно поместить в холодный карцер шириной метр на метр и налить на пол воды по щиколотку или даже выше, чтобы упрямец не поспал суток трое-четверо. Можно, наконец, тут же, в «козлодерке», банально измочалить валенком или мешочками с песком: подобные приспособления удобны тем, что не оставляют следов.
С начала девяностых, то есть с наступлением эпохи первоначального накопления капитала, Бутырский СИЗО печально славился своей дикой, жуткой беспредельщиной — и если правда всегда на стороне сильного, то кто же в СИЗО сильней ментов?
Но для мусарни прессовать самим — это тяжело, хлопотно и утомительно (учитывая естественное нежелание и неумение человекообразных существ в «мышиных макинтошах» заниматься тяжелым физическим трудом), а кроме того — и небезопасно. Законность — законностью, но ведь пенитенциарные учреждения знали случаи, когда наиболее жестоких ментов блатные приговаривали к завалу: в свое время воровская сходка приговорила к смерти начальника печально известной крытки «Белый лебедь».
Гораздо проще сделать это через так называемую шерсть: на блатном жаргоне так называют уголовников, приговоренных за какие-нибудь преступления к смерти самим воровским миром, чаще всего — за сотрудничество с ментами. Им нечего терять — на вольняшке любого шерстяного попишут[7], и хорошо, если сразу, без мучений. Так они и обитают в тюрьмах годами — и не люди это вовсе, а неодушевленные предметы для давления на арестантов, вроде резиновых дубинок или наручников, которыми менты наряду с водкой и наркосодержащими колесами снабжают шерстяных.
Именно на такую хату и перевели Вареника на следующий день…
Вертухай-надзиратель с невыразительным посконным лицом долго вел задержанного по каким-то ярко освещенным коридорам, открывал и закрывал металлические решетки, пока не подвел к стандартной железной двери с небольшим окошечком-«намордником». Вареник, привычно заложив руки за спину, смотрел в спину рекса равнодушно — в голове почему-то вертелся тот давешний мотив, застрявший в сознании еще с вольняшки: «Хоп-па, Зоя! Кому дала ты стоя? Начальнику конвоя, не выходя из строя!» Блатной сохранял полное спокойствие — и только уже за последней решкой он не удержался и тихонько промурлыкал этот незамысловатый куплет: последнее обстоятельство не укрылось от внимания вертухая.
— Песни поешь? На зоне, в художественной самодеятельности еще напоешься. И про Зою, и про стоя… А пока это твой дом, — заявил он, гремя связками ключей.
А там его уже ждали…
Дверь за арестантом закрылась, рекс остался на коридоре. Спустя несколько минут из-за двери послышался сдавленный крик.
Рекс, незлобно улыбнувшись, развернулся и направился по коридору…
— пробормотал он, обернувшись на дверь хаты, за которой только что исчез конвоируемый.
— Сейчас там тебя и стоя, и сидя, и как хошь…
Глава двенадцатая
Утреннее июньское солнце уже золотило верхушки вековых сосен, горделиво возвышавшихся вдоль оживленной подмосковной трассы, когда на пыльной обочине остановился мини-вэн «шевроле». Это был настоящий дом на колесах, с мягкими спальными местами, телевизором, видеомагнитофоном, холодильником, газовой плитой, микроволновой печкой и даже химическим туалетом. В такой замечательной машине можно ехать без остановки не одну сотню километров, и дорога не покажется утомительной.
Спустя несколько минут рядом, плавно качнувшись, притормозил шикарный синий «понтиак», водительская дверца плавно раскрылась, и из дивного американского автомобиля вальяжно вышел невысокий краснолицый мужчина с чуть выпученными глазами — последнее обстоятельство придавало ему неуловимое сходство с отварным раком. Поправив огромную «гайку» на волосатом пальце, он хлопнул дверкой и направился к «шевроле».
На синем «понтиаке» теперь ездил Сухой — удивительно, но на этот раз хозяин огромной криминальной империи был один, без телохранителей. Правда, на заднем сидении оставался еще один человек, однако белоснежный костюм, делавший его обладателя похожим на опереточного сицилийского мафиози, субтильное телосложение и неестественная бледность лица вряд ли подошли бы человеку, в обязанности которого вменялась охрана тела самого босса.
Сухарев, подойдя к мини-вэну, по-барски кивнул водителю — из шикарного дома на колесах вылез горбатый, квадратноголовый, мрачного вида уродец, смачную фактуру которого мог бы по достоинству оценить только голливудский режиссер, специалист по «ужастикам».
В то утро за рулем «шевроле» сидел телохранитель, камердинер и эконом загородного хозяйства Ивана Сухарева.
— Привет, Штука, — небрежно поздоровался босс, протягивая руку.
— Здравствуй, — с обычным почтением отвечал Штука.
— Все в порядке?
— Да, вещи собрал, по списку, как ты мне и написал, — Штука принялся подробно перечислять все, что лежало в мини-вэне: он знал, что босс любит путешествовать с комфортом даже на сравнительно небольшие расстояния. — Тачку на нашем автосервисе проверили, все подкрутили, подкачали… Теперь хоть до Парижа кати.
— Вот и ладненько… — Сухарев на секунду задумался. — А девчонка — там?
— Спит, — кратко ответил Штука.
Сухой подошел к мини-вэну, приоткрыл дверцу — действительно, на спальном месте лежала молоденькая девушка. Густые каштановые волосы растрепались по маленькой подушке, тонкая, почти прозрачная кисть руки беспомощно свесилась из-под одеяла…
— Ну, как у нее дела? — авторитет аккуратно закрыл дверцу.
— Перед отъездом я ей двойную дозу «оргазма» вкачал, как ты мне и говорил… Нормальненько — лежит в машине, кайфует, наверное. Что с ней будет?
— Сколько раз ты ее этим порошком кормил?
— Да раз десять уже… В чай подмешивал, в соки, в супы — ничего, хавает. Молчаливая какая-то стала, не скандалит… Грустит. Только не пойму никак, для чего это тебе надо? — осторожно поинтересовался горбатый.
— А это уже не твоего ума дело, — немного снисходительно оборвал его лидер самой сильной московской группировки, — мое дело говорить, твое — делать. Для того тебя и держу. Сделал — спасибо. А теперь давай ключи и документы на тачку.
Когда распоряжение было выполнено, горбач поинтересовался, но теперь уже осторожно:
— А надолго?
— Как только, так сразу, — Сухарев бросил Штуке ключи и техпаспорт от «понтиака» — тот поймал их на лету. — Значит, так: пока меня нет, ты остаешься в городе за главного. Я тебе все сказал, так что делай. С банкиром тем долбанным, который под Казаном раньше был, разберись по уму — сдается мне, он филки от меня крысит. И по-доброму так, по-доброму, просто намекни, что лучше на заднице не юлить, а отдавать все. Пусть поймет, что я не Казан, пусть очко сыграет… Дальше: фирма та автомобильная, о которой мы с тобой позавчера базарили — так вот их на показательный раздербан, чтобы все видели. Осмелели, козлы. Не хрен. Если что — по «ручнику» связывайся, не по старому, по новому перетрем подробно. И смотри мне, — глаза Сухого нехорошо сузились, — чтобы никакой самодеятельности… А то у тебя еще и спереди горб вырастет. Ну, все, желаю успеха…
— Хорошо, — поджал губы Штука, косясь на пассажира «понтиака».
Сухарев махнул рукой сидевшему в легковом автомобиле пассажиру.
— Давай, Заводной, перелазим в эту тачку… Побыстрей, времени мало.
Сухой и бледный в белоснежном костюме сели в «шевроле», Штука — в синий «понтиак». Заурчали двигатели, и спустя несколько минут машины, посигналив друг другу на прощание, разъехались в разных направлениях…
Прокурор, относился к той редкой и счастливой категории людей, которых трудно вывести из себя. Ироничный, спокойный, улыбчивый, он на многих, если не на всех производил впечатление человека, который знает все заранее — и что произойдет завтра, и что может случиться через год, через два, и чего случиться не может вообще никогда. Такого, как он, трудно чем-нибудь удивить, обескуражить, а тем более — сильно расстроить.
Но последние известия, полученные сегодня утром, повергли его в полное уныние.
Во-первых, авторитетная судебно-медицинская экспертиза установила, что шесть с половиной килограммов обуглившейся органической массы из сгоревшего подмосковного гаража не принадлежат гражданину Найденко А. Н. Ошибки быть не могло: труп идентифицировали по структуре спирали ДНК, взятому из старого анализа крови гр. Найденко, и показатели не совпали — получалось, что в гараже сгорел не Коттон, а кто-то иной. Коттон это лишь грамотно и умно подстроил, подбросив в карманы неизвестного сотовый телефон, паспорт и кредитные карточки.
Зачем, почему он это сделал?
Естественно, напрашивался единственно правильный ответ: потому, что хотел исчезнуть. Теперь, со ста миллионами долларов вор мог безбедно прожить в любом уголке земного шара.
Так что теперь лови вора, если сумеешь…
Ну, а вторая новость оказалась немногим лучше, чем первая: в шесть часов утра жулик Коттона, Вареник, покончил жизнь самоубийством в Бутырской тюрьме.
Прокурор, нервно протирая тонкие линзы очков белоснежным носовым платком, не мигая, смотрел в круглый глаз наборного диска одного из многочисленных телефонов — как будто бы надеялся получить от него единственно правильный ответ.
И думал, думал, думал…
То, что Вареника отдали в руки милиции — было главной ошибкой. Уж сколько раз зарекался Прокурор не связываться с ментами, но вот связался же… На свою голову.
В задачу МУРовских оперативников входило: захватить порученца вора (что и было сделано силами СОБРа), привести в следственный изолятор и выяснить одно-единственное — где находится его пахан.
И если первая часть задания, самая простая, была блестяще выполнена (как сообщили Прокурору сразу же после событий на Новочеремушкинской пришлось даже пострелять по конкурентам), то вторая — была не менее блестяще провалена.
Существует масса способов заставить человека говорить, и вовсе не обязательно его бить или, как говорят компетентные сотрудники пенитенциарных учреждений, прессовать. Язык могут развязать специально обработанный натриевый пентотал, более известный как «сыворотка правды», сеанс направленного гипноза, все эти новейшие электронные штучки вкупе с экстрасенсорикой, в применении которых так преуспели люди с Варварки, 5, где расположено страшное и таинственное СБП РФ… Мало ли есть способов?!
На Бутырке же пошли путем самым примитивным, топорно и неумно: опера сунули Вареника в камеру к перешедшим на сторону ментов уголовникам, а те быстро «опустили» его, сделали из уважаемого блатного пассивного педераста, предварительно приковав к нарам казенными наручниками. Авторитетный уркаган, впечатленный этой беспредельной акцией донельзя, не выдержал позора — спустя несколько часов он перегрыз себе вены. Пока вызвали прапорщика-контролера, пока донесли подследственного до медсанчасти, тот отдал дьяволу душу.
По мнению подотчетных Прокурору аналитиков, Вареник был, пожалуй, единственным человеком, способным вывести на след Коттона. А ведь теперь, в связи с последними событиями, Прокурор все больше и больше утверждался в мысли, что сто миллионов долларов, вложенных высокопоставленными кремлевскими чиновниками в проект «Русский оргазм» — у него, Алексея Николаевича Найденко. Был еще один человек, который мог вывести на след: племянница Наташа — но и ее тоже нет, как в воду канула. Поиски ни к чему пока не привели…
Как знать — может быть, сентиментальный уголовник и его любимая племянница уже где-нибудь на Кипре или в далекой Латинской Америке, в какой-нибудь хорошей нищей стране с замечательным тропическим климатом и либеральным иммиграционным законодательством? Наташа самозабвенно танцует ламбаду под пальмами, а татуированный старик прирабатывает консультантом у каких-нибудь местных наркобаронов, наследников инков и ацтеков учит пальцовке, «понятиям» и родной российской фене, а в выходные носится по прериям на джипе, палит из кольта, развлекает себя сафари на латиноамериканских ментов…
Шутки шутками, но ситуация запутывается донельзя — теперь трудно сказать что-то определенное.
Резкий, пронзительный телефонный звонок вдребезги разбил хрупкую тишину высокого кабинета; Прокурору даже показалось, что корпус телефона, на диск которого он неотрывно смотрел, завибрировал.
— Алло… — привычно-мягко произнес хозяин кабинета в трубку.
Звонил Рябина — голос подчиненного был взволнованным донельзя. Абонент говорил долго — хозяин кабинета слушал, не перебивая, нервно поправляя очки. И лишь когда доклад был завершен, он позволил себе сделать несколько уточнений…
— Как исчез? Куда исчез? Почему? — Прокурор слегка поджал губы — это было признаком сильнейшего душевного смятения. — А почему не уследили? А кто — я должен? А что говорит «прослушка»? Нет? А что в МВД говорят? Тоже не знают?
Не дослушав оправданий абонента, обладатель очков в золотой оправе положил трубку на рычаг.
Это сообщение было куда более неприятным, чем самоубийство Вареника.
По агентурным источникам, Сухарев тоже исчез. Оставив вместо себя какую-то шестерку, лидер самой сильной и опасной московской «бригады» тайно покинул столицу: во всяком случае, Рябина был в этом убежден. Технические службы, приданные структуре «КР» из ФАПСИ, Федерального Агентства Правительственной Связи и Информации, уверяли, что сотовый телефон Сухого безмолвствует уже второй день. Конечно же, он мог запросто сменить аппарат, это не проблема — какая-то штука баксов… Но ведь Сухого не было ни в его коттедже, он не появлялся ни в одном из клубов и казино, куда был вхож!
Судя по всему, его вообще не было в городе.
Это исчезновение настораживало — Прокурор, нервно чиркнул зажигалкой, закурил, задумался; глубокая продольная складка прорезала его лоб.
Судя по оперативным сообщениям, бандитский бизнес Сухарева шел блестяще: после того, как в фешенебельном московском ресторане были расстреляны наиболее влиятельные конкуренты из «босяцкого» крыла преступного мира, последние препятствия на пути к криминальному Олимпу были устранены окончательно. Банкиры и бизнесмены, которым недавние противники делали «крышу», естественно, перешли под Сухого. Казалось бы — сиди себе на подмосковной вилле и стриги купоны…
Значит, справедливо размышлял Прокурор, у Сухарева были дела поважней, чем банальные разводы и разборки столичных бизнеснюг.
Какие именно?
Сигарета неслышно тлела в массивной малахитовой пепельнице, и дым, поднимаясь над столом, напоминал какое-то сказочное растение. Хозяин кабинета, затушив окурок, поднялся, подошел к огромному окну, поправил портьеру…
По всем раскладам получалось, что таким важным делом мог быть только «русский оргазм».
Было очевидно, и притом с самого начала: за производством принципиально нового наркотика стояла не какая-то шестерка Заводной, а человек солидный, умный, а главное — с огромными, почти неограниченными возможностями.
По давешней версии, одной из многих, вся эта махинация была задумана и осуществлена человеком, стоявшим за производством «русского оргазма».
Еще месяц назад Прокурор почему-то подумал: а что если этот загадочный человек надумал пожертвовать малым, заводиком в Мазовецком воеводстве, Малкиня, чтобы получить большее? Сто миллионов долларов — как раз та самая сумма, ради которой можно пойти на жертвы…
А таким человеком в крапленой колоде российского криминалитета мог быть только Сухарев — и вот он растворился.
И если та, давнишняя версия действительно справедлива, все более или менее становится на свои места — все, кроме исчезновения Найденко и самого Сухого. Ведь если бесследно исчезают оба человека, имевшие отношение к проекту «Русский оргазм», то поневоле хочется думать, что деньги у одного из них!
Прокурор морщил лоб, прикидывая возможности — в этом пасьянсе не хватало какой-то одной карты. А может быть, это и не пасьянс? Может быть пока он, такой хитроумный и дальновидный, просчитывает варианты, кто-то из них решил сыграть против него, Прокурора, в плебейского подкидного дурачка…
И все-таки одной карты не хватало — интуиция подсказывала, что она окажется джокером, а имея ее на руках, можно бить кого угодно и как угодно. И Прокурор уже знал или почти знал, какой именно карты….
Движения хозяина кремлевского кабинета обрели былую уверенность.
— Машину к подъезду, — произнес он в трубку и, мельком взглянув на собственное отражение в огромном настенном зеркале, почему-то окончательно убедился в своей правоте…
Глава тринадцатая
Днем за городом прошел парной дождик, и вечер выдался на редкость погожим, теплым и ласковым — ни единого облачка на прозрачном закатном небе, западный край которого уже розовел.
Лютый лежал на мокрой после дождя траве, уткнувшись лицом во влажную землю. Она пахла грибами, мокрым лесом. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что находишься не на стрельбище совсекретной структуры с загадочным названием «КР», а где-нибудь на отдыхе. Правда, забыться не дали две короткие автоматные очереди. Одна из них прозвучала слева от него, вторая справа. Звуки выстрелов раскатистым громом пронеслись над полем и, отразившись от недалекого леса, вернулись к стрелявшим.
Это были очередные занятия — на этот раз по тактике боя на пересеченной местности.
Максим посильнее сжал цевье автоматической винтовки М-16 и поудобнее пристроил приклад, уперев его в плечо: сейчас между деревьями должна была появиться цель — всего лишь на несколько секунд, но ее надо было поразить с первого же выстрела.
Неожиданно за перелеском, где на КП находился Рябина, гулко прогремел громкоговоритель:
— Курсант Лютый, прекратить занятия, сдать оружие и вернуться на базу…
Максим, поднявшись, закинул автоматическую винтовку за спину и пошел, он не знал, почему Рябина распорядился отставить сегодняшние учения, но интуиция говорила — наверняка не просто так.
Для чего его вызывают?
Что могло произойти?
Нечаев ничем не выдавал ни волнения, ни тем более удивления: человек, прослуживший в структуре КГБ три года, человек, имевший непосредственное отношение к самой секретной и загадочной из всех российских спецслужб, так называемому «13 отделу», человек, из-за предательства начальства потерявший семью и проведший два года за «решками», имеет моральное право не доверять никому. Ничто так не способствует равнодушию, как недоверие. Если теперь Лютый и удивлялся чему-нибудь, то никогда, ни при каких обстоятельствах не выдавал этого.
Вот и теперь: молча сдал оружие и боеприпасы, молча сел в командирский УАЗик…
Рябина был сосредоточен и суров. Сидя за рулем, он то и дело бросал на сидящего рядом быстрые косые взгляды, словно пытаясь определить, догадывается ли тот о чем-нибудь или нет.
Нечаев сосредоточенно смотрел перед собой, всем видом демонстрируя: мол, хотели меня видеть — я выполняю приказ. Я ведь не человек, я — винтик, шестеренка, которую используют в целях, мне неизвестных. Я могу только слушать и, не размышляя, козырять «есть!..».
Вскоре показался высокий бетонный забор, опоясывавший базу «КР».
— С вами будет говорить очень серьезный человек, — не глядя на Лютого, предупредил Рябина.
Максим промолчал, и молчание это можно было истолковать двояко — и как согласие, и как безразличие.
Металлические ворота растворились, и УАЗ вкатил во двор.
— Вас ждут на втором этаже, — проинформировал Рябина. — В моем кабинете.
Лютый, хлопнув дверцей и не обернувшись, пошел к входу…
Они не виделись почти два года — с тех пор, как беседовали во дворе Лефортовского следственного изолятора. Часто, очень часто потом Лютый вспоминал об этом человеке и всякий раз ловил себя на мысли, что испытывает к нему двойственное чувство.
С одной стороны, Нечаев невольно восхищался этим человеком в старомодных золотых очках, — люди, которые безусловно опытней и умней тебя, всегда вызывают подобное чувство. С другой… Как можно позитивно воспринимать того, кто упрятал тебя за решетку?!
Прокурор сидел за канцелярским столом, спиной к двери, но Максим узнал его сразу. Будь тут, в небольшом кабинете, хоть десять человек, одинаково одетых и сидящих к нему спиной — Лютый бы не ошибся. Да и не только бы он один.
Почему?
Одни при этом могут разглагольствовать об интуиции, другие — о некой загадочной энергетике, третьи — о привычке властвовать, свойственной очень немногим людям, которая угадывается в них даже издали…
Кто прав? — наверное, и первые, и вторые, и третьи.
— Добрый вечер, Максим Александрович, — мужчина приветливо улыбнулся Нечаеву — так, словно бы они расстались не два года назад, а только вчера. — Как дела?
В другой ситуации этот вопрос, всегда следующий за приветствием, чтобы просто завязать разговор, прозвучал бы глупо, но Нечаев интуитивно различил в нем какой-то потаенный смысл. Бывший комитетчик не относился к категории людей, которые после столь банального вопроса принимаются излагать всю свою жизнь, от начала до конца… Но ведь и вопрос задал необычный человек!
— Спасибо, хорошо, — кратко и сухо ответил Максим, пожимая протянутую руку.
— Присаживайтесь, — любезно предложил гость и, дождавшись, пока Лютый займет место за столом, сел напротив и продолжил: — А вообще-то, вам действительно есть за что меня благодарить.
— Если вы имеете в виду два года зоны, на которую я попал по вашей милости, то уж наверняка есть, — спокойно парировал Нечаев.
Прокурор не стал отрицать.
— Возможно. Но, как говорится, что ни делается — все к лучшему. Как знать — не попади вы в то ИТУ, может быть, этого разговора и вовсе бы не было… Вы ведь многого не знаете. А я знаю. После смерти Атласова и роспуска «13 отдела» у вас определенно начались бы серьезные неприятности — учитывая ваш характер. А на зоне вам было спокойней… Может быть, я сокрыл вас в тюрьме от неприятностей, которых бы вы наверняка не избежали на воле?! В конце концов, я вас за решетку упрятал, я же вас оттуда и извлек, — примирительно завершил гость, внимательно оценивая реакцию собеседника.
— Но ведь не за так просто извлекли? — вопрос прозвучал очень напряженно — судя по тону, беседа явно не обещала быть бесконфликтной. — И если меня оттуда выпустили, то я ведь вам обязан и должен буду отработать эту свободу?
И вновь высокопоставленный собеседник ответил прямо и честно:
— Совершенно верно. В мире ничего просто так не происходит. Если помните наш последний разговор, в Лефортово… Тогда мы говорили о распределении ролей, — дождавшись, пока Нечаев кивнет утвердительно, Прокурор продолжил: — Так вот, Максим Александрович, напомню еще раз… Каждый человек, вольно или невольно, играет в жизни ту роль, которую ему отводят другие. Иногда человек об этом даже не задумывается — считает, что жизнь развивается по сценарию, написанному им самим…
— И вы тоже изображаете того, кого вам приказано? — и хотя Прокурор явно не ожидал такой реакции, он, тем не менее, ответил предельно серьезно:
— И я тоже.
— И кем же? — в голосе Лютого прозвучало скрытое напряжение.
— Теми, кто сильней меня, — кремлевский порученец неожиданно мягко улыбнулся, и Нечаев почему-то поймал себя на мысли, что эта открытая, обескураживающая улыбка никак не подходит к властному и уверенному облику Прокурора. — Впрочем, давайте оставим в стороне метафизику человеческих отношений. Их оценка — не самая сильная ваша сторона. Скажу лишь одно — Максим Александрович, где-то я вами даже восхищен: вы — единственный, кто сознательно не принял такого расклада, и притом не из соображения прямой выгоды. Вы не хотите играть ничью роль, вы хотите остаться самим собой. Вы не меркантильны и не любите ни деньги, ни власть… И это вам очень мешает.
— И кто же определил мою теперешнюю роль? — бесстрастно поинтересовался Максим.
— Я, — послышалось столь же невозмутимое.
Прокурор поднялся из-за стола, подошел к двери и выглянул в коридор, чтобы убедиться, что там никого нет. Затем, несмотря на то, что в комнате было прохладно, включил вентилятор — видимо, чтобы затруднить возможное прослушивание.
— А теперь, слушайте и запоминайте…
— Что? — Максим слегка опешил от столь крутого поворота беседы.
— Свою роль в этом спектакле.
Прокурор был предельно искренен — эта искренность даже немного напугала Лютого. Максим узнал и о «русском оргазме», и о людях, вложивших в проект огромные деньги, и о специфике наркотика, даже однократное потребление которого способствует потере собственного «я», и о том, какие места в заоблачной кремлевской иерархии занимали люди, вложившие в него средства, и об их реакции после того, как стало известно о событиях в Польше…
Говоривший старательно избегал оценок произошедшего, а уж тем более — примитивного морализаторства. Изложение фактов, перечисление фамилий, должностей, хронологии и географии событий, не более того.
Ну, а чего, собственно, морализировать? Все предельно просто и ясно. И даже естественно.
Ясно, что очень влиятельные люди решили прокрутить деньги, заработав на каждом вложенном долларе многие сотни. Естественно, был большой риск, потому как наркопроектом занимались криминальные структуры… Но ведь без риска можно нажить лишь цент на баксе! А потом, как справедливо говорил Карл Маркс, нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал ради ста процентов прибыли. Кто сказал, что дикий российский капитализм, едва миновавший стадию первоначального накопления, отличается человеческим лицом? Все тот же звериный оскал; мир капитала — мир бесправия, еще в школе учили, и все такое прочее…
Деньги исчезли как дым, как утренний туман, то есть бесследно, завод разгромили поляки, и за кремлевской стеной, и в Думе, и в Белом Доме, и на Лубянке, и на Варварке высокопоставленные вкладчики-концессионеры начали валиться, как кегли, с инфарктами миокарда. У наиболее жизнеспособных началась паника. Зреет дикий скандал…
Существует, как минимум, две версии произошедшего.
По первой — сто миллионов долларов присвоил Алексей Николаевич Найденко, смотрящий Польши из Москвы, этот уркаган татуированный, ходячая Третьяковская галерея… Развел, небось, ненавистное ему государство, слил, как положено, четверть в свой воровской общак и, сымитировав похищение племянницы и свою смерть, свалил куда подальше.
По второй — деньги находятся у Сухого. Версия интересная, хотя и довольно усложненная. Подробности таковы: так уж вышло, что Сухарев не мог организовать производство «русского оргазма» в России — это было сделано в Польше, как в стране к Российской Федерации относительно близкой и спокойной. Но контроль над проектом попал в руки Найденко, давнего недруга Сухого. Пахан наверняка не знал, кто стоит за Заводным, иначе бы сценарий был совершенно иным. Коттон должен был проконтролировать прокрутку, денег, в дальнейшем подмяв под себя весь проект (так и планировалось в Москве), но Сухой, посчитав, что он в этом спектакле не статист, а главный режиссер, изменил сценарий, сделав упреждающий ход: вступил в сговор с поляками, отдал им на разгром собственное производство в Малкиня (слава польской полиции!), преспокойно забрал деньги (мол, поляки, сволочи такие, себе забрали!), после чего исчез сам. А чтобы держать ненавистного вора в законе на коротком поводке, похитил его племянницу: мол, только пикни…
Хотя с тем же успехом в сговор с польскими спецслужбами мог вступить и Коттон.
Так что задача такова: выяснить местоположение Коттона (если он до сих пор в России) и Сухого (тоже неизвестно где может быть этот негодяй), проследить связи, попытаться найти концы — деньги, возможное применение им…
Пока все.
— А если я откажусь? — Нечаев взглянул на собеседника откровенно неприязненно. — Если я и теперь не приму такого расклада?
— Не откажетесь, у вас вновь не остается другого выхода… Знаете, никто и никогда не действует самостоятельно, — негромко произнес собеседник, поднимаясь; несомненно, последнее утверждение претендовало на афоризм.
— Но если все-таки не соглашусь? Если захочу остаться самим собой? Что — опять на зону отправите? — Лютый позволил себе закурить.
— Не откажетесь, — любезно улыбнулся Прокурор, фраза эта прозвучала настолько снисходительно-уверенно, что собеседник не смог удержаться от естественного вопроса:
— Почему вы так думаете?
— Я уже все просчитал.
— За меня? — Максим нервно сбил сигаретный пепел мимо пепельницы.
— За вас, — ни единый мускул не дрогнул на лице высокопоставленного кремлевского чиновника.
— Но почему? — искренне возмутился Лютый. — Почему вы все за меня просчитали? Почему вы решаете, что я должен делать, а чего — нет? Почему вы программируете мои действия?
Прокурор снизошел до объяснений:
— Хотите аргументы? То есть — «почему?» Пожалуйста. — Закинув ногу за ногу, он небрежно поправил бриллиантовую заколку галстука и, прищурившись, взглянул не в лицо собеседника, а куда-то поверх его головы. — Я буду задавать вам вопросы, уже зная ответы: на все вопросы вы ответите однозначно «нет» — кроме трех последних. Так вот, — внезапно рука Прокурора, описав правильный полукруг, уперлась в невидимую пространственную точку, — вы ведь не бросите Наташу Найденко, говоря высоким штилем, на произвол судьбы? Вы ведь испытываете к ней… м-м-м… Полное безразличие, ничего общего не имеющее с отцовскими чувствами? Так ведь? Ах, нет?! Вы ведь не бесчувственный киборг, вроде моего подчиненного и вашего непосредственного начальника Рябины? Вы ведь переписывались с ней, будучи на зоне? Вы ведь спасли ее уже один раз? Вы ведь, Максим Александрович, в отличие от других, искренний гуманист, а не холодный, прожженный прагматик, как я?! Это я подхожу к жизни, к ее вопросам с калькулятором, штангенциркулем и логарифмической линейкой, а вы — иначе… Впрочем, по этому сценарию вы, Лютый, — говоривший сознательно назвал собеседника не по имени-отчеству, а по оперативному псевдониму, давая понять, что беседа переходит в русло чисто служебное, — вы, Лютый, должны видеть жизнь только в одном измерении: через оптический прицел снайперской винтовки. Как ни парадоксально, именно это позволит вам остаться самим собой… Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду — не так ли?
Максим угрюмо промолчал: возражать не приходилось.
— Так что? Теперь вы согласны? — безжалостно наседал Прокурор. — Или я неправ?!
На этот раз Лютый ответил, но глухо и печально, понимая полную и безоговорочную правоту собеседника:
— Вы меня используете… Вновь, как и два года назад.
— Несомненно, — собеседник хмыкнул — мол: «наконец-то дошло!..»
— Вы играете на том, что я не могу воспринимать всех людей лишь как обстоятельства, способствующие успеху или неуспеху вашей грязной политики.
— Несомненно. Именно на этом я теперь и играю. Хотя, позволю себе заметить, что политика никогда не бывает чистой, — казалось, Прокурора трудно было вывести из себя.
— И по вашей милости я должен влезать в это дерьмо.
— Не влезайте. Весь мир в дерьме, а вы останетесь в белом фраке и замшевых перчатках?! Я ведь не могу вам приказать, я могу лишь предложить. Не хотите — найдем другого. Но я предлагаю это именно вам лишь потому, что судьба Наташи Найденко, — кремлевский гость позволил себе едва заметно улыбнуться, — никогда не будет для вас просто обстоятельством. И это — самая большая гарантия, что вы справитесь с заданием. Ну, так что: надеюсь, теперь вы согласны?!
Глава четырнадцатая
Низкая, приземистая «БМВ-М-5» антрацитно-черного цвета с бандитской тонировкой стекол и тонкой, почти прозрачной антенной на крыше медленно двигалась в угарном чаду полуденного Кутузовского проспекта.
Рыжее июльское солнце припекало, слепило глаза, но непроницаемые тонированные стекла машины не пропускали его лучи в салон, отбрасывали озорными солнечными зайчиками на обочины, в сухой июльский воздух, в людские потоки на тротуарах.
За рулем скоростной машины сидел Лютый.
Он немного отвык от езды по запруженным автомобилями столичным улицам и пока вел свой «бимер» предельно осторожно, постоянно контролируя зеркала заднего вида — Москва всегда славилась обилием сумасшедших на дорогах. В последнее же время психов-водителей заметно поприбавилось — перед уже мигающим светофором его нагло подрезал какой-то больной на навороченной спортивной тачке — через заднее стекло уже маячащей впереди короткозадой машины заметен массивный бритый затылок водителя…
Хозяин жизни — сытый, довольный собой; такому все можно.
БМВ стоило бы поберечь хотя бы потому, что она, несмотря на свой бандитский антураж, была казенной: Максим получил ее на базе «КР» в свое полное распоряжение, так же, как и служебную однокомнатную квартиру в районе Садового кольца. Именно туда теперь и катил Нечаев — наконец-то он останется один, наконец-то над душой не будет ни лагерного рекса, ни киборга Рябины. Что касается последнего, то, во всяком случае — пока не будет.
Лютый, конечно же, согласился на предложение Прокурора — он не мог не согласиться. Улыбчивый кремлевский подлец знал его болевые точки…
Вспоминая последнюю беседу, Нечаев болезненно морщился, словно от хронической зубной боли. Вновь, в который уже раз его использовали — мало того, ему сообщили об этом открытым текстом, буднично и спокойно: «я вас за решетку упрятал, я вас оттуда и извлек». Будто бы речь шла о багаже, сданном в долговременную камеру хранения. Впрочем, не использовали еще, собираются только…
Но нет сомнений, что все произойдет именно так, как планирует для него Прокурор.
Прокурор для Лютого — в этом случайном, казалось бы, сочетании слов было что-то зловещее, укрощающее, ограничивающее и даже немного мистическое.
Да, этот человек оказался вовсе не таким, как предполагал Максим. Умный, расчетливый, интеллигентный — но это вовсе не значит, что порядочный и честный. Очки в старомодной золотой оправе были приманкой для дураков. Куклы, которых сценарист этого дьявольского спектакля дергает за незримые ниточки, вольно или невольно смотрели не в лицо — на оправу, а в это время их изучал, оценивал беспристрастный взгляд аналитика, властолюбца и интригана. Куклы, вроде него, Нечаева, и покупались на эту интеллигентскую маскировку, на мягкость манер и округлость фраз. И лишь теперь Лютый наконец сумел рассмотреть глаза, скрытые тонкими синеватыми линзами: безжалостные, холодные, всепроникающие и потому страшные вдвойне.
Такие глаза не могут быть у обычных людей. Такие глаза бывают только у них, сценаристов и режиссеров этого жуткого и неправдоподобного спектакля, именуемого «современной российской действительностью».
Они водятся на Старой площади, в Кремле, на Лубянке, в мэрии, на Арбате, обитают на роскошных подмосковных дачах, ездят в черных «членовозах» с блатными номерами, на которых вместо аббревиатуры «РУС» нарисован российский триколор. Вон, покатил гробоподобный шестисотый «мерседес» с таким номером и двумя машинами сопровождения, нагло и уверенно вырулил на встречную, шарахнул по испуганным водителям синей мигалкой и сиреной, и постовой мент едва не проглотил свисток от благоговения перед дорогим начальством. Так и мчат они по жизни, напролом, невзирая на правила и полосы встречного движения, так и живут, стервятники-падальщики, в заоблачных высотах, в земном или неземном раю, и единственное, что их может действительно волновать — деньги и власть. Власть и деньги. Понятия, идеально конвертируемые друг в друга: деньги дают власть, которая, в свою очередь, приносит другие деньги.
Они, облеченные властью, и Прокурор — в первую очередь, погрязли в самой что ни на есть мерзкой политике: прокрутка денег через наркотики — что может быть гаже и отвратительней?!
Чем же тогда Прокурор отличается от Коттона или Сухого? Он хуже, много хуже. По крайней мере тот же Найденко всегда честно и открыто декларировал свои цели: вор должен воровать, это его хлеб; вору незападло, в кайф, развести ненавистное государство в «их» лице. К тому же, как доверительно сообщил кремлевский бонза на базе «КР», пахану с самого начало было отвратительно связываться с наркотой, ему пришлось переступить через свои убеждения, так сказать, наступить на горло собственной блатной песне. Во-первых, потому, что был связан перед «смотрящим из Кремля» определенными обязанностями, а во-вторых, что куда важней, огромные суммы с прибыли от «русского оргазма» предполагалось пустить в воровской общак.
Да, Лютый согласился разгребать эту кучу дерьма голыми руками, согласился в очередной раз сыграть роль марионетки со снайперской винтовкой в руках — впрочем, это вовсе не означало, что он действительно будет марионеткой всегда и во всем. Пусть Прокурор дергает за ниточки — но ведь нет в мире таких ниточек, которые нельзя было бы перерезать или порвать!..
Правда, и на этот случай у Прокурора вроде бы был предусмотрен контрход: к Лютому был приставлен Рябина. Официально — чтобы подстраховать или помочь, неофициально — для контроля…
«Приставили ко мне сторожа, чтобы я не сбежал?» — открытым текстом поинтересовался Нечаев в конце той памятной беседы.
«А куда вам с подводной лодки-то деться? — с пугающей откровенностью ответил Прокурор, растягивая тонкие губы в улыбку человека, которому уже все заранее известно. — Кому вы вообще теперь нужны? А Рябина будет рядом с вами лишь для того, чтобы вы, Максим Александрович, в горячке глупостей не наделали…»
Размышления Максима прервал неприятный резкий звук — подрезавшая его навороченная спортивная тачка, пронзительно взвизгнув резиной об асфальт перекрестка, мгновенно вырвалась вперед автомобильного стада: крутой за рулем, однако! Кредо жизни: педаль газа в пол, резко бросается сцепление и до следующего перекрестка, чтобы показать всем им, козлам, как правильно ездить и тормозить.
Стряхнув сигарету в пепельницу, Максим плавно тронулся — конечно же, теперь, после спецкурсов вождения автомобиля, пройденных им на базе «КР», он мог бы показать тому кретину класс, тем более, что и тачка у него ничем не хуже. А зачем — что он этим докажет?!
Черная БМВ с длинной антенной на крыше плавно и тяжело катила по левой полосе проспекта, а Максим продолжал свои невеселые размышления.
Ну, сделает он все так, как запланировал для него Прокурор — если сделает…
А дальше?
А дальше, по логике, когда цель будет достигнута, от него немедленно избавятся как от человека, слишком много знающего. Тихий хлопок в подъезде, контрольный выстрел — и все проблемы решены.
Для них, по крайней мере…
Замкнутое пространство всегда гнетет. Стены ограничивают взгляд, потолок давит на мозг и, кажется, тяжелая бетонная плита в любой момент может свалиться на голову, похоронив под собой хрупкую плоть. Даже пол — и тот грозит завибрировать и провалиться, и обломки его уволокут тебя в самую преисподнюю…
Комната, квадратная в плане, была небольшой: пять шагов от двери к окошку, пять шагов от одной стены к другой. Геометрически-правильный квадрат окна с толстым стеклом над головой, а в нем — одеяльный лоскут серо-синего неба. Матово-молочный свет, будто бы стекла в окне непрозрачные, но дело не в стекле, это такое небо. И ничего, кроме этого света…
Наташа Найденко смотрела в окно по сто раз на день и, наверное, столько же раз меряла ее вдоль и поперек шагами, но только первое время. Тюремная камера, да и только, считала она. Правда, в отличие от тюрьмы, комната эта отличалась относительным комфортом: большая мягкая кровать, огромный телевизор с видеомагнитофоном, холодильник, кондиционер, стеллажи с книгами…
Был даже собственный слуга — именно так называла про себя девушка крепкого молчаливого мужичонку с серой, незапоминающейся, невзрачной внешностью. Этот невзрачный появлялся тут ровно три раза в день — утром, днем и вечером, приносил еду, уносил грязную посуду и выполнял мелкие просьбы пленницы.
Сколько ни пыталась заговорить с ним девушка, сколько ни пробовала завязать беседу — невзрачный смотрел на нее ничего не понимающими, словно невидящими глазами, что-то бормотал в ответ и уходил, катя перед собой тележку с кружками и тарелками.
Наверное, он был глух.
Сперва, сразу после похищения, Наташа пыталась поговорить с ним по-хорошему. Улыбалась, даже слегка кокетничала, задавала вопросы, которые казались ей совершенно естественными: почему ее украли те страшные люди из «речной милиции» прямо с прогулочного катера на Москве-реке, почему ее тут держат, почему не дают позвонить маме, которая наверняка очень-очень волнуется, и вообще — где она теперь находится? Не дождавшись ответа, девушка начала скандалить — кричать, что у нее очень авторитетный дядя, который работает «кем-то вроде юриста», что если ее не выпустят, тут появится «ее мальчик» Максим, с которым она «ходит», и он, невероятно крутой, побьет всех сильно-сильно, что они вообще не имеют права…
А потом, как-то так само собой получилось, Наташа забыла обо всем: и о маме, и о недавнем выпускном бале в родной школе, и о том, какая она была там красивая-прекрасивая, и о вручении аттестатов, и об авторитетном «дяде-юристе» и, что самое странное — даже о Максиме.
Произошло это как-то незаметно: словно взял некто влажную губку и вытер с грифельной доски памяти все, что грязными меловыми потеками заслоняло главное… А главным было то, к чему стремится каждый нормальный человек: счастье. Теперь девушка ощущала его почти физически.
Наташа даже не заметила, как однажды, рано утром, невзрачный пришел в обществе какого-то мрачного уродца, у которого все, казалось, было квадратным: голова, плечи, кулаки и даже небольшой горб.
Они дали ей стакан кока-колы — девушка, блаженно улыбаясь, выпила и, закрыв глаза, легла на кровать.
И была счастлива, счастлива, счастлива; счастлива абсолютно и бесповоротно. Счастье разливалось по тесной комнате; счастье и восторг струились из квадратного окна напротив кровати, счастьем были окрашены стены, воздух; счастье тихим светом сочилось из молчащего телевизора, мелодичным шелестом радиоволн проникало в мозг…
Счастье, счастье, счастье…
И даже на языке ее вертелось постоянное, устойчивое сочетание «сч»; оно казалось колючим, жестким, шершавым и потому так хотелось растягивать последний мягкий и ласковый слог: «ие-е-е-е…», «счастие-е-е-е»!
Так вот, какое оно, это самое счастье — когда тебе ничего не надо… Нет, когда надо лишь одно: вот так вот лежать на кровати, пусть даже в этой тесной комнате, пусть даже одной, лежать и ощущать, лежать и внимать себе, лежать и слушать музыку счастья, музыку заоблачных сфер, незримо насыщающую атмосферу вокруг…
Словно океаническое течение выносит на влажный, мягкий песок, и набегающие волны ласкают, лижут ступни, небо над головой голубое-голубое, лазурное-лазурное, аж глаза режет эта голубизна, руки тяжелые и непослушные, но эта непослушность тем более радует.
И не хочется думать ни о чем, и кажется, способна выполнить любое желание — кого угодно и какое угодно, и верить всему, что тебе скажут, и быть счастливой лишь от этого.
А потом Наташу посадили в большой автомобиль, эдакий дом на колесах — с телевизором, видеомагнитофоном и холодильником, и повезли куда-то: девушка даже не спрашивала, куда именно. Хоть на край света — теперь ей везде будет хорошо.
Но вскоре все закончилось.
Веселящий газ, окутывавший ее сознание, как-то незаметно улетучился, и стало страшно. Она — такая маленькая, беззащитная, всеми покинутая, в обществе незнакомых людей, в какой-то огромной машине, запертой снаружи. Медленно проплывают за окнами острые верхушки деревьев, тогда в просветах между кронами мелькает лазурное небо, затем его заслоняет грозовая туча, и от этой смены видов Наташе почему-то становилось очень одиноко, и очень хотелось плакать: наверное, от жалости к себе.
Машина катила по шоссе в полную неизвестность — девушка, сбросив одеяло, поднялась и на непослушных ногах приблизилась к стеклянной перегородке, отделявшей салон от водительского места.
За рулем сидел мужчина с красным лицом и немного выпученными глазами — огромный золотой перстень с неправдоподобно большим бриллиантом почему-то сразу обратил на себя внимание. Наташе показалось, что она где-то, когда-то, в какой-то другой жизни уже видела этого человека, уже встречалась с ним…
Рядом с обладателем бриллиантового украшения ерзал на сидении какой-то тип в белоснежном костюме — когда позади него определилось легкое движение пассажирки, он, даже не обернувшись в ее сторону, процедил слова загадочные и жутковатые:
— Слышь, Сухой, а она, кажется, оклемалась…
— Сейчас до Калуги доберемся, еще одну дозу дам, — отозвался тот, кого сидевший рядом с водителем назвал Сухим.
Все это было так страшно, что девушка вновь двинулась в глубь салона. Уселась, потерла руками виски — теперь она ощущала в голове полную пустоту.
Неожиданно на ум пришло сравнение, резкий всплеск сознания вынес на поверхность что-то такое географическо-этнографическое, кажется, из любимой когда-то передачи «Клуб кинопутешественников», а сравнение такое: где-то далеко-далеко, в девственных лесах Амазонии обитало дикарское племя, которое охотилось на других дикарей, но не ело их, а просто отрезало головы, вынимало мозг и высушивало черепа, а потом наполняло их сочной рыхлой мякотью какого-то тропического дерева — для каких-то религиозных обрядов. Девушке казалось, с ней тоже сделали нечто подобное — вынули мозг, наполнив голову чем-то таким, без чего она теперь не может прожить и минуты…
Вскоре машина остановилась. Мужчина с красным лицом, войдя в салон, молча протянул девушке стакан сока — та механически взяла его и выпила: ее мучила жажда.
И вновь — невидимое течение, мягкий прибой, ласкающий мозг, и вновь хочется исполнить любое желание, осчастливить всех и каждого, и несет ее волна на мягкий песок, и растворяет в себе…
Когда же Наташа очнулась вновь, краски исчезли, потускнев, плавное течение остановило свой бег и вода бескрайнего океана превратилась в зловонную, стоялую воду торфяной ямы.
И вновь комната — уже другая, поменьше. Стол, стулья, кровать, телевизор. Высокое окно под потолком. И ничего больше нет в мире, кроме этого…
Девушка поднялась с кровати, подошла к окну, привстала на цыпочки, подтянулась за подоконник, заглянула вниз — какие-то крыши, бурая жесть, черный толь, серый шифер, красный кирпич, белый бетон — квадратные скаты, и на скатах этих растут черные, мертвые деревья-антенны, и деревьев этих много-много, целый лес.
И от этого унылого железного леса на нее внезапно нахлынула волна тоски и нестерпимой жалости к себе — на миг она вытеснила все другие чувства, даже недавнее ощущение абсолютного, полного счастья…
Глава пятнадцатая
В современном технотронном мире практически любой человек, желая того или нет, неминуемо оставляет после себя великое множество информативных следов — надо лишь внимательно рассмотреть и собрать их воедино, и следы эти расскажут о многом, если не обо всем.
Современный человек не мыслит себя без телефона, а это значит, при необходимости и технических возможностях можно определить его номер и домашний адрес, записать беседу, заодно разложив и проанализировав интонации звонивших на детекторе лжи. Сотовый телефон еще лучше: он дает уникальную возможность не только запеленговать сиюминутное местонахождение абонента, но и проследить все его перемещения в пространстве.
Современный человек, как правило, ездит по городу на личном автомобиле, который обязательно имеет госномер — зная его, можно войти в компьютерную базу данных ГАИ и определить, на кого и когда зарегистрирована машина, какого она года выпуска, каково ее техническое состояние и сколько времени ездит на ней владелец.
Современный человек зачастую расплачивается при помощи кредитных карточек: можно отследить не только платежеспособность, но и географию и хронологию покупок, любимые рестораны и клубы, а по приобретениям — привычки и пристрастия.
В конце концов, современные люди очень любят кабельное и спутниковое телевидение: любимые фильмы, спортивные соревнования или телешоу можно заказать по телефону прямо из дому. Для приема таких программ необходимо иметь специальные чипы — что-то вроде электронных проездных билетов в метро. Вставляя такой чип в приемное отверстие телеприставки, современный человек неминуемо рискует стать предметом тайного, но пристального исследования самых разнообразных структур — от маркетинговых отделов международных торговых корпораций до тайных спецслужб. И те, и другие профессионально вычислят, какие передачи он предпочитает, в какое время суток обычно смотрит спутниковое телевидение, с какой периодичностью… Таким образом несложно определить не только характер телевизионного абонента, но и многое другое — эстетические вкусы, жизненные ориентиры, спортивные симпатии, интеллектуальный уровень, черты характера, распорядок дня и даже сексуальную ориентацию… Вся эта информация, профильтрованная хитроумными компьютерными программами и проанализированная специалистами, дает более-менее полную поведенческую картинку личности.
В конце концов, современный человек не мыслит жизни без компьютеров с выходом в Internet; обладая определенным технологическим навыком и опытом хакерской деятельности, можно по той же сети запросто войти в практически любой сетевой компьютер, отстоящий хоть на десятки тысяч километров и тайно скопировать нужную информацию, а при необходимости — заразить чужой компьютер неизлечимым вирусом.
Несмотря на муравьиную скученность гигантских мегаполисов, где так легко затеряться, где соседи, живя на одной площадке, порой не видят друг друга месяцами, где никому ни до кого нет дела, человека найти не слишком трудно — столь густой шлейф самых разнообразных следов он невольно оставляет за собой. И потому нынешний следопыт — не кинематографический индеец племени апачи или чироки, могущий по следам подковы в пыльной прерии определить возраст, болезни и вооружение всадника, и не старомодный Шерлок Холмс со скрипкой, трубкой и дедуктивным методом. Следопыт, сыщик — это, как правило, тихий, незаметный человек, проводящий целые дни за сетевым компьютером.
Именно об этом невольно думал Лютый, сидя перед экраном монитора в своей новой квартире.
Выполнение задания Прокурора было начато с анализа — как и положено в современном технотронном мире, информационного. Секретные структуры, подотчетные кремлевскому чиновнику, любезно предоставили Максиму дискеты, Си-Ди-диски и вход в секретный сервер, содержащий все необходимые технические данные: номера телефонов, марки и госрегистрации автомашин, оперативные сводки, донесения стукачей, уголовные дела, материалы следствий и приговоры судов, а также многочисленные закрытые документы с грифом «совершенно секретно». Окружение, связи, привычки и биографии — как Коттона, так и второго вероятного кандидата в похитители денег Сухого, — были как на ладони.
Однако анализ неожиданно пришлось отложить — едва ознакомившись с предоставленными данными, Максим начал рекогносцировку не с обработки уже готовой информации, а непосредственно с характеристик «русского оргазма». Если уж в этот проект решили вложить такие фантастические деньги, да не кто-нибудь, а высокопоставленные чиновники, стало быть, проект стоит многого.
Чего же именно — и предстояло понять.
Информация о «русском оргазме» неожиданно навела Нечаева на соображения куда более серьезные, нежели пропавшие деньги…
Тихо, почти неслышно шелестела клавиатура, щелкала «мышь» — на экране монитора послушно выстраивались ровные столбцы скучных химических формул, характеристик технологических процессов, медицинских показаний, какие-то диаграммы и графики. Правда, это был лишь общий план — ни полной формулы, ни подробных описаний производства наркотика компьютер не выдавал (видимо, всем этим не владел даже Прокурор), но информация, тем не менее, представляла дело в совершенно ином ракурсе.
Лютый сосредоточенно читал текст — казалось, каждое прочитанное слово навсегда остается в его памяти:
Кислотный наркотик, получивший условное название «русский оргазм» был случайно синтезирован в конце восьмидесятых годов в закрытом НИИ войск химзащиты. В виду глобальной конверсии конца восьмидесятых проект из-за нехватки средств был заморожен на неопределенное время. После увольнения из НИИ ученый-химик, синтезировавший препарат, пытался наладить его производство кустарным способом в одном из городов Ближнего Подмосковья, однако его открытие попало в поле зрения криминальных структур г. Москвы.
В начале 1994 г. гр. Митрофанов А. С. наладил производство наркотика в г. Малкиня (Польша, Мазовецкое воеводство). После уничтожения завода-лаборатории совместными усилиями Службы Бясьпеки Польши и полицейского спецназа химические формулы и информация о технологическом процессе бесследно исчезли.
Даже однократное употребление дозы «русского оргазма» создает стойкий синдром привыкания. В современной медицине не существует способов реабилитации, потому что с подобным препаратом наркологи еще не сталкивались.
Мерцающий синим монитор бросал на лицо Нечаева причудливые переливчатые блики — аналитик был серьезен и сосредоточен, как никогда.
Вряд ли от его внимания могло укрыться слишком очевидное: «русский оргазм» являлся не просто новым дешевым наркотиком вроде каких-нибудь «экстази» или «крэка». Речь шла о мощнейшем психотропном средстве, способным незаметно, но глобально влиять на психику людей, давая им при этом иллюзию полного, абсолютного счастья.
Скрытая манипуляция общественным мнением, формирование устойчивых стереотипов поведения, управление сознанием миллионов, то есть полная и безраздельная власть — не это ли конечная цель тех, кто вложил в проект огромные деньги?!
Нечаев закурил, задумался…
Теперь, словно из густого молочного тумана, вырисовывались контуры если и не вселенской катастрофы, то всероссийской… «Русский оргазм» позволял массово зомбировать народ, раз и навсегда превратив его в одну огромную, легко управляемую послушную марионетку. И если производство этого жуткого дурмана будет поставлено на промышленный поток и если во главе всего проекта встанет этот жуткий человек — Прокурор, то Россия, а может быть и весь мир перевернутся. Мир уже никогда не станет прежним. Улыбчивые дауны, не желающие ничего, кроме очередной порции синтетического счастья — мир безмолвных, счастливых рабов…
Если бы Сухой, или Коттон, или Бог, или дьявол занимались бы банальной, традиционной водкой, которая бы сулила прибыли не меньшие, чем «русский оргазм», это бы вряд ли заинтересовало высокопоставленных вкладчиков. Водка не дает возможности влиять на сознание глобально, а следовательно, не дает глобальной власти. Выпил, похмелился и — на завод. И так до следующего раза. Но спиртное, этот традиционный для России наркотик, хотя и скрашивает несовершенство мира, зато пагубно действует на здоровье и психику, а самое главное — катастрофически снижает работоспособность народа. А если человек не работает, не стоит у станка, он не производит материальные ценности, а это чревато общим снижением уровня жизни и, как следствие, легко прогнозируемыми катаклизмами.
А так, если верить сопроводительному меморандуму — полное, безграничное счастье. То есть, конечно, не само счастье, а его иллюзия, ощущение, но зато чисто физическое ощущение. И если дать человеку ощущение счастья, это будет ничем не хуже самого счастья…
Счастливый человек никогда не будет возмущаться, никогда не задумается о своей скотской жизни, никогда не захочет ее изменить.
Безусловно, сто миллионов долларов, вложенные в проект, — несомненно серьезный, но не самый главный аргумент.
Нервно затушив сигарету, Максим вновь защелкал клавиатурой; невольно он заметил, что волнуется — такого с ним не случалось уже давно…
Потребление «русского оргазма» делает человеческую психику предельно неустойчивой и аморфной, позволяя манипулировать поступками и даже мыслительными процессами. Человек, регулярно потребляющий даже небольшую дозу наркотика, перестает контролировать свои действия. «Р. о.» способствует появлению заниженной самооценки, патологической потребности подчиняться любой команде, практически не задумываясь о последствиях, подавляя способность даже простейшего анализа. Налицо стопроцентная психокоррекция…
Выключив компьютер, Лютый вышел на кухню, с треском открыл окно — ворвавшаяся струя холодного вечернего воздуха парусом надула штору. Кровь приливала к вискам — почему-то кстати или некстати вспомнился полузатопленный бокс: вода прибывает и прибывает, грозя сомкнуться над головой, а выхода нет и не будет. И от этой безнадежности становилось не по себе…
Максим просидел у компьютера два дня, практически не выходя из дому — к этому времени он уже владел всей полнотой информации: и по «русскому оргазму», и по Сухому, который, вне сомнения, стоял за его производством. Теперь Лютый был уверен не только в том, что сто миллионов долларов — у Сухарева, но и в другом: несомненно, Сухой вложит эти деньги в расширение проекта.
А потом?
Потом, по всей вероятности, наступит заключительный акт этого дьявольского спектакля: Прокурор его руками уберет зарвавшегося авторитета, выйдя из-за кулис, подомнет под себя производство, и тогда…
Что будет потом, Максим еще точно не знал: вряд ли этот незаметный, ползучий апокалипсис будет развиваться по единому сценарию. Он знал лишь одно — случится нечто страшное, непоправимое, и если это не остановит он, не остановит больше никто.
Дело приобретало совершенно неожиданный оборот: простенькое, казалось, чисто уголовное «кидалово» (какая в принципе разница — на тысячу, миллион или сто миллионов долларов?!) приобретало едва ли не вселенские, апокалипсические масштабы.
«Русский оргазм» в руках бандитов?
Уголовники массово превращают граждан в послушных терпил, доить которых становится еще проще, нежели тратить скачанные с них деньги. Правда они, возможно, еще не догадываются об истинных возможностях наркотика, но ведь поймут, и поймут очень скоро, какое орудие оказалось в их руках.
«Русский оргазм» в руках Прокурора и ему подобных?
Это не менее страшно: во все времена любая власть стремилась подчинить себе не только физическое существование людей, но и их мысли и желания, справедливо полагая, что мысли — первопричина поступков. А если мысли будут запрограммированы…
И вновь перед Максимом во всей своей сложности возник классический вопрос, казавшийся пока неразрешимым: что делать?
Философский вопрос: две кучи дерьма — какую из них выбрать?
И не менее философское решение: та, которая менее зловонна, что ли?!
Иными словами, дилемма выглядела так: или Сухарев, или Прокурор.
Оставить наркотик в руках Сухого?
Или, отследив авторитета, сдать его интеллигентному кремлевскому подлецу в золотых очках?
Но и оставаться сторонним наблюдателем было нельзя — и потому Лютый, стараясь на время забыть о первопричинах, занялся чисто технической стороной вопроса: отслеживанием Ивана Сергеевича Сухарева. Нечаев еще не знал, как он поступит потом — пока предстояло выяснить местонахождение человека, в чьих руках находился «русский оргазм». В связи с необычайной серьезностью дела даже похищенная коттоновская племянница отступала на второй план.
Правда, после того как общая картина стала более-менее ясной, Максим понял еще один сюжетный ход, который наверняка планировал и Прокурор: Сухой не успокоится, пока не уничтожит Коттона (пахан становился вдвойне опасным, так как слишком много знал), но именно это и выведет его, Лютого, на старика. Как знать — может быть, Алексей Николаевич сможет чем-нибудь помочь?!
Следующим же утром Нечаев затребовал на подмосковной базе «КР» автопеленгатор с водителем. Последующие три дня фордовский фургончик с какими-то странными антеннами на крыше колесил по всей Москве — наверняка в столице не осталось района, в котором бы он не побывал.
На четвертый день Лютый, с ввалившимися глазами, вернулся в свою квартиру. Он чувствовал себя совершенно разбитым: в ушах с каждым движением отдавался мерзкий писк пеленга, перед глазами, словно луч-разверстка локатора, бегали зеленые мушки.
Но конечный результат, пусть и минимальный, обнадеживал: в кармане лежали кассеты с записями многочисленных телефонных переговоров Штуки — человека Сухого. Внимание привлекали два засеченных автопеленгатором абонента: специальная компьютерная программа, хитроумный голосовой анализатор вычислил, что голос первого, несомненно, принадлежал Митрофанову, а второй — Сухареву. Правда, запеленговать местонахождение обладателей сотовых телефонов не представилось возможным: оба они, несомненно, были оборудованы антипеленгационными устройствами.
Но несомненным было одно: завтра утром, двадцатого июня, гражданин Митрофанов, он же Заводной (ныне — ближайшая связь Сухого), должен был появиться в Москве для встречи с какими-то своими людьми, названными в разговоре Хвостом и Чириком — установить местожительство и приметы последних было делом техники.
Причина появления Митрофанова в Москве была более чем серьезной: по разговору Сухарева со Штукой Лютый уже знал, что бандиты Сухого обнаружили теперешнее местонахождение Коттона. Заводному и его «быкам», судя по всему, поручалось физическое устранение законного вора — правда, перед этим, Митрофанов, видимо, должен был выудить из Алексея Николаевича Найденко какую-то информацию.
…Да, в современном технотронном мире любой человек, желая того или нет, неминуемо оставляет после себя информацию. Но зачастую информация эта оказывается столь неправдоподобно-жуткой, что ни один следопыт, ни один сыщик, пусть даже такой опытный, как Лютый, не может поверить в ее достоверность…
Глава шестнадцатая
Заводной не знал, почему Сухарев так срочно затребовал его к себе, для чего, зачем усадил в эту столь непривычную для авторитета огромную машину, напоминавшую скорей туристический микроавтобус, для чего внезапно сорвался из Москвы без охраны. Наконец, он никак не мог понять главного — зачем, для каких таких целей они приехали именно в этот грязный городок, который, если посмотреть по карте, затерялся где-то на болотно-зеленом пространстве Калужской области, среди правильно нарезанных квадратов широты и долготы бескрайней средней полосы России, где местных достопримечательностей — старая картонно-бумажная фабрика, клуб с танцами и драками в субботу-воскресенье да фильмами из жизни гангстеров и терминаторов в будние дни, а еще — мутная от навоза недалекой свинофермы речка.
Криминальный король Москвы, да и вообще всей России, в этом навозе — что может быть глупей?!
Впрочем, спрашивать не приходилось: теперь главарь крупнейшего бандитского синдиката Москвы выглядел наглым и уверенным, как никогда, производя впечатление человека, который давно уже выстроил для себя план дальнейших действий, на много ходов вперед, и теперь, когда все препятствия устранены, не спеша, с толком претворяет его в жизнь. Едва Митрофанов открывал рот для вопроса, авторитет смотрел на него с таким нескрываемым презрением, что его язык прилипал к гортани.
Да, Сухарев действительно знал, чего хотел и что делал: к моменту его приезда весь этот городок был куплен, что называется, на корню — нищие уездные администраторы, милицейские начальники, директор картонно-бумажной фабрики, даже православное духовенство и оперуполномоченный ФСБ, то есть все представители власти были деликатно, грамотно прикормлены. Нашлось-таки несколько не в меру принципиальных, попытавшихся было «сигнализировать» наверх — один из них вскоре загадочно погиб в автомобильной катастрофе, другой стал жертвой несчастного случая на производстве, третий скоропостижно скончался в результате пищевого отравления. В целом, несогласных с новым порядком в городке было немного, таким образом Сухарев стал кем-то вроде его теневого владельца.
Сидя на крыльце двухэтажного коттеджа, спешно арендованного у местного рокфеллера, в виду приезда авторитета и уже переоборудованного сообразно вкусам нового хозяина, Сухой с улыбкой превосходства смотрел на своего помощника — тот ходил по двору, обнесенному новым бетонным забором, не скрывая раздраженного удивления.
— Слушай, не понимаю, — Митрофанов подошел к крыльцу и осторожно уселся на краешек рядом с боссом: сегодня он наконец-то решил задать мучавший его вопрос. — Чего мы из Москвы свалили? Что тут забыли?
— А ты вообще многого не понимаешь, — снизошел Сухарев до собеседника, — если бы понимал, то сидел бы на моем месте.
— Так что? — Заводной, с придирчивым вниманием осмотрел дорогие, ручной работы штиблеты, достал носовой платок и вытер густую местную пыль, некстати налипшую на дорогую кожу.
— Ты что думаешь — я с этим проектом из-за одного лавья связался? — сунув в узкую щель рта несколько пластинок жевательной резинки, спросил Сухарев лениво.
— А то чего еще… — «шестерка» прикусил губу, недоговорив — он все еще не понимал, куда клонит собеседник.
— Не только, — непонятно почему, но в тот вечер Сухарев отличался благодушием — достаточным для того, чтобы пооткровенничать с младшим партнером. — «Русский оргазм» — это ведь не только филки.
— А что еще?
— Это контроль.
— Над кем?
— Над всеми, — непонятливость собеседника отнюдь не раздражала Сухарева — скорей, забавляла: так высокомерно, так снисходительно звучали его интонации. — Человек, подсевший на этот интересный порошок, становится тряпкой, размазней. И ни о чем ином думать не желает. Я уже проверил. Мне тут один химик что-то говорил — «первая сигнальная система, вторая сигнальная система», мол, как в опытах Павлова на собаках — знаешь, был когда-то такой чудак-ученый, друзей наших меньших разводил, а потом на куски резал.
— А зачем тебе все это? Ты чо — Президентом хочешь быть? Или председателем Комитета народного контроля?
— Нет, я хочу быть только самим собой, — Сухой, неожиданно резко поднявшись, кивнул собеседнику, — пошли, покажу что-то…
Двое амбалов-охранников, стоявших рядом со входом в коттедж, почтительно расступились — «быки» из Воскресенского прибыли в городок несколькими днями раньше и наверняка также не понимали, для чего босс променял радости столичной жизни на эту местечковую скуку.
— Пошли, пошли, — поманил пальцем Сухарев, — сейчас все поймешь…
Через несколько минут оба они стояли в небольшой комнатке — стол, стул, телевизор, высокое окно под потолком, из которого сочится мертвенно-бледный свет.
Девушка с распущенными, свалявшимися волосами цвета темного янтаря сидела на кровати, скрестив ноги и безучастно смотрела в какую-то пространственную точку перед собой. Это была Наташа Найденко; Заводной хотел было, пользуясь случаем, спросить заодно, для чего босс притащил сюда эту девку, но в последний момент, взглянув на него лишь мельком, передумал.
— Фьють, фьють, — тоном деревенского хозяина, подзывающего дворняжку, позвал Сухарев.
Наташа подняла глаза — у нее был взгляд глупого, затравленного животного; на последнее обстоятельство обратил внимание даже недалекий Митрофанов.
— Что? — спросила она тихо, но внятно.
— Слышь, Заводной, хочешь я тебе шас цирк на Цветном бульваре устрою? — не оборачиваясь к спутнику и уже не глядя на девушку, спросил Сухарев.
— Что?
— Цирк, говорю… — босс, привычно повертев на пальце массивный золотой перстень с брюликом, проговорил с подчеркнуто театральными интонациями: — Смертельный аттракцион, рекордный трюк, один раз в сезоне и специально для тебя… Только вот что — сбегай-ка к моим пацанам, возьми у них видеокамеру с кассетой. Такое искусство дрессировки стоит увековечить.
Хотя Митрофанов из сказанного так ничего и не понял, распоряжение Сухого было выполнено быстро — через несколько минут небольшая видеокамера, установленная на штативе, угрожающе светила кровавым глазком рабочего индикатора; это означало, что она уже работает в режиме записи.
— А теперь смотри… — Сухарев, усевшись на стуле посередине комнаты, положил ногу на ногу, в этой позе он и впрямь напоминал циркового дрессировщика. — Слышь, девчонка, иди-ка сюда…
Племянница вора послушно поднялась с кровати и подошла к Сухому.
— Подними левую ногу! — властно приказал Сухарев, на всякий случай пересаживаясь так, чтобы не попасть в объектив.
Наташа исполнила распоряжение — в ее автоматической покорности было нечто жуткое, как у запрограммированного робота. Так она и стояла на одной ноге, не смея опустить ее.
— А теперь подними правую руку, — жуя резинку, сказал авторитет.
Это приказание тоже было исполнено — глаза девушки, глупые и круглые, не выражавшие совершенно ничего, смотрели на хозяина, не мигая.
— Хлопни в ладоши, — распорядился Сухой и, дождавшись хлопка, подал новую команду: — А теперь покажи, как делает собака.
— Гав-гав, — очень отчетливо и потому очень страшно произнесла девушка.
— Видишь как? Все делает, — ухмыльнулся дрессировщик, довольный собой и продолжил несколько высокопарно: — А ты говоришь: зачем, для чего… Она счастлива и ни о чем ином не думает. И за это ощущение она будет делать все, что ей прикажут. И уже никогда больше не сможет жить так, как жила раньше, потому что любой, понявший, что такое настоящее счастье, никогда не захочет быть несчастливым… Ее можно даже не закрывать тут, пустим на пастбище, вместе с коровками, утками и гусями. Но не пройдет и трех дней, как она придет сюда и будет умолять, чтобы мы вновь дали ей «русского оргазма»… — сделав непродолжительную, но многозначительную паузу, говоривший предположил: — А если организовать массовое производство — раз в сто круче, чем в Польше? Купить эту сраную бумажную фабрику — помещения, людей… И гнать по пятьсот-шестьсот тонн в месяц… Понимаешь, что это значит?!
— Что? — Заводной все еще не осознавал масштабности замыслов своего босса.
— Все, — Сухой властно поджал губы. — Это значит все. На хрена стволы, «быки» и все такое прочее? Какие, на хрен, разборки, какие завалы?! И валить никого не надо: накормил порошочком — и виляй жопой, жди приказа. Какие менты? Мусора будут лаять и крутить хвостами, а министра внутренних дел я возьму на полставки — воду в унитаз за собой спускать. Тихо и мирно, всего за пять баксов пакетик. Подсадил на «оргазм», а подсядут они с первого раза… И все. Понимаешь — и все. И делай что хочешь. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. — Видимо, чтобы полней проиллюстрировать сказанное, он предложил неожиданно: — Можешь и ты что-нибудь приказать. Она все сделает…
Похотливые масленые огоньки заиграли в глазах Митрофанова.
— А если скажу трусы снять, а? Снимет?
— Вообще-то она, вроде как целка… Ну, попробуй, если не боишься, — авторитет нехорошо хмыкнул.
— А кого я должен бояться?
Сухарев промолчал многозначительно — впрочем, Митрофанов прекрасно понял, что надругаться над племянницей пахана столь диким способом — беспредел даже для некоронованного короля криминальной Москвы; видимо, где-то подсознательно авторитет побаивался Коттона.
— Слышь, Наташа, или как тебя там… — даже теперь Заводной невольно пытался подражать недавним интонациям босса, — трусы-ка сними…
Девушка послушно задрала короткую юбку — в это время Сухарев немного пододвинул камеру вперед — так, чтобы в объектив попали и стройные ноги, а заодно — и лицо Заводного.
— Ты мне их в руки не давай, — дыхание Митрофанова стало чуть сбивчивым, — вон, под кровать брось… Хочу стриптиза… А теперь юбку повыше задери — ну!
Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не запищал сотовый телефон, лежавший в нагрудном кармане Сухарева.
— А? Что? — босс быстро взглянул сперва на девушку, нелепо стоявшую с задранной до пояса юбкой, а затем — на шестерку. — Где он, говоришь? Да? Один? Что он там делает?.. Штука, а твои мусора, часом, не ошиблись?! Точно он?
Звонивший о чем-то докладывал — авторитет, нетерпеливо перекладывая трубку из руки в руку, слушал с предельным вниманием — жевательная резинка прилипла к деснам. Желтизна скул Сухарева начинала медленно набухать, словно подкожным гноем, трупно засветилась изнутри, и лицо, как у хамелеона, поменяло цвет, став жжено-коричневым. Теперь оно чем-то неуловимым напоминало мистическую деревянную маску диких африканских племен.
— Что? — по тону говорившего Заводной понял — случилось что-то серьезное.
— Обожди, не мешай, — цыкнул на него Сухарев и вновь заговорил с неизвестным абонентом. — Один? Никого? А как пробили? Обыкновенный участковый? Дай-ка мне точные координаты…
Митрофанов услужливо подсунул боссу блокнот и золотой «паркер» — ручка с неприятным скрипом забегала по бумаге.
— Ага, понял… Ну, передай ментам, что за мной не заржавеет — свои ж люди. Сочтемся. Ага, все в порядке. Успехов.
Сунув сотовый телефон в карман, Сухарев заметно повеселел.
— Штука звонил — говорит, только что ему мусор звонил, пробили-таки Коттона, — прокомментировал он, выключая камеру.
— Так он жив?
— Живей нас с тобой… Далеко, урка расписная, зашился. Думал, не найдут его…
— Так что его — менты искали? — Митрофанов так и не понял смысла сказанного.
— А что — мне, что ли, самому на ментовском «луноходе» его по Москве отслеживать? — вопрос, естественно, прозвучал риторически, — никто не может найти человека лучше, чем менты. У них там штаты, картотека, связи и полномочия. Только вот денег платят очень мало. Запомни, нет не берущих взятки, есть плохо дающие, — резонно заключил говоривший.
— А у тебя берут?
— Заплатил бы хорошо — у меня бы и в рот взяли… И вообще, сейчас такое время, что многим приходится совмещать работы, — Сухарев неприязненно взглянул на девушку, которая по-прежнему стояла с приподнятой до пояса юбкой. — Опусти руки и одевайся, корова, — выключив камеру, авторитет извлек из нее кассету. — Пошли перетрем, Заводной, дело одно есть…
Видимо, предстоящий разговор обещал быть столь серьезным, что Сухарев решил вести его не на крыльце, а в своем кабинете: это давало относительные гарантии не быть подслушанным.
— Короче говоря, нашли Коттона, — авторитет сразу же перешел к делу. — Я ментов озадачил, заинтересовал материально — они его и нашли. Помнишь, слушок пошел, будто бы Коттон в каком-то там гараже сгорел?
— Помню, — уверенно кивнул Митрофанов.
— Ты что — веришь, что такие люди, как он, погибают случайно? Я сразу не поверил — знаю я этого урода хитророжего. Сам и подстроил, чтобы ментов, как последних лохов повести, да и меня заодно. — Закурив и на мгновение окутавшись сизоватым дымом, Сухой продолжил, немного понизив голос: — А дело вот такое… Коттона надо так аккуратно оттуда взять и сюда ко мне привести. Только живого. Чтобы говорить мог. В лицо его никто из моих не знает, так что московских пацанов послать за ним не могу. Остаешься ты…
Сказал — и внимательно взглянул на собеседника, ожидая реакции.
— Сделаю, — Заводной облизал вмиг пересохшие губы; даже теперь, при одном лишь воспоминании о пахане, ему становилось немного не по себе.
— У тебя хоть пацаны нормальные есть?
— Хвост и Чирик, — с готовностью ответил Митрофанов. — Помнишь, я тебе о них говорил, в Польше груз сопровождали, когда на нас ихние мусора наехали… Они его тоже в лицо знают.
— Не фонтан, конечно же, но на безрыбье — и рак рыба. Не офоршмачатся? — с явным сомнением поинтересовался авторитет.
— Да нет… Вон, и в Польше с ними был…
— Ладно. Давай, вали с ними к Коттону, — Сухой сунул в его руки листок с только что записанным адресом. — Ну, думаю, разберешься. Сегодня у нас девятнадцатое июня… Давай, завтра с утра езжай в Москву, встретишься со Штукой, он тебе на словах объяснит. Позвони-ка ему сразу, — набрав номер, авторитет сунул трубку в руки Митрофанова, — он тебе пару ментов даст, для прикрытия… И быстро, быстро, так чтобы он оттуда не смылся… Да, и еще, — порывшись в карманах, он протянул шестерке небольшой прозрачный пакетик с розоватым порошком. — Штуке отдай, я ему обещал как-то, на мусорах испробовать хочет…
Раннее утро двадцатого июня выдалось на редкость пасмурным. Ночью прошел проливной дождь, и резкий, порывистый ветер, гулявший между остывшими за ночь домами центра Москвы, натягивал на гладкой поверхности луж мелкие морщины.
Черная БМВ с непроницаемо-тонированными стеклами и тонкой антенной на крыше медленно выехала со стоянки, мгновенно набирая скорость на пустынной дороге — хищная машина, чем-то неуловимо напоминавшая торпеду, выпущенную из носового аппарата субмарины, стремительно рассекала длинные желтые лужи.
За рулем сидел Нечаев — путь его лежал в Тушино, где, как он уже точно знал, обитал один из людей Заводного, бывший мастер спорта по тяжелой атлетике Сергей Ивлев, известный ему под погонялом Хвост.
К этому времени Лютый знал о Хвосте все или почти все: биографию, привычки, слабости, семейное положение, марку и номер автомобиля и, естественно, главное — адрес и телефон.
Знал он и приблизительный распорядок дня — в такое время, в семь утра Хвост еще наверняка спал.
Вскоре машина, притормозив у типовой девятиэтажки, остановилась. Нечаев вышел из машины и, пройдя в соседний двор, осмотрелся.
Унылый ряд мертвых еще автомобилей: еще полчаса, час, и заспанные хозяева, прогрев двигатели, отправятся по Москве в привычный утренний путь — по офисам, институтам, фирмам и конторам. А вон и темно-синий «форд-скорпио» со старым еще номером X 0887 МЖ — как наверняка знал Максим, тачка Ивлева.
Быстро открыть чужой автомобиль и вывести его из строя — не самое сложное из всего, что умел Лютый. Спустя несколько минут он, даже не оглянувшись назад, возвращался к своему «бимеру» — уселся, завел и медленно проехал в тот двор, который только что покинул пешком, паркуясь неподалеку от темно-синего «форда».
Теперь надо было дождаться появления хозяина.
Ждать, как наверняка знал Максим Нечаев, пришлось недолго…
Минут через двадцать гулко хлопнула дверь подъезда: на крыльце появился высокий, плечистый, коротконогий атлет с короткой бычьей шеей. Лютый, достав из-под солнцезащитного козырька фотографию, взглянул сперва на нее, а потом на амбала, сверяя: несомненно, это и был Хвост.
«Скорпио» упрямо не заводился — несколько раз беспомощно крутанулся и угас стартер, и Хвост, чертыхаясь, вылез из машины: нервно хлопнул дверцей, в сердцах открыл капот…
Тем временем Лютый вышел из машины и, не обращая внимания на атлета, пошел в сторону таксофона. Долго тыкал кнопки, а потом, поискав глазами прохожих, направился к машине с открытым капотом.
— Слышь, браток, у тебя телефонного жетончика не будет?
— Нет, — неприязненно буркнул Хвост, даже не глядя на подошедшего.
— Понимаешь, братан, какое тут дело: у телки на ночь завис, — как ни в чем не бывало продолжал Лютый, понизив интонации до доверительно-заговорщицких, — так домой звякнуть надо, жену успокоить, что машина, мол, на кольцевой сломалась…
— Да у самого вон тачка не заводится, — подняв голову, Хвост наконец-то взглянул на подошедшего — с явным неудовольствием.
— Вот незадача… — Лютый прищурился и, оценив обстановку, с доброжелательным лицом подошел поближе. — Значит, мы с тобой друзья по несчастью. А что там у тебя?
То ли вид неизвестного внушал безотчетное доверие, то ли достаточно дорогая машина, стоявшая с открытой дверцей неподалеку — невольное уважение, но Хвост, немного посторонившись, пропустил Максима к моторному отсеку.
— Ну, посмотри, коли в технике сечешь…
— Клеммы окислились и аккумулятор подсел, — предположил Нечаев, трогая какие-то провода. — Ничего, сейчас с моего заведемся. — И, кивнув в сторону своего автомобиля, добавил веско: — Пошли, поможешь мне…
Хвост встал спереди машины, доброжелательный водитель БМВ дернул капот и, пряча за спиной обернутый ветошью гаечный ключ, вышел из салона…
Противник явно не ожидал подвоха: склонившись, он старательно отсоединял клеммы аккумулятора. Удар был несильным, но неожиданным, а, главное, предельно точным — атлет, мгновенно потеряв сознание, медленно осел под колесо БМВ.
Спустя несколько минут все было кончено: Лютый, достав из кармана одноразовый шприц, профессионально вколол в вену бесчувственного Ивлева несколько кубиков воздуха — после такой нехитрой операции клиенту гарантирован летальный исход. Затем снял с его пояса пейджер и сунул его в, карман. Спустя несколько минут обмякшее тело уже лежало в просторном багажнике «форда», а Нечаев в своем БМВ, как ни в чем не бывало, тронулся с места. Выезжая со двора, он невольно обратил внимание на черную тридцать первую «Волгу», припаркованную неподалеку, но не придал этому никакого значения.
Доехав до Курского вокзала, Максим аккуратно загнал БМВ во двор и быстро переодевшись, пересел в стоявшую тут же обшарпанную салатную «Волгу» с таксисткими шашечками на передних дверях.
Привычно взглянув на часы, Максим механически отметил, что вся операция по нейтрализации Хвоста вместе с дорогой, ожиданием и поломкой его машины заняла час двадцать четыре минуты.
«Волга» с таксистскими шашечками медленно плыла по запруженным автомобилями улицам и проспектам — путь ее лежал в Сокольники — туда, где у очередной сожительницы-«жучки» жил Чирик…
Разбитая салатная «Волга», с трудом маневрируя в тесном извилистом дворе, заставленном к тому же старыми автомобилями, ветеранами автосвалки, остановилась у крайнего подъезда. Этот район был куда хуже того, где обитал Хвост: зловонные кучи догнивающего мусора, чумазые дети, полу-уголовного вида подростки, с самого утра распивавшие в беседке пиво…
Дверца раскрылась, и из машины вышел типичный таксист: потертая кожаная тужурка, кепочка, расхлябанность движений и быстрота взгляда…
Впрочем, люди с такой внешностью при желании могут сойти не только за таксистов. Сантехник, монтер, техник с телефонной станции, разнорабочий домоуправления — мало ли людей выглядят подобным образом?!
Зашел в грязный, пахнущий мочой и половиками подъезд, нажал кнопку — в шахте утробно загудел лифт, и спустя несколько минут приехавший на салатной «Волге» уже стоял у потертой дерматиновой двери; как ни странно, но на ней почему-то не было дверного глазка.
С силой вдавил кнопку звонка, а затем, не дождавшись реакции — еще раз, официально: так, долго и уверенно могут звонить лишь представители власти.
Наконец, за дверью послышались тяжелые шаги, и низкий женский голос, явно похмельный, тяжело прохрипел:
— Чего надо?
— Энергонадзор, — официальным тоном произнес обладатель кожаной тужурки, извлекая из кармана служебное удостоверение. — Инспектор Васильев.
— Идите в жопу… — послышалось из-за дерматиновой двери недовольное бурчание, и удаляющиеся шаги дали понять, что беседа на этом завершена.
— Гражданка Садовская, вы не платите за электроэнергию восемь месяцев, и мы имеем полное право отключить электричество, — в голосе гостя зазвучал металл. — Если будете упорствовать, я вызову участкового.
Видимо, последнее обещание оказалось настолько серьезным, что хозяйка все-таки открыла дверь, пропуская представителя энергонадзора в квартиру.
Типичная хавера: висящие лоскутами обои, колченогие табуретки, протертая клеенка и заржавленная мойка на кухне. В полутемной прихожей почему-то стояло огромное гипсовое распятие, судя по стилю исполнения — католическое, явно украденное с кладбища: культовая принадлежность использовалась вместо вешалки — на вершине креста висел засаленный меховой треух.
Подстать квартире была и сама хозяйка: грязные волосы жидкими сосульками свисали на несвежую ночную рубашку, в которой она не постеснялась выйти к незнакомому человеку; рваные шлепанцы на ногах с мерзким звуком хлюпали по неподметенному полу; руки, покрытые специфическими татуировками с женской зоны, напоминали садовые грабли, а зловоние, распространявшееся при каждом выдохе, невольно порождало желание прыснуть в ее рот туалетным освежителем воздуха.
Было странно, что Чирик, человек, безусловно, небедный, имел в качестве стационарной сожительницы такое жуткое существо — классическую, рафинированную блатнючку, знатока пересылок и лагерей. Баба-Яга — и та в сравнении с хозяйкой наверняка выглядела бы мисс Вселенной.
Неожиданно под ноги вошедшему бросилось что-то мягкое — это был грязный, тощий, помойный кот — своим видом он чем-то походил на хозяйку.
— Пойдем, кыся, — ощерилась Баба-Яга и, взяв помойного котика на руки, неприязненно покосилась на незваного гостя. — Чо тебе надо?
— Покажите книжку расчетов за коммунальные услуги, — официально попросил тот, помахав перед глазами хозяйки удостоверением энергонадзора.
— А то я знаю, где ее искать, эту книжку… — та, нервно отбросив со лба прядь волос, неожиданно швырнула кысю под распятие и, не оборачиваясь, крикнула: — Чирик, а Чирик, где расчетная книга?
Скрипнула дверь — в полутемную прихожую из комнаты буквально вывалился невысокий вертлявый мужчина, с выщербленными, коричневыми от чифиря и скверного табака зубами и густыми фиолетовыми татуировками на разболтанных руках.
— Чо это за фраер с самого утра пожаловал? — изучающе глядя на мужчину в тужурке, спросил он. Взял из рук вошедшего удостоверение, взглянул на фотографию, затем — на ее обладателя, повертел, понюхал в руках корочку, точно крыса нюхает падаль…
— Да из домоуправления, говорит, что свет у нас отключит, — прокомментировала «жучка», куда более доверчивая, — Обещал на нас мусоров натравить…
— Да я те щас натравлю, — похмельно-тяжело произнес Чирик, нехорошо сверкая глазами.
— Слышь, мужик, я ведь сам человек подневольный, — миролюбиво вздохнул гость, поглубже засовывая руки в карман куртки. — Мне сказали — я сделал. Сказали, если дверь не откроют — кличь участкового. Ты мне эту книгу покажи, может быть, я чего решу, чтобы не отключали. Или к кнопке дверного звонка провод проведу — там все равно ток бесплатный. Пузырь водяры поставишь — и всех делов.
— Чирик, поищи ему эту книгу, а то он с нас не слезет, — выдохнула «жучка» более примирительно. — И дай там пару тыщ на бухло — без света ж совсем хреново, чо делать будем?!
— Делать мне больше нечего… Заводной вчера вечером звонил, работа сегодня какая-то, и на Киевском его с Хвостом встретить надобно, — зло пробурчал татуированный, но все-таки ушел в комнату искать злополучную книгу.
Блатнючка осталась одна, вошедший сделал по направлению к ней решительный шаг…
Татуированная шалава так ничего и не поняла — сперва инспектор энергонадзора сбил ее с ног, после чего, быстро достав из кармана флакон с пульверизатором, прыснул в лицо чем-то сладким и маслянистым и тут же подставил руки, чтобы в комнате не было слышно звука падающего тела. Спустя несколько секунд гражданка Садовская лежала на грязном полу, рядом с распятием.
Глаза гостя хищно сверкнули — теперь он меньше всего походил на того, за кого себя выдавал. Он на всякий случай заглянул на кухню и в совмещенный санузел, после чего прошел в комнату.
Чирик, склонившись над выдвинутым ящиком комода, бормотал себе под нос какие-то ругательства. Услышав шаги, он поднял голову.
— А ты чего сюда зашел? Приглашали, что ли?..
Гость как-то странно улыбнулся и сделал еще несколько шагов вперед — это показалось настолько неожиданно странным, что татуированный невольно отпрянул.
— Ты… чего надо? Вали на хер!
Это были его последние слова: странный посетитель, мгновенно достав из кармана какой-то баллончик с пульверизатором, прыснул в лицо Чирика — тот, дернувшись, рухнул на спину, нелепо раскинув руки.
Последующие действия гостя отличались грамотностью и спокойной, рассудительной продуманностью: сперва он бережно перетащил оба бесчувственных тела на кровать, укрыл одеялом и, придав им естественные позы спящих, пощупал пульс. Затем плотно закрыв все форточки, задвинул вентиляционную заслонку на кухне. После этого, поставив на конфорку помятый закопченный чайник, открыл газ на полную мощность, не зажигая его. Стереть возможные отпечатки пальцев со всех предметов, к которым прикасался гость в этой дикой хавере, было делом минуты.
Общеизвестно: человек, заснувший в запертом помещении с открытым источником газа, долго не выдержит — смерть от кислородной недостаточности наступит сразу, как только газ вытеснит из помещения воздух. Применительно к этой квартире, сравнительно небольшой — где-то часа через четыре; доз мощного анастезина, полученного хозяевами, было вполне достаточно для безмятежного сна на протяжении полусуток, если не больше.
Выходя, убийца едва не споткнулся о распятие.
— Вот и надгробный крест… В самый раз, — пробормотал он.
Аккуратно закрыв дверь, Лютый осмотрелся, прислушался. В запертой квартире нервно заскулил обреченный котик, заскреб когтями по обивке двери, и Максим почему-то поймал себя на жалости к нему…
Заводной нервничал, и это было заметно невооруженным глазом. Белоснежный пиджак, придававший его обладателю сходство с опереточным сицилийским мафиози, топорщился; огромные солнцезащитные очки в золотой оправе злобно сверкали, отбрасывая во все стороны веселые солнечные зайчики; на бледном лице нервно играли желваки.
Вот уже полчаса он стоял у входа в метро на Киевском вокзале, но ни Хвоста, ни Чирика до сих пор не было. Привычно суетились люди, диктор буднично объявлял прибытие и отход поездов, менты лениво гоняли бабок, торгующих водкой и сигаретами — шум этот заметно нервировал Заводного. И не только шум…
Митрофанов уже несколько раз звонил Хвосту на пейджер — напоминал о том, что тот с Чириком должны были его встречать, стращал, запугивал: реакции не было никакой. Звонил он и домой Чирику — там не отвечали.
Конечно, можно было бы звякнуть Штуке, телефон которого Митрофанов, естественно, знал, но этого делать не стоило: ведь еще вчера он сказал Сухому, что у него есть нормальные пацаны. Заводной уже представлял лицо авторитета, самодовольную улыбку и любимую в таких случаях фразу — «чо, вновь офоршмачился?..» — и от этого ему становилось не по себе.
Оставалось одно — ехать или к одному, или к другому и устраивать разбор на месте. Но окунаться в черный омут метро, сидеть на дерматиновой скамье, истертой сотнями тысяч задниц москвичей и гостей столицы для такого красавчика в белоснежном костюме — не в кайф.
И тут, словно по заказу, рядом с ним остановилась салатная «Волга» — доброжелательный, улыбчивый водитель, опустив стекло, спросил:
— Куда тебе, командир?
Заводной взглянул на таксиста неприязненно — тот наверняка увидел в нем приезжего фраера, сейчас загнет сумму…
— В Тушино, — немного помедлив, сказал тот, на всякий случай выискивая глазами другие таксомоторы.
— Давай я тебя «на мартыне» повезу, — дружелюбно предложил таксист, имея в виду, что не будет включать счетчик, — у меня все равно смена кончается, на этой тачке домой поеду… И тебя заодно — вполцены. Дешевле тут все равно никого не найдешь.
Жадность, как известно, — понятие всеохватывающее. Жадность губит не только фраеров, но и людей серьезных, авторитетных — наверняка именно таким мнил себя Митрофанов.
— А сколько это получится?
Таксист назвал сумму — она не показалась Заводному большой.
— Ладно, давай…
Митрофанов уселся рядом с таксистом — «Волга», залихватски развернувшись, покатила в сторону Тушина…
Глава семнадцатая
Водитель салатной «Волги» с таксистскими шашечками оказался на редкость предупредительным и внимательным, чтобы не сказать услужливым — едва только пассажир в белоснежном костюме хрустел открываемой пачкой сигарет, таксист заботливо щелкал зажигалкой; едва тот лишь мельком взглянул на магнитолу — новенькую, явно дорогую для этой побитой тачки, — он уже вежливо поинтересовался:
— Что поставить?
— А у тебя что — на любой вкус, что ли, есть? — немного удивился Заводной.
— В нашем деле главное — угодить клиенту, — принялся объяснять водила свои взгляды на нелегкий таксистский труд. — Чтобы и тебе, и мне интересно было. А для клиента самое главное — грамотный сервис… Так что из музыки поставить?
— Ну, тогда… Тогда что-нибудь такое, мурчащее, — пассажир вольготно вытянул ноги и сделал характерный жест пальцами. — И погромче. Въезжаешь?
Сидевший за рулем понятливо покачал головой, улыбаясь чему-то, поискал нужную кассету, сунул ее в щель магнитолы, небрежно щелкнул кнопкой — сперва из динамиков послышался шелест ленты, а затем хриплый и доверительный голос запел, заурчал, с невероятными подвываниями, нарочито коверкая слова на хулиганский манер:
Что поделать — во времена всеобщего вырождения нравы падают, а интересы мельчают; нынешние дворовые тинейджеры бренчат на гитарах исключительно блатную романтику — в отличие от незамысловатых творений студенческой, походной да любовной лиры, столь популярной некогда у их родителей. Все, где надо, где не надо, гнут пальцы на уголовный манер, все трындят о каких-то неизвестных, но грозных бригадах и мифических авторитетах, с которыми якобы дружны. Наверное, пройдет еще совсем немного времени, и на школьных уроках музыки и пения будут изучать не Моцарта и Шостаковича, а Шуфутинского с Кругом.
Ровно гудел двигатель, салатная «Волга» быстро приближалась к Тушино, ловко маневрируя в перенасыщенном автомобилями центре Москвы.
То ли от этой уверенной езды, то ли от приятной хрипотцы голоса блатного менестреля Заводной немного успокоился. Ничего страшного, все образуется — вон, в Польше, когда он узнал о задержке дорожными ментами первой партии груза, очко сыграло…
И ничего, развели ситуацию.
К тому же, Коттон наверняка не знает, что его засекли, а это только на руку.
Машина, неожиданно резво обогнав микроавтобус, мгновенно перестроилась в левый ряд — многоопытный водитель в последний момент успел проскочить под стрелку светофора. По всему чувствовалось, что он отлично знает эту дорогу — наверняка Заводной успевал в Тушино раньше, чем планировал. Тут, на второстепенной улице движение было не таким интенсивным — теперь машина неслась, подпрыгивая на рытвинах.
Митрофанов покрутил ручку магнитолы — народный исполнитель заорал болезненно-надрывно, во всю пропито-прокуренную глотку:
— Не надо так громко, Заводной, — неожиданно произнес водитель.
Притормозив, «Волга» неожиданно юркнула в какой-то двор — пассажир, донельзя удивленный тем, что его погоняло откуда-то известно таксисту, застыл с открытым от удивления ртом.
— Ч-ч-что?..
— Я не люблю слушать музыку громко, а тем более такую, — таксист, заехав в безлюдный глухой тупичок, остановил машину и резко обернулся к пассажиру: теперь сидевший за рулем человек меньше всего походил на типичного пролетария московских дорог. Сеть тонких, почти невидимых паутинных морщинок, тяжелый взгляд немного прищуренных серых глаз, в которых зарницами играли стальные огоньки, тонкие поджатые губы…
Не в силах вынести этого взгляда, Заводной инстинктивно дернул ручку двери, чтобы выбраться из машины — дверь не поддалась: видимо, машина запиралась изнутри каким-то хитрым способом.
— Двери заблокированы, стекла в машине небьющиеся, — спокойно предупредил Лютый возможные действия своего пленника. — А вот музыку, пожалуйста, все-таки сделай тише, а еще лучше — выключи совсем. Я не желаю слушать подобное уродство…
Рука пассажира медленно и незаметно потянулась во внутренний карман белоснежного пиджака — туда, где наверняка лежало оружие, однако воспользоваться им Заводной уже не смог: точный удар ребром ладони по острому кадыку — Митрофанов принялся судорожно хватать воздух, словно вытащенная на лед рыба, а Максим уже вытаскивал из внутреннего кармана пиджака снятый с предохранителя пистолет Макарова.
— Дергаться тоже не советую, — выключив магнитолу и выждав, пока пассажир понемногу придет в себя, деловито посоветовал Максим. — К тому же, спешить тебе больше некуда. Твой тушинский друг Хвост теперь лежит мертвый в багажнике собственного «форда» — баловался пацан со шприцом, наверное, хотел встать на путь исправления, медбратом в детский дом устроился… И добаловался вот. Образования не хватило. — Оценив реакцию Митрофанова, Нечаев продолжил: — А другой твой приятель, некто Чирик, со своей татуированной подружкой — какая жалость! — по неосторожности отравился газом в собственной квартире в Сокольниках. Чайник поставили на плиту, а конфорку зажечь забыли. Типичный несчастный случай. Зря ты Хвосту на пейджер все это время наяривал, зря сообщал, где тебя искать. А чтобы ты мне поверил, смотри…
Водитель снял с пояса пейджер покойного Ивлева, нажал кнопку — на зеленоватом экранчике появились те самые нетерпеливые, угрожающие сообщения, которые Митрофанов посылал каких-то полчаса назад.
Постепенно Заводной начал приходить в себя — после всего происшедшего, после предъявленного ему хвостовского пейджера в правдивости слов этого странного и страшного человека сомневаться не приходилось.
Кто он — из ментовки, из «конторы»?
Откуда ему все известно?
И главное — чего он хочет?!
Как известно, человек ничего так не боится, как неизвестности, и потому Митрофанов, глядя на водителя с невыразимым ужасом спросил:
— Что ты хочешь?..
— А вот об этом мы и поговорим… — с этими словами Нечаев быстро извлек из кармана какую-то ветошь, смочил ее чем-то из небольшого флакончика и, сдавив запястья Заводного, накинул мокрую тряпку ему на лицо…
В лесу обычно темнеет быстро — много быстрей, чем в городе, где подчас еще засветло зажигают фонари и огни разнузданной рекламы. Сперва раскаленный солнечный шар едва-едва цепляется за верхушки корабельных сосен, а затем, качнувшись, словно проваливается вниз. Невидимая сила прижимает его к влажной земле, к уже начинающей выгорать траве, к муравейникам, к поваленным наземь сухим деревцам, к пахнущей хвоей и грибами земле…
Какое-то мелкое животное — скорей всего, одичавшая кошка, выброшенная «гуманными» дачниками за ненадобностью, подняв голову, прислушалась. Хрустнула ветка — по тенистой лесной дороге медленно ехала салатная «Волга» с таксистскими шашечками.
Машина остановилась неподалеку от приземистого строения серого бетона, дверь водителя плавно раскрылась, и из салона пружинисто вышел Максим. Обошел машину, приоткрыл дверку и, поддерживая подмышки одетого в белоснежный костюм пассажира, осторожно выволок его наружу.
Лицо обладателя белого пижонского костюма выглядело неестественно бледным, словно посмертная гипсовая маска. Зверек, испуганно юркнул в кусты — животные, как никто другой чуют аромат приближающейся смерти.
Приземистое сооружение рядом с лесной дорогой было заброшенным советским ДОТом — его строили еще осенью 1941 года, когда танки Гудериана подходили к Москве. Толстые стены и крыша, сквозь которые не проникнет ни один звук, массивная металлическая дверь, безмолвие и безлюдье вокруг — идеальное место, чтобы спрятать такого пленника.
Заскрежетал ржавым металлом отворяемый замок, и Нечаев, поддерживая ватное тело Заводного, поволок его вниз, по крутым ступенькам. Ход шел глубоко под землю — метра на четыре, дверь запиралась изнутри: совершенно очевидно, выбраться отсюда без посторонней помощи невозможно.
Микроскопическое квадратное окошко под высоким потолком, в котором видна лишь густая синева вечернего неба да прозрачные травинки, голые бетонные стены, какие-то полусгнившие, почерневшие от влаги доски, разломанные ящики — такая донельзя унылая картина могла нагнать тоску даже на самого неисправимого оптимиста.
Прислонив тело к скользкой от влаги бетонной стене, Максим вновь поднялся наверх, но спустя несколько минут вернулся — руки недавнего таксиста тяжелил небольшой пакетик.
Поставил его на бетонный пол, перевернул тело, пошарил по карманам пленника.
Ключи, сотовый телефон, бумажник, несколько паспортов на разные фамилии, разрешение на ствол, мятая бумажка с неразборчиво написанным адресом, какая-то видеокассета во внутреннем кармане пиджака… В кармане митрофановских брюк Лютый неожиданно обнаружил небольшой прозрачный пакетик с неким розоватым порошком — эта находка невольно насторожила его.
Тем временем «клиент» понемногу приходил в себя: чуть слышно застонал, затем вытянул ноги, попытался привстать — последнее ему не удалось, и потому Нечаев, достав из принесенного пакета аптечку, а оттуда, в свою очередь, аммиак, сунул под нос Заводного смоченную в нашатыре ватку.
— Ну, оклемался? — ненужная уже ватка полетела в угол подвала.
Заводной смотрел на неизвестного страшными, круглыми глазами — будущее не сулило ничего хорошего.
— Ты… кто?
— Тебе это знать не полагается, — безусловно, Лютый был готов к столь незамысловатому вопросу.
— Ты… из какой бригады? Ты кто? Ты чей?
— Я не из бригады. Я ничей. Я сам по себе. И вообще — задавать вопросы буду я, а твое дело — отвечать.
Самообладание потихоньку возвращалось к пленнику — опершись спиной о стену, он попытался было подняться, но Максим, слегка надавив на плечо Заводного, заставил опуститься на место.
— А вот дергаться не стоит, не стоит… Я тебе об этом уже в машине сказал, — сурово напомнил Нечаев. — Ты далеко за городом, люди тут не ходят, помощи ждать неоткуда… А друзья твои скоро получат по деревянному макинтошу на Хованском кладбище.
— Что тебе надо? Ты знаешь, на кого копыта, бычье голимое, поднял? — непонятно почему Митрофанов впал в амбицию. — Ты знаешь, кто за мной стоит? Да тебя на мелкую капусту порежут, яйца свои сожрешь, сука ты бля… — он не успел договорить — схватив пленника за волосы, Максим легонько стукнул его затылком о стену, и тот мгновенно замолк.
— А разговаривать со мной надо вежливо, — с ледяной невозмутимостью гангстера посоветовал Максим. — Я ведь не говорю тебе таких обидных слов… И, если можно, без обещаний, которых все равно никогда не выполнишь: ты в моей власти, и я могу делать с тобой все, что хочу.
— Что тебе надо? — теперь голос Митрофанова прозвучал чуть-чуть примирительно.
— Мне надо немного. Во-первых — ты должен сказать, где теперь находится твой босс Сухой… Иван Сергеевич Сухарев. Только честно, без утайки, все, что знаешь — я обязательно проверю. Во-вторых — где он спрятал племянницу одного уважаемого человека, Наташу Найденко и в каком она состоянии… И, наконец, последнее: где теперь те сто миллионов баксов, которые…
Пленник перебил его, злобно сверкнув глазами:
— Ничего я тебе не скажу, хоть режь. Ничего я не знаю — ни о Сухом, ни о той малолетке, ни о филках. Лучше у тебя на пике сдохнуть, чем потом с Сухим…
— Очень зря, — безусловно, предусмотрительный Лютый предвидел и подобный поворот событий.
— Это ты зря… Сухой тебя потом на части порвет — помяни мое слово.
— Не порвет, — замок-«молния» портативной аптечки затрещал под пальцами Нечаева, и он извлек из нее два одноразовых шприца.
— Ты… что? — Митрофанов следил за действиями неизвестного с затаенным ужасом.
— Ничего, ничего…
Не глядя на пленного, Лютый, словно опытный медик, сломал головку стеклянной ампулы, быстро набрал жидкость в шприц, выпустил воздух. Затем резким движением закатал белоснежный рукав Заводного…
Безусловно, людей с сильной волей немало — куда больше, чем может показаться с первого взгляда. Такого бей, режь, пытай, гладь по животу раскаленным утюгом, приставляй к гениталиям электроды — будет молчать, как партизан на допросе.
Впрочем, классический набор отечественного рэкетира-садиста конца восьмидесятых — начала девяностых, все эти утюги, паяльники, тиски, лобзики для выпиливания по дереву и прочие инструменты из набора «Умелые руки» давно устарели морально, к тому же, некоторые, особо болеустойчивые клиенты требуют длительного болевого воздействия. Есть средство более радикальное; «качели» не выдержит даже самый мужественный человек…
«Качели» — это когда строптивцу вкалывают внутривенно пять кубиков калипсола, снотворного слабого наркотического действия. Следующий укол — так называемым «винтом», первентином, транквилизатором, который использовали еще в гестапо. После этого наступает шоковое выведение из наркоза. Затем — вновь калипсол, но уже большая доза, и вновь «винт»… Тело человека, которого подвергли такой жуткой пытке, ломает, члены буквально выворачивает, кажется, даже позвоночник готов лопнуть от невыносимой боли, и даже самый мужественный вряд ли выдержит больше десяти минут такой пытки…
Первый укол, и Митрофанов мгновенно «улетел». Лютый закурил сигарету, извлек из внутреннего кармана куртки диктофон, поставил его на запись и вколол первентин — спустя несколько секунд Заводной нелепо задергался, будто бы по его телу прошел электрический заряд огромного напряжения.
— А теперь — говори, — спокойно предложил Нечаев. — Итак — первый вопрос… Где Сухой?..
Тихо, почти бесшумно крутилась лента в миниатюрном черном диктофончике, и Заводной, даже боясь взглянуть на шприцы, разложенные перед мучителем, послушно отвечал на все вопросы: где скрывается Сухарев, каковы его ближайшие планы, где залег Алексей Николаевич Найденко, зачем он понадобился авторитету…
Только насчет денег жертва ничего не знала — видимо, Сухарев и впрямь не посвящал «шестерку» в этот щекотливый вопрос.
— Он точно в Польшу ездил… — облизав пересохшие от страха губы, сообщил Заводной.
— Когда?
— Ну, когда эти рамсы начались — сперва на дороге, затем в Белостоке с «Таиром» и с заводом в Малкиня.
— Зачем?
— Я не знаю… — упал духом истязуемый, подсознательно ожидая очередных «качелей».
— С Наташей что? — скользнув глазами по включенному диктофону, спросил Максим.
— Девчонку эту, Коттоновскую племянницу, на наркоту сильно подсадили, — заторможено произнес пленник. — На «русский оргазм».
— Да?
— Сам видел… Скажут руку поднять — поднимет, скажут ногу — тоже… Хоть трусы снять — все сделает. Она как животное — не думает совсем… Сухой мне сказал, — свистящим полушепотом продолжал говоривший, — мол, это не просто наркотик… Через этот порошок он хочет контролировать всех, кого достанет.
— И он записал Наташу на эту видеокассету? — печально догадался Нечаев, внутренне содрогаясь от справедливости своих давешних предположений относительно истинных целей проекта «Русский оргазм».
— Сухой велел эту кассету с собой захватить… Мол, если Коттон не захочет ехать, чтобы я ему это показал.
— А для чего Сухому ее на «русский оргазм» подсаживать? — Лютый недоверчиво поджал губы.
— Не знаю… Может быть, опыты ставит, может быть, просто вора унизить хочет, — предположил Заводной, затравленно следя за движениями рук своего мучителя.
— Так говоришь, тебя за Коттоном послали?
— Да… — глаза Митрофанова ввалились, словно у мертвеца, ломкие пальцы беспомощно шевелились, словно пленник пытался нащупать в пространстве некую спасительную точку.
— А зачем ему Коттон понадобился?
— Не знаю… Сухой ведь как базарит: он сказал — я сделал.
— Поня-я-ятно…
Вряд ли можно было выудить из Митрофанова еще что-то ценное — но и полученной информации хватало с лихвой. Нечаев не сомневался, что Заводной не соврал — теперь порученец Сухого наверняка понял, в чьи руки он попал, и врать не имело смысла.
— Последнее, — Лютый потряс перед лицом похищенного пакетиком со странным розоватым порошком. — Это и есть тот наркотик?
— Сухой просил, чтобы я Штуке передал, — теперь Заводной был в шоке; с одной стороны — эти страшные инъекции, с другой — неминуемая месть босса за предательство.
— Сиди тут, — рассовав вещи пленного по карманам, Максим кивнул на пакет. — Тут тебе пайка на несколько дней. Цени заботу. Я скоро приеду, а ты сиди тихо и не рыпайся. И никаких резких движений — я тебе не Сухой, я много, много хуже…
Пленник вполне уже мог оценить справедливость последнего утверждения…
Салатная «Волга» с таксисткими шашечками, миновав ряды коммерческих киосков, плавно свернула во дворик пятиэтажки в районе Курского вокзала. Из автомобиля вышел мужчина в кожаной куртке и, закрыв такси, осмотрелся по сторонам — ничего подозрительного не было. Закурив, он неторопливо двинулся в сторону поблескивающей лаком и хромом черной БМВ — то ли бандитского, то ли «конторского» вида.
Спустя несколько минут хищная тачка медленно вырулила на переполненное машинами Садовое кольцо — водитель на всякий случай посмотрел в зеркальце заднего вида, но на этот раз черной тридцать первой «Волги» не было…
Глава восемнадцатая
Невысокий жилистый старик с татуированными пальцами, сидя у старенького лампового телевизора, невидяще смотрел на телевизионную дикторшу.
— А теперь предлагаем вам трансляцию с последней пресс-конференции министра внутренних дел, — с чувством произнесла та.
— Нигде от этих ментов поганых покоя нет, — недовольно проскрипел татуированный старик и, тяжело поднявшись с продавленного дивана, переключил на другую программу — там шел старый советский детектив «Следствие ведут знатоки»; капитан Знаменский допрашивал какого-то пацана, наверняка хорошего. Переключил на третью — и вновь невезение: передача «Человек и закон». Подполковник московского РУОПа — лоснящийся, словно салом смазанный, — смачно, с леденящими душу подробностями повествовал зрителям об очередной героической операции, ликвидации преступной группировки в российской столице.
— Тьфу на вас! — чертыхнулся старик. — Что за напасть! Мусорское государство, куда не плюнь — всюду эти псины…
Подойдя к телевизору, он с чувством ткнул в кнопку — изображение, собравшись в одну точку, исчезло с выпуклого экрана.
Конечно, можно было развлечь себя видеомагнитофоном, — как ни странно, он подключался к этому доисторическому телевизору, но по двадцатому разу смотреть один и тот же фильм — удовольствие не из приятных. А даже самого плохенького видеопроката в этой местности, находившейся за шестьдесят километров от ближайшего поселка городского типа, естественно, не наблюдалось…
Алексей Николаевич Найденко — а это был именно он, — поднялся и, подавляя в себе естественное раздражение отмотавшего «десятилеточку» человека, подошел к окну, нервно отдернул жиденькую кисейную занавеску — в залитом жарким солнцем пыльном дворике никого не было видно. Суетливые чубастые несушки, разгребающие густую пыль, да два петуха, молодой и старый; гордые собой и своими острыми алыми гребешками и роскошными хвостами, красавцы поглядывали друг на друга с явной недоброжелательностью.
— У-у-у, петушилы… Размахались тут крыльями… — трудно было сказать, к кому относилось это донельзя двусмысленное слово: то ли к хозяевам курятника, то ли к недавним героям голубого экрана.
Вот уже третью неделю пахан жил в этой небольшой деревушке Тверской области — за бесценок снял несколько комнат в добротном деревянном домике, за смехотворные деньги нанял прислуживать старенькую хозяйку, бедную беззубую бабку, которая убирала, стирала и готовила…
Несмотря на последние обстоятельства, которые складывались явно не в пользу Алексея Николаевича, выглядел он на удивление спокойным и даже уверенным в себе — с восходом солнца шел на озеро, удил рыбу, собирал в окрестных лесах первые грибы, развлекался колкой дров, а по субботам, как и положено, парился в деревенской баньке…
Иногда, раз в три-четыре дня он, чтобы никто не видел, заходил в «скворешник»-уборную, доставал из внутреннего кармана дешевенькой штормовки сотовый телефон и названивал по одному ему известным номерам — правда, язык сообщений, как и всегда, был очень своеобразный, и бабка, единственный человек, с которым постоянно общался вор, ничего бы из этого разговора не поняла.
Алексей Николаевич энергично наседал на всех абонентов — он хотел собрать сходняк как можно скорей. Приводил веские, как ему самому казалось, аргументы, рисовал перспективы, наконец, намекал, что якобы должен отстегнуть какие-то филки, но те, кому он звонил, упорно называли наиболее подходящим сроком конец августа; мол, собраться раньше не получится никак. Разговаривая таким образом, осторожный Коттон то и дело выглядывал в щелочку, высматривая, не появился ли кто посторонний — на его счастье, в этой забытой людьми и Богом деревне им не интересовался никто.
Правда, к хозяйке несколько раз заглядывал участковый, плюгавенький пожилой мужичонка с погонами старшего лейтенанта — типичный мусорской пропойца-хроник, с красным, задубевшим, будто бы замшевым лицом, с облупленным сиреневым носом и грубыми манерами дурно воспитанного деревенского пастуха. Впрочем, сельский мент вроде бы не обращал на нового постояльца должного внимания. Его интересовала вещь куда более важная — крепчайший бураковый самогон, который старушка, не получающая пенсии с начала года, виртуозно гнала на дивном аппарате каждую пятницу.
Алексей Николаевич, задернув занавеску, прошел в свои покои — душную, пахнущую нафталином комнатку, обставленную сообразно незамысловатым правилам хорошего вкуса по-деревенски: металлическая кровать с шишечками, взбитые подушки, многочисленные фотографии усопших родственников хозяйки: буденновский шлем эпохи Гражданской, «кубари» и «шпалы» командного состава Красной Армий времен финской войны, «бобрики», ставшие популярными у советской молодежи после развенчания культа личности.
Сбоку, как раз между изображением покойного хозяйкиного мужа, погибшего еще на Халхин-Голе, и сына, сгинувшего в колымском лагере, висел небольшой фотоснимок миловидной девушки — пышные волосы, утонченно-благородные, но в то же время несколько наивные черты лица, немного угловатые, еще подростковые плечи…
Это была племянница Наташа — пожалуй, единственный человек, без которого Алексей Николаевич тосковал в этой глуши.
Конечно, он давно уже пережил и первый шок после похищения Наташи, и смерть ее матери Людмилы Борисовны. Что поделаешь, если мир живет по закону джунглей; плакать обо всех — слез не хватит. Как ни удивительно, но по поводу племянницы Алексей Николаевич был относительно спокоен. Такое уже случалось два года назад — тогда вор волновался куда больше. И — ничего, все обошлось. Правда, помощь пришла оттуда, откуда ее меньше всего ожидали, от оперативного сотрудника совсекретного «13-го отдела»…
Коттон был совершенно уверен: с племянницей не случится ничего скверного. Девочка — наживка, на которую должен клюнуть он, сентиментальный уркаган. И он клюнет… Только не жадно и сразу, как глупый карась, эдакий прудовой фраер, а снимет ее с крючка хладнокровно, как сом или судак — хозяева местных водоемов (в последнее время, пристрастившись к рыбалке, авторитетный вор полюбил подобные сравнения). Но уж если Сухарев напорет косяков… То только себе во вред. Он не получит то, на что так рассчитывает.
Почему-то — кстати или некстати — вспомнился тот опер из «13-го отдела», Лютый… Кажется, его звали Максим. Ничего, хотя и отдал какое-то время «конторе», вроде, нормальный пацан — ведь не зря же полюбила его Наташа, не зря слала ему письма за решки, за колючку! Да, племянница была действительно неравнодушна к этому красавцу и умнице, но тот, в свою очередь, испытывал к ней чувства, вероятно схожие с теми, которые питает молодой школьный учитель к самой способной и бойкой ученице.
Пахан закатал манжет левой руки — электронное табло дешевеньких гонконговских часов показывало половину шестого вечера. А в Москве один уважаемый, авторитетный человек ожидал его звонка до семи…
Нащупав в боковом кармане куртки сотовый телефон, пахан вышел во двор — узкая дорожка к сортиру петляла между высокой травой. Зашел, закрылся на ржавый крючок, достал телефон, набрал номер.
Алексей Николаевич уже нажимал густо татуированными пальцами кнопки, когда со стороны улицы неожиданно послышался шум автомобильного двигателя. Это не могло не насторожить: тут, по деревушке, ездил лишь один автомобиль — разбитый УАЗик председателя колхоза, да и то лишь тогда, когда главный аграрий заезжал к хозяйке-самогонщице, возвращаясь из центральной усадьбы.
Быстро спрятав телефон, вор осторожно приоткрыл дверку и выглянул наружу — то, что он увидел, заставило его невольно вздрогнуть.
Перед покосившимся, серым от дождей забором стояла, сверкая лаком и хромом, округлая черная БМВ с тонированными стеклами и тонкой антенной на крыше. Косые, неяркие лучи вечернего солнца отражались от непроницаемой тонировки хищного «бимера».
Кому, как не пахану было отлично известно: на таких автомобилях, как правило, ездят или бандиты, или менты, или «контора».
Неожиданно лицо старика приобрело зверское выражение. Мгновенно достав из внутреннего кармана штормовки пистолет Макарова, он снял его с предохранителя и, осторожно приоткрыв дверку сортира еще шире, присел на корточки. Медленно, не поднимая головы, вылез наружу и, прячась за высокими кустами крыжовника, пополз через сад — при этом направляя ПМ в сторону машины. План — наверное, единственно правильный в столь неожиданной ситуации, был таков: добраться до забора, незаметно перелезть через него и — быстрыми перебежками в сторону леса…
Что ж, не впервой огородами бегать; в жизни авторитетного вора случались ситуации и похуже.
Он уже почти достиг изгороди, за которой начинался спасительный лесок. Внезапно из-за спины наземь, под ноги уходящему, легла темная тень — Коттон, резко обернувшись, вскинул пистолет, но выстрелить не успел. Удар ноги — и вороненая «волына», несколько раз кувыркнувшись в воздухе, шмякнулась на грядки.
— Алексей Николаевич, и вновь вы меня чуть не убили… Нельзя же так гостей встречать!
Перед паханом стоял Максим Александрович Нечаев — тот самый оперативник под псевдонимом Лютый, о котором он вспоминал лишь несколько минут назад…
Они беседовали на берегу озера. Солнце почти село — низкие облака живописно подсвечивались мягкими лучами. С тихим шумом осыпался песок из-под причудливо переплетенных корневищ прибрежных сосен. Сладострастно квакали лягушки, какие-то рыбы бултыхались совсем рядом с берегом, оставляя на воде огромные сферические круги, а летучие мыши уже чертили в теплом воздухе едва различимые линии.
Говорил в основном Лютый — Коттон внимательно слушал, иногда поддакивал, но чаще с сомнением качал головой; пахан вообще не очень-то доверял людям.
— Беседу с Заводным я записал, — достав из кармана диктофон с кассетой, на которой и был записан допрос Митрофанова, Нечаев включил воспроизведение.
Алексей Николаевич слушал долго и внимательно, никак не комментируя запись — недоверие понемногу таяло.
Но все-таки он спросил:
— А если это не в лесу писано, а на вилле у Сухарева?
— Не верите — поехали со мной, — конечно же, Лютый прекрасно понимал ситуацию, в которой оказался старик, и потому не обиделся за вопрос.
— В РУОП? К Прокурору? К Сухому?
— Если бы я хотел сдать вас ментам, то приехал бы не один, — возразил собеседник — теперь, как и всегда, ему трудно было отказать в логике.
— А для чего ты тогда вообще приехал? Чтобы мне обо всем этом сообщить? — не понимал пахан.
— Мне кажется, вы — единственный, кто действительно может мне помочь, — искренне ответил бывший офицер КГБ, бывший оперативник совсекретной организации и тут же поймал себя на мысли, что признание это прозвучало, как минимум, нелепо и странно.
— Та-а-ак… Значит, лавье у Сухого? — лицо Найденко вмиг сделалось непроницаемым.
— А больше, получается, и быть ему не у кого, — Максим взглянул на собеседника выжидательно — теперь беседа подходила к кульминационному моменту.
— Мгу-му, — пахан нервно разминал тонкими, коричневыми от никотина пальцами тугую «беломорину». — А что говорит Прокурор?
— Говорит, варианта все-таки два: по первому — деньги у Сухарева, по второму… — Лютый сделал небольшую, но достаточно многозначительную паузу, — у вас. Не у Заводного же! В то, что деньги забрали поляки, он не верит. Кстати, я тоже.
Пахан хмыкнул:
— А он всегда был таким проницательным, этот Прокурор. Ну, а ты как считаешь? У меня? Или у того коня педального, Сухого?
— Все-таки у Сухарева… — медленно, почти по слогам произнес Максим, стараясь по лицу старика угадать реакцию — глаза пахана были совершенно непроницаемыми, и потому продолжил логические построения: — Ему выгодно, руками польской «конторы» ликвидировал собственное производство, чтобы его человек, Заводной, не платил вам, косвенно — из его же кармана. Затем после наезда поляков на «Таир» забрал деньги и на них пытается организоваться тут, в России. Сухому это было выгодно: получается, что теперь он ни от кого не зависит. А все свалил на поляков, с которыми наверняка был в сговоре. Пожертвовал малым — получил большее. Сто миллионов, а главное — полную свободу.
Не глядя на собеседника, Алексей Николаевич закурил. Прищурился, пристально вглядываясь в перспективу дальнего берега — глаза старика сузились, зрачки превратились в микроскопические точки. Ветер уносил от коротко стриженной головы Коттона рваные клочья терпкого дыма — папироса неслышно тлела, пепел сыпался на брезент штормовки, но старик даже не стряхивал его наземь.
Молчание затянулось не в меру — Лютый не смел нарушить его первым. «Беломорина» была выкурена, окурок выброшен, и лишь после этого вор с невозмутимостью сфинкса поинтересовался:
— А тебе это все зачем?
Естественно, Нечаев не мог не ожидать такого простого и в то же время сложного вопроса. Но он все равно был готов к нему…
Рассказ его был кратким — хронология, факты, никаких собственных оценок. Ну, сдал его Прокурор за колючую проволоку «на хранение», ну, извлек оттуда, как извлекают со склада забытых вещей зонтик или саквояж… А теперь у него нет другого выхода.
— Понимаю. Человек слова. Присяга. Чувство долга. Перед начальством. Которое сперва использовало тебя, как дешевую проститутку, затем выбросило на помойку, а когда ты потребовался — подобрало вновь. Все с тобой ясно. — Каким-то бесцветным голосом рассудил Алексей Николаевич. — Понимать-то понимаю… А как ты сам ко всему этому относишься?
— Мне противны все эти игры. Раньше я считал Прокурора единственным порядочным человеком, а получилось — он такой же подлец и негодяй, как и все остальные, — признался Максим честно.
Нехорошая улыбка скривила тонкие, бескровные губы старика.
— И ты приехал ко мне, чтобы об этом сообщить?
— Я приехал к вам для другого, — Нечаев смотрел почему-то не на собеседника, а на диктофон, — меня кругом подставили — как тогда, два года назад. И, мне кажется, у нас теперь общие интересы… Я не хочу, чтобы ваша племянница была во всех этих игрищах разменной монетой. Мне… она, пожалуй, единственный человек, к которому я вообще могу испытывать какие-то чувства. И это нас с вами объединяет… А потом, после всего, что я узнал о «русском оргазме»… Это не просто дешевый наркотик. Это — средство для зомбирования людей.
— Возможно, — отвечал Коттон равнодушно — Лютый, взглянув на него, подумал, что теперь вор, как никогда походит на человека, который знает какую-то тайну, могущую изменить все и сразу.
И тут вспомнилось — в машине лежит видеокассета; если верить Заводному, эту кассету должен был увидеть любящий дядя.
— Алексей Николаевич, а у вас тут можно найти видеомагнитофон? — неожиданно для вора поинтересовался Лютый.
Этот прибор у Коттона был.
«…подними-ка левую ногу. А теперь подними правую руку. Хлопни в ладоши».
Безусловно, команды принадлежали Сухому: Лютый, обладавший отличной памятью, запомнил его голос навсегда.
Максим, ни разу не видевший жертв «русского оргазма», смотрел на экран во все глаза. И хотя изображение выглядело мутноватым, послушный автоматизм Наташи сразу же бросился в глаза.
И Коттон, и Лютый не видели ее долго — почти два года. Наверное, лучше бы они не видели ее вообще…
«А теперь покажи, как делает собака», — последовала команда невидимого дрессировщика.
«Гав-гав», — очень отчетливо и потому очень страшно произнесла девушка.
Максим скосил глаза: мертвенные блики экрана причудливо ложились на морщинистое лицо старика — и от этого оно делалось еще страшней. От увиденного Коттон буквально озверел: будь тут Сухой — он мгновенно бы вцепился негодяю в жирную глотку.
А из телевизора неслось — автоматическое, безжалостное и беспощадное, и это оправдывало самые худшие подозрения:
«Видишь как? Все делает. А ты говоришь: зачем, для чего… Она счастлива и ни о чем ином не думает. И за это ощущение она будет делать все, что ей прикажут. И уже никогда больше не сможет жить так, как жила раньше, потому что любой, понявший, что такое настоящее счастье, никогда не захочет быть несчастливым… Ее можно даже не закрывать тут — пустим на пастбище, вместе с коровками, утками и гусями. Но не пройдет и трех дней, как она придет сюда и будет умолять, чтобы мы вновь дали ей «русского оргазма»… Понимаешь, что это значит?!»
«Что?» — Максим невольно вздрогнул; несомненно, этот вопрос задал Митрофанов.
— Заводной говорит, — прокомментировал Нечаев.
— Знаю сам… — тяжело дыша, ответил старик.
А страшное представление, записанное на кассету, продолжалось…
«Что?»
«Все. Это значит все. На хрена стволы, «быки» и все такое прочее? Какие, на хрен, разборки, какие завалы?! И валить никого не надо: накормил порошочком — и виляй жопой, жди приказа».
Лютый все еще сохранял самообладание — а вот планка уголовного авторитета упала до нулевой отметки. Казалось — от его взгляда вот-вот перегреется и взорвется телевизионный экран…
Неожиданно в телевизоре резким наплывом появилась чья-то спина, затем, вполоборота, лицо, и Максим узнал Заводного — стало быть, он не ошибся.
«А если скажу трусы снять, а? Снимет?»
Пахан заскрипел зубами.
«Вообще-то она, вроде как целка… Ну, попробуй, если не боишься».
«А кого я должен бояться?»
«Слышь, Наташа, или как тебя там… Трусы-ка сними…»
Коттон первым не выдержал добровольной пытки — с силой вдавив кнопку пульта дистанционного управления, он выключил телевизор.
— Так ты говоришь — в лесу этот фуцин? — хищно спросил он.
— Да, в старом ДОТе, — ответил Лютый, понемногу приходя в себя.
Пахан резко поднялся.
— Поехали… Базар к нему один есть.
Уже сидя за рулем БМВ, Нечаев спросил себя: зачем, для чего Заводной должен был показать эту видеокассету любящему дяде?
Но ответа он так и не нашел…
Глава девятнадцатая
Черная БМВ стремительно неслась по шоссе — удивительно, но на всем протяжении до столицы не было ни одного населенного пункта, ни единой деревушки. Лишь синие плакаты с белыми стрелками: «Шерстянка — 20 км», «Колычевка — 12 км». На этой трассе не было жилья, не было людей — только стрелки боковых указателей. Важная стратегическая магистраль — люди, как правило, всегда остаются в стороне от стратегических путей.
Солнце уже почти село — до наступления полной темноты оставалось не более получаса.
Лютый, сжимая руль обеими руками, напряженно смотрел вперед: такая скорость требовала предельной собранности. Машина делала сто семьдесят в час, но Коттону, сидевшему рядом, казалось, что она едва движется.
— Быстрей нельзя, что ли? — не глядя на водителя, спросил он раздраженно; видимо, в мыслях он был уже в заброшенном ДОТе, рядом с Заводным.
Водитель со вздохом притопил педаль акселератора — теперь казалось, что указатели, деревья и редкие встречные машины сливаются в одну грязную расплывчатую полосу. Гул двигателя, однообразное шуршание протекторов по асфальту, свист ветра в боковом окне невольно убаюкивали. Но и Нечаеву, и его спутнику было не до сна.
Неожиданно впереди замаячил угловатый задок навороченного джипа «рэнджровер»: запаска в щегольском металлическом корпусе, рельефные габариты, мерцающие багрово-кровавым светом, низкопрофильная резина… Максим вовремя заметил выплывающий из полутьмы поворот и, сбавив скорость, решил обогнать джип после поворота. Но тот почему-то резко вильнул на середину шоссе, не давая даже начать маневр.
— Что творит, сволочь… — нетерпеливо прошептал Нечаев, пытаясь обойти наглеца слева — «рэнджровер» тоже принял влево.
— Негодяй… — произнес Коттон. — Не видит, спешим…
Лютый посигналил дальним светом — никакого эффекта. Подал звуковой сигнал — джип по-прежнему упрямо и нагло блокировал проезд.
Это очень походило на классический дорожный наезд — ведь не сельские пэтэушники на папиной машине катаются по местным клубам да дискотекам!
Кто именно: Сухарев? Рябина? Или менты-беспредельщики взяли у знакомых бандитов тачку покататься?!
Какая разница — теперь не до того. Да и разницы, если разобраться, никакой и нет…
Нечаев, мельком взглянув на Коттона, извлек из кармана пистолет Заводного. Пахан, быстро оценив ситуацию, также достал оружие.
Тем временем «рэнджровер», чуть оторвавшись вперед, быстро остановился, загородив корпусом проезд — съезды с шоссе были довольно круты, и Лютому также пришлось притормозить.
Дверца дивной английской машины быстро открылась, и слепой свет фар выхватил из полутьмы шоссе классический, до боли знакомый московский типаж: шкафообразная фигура, коротко стриженная голова, спортивный костюм, крученая золотая цепь на шее…
Двое точно таких же, но без цепей, вышли с другой стороны, встав рядом с джипом.
— М-да, приплыли… — Нечаев, помня об эффекте внезапности, спрятал оружие под полу куртки. — Так что — стрелять?
Тем временем бандит вразвалочку подошел к «бимеру» — он уже хотел было что-то сказать водителю, но, едва заметив на переднем сидении пассажира, сразу же отпрянул.
— Дядя Леша? Вы?
— Да, это я, — скрипуче ответил старик, и по его интонациям Лютый понял — на этот раз все обойдется. — Что это вы нас гоп-стопнуть решили? Никак, на меня наехать надумали?
— Простите, дядя Леша, мы не знали, что это ваша машина…
На первый взгляд было довольно странным, что этот здоровенный амбал так почтительно разговаривает с тщедушным стариком, которого, имей он желание, мог бы убить с одного удара — но только на первый взгляд. Пять синих точек на кисти руки, то есть портак «один в четырех стенах» и вытатуированный специфический перстень, символ, понятный лишь посвященным, свидетельствовали: этот амбал уже прошел тюремные университеты, и прекрасно понимает, как надо вести себя в присутствии уважаемого вора в законе…
— Это моя машина, и я спешу, — коротко отрезал старик.
— А мы подумали — фраерок какой-то московский по вечерней прохладе гонит, под «крутых» закосить решил, вот и надумали поразвлечься, дербануть, — оправдывался амбал виновато, во все глаза глядя на законного вора; он будто бы не верил, что перед ним тот самый легендарный пахан, о котором и в Москве, и на многочисленных СИЗО, пересылках, зонах и централах еще лет десять назад ходили самые невероятные легенды.
— Так ты что — не веришь, что это я? — наконец, законный вор догадался о причинах такой странной реакции амбала.
— Да недавно параша покатила по Москве, что умерли вы… Или завалили. В гараже каком-то. И Вареник, жулик ваш, вроде бы Богу душу на Бутырке отдал.
— Насчет Вареника — правда, — печально вздохнул пахан, — а что касается моей смерти, то слухи о ней сильно преувеличены.
— Может быть, помочь чем? — не унимался амбал: видимо, ему очень хотелось услужить старику. — Дядь Леша, у нас времени много, отдыхаем вот… Мы с радостью! Если в Москву, так мы вам щас настоящий эскорт забацаем, как Президенту!
— Да нет, не надо… Еще чего — внимание мусоров привлекать. Извини, пацан, — Алексей Николаевич даже не помнил имени и погоняла этого бандита, — извини, дела у нас срочные. Пропустите уж, сделайте милость, не дербанте. И о том, что меня видел, никому не рассказывай.
— Бля буду, слово пацана, зуб даю!.. — видимо, владелец «рэнджровера» был в духе и потому, лихо продемонстрировав классический блатной жест, рысью понесся к джипу — отъезжать.
Спустя несколько секунд дорога была свободна.
— Хороший, вроде, пацан, — произнес Коттон ласково, пряча «волыну», — только хреново, что он нас с тобой вместе увидел…
Многоопытные зэки, впрочем, как и опытные контролеры-вертухаи следственных изоляторов, считают и, видимо, справедливо: впечатление о человеке как о личности можно составить хотя бы по тому, как он ведет себя в заключении. Человек слабый, как правило, ломается и начинает довольно быстро опускаться: не следит за собой, перестает мыться, причесываться и вообще — выполнять самые необходимые гигиенические процедуры, вплоть до регулярного подтирания «копченого солнышка». Такие зэки на лагерном языке именуются «запомоенными», или «чертями», котируются они чуть выше пидаров, и место им, как правило, только у вонючей параши.
Если бы самый могущественный московский мафиози Иван Сергеевич Сухарев видел бы сейчас Заводного, то наверняка бы принял его за чистого, рафинированного «черта». Сухой два года провел на общем режиме и наверняка знал толк во внутрилагерной иерархии.
За какие-то сутки, которые Митрофанов находился в заключении, он как-то сразу обрюзг, постарел и опустился. Короткие волосы взъерошились и торчали в разные стороны, в щетине виднелись какие-то крошки, некогда белоснежный костюм сицилийского мафиози походил на робу чернорабочего в конце смены. От пленника за несколько метров остро разило козлятиной. Впрочем, сам он не обращал на это внимания, наверное, принюхался.
Он ушел в себя, пытался расслабиться — силы ему еще могут пригодиться. Отрешиться, выбросить все из головы — деньги, недавнее унижение, суету, даже будущее. Здесь, в жутком, сыром склепе на трехметровой глубине все это теряло смысл.
Все это время он или лежал на импровизированном топчане, сооруженном из полусгнивших досок, или ходил от стены к стене, нервно ероша прическу.
Как ни пытался он собраться с мыслями, но ужас — холодный, липкий — сковывал его мысли. Ему было страшно — страшно, что тут вновь появится этот жуткий человек и будет делать ему какие-то инъекции; страшно, что о его предательстве узнает Сухой. В конце концов, страшно от того, что сердце может не выдержать этих страхов.
В такие минуты он пытался заснуть — иногда ему это удавалось, правда — ненадолго. С наступлением полной темноты желанный сон наконец пришел — скорей даже не сон, а забытье…
А потом он проснулся — также внезапно и резко, как и заснул.
Митрофанов очнулся от нестерпимого холода. Все тело ломило — так, будто бы он трое суток кряду выгружал вагоны с углем.
Приподнявшись на локте, осмотрелся по сторонам.
Какое-то небольшое помещение, полутемное — судя по всему, подвал или полуподвал. Глаза медленно привыкали к слабому свету — тонкий лучик месяца едва проникал через грязное, забранное решеткой стекло. Несколько развалившихся фанерных ящиков, полусгнившие доски, наваленные друг на друга, истлевшая одежда…
Заводной потер виски, попытался было воскресить в памяти недавние события, но сделать этого так и не смог. Запомнились только ощущения, притом все они были мерзкими и гнусными, и среди этих ощущений преобладала физическая боль: вроде бы его вчера пытали, вроде бы делали какие-то уколы…
Но кто?!
Думать не хотелось, вспоминать тоже не хотелось…
Он поднялся с сырого земляного пола и подслеповато осмотрелся, нащупал целлофановый пакет. Несколько буханок хлеба, палка сырокопченой колбасы, три двухлитровых баллона с минеральной водой — и все. Все-таки истязатель был по-своему благородным: он не доканывал пленника мучениями голода и жажды.
Судорожным движением скрутив пробку, пленник жадно припал к горлышку — минеральная вода текла по подбородку, по шее, но Митрофанов не обращал на это внимания: так сильно хотелось пить. Наконец, ополовинив баллон, он уселся на прогнивший ящик и принялся вспоминать, что же с ним до этого произошло.
Сознание немного прояснилось: вспомнились напутствия Сухарева, и Киевский вокзал, и так услужливо подкатившее такси, салатная «Волга» с шашечками, и тот страшный человек в кожанке, который оказался вовсе не таксистом… И допрос, и диктофон и, конечно же, инъекции; но все как-то рвано, контурами, точно в тумане.
Внезапно где-то сверху послышался мерзкий металлический звук — шкрябанье заржавленного железа. По телу пленника пробежала невольная дрожь; ему очень захотелось забиться в угол, зарыться под землю, раствориться в этом зловонном, замкнутом пространстве.
Он знал, он чувствовал — это идет его смерть…
Конечно же, Митрофанов ожидал самого худшего, но увидеть рядом со своим недавним мучителем Коттона он не ждал никак.
Щелкнул выключатель — подземный бункер озарился мертвенным электрическим светом.
Первая мысль была совершенно естественной: этот садист, выдававший себя за таксиста, — человек вора. Вторая мысль была еще хуже: если пахан просмотрел видеокассету, то ждать пощады не придется.
Заводной улегся на лежак, притворившись спящим: он подумал, что его, такого несчастного, к тому же — лежачего, сильно бить не будут — ничего иного в голову почему-то не пришло.
Алексей Николаевич, морщась от миазмов, подошел к пленнику вплотную и, брезгливо пнув ногой в грудь, прикрытую некогда белоснежным пиджаком, спросил:
— Что, блядь, не ожидал меня тут увидеть?
Митрофанов дернулся — не столько от удара, который вышел несильным, сколько от голоса пахана: настолько страшно он прозвучал.
— Коттон… Я…
— Не ждал, не ждал… — Максим, стоявший сбоку, видел: старик с трудом сдерживает себя, чтобы не накинуться на пленника.
— Коттон, меня послал к тебе Сухой. Я что? Я исполнитель. Я шестерка, Коттон, бля буду…
— Будешь, — успокоил его старик ласково. — Еще как будешь… Да ты давно уже блядью стал, конь ты педальный! Таких как ты, Заводной, петухи на моей зоне заставляли парашу жрать…
— Алексей Николаевич! — наконец пленник вспомнил гражданское имя жуткого старика. — Мне сказали — я сделал. Я ведь человек маленький…
— И сказали, чтобы ты своей поганой метлой моей Наташке приказывал — «трусы снимай»? — бледный от бешенства, задыхаясь, спросил пахан и тут же безо всякого перехода продолжил: — Ты, паучина, все равно сдохнешь. Я свое слово сказал, а ты его знаешь. Но у тебя есть два способа отправиться в ад: простой, если я тебя за секунду из «волыны» завалю, или сложней и больней… Хочешь — будешь собственные яйца жрать, хочешь — в муравейник живьем, хочешь — по сантиметру от тебя тупой ножовкой отрезать буду… Сам. Не хочешь? По глазам, гаденыш, вижу, что хочешь подохнуть быстро. Так вот: где твой Сухой?
— Алексей Николаевич, я это все уже знаю, — деликатно одернул старика Лютый, но тот окончательно впал в безумное бешенство:
— Не мешай! Уйди! Я с ним сам говорить хочу…
Возражать не приходилось — после просмотра видеокассеты пахан был в таком состоянии, что был готов завалить кого угодно. И потому Нечаев, в последний раз взглянув на затравленного Митрофанова, двинулся наверх, в безмолвную темноту ночного леса.
Встал у входа, закурил, осмотрелся…
Неожиданно где-то неподалеку послышался звук автомобильного двигателя — он гулко разносился среди деревьев. Максим насторожился. И впрямь через несколько минут на лесной дороге показался знакомый уже «рэнджровер».
Джип остановился, посигналил дальним светом, и амбал, выйдя из машины и пройдя к передку, чтобы быть заметным в свете фар, приветливо помахал рукой.
— Все в порядке?
— Нормально, — крикнул в ответ Лютый.
— Ты уж извини, пацан, — несомненно, бандит принимал водителя БМВ за коллегу, — но тут две какие-то тачки подозрительные стоят. Мусорские, не мусорские — непонятно. Только не нравится мне это… Что им в это время тут надо?
— Разберемся, — лениво бросил Максим и, автоматически опустив руку в карман, нащупал твердый целлофановый пакетик. Это был тот самый розоватый порошок.
— Ты дядю Лешу сюда позови, я ему еще кое-что сказать хочу, — застенчиво попросил амбал, понимая свою нетактичность.
Нечаев спустился вниз — Коттон, наклонившись над пленником с хищным видом, слушал, как тот лепечет нечто нечленораздельное. До слуха Максима то и дело долетали слова: «Сухой», «Польша», «Калужская область», «Русский оргазм»…
Мозг Лютого работал четко — нужное, единственно правильное решение пришло за какие-то доли секунды. Неожиданно, как в голографическом снимке, перед глазами всплыла давешняя картина: московская квартира, компьютер, мерцающий синим монитор и меморандум по «русскому оргазму»: «Человек, регулярно потребляющий даже небольшую дозу наркотика, перестает контролировать свои действия. «Русский оргазм» способствует появлению заниженной самооценки, патологической потребности подчиняться любой команде, практически не задумываясь о последствиях, подавляя способность даже простейшего анализа. Налицо стопроцентная психокоррекция…»
— Алексей Николаевич, там те самые, на джипе, — мягко произнес Нечаев.
— Чего хотят? — сердито спросил вор, не оборачиваясь к вошедшему.
— Говорят — дело какое-то срочное. Вроде бы тачки подозрительные видели. Вас просят.
Найденко с явным неудовольствием оставил Митрофанова и, взглянув на Лютого как-то странно, пошел наверх.
Максим, схватив валявшийся на полу баллон с минералкой, раскрутил пробку и, вскрыв целлофановый пакетик зубами, ссыпал в него розоватый порошок.
Разболтал, сунул Заводному:
— Пей.
— Только не это, только не это… — Митрофанов заелозил в углу на заднице. — Только не…
— Пей, сученыш… — Нечаев, достав пистолет, щелкнул предохранителем. — Ну!
Если человеку предлагают выбор: умереть сейчас же или много позже, он, как правило, выбирает второе. И потому пленник, поднеся баллон ко рту, принялся пить окрашенную розовым жидкость. Вода стекала по подбородку, натекала за ворот рубахи, но Заводной, не отрывая взгляда от оружия, пил, пил, пил, пока в баллоне ничего не осталось.
— А теперь посмотрим, как…
Он не успел договорить — неожиданно наверху гулко громыхнул взрыв, вздрогнула земля, жалобно звякнуло стекло единственного окна, с потолка посыпался какой-то мусор… Через несколько минут на эти звуки наслоилась длинная автоматная очередь.
Максим бросился наверх.
Над роскошным джипом вздымался столб густого жирного дыма — под передним колесом «рэнджровера» ничком лежал тот самый пацан, с которым Лютый беседовал минуту назад. Чуть поодаль — еще двое. Видимо, они хотели добежать до шоссе, но не успели: их накрыл автоматчик.
А из-за темных деревьев ночного леса уже выходили фигуры в камуфляжах и черных масках: короткоствольные автоматы были направлены в сторону ДОТа. В глаза ударил слепящий белый свет прожектора — Максим инстинктивно закрыл лицо рукой.
Бежать вниз, прятаться?
Их выкурят слезоточивым газом, как енотов из норы за несколько минут.
— Максим, что это? — Коттон, как и Лютый, не понимал ровным счетом ничего.
— Граждане Нечаев, Найденко и Митрофанов. Вы окружены, сопротивление бесполезно, сдайте оружие, — послышался из-за перелеска голос, показавшийся Максиму знакомым.
— Что это? Не понял… — теперь в голосе пахана сквозило явное недоверие.
— Обыкновенная операция по задержанию опасного уголовного авторитета Алексея Николаевича Найденко, — послышалось из-за спины. — Неожиданных свидетелей мы только что уничтожили.
Лютый обернулся — перед ним стоял Рябина…
Глава двадцатая
Когда-то, лет пятнадцать назад, когда Прокурор еще не достиг теперешнего заоблачного положения, а стоял всего лишь на подходе к нему, где-то во втором эшелоне власти, знакомый кагэбэшный генерал из Пятого, «идеологического» Главупра со сдержанным смешком показал ему очень веселую телеграмму на правительственном бланке, адресованную парторгу крупного оборонного предприятия Екатеринбурга, тогда еще Свердловска: «Вы всегда думали, что я говно, а я теперь союзный министр и кандидат в члены ЦК КПСС!»
Телеграмму родному трудовому коллективу посылал бывший генеральный директор — человек, который теперь сидел напротив него. Высокий седовласый мужчина представительной внешности, — вальяжный, самоуверенный, с явными повадками истиного хозяина жизни — из бессмертной популяции начальственных деятелей.
Он давно уже не директор, не член ЦК и не союзный министр. Он — кремлевский функционер, его задача возвышенна и загадочна — функционировать, а у остальных — проста и понятна: подчиняться. Он сопричастен верховной власти, а считают его дерьмом или не считают — это уже другой вопрос.
Сопричастность — великая вещь; она-то и есть самое главное. Быть сопричастным, стоять у рычага управления и упиваться этим, по-собачьи предано смотреть в глаза тех, у кого рычагов больше, ловить их одобрительные взгляды и радоваться им (функционировать!), а в качестве сатисфакции посылать бывшим подчиненным веселые телеграммы — ну, что еще входит в их понятие счастья?!
Персональная дача на Рублевском шоссе, роскошная пятикомнатная квартира в элитной высотке на Котельнической набережной, фирма на подставное лицо, номерной счет в швейцарском банке.
Только одного не хватает до полного счастья — уверенности, что так будет длиться вечно, до бесконечности…
Встреча Прокурора с одним из самых влиятельных вкладчиков-акционеров проекта происходила в небольшой уютной комнатке — нечто среднее между дорогим баром, читальным клубом и комнатой отдыха.
Интимная полутьма, ненавязчиво звучащий Вивальди, эдакий звуковой фон, низкая стойка благородного мореного дуба, бутыли с экзотическими напитками, дивные кофейные ароматы, бармен: прямой приглаженный пробор, дрессированная улыбка, осторожный взгляд, отработанная мягкость в движениях, аккуратный английский костюмчик — точно комсомольский деятель районного масштаба начала-середины восьмидесятых. Весь такой примерненький, приторный, зализанный… Типичная сволочь, короче говоря.
Прокурор любовно прихлебывал уже остывший кофе, а собеседник, ввиду больного сердца — исключительно минеральную воду. Шутили, улыбались, обменивались ни к чему не обязывающими фразами — это была пауза, сознательно затянутая с обеих сторон; каждый выжидал, что беседу о главном начнет другой.
Наконец функционер, не выдержав, поинтересовался осторожно:
— Ну, какие у нас новости?
Он сознательно произнес «у нас», таким образом давая недвусмысленно понять, что Прокурор выступает в этом проекте подельником, скованным одной цепью с ним, функционером — да и не с ним одним.
— Уже работаем, — растерянно кивнул Прокурор, степенно поправил любимые старомодные очки в золотой оправе и, отодвинув чашечку с кофейной гущей на край стола, продолжил: — Все утряслось, все в порядке. Деньги не у поляков — это было понятно с самого начала. Да и говорить об этом не стоит.
— Тут, в России? — собеседник понятливо покачал головой.
— Больше негде.
— Вы нашли их?
— Отследили, — Прокурор как и положено в таких беседах, был обтекаем и уклончив.
— И у кого же они теперь? — седовласый нетерпеливо подался корпусом к собеседнику.
— У того, у кого и должны были оказаться, — обладатель золотых очков производил впечатление человека открытого, честного. — Все встало на круги своя. Просто произошла небольшая, непредвиденная заминка… Несколько действующих лиц перепутали свои роли. Красные негодяи решили прокрутить деньги у синих негодяев, но тут появились черные негодяи и решили всех кинуть…
— Под «красными негодяями» ты, несомненно, имеешь в виду нас? — слишком откровенная шутка, тем не менее, пришлась явно по душе.
Прокурор поджал губы.
— Несомненно. Под «черными» — одну бандитскую группировку, а под «синими негодяями», татуированными, то есть, — расшифровал он, — другую… Дело не в определениях. Кто теперь в России может определить со стопроцентной уверенностью: где бандиты, а где — нет, где негодяи, а где — порядочные люди?
— То есть, ты хочешь сказать, что теперь все наконец идет по плану? — не обратив внимание на последнее обобщение, несомненное и емкое, поспешно проговорил функционер. — Теперь мы можем не волноваться?
— Именно это я и хочу сказать.
— Гарантии? — кратко поинтересовался седовласый, не сводя глаз с собеседника.
— Мое слово, — столь же кратко ответил Прокурор, имея в виду крайнюю щепетильность ситуации, и неожиданно уточнил: — Неужели недостаточно? Или ты хочешь быть втянут в этот проект сам?
— Нет, достаточно… — натянуто заулыбался функционер, прекрасно понимая, что откровенность его давнего приятеля немного выходит за рамки приличий, становясь пугающей. «Русский оргазм» и все, с ним связанное, — вещь предельно конфиденциальная. И так все понятно, без прозрачных намеков…
Беседа за столиком вновь стала отвлеченной, а потому раскованной — последние кремлевские новости, сплетни, слухи о грядущих перемещениях и назначениях: за время, проведенное в больнице, один из основных вкладчиков несколько поотстал от жизни.
Неожиданно, запнувшись на полуслове, седовласый поинтересовался:
— Ты мне еще перед болезнью говорил, что это… не обыкновенный препарат, — было видно, что этот человек сознательно избегает употреблять слово «наркотик», — а нечто иное. Как там в меморандуме написано — «создает иллюзию полного счастья»?
— Вот-вот.
Прокурор смотрел на высокопоставленного визави с плохо скрываемой иронией. Он отлично знал этого человека — настолько отлично, что мог почти со стопроцентной уверенностью сказать, о чем теперь тот поведет речь. По глазам функционера, по его слишком умному виду было понятно: сейчас он наверняка изречет нечто очень-очень солидное — конечно же, не собственную мысль родит, не хватит на такое, но, напрягши память, извлечет какую-нибудь затертую, но глубокомысленную цитату (говорят, он славился знанием цитат еще со времен учебы в Высшей Партийной школе). Вскользь, отвлеченно, чтобы затем вновь плавно и как бы незаметно вырулить на главное: особенности «русского оргазма» в его воздействии на человеческую психику. Так оно и случилось…
— Не помню кто именно, но один из великих сказал: чтобы человек стал счастливым, надо или опустить планку желаний и потребностей в сознании человека, или поднять эту планку в его реальной жизни… — голос седовласого звучал предельно серьезно — ну точно у лектора общества «Знание», выступающего в сельском ДК.
— Опустить потребности до возможного или поднять возможное до желаемого, иначе говоря, — уточнил Прокурор, глядя на любителя мудрых мыслей. — И если мы с вами, то есть государство, не способны на второе, попытаемся при помощи этого порошка сделать хотя бы первое. Создать у людей массовую иллюзию, что они хорошо живут и потому счастливы.
— Именно.
— А в подтексте доказать, что все люди — хрюкающие у корыта свиньи? — теперь оппонент не мог удержаться от сарказма.
— А что — разве не так? — с пугающей откровенностью спросил седовласый.
Прокурор повертел головой — так, будто бы ворот его белоснежной рубашки натирал шею.
— Нет, нет, не то…
— А что — то?
— Стать хрюкающим у корыта парнокопытным можно даже в том случае, когда планка существования поднята на высоту, до которой никогда не дотянется пятачок… Но состояние парнокопытности у корыта не имеет никакого отношения к счастью. Да и планку можно поднимать до бесконечности: вон, у твоего друга, хряка Паши на погоне — три звезды, а у хряка Степаши — две, но зато в корыте у хряка Степаши баланда повкусней, кусок сала аппетитно так плавает, да и на последнем саммите хряк Степаша на целых два места к самому хозяину кормушки ближе сидел… — обладатель очков в золотой оправе примирительно улыбнулся.
— То — у нас, а то — у них, — подытожил функционер, нисколько не обидевшись за хряков: понял, что разговор становится слишком скользким, а потому — опасным.
Несомненно — под «нами» он понимал и хряка Степашу, и хряка Пашу, и себя и, конечно же, Прокурора, а под «ними» — безликую массу, именуемую святым понятием «народ».
Бармен, неслышной тенью скользнув к столику, молча поставил перед Прокурором текилу — в это самое время зазвонил сотовый телефон.
— Меня… — извинительно сверкнув тусклым золотом оправы, любитель кактусовой водки взял трубку. — Что? Нашли? Без эксцессов? Где они теперь? По дороге на базу? Хорошо, выезжаю.
— Что — дела? — функционер взглянул на звонившего с любопытством большим, нежели требовали обстоятельства.
— Что поделать… — печально ответствовал Прокурор. — Надо ехать. Созвонимся.
— Спасибо, что хоть ты не забываешь меня, старый товарищ, — прочувственно попрощался седовласый и, когда старый товарищ наконец-то удалился, выслал бармена, чтобы остаться в баре одному.
Достав свой «ручник», он набрал номер и произнес в трубку с достоинством, начальственно-веско:
— Какие новости? В курсе, только что ушел, я с ним два часа беседовал. Говорит, что все в порядке, что деньги в России. Что — и ты не знаешь? Вот сволочь… А что этот? Только что взяли? Тотальный контроль, тотальный, все писать, все, что можно — я ведь внакладе не останусь… И смотри мне — чтобы пылинка на него не упала!..
Настроение Прокурора резко поднялось — наверное, впервые за последний месяц он улыбался действительно искренне. Новость, полученная им от Рябины, успокаивала — Коттон и Митрофанов были задержаны. И тот, и другой могли дать исчерпывающую информацию: Митрофанов — о проекте, Коттон — о деньгах.
Черный лимузин стремительно выехал в левый ряд проспекта, рискуя при этом выкатиться на встречную полосу, включил проблесковый маячок на крыше, и мощный громкоговоритель выплюнул на гудрон устрашающую фразу, приводящую в бешенство любого московского водителя:
— Пропустите спецтранспорт!
Прокурор редко пользовался этим законным преимуществом — он вообще отличался редкой для людей его круга сдержанностью. Но теперешний случай был особый.
…Машина с национальным триколором на правительственном госномере подкатила к базе «КР» в половине второго ночи. Единственный пассажир, не поздоровавшись против своего обыкновения с охраной, сразу же пошел на второй этаж, в кабинет Рябины. Он долго ждал этого момента, он много раз прокручивал в голове дебют будущей беседы — и вот, наконец…
В небольшом кабинете было непривычно много людей, и от этого он казался еще меньше. Все молчали — и в этом молчании было нечто зловещее, напряженное.
Лютый и Коттон, не глядя друг на друга, сидели на стульях, в разных углах. Два охранника с короткоствольными АКСУ застыли у входа, а Рябина, примостившись на подоконнике, вертел в руках обойму ПМ.
— Здравствуйте, — мягко поздоровался Прокурор со всеми и, отослав охранников, уселся в кресло.
Пахан, подняв на вошедшего тяжелый, придавливающий взгляд, хотел было что-то сказать, но в последний момент передумал. Впрочем, высокопоставленный кремлевский чиновник понял его и без слов.
Начало беседы, безусловно, осталось за Прокурором: рассеянно выслушав Рябину, он подошел к Алексею Николаевичу и спросил сочувственно:
— Ну, что же ты в бега подался?
Найденко промолчал — видимо, он после происшедшего с ним до сих пор не мог прийти в себя.
— Надо было мне позвонить, о встрече договориться… Или номер забыл? Или боялся чего? Алексей Николаевич, ты ведь меня не первый год знаешь: я никогда не обманываю близких мне людей — невыгодно. Сегодня — я тебя, завтра — ты меня. Принцип бумеранга: запустил, и не знаешь, с какой стороны ждать удара. И тебя не обманывал никогда — мы ведь с тобой одной веревочкой повязаны. Ты — смотрящий от уголовного мира, я — смотрящий из Кремля, как ты когда-то — помнишь? — на Радомском шоссе, очень точно выразился. И я был вправе рассчитывать на такое же отношение к себе.
И вновь Коттон промолчал — ситуация была явно не в его пользу.
— Пойми, у нас, в России, найти человека твоего калибра — не самое сложное. Особенно, когда на нас работают настоящие профессионалы, — едва заметно кивнув в сторону Лютого, он холодно блеснул очками и продолжил: — Мы ведь могли взять тебя раньше в твоей деревне… Но не хотели. А знаешь почему?
— Почему? — глухо спросил старик; вопрос прозвучал очень неожиданно.
— А об этом мы теперь с глазу на глаз поговорим, — весело закончил высокопоставленный кремлевский чиновник. — Без свидетелей. Но помни: эта беседа в твоей жизни — одна из самых главных. Подумай, соберись с мыслями… Но только не ври. Теперь ты остался один, и помощи ждать больше неоткуда.
Он приоткрыл дверь, предупредительно пропуская пахана впереди себя. Когда вор был уже в коридоре, Прокурор, не закрывая двери, чтобы слышал Найденко, произнес подчеркнуто выразительно:
— Чуть не забыл. Лютый, вы блестяще провели операцию по задержанию крайне опасного преступника и будете награждены. Я знал, я верил, что лучше вас никто не справится с этим заданием…
Беседовали в специальной комнате — как наверняка знал Прокурор, тут беседу вряд ли могли подслушать посторонние, а посторонними были абсолютно все. Сохранение тайны обеспечивали: генератор «белого шума», не позволяющий пользоваться «жучками», абсолютно гладкие стены и потолок, в которых объектив скрытой видеокамеры слишком бросался бы в глаза, хитроумные детекторы, начинающие призывно сигнализировать при малейшей попытке записи звукового сигнала…
Впрочем, ныне подслушивающая и подсматривающая техника совершенствуется много быстрей, чем та, что их обнаруживает: теперь ни один серьезный политический или финансовый деятель в России не может быть застрахован от тотального, всеобъемлющего контроля.
— Ну, давайте обойдемся без дипломатических прелюдий, — предложил высокопоставленный чиновник, сразу переходя к главному, — в конце концов, мы не на официальном приеме. Где деньги?
— Какие? — конечно же, уркаган прекрасно понял вопрос, и если переспросил — то лишь для того, чтобы собраться с мыслями.
— Сто миллионов долларов. Прокрутку которых ты должен был проконтролировать.
— Какие деньги?
— Те, что украдены из офиса «Таира» в Белостоке, — ангельским голосом напомнил Прокурор.
— Вы все знаете не хуже меня, — проскрипел вор. — Польские менты, или «контора», или как там их еще, не знаю, наехали. По наводке Сухого — факт. Охрану перебили, лавье забрали и увезли хрен знает куда. А он отдал псам на раздербан свою лабораторию. Потому вы меня и не взяли сразу, что выжидали — а что эта паучина предпримет.
— Спасибо за информацию.
— С вас, с вашей кремлевской братвы сбили прикуп, — оскорбленно продолжил вор, не замечая явного сарказма реплики, — а крайним сделали меня. Вдвойне крайним.
— Так оно и выглядит… но только внешне, — ухмыльнулся собеседник. — И я сам едва не поверил, что так оно и есть. Но, Алексей Николаевич, мне даже за тебя неудобно. Вот — сидит передо мной пожилой, всеми уважаемый человек и, как принято говорить в твоих кругах, ни с того ни с сего начинает «гнать форель».
Взгляд пахана сделался непроницаемым.
— Я ничего не знаю. Я пострадал больше всех. Моих пацанов, Макинтоша и Вареника, завалили. Наверное — тоже ваша работа. Ведь у вас, итить твою мать, профессионалы… — говоривший невольно скопировал недавние интонации собеседника.
— Ну, хорошо, хорошо… Допустим, ты — пострадавший или, как принято говорить у твоих друзей, — терпила. А зачем, тогда, по-твоему, Сухарев похитил Наташу? Чтобы сделать терпилой в квадрате?
— Потому что он гнида, — лицо старика перекосилось чудовищной гримасой, словно от внезапной зубной боли. — Такие, как он, своей смертью не кончают. Сидеть ему, падле, на острой пике — любой уважающий себя блатной будет счастлив всадить ему перо в поганое брюхо!
— Короче, Сухарев — патологический подлец, и именно по этой причине решил насолить вам… Я правильно тебя понял?
— Старые счеты, — Найденко привычным движением принялся разминать «беломорину». — Еще со времен Атаса, земля ему колом…
— Будто бы у Сухого других дел не было, как с тобой счеты сводить, — произнес Прокурор будто бы не собеседнику, а куда-то в пространство.
— Это — принцип. Вам этого не понять, — вздохнул Коттон печально. — Понятия…
— У каждого свои принципы, у каждого свои понятия, все верно… — оппонент законного вора поднялся, подошел к окну, зачем-то потрогал обои у подоконника и, усевшись на прежнее место, продолжил: — Дело не в том, что с нас, как ты выразился, сбили прикуп. В этот проект вложены деньги не государства, не бюджета — Бог с ним, не такие суммы прогорали. Это — личные деньги очень серьезных людей. Хочешь — скажу каких?
В вопросе чувствовался явный подвох — опытный, умудренный жизнью и отсидками вор в законе никак не мог понять, к чему клонит собеседник. Но естественный ответ — «да» — ни к чему не обязывал и потому Найденко, сознательно долго прикуривая, чтобы собраться с мыслями, наконец разрешил:
— Говорите.
На лице Прокурора появилась мстительная улыбка. Несколько минут он перечислял имена, фамилии и должности людей, поставивших на «русский оргазм». Аббревиатуры институтов власти, которые представляли эти лица, все эти МВД, ФСБ, ГУО ПР, ФАПСИ, Минюста, Минфины, — свидетельствовали об исключительной серьезности дела. Ну, а суммы, вложенные этими людьми как частными, физическими лицами, наводили на мысль о бесполезности в России института налоговой полиции (кстати, руководители последней также назывались в перечне). Но главным действующим лицом, как ни странно, был тот самый государственный функционер высокого ранга, с которым Прокурор беседовал всего лишь несколько часов назад.
— Поня-я-ятно, — протянул Коттон с искренним удивлением, когда собеседник завершил свой список.
Конечно же, пахану было известно о том, что в успехе проекта заинтересованы серьезные люди.
Но чтобы такие…
Безусловно: главное тут не прибыль, а способность наркотика воздействовать на психику людей. Теперь Коттон лишний раз убедился в правдивости слов Лютого: это была не просто финансовая операция.
— Я был с тобой честен, — подытожил Прокурор. — Теперь я разложил перед тобой все карты.
— Спасибо за доверие, гражданин начальник, — механически ответил вор.
— И хочу узнать только одно: у кого деньги?
— Не знаю.
Лицо чиновника неожиданно сделалось безразличным — даже линзы очков заблестели как-то по-другому. Он поднялся и, выйдя на коридор, вернулся через минуту — но уже в сопровождении Рябины.
— Бандит — он и есть бандит: хоть «старой», хоть «новой» формации, — произнес Прокурор с чувством. — По документом он умер. Врачи констатировали смерть, а ЗАГС выписал соответствующее свидетельство. Так что похороните вора достойно…
Прокурор уехал через час — ни с кем не прощаясь. Рябина проводил его до машины, затем, зайдя в свой кабинет, долго стоял у окна, щурился, следил, как алые габариты лимузина растворяются в чернильной темноте ночи.
Отослал охрану на первый этаж, открыл сейф, взял набор ключей…
Спустя несколько минут он был в той самой комнате, где его непосредственный начальник беседовал с вором. Аккуратно отковырнул отставшие обои — под ними чернела небольшая пустота; впрочем, вполне достаточная для того, чтобы поместить в нее миниатюрную пластмассовую коробочку.
Еще несколько минут — и коробочка была помещена в бронированный сейф.
Рябина взял в руки сотовый телефон и, набрав какой-то номер, произнес — фразы выходили рубленными, как команды:
— Он уехал. Только что. С клиентом говорил. Все зафиксировано. Я только что получил приказ — ликвидировать Коттона. Какие будут указания?..
Глава двадцать первая
Жизнь, как известно, прекрасна, что само по себе удивительно, к тому же, она полна столь невероятных ходов, столь лихо закрученных поворотов сюжета, что порой можно только разводить руками: и как это так получается, что человек, еще недавно бывший на вершине славы, богатства и успеха, неожиданно для всех становится аутсайдером, падает на самое дно; конечно же, с оговоркой, что можно считать самым дном, а что — нет.
Применительно к Алексею Николаевичу Найденко это утверждение подходило в полной мере.
Еще сегодня утром — уважаемый человек, несомненный авторитет преступного мира Москвы, да и всей России, и к тому же — далеко не бедный. А вечером — смертник, у которого, по сути, «лоб зеленкой намазан», солнце которому не светит и которого уже ничего не спасет. Его ликвидация — вопрос всего лишь нескольких часов, в лучшем случае — дней, и никто никогда не узнает ни исполнителя приговора, ни даты смерти, ни места захоронения. Скорей всего, отвезут ночью в московский крематорий и сожгут, а пепел «умершего по документам» тихонько где-нибудь закопают.
Такой вот неожиданный поворот сюжета…
Алексея Николаевича поместили в подвал — на этой загородной базе была даже своя тюремная камера. Маленькая комнатка — три шага в длину, два в ширину, забранное толстой решеткой окно, топчан, чугунный унитаз, рукомойник и две табуретки. Старик пребывал в шоке — такого изощренного коварства, такой низости от Прокурора он не ожидал никак.
Уселся на грязный низкий топчан, скрипевший при каждом движении, долго, чтобы собраться с мыслями, закуривал «беломорину»… Все-таки тут было гуманней, чем в настоящем СИЗО — у него не отобрали личные вещи.
Тогда, полгода назад, вляпавшись в это дерьмо с «русским оргазмом», пахан испытывал явный душевный дискомфорт. Интуиция, которая никогда не подводила опытного уркагана, врожденное чувство воровской этики и — особенно! — личные убеждения подсказывали, что не стоит этим заниматься, но рассудок — гибкий утешитель, говорил иное: не ты, так другой…
Тогда, во время той памятной беседы недалеко от Варшавы, на Радомском шоссе, Прокурор утверждал: «Последний раз в дело влезаешь, а дело очень серьезное — наверное, самое серьезное из всех, которыми ты за свою жизнь занимался». Пахан и сам понимал, что серьезное, а уж если разговор шел о ста миллионах налом, можно было сделать вид, что работаешь вместе с государством, но при этом попытаться сыграть в свою игру. Наколоть государство в лице Прокурора — святое дело. Мент должен ловить, судья должен судить, вор должен воровать…
Постепенно привычное самообладание возвращалось к старику. Мысль заметалась в поисках спасительного выхода — ведь безвыходных положений не бывает.
Старик понимал: у него все-таки оставался шанс — один-единственный, но для того, чтобы этот шанс использовать, надо было преподнести его как можно более убедительно. Только вопрос — кому…
Докурив папиросу почти до бумажной гильзы, Алексей Николаевич улегся на топчан и забылся тяжелым, тревожным сном.
На новом месте пахан спал очень плохо: в тесной камере, несмотря на тепло конца июня, было душно, к тому же, комары, залетавшие из Бог знает каких щелей, кусали больно и немилосердно, пленник всю ночь ворочался с боку на бок и в результате не выспался: проснулся он совершенно разбитым.
Едва Алексей Николаевич умылся, в помещение зашел тот самый высокий, в камуфляже, который и задержал его в лесу, рядом с заброшенным ДОТом. Тонкие фиолетовые губы, маленькие умные глазки, лицо, словно бы вылепленное из пластилина — такой человек не мог не настораживать.
Зачем он тут появился?
Валить будет? Так ведь мог сделать это самое еще вчера вечером. И почему тогда один пришел?
Найденко утер лицо рваным вафельным полотенцем, тяжело уселся на топчан, глядя на вошедшего с явной недоброжелательностью.
— Доброе утро, Алексей Николаевич, — как ни в чем не бывало, поздоровался с пленником неизвестный.
Пахан не ответил.
— Не хотите меня приветствовать? Не надо. Я к вам не за приветствиями, а по делу пришел, — камуфлированный осторожно присел на краешек топчана, словно боясь, что тот рухнет под тяжестью его тела.
— Понял, что не в стиры[8] перекинуться, гражданин начальник, — зло буркнул вор.
— Не надо иронии. В вашем положении следует быть мягче, — примирительно улыбнулся неизвестный и продолжил деловито: — Сперва внесу ясность. Вы находитесь на базе совсекретной организации «КР». Что это за структура и чем она занимается, вам знать не надобно. Меня зовут Рябина. Я начальник этой базы. — Говоривший коротко рубил фразы — казалось, он вовсе не умеет разговаривать длинными предложениями. — У меня очень большие полномочия. Прокурор приказал вас ликвидировать, и ликвидация, в частности, поручена мне…
Пахан насторожился — столь длинная словесная прелюдия наводила на мысль: сейчас этот самый Рябина наверняка что-то предложит. Что — неужели просто пришел представляться: мол, я пришел для того, чтобы вас расстрелять? Нет, конечно же… Значит, будет что-то предлагать.
Теперь интуиция Найденко обострилась до немыслимого предела — он не ошибался.
Рябина был краток и лаконичен: сперва обрисовал безвыходное положение узника, затем — проблему с пропавшими деньгами, затем — ситуацию с проектом «Русский оргазм». Никаких собственных оценок, никаких положительных или отрицательных определений, исключительно цифры, даты, фамилии, должности, схемы взаимоотношений; несомненно, этот человек был отлично информирован.
Все это время Найденко сидел с совершенно непроницаемым лицом — как и положено действительно умному и авторитетному человеку.
— Вот, собственно, и все, — закончил Рябина и выжидательно взглянул на старика — мол, а как прореагирует тот?
— И для чего ты, гражданин начальник, мне все это рассказываешь? — спросил старик деланно равнодушно; это было тем более удивительно, что вопрос шел о его жизни и смерти. — Хочешь мне перед смертью поведать, какое у вас государство продажное? Хочешь доказать, что все эти ваши кремлевские бугры — козел на козле? Так и без тебя знаю.
— Нет, не то, — камуфлированный покачал головой невозмутимо, но несколько загадочно.
— А что же?
— Я хочу предложить сделку, — прозвучало в камере отчетливо.
— Что, что? — Коттон, уже сообразивший, что за сделку ему предлагают, тем не менее сделал вид, что не понял сути сказанного.
— Я хочу предложить вам сделку, выгодную для нас обоих. Деньги — у вас. Это несомненно. Сто миллионов долларов — огромная сумма.
— Ну-ну… Значит, хочешь получить сто лимонов баксов за мою свободу? — предположил старик, нехорошо ухмыляясь. — Не по себе хавало раскатил… Обосрешься.
— Вы меня еще не выслушали, а уже отказываетесь, — напомнил Рябина. — Алексей Николаевич, у вас нет другого выхода.
— Сто лимонов? Подавишься, — зло парировал вор. — Я уже стар — сколько мне вообще осталось? На год больше, на год меньше. Я видел жизнь, я понимаю ее, и мне от жизни уже ничего не надо… Но вам, марамойкам гребаным, перед смертью из принципа ни хера не кину — все с собой в могилу унесу, слюной изойдете…
— Значит, этим самым вы косвенно признаете, что деньги у вас? — последняя реплика старика, донельзя неуважительная, нимало не смутила Рябину — наоборот, заставила растянуть в улыбке тонкие резиновые губы.
— Ну, может быть и так…
Ни слова не говоря, начальник базы «КР» извлек из кармана миниатюрный диктофончик. Щелкнула кнопка — приговоренный услышал фразу Прокурора: «Бандит — он и есть бандит: хоть «старой», хоть «новой» формации. По документам он умер. Врачи констатировали смерть, а ЗАГС выписал соответствующее свидетельство. Так что похороните вора достойно…»
— Надеюсь, это освежило в вашей памяти события вчерашнего вечера? — мстительно проговорил камуфлированный.
— На склероз не жаловался никогда, — невозмутимо парировал старик.
Это была тонкая словесная игра, в которой каждый набивал себе цену, набирал очки: Коттон вроде бы неохотно соглашался, что деньги действительно у него, камуфлированный продолжал упрямо стоять на своем, приводя в качестве аргументов логические выкладки, главной из которых была следующая: у вас, смертника, нет выхода, вам не из чего выбирать, вам никто, кроме меня не поможет, и если мы договоримся, это будет интересно для каждого из нас.
— Алексей Николаевич, — Рябина спокойно нажал на кнопку «стоп», — я не гестаповец, а вы не герой-краснодонец. Ваше геройство, ваши принципы в теперешнее меркантильное время никому не нужны. Я уважаю вашу стойкость и ваши взгляды, хотя и не понимаю их. Я ведь не говорю, чтобы вы отдали все деньги…
— Ладно… Допустим, я соглашусь. Я не сказал «соглашусь», я сказал — «допустим». Чего ты хочешь? — глухо спросил старик, впервые посмотрев на Рябину с видимым интересом.
— Вот это уже интересней. А теперь разложим все по порядку. Деньги у вас, и лишь они могут вас спасти, — несомненно, говоривший повторял это лишь потому, что хотел еще раз обрисовать смертнику безвыходность его ситуации. — Или мы вас тихонько и незаметно ликвидируем, или… — Рябина сделал небольшую, но многозначительную паузу, — или договоримся…
— Нечего передо мной метлой понапрасну махать. Все это я уже слышал. Сказал «А» — говори и «Б». Чего тебе надо? Чего пришел? — в голосе Найденко прозвучала невыносимая тоска.
Рябина продолжал невозмутимо:
— Дело в том, что в этот проект вложены огромные деньги людей, заинтересованных не только в прибыли, но и в самом препарате. Это не просто наркотик. Это — оптимальное средство не только управления людьми. Это — стопроцентный способ сделать их действительно счастливыми. Алексей Николаевич, вы не настолько глупы, чтобы этого не понять — к тому же, мы нашли у вас видеокассету — вы знаете, какую. Технологический пакет, формулы, — у Сухарева. Нам нужны и документы, и деньги — теперь «русским оргазмом» можно заняться и без него. Так вот… Один очень влиятельный человек, а он влиятелен не менее Прокурора, гарантирует, что не только сохранит вам жизнь, но и поможет решить проблему с вашей племянницей Натальей Васильевной. Вы ведь, как говорится, лицо заинтересованное?
При упоминании о похищенной Наташе старик едва заметно вздрогнул.
— Набарать хочешь, гражданин начальник, — недоверчивость старика была вполне объяснимой. — Только гиблое это дело — очко разорвешь. Знаю я вас всех — за лимон баксов маму с папой удавите, лучшего друга сдадите. И тебя набарают, помяни мое слово. — Коттон отвернулся к стене, молча изучая трещины и потеки, а затем продолжил скрипучим голосом: — Я вам филки, а вы мне хороший несчастный случай. Для чего вам лишний свидетель? И вообще на хрена — одного кремлевского козла на другого менять? Все вы одним миром мазаны…
— Как хотите, — безучастно отвечал Рябина. — У вас нет другого выхода… Но мы могли бы подумать вместе и найти такой компромиссный механизм, который бы устраивал и вас, и меня.
Вздохнув, пахан извлек из пачки «беломорину», размял ее, продул и, закурив, произнес:
— Деньги действительно у меня… Но не здесь, не в Москве, а далеко-далеко… А теперь давай говорить по-серьезному…
Спустя два часа из ворот базы «КР» выехал неприметный темно-зеленый УАЗик. Обычная армейская машина с армейским же номером, — тут, в Подмосковье, таких сотни; вряд ли подобный автомобиль может кого-нибудь заинтересовать.
За рулем сидел Рябина — он сосредоточенно следил за дорогой. Машина нервно подпрыгивала на ухабах, и камуфлированная кепи на его голове то и дело сползала — водитель механически поправлял ее рукой. Найденко, сидевший рядом, вертел по сторонам головой, но два безмолвных охранника позади гарантировали, что старик никуда не сбежит.
Первые минут двадцать все молчали — ровно гудел двигатель, со свистом проносились встречные машины.
Сидевший за рулем первым нарушил молчание:
— А ведь Прокурор не только вас подставил.
— Почему? — механически спросил старик.
— Этот наш опер, Лютый, ну, с которым мы вас в лесу взяли — он ведь вас не пас. Не думаю, что он хотел вас сдать: шаг был рискованный, и работал он, несомненно, по собственной инициативе.
— Хочешь сказать — он приехал ко мне не от Прокурора, а просто от себя? — Алексей Николаевич мгновенно оценил ситуацию.
— Вот-вот.
— Значит, это была не подстава?
— Подстава была со стороны Прокурора. Двойная — и вас, и его.
— Ну, с-сука-а… — свистящим полушепотом произнес старик. — Своих же сдает… — зрачки пахана ненавидяще сузились, на мгновение превратившись в микроскопические точки. — А зачем это ему?
— Думаю, он решил просто развести вас и Нечаева, — предположил Рябина задумчиво, — хотя, для чего именно, не пойму. Он хитрый и умный… Да только похитрей его найдутся, — говоривший подразумевал того самого влиятельного человека, которого упоминал в утренней беседе. — Ладно, теперь вам о другом надо думать. Надеюсь, Алексей Николаевич, вы не изменили своего решения?
В это время УАЗик обгонял фуру международных перевозок. Старик, опустив стекло, бросил на дорогу окурок и что-то негромко ответил, что именно, Рябина не услышал: слова Алексея Николаевича потонули в шуме ветра.
Машина мчалась в сторону Москвы.
Голубой свет за окном густел, наливался синевой, потом неожиданно где-то сверху появилась алая полоска — солнце садилось.
Лютый только что проснулся в своей московской квартире — вчерашние события основательно вымотали его. Встал, умылся, перекусил на скорую руку и, закурив, уселся за стол.
Чем больше размышлял Нечаев о последних событиях, тем больше запутывался. Слишком неправдоподобными казались поступки действующих лиц, и больше всех Прокурора. А может быть, этот человек в своих дьявольских задумках руководствуется каким-то планом — настолько сложным, что его почти невозможно разгадать?!
Но все-таки: для чего Прокурор подставил его, Нечаева, в глазах Найденко?
Почему не отдал приказ задержать уголовного авторитета раньше?
Почему, наконец, Прокурор медлит с задержанием Сухарева?
Какую роль во всем этом выполняет Рябина — ведь этот бездушный киборг оказался куда более хитрым, расчетливым и предусмотрительным, чем можно было от него ожидать!
Вопросов было больше, чем ответов, но теперь совершенно не хотелось думать — течение мысли было вялым, какие-то незначительные детали воспоминания проплывали на поверхности: неприятные, тонкие, ломкие, переливчатые, как радужная бензиновая пленка по Москве-реке.
Максим включил компьютер, уселся, поставив рядом с клавиатурой пепельницу. Он совершенно не хотел думать, но мысли упорно возвращались в прежнее русло.
Нашел нужный каталог, ввел пароль — перед глазами поплыли строки меморандума — Нечаев ужа знал его наизусть.
Потребление «русского оргазма» делает человеческую психику предельно неустойчивой и аморфной, позволяя манипулировать поступками и даже мыслительными процессами. Человек, регулярно потребляющий даже небольшую дозу наркотика, перестает контролировать свои действия. «Р. о», способствует появлению заниженной самооценки, патологической потребности подчиняться любой команде, практически не задумываясь о последствиях, подавляя способность даже простейшего анализа. Налицо стопроцентная психокоррекция…
В справедливости этого утверждения Нечаеву пришлось убедиться воочию сутки назад — перед мысленным взором невольно возникли рваные куски той страшной видеозаписи зомбированной Наташи Найденко, беспрекословно выполнявшей команды Митрофанова.
Размытые радужные пленки размышлений поплыли дальше, по течению, растворились в мозгу.
Стоп!
Ведь там, в заброшенном ДОТе, когда неизвестные, но такие предупредительные бандиты на «рэнджровере» зачем-то попросили Коттона подняться наверх, он насильно влил в Митрофанова минералку, заряженную препаратом!
Где теперь Заводной, чьи команды он выполняет? Ведь Прокурор наверняка знает все о Митрофанове!
И тут в голове неожиданно родилась мысль — настолько дикая и неправдоподобная, что Лютый, сразу же бросив компьютер, нервно заходил по комнате.
Бороться с «русским оргазмом» можно лишь при помощи «русского оргазма»!
Теперь Заводной ни что иное, как управляемая на расстоянии бомба. Его можно отправить к Сухому, ему можно приказать совершить что угодно — и Митрофанов сделает, не задумываясь.
Максим закурил, еще раз перечитал меморандум.
Да, сомнений быть не могло: Заводной — его тайное оружие; о котором никто не знает. И если бы его время от времени поить препаратом, этот человек…
…дзи-и-и-и-и-и-и-и-и-инь!..
Неожиданно зазвонил телефон — настырно и въедливо, начисто разрушая все логические построения.
Метнув в аппарат полный ненависти взгляд, Лютый вышел на кухню — поставить кофе, но и туда доносилось это пронзительное, прерывистое «дзи-и-и-и-и-и-и-и-и-инь!.» Более того, через несколько минут запищал сотовый телефон: видимо, и по городской связи, и по мобильной звонил один и тот же абонент.
Телефоны трезвонили, не переставая — как ни пытался отрешиться Максим от этих звуков.
Лютый лениво цедил кофе, затягивался сигаретным дымом, таким сладким после первого глотка, и думал: как должно быть, счастливы были люди до изобретения этой проклятой штуки, телефона. Провода — точно проводка электрошока к душам абонентов; аппарат со своим омерзительным «дзи-и-и-инь!.» — оголенный конец медной проволоки, по-садистски воткнутый заостренными контактами в нежный человеческий мозжечок. Максим не ждал никаких звонков, не хотел никого видеть и слышать — он хотел хоть на несколько минут принадлежать только самому себе.
…дзи-и-и-и-и-и-и-и-и-инь!..
Нечаев, с силой затушив окурок, прошел в комнату, взял трубку и, маскируя недовольство, произнес:
— Алло…
Никогда нельзя открыто высказывать своего недовольства — этому он научился еще за время службы во 2-м Главупре КГБ. Все — на улыбочке, легко и свободно. Высказать недовольство — значит, дать фору противнику. А ведь по телефону противник не виден — звонящий всегда имеет преимущество перед слушателем.
— Слушаю вас…
— Зря вы трубку не берете, Максим Александрович, — послышался знакомый голос Прокурора — с явно ироническими интонациями. — Я ведь знаю, что вы теперь дома. Наверняка курите, кофе пьете и мысленно посылаете меня подальше.
Лютый невольно кашлянул, но никак не выдал своего удивления.
— А я ведь вам по делу… Максим Александрович — мне кажется, мы все немного запутались.
Утверждение не могло не удивить Лютого.
— В чем же?
— Я абсолютно уверен, что вы считаете меня не тем, кем я являюсь на самом деле. Давайте встретимся и все обсудим. Согласны?..
Глава двадцать вторая
Нечаев всегда отличался образностью и масштабностью мышления — часто, размышляя над какими-то событиями, он проводил в уме самые немыслимые сравнения и параллели; как ни странно, но это помогало ему найти единственно правильный выход.
Вот и теперь, анализируя свое нынешнее положение, Максим почему-то — кстати или некстати — подумал: все это напоминает какой-то фильм из дешевого видеопроката. Нажал кнопку — лента мотается быстрей, нажал другую — кадр замер, нажал третью — и наблюдаешь события в обратном порядке…
И действительно — сравнение странное, но на удивление верное.
Когда любитель домашнего просмотра видеофильмов смотрит на экран телевизора, то наблюдает сюжет в обычном темпе: герои движутся, разговаривают, действуют примерно так же, как и в реальной жизни.
Фредди Крюгер методично преследует очередную жертву, бедра проституток в немецком порнофильме двигаются с равномерностью топора рубщиков мяса на Центральном рынке, хороший ковбой Джо стреляет в плохого шерифа Билла именно с той скоростью, на которую способен его винчестер или кольт, а великий каратист Брюс Ли молотит многочисленных врагов закона со скоростью пусть тренированного, но все-таки живого человека.
Нормальная кинематографичская скорость: двадцать четыре кадра в секунду.
Если любитель видеофильмов нажмет на кнопку перемотки ленты, то жесты и движения героев ускорятся.
Персонаж популярного видеоужастика будет гоняться за очередной жертвой с резвостью гоночного болида из «Формулы-1», скорость вибрации бедер героинь порнофильмов будет напоминать быстроту работы электрокайла для крошения старого асфальта; кольт или винчестер хорошего ковбоя Джо, убивающего в салуне плохого шерифа Билла, превратится в скорострельный пулемет, а герой фильмов-каратэ будет крушить негодяев, подобно валькам комбайна «Нива» в горячую августовскую страду.
Ну, а ежели любителю домашних видеосеансов придет в голову поставить перемотку на вовсе ускоренный режим, то на телевизионном экране замелькает одна сплошная разноцветная полоса, в которой невозможно будет разобрать: кто герой, а кто жертва, кто прав и кто виноват.
Именно в таком вот, чрезмерном, фантастическом, невероятно ускоренном темпе замелькала жизнь Максима после возвращения из ИТУ.
Десятки событий, сотни фактов, переплетенных между собой самым что ни на есть загадочным образом. Странная, невероятная мотивация поступков всех без исключения героев. Разобраться во всем этом самостоятельно не представлялось возможным. Наверное, один лишь Прокурор понимал и переплетения, и мотивации. Но верить Прокурору Лютый не мог: слишком жутким казались конечные замыслы этого страшного человека.
Тем не менее Нечаев согласился на встречу — не мог не согласиться: номинально этот человек был его непосредственным начальником. К тому же, последнее утверждение «вы считаете меня не тем, кем я являюсь на самом деле» прозвучало на редкость загадочно и потому — многообещающе.
Может быть, Прокурор сумеет замедлить ход этого сумасшедшего фильма?!
Встреча состоялась в придорожном кафе в подмосковном райцентре. Типовое двухэтажное здание, обложенное кафельной плиткой вроде той, которой принято облицовывать общественные туалеты; грязные столики, несвежие скатерти и портьеры — короче говоря, место не вызывающее подозрений и потому подходящее для доверительной беседы. И лишь черная тридцать первая «Волга» с национальным триколором на номере да две машины охраны, стоявшие неподалеку, свидетельствовали о серьезном статусе одного из посетителей.
Прокурор, бросая очками солнечные зайчики, смотрел на Лютого с печальной улыбкой: наверное, так смотрит университетский профессор на способного, но нерадивого студента.
Максим молчал настороженно и выжидательно — не начинать же беседу первому!
— Ну, что ж, паузу вы выдержали отлично, так что можно начать без дипломатических прелюдий, чтобы не терять времени, — весело произнес Прокурор и, сняв очки, протер их белоснежным платком. — Итак, Максим Александрович, начну с главного: вы действительно принимаете меня не за того, кто я на самом деле. Иначе быть не может. Просто я попытался поставить себя на ваше место. И знаете, к какому неожиданному выводу пришел?
— К какому? — не теряя самообладания, спросил Лютый; чего-чего, но столь доверительного начала беседы он явно не предвидел.
— А к такому… У вас есть все основания считать меня законченным, рафинированным негодяем. Именно так: негодяем и подлецом. Все это — исключительно от отсутствия информации. Или, может быть, от неправильного понимания… — Прокурор вновь надел очки — Лютый, мельком взглянув на собеседника, не мог удержаться от мысленного сравнения: теперь очки чем-то неуловимым напоминали линзы стереотруб, выдвинутых на вражескую позицию из блиндажа. — Вы сами видели действие «русского оргазма», вы читали меморандум, которым я вас снабдил.
— Да, — ответил Максим, соображая, к чему тот клонит.
— И вы вынесли из этого лишь одно: я и мне подобные желают подсадить на наркотик Москву, страну, человечество… И так далее. Чтобы создать у него иллюзию счастья. Так ведь?
Проницательность Прокурора впечатляла — было бы глупо говорить «нет».
— Честно говоря, у меня была такая мысль, — ответил Нечаев уклончиво.
— Стало быть, я не ошибся. Поверьте мне: я боюсь всего этого не меньше, чем вы. — Голос говорившего звучал на редкость чистосердечно. — Это — своего рода фашизм, только на биологическом уровне… Опыты гестаповца Менгеле в сравнении с этим — детский лепет на лужайке, — Прокурор вздохнул. — Хотя я знаю немало людей, которые с радостью согласились бы на такой шаг.
— Это они вложили деньги в проект «Русский оргазм»?
— Да. Они не хотели ввязываться в такой сложный и щекотливый проект самостоятельно — было проще дать денег бандитам, обождать, пока те раскрутятся, и потом все подмять под себя. Но там, — обладатель очков в золотой оправе поднял вверх указательный палец, подразумевая этим веским жестом неких невидимых, но весьма значительных лиц, — там явно просчитались. Сухой прекрасно понял, для чего можно использовать этот самый розовый порошок. Равно как и то, что его можно будет направить против тех, кто вложил в него деньги. Я предвидел это — вот тут-то и появился Коттон. История с Польшей вам известна, также как и причины, побудившие Сухарева первый завод-лабораторию организовать именно в Малкиня. Так вот: Найденко и Сухарев оказались намертво связанными одной цепью. Хотя Коттон на тот момент и не догадывался, кто стоит за производством «русского оргазма». Он думал просто подмять под себя производство, сдать его братве и в ореоле заслуженного человека уйти на покой. Следите за моей мыслью, Максим Александрович?
— Да, — механически ответил Лютый; теперь происходящее представлялось ему иным, нежели он видел его еще несколько минут назад.
— Вскоре на горизонте нарисовалась польская СБ. Это естественно — не проходит и недели, чтобы в польской прессе не писали о «татуированной руке Москвы» и «бандитах из-за Буга». Полякам надо было лишь одно — ликвидировать в стране рассадник наркотиков. И Сухой, и Коттон посчитали за лучшее войти с СБ в контакт — естественно, поляки тут же связались с нами. Если бы не те сто миллионов долларов, которые предполагалось вложить в проект, я бы дал им отмашку, но о «русском оргазме» стало известно… Как бы это выразиться… Многим недобросовестным политикам. Ну, а дальше произошло то, что должно было произойти. Сухарев решил кинуть Коттона, а он, в свою очередь, и его, и людей, вложивших деньги. Варшава, пользуясь нашими наработками, решила подвести двух непримиримых врагов, Сухого и Коттона, к барьеру. Не верите? — не дождавшись ответа, Прокурор достал из кармана диктофончик и нажал на кнопку: Лютый услышал приятный баритон, говоривший по-русски, но с явно иностранным акцентом: «Теперь второй пункт. Этот самый человек со шрамом… Как его там — пан Макинтош? Ту ест назвиско? Фамилия?» И тут же второй голос, показавшийся ему знакомым, нагло ответил: «Какая назвиска… Кличка у него такая… Как у собаки. Скоро деревянный макинтош получит…» «Ну, думаю, все пройдет удачно, — вставил баритон. — Мы ведь оба представляем заинтересованные стороны…»
— Что это?
— Запись беседы офицера польской СБ и гражданина России Сухарева, — невозмутимо прокомментировал Прокурор. — Сделана в Варшаве, на конспиративной квартире Службы Бясьпеки. СБ передала нам все материалы. Дальнейшие события развивались по графику, если не считать существенных мелочей: польский спецназ уничтожил завод-лабораторию в Малкиня, но не учел одного: Сухой, присутствовавший при этом, снял с лабораторного компьютера хард-диск со всей информацией, став, таким образом, полным монополистом. Естественно, если бы у него оказались те сто миллионов, то теперь в газетных киосках да хлебных магазинах торговали бы исключительно розоватым порошком. Заводик был разгромлен, но деньги, на которые рассчитывал Сухарев, не получены… — Прокурор говорил так, словно бы вбивал гвозди в сырую доску. — Деньги были деликатно переданы Коттону, естественно, через Макинтоша — мы сами узнали об этом недавно. Поляки не решились конфисковывать такую огромную сумму: хватило ума догадаться, что это за деньги.
— Они передали деньги Коттону, чтобы не достались Сухому? — резонно предположил собеседник. — Вы не могли этого предвидеть?
— Могли, — хитро улыбнулся Прокурор.
— Не проще ли было их изъять сразу? — Максим никак не мог понять логики происшедшего.
— Нет.
— Но почему?
— Вам рано об этом знать… Всему свое время.
— Так где же деньги? Почему вы думали, что они все-таки могут быть у Сухарева?
— Когда пришло известие о мнимой смерти Алексея Найденко, я подумал: его накрыли, выпытали название банка, где он хранит деньги и ликвидировали. Но, к счастью, я ошибся. К тому же, Алексей Николаевич, и это несомненно — человек куда более достойный, чем эти, — палец говорившего вновь указал наверх. — Далее. Поляки посчитали, что Макинтош знает слишком много и потому ликвидировали его еще в Белостоке. Сухой, поняв, что без денег ему в короткий срок не организоваться, решился на крайние меры: во-первых, похитил племянницу вора, надеясь договориться, а во-вторых — объявил войну крупным московским бандитам, ставившим «крышу» влиятельным финансистам. Ликвидировав их в одном московском ресторане, он переадресовал поборы с фирм и банков на себя. Таким образом он надеялся собрать необходимую сумму: нам же такой ход был, как вы сами понимаете, на руку. Одни бандиты ликвидируют других — что может быть лучше? Максимум результата при минимуме затрат. Видите, Максим Александрович, я с вами предельно искренен.
Да, все было логично — до неправдоподобия. Но это вовсе не значило, что у Лютого не осталось вопросов, скорей, их стало еще больше.
— Но для чего же тогда вы приказали ликвидировать Коттона?!
— Я знал, что он останется жив.
— Как?
— Все очень просто, — казалось, Прокурор ждал этого вопроса. — Рябина… Как вам сказать — это не мой человек. Когда вместо так называемого «13 отдела» организовалась структура «КР», мне его навязали чуть ли не насильно. Я не мог отказаться, но и не мог ему доверять. Понимаете ли, — в голосе говорившего прозвучали доверительные интонации, — есть один человек, кремлевский функционер, который вложил в проект огромные деньги… Думаю, что он поручил Рябине собирать на меня компромат, чтобы держать на коротком поводке. Что тот и делал механически и старательно. Но неумно.
— Компромат — на вас? — откровенность говорившего наталкивала на естественное недоверие.
— Максим Александрович, все это время мне приходится вести двойную, тройную жизнь. И я вовсе не оперный злодей, злой театральный божок, эдакий Мефистофель. Компромата у Рябины не получится… А если и получится, то на всех вместе. Все это время я старательно засвечивал фамилии всех заинтересованных лиц. А Коттона я приказал ликвидировать лишь по одной причине: спровоцировать Рябину на более решительные действия.
— И что? — Максим нервно теребил скатерть с края стола.
— Все получилось так, как я и планировал. Рябина прихватил Алексея Николаевича и исчез с ним. Предвижу его следующий шаг — с километрами аудио и видеопленок он явится к функционеру за наградой… — Прокурор неожиданно замолчал.
Молчание длилось долго — Лютый успел выкурить сигарету, несколько раз обдумать продолжение беседы, сформулировать остальные вопросы…
— Короче говоря, — по интонациям Прокурора было слышно, что разговор подходит к логическому завершению. — Я думаю, теперь вы мне верите. У нас с вами общие взгляды, так что давайте действовать сообща.
— Что значит сообща? — не понял Нечаев.
— Я также, как и вы, не хочу, чтобы негодяи плодили эту заразу… «русский оргазм». Ваша задача такова, — теперь в голосе говорившего зазвучали деловые интонации, — во-первых, найти Коттона, а вместе с ним и деньги. Инструкции на этот счет получите позже. Пока что скажу одно, и скажу с уверенностью: Рябина списан. Он — лишний свидетель. Во-вторых… В-третьих…
…Они говорили еще минут десять — теперь чаще других назывались фамилии Сухарева и Митрофанова.
— Вы напоили Заводного этой отравой? — к удивлению Лютого, на стол легло несколько пакетиков с розовым порошком.
— Да… — едва не растерялся Лютый.
— Возьмите, — Прокурор пододвинул пакетики собеседнику и, перехватив его недоуменный взгляд, пояснил кратко: — Это из Малкиня…
— А Заводной?
— Вы правильно решили, — покачал головой обладатель старомодных очков, — бороться с «русским оргазмом» можно лишь при помощи «русского оргазма». Возьмите — думаю, теперь это будет самое действенное оружие. Если вам действительно нужен Митрофанов, вы его получите… завтра днем. Он теперь в следственном изоляторе. Я позвоню — его выпустят под подписку. И вообще: мне кажется, в этой истории каждый получит то, чего заслужил. И вы в том числе…
Лютый сделал вид, будто бы не расслышал самую последнюю реплику.
Теперь разговор касался главного — механизма ликвидации производства, и Нечаев все больше и больше проникался к собеседнику доверием.
Да, он ошибся: в отличие от большинства участников этого жуткого и неправдоподобного спектакля Прокурор оказался человеком кристальной честности. Да, все это время Прокурору приходилось вести двойную, тройную игру, произносить чужие слова, носить чужие маски — но едва ли можно было обвинить его в двуличии: остаться в этом окружении самим собой было невозможно.
Максим поднялся из-за стола, пожал протянутую руку и неожиданно для себя спросил:
— А Наташа?
Голос Прокурора как-то враз потух, потускнел:
— Боюсь, ей уже ничем нельзя будет помочь. Но вы должны действовать, чтобы сотни тысяч точно таких же Наташ не постигла ее участь…
Глава двадцать третья
Заводной, о котором в беседе с Прокурором вспоминал Лютый, сразу же в ночь задержания был отправлен в Москву, на Шаболовку, в главный офис РУОП. После непродолжительного, чисто формального допроса уже утром следующего дня он переступил порог камеры в следственном изоляторе «Матросская тишина».
В некогда белоснежном щегольском костюме, превратившимся в грязные лохмотья, в дорогих штиблетах ручной работы, из которых были вынуты шнурки, новый узник смотрелся униженно и жалко. Стоя у тяжелой металлической двери с «кормушкой», он инстинктивно жался спиной к холодному железу — Заводной чувствовал, что на него смотрят десятки глаз, прощупывают, просвечивают, оценивают, но спрятаться от них он не мог…
Конечно же, в своей жизни Митрофанов не раз слыхал о подобных ситуациях — от того же Чирика, но одно дело — слышать от посторонних, а совсем другое — самому оказаться в положении арестанта.
Смена обстановки впечатляла. Там, за стенами — горячее июльское солнце, шум огромного города, удовольствия, которые может дать человеку столица, короче — красивая, беспечная жизнь. Тут — замкнутое пространство тесной грязноватой камеры, цементный пол, параша в углу, унылые серые стены, вдоль которых стоят грубые трехэтажные нары. И эти странные недоверчивые взгляды…
Пространство перед нарами верхнего яруса было завешено какими-то несвежими тряпками — очевидно, носильными вещами тех, кто тут обитал. Одни арестанты сидели на «пальмах», то есть на верхних ярусах нар, свесив босые ноги, другие — внизу. Заключенные, разделившись по интересам, занимались каждый своим — играли в домино, курили, читали, лениво смотрели телевизор, болтали на какие-то свои отвлеченные темы. Но взгляды всех то и дело скользили по нелепой фигурке Заводного.
Видимо, в камере, куда привели новенького, уже были готовы к появлению новичка: «блатной телеграф» — он покруче любой кремлевской «вертушки».
О каждом заключенном еще до того, как он попадает в камеру, узнают все или почти все: кем был на вольняшке, чем занимался, кто жена, сколько детей, к какой «масти» причисляется, если это блатной, водил ли дружбу с мусорами… Делается это, естественно, через самих же ментов-следователей: люди трудной и опасной службы за деньги или услуги могут пойти навстречу кому угодно, и подследственному прежде всего.
Такую предосторожность вполне можно понять: сука[9] на хате означает для арестантов гнулово, новые сроки и, возможно, аресты подельников, которые еще на воле.
Разумеется, на этой хате о Заводном знали многое — многое, если не все…
Ситуация требовала логического продолжения и потому Митрофанов, растянув рот в подобострастной улыбке, произнес неуверенно:
— Здравствуйте.
— Проходи, — поманил его пальцем невысокого роста мужчина, нестарый, с тяжелым, цепким взглядом, — давай ближе…
Торс невысокого был обнажен, и новенький, едва подняв взгляд, заметил: тело говорившего покрывают причудливые татуировки. Статуя Свободы на фоне тюремной решетки, выколотая на предплечье, многочисленные церковные купола на спине и груди, на плечах — густые гусарские эполеты; звезды на ключицах, изображение монаха, склонившегося над манускриптом…
Заводной послушно прошел к столу, он был готов отвечать на любые вопросы. Сидевшие за столом смотрели на вошедшего выжидательно, а обладатель загадочных татуировок продолжил допрос:
— Первоход?
Новенький непонятливо заморгал — видимо, не поняв значения термина.
— Что?
— Ну, и так понятно, что впервой в тюрьму попал, — покачал головой татуированный. — Ну, рассказывай братве, что и как.
Новичка усадили за стол, за которым восседали человек десять арестантов. Теперь густо татуированный замолчал, а слово взял высокий жилистый мужчина лет шестидесяти. Властно поджатые губы, тяжелый взгляд из-под лохматых бровей — все это выдавало в нем человека несомненно авторитетного, старшого камеры.
— Ну, давай, говори, — с показным интересом предложил он, — за что сюда попал? Какую статью шьют? Как на самом деле-то было? Как звать?
Новичок невольно поежился под тяжелым взглядом собеседника и, тяжело вздохнув, принялся рассказывать все по порядку: и о Сухареве, и о племяннице уважаемого вора, и о неизвестном, якобы таксисте, похитившем его, и о том, как их, вместе с уважаемым вором в законе Коттоном накрыла «контора» (Митрофанов, не знавший о «КР», был абсолютно убежден, что его задержание — дело рук ФСБ). Удивительно, но первоход не врал, не выгораживал себя — правда, излагал недавние события сообразно собственным представлению и пониманию.
Мужчина с косматыми бровями слушал внимательно, не перебивая — рассказ новенького выглядел на удивление правдивым.
Затем задал неожиданный вопрос:
— М-да, напорол ты, Заводной, косяков… Напорол… Бля буду. А еще какие косячки за тобой водятся?
— А что это такое? — Митрофанов недоуменно уставился на авторитета.
— В попку не балуешься? С мусорами дружбу не водишь? Друзей-приятелей никогда не сдавал?
Митрофанов, который до сих пор не мог прийти в себя от пережитого, к тому же — не понимавший, что после потребления дозы «русского оргазма» он стал чем-то вроде зомби, тряпичной куклой в чужих руках, не сознавал очевидного: участь его была решена, едва он переступил порог хаты. Допрос, рассказ, ритуальные на любой следственной хате вопросы о косячках — не более, чем импровизированная комедия, как-то разнообразившая тусклую жизнь подследственных. Ведь еще час назад на хату пришла персональная малява от смотрящего тюрьмы с подробными инструкциями по поводу дальнейшей судьбы негодяя.
— Да нет…
— Ты еще не сказал, статью какую шьют? — напомнил мужчина с косматыми бровями.
— Да не помню я. Номер какой-то вроде как назвали, да я не больно в этом разбираюсь, — откровенно сознался Митрофанов, мысленно моля Бога, чтобы этот допрос поскорей завершился.
Говоривший нехорошо прищурился.
— Ничего, вспомнишь, времени у тебя впереди до хрена. Только сдается мне, голубчик Заводной, что ты хотел законного вора набарать… Да и оскорбил его как — нехорошо, нехорошо…
Митрофанов был словно бы в прострации — он одновременно и понимал, что теперь с ним наверняка произойдет нечто ужасное и непоправимое, и не понимал этого. Слова глушились в затхлом воздухе камеры, словно в мокрой вате, и Заводной механически, будто марионетка, подчиненная воле невидимого кукловода, кивал даже после самых коварных и неожиданных вопросов.
— Так хотел? — возвысил голос старшой.
— Получается, что хотел… — эхом произнес Заводной. — Да ведь я человек маленький, шестерка… Мне сказали — я сделал.
Сидящие за столом после этих слов громко зашумели, и тот самый татуированный, который подозвал первохода к столу, произнес, обращаясь к старшому — безусловно, смотрящему камеры:
— Череп, наша хата не потерпит, чтобы какой-то паучина помоил честное имя вора, — на этих словах он оглянулся на нары в поисках поддержки, — хата требует прилепить этому акробату гребень и загнать его под шконку. Правильно я говорю, братва?
— В петушатник марамойку! — выкрикнули несколько голосов с нижних нар.
— Щас всем кагалом за щеку надаем, — уверенно произнес татуированный, медленно расстегивая штаны, — а потом — по полной программе…
Блатной суд справедлив, хотя, может быть, излишне суров: никакой тебе презумпции невиновности, никаких тебе адвокатов, никаких кассационных жалоб. Тут не помогут ни деньги, ни связи, ни мольбы о пощаде — жертва поняла это уже через несколько минут.
Сперва Митрофанова поставили на колени и насильно вставили в зубы доминошную кость, стертую от многочисленных прикосновений, потом самые сильные блатные заломили руки за спину, а остальные, кроме петушил, по очереди провели членом по губам. Некоторые из блатных, самые суровые судьи (они же и исполнители), самые резвые и сексуально озабоченные, онанировали прямо на лицо жертвы — спустя несколько минут лицо новенького было залито густой, застоявшейся спермой.
Но на этом его мучения не закончились; это было лишь начало…
Невидимые, но сильные руки крепко сжали Заводного в стальных объятиях; он и не пытался сопротивляться. Кусок мокрой простыни, свернутый жгутом, прочно связал ему запястья за спиной. Вывороченные назад руки, вздернутые словно на средневековой дыбе, были готовы выскочить из плечевых суставов.
Митрофанов даже не сопротивлялся — будто бы кто-то парализовал его волю. По его лицу, шее, груди били кулаками, брюки и нижние белье были разоравны на мелкие лоскуты в течение минуты. Неожиданно невидимые истязатели резко наклонили его вперед, раздвинув при этом ноги, и Заводной почувствовал в заднепроходном отверстии внезапную резкую боль.
Минут через пять обессиленное тело Заводного было закатано под нары ногами — Митрофанов сразу же потерял сознание.
…Он пришел в себя лишь к обеду: кто-то осторожно тронул его за плечо.
— Вставай, сестричка Манечка!..
Заводной с трудом разлепил набрякшие веки: на него смотрел женоподобный молодой мужчина — округлые движения, потухший взгляд, следы губной помады на толстых мясистых губах…
— Кто ты?
— Сестричка Леночка… Мы с тобой теперь под одной шконкой спим. А я на тебя, красавчик, как ты только вошел, сразу глаз положил, — сознался сестричка Леночка с приторными интонациями.
Новый «акробат» плохо осознавал, что с ним теперь происходит.
— Что такое?
— Там вертухай по твою душу пришел, — продолжал женоподобный, — говорит, чтобы собирался…
— Ну, долго я еще ждать буду? — послышался со стороны двери недовольный голос. — Подследственный Митрофанов, на выход с вещами!..
Ничего не понимающего Заводного повели по длинным коридорам к следователю.
Каково же было удивление потерявшего девственность первохода, когда следак объявил ему: гражданин Митрофанов выпускается из следственного изолятора под подписку о невыезде из города Москвы…
Не узнать этого человека было невозможно — он бросался в глаза своим начальственным экстерьером даже в центре столицы, где приезжих больше, чем москвичей, где все невесть куда спешат и никто ни на кого не обращает внимание. Природа будто заранее знала, кем станет этот седовласый мужчина к пятидесяти пяти годам, и отпустила ему и высокий рост, и горделивую осанку, и крупное лицо с резкими волевыми чертами, которые многие находили немного грубоватыми, но все равно мужественными.
Его нельзя было представить ни школьным учителем, ни инженером, ни даже директором самого солидного и престижного универмага. Ему суждено было стать Функционером — и он стал им.
Но теперь нетерпеливо поглядывая на часы, он, как рядовой гражданин, прохаживался вдоль Кропоткинской набережной Москвы-реки, в самом центре Москвы. Атлетического вида ребята с всемогущей Варварки, 5 многозначительно скучали метрах в десяти, внимательно поглядывая на проходящих поблизости обывателей, оценивая проезжавшие неподалеку машины. Еще одна машина стояла в стороне — ближе к Крымскому мосту. Рябину топтуны из наружки узнали сразу и, естественно, пропустили: как-никак, хотя «КР» и конкурирующая организация, но, как говорится, свои, буржуинские…
— Заставляешь ждать, — вместо приветствия резко бросил высокий кремлевский начальник.
Прежнего Рябину было не узнать: теперь на лице этого киборга можно было прочесть даже нечто человеческое — ожидание, испуг, извинительность… Да и вид начальника службы «КР» был необычен: вместо привычного темно-зеленого камуфляжа — строгий деловой костюм, сидевший на его обладателе откровенно мешковато; вместо высоких шнурованных ботинок на толстой тракторной подошве — дорогие модельные туфли.
— Раньше не мог, что ли? — болезненно скривился Функционер.
Рябина понял, что возражать не только бесполезно, но и опасно, и вопросительно посмотрел на собеседника — мол, виноват, что теперь скажете.
Функционер молчал — он смотрел на него как в перевернутый бинокль; так ученый-биолог рассматривает в микроскоп амебу.
Наконец, поняв, что молчание чересчур затянулось, произнес:
— Я внимательно прослушал так называемый компромат, который ты мне доставил. Ты что — не понимаешь, куда полез?
— Куда? — позволил себе задать естественный вопрос Рябина.
Каменное лицо кремлевского чиновника было бесстрастным, только крылья крупного носа подрагивали, как у разъяренного льва. Рябина придавленно молчал; увидь его тут кто-нибудь из подчиненных, наверняка бы подивился перемене, происшедшей с этим киборгом.
— Ты на кого его собирал? — скрипуче проговорил Функционер. — И вообще: ты на кого работаешь?
— Вы распорядились собирать всю информацию о Прокуроре, — изо всех сил стараясь выглядеть спокойным, ответил Рябина.
— Ага… Стало быть, когда я слушаю перечень людей, которые якобы вложили деньги в какой-то сомнительный проект, связанный с наркотиками, то должен этому верить? Так получается? — ярился Функционер. — И когда в этом перечне моя фамилия называется первой… Я должен верить, что это правда?! Ты что — с ним в сговоре?
— Я записывал все, что Прокурор говорил на базе, — оправдывался Рябина.
— Херню ты записал! — неожиданно закричал высокопоставленный собеседник. — Клевета, поклеп, нелепые инсинуации! Что — получается, будто бы я на старости лет с наркотиками связался? Прокурор, сволочь, клеветал на меня, дискредитировать хотел… А ты, как последний идиот, купился… Да еще мне притащил.
Два молодых человека, по виду — студенты, заинтересованно остановились, услышав раскатистый баритон, который они не раз и не два слышали по телевизору. Охранник, который был поближе, быстрым шагом направился к ним, грудью перекрывая путь к хозяину. Ребята пожали плечами и пошагали своей дорогой, оглядываясь на удивительно знакомого человека.
Функционер ничего этого не заметил, только впился крепкими пальцами в парапет.
— Ты вообще понимаешь, что наделал?
— Ведь я не мог это подделать, — продолжал Рябина, не чувствуя за собой вины, — аппаратура записала все, что говорилось, и я… — он не успел досказать, потому что вновь был перебит:
— Кто-нибудь еще слышал эти записи?
— Не-ет… — ответил начальник базы «КР» немного неуверенно.
— А кто их расшифровывал?
— Я сам. Ведь вы сами не раз говорили о полной конфиденциальности.
— Копии есть?
— Нет. Все в единственном экземпляре передано вам.
— Кому ты о них говорил?
— Никому.
— Хоть это радует…
Функционер отвернулся, встал лицом к Москве-реке и тяжело, будто бросая в воду булыжники, заговорил:
— Я думал, ты умней. А ты оказался идиотом. Эти записи — камень на мою шею. Если этот поклеп, не дай Бог, станет известен журналистам — не страшно. Можно будет и откупиться. Но если, не дай Бог, там… — он коротко кивнул в сторону кремлевских башен, рубиновые звезды над которыми кроваво светились в лазурной голубизне неба. — Ты понимаешь, чем это грозит?
Рябина вяло сглотнул слюну — глазки цвета марганцовки погасли, потускнели, словно бы аккумулятор, от которых они работали, разрядился.
— Чем? — он все-таки нашел в себе силы задать этот вопрос.
— Тем, что я тебя следом за собой потащу, — зло ответил Функционер. — Ты крайним будешь. Мне — поверят, тебе — ни за что. Зараза — и перемонтировать ничего нельзя… Ладно, хрен с ним, с проектом, хрен с ними, с деньгами… Хотя я и тут повоюю. Так ведь теперь недолго и со своего места полететь.
— Простите, но я исполнял ваш приказ. Я делал, что мог. Я не виноват, что Прокурор сказал именно то, что попало на пленки.
Высокопоставленный собеседник молчал — долго и страшно. Желваки рельефно играли под сероватой, пористой кожей; глубоко посаженные глазки, не мигая, смотрели в сторону Крымского моста. Видимо, сейчас в нем вызревал подробный план дальнейших действий.
— Ладно, — неожиданно смягчился он, — я немного погорячился. Ты тщательно проделал свою работу и справился с заданием. Ты действительно ни в чем не виноват. Тут нет виноватых. Тут все правы.
Рябина взглянул на Функционера выжидательно — мол, коли так, то как же…
— Ты будешь переведен в другое место, — словно бы комментируя ход мысли собеседника, произнес чиновник. — Должность начальника охраны нашего консульства в Нью-Йорке, надеюсь, тебе подойдет? Ну, и кроме того, как договаривались…
Будь на месте Рябины другой человек, он бы насторожился столь быстрой перемене настроения и интонаций, но киборг слишком логичен, чтобы придавать этому значение. Формальная логика, знаковая система, аудио и видеосигнал — современный терминатор не способен разобраться в игре полутонов и оттенков…
— Большое спасибо, — кратко ответил он, удерживаясь, чтобы не отчеканить по старой привычке «Служу Советскому Союзу!»
— Через три дня встретимся и тогда обговорим частности, — наконец-то Функционер изобразил на лице улыбку, похожую, скорей, на гримасу резиновой куклы. — Ну, всего хорошего…
Они коротко пожали друг другу руки, и высокопоставленный чиновник направился в сторону своей машины.
Один из топтунов услужливо открыл дверцу лимузина — Функционер махнул на прощание Рябине рукой, и машины тронулись.
Начальник базы «КР» лишь проводил кортеж взглядом. Затем вздохнув, двинулся в сторону от набережной. Он шел тихим московским двориком, рассеянно глядя по сторонам. Двое пенсионеров на лавочке, несколько мам с разноцветно одетыми ребятишками вдали, улица с каким-то вялым, несмотря на центр Москвы, движением.
Все дышало спокойствием, ничего не предвещало неприятностей, да и откуда им взяться?
Рябина уселся в машину, захлопнул дверь, сунул ключ в замок зажигания, еще немного подождал, не размышляя ни о чем.
Затем повернул ключ…
Сидевший за рулем успел лишь услышать звук провернувшегося стартера — в то же мгновение из окон ближайшего дома со звоном вылетело несколько стекол. Пенсионеры вместе со скамейкой оказались опрокинутыми на пыльный газон, мамы истошно завизжали и бросились поднимать детей, сбитых взрывной волной.
А после взрыва на дворик снова опустилась тишина, которую нарушали разве что крики потревоженных галок, тихий треск горящего УАЗика да еще почти неслышный звук осыпавшейся листвы…
Глава двадцать четвертая
Черная БМВ с непроницаемо тонированными стеклами, свернув с Гастелло на улицу Матросская Тишина, остановилась у обочины. Лютый, хлопнув дверцей, направился в сторону известного в Москве следственного изолятора. Он уже знал — минут через двадцать подследственный Митрофанов должен покинуть тюремные стены под подписку о невыезде.
Заводной не заставил себя долго ждать — минут через пятнадцать после появления рядом с тюрьмой антрацитно-черной БМВ нелепая фигурка в лохмотьях, распугивая своим видом многочисленных посетителей, пришедших в СИЗО с передачами к родным и близким, уже медленно пересекала улицу. Походка Митрофанова выглядела несколько странной — она была неестественно скованной и зажатой.
Московский бомж-нищий, наверняка сидевший, заметив явного конкурента, пробормотал по адресу сексуальных меньшинств какое-то замысловатое ругательство и смачно плюнул в его сторону. Мент, стоявший неподалеку, удивленно проводил странного оборванца взглядом и, подумав, достал рацию и что-то произнес.
Спустя минут пять недавний узник следственного изолятора уже сидел в кожаном салоне БМВ. От Заводного остро несло козлом, и это заставляло Нечаева то и дело брезгливо морщиться. Но выбирать не приходилось: слишком многое было теперь поставлено на карту…
Митрофанов выглядел совершенно отрешенным — казалось, он даже не узнал Лютого, с которого и начались его злоключения. Отсутствующий взгляд, вялые движения, красный слюнявый рот — короче говоря, полная прострация.
Лютый, отъехав на несколько кварталов, остановился вновь и, достав из-под сидения прозрачный пластиковый баллон с мутноватой розовой жидкостью, протянул его пассажиру; это была загодя приготовленная ударная порция «русского оргазма».
— Выпей, освежись, — последовала команда. — Замотался, небось, на хате… крыльями махать, — поняв, что он не ошибся, Нечаев продолжил многозначительно: — Ничего, ничего, от этого еще никто не беременел… Давай, пей быстрей, освежайся.
Митрофанов не стал прекословить — механически свинтил пробку, послушно припал тонкими фиолетовыми бескровными губами к горлышку, и острый волосатый кадык быстро заходил под подбородком.
— А теперь слушай меня внимательно, — веско произнес сидевший за рулем, с трудом выдирая из грязных рук пассажира ополовиненную бутылку. — Отныне ты будешь выполнять мои команды.
Глаза Заводного словно бы маслом подернулись, на бледном лице заиграла тихая, блаженная улыбка; по всему было заметно, что этот человек испытывает внезапный приступ настоящего счастья.
— Ты понял? — в голосе Нечаева зазвучали металлические нотки.
— Понял… — эхом ответил тот.
Мягко заурчал мотор — машина, медленно тронувшись, покатила через Сокольники в сторону кольцевой автодороги, на базу «КР»: там с самого утра ожидали и Лютого, и его пассажира…
Врач спецслужбы «КР», маленький, толстенький мужчина в белом халате чем-то неуловимо напоминал жука: то ли полами белого халата, вздымавшегося при каждом его движении, точно крылья, то ли жесткими, топорщившимися усиками. Он взял со столика шприц, набрал из ампулы обезболивающее, выпустил воздух, вколол за ухо пациенту — Заводной лишь вяло поморщился: при этом блаженная улыбка продолжала блуждать по его лицу.
— Стрижка у него слишком короткая, заметно будет, — прикидывал Лютый, стоя рядом с Митрофановым и следя за манипуляциями доктора.
— Микрофон миниатюрный, я за ухо под кожу вошью и под небольшую опухоль замаскирую, — бросил врач, и по его тону Нечаев догадался, что подобные вещи тому уже приходилось делать не раз.
Лютый взял микрофончик — небольшая круглая таблеточка, не больше элемента электронных часов, только немного тоньше. Он уже знал, что микрофончик одноразовый, и хватит его не больше, чем на трое суток. Минус — сутки на первичное заживление. Значит, за оставшиеся двое суток надо будет успеть все, что он наметил.
А наметил он многое…
Как ни странно, но главная роль в задании Прокурора отводилась именно Митрофанову. Зомби, тряпичная кукла, марионетка в чужих руках, но в то же время — человек, вхожий к Сухареву. Теперь, вспоминая тот заброшенный ДОТ в лесу, где Заводной был подсажен на «русский оргазм», Максим лишь довольно улыбался — после операции Нечаев получал в руки настоящую радиоуправляемую бомбу; микрофончик и вживлялся за ухо с тем расчетом, чтобы координировать действия послушного ему Митрофанова на расстоянии.
— При воспроизведении не будет мешать? — Максим имел в виду кожу и пластырь.
— Не должно, — категорически заверил хирург, откладывая в сторону окровавленный скальпель, — слышно будет только ему. Черепная коробка выполняет роль своеобразного резонатора. И дальность приличная — до трех километров.
Напоминающий жука врач продезинфицировал металлическую таблетку спиртом и вставил ее в аккуратный надрез за ухом, после чего наложил скобу, смазав рану какой-то заживляющей мазью.
— Через сутки можете получать, — хмыкнул он, накладывая пластырь. — Ничего, не помрет…
Черная БМВ с тонкой антенной на крыше неслась по Калужскому шоссе.
Лютый сосредоточенно следил за дорогой; пассажир безучастно смотрел впереди себя. Иногда водитель бросал на него короткие взгляды — в профиль ранки за ухом не было заметно. Впрочем, небольшое утолщение на коже, скрытое пластырем, можно было принять за обыкновенную опухоль; вряд ли бы она вызвала подозрения Сухого.
Подозрения могло вызвать другое: поведение Митрофанова. Сухарев, видевший воздействие даже небольшой дозы «русского оргазма» на Наташу Найденко, наверняка мог бы заподозрить что-нибудь неладное: невпопад сказанное слово, неуместный жест, а особенно — неестественно счастливое выражение лица — все это могло бы вызвать подозрение… Такие вещи скрыть невозможно, а тем более — от опытного Сухого, который прекрасно знал, на что способна и на что неспособна его шестерка.
Неожиданно зазвонил сотовый телефон — Максим торопливо извлек из нагрудного кармана черную коробочку, щелкнул кнопкой.
— Алло…
Звонил Прокурор — естественно, он был в курсе планов Лютого. Конечно же, он не совсем верил в успех — план Нечаева выглядел чересчур смело, чтобы не сказать — фантастично. Но ведь и требования Прокурора выглядели не менее смелыми…
Новости были следующие: сегодня днем во дворике одного из домов по Кропоткинской набережной была взорвана машина — труп водителя идентифицировали, им оказался Рябина.
— Этого и следовало ожидать, — подытожил Прокурор — в голосе его послышалось плохо скрываемое злорадство. — Умным захотел быть, не по зубам кусок заглотил… Его просто убрали, как лишнего свидетеля.
— Кто убрал?
Прокурор многозначительно промолчал, и по этому молчанию Нечаев понял, что спросил лишнее.
— А Коттон? — поинтересовался Лютый, обгоняя грузовик.
— Его местонахождение уже известно, — спокойно ответил звонивший. — Там двое людей Рябины, они еще ничего не знают. Людей этих придется ликвидировать — они владеют слишком серьезной информацией. А Найденко просто объяснят, что он стал жертвой внутриклановых бандитских разборок…
— Бандитских? — сидевший за рулем даже не скрывал иронии, вкладывая в это понятие достаточно прозрачный подтекст.
— Тем более, что о «КР» ему ничего неизвестно, — кремлевский абонент начисто проигнорировал иронию собеседника. — Для приличия продержат в изоляторе временного содержания несколько часов, и выпустят — у РУОПа на Алексея Николаевича ничего нет.
— А как же деньги? — Нечаев не сомневался, что теперь Прокурор так просто не слезет с вора.
— А это уже не ваша забота, — возразил Прокурор с едва заметным раздражением, и Лютый понял, что зря задал этот вопрос. — Занимайтесь Сухаревым…
Замелькали синие указатели — до городка, где теперь сидел Сухарев, оставалось не более пятнадцати километров…
На бесцветном, словно выгоревшая на солнце солдатская гимнастерка, небе не было ни облачка. Легкий ветер со стороны недалекой речки едва шевелил ветви деревьев, навевая на немногочисленных жителей этого захолустного городишки скуку и лень.
И лишь одному человеку во всем городке было не до отдыха…
Сухой тонул — он ощущал это явственно, отчетливо, но никто не мог бросить ему спасательный круг. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих — общеизвестная и непреложная истина.
Вот сейчас, сейчас — еще несколько конвульсивных движений, несколько попыток выплыть наверх, и конец — в легкие натечет холодная зловонная вода, и потянет ко дну, и над головой сомкнутся сферические круги…
Блестящий многоходовый план, который был им задуман и почти доведен до логического завершения, рушился, как ветхая хибара под напором урагана.
Отправляя Заводного к Найденко парламентарием, Сухарев надеялся договориться. У него было все — технологический пакет по производству «русского оргазма», купленный на корню городок, который он надеялся превратить в некое подобие боярской вотчины, сбытчики и потенциальные потребители розового порошка. Не было только денег — огромных, фантастических сумм, необходимых для того, чтобы начать завоевывать рынок.
Тогда, в Польше, офицер Службы Бясьпеки пан Анжей провел его, как младенца. Поляки с удовольствием ликвидировали заводик в Малкиня, но затем непонятно почему наехали на «Таир», фирму-посредник, через которую неизвестные, но влиятельные люди Москвы передавали сто лимонов баксов наличкой. Поляки деньги не взяли — наверняка побоялись связываться с Кремлем (а то чьи же это деньги?!), тем более, что на опломбированных ящиках с валютой стоял гриф «Российская Федерация. Посольство в Варшаве. Дипломатическая почта». Назад, к вкладчикам деньги не вернулись — Сухарев выяснил это по своим каналам. Стало быть, СБ вошло в контакт не только с ним, но и с его соперником, завязанным на проект с другой стороны.
Он, Сухарев, нанес несколько отличных упреждающих ударов: сперва похитил племянницу Коттона, а затем перестрелял большинство влиятельных московских бандитов; о кровавой бойне в дорогом ресторане центра столицы вспоминали до сих пор.
Первое имело целью грубо и нагло шантажировать любящего дядю (мол, вкладывай деньги в проект, а там как-нибудь поделим); второе — насмерть запугать оставшихся в живых врагов плюс — переадресовать на себя доходы с тех богатеньких бизнесменов, которым покойные ставили «крышу». Второй вариант был запасным, если все-таки Коттон не согласится (в это верилось слабо), можно было попытаться вложить в проект лавье подконтрольных ныне трастовых компаний, банков и фирм.
Первое не сработало; Заводной вместе с видеокассетой, которая должна была поставить влиятельного вора на колени, исчез.
Оставалось второе — но для того, чтобы собрать такую огромную сумму, требовалось время, и немалое. Да и тут могли возникнуть непредвиденные сложности.
А тогда пришлось бы начинать по-новому, едва ли не с нуля; время, как известно, конвертируется в деньги и никогда — наоборот. Зачем же было покупать этот паршивый городок, зачем было вкладывать кучу лавья в будущее производство?! Получалось, что огромная машина, созданная им под «русский оргазм», уже работала, но вхолостую. А это означало, что деньги оказались замороженными — стало быть, хозяин нес огромные убытки.
Убытки, потеря прибыли — слова, которые как никакие другие создают ощущение сродни тому, которое бывает, когда идешь ко дну.
Авторитет, по своему обыкновению, сидел в раскладном шезлонге, рядом со входом в коттедж. Настроение было мрачно-решительным, и об этом свидетельствовало все: и отсутствующий взгляд, и налитые кровью глаза, и нервные движения, которыми он вертел на пальце любимый перстень с булыжным бриллиантом…
Даже не обернувшись, он резко бросил своему охраннику-«быку» — огромной низколобой горилле с руками ниже колен:
— Как Заводной нарисуется — ко мне сразу. — В глубине души он еще надеялся, что Митрофанов все-таки объявится.
— Му-гум, — привычно промычала горилла.
— Вы ему в Москву звонили?
— Да и звонили, и Штука пацанов посылал, и все накидки прокачали: нигде нет, — невозмутимо отвечал телохранитель. — Как сквозь землю…
— М-да, — скривился Сухарев. — Связался на свою голову с идиотом.
Авторитет, лениво взяв со столика стакан, протянул руку: наученный качок-телохранитель плеснул туда апельсинового сока.
— Жарко сегодня, — Сухой пил жадно, и желтая жидкость стекала у него по подбородку.
Гориллообразный качок понял это как просьбу добавить и вновь потянулся за пакетом с соком — Сухарев вальяжно протянул стакан и поднял голову…
Густой апельсиновый сок стекал по пальцам, натекал в кроссовки, но ни он, ни охранник, инстинктивно повернувший голову по направлению взгляда хозяина, не замечали этого.
Перед витой чугунной калиткой стоял Митрофанов…
Глава двадцать пятая
— …Это что, я не понял — в «Маски-шоу» появился новый актер? — удивленно произнес Сухарев вместо приветствия, даже не протягивая визитеру руки. — Ты чо это — клоуном решил заделаться? Где ты был — в цирк на Цветном бульваре записывался?
Митрофанов действовал словно бы заведенный — теперь погоняло Заводной соответствовало ему в полной мере. Мутные глаза, отсутствующий взгляд, пугающий автоматизм движений, кровоподтек под глазом, отливающий синевой, пластырь за ухом…
Трудно было вообразить образ более жалкий и нелепый.
Сухой еще раз критически осмотрел осунувшуюся физиономию своего порученца. Правда, теперь Митрофанов был уже не в лохмотьях: на загородной базе «КР» недавнего арестанта переодели, отмыли и причесали, но вид Заводного свидетельствовал красноречивей всяких слов: в Москве с ним произошло нечто ужасное. Во всяком случае, босс понял это сразу же, с первого взгляда.
Оставив гориллу на солнцепеке, он коротко кивнул Митрофанову в сторону открытой двери коттеджа:
— Пошли.
Заводной послушно поплелся следом.
Они прошли на второй этаж, уселись за стол — Сухой, вальяжно положив ноги на сиденье стоявшего напротив стула, произнес серьезно:
— А теперь рассказывай…
— Что рассказывать?
— Где был?
— «Контора» меня замела, — вздохнул Митрофанов. — Или РУОП… Наверное, все-таки РУОП. Хрен их там разберет, кто.
Перед тем, как направить Митрофанова сюда, Лютый раз пятьдесят повторял пленнику его легенду — повторял ее до тех пор, пока сам едва не поверил в ее правдивость. Зато в том, что в нее вжился этот зомби, сомневаться не приходилось; «русский оргазм», умело дозированный во время многочисленных репетиций, превратил Заводного в подобие знаменитой подопытной собаки великого русского ученого-физиолога Павлова; условный и безусловный рефлексы, первая сигнальная система, вторая сигнальная система…
Да, Митрофанов встретился с Коттоном. Да, беседа получилась тяжелой и неприятной для обоих. Но зато они договорились…
— Давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо подгонял Сухарев.
Порученец, проглотив набежавшую слюну, принялся подробно, со всеми частностями, излагать события, которых не было, но в которые он, тем не менее, верил.
Его разговор с Коттоном сперва, естественно, не клеился: этот татуированный урка встал в амбицию, принялся гнуть пальцы, начал стращать; особенно тогда, когда увидел видеозапись своей любимой племянницы. Этот расписной вообще какой-то сумасшедший — драться полез, даже по физиономии стукнул, грозился самыми страшными карами. Затем, вроде бы, смягчился: понял, что у него нет иного выхода.
— Я тебя для чего посылал — чтобы ты с ним встретился и по возможности сюда привез, — резко перебил Сухой говорившего.
— Он сказал, что хочет с тобой один на один тереть, — обреченно ответил Заводной.
— То есть — попросил время на размышления, так, что ли?
— Угу, — пластырь за ухом неслышно завибрировал, и неожиданно для собеседника Заводной произнес голосом ученого скворца: — Там, в Москве, с нами еще накладочка вышла. Так бы раньше получилось. Коттон сказал, что сегодня вечером будет ждать тебя тут, неподалеку…
Глазки Сухого хищно блеснули.
— Сам прикатит?
— Да
— Сюда?
— Да.
— Один?
Собеседник замялся.
— Этого он не говорил… Говорил лишь то, что хочет переговорить с тобой с глазу на глаз. Тогда и решит — согласиться на твои условия или нет.
— М-да… — Сухарев привычно повертел на пальце любимый перстень с бриллиантом, — короче, из тебя парламентер, как из моего хера — государственный адвокат. Встанет и молчит. Так когда сегодня?
— В семь вечера, — пробормотал Митрофанов. — Говорит, чтобы ты один подъехал, без пацанов. Он тоже один подъедет.
— М-да, я подкачу, а он меня, на хрен, со своими урками расписными и завалит, — предела недоверчивости Сухого не было границ. — Знаю я их. Где он хоть стрелку забил?
Заводной сказал — место предполагаемой встречи с паханом было неподалеку, как раз на развилке дорог.
Сухарев задумался…
С одной стороны, это походило на явную подставу. С другой, если верить Митрофанову, Коттон также собирался подъехать один. Стало быть, можно было захватить старика без лишнего шума, завести сюда, а тут бы из него вытрясли все — или номера счетов, если деньги в банке, или местонахождение тайника с наличкой, если Найденко решил это лавье не светить. Ну, а потом, что и говорить — и душу…
— А в РУОП как попал? Или кто, говоришь, тебя взял там?
— Они коттоновского водилу пасли — вроде бы, в розыске тот. Мы в тачке сидели — ну, псы налетели, нас похватали и… к себе повезли. Нас с Коттоном допросили и выпустили, а того оставили.
— А глазом на кого наделся?
— Да прессанули немного, — тяжело вздохнул рассказчик.
Митрофанов запнулся, поправил пластырь и словно бы отъехал в другое измерение.
Внешне все это выглядело весьма правдоподобно, но Сухой решил на всякий случай проверить. Взял со стола сотовый телефон, набрал какой-то московский номер и, дождавшись, когда с той стороны возьмут трубку, бросил, даже не приветствуя абонента:
— Так, это я. Надо пробить такую вещь… В РУОП забирали двоих — Митрофанова и Найденко? — обернувшись к Заводному и легонько ткнув его в плечо, он спросил: — Когда это было?
— Три дня назад, — произнес тот будто бы чужим голосом.
— Три дня назад… Что значит, какого числа? Сам и посчитай — за что я тебе лавье отстегиваю. До того как генералом стать, небось, в школе учился. Сколько тебе времени нужно, чтоб это проверить? Всего? Ну, давай, давай… Звякнешь.
Невидимый, но, судя по всему очень влиятельный человек, несомненно — из правоохранительных органов, побеспокоил авторитета своим звонком через двадцать минут: столько времени заняло у него наведение справок.
Да, все сходилось — по документам РУОП, граждане Митрофанов и Найденко действительно задерживались, но вскоре были отпущены за отсутствием улик. А вот хозяин автомобиля, в котором находился гражданин Найденко, водворен в следственный изолятор.
(Лютый, тщательно готовивший легенду Заводного, позаботился о том, чтобы несуществующие подробности были документально зафиксированы.)
— Поня-ятно… — Сухарев положил трубку и задумался; глубокая продольная морщина перерезала его лоб.
Он размышлял долго — минут десять, не обращая внимания на недавнего собеседника. Привычно вертел на пальце золотой перстень, пучил в пространство рачьи глазки…
— Зама-анчиво…
— Что? — не понял Митрофанов.
— Да это я так…
Наконец, взяв трубку сотового телефона, решительно вдавил кнопки.
— Алло, Штука? Сейчас же все бросай, чтобы через два часа был тут. Возьми с собой две машины с пацанами, дело очень серьезное. Да. Сейчас два часа — чтобы к четырем часам тут был.
До предполагаемой встречи с Алексеем Николаевичем Найденко оставалось ровно пять часов…
Лес, начинавшийся сразу же на краю городка, был полон июльским солнцем — ярким, но каким-то прозрачным. Иногда с верхушек осин и берез падали мелкие желтые листочки, вестники скорой осени.
Лютому было не до красот природы — сидя в салоне автомобиля, он слушал разговор Сухарева с Заводным, боясь пропустить хотя бы одно слово. У Митрофанова было два скрытых микрофончика: один, вшитый за ухом, работал на прием, а другой, замаскированный под пуговицу — на воспроизведение. Это-то и позволяло корректировать слова Заводного — подсказывать, поправлять…
Поправив наушники, Лютый услышал знакомый голос — наглый, с хозяйскими интонациями:
«Сам сюда прикатит?»
«Да». — Заводной говорил односложными, рублеными фразами.
«Один?»
«Этого он не говорил… Говорил лишь то, что хочет переговорить с тобой с глазу на глаз. Тогда и решит — согласиться на твои условия или нет».
Недавний узник «Матросской тишины» говорил складно и вроде бы убедительно — Нечаев почти не подсказывал ему, хотя микрофон для корректировки, прикрепленный к наушникам, был включен.
Лютый и сам не до конца верил в успех: слишком уж недоверчивым был босс самой крутой московской группировки.
Максим успокоился лишь тогда, когда в наушниках прохрипел до омерзения узнаваемый голос:
«Алло, Штука? Сейчас же все бросай, чтобы через два часа был тут. Возьми с собой две машины с пацанами, дело очень серьезное. Да. Сейчас два часа — чтобы к четырем часам тут был».
— Купился-таки… — довольно пробормотал Нечаев, сдирая с головы наушники, и понял отчетливо: теперь все зависело только от него самого…
Взвесив все «за» и «против», Сухарев принял предложение. Впрочем, на шоссе, в нескольких сотнях метрах от места встречи, дежурило на скоростной машине первое звено его «быков» — оно перерезало проезд в сторону столицы. Другое, на такой же машине, отрезало возможное бегство противника в сторону Калуги. Так что и за свою безопасность, и за возможные последствия «терки» с глазу на глаз можно было не беспокоится. Согласится — хорошо, не согласится — еще лучше. Силком возьмут…
Синий «понтиак», сверкнув в лучах заходящего солнца хромированными деталями, остановился на обочине. Сухой, выйдя из машины, осмотрелся — из лесу уже выезжала черная БМВ (Митрофанов передал, что старик появится лишь тогда, когда убедится, что тот прибыл один). Стекла «бимера» были тонированы и потому разобрать, кто сидел за рулем, сколько человек приехало в машине и вообще — тут ли Коттон, было невозможно.
Напустив на себя вид человека, оторвавшегося от важного дела ради пустяков, как и положено авторитету его калибра, Сухарев шагнул вперед. «Бимер» остановился, не доезжая до его машины метров десять и два раза коротко мигнул фарами — мол, подойди поближе.
Сухой смело пошел навстречу — сквозь лобовое стекло он заметил водителя; лицо его показалось знакомым, но владелец «понтиака» даже не задумался — где он мог видеть этого человека…
Чего ему тут, в собственной вотчине, опасаться?!
Однако дальнейшие события показали, что опасаться, несмотря на все принятые меры предосторожности, все-таки следовало: едва авторитет поровнялся с водительской дверкой, та резко открылась — несмотря на свое дородство, Сухарев потерял равновесие, вмиг оказавшись на пыльной обочине. Спустя несколько секунд водитель уже крутил ему руки, а еще через мгновение на широких запястьях авторитета щелкнули наручники.
Как ни странно, но Сухой даже не успел удивиться — когда водитель БМВ перевернул его на спину, он лишь произнес:
— Ну, ты себя приговорил… — однако узнав Лютого, того самого оперативника из расформированного «13 отдела», посмотрел на него немного оторопело.
А Лютый уже тащил упиравшегося Сухого в салон.
— Почему это приговорил? — спросил он деловито, доставая из-под сидения прозрачный двухлитровый баллон из-под кока-колы; в нем бултыхалась какая-то розоватая жидкость.
— Шоссе блокировано, зяблик… Да мои пацаны тебя в клочья порвут. И твоего Коттона — тоже. Подставу придумали… Ну, придурки!
Почему-то Сухарев решил, что этот странный тип — то ли из «конторы», то ли не из «конторы» связан с вором в законе.
— Коттон такой же мой, как и твой, — спокойно парировал Лютый. — Ты, Сухой, ошибся. Наверное, на солнце перегрелся. На вот, хлебни, остудись…
С трудом разжав рот Сухарева, Максим принялся насильно вливать в его глотку содержимое баллона. Тот хрипел, вертел головой — розоватая жидкость текла по жирному подбородку, но Нечаев, зажав противнику нос, заставил выпить все, что было в баллоне.
Уселся у заднего колеса, закурил, ожидая, пока «русский оргазм» зацепит Сухого; тот некоторое время ругался, грозился, но как-то вяло, неубедительно, словно по инерции, а потом как-то быстро затих.
В руках Лютого появилась небольшая черная коробочка с толстым отростком антенны.
— А теперь скажи номер своих пацанов, — вкрадчиво попросил он, заглядывая в глаза уже неопасного противника — удивительно, но за такое короткое время они сделались совершенно пустыми.
Сухой послушно назвал оба номера. Набирая первый, Нечаев приказал:
— Сейчас я поднесу телефон к твоему поганому хавалу. Скажешь, чтобы на твою новую дачу катили. Мол, с Коттоном вы скорефанились на веки вечные и решили отметить это дело в кабаке. Ну!..
Когда это распоряжение было выполнено (пленник отдавал команды механически, будто бы в сомнамбулическом сне), Нечаев, положив телефон в карман, произнес:
— Хотел людей на эту заразу подсадить… Да? Знаешь, Сухой, есть такая пословица, очень умная, кстати: не рой яму другому… А знаешь, как дальше?!.
Спустя несколько часов Сухой уже сидел на загородной базе «КР». Две видеокамеры, укрепленные на штативах, фиксировали каждое его слово.
Прокурор, весь какой-то серый, словно жеваный, задавал вопросы — мягко, вкрадчиво, будто бы не допрашивал авторитета, а вел с ним откровенную, дружескую беседу.
Допрос занял четыре с половиной часа — кремлевский чиновник освободился лишь под утро. Выглядел он уставшим, но довольным.
— Препарата у меня больше нет, — произнес Лютый, перехватав его взгляд.
— Думаю, что его больше вообще никогда ни у кого не будет, — улыбнулся Прокурор. — Только что наши ребята захватили сухаревскую виллу. Записанные на дискеты формулы, описание технологических процессов, несколько пакетов «русского оргазма» — все это хранилось в сейфе.
— А как же Наташа? — перебил Максим нетерпеливо.
— Освободили вашу Наташу, — покачал головой Прокурор. — Отправили к дяде. Может быть, это и к худшему. Вряд ли она его узнает… — он поправил то и дело сползающие с переносицы очки и неожиданно произнес: — Максим Александрович, я не хочу, чтобы вы принимали меня не за того, кто я на самом деле есть. Прошу во дворик… Если вас не затруднит — найдите в гараже металлическое ведерко и наберите в него немного бензина.
Конечно же, Лютого нимало удивила такая просьба, но возражать не приходилось.
Через несколько минут они стояли на хозяйственном дворике. Прокурор, присев на корточки у цинкового ведра, опустил руку в карман — через секунду в бензин плюхнулось несколько десятков пакетиков с розоватым порошком и десятка три дискет.
— Простите… У вас есть зажигалка?
Пошарив по карманам, Нечаев, уже догадавшийся обо всем, медленно протянул ему спички…
Вспыхнула сера, спичка полетела в ведро, и через мгновение на лица мужчин упали огненные тени. Пластмассовые дискеты с описанием технологий и формулами, пакетики с розоватым порошком — все это безвозвратно исчезло…
— Вот и все. Вот и нет больше этой отравы, — вздохнул Прокурор и неожиданно добавил: — Управлять людьми можно не только при помощи этой отравы. Глупо, пошло, примитивно. Сценарист пишет пьесу, режиссер ставит спектакль, актеры играют загодя отведенные им роли, произносят придуманные другими слова, даже не подозревая об этом. Управление людьми — высшее из искусств лишь в том случае, если люди не догадываются, что ими управляют. Кому, как не вам понимать это, Максим Александрович!..
Глава двадцать шестая
Над землей медленно, незаметно и неотвратимо сгущались липкие, как запекшаяся кровь, сумерки. В чернильно-черном небе тревожно полыхали зарницы, и отблески их отражались на коричневом глянце стеклопакетов небольшого, но дорогого подмосковного ресторанчика.
Совсем иная атмосфера царила за этими непроницаемо-коричневыми стеклами: атмосфера спокойствия, уверенности и себялюбивого комфорта. Необъятный зеленый бильярд со свисающим над ним низким абажуром, стол с изысканной выпивкой и разнообразной закуской, негромко звучащая музыка…
За столом сидело пятеро, они перебрасывались ни к чему не обязывающими фразами, шутили. Сотрапезники производили впечатление людей, отлично знавших, для чего они тут собрались, но по непонятно каким причинам откладывающих самое главное на потом.
Председательствовал невысокий, кряжистый мужчина, лет сорока — бритая яйцеобразная голова, мосластые руки, тяжелый взгляд, выщербленные мелкие зубы, эдакий Соловей-разбойник. Сидевший слева производил куда более приятное впечатление: открытое, еще молодое лицо с постоянной, будто бы приклеенной полуулыбкой, прямой тонкий нос, русые вьющиеся волосы — весь его облик почему-то невольно воскрешал в памяти иллюстрации к романам из жизни российского купечества. Двое других, напротив председателя, были явными кавказцами: острые горбатые носы, глубоко посаженные черные глаза, горящие углями, волосатые руки; сросшиеся черные брови кавказцев делали их неуловимо похожими друг на друга — особенно теперь, в липкой полутьме. Ну, а восседавшим справа от председателя почтенной компании был никто иной, как Алексей Николаевич Найденко, уважаемый вор в законе Коттон.
Повод, ради которого в подмосковном ресторанчике собралась почтенная воровская сходка, был более чем серьезен: старый пахан сообщил, что хочет завязать, навсегда уйти на покой. И не уважить такого человека было невозможно.
Ненавязчивая предупредительность и неподдельное уважение друг к другу, царившее за столиком, невольно наводило на мысль: люди, собравшиеся тут, знакомы между собой не первый год, они доверяют друг другу так же, как и себе, взаимно чтут заслуги других перед воровским сообществом; от таких, как эти — не то, что косяка, мелкого рамса ожидать невозможно.
— Ну что, Крапленый, — улыбнулся русоволосый, — давай за Леху…
Его рука потянулась к бутыли «Пшеничной» — спустя минуту, когда стопочки собравшихся были наполнены, мужчина с яйцеобразной головой, отзывавшийся на погоняло Крапленый, неожиданно поднялся со своего места и, держа стопарик на весу, предложил:
— Не каждый день мы провожаем вора на покой… А уж тем более такого, как Леха. Хочу выпить за тебя, Коттон. Жизнь ты провел тяжелую, но правильную. Воровская судьба — злодейка, но ты сам выбрал свой крест и никогда не жаловался на жизнь. Сколько тебя помню — никаких косяков, никакого сучества не видел. С первой же ходки правильно себя поставил, на второй — короновали тебя на вора, а на третьей, на чудной планете Колыме, ты смотрящим был. И те пацаны, что на твоей зоне сидели, о тебе только хорошее слово говорили. Если бы все были такими, как ты… — не найдя подходящего сравнения, Крапленый чокнулся сперва с вором — бережно, словно боялся разбить его стопочку, а затем, со всеми остальными — те, естественно, также поднялись, демонстрируя к пахану неподдельное уважение.
— Ну, что я могу сказать, — Алексей Николаевич, обвел сотрапезников потеплевшим взглядом. — Спасибо вам за хлеб-соль, спасибо вам за гостеприимство ваше, спасибо на добром слове, пацаны.
Сотрапезники скромно заулыбались.
— Да ладно тебе… Чтобы мы такого человека по чести не приняли…
— Я хочу сказать, почему решил уйти на покой. Здоровье уже не то, воровать не могу, сил прежних нет… Вор должен воровать. А потом — самое главное: стар я стал, не понимаю нынешней жизни. И не пойму уже никогда — мозги, наверное, окостенели. Порядки дурные, «понятия» херятся в открытую, «апельсинов» развелось, что ментов поганых. Молодежь на наше место приходит — наглая, тупая, самоуверенная. Для меня любая пересылка, любая «хата» — дом родной, а они ко мне без уважения, — с горечью продолжал вор ответное слово. — Время такое паскудное настало, трудное время и подлое, такое, что хуже не бывает. Самое страшное, что я понял: теперь все или почти все живут только ради денег. Все продается и покупается. А ведь не все, пацаны, делается в жизни только за деньги. Есть и другие вещи — совесть, принцип… — продолжая держать стопку на весу, старик обвел взглядом татуированный синклит, словно ища поддержки — друзья закивали. — Такое ни за какие деньги не купишь. И самое паскудное в том, что эти деньги разлагают народ. И страшно разлагают, притом. Все хотят быть не самими собой, а невесть кем, все в какие-то игры играют — а ни правил, ни смысла в этом не видят и видеть не желают. Вы ж знаете — я сюда прямо из ментовки приехал, псы из РУОПа замели. Там у них какие-то непонятки с конкурентами получились, какая-то новая структура «КР» появилась… Я о ней рассказывал. — Присутствовавшие закивали. — Посмотрел я на хате ИВС, чо творится, чо творится: какие-то малолетки матерятся, посылают друг друга, блатные песни бормочут, подвывают, как помойные собаки, пальцы друг перед другом гнут, блатными хотят казаться. Пальцы гнуть теперь все научились, а вот за слова и поступки свои отвечать — нет. А кому все это надо? Какой-то сумасшедший дом получается, бардак, а в бардаке — еще один бардак.
Друзья понимающе поджали губы, мол, сами знаем, что ж поделаешь: другие времена, другие песни.
— И потому я решил завязать. Уйду на покой, куплю домик, буду сельским хозяйством заниматься, овощи да корнеплоды выращивать. Да попробую Натаху, племянницу свою любимую, на ноги поставить. Вы ж знаете, что с ней та паучина натворила, — голос старика немного потускнел. — Так что если у кого есть ко мне предъява, если я кому-нибудь что-то должен — скажите сразу…
— Да что ты, дядя Леша, — с едва уловимым акцентом произнес один из кавказских воров, — это мы тебе все по гроб жизни должны… Спасибо тебе, дядь Леша, что ты вообще на белом свете есть. Сколько раз, когда у меня ситуация хреновая была, думал: а как бы Коттон на моем месте поступил бы? И знаешь — помогало.
Собравшиеся наконец выпили — стоя.
Минут через десять, после традиционного тоста «за пацанов, которые теперь у «хозяина», Найденко предложил неожиданно:
— А теперь о делах наших скорбных давайте переговорим. Я ведь говорил вам, что все-таки должен напоследок кой-что отдать…
Разумеется, присутствовавшие уже знали о последнем деле старика, но молчали: напоминание подобных вещей уважаемому человеку было бы вопиющим нарушением неписаной блатной этики.
Коттон отодвинул тарелки и рюмки в сторону и, достав из-под стола кейс крокодиловой кожи, щелкнул золотыми замочками.
— Тут все ксивы на то самое лавье, — негромко прокомментировал он. — Номера счетов, подставные фирмы, на которые эти счета открыты, банки, ну, и все такое. Я-то в это не въезжаю — Макинтош покойный занимался.
Крапленый, по праву хозяина, взял бумаги, просмотрел их деловито — по всему было видно, что он неплохо понимает банковское дело. На его лице, как и подобает настоящему «авторитету», не дрогнул ни один мускул. Пробежав документы глазами, он ровным голосом спросил:
— На сколько здесь?
— Чуть меньше, чем на сто миллионов. Правда, еще в Белостоке пришлось взять немного наликом. Двадцать штук я потратил в Польше, четыре штуки — тут. Еще минус — новый сотовый телефон, без него было не обойтись. Старуху мать покойного Макинтоша подогрел — минус пятьдесят тысяч. И еще около трех штук я потратил на гостиницы, жрачку и разные мелочи, оставшиеся филки здесь, — старик достал из кармана потертый кошелек, вынул из него несколько купюр разного достоинства, бросив их в раскрытый кейс.
— Оставь, — рука Крапленого протянулась в предупредительном жесте, — это мелочи. Ты же уважаемый человек!
— Правильно сделал, — со скрытым восхищением поддержал старика русоволосый, — жест достойный настоящего жулика: все на бочку, а после раздербан.
Коттон рассказывал о последних событиях с достоинством, но не без сдержанного гнева — особенно, когда речь заходила о Сухом.
— Да ладно тебе. Менты его, вроде, накрыли. Там какая-то непонятка вышла, — прокомментировал русоволосый, — то ли на иглу подсел, то ли еще что. А Заводного, шестерку ту долбанную, на хате «матроски» опустили. Мне потом подробную маляву прислали — теперь по жизни будет крыльями хлопать.
Крапленый, захлопнув крокодиловый кейс, отложил его в сторону и, разлив по стопочкам водку, провозгласил тост:
— За нас, за воровское братство…
Теперь оставалось немногое: наколоть на предплечье Коттона специальный портак — змею, обвивающую кинжал с головкой опущенной вниз, да замастырить кресты на куполах; «кольщик» уже дожидался в соседней комнате.
— Дядь Леша, — произнес русоволосый с чувством. — Мы ведь не первый год корефанимся. Если что, если проблемы какие — обращайся. Всегда рады помочь.
Два автомобиля, сверкая рубинами габаритных огней, мчались по шоссе в направлении столицы.
В головном темно-бордовом «ниссане» сидела охрана Крапленого — коротко стриженные амбалы со значительными лицами. Толстые шеи, накачанные мышцы, короткоствольные автоматы, лежавшие на коленях, — все это красноречиво свидетельствовало, что катившему на втором автомобиле не о чем беспокоиться.
Во второй машине — роскошном навороченном «ягуаре» — сидели Крапленый и тот самый русоволосый; последний жест Коттона настолько впечатлил его, что он до сих пор продолжал восхищаться стариком:
— М-да, старая гвардия… Вот это человек, вот это вор! — закурив, он опустил стекло, бросив пустую пачку на дорогу. — Не то, что нынешние говноеды…
— М-да, Тихон, таких людей, как Лexa, больше нет, — Крапленый, сидевший рядом, провел руками по крокодиловой коже кейса, лежавшего у него на коленях. — И долго еще не появится. Знаешь, а мне вообще жалко, что он на покой уходит.
— Его право, — покачал головой тот, кого яйцеголовый назвал Тихоном. — Никто из нас не может кинуть ему в этом предъяву.
— Да уж…
Неожиданно слепые конусы электрического света фар выхватили из темноты милицейский «форд» в полной боевой окраске; рядом с ним, белея портупеей, стоял гаишник с поднятым жезлом.
— Передай по рации пацанам, чтобы остановились, а мы дальше поедем, — Крапленый тронул водителя за плечо.
Тот исполнил распоряжение, однако гаишник невесть почему остановил и «ягуар».
Крапленый ткнул толстым пальцем в кнопку стеклоподъемника, высунулся наружу и недовольно спросил:
— Чего там?
Рука сержанта рыбкой взлетела к головному убору.
— Проверка. Оружие, наркотики — есть?
— Наркотиков — нет, на оружие — разрешение, — ответил за пахана водитель.
— Прошу всех предъявить оружие и документы на него, — на редкость категорически приказал гаишник и, обернувшись назад, в сторону «форда», сделал какой-то непонятный знак рукой.
— Что — беспределом занимаемся? — амбициозный Крапленый, очень недовольный тем, что это ночное мусорское животное прервало его беседу с Тихоном, был готов вспылить. — Мало, что на Москве деньги косите, так уже и на больших дорогах разбойничаете? Позови-ка сюда своего начальника, я с ним…
Он не успел договорить: где-то совсем рядом раздался противный ухающий звук, с которым обычно стреляет армейский гранатомет. «Ниссан» охранников внезапно как бы подпрыгнул… Машина встала на дыбы и плавно, будто бы в замедленной киносъемке, переворачивалась на левый бок — на капот «ягуара» дождем брызнули осколки.
Спустя несколько секунд хозяин дорогой британской машины, Тихон и водитель уже лежали, уткнувшись лицами в нагретый за день асфальт; над ними, вскинув автоматы, стояли мужчины в пятнистых камуфляжах и черных вязаных шапочках с прорезями для глаз.
А со стороны якобы гаишного «форда» уже выходил какой-то человек. Поправляя то и дело сползавшие с переносицы очки в старомодной золотой оправе, он подошел к открытой задней дверце, взял с сидения крокодиловый кейс и, включив в салоне свет, щелкнул золотыми застежками. Зашелестели страницы — выражение лица Прокурора сделалось предельно сосредоточенным.
— Думаю, что техническая сторона дела для меня не представит большого интереса, — даже не взглянув на мнимого сержанта милиции, произнес он. — А теперь отвезите меня в Москву…
Мелодичный бой дорогих антикварных часов, стоявших в комнате, наполнял своим звуком огромную пятикомнатную квартиру престижной сталинской высотки на Котельнической набережной.
Хозяин квартиры, известный в Кремле как Функционер, нехотя поднялся с дивана, сбросил с себя плед в шотландскую клеточку, прошел в холодную кафельную ванную, похожую на операционную, плеснул в лицо ледяной воды, с удовольствием растерся шершавым полотенцем.
Настроение было приподнятым: два часа назад ему позвонил Прокурор и радостным тоном предложил забрать не только деньги, но и всю технологическую документацию на «русский оргазм». Тон Прокурора не оставлял сомнений в том, что так оно и будет, он всегда пользовался репутацией человека кристальной честности.
Хозяин квартиры прошел на кухню, поставил кофе, и тут же зазвонил домофон: охранник, сидевший внизу, сообщил о прибытии гостя.
— Проводите его ко мне, — скрипуче приказал Функционер и, предвкушая нечто очень приятное, взял приготовленный кофе и отнес его в гостиную.
Прокурор был весел и ироничен — как и обычно.
Привычное рукопожатие, привычные расспросы о делах, здоровье, проблемах…
— Ну, ты ведь знаешь обо всех моих проблемах, — хозяин давал понять, что теперь пора перейти к самому главному.
Щелкнули золотые застежки кейса крокодиловой кожи — перед Функционером легла растрепанная папка.
— Тут твои деньги, — лучась доброжелательством, произнес Прокурор.
— В смысле?
— Номера счетов, фиктивные фирмы, банки и прочее. А тут, — на столе, между кофейными чашечками оказалась дискетница, — та самая информация, о которой мы говорили…
— Значит, мы сможем заниматься «русским оргазмом» самостоятельно? — понял хозяин.
— Вы — сможете, — Прокурор явно давал понять, что выходит из этого дела, — если…
Функционер сдвинул брови.
— Если что?
— Если возьмете в нагрузку еще и вот это…
В руках Прокурора оказалась видеокассета — самая обыкновенная, вроде тех, которые продают в любом коммерческом киоске.
— А что тут?
— Шоу. Самое замечательное шоу из всех, которые мне приходилось видеть.
— В смысле? — в голосе хозяина засквозило явное беспокойство.
— А ты посмотри, посмотри…
Хозяин сунул кассету в щель видеомагнитофона, включил телевизор…
Какой-то странный мужчина с отсутствующим взглядом смотрел прямо в объектив и говорил, говорил…
— Кто это?
— Криминальный авторитет новой формации Иван Сергеевич Сухарев, он же Сухой, — спокойно комментировал гость, — это он дает показания. Кстати, ни одного неверного слова. Исключительно правдиво. Он вообще стал очень честным, этот Сухарев… Между нами говоря, — продолжал Прокурор тоном человека, собиравшегося поведать какую-то страшную тайну, — он находится под воздействием препарата. Это — пожизненно, противоядия нет и вряд ли когда будет. Он навсегда останется таким.
То, что поведал с телеэкрана Сухарев, бросило Функционера в холодный пот. Мелькали фамилии, имена, должности, но самое страшное: Сухой деловито, словно давя клопов, рассказывал о воздействии препарата на психику. Было странно слушать подобное от человека, который сам пребывал в подобном состоянии.
Неожиданно Функционер поймал себя на том, что его прошиб пот — холодная капелька медленно скатывалась между лопаток, неприятно щекотала спину.
— Ты… шутишь? — хозяин механически щелкнул кнопкой — изображение на огромном экране, собравшись в точку, исчезло.
— Нет.
— Ты… ты… — он принялся глотать ртом воздух, словно вытащенная на лед рыба.
— Только не надо второго инфаркта, — произнес Прокурор холодно. — Впрочем, это я тоже предусмотрел. Карета реанимации на всякий случай стоит внизу, под окнами.
— Ты…
— Нет, ты, — неожиданно воскликнул Прокурор. — Ты хотел загнать человечество кнутом в рай? Да? Хорошо, — он демонстративно придвинул хозяину крокодиловый кейс. — Вот тебе дискеты, вот деньги. Можешь снять их в любой момент. Но тогда разразится страшный скандал, и одной лишь отставкой ты не отделаешься! Неужели тебе не понятно: если ты заберешь эти деньги, то тем самым признаешь, что вкладывал их в проект?!
Лицо Функционера побагровело, огромным усилием воли он взял себя в руки.
— Что… что ты хочешь?
— Чтобы ты выбрал. Или деньги, формулы, технология — но скандал. Или ты ничего не вкладывал… ну?
…Спустя десять минут желтый реанимобиль с надписью «АМБЬЮЛАНС», вспарывая тишину набережной пронзительной сиреной, отъезжал от сталинской высотки.
Мужчина в очках, проводив спецмашину взглядом, подошел к черному лимузину с российским триколором на госномере.
Открыл дверцу, устало опустился на сидение и, закурив, бросил водителю:
— Поехали.
— Домой везти? — не понял тот.
— Нет, в Кремль… У меня на сегодня много работы.
Машина Прокурора ехала небыстро, без привычного завывания сирены и всполохов мигалки — пассажир, глядя по сторонам, растерянно поглаживал шершавую поверхность крокодилового кейса…
Глава двадцать седьмая
Мужчина неопределенного возраста, поднявшись с привинченной к полу металлической кровати, с тяжелым, безотчетным вздохом, прошелся по комнате и остановился у зарешеченного окна.
Собственно говоря, то помещение, где он находился, вряд ли можно было бы назвать жилой комнатой: обыкновенная каморка, довольно грязная, где-то два на три метра, не больше. Из мебели, кроме скрипучей панцирной кровати — типовая обшарпанная тумбочка, вздувшаяся от влаги, столик на неровных шатающихся ножках, один-единственный стул, так же как и кровать, и тумбочка, и стол, привинченный к полу; унитаз рядом с дверью и облупленная раковина.
Обстановка самая что ни на есть казенная, казарменная.
Да и сам обитатель этой каморы куда больше напоминал какой-нибудь предмет казенного обихода, нежели живого человека: мятая, застиранная хлопчатобумажная пижама цвета кофе с молоком, такие же штаны с пузырящимися, вытертыми коленями, грязно-серая майка с нечитаемым штемпелем прямо на животе. Ввалившиеся глаза, трехдневная щетина на щеках, короткие, очень неровно подстриженные волосы — в своей донельзя нелепой пижаме он наверняка бы смотрелся вокзальным бомжом или нищим, если бы не приплюснутые уши и огромные — несмотря на общую худобу — руки. Все это явственно выдавало в нем бывшего профессионального спортсмена.
Встав у забранного в решетку окна, обитатель каморы посмотрел вниз — он жил на третьем этаже и, судя по всему, давно уже знал картинку двора наизусть.
Двор — если так можно было бы назвать небольшую территорию, огороженную с трех сторон П-образным зданием и с одной стороны — высоченным забором с рядами колючей проволоки, был почти что весь заставлен проржавелыми мусорными баками, которыми наверняка уже не пользовались лет пять. На одном из баков сидела кошечка — даже с высоты третьего этажа можно было сразу же определить, что это обыкновенное помойное животное было когда-то домашним, дачным, а затем его выбросили на улицу «гуманные» хозяева.
Куда уж как тяжела такая помойная жизнь, но мужчина в казенной одежде лишь завистливо проводил кошечку взглядом. Что и говорить — жизнь в спецпсихбольнице не отличается разнообразием. Это зарешеченное окно заменяло обитателю каморки и телевизор, и видик, и компьютер с любимыми играми-«стрелялками», до которых он так был охоч на воле.
Внезапно в коридоре, из-за металлической двери послышались чьи-то шаги — обитатель каморки невольно вздрогнул.
Эта привычка — вздрагивать при звуках чужих шагов, — появилась у него сравнительно недавно — он и сам не мог сказать, с чем же это связано. Что-что, а за эти долгие, бесконечные дни, которые он провел тут, шаги он научился различать очень хорошо.
Если грубая, тяжелая и размеренная поступь — значит, санитары, два здоровенных мордоворота с милицейскими дубинками-«демократизаторами» на поясах, идут делать процедуры. А процедуры тут одни и те же: уколы и таблетки; правда, два или три раза был электрошок…
Если шаги жиденькие, сопровождаемые скрипом тележки — значит, баландер, тихий и безобидный дурачок, тащит завтрак, обед или ужин.
Если шаги медленные, грузные и неотвратимые, как у Командора, — значит, главврач. Впрочем, в последнее время главврач появлялся тут, в каморке, все реже и реже: видимо, этот пациент перестал его интересовать.
Но эти шаги мужчина слышал впервые, а потому и вздрогнул.
К нему, не к нему?
Ведь тут, в больничном коридоре, еще много таких же каморок — кто там обитал, за какую болезнь сюда попал, чем их там лечили — совершенно неизвестно, но только частенько, и ночью, и днем, и утром, и вечером оттуда неслись дикие, истошные крики — несмотря на то, что дверь всегда была плотно закрыта и толщина стен была изрядной.
Послышался скрип поворачиваемого ключа и характерный щелчок — дверь раскрылась, и на пороге возник какой-то незнакомец. За его спиной маячили многочисленные белые халаты, розовели молодые лица.
— Так, вторая группа, прошу сюда, — голосом экскурсовода, водящего иностранцев по Кремлю, произнес незнакомец. — Господа студенты, будущие медики, перед вами необычный больной. По истории болезни — бывший спортсмен, бывший уголовный авторитет; во всяком случае, РУОПовцы, которые привезли его сюда, утверждали именно так. Хотя больной Сухарев Иван Сергеевич находится у нас уже второй месяц, окончательный диагноз установить не удалось. Предварительный — развернутый синдром Кандинского-Клерамбо. Маниакальный реформаторский бред, классические параноидальные проявления. Одержим идеей собственного счастья. Патологически правдив. Правда, иногда, в силу непонятных причин, становится очень агрессивен. Показания — шоковая терапия, нейролептики. Впрочем, все это совершенно не помогает. Какое-то неизвестное науке психическое заболевание…
Обитатель каморки посмотрел на незнакомца и студентов-медиков сумрачно, исподлобья и, никак не комментируя произнесенное, шагнул по направлению двери.
И тут же, как чертики из табакерки, невесть откуда возникли двое санитаров — вроде бы шагов их и не было слышно — как они тут очутились, было загадкой. Один из них ловким, профессиональным движением заломил руки больного за спину, а другой очень быстро и столь же профессионально защелкнул на запястьях наручники.
— Больной отвык от такого количества людей и потому внезапно возбудился, — продолжал комментировать неизвестный. — Ничего, в нашей клинике есть еще один больной, с точно такими же симптомами болезни. Он находится в соседней палате.
Дверь закрылась — обитатель каморки так и остался в наручниках. Постояв напротив двери, он нервно оскалил крепкие желтые зубы и что-то пробормотал, после чего затих и повалился на кровать.
Но голос неизвестного врача проникал даже сквозь толстую дверь:
— Больной Митрофанов — диагноз такой же, как и у Сухарева. Правда, он не отличается агрессивностью, но иногда одержим иной манией: просит санитаров стать его партнерами по анальному сексу. Больной Митрофанов, не поворачивайтесь ко мне задом! — в коридоре вновь послышались шаги санитаров, хлопнула дверь, и удаляющийся голос подытожил: — Очень тяжелый случай…
Белесое сентябрьское небо низко зависло над притихшей Москвой, на аккуратных дорожках Останкинского парка, шуршали опавшие листья — желтые, с красноватыми прожилками, они покрывали влажную после ночного тумана землю. Привычного осенью ветра не было совсем. Со стороны далекой улицы то и дело доносились шумы проезжавших автомобилей, и это, наверное, было единственным звуком, нарушавшим спокойствие и умиротворение природы. Между деревьями еще висели клочья утреннего тумана — густого, колышащегося, словно живого, они теснили сердце тоской и тревогой.
На садовой скамеечке сидел мужчина в старомодных очках в золотой оправе. Эти очки, а также длинный черный плащ, благородные манеры, доброжелательный взгляд поверх линз внушали невольное уважение. Подсевший к нему человек не мог утверждать, будто знает его очень хорошо, но в одном он был уверен совершенно — этот человек не подлец и не мерзавец, каковым, к счастью или к несчастью, он его совсем недавно считал.
Закурив, мужчина в черном плаще, поставил рядом с собой атташе-кейс и обернулся к соседу:
— Ну что, Максим Александрович? Помните нашу беседу в загородом кафе?
Лютый — а это был именно он, — кивнул утвердительно.
— Да.
— Я тогда сказал, что каждый получит свое. Каждый и получил, что хотел…
— А вы?
Прокурор тонко улыбнулся, давая понять, что вопрос некорректен.
— Теперь вы знаете весь расклад. Такой вот пасьянс вышел: когда не видишь карт, каждая мерещится тебе королем или тузом… А на самом деле может оказаться шестеркой. Черное кажется красным, красное — джокером. Ладно, давайте поговорим о вас.
Следом за Прокурором закурил и Нечаев.
— А что обо мне? Я сделал все, о чем вы меня просили. Теперь я вам больше ничего не должен.
— Совершенно верно, — согласился кремлевский чиновник. — Должен вам я.
Замочки кейса тихо щелкнули — взгляду Лютого предстала россыпь кредитных карточек, несколько паспортов…
— Что это?
— Гонорар, — невозмутимо произнес Прокурор. — Мой друг Коттон когда-то сказал замечательную вещь: забесплатно только птички поют. Каждая работа должна быть вознаграждена. Тут кредитных карточек ровно на миллион долларов. И документы. Но самое главное…
Достав из потайного отделения папочку с грифом «13 отдел», Прокурор протянул ее собеседнику.
— Что это? — не понял Нечаев.
— Ваше досье. Поверьте — теперь никто не сможет больше управлять вами. Даже я…
Лютый не знал, что ответить.
— Спасибо… — наконец пробормотал он растерянно. — Кстати, а что с Коттоном?
— Он звонил мне. Правда, не сказал, где находится. Передавал вам привет. Меня он до сих пор считает законченным подлецом — все-таки не он меня «развел» на деньги, а я его. Да и корефанов его с моей подачи загребли, и людей их постреляли. А про вас он сказал вот это… — достав из кармана диктофончик с кассетой, Прокурор щелкнул кнопкой — из динамика зазвучал знакомый скрипучий голос: «А твой пацан, Лютый или как там его, — единственный порядочный человек во всей этой истории. Хотел бы ему поклониться — да не могу…»
Некоторое время собеседники молчали — Прокурор, деликатно положив кейс на колени Нечаева, курил, глядя на тонущие в тумане деревья.
— Может быть, вы хотите спросить что-нибудь еще? — как-то загадочно, даже не оборачиваясь к Лютому, наконец спросил он.
— Да, — ответил тот.
— Спрашивайте. Я постараюсь удовлетворить ваше любопытство.
Лицо Максима в одночасье сделалось серьезным.
— Где деньги?
— Какие деньги? — спросил Прокурор так, будто бы не понимал вопроса.
— Ну, те самые, кремлевские, из-за которых все и началось…
— Все началось не из-за денег. Все началось из-за этого порошка, будь он неладен, — подхватил нить разговора собеседник Нечаева. — А деньги… Знаете, вся эта сволочь, эти высокопоставленные вкладчики были вынуждены отказаться от них — мол, не наше, ничего не знаем, ни по каким документам они не проходили. Признаться в том, что деньги их, означало бы… Впрочем, вы сами прекрасно понимаете, что это означало. А деньги… Деньги, почти сто миллионов долларов пошли, как и положено, в государственный бюджет. И они будут использоваться для борьбы с оргпреступностью, — неожиданно закончил говоривший.
Пораженный, Максим долго молчал, осмысливая услышанное, собеседник же, не дождавшись ответной реакции, продолжил:
— Бывают и честные люди — поверьте. Я уже говорил: все это время мне приходилось вести двойную, тройную жизнь. Стало быть, я не только хороший режиссер, но и актер — если даже вы в это поверили… Вы — тоже… Кстати — может быть, останетесь? Мне кажется, что вы — идеальная кандидатура на место покойного Рябины.
Лютый ошарашенно молчал. Все получилось вовсе не так, как он рассчитывал. И вправду — красное оказалось черным, шестерки — джокерами…
— Так что скажете? — взглянул на него Прокурор.
— Нет, — твердо ответил Нечаев.
— Почему?
— Я в такие игры больше не играю.
— Но почему?
— Просто теперь нам не по дороге…
— Как знаете. Хотя — очень жаль.
Они с чувством пожали друг другу руки.
— До встречи, — улыбнулся Прокурор иронично.
— До скорой?
— Как знать…
Прокурор направился к своей машине, стоявшей неподалеку, Лютый, помахивая атташе-кейсом, — в противоположную сторону. Их фигуры быстро растаяли в густом тумане…