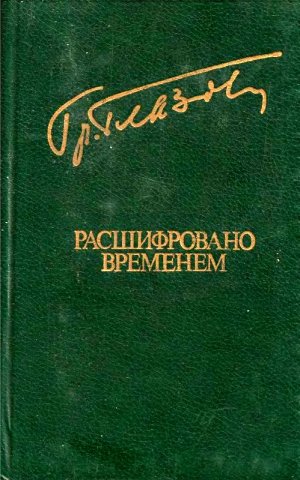
ПЕРЕД ДОЛГОЙ ДОРОГОЙ
Повесть
Кончалась осень 1943 года.
За спинами наших фронтов уже лежала вызволенная Левобережная Украина: киевляне сбивали с домов последние таблички с немецким наименованием улиц; сквозь гарь остывавших городских пожарищ в сырой рассвет уходили дальше полки, освободившие город; немец был выбит из Новороссийска, Смоленска и Брянска; в ноябрьской серой мгле примолкшие степи Таврии, застекленевшие от соли и заморозков Сиваши ждали наших солдат, стоявших уже у Крымского перешейка, похожего на горловину мешка, на которой они затягивали последний, намертво сплетенный узел; и учрежден был уже высший орден — «Победы», и устанавливалась мемориальная доска в Большом Кремлевском дворце, готовясь принять и сохранить для будущих поколений имена его кавалеров.
Раскаленная подкова войны, плавившая на севере мерзлые скалы Мурманского прибрежья, а далеко на юге — вздыбившая податливую, сочную землю Причерноморья, дымилась и шипела. Но в тяжком напряжении последнего усилия страна перегибала эту подкову вершиной на запад.
В Берлине траур по Сталинграду был уже погребен под окалиной с отпылавшей Курской дуги.
Но еще содрогалась под шпалами наша земля, когда остервенело грохотали колеса набитых солдатами и техникой перегруженных товарняков, шедших из Западной Европы на Восточный фронт.
И пусть судьба войны была предрешена, однако все, что обычно происходит на ней — успехи и неудачи, — доставалось еще обеим сторонам. И хотя в таком нелегком дележе теперь чаще и больше получалось не поровну, а со справедливой выгодой для нас, все же на этом участке фронта немцам снова удалось потеснить нас в оборону недолгим, но крепким, упрямым и кровавым контрнаступлением. Это была последняя отчаянная попытка спасти группу армий «Юг», которые вот-вот могли оказаться запертыми на юге Украины и в Крыму. И хотя контрудар немцев в итоге имел лишь частный тактический успех, все же 20 ноября 1943 года они опять взяли Житомир…
Правый фланг одной из армий, отходившей под напором немецких танков, быстро зацепился за удобные рубежи. Левый же, на оконечности которого дралась мотострелковая дивизия, отступая, никак не мог нащупать рельеф, на который можно было бы надежно опереться. Было приказано любой ценой сбить темп наступления, не дать врагу пробить коридор в тыл армии, покуда та не закрепится по всему фронту. Выполнив эту задачу, измотанная трехнедельными беспрерывными боями дивизия, подставившая себя под главный удар, отходила, чтоб не оказаться отрезанной от всей армии. Упустив из-за упорства дивизии инициативу, немцы решили ухватить хотя бы что-то — развернуть измотанные боями части спиной к реке, прижать и уничтожить.
Ночь уходила, рассасывалась, уползала в глубь леса тьма, сквозь деревья просвечивал волглый рассвет.
Все ждали сухого метельного снега с покалывающим морозцем, но подувшие с юга ветры пригнали низкие оттепельно-черные тучи. Вперемешку с дождем падали на землю вялые, набухшие обильной влагой хлопья. Они быстро превращались под ногами в черное кисельное месиво, по нему устало чавкали тысячи солдатских сапог; у повозок поскрипывали втулки, и жидкая грязь маслянисто, стекала по спицам и ободьям; колеса машин и орудий, соскакивая в рытвины, выхлюпывали черную холодную жижу на шинели, из протекторов вываливались старые комья глины с налипшими на них рыжими сосновыми иглами.
Двигались поротно, но развалившимся строем, уступая просеки и лежневки всему, что перемещалось на колесах; растянулись на многие километры, увозя и унося уже налаженное и громоздкое к этому времени войны хозяйство. Пехота протоптала себе вдоль просек тропки меж кустов и деревьев там, где было поменьше воды и грязи. Отвыкшие за эти последние месяцы войны отступать, солдаты устало молчали или материли погоду, бездорожье, сухой паек и косо поглядывали на ездовых и поваров, восседавших на передках кухонь, под пустыми котлами которых вот уже несколько суток, как выстыли топки.
Последним в лес должен был войти батальон прикрытия. Он отставал, вступая в короткие схватки с немцами, придерживая их, потом отрывался и шел догонять своих. Так было много раз.
В одной из арьергардных рот этого батальона шел бронебойщик Петр Белов. Он был высок, сухощав, жилист. Коротковатая не по росту шинель из зеленого сукна обтягивала сильные, перевитые мышцами плечи, из недомереных рукавов далеко высовывались широкие кисти тяжелых рук. Шел Белов, сутуло подавшись вперед, но не рост гнул его — приучила давняя необходимость ужиматься под землей, в забое, куда он спустился впервые двадцатилетним парнем и откуда на десятый день после начала война увела его тридцатидвухлетним мужчиной.
Аккуратный, молчаливый, неохотно тративший слова на обычную солдатскую трепотню, Белов шагал около повозки. В ней рядом с противотанковым ружьем лежал умиравший от раны в боку первый номер Белова и земляк его — Захар Евсюков, прикрытый до обросшего серой щетиной подбородка двумя шинелями. Из-под них, подрагивая в такт ходу колес, торчали ноги, обутые в стершиеся пористые кирзачи. Белов изредка взглядывал на его лицо — обескровленное, уже не имеющее цвета, вроде все время плывшее в тени. Жизнь в Евсюкове выдавали губы, кривил он их от боли в один угол, когда колеса повозки вдруг проваливались в колдобину или выскакивали на корневища, скрытые под черной жидкой грязью. И тогда Белову казалось, что, если бы он сам держал вожжи, обвисшие вдоль запавших боков кобыленки, а не этот сонный мужик с упрятанным в поднятый воротник шинели лицом, он вел бы повозку осторожней, бережней, выбирая дорогу, чтоб не трясти раненого…
Всего неделю назад, уединившись, они сидели вдвоем за дрожавшим на ветру ежевичным кустом, и Евсюков, пристроив пожелтевший тетрадный в клеточку листок на большой саперной лопате, писал Белову рекомендацию в партию. Тонкий грифель карандаша отражал на бумаге все неровности лопаты — все ее впадинки и выпуклости, — отчего буквы в иной строке шли враскоряку, Евсюков чертыхался, замедлял движение руки, и Белов видел, как меж белесых бровей земляка влажно поблескивали потом, бугрились морщины. Покрупнее букв вывел Евсюков номер своего партбилета, останавливаясь карандашом на каждой цифре, сверил его и расписался по-школьному разборчиво, неторопливо — в каждую клеточку по букве.
Теперь Белов не знал, как оно будет дальше: бумаге ход дан, да вот Евсюков…
Белов понимал, что тот умирает, что помочь ему нечем. Не говорил утешительных слов, поил водой из фляги и думал, что бредущие впереди усталые и понурые пехотинцы, поев и отдохнув на привале, будут болтать, курить, радуясь дарованной минуте отдыха, а не тому, что они вообще живы. А ведь два «фердинанда», першие на окоп, не вмяли их гусеницами в землю только потому, что поджег их Захар Евсюков. Но, верно, так уж устроена жизнь, тем сильна и вечна, что охраняет человека, уводя его от мыслей о смерти, загораживает, закрывает делами, повседневными заботами, заставляет двигаться, суетиться, тревожиться о живом…
Топая рядом с повозкой, Белов нет-нет да и вспоминал удовлетворенно, что уж больше месяца, как освобожден Донбасс, родные его места — Сталино, Ирмино, Макеевка, Краматорск, Горловка, однако представить себе, какие они ныне, не мог, а все видел прежними: звонкими, пульсирующими множеством огней и веселыми дымами, в зареве коксовых батарей, с хлопающим над копром флагом. Вспоминались знойные степные дни, когда в выходные выезжал с приятелями за город на ставки, располагались на лужайке в тонкой, пробитой солнечными пятнами тени чахлых акаций; стелили скатерть, выкладывали малиновые помидоры, колбасу, килограммовую банку черной икры с изображением осетра на крышке, приносили самовар — из него для потехи пили водку, пели и танцевали под патефон, елозя парусиновыми тапочками по траве.
Работали тяжко, но и веселиться умели — хоть на природе, хоть в Доме культуры, хоть у кого-нибудь дома. Деньги получали большие, но не считали их, не складывали и особенно любили тратить их летом, когда уезжали в Сочи в свой санаторий.
Женат Белов не был, подругу, однако, имел — Галю. Работала в ламповой, была чуть помоложе его, женщина крепкая в теле, сготовить, прибрать, постирать ему рубахи или исподнее считалось для нее делом плевым: со смены придет, глядишь, за два часа управилась и еще в кино тянет. Жили они спокойно и дружно. Однажды сказал ей: «Распишемся давай, Галя» «Ну тебя, — махнула рукой и засмеялась: — Тебе что, так плохо? Вдруг встретишь кого помоложе да покрасивше? Да и какая я жена? Детей-то у меня не будет…»
Степной человек, Белов был равнодушен к лесу, все ему что-то мешало, застило глаза, и всегда казалось: вот-вот разомкнутся деревья — и увидит он серебряную от полыни даль, а у края ее — чуть затуманенные пирамиды терриконов с ползучими змейками сизого дымка от самовозгорающейся породы и услышит запах шлака, политого водой…
Чавкала под ногами грязь, постукивали колеса повозки, с равными интервалами взвизгивала изношенная втулка…
Умер Захар Евсюков, едва снялись с привала. Белов прикрыл его лицо шинелью. «Спешить надо, похороним на следующем привале», — сказал командир взвода. Все так же тащила кобыленка повозку, и так же обок шагал Белов.
Когда вступили в мелколесье, пришел приказ остановиться. У поперечной просеки с группой офицеров стоял командир полка. Он что-то говорил комбату и все поводил рукой назад, туда, откуда двигался батальон. Потом все подошли к повозке.
— Кого везете? — спросил комполка.
— Бронебойщик сержант Евсюков. Умер от раны. Не успели похоронить, товарищ подполковник, — доложил командир взвода.
Комполка взглянул на Белова.
— Вы кто? Почему здесь?
— Рядовой Белов. Второй номер. Земляки они, товарищ подполковник, — упредил взводный.
— Помолчите, младший лейтенант, — отстранил его подполковник. — Давно воюете? — спросил он Белова.
— С самого начала, — ответил спокойно Белов, быстро разглядев комполка — его помятую фуражку с комочком влажной глины на козырьке, всю щуплую фигуру, тонувшую в длинной плащ-накидке, худое, маленькое, как у подростка, лицо с тонким хрящиком носа, покрасневшие, налитые слезой узкие глаза под тяжелыми веками. «Однако выбрит», — одобрительно приметил Белов.
— Награды есть?
— Не имеется, — ответил Белов.
— Что же вы, комбат? Человек воюет столько лет… Или плохо воюет? — снова к Белову: — Откуда сами?
— С Донбасса.
— Шахтер?
— Шахтер, товарищ подполковник.
— Где ваш взвод держал оборону?
— У Щуровки. Оттуда и идем.
— Местность там хорошо знаете?
— На локтях да на брюхе изъелозил каждую складочку, товарищ подполковник.
— Ступайте, Белов Комбат, позовите командира этой роты…
Долго офицеры стояли вокруг комполка, он что-то спрашивал, потом уехал на мотоцикле. Колонна тронулась…
Прошел час, а может, и того больше, когда движение вдруг снова притормозилось и запыхавшийся взводный крикнул:
— Белов, к комбату, в голову колонны! Быстро!
Выскочив из строя, Белов подался за ним. На маленькой поляне он снова увидел мотоцикл комполка, и сам подполковник с группой офицеров стоял у дороги. Подходя, Белов услышал, как напряженно говорит подполковник:
— Батарея была придана вам. Все сроки прошли, а ее нет. Вы потеряли с нею связь… Вы ее потеряли…
— Бой ведь был какой, товарищ подполковник, — сказал комбат, вытирая сразу взмокшее, покрасневшее лицо.
— Вы обязаны были предупредить их, что уходите. Они были на танкоопасном направлении у Щуровки и прикрывали ваш же отход. Отход всей колонны. Бросьте оправдываться. Дурацкая манера. Командир артполка комдиву уже нашумел, что мы потеряли батарею. Молчите, — махнул он рукой.
Белов доложил, что явился.
— Поди сюда, — подозвал его подполковник — Положение наше знаешь?
— Чувствую.
— Чувствуешь? — усмехнулся подполковник, ему, видно, понравилось это слово, он повторил его, покачал головой. И, повернувшись к комбату, сказал, указывая на Белова: — Он у Щуровки, говорит, всю местность знает. Его и пошлите. — И, уже обращаясь к Белову, спросил: — Мотоцикл водишь?
— Приходилось, товарищ подполковник.
— Объясните ему, в чем дело, комбат. Дайте еще одного солдата, и пусть отправляются. — И, снова махнув рукой, подполковник пошел по направлению движения колонны…
— Поезжай к Щуровке, Белов, разыщи эту чертову батарею. Вчера они еще были там, — сказал комбат, искательно заглядывая Белову в глаза. — Передай, кто там живой есть, пусть отходят в направлении Песчаного брода. Запомнил?
Белов кивнул. Только сейчас он почувствовал, как зябко ногам в мокрых тугих портянках. И привал скоро. Захоронили б Евсюкова, погрелся б у костра, подсушил одежду. Черт его дернул сказать, что водит мотоцикл, что хорошо знает местность у Щуровки. Но врать он не умел и теперь был зол не столько на себя, сколько на того неизвестного, чью вину придется исправлять ему: возвращаться в сторону немцев, разыскивать куда-то запропавшую батарею.
— Мотоцикл надежный? — спросил он комбата, вскидывая плечами, поудобнее пристраивая вещмешок за спиной, как обычно это делал перед дорогой, пробуя, хорошо ли осели лямки.
— Надежный, должно быть, — устало сказал комбат. — Старцев, — повернулся комбат к ротному, — выдели ему солдата в помощники, да который порасторопней. — И уже Белову: — Ты там пошуруй как следует, потом догонишь нас… Действуй по обстоятельствам, Белов… Ну что, с богом?
— Только переобуюсь в сухое, — сказал Белов.
В помощники ему хитрюга взводный назначил самого незадачливого и жалкого солдата Тягина — низкорослого немолодого человека. Взводный словно навсегда сбывал с рук то, чем и дорожить-то особенно не стоило, а при таком малонадежном деле лучше уберечь кого другого, покрепче и посильней, более полезного взводу. Белов понял хитрость взводного, но, поскольку привык полагаться во всем на себя, смолчал, ему было безразлично, поедет с ним Тягин или нет. Мотоциклом же подполковника он остался доволен. Это был трофейный «БМВ» с коляской и карданом — тяжелая, но сильная машина.
Тягин неторопливо и неумело влез в коляску; вроде бы равнодушный к тому, что происходит, не очень понимая, куда и зачем его повезут; он спокойно сидел, нахохлившись, ожидая, пока Белов заведет мотоцикл.
…С разгона они выскочили на песчаный взлобок, поросший низким и редким кустарником. Нужно было оглядеться, и Белов резко затормозил. Забуксовав, колеса выметнули струи песка, перемешанного со снегом, мотоцикл развернуло. Глушить мотор Белов не стал, сквозь кирзу сапог ощущалась надежная теплая дрожь его. И тут увидел он то, чего и ожидать не мог: внизу, за заснеженным полем, по черной полосе дороги, за которой лежала где-то деревенька Щуровка, шли немецкие танки, семитонные грузовики с солдатами, катились мотоциклы и штабные машины — все это, преследуя дивизию, торопилось к переправе. Очевидно, смяв последние разрозненные наши части, сломив и рассеяв державших вынужденную оборону, самонадеянно оставив их за спиной, в своих тылах, немцы быстро продвигались, пробиваясь к переправе по дороге, огибавшей холм, пытаясь отсечь последние отходящие части дивизии.
Теперь Белову двигаться было некуда. Решая, что делать дальше, он торчал на самой макушке холма. Спуститься вниз, поближе к немцам, побоялся: еще увязнешь в пахоте. И вскоре его заметили: несколько пулеметных очередей сорвалось с движущихся мотоциклов, — но трассы прошли стороной и выше…
Он все еще прикидывал, как быть, когда башня на головном танке качнулась, будто магнитом потянуло, повело в его сторону орудийный ствол. Как завороженный, уперев руки в руль, Белов замер… Он понимал, что проехать к Щуровке немыслимо, — все вокруг уже под немцами, и отыскать ту клятую батарею уже невозможно. Ее судьбу угадать было несложно: что могли сделать четыре пушчонки против этого неостановимо катящегося вала?
В тот же момент от орудийного ствола оторвалась рыжая тряпка пламени, следом долетел звук выстрела. Снаряд разорвался совсем близко за холмом, качнув землю. Белов повернул, съехал вниз, глазами выискивая воронку. Второй снаряд громыхнул еще ближе, обдало теплой гарью, над головой взвизгнули осколки. От свежей воронки потянуло кисловатым дымком, Белов скатил к ней мотоцикл, соскочил, крикнул:
— Тягин, скорей! Вылазь! В кусты — быстро!
Но Тягин не шелохнулся. Он сидел, откинув голову, изо рта к белизне шеи сползала темная струйка крови.
«Неужто наповал?» — подумал Белов. И тут, коротко взвыв, из-за холма рухнул снаряд. Белова накрыло чем-то жарким и колючим, оторвало от земли, обручем боли сжало голову и понесло, поволокло в горячую темень, забило грудь едким угаром, а вытолкнуть гарь из себя уже не было сил. Падая в беспамятстве, последним взглядом зацепился он за синюю прорезь в тучах и вообразил, что высоко летит и вот-вот опустится на землю и очень важно встретить землю ногами, он все ждал и ждал этого толчка или прикосновения, не чувствуя, не сознавая, что давно уже лежит полузасыпанный песком…
За несколько дней до этого, когда дивизия держала еще надежную оборону, в тыл к немцам на корректировку огня ушел с напарником радист взвода управления тяжелого гаубичного артполка Саша Ивицкий.
Линию фронта благополучно миновали они перед рассветом, а к полудню были уже в старом карьере, далеко от передовой, в глубоких вражеских тылах. До войны в карьере добывали какую-то редкостную глину, высокие обрывы его были изрыты пещерами, шурфами и разветвленными ходами. Обследовав их, Саша выбрал пещеру, имевшую три выхода.
— Заживем здесь, Муталиб, — решил Ивицкий, освобождая плечи, натруженные лямками. — Придержи рацию.
Муталиб помог ему снять вещмешок с провизией, металлическую коробку рации, затем, чуть пригнувшись (он был намного выше Ивицкого), подставил спину, и Саша сволок с него вторую коробку, начиненную питанием к рации, вещмешок, набитый автоматными дисками, гранатами и запасным комплектом сухих анодных батарей.
Только сейчас, освободившись от груза, они почувствовали, как он тяжел. Саша сбросил ушанку, пригладил ладонью взмокшие, соломенного отлива мягкие волосы, а гибкий Муталиб, расставив руки, повертел — вправо-влево — торсом, разминая занемевшие от усталости мышцы.
Здесь было сухо. У входа на закаменевшую серую глину ветер намел снежок, и из-под тонкого, почти прозрачного слоя его пробивались рыжие стебельки прошлогодней травы, невесть как прижившейся на этом скупом и немилом грунте.
Они проверили автоматы, достали банку тушенки, сухари, брикет пшена, и Муталиб ушел с котелком. Вскоре он вернулся, правда, без воды, но с большим ящиком от снарядов.
— Воды нет. Близко нет. Наверное, далеко есть.
— Может, и к лучшему. Не будем костер разводить, всухомятку пожуем, — сказал Саша, вспарывая тесаком банку.
— Огонь нужен, — покачал головой Муталиб и выставил посиневшие, озябшие пальцы. — Руки беречь надо… От тепла они послушные.
— Дым, понимаешь. Вот чего боюсь.
— Какой дым? Сухое, смотри. — Постучал Муталиб по ящику, на котором сидел. — И сквозняки тут, тяга…
Небольшой костер из тонко отслоенных щепок, как-то хитро уложенных Муталибом, действительно горел бездымно, пламя было бледным, почти прозрачным. Замерев, смежив веки, сидел узколицый, темноскулый Муталиб, протянув к огню ладони. В углях, сдвинутых им в сторону, грелась в банке тушенка. Саша задумчиво грыз сухарь. Потом будто очнулся:
— Ну давай, Муталиб, чего ее жарить!
Ели они ножами, выковыривая волокнистое розовое мясо.
— Дрянь мясо, — сказал Муталиб. — У нас в Дагестане такое не едят.
— Возможно, но сейчас вкусно. Все относительно, Муталиб.
— Правильно говоришь, — согласился Муталиб. Он почти всегда и во всем соглашался с Сашей.
— Да, кипяточком запить не мешало бы, — вытирая нож о вещмешок, с сожалением сказал Саша.
— Чаю бы, — улыбнулся Муталиб. В мясе ему попалась горошина перца, он долго перекатывал ее во рту и наконец разжевал, а заглянув в банку, вытащил двумя пальцами прилипший к стенке лавровый листик и, аккуратно держа за черенок, стал смаковать, обсасывать…
Покурив, они разлеглись у края площадки, ногами внутрь пещеры. Далеко внизу расстилалась тоскливая мокрая долина с невысокими рыжими холмами, с редкими белыми проплешинами снега на них: изломанно змеились тропинки и изъезженные, полузалитые водой грунтовки. Нигде ни души.
— Тишина и пустота, — подмигнул Саша. — Но мы не поверим, а, Муталиб?
— Правильно говоришь. Не верим, — качнул головой Муталиб.
— Поэтому мы делаем вот что. — И Саша вытащил из-за пазухи карту, из вещмешка бинокль, подогнал окуляры.
Метр за метром ощупывал он взглядом приблизившееся поле, лощину, рощицы и холмы за ней.
— Речушки и ручейки, — бормотал Саша, не отрывая бинокля от глаз. — Как говорит артиллерийское начальство, текут они в широтном и меридиальном направлениях… Ну вот… Кое-что есть. Глянь-ка, Муталиб: за той дорогой, — он вытянул палец, — холм, а рядом сломанный телеграфный столб, видишь, на проводах почти висит. Возьми чуть правее от него. — Саша подал Муталибу бинокль. — Что видишь?
— Два ряда траншей. Проволока. Пулеметная площадка. Дзот.
— Правильно, Муталиб. Зафиксируем. — С карандашом Саша потянулся к карте.
До исхода дня они обнаружили и засекли еще несколько целей. Далеко за полем в лощине у деревянного мостка через речушку, под купно росшими старыми вербами Муталиб углядел восемь самоходок или танков, до самых гусениц накрытых брезентом, стояли они в ряд. Возле них дымила полевая кухня.
— Серьезный объект, — сказал Саша. — Но ненадежный. Для нас, во всяком случае: подвижный. А нам нужно что-нибудь постабильней. Как считаешь, Муталиб?
— Правильно говоришь. Это для иптапа[1]. Прямой наводкой.
— Ладно, проверим их позже… Завтра денек будет похлестче. Придется выползти отсюда — слева сектор обзора совсем закрыт. А у нас с тобой задача какая, Муталиб? Выявить как можно больше огневых позиций, точек и средств. А может, — он улыбнулся, — даже изловить здесь самого Гитлера. Так напутствовал нас милейший майор Новиков.
— Гитлера давай! — согласился Муталиб. — Кровники мы с ним. Брата моего убили. Моряк был в Одессе. Старший был.
— Все мы теперь с Гитлером и с его головорезами кровники, Муталиб. Даже и не знаю, как сочтемся. Все равно долг за ними останется еще на сто лет… Ну что, баюшки пойдем? Под пуховички?..
Они улеглись рядом, подняв воротники шинелей, прижав к себе автоматы. Проем выхода был уже занавешен темным куском неба, и на нем, как приколотые, помаргивали редкие звезды; оттуда тянуло сквозняком. Заснули не сразу. Муталиб ворочался, мерз. Саша обдумывал нелегкий и опасный завтрашний день.
Спали тревожно, урывками; и всякий раз, прежде чем снова заснуть, чутко прислушивались к зябкой ночной тишине, торопливо проверяли, на месте ли автоматы…
Утро выдалось мутное, с моросью. Переминаясь с ноги на ногу, вздрагивая от холода, долго растирали руки и лица, толкали друг друга плечами, похлопывая себя по груди и бокам.
— Сервируй стол, Муталиб. Только щедро, по- кавказски, — шевельнув застывшими мышцами лица, улыбнулся Саша.
— Сейчас. — У Муталиба дрожали губы.
Они глотнули спирта из фляги, сгрызли по сухарю, закусили холодной тушенкой и, перекинув через плечо автоматы, налегке спустились вниз.
Вернулись перед вечером, усталые, голодные, вымокшие, но в хорошем настроении: карта пополнилась новыми пометками.
Оба понимали, что безнаказанность их рискованной прогулки — это везение, за которое иной раз неожиданно судьба берет жестокую плату, но не могли сдержать лихорадившего азарта и, остро поглядывая друг другу в глаза, тихо посмеивались.
Так продолжалось еще двое суток…
Туман сошел часам к одиннадцати утра, очистив унылую, пронизанную сыростью низину с дальними, вроде еще больше побуревшими за ночь холмами, за которыми словно глухая изгородь поднимался лес.
Они уже затянули на шинелях ремни, подхватили автоматы и хотели выбираться из своего убежища, когда откуда-то снизу, издалека донесло вдруг сцепленный лязг гусениц и рев дизелей.
По проселку шла колонна: десятка полтора «пантер», фургоны штабных радиостанций с гибкими стебельками покачивающихся походных антенн, «даймлеры» с пехотой в кузовах.
Все это было хорошо видно, но Саша прижал к глазам бинокль, отыскивая обнаруженные прежде цели. Площадка под вербами, где Муталиб засек восемь зачехленных танков или самоходок, была пуста, исчезла и полевая кухня, солдаты снимали шестами провода с деревьев, накручивали на катушки. За холмом, который Саша вчера окрестил «драмадером», где они заметили огневую позицию тяжелых гаубиц, тоже все изменилось: появились тягачи, суетилась орудийная прислуга: выбивала сошники, сводила станины.
Саша забеспокоился, вопросительно глянул на Муталиба.
— Что же это, Муталиб? Мы в гости, а хозяева — из дому? Это же не передовая! По меньшей мере корпусные тылы. Чего они так заспешили? На драп не похоже.
— Надо выходить отсюда. — Показал Муталиб на пещеру. — Мышеловка.
— Куда? Ты посмотри вниз.
Там по другому проселку катили мотоциклисты, штабные машины, бронетранспортеры с солдатами; выли моторы, преодолевая залитые грязью ухабы, на прицепах покачивались длинноствольные противотанковые орудия, хлопал на ветру закрывающий кузова брезент. Тихая, безлюдная вчера долина пришла в движение…
Так, вынужденно бездействуя, они ждали до сумерек, приближалось обусловленное время выхода на связь. А из-за дальних холмов все наплывали и наплывали новые и новые войска, растекаясь по дорогам и дорожкам, двигались на севере- и юго-восток.
Мысль связаться со своими не раз толкала Сашу к рации, но он знал: слушать его в эфире станут, начиная лишь с семнадцати ноль-ноль…
К этому времени они и развернули рацию. Саша надел наушники, включил передатчик.
— «Корень», «Корень», «Корень», я — «Ветка», я — «Ветка», я — «Ветка». Как слышите меня? Даю настройку: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Как слышите меня? «Корень», я — «Ветка». Прием. — Он щелкнул тумблером.
Сквозь знакомый приливающий и отливающий шорох эфира донесся далекий голос:
— «Ветка», «Ветка», «Ветка», я — «Корень». Слышу вас хорошо. Прием.
— «Корень», я — «Ветка», — заторопился Саша. — Мы в гостях. Все благополучно… Срочно передайте «второму»: хозяева уходят. Свертывают нитки. Но кое-что есть… — И Саша начал передавать координаты целей…
Закончив работу, они быстро свернули рацию и прислушались: снизу накатывались гудение и лязг. Темнело. Синие черточки света — маскировочные огни фар двигались над невидимой уже дорогой.
Оставалось ждать до двадцати двух часов — так обусловлено: по координатам стабильных целей, переданных Сашей, будет совершен артналет. Однако главная задача — вызвать у противника ответную реакциях заставить его открыть огонь, ввязаться в дуэль, чтоб по вспышкам выстрелов Саша мог засечь огневые позиции немецкой артиллерии, установить ее системы и перед рассветом, при повторном артналете, более точно скорректировать огонь… Контрольный выход в эфир после первого артналета — ровно через час…
— Не нравится мне все это, Муталиб, — сказал Саша. — Что-то происходит, а что, не могу понять.
Они сидели, подпирая спинами гладкую глиняную стену, чувствуя сквозь шинельное сукно ее глубинный холод. Хотелось курить. Но терпели, боялись малейшей искоркой выдать себя. Все было упаковано, готово на случай срочного ухода. Поверх вещмешков лежали автоматы.
— «Языка» нужно, — сказал Муталиб, пряча, втискивая руки в рукава шинели.
— Как бы не так, — усмехнулся Саша. — У нас говорят: «Не до жиру, быть бы живу». Есть у вас такая поговорка?
— Почему нет? Наверное, есть.
— Да, Гитлера тут мы с тобой не изловим, — задумчиво сказал Саша. — Тут в десяти километрах деревня Щуровка… Что это может нам дать?
— Не думал.
— А я вот думаю, но ничего не могу придумать… Ужинать будем?
— Не будем, — ответил Муталиб. — Душа не принимает.
— Нет так нет, — согласился Саша. — Нам же больше останется… Время медленно движется. Это всегда так, когда ждешь.
— Правильно говоришь. Не люблю ждать. Действовать надо!
— Ждать нужно, Муталиб. До Двадцати двух — ждать железно…
Но в двадцать два никакого артналета с нашей стороны не последовало. Саша сидел у вновь развернутой рации, вслушиваясь в попискивание чужой морзянки.
Прошло пятнадцать, тридцать, сорок минут… Ничего… — Что же это майор Новиков?..
Так в тишине прошел контрольный час, и ровно в назначенное время Саша услышал:
— «Ветка», «Ветка», «Ветка», я — «Корень», я — «Корень», я — «Корень». Как слышите? Прием.
— «Корень», я — «Ветка». Слышу вас хорошо. Почему не прислали «чемоданы»? Прием.
— «Ветка», я — «Корень». «Чемоданы» упакованы. Срочно убываем. Немедленно возвращайтесь. Самостоятельно. Повторяю: самостоятельно. Там, где вы прошли, уже никого нет. Ориентировочно — к сестре Оле. Повторяю: ориентировочно. В основном по обстоятельствам. Как поняли? Прием…
— «Корень», я — «Ветка». Вас понял. Прием, — упавшим голосом произнес Саша.
— «Ветка», я — «Корень». Связь кончаю.
— Да-а… — сказал Саша, выключая рацию и снимая наушники. — Сестра Оля… Ого-го, куда!..Он понял намек радиста.
Олей была медсестра из эвакогоспиталя, где лежал Саша, он много о ней рассказывал. С тех пор над ним часто подтрунивали… Эвакогоспиталь находился далеко в тылу армии, много восточнее переправы через реку.
Саша был ошеломлен и приуныл. Из слов радиста он понял, что полк снялся неожиданно, что переходить линию фронта им надо в любом другом удобном месте, ибо на прежнем их уже никто не ждет, и что, в общем, действовать придется самостоятельно…
Такого с ним еще не бывало, на мгновение обескуражило внезапное ощущение, что их бросили. Но вскоре оно уступило место соображению, что лишь крайние обстоятельства, непредвиденные, какие на войне не редкость, вынуждают теперь его и Муталиба выпутываться, полагаясь только на себя.
Саша не знал о начавшемся три дня назад контрнаступлении немцев, не знал, что его радиограмма о перемещении войск противника в глубоком тылу — еще одно подтверждение того, что на это контрнаступление немцы возлагают большие надежды, но что напоминает оно одновременно и последнюю судорогу, на которую уходят остатки сил.
Не знал Саша и о том, что сплошной линии фронта вообще уже нет, а дивизия, державшая там оборону, с тяжкими боями откатывается назад.
К трем часам ночи движение в долине утихло и все вокруг будто вымерло. Навьючив почти неубавившийся груз, прижимая локтями к бокам автоматы, переведенные на беспрерывную стрельбу, они осторожно спустились на дно карьера и, оскальзываясь на мокрой глине, медленно и неслышно вошли в сомкнувшуюся темень, шуршавшую мелким дождем.
Сашу смущала мысль, что задание, на которое они были посланы, осталось вроде невыполненным, хотя и не по их вине. Он прикидывал, что еще они могут сделать, раз уж оказались здесь. Карта, на которую он нанес стабильные цели, конечно, штука ценная, но поди угадай, когда теперь он сможет вручить ее майору Новикову, да и сможет ли. А цели подходящие — танкоремонтная база, две тяжелые зенитные батареи, на узкоколейке цистерны с горючим. Рельсы ее уходили к Щуровским лесам, где, полагал Саша, упрятаны емкости сливного пункта. Было и еще немало такого, что хорошо бы накрыть артогнем или авиацией…
И, рассуждая об этом, Саша старался успокоить себя, что не так уж бесполезно они пробыли с Муталибом тут, а покидают эти места по приказу, и что отдан он, видимо, людьми сведущими и умеющими повернуть себе на пользу любую военную ситуацию…
Тем не менее он думал, что не худо бы, уходя отсюда, напоследок все-таки наделать фрицам переполоха, подорвать что-нибудь или поджечь, и тогда он снова вспоминал о замеченных возле леса цистернах. Саша понимал, что осуществить это вдвоем почта невозможно: цистерны наверняка охраняет сильный наряд. К тому же и взрывчатки у них с Муталибом не было. Только гранаты. И все же его неодолимо тянул туда «авось», который нередко благодарит удачей. Да и обратный путь шел вблизи тех мест. И Саша решил идти к Щуровке, за ней начинались долгие, задичавшие леса, спутанные буреломами и непролазно загустевшими упругими кустами.
У Муталиба затея Саши сомнений не вызвала. Воюя в артиллерии, он, молодой, безоглядный, горячий и скорый на поступки, часто мечтал и об ином поединке с врагом — лицом к лицу, вплотную, в тяжком соприкосновении тел. И тогда руки напрягались, будто ощущали чужую плоть, ноздри раздувались, словно ловя ее запахи, а с губ срывались клекочущие, теснящие друг друга слова. И Саша с интересом вслушивался в непривычные звуки родной Муталибу речи…
Местность они уже знали неплохо, пошли понизу, петляя и обходя холмы. И хотя так путь удлинялся, зато не было тут ни дорог, ни тропинок, — меньшим был риск столкнуться с немцами. Имелась еще одна выгода: холмы поросли жесткими степными травами, и ноги не так утомительно вязли, как если идти по пахоте.
Ночь слабела, тьма медленно оттаивала, оставляя за собой ползущие над землей белесые космы тумана, они свивались в плотную, иногда колеблемую ветром завесу…
Шли уже не первый километр, когда проступили впереди, выползли из колышущейся белой пелены крестообразные рогатины.
— Противотанковые ежи, — вглядевшись, шепнул Муталиб.
Саша молча кивнул.
Сваренные из широких швеллеров, ряды ежей тянулись, удалялись, будто уходили вперед, постепенно исчезая в белом непроглядном сумраке.
— Близко дорога, — решил Саша, вытирая ладонью лицо, освобождая его от липких сырых прикосновений тумана. — Давай правей, — шевельнул он губами.
Но не сделали и нескольких шагов, как услышали, словно сквозь вату, скрежет металла, отзванивавшие удары, — видимо, били кувалдой по швеллеру, — и негромкий, спокойный немецкий говор. И сразу над туманом приподнялся, как всплыл, силуэт человека.
Муталиб рывком выставил автомат, подхватив ладонью диск. Но Саша покачал головой — запретил.
Немец что-то миролюбиво крикнул, рядом с ним возник еще один, сквозь белую мглу они, очевидно, тоже неясно видели настороженные фигуры, их очертания. Люди эти и на повторные незлобные, но вопрошающие окрики не ответили, а начали быстро удаляться. И тогда в два автомата немцы ударили по растворяющимся в тумане призракам.
Что-то с железным треском и хрустом лопнуло у Саши за спиной, от сильного удара он упал, подхватился и бросился дальше, но, не видя рядом товарища, остановился, крикнул:
— Муталиб! Жив?
— Я!.. Автомат разбило, — выскочил на его крик Муталиб.
Они бежали, не зная, что зря надрываются под тяжестью груза — очередь из шмайсера, сбившая Сашу с ног, вся попала сбоку в рацию.
Они не оглядывались. Не было времени. Немцы, не слыша ответных выстрелов, преследовали, лупили из автоматов почем зря, ловя лишь удалявшиеся чавкающие звуки шагов. Ни Саша, ни Муталиб не знали, сколько человек гнало их, и бежали, не отстреливаясь, стараясь не обнаруживать себя, надеясь в тумане оторваться, а в крайнем случае бить наверняка, если уйти все-таки не удастся.
В трескотне шмайсеров Саша не слышал, как вскрикнул сзади Муталиб и как исчез за спиной глухой звук его шагов. Когда же, заметив, остановился, то поймал странно далекий слабый вскрик:
— Сашка уходи!
Задыхаясь, Саша повернул назад. И увидел немцев. Двое. Смутно проступали сквозь туман фигуры. Он бросился на землю, пополз к ним, тяжело придавила спину разбитая рация.
Немец, что был поближе, крикнув напарнику: «Hier»[2], наклонился, пытаясь разглядеть что-то там внизу. И тут с земли поднялся Муталиб, рука его метнулась, вопль боли и ужаса вырвался из глотки немца и оборвался на самой высокой ноте…
Саша ударил из автомата по второму немцу, короткая, неестественно белая струя рванулась к нему, опрокинула и погасла в нем, так похожем на неподвижную мишень училищного стрельбища…
И все смолкло. В тишине стало слышно, как где-то неподалеку в тумане журчит талая струйка, стекая в большую воду рва или кювета.
Держа на весу автомат, Саша поднялся.
Их было около сотни — измученных голодом и ранами, униженных пинками и окриками конвоиров. Одни оцепенели от ужаса перед грядущим, оглушенные пустотой неведения; других терзала тоскливо метавшаяся мысль о невозможности исправить некую ошибку — свою или чужую, — которая так горько и бесславно определила их судьбу. И страшнее всего было собственное бессилие, когда вроде и жив и руки, пахнущие ружейным маслом и пороховым отгаром, еще в силах стрелять, бить, колоть, и глаз твой еще зло и жестко по-прицельному щурится, и право все это делать есть, да вот не сделаешь: ты пленник…
Кончался ноябрь. Но ни дня недели, ни числа Белов вспомнить не мог, да и не старался — не имело значения… Не все ли равно в плену — понедельник или пятница. До дурноты болела голова, будто изнутри ее распирало горячим воздухом. Он постепенно вспомнил, что произошло, как контузило, как навалилось забытье и как очнулся: кто-то бил тупым в бок. Разлепив с трудом веки, он разглядел коротышку немца, ширявшего сапогом под ребра, рядом стоял еще один. Они подняли Белова и погнали. Его качало и мутило, но, сглатывая слюну, он старался удержаться на ногах…
Шел дождь, торопливый, холодный, вперемешку со снегом. Ветер рвал на закоченевших людях ободрав- щуюся одежду, застегнутую вялыми пальцами на какую-нибудь последнюю, поникшую на истончившейся ниточке пуговку, которую боязно было потерять, или на чудом не обломившийся последний крючок.
Все, что произошло с Беловым — быстрое и страшное, теперь медленно и протяжно проступало в воспоминаниях, словно длилось годы, за которыми вроде и не было ничего иного. О чем бы он ни старался думать, пытаясь приблизиться, пробиться к прошлому, в котором оставалась вся его довоенная жизнь, что бы ни вспоминал, его, как пружиной, отбрасывало к той от- счетной черте, с которой и началась его новая жизнь. Жизнь человека, идущего под конвоем. И как бы мысль его ни петляла, нанизывая всякие слова, одно звучало громче и чаще иных — бежать! Бежать, пока линия фронта близка и еще не отощал до бессилия, пока конвой — обыкновенные солдаты из армейской части.
Загустевали короткие ноябрьские сумерки. Хлюпало под ногами, подошвы скользили, иссиня-черные тучи жались все ниже к земле, их рвало ветром, он подгонял людей плетьми дождя.
Фельдфебель то шел спереди, то останавливался, пропуская колонну, всякий раз при этом оказывался почему-то возле Белова, злобно зыркал из-под каски, нависавшей над бровями.
«Что-то дался я ему… Заприметил, битюг», — думал Белов, понуро глядя на дорогу, стараясь не встречаться с фельдфебелем взглядом.
Положив большие руки на автомат, висевший на широкой бычьей шее со вздувшейся жилой, тот щерил зубы, шел какое-то время рядом, потом уходил вперед.
Тусклый цвет оксидированной автоматной стали гипнотизировал Белова, в памяти держался каждый округлый или геометрически ровный изгиб затвора, казенника, высокого намушника и магазина, набитого золотыми желудями с серыми тупыми рыльцами. Ни о чем и никогда, наверное, не мечтал Белов так, как сейчас об оружии, — ощутить бы кожей ладони мокрую от дождя и остуженную гладь, шевельнуть пальцами, поверить в его надежность, чтоб доверить ему и надежды и жизнь…
Стало совсем темно, когда подошли к железнодорожному переезду, потянулись через него, как вдруг за плавным поворотом колеи послышался слитный ход колес, далеко отдававшийся дрожью в рельсах и шпалах, ударил долгий сиплый гудок паровоза, с быстрым грохотом надвинулась его громада, впереди, где фары, засветились две синие щели.
«Вот оно!» — понял Белов.
Засуетились, закричали конвоиры. Но товарняк уже гремел через переезд, разделив колонну. Несколько человек бросилось за обочину, в поле, по ним сыпанули из автоматов. И тогда, пригнувшись, Белов рванулся через кювет в противоположную сторону, сразу же ощутив, как размоченный чернозем липко прихватил сапоги.
Он бежал, ловя ртом воздух, задыхаясь, не оглядываясь, боясь потерять секунду, а грохот мчавшегося эшелона ударял в спину, заглушал все звуки. Когда уже едва различимым стал стихавший за дугой насыпи стук колес, Белов повернул на северо-восток…
Бежать он больше не мог, пот горячо обливал лицо и шею, дыхание сбивалось, ноги слабели, превозмогая тяжесть налипших на сапоги пудовых комьев грязи, а глаза суетливо искали какого-нибудь укрытия, но в темноте поле казалось пустым, открытым и совершенно гладким…
Убежище Белов нашел, когда вышел к оврагу: над ним, обвалившись с одной стороны, стояла скирда старой посеревшей соломы. Разгреб ее, колкую, спрессованную временем и дождями, вырыл глубокую нору, прикрыл, замаскировал вход и, поджав колени, улегся. Пахло прелью, пылью и летним полем. Он закрыл глаза, вслушиваясь в эти запахи, в отливавшую от ног усталость, в свои спутанные невеселые мысли и, незаметно отстраняясь от всего, стал засыпать, так и не убрав соломинку, щекотавшую ухо…
Очнулся перед рассветом, когда из оврага потянулись серые ватные пряди тумана. Неохотно оставив тепло норы, он осторожно выбрался на волю, огляделся и, судорожно поеживаясь в зябком предзорье раздольного поля, спустился в овраг, пересекавший с юга на север этот давно непаханный клин. Он шел по нему, разогреваясь в ходьбе, припоминал, в какой стороне начинаются леса, и прикидывал, как безопасней и ближе подойти к ним.
Постепенно овраг мелел, полого поднимался и вскоре вывел Белова к другому полю, застеленному подвижным, как над рекой, туманом. Здесь и увидел Белов в свете давно зародившегося дня три тусклых пятна, будто снопы развалившейся копешки… приблизился и понял: мертвецы…
Двое — рядом. Третий чуть в стороне. Один в форме нашего солдата. Смерть уложила его навзничь, запрокинув узкое смуглое лицо с крутым тонким носом. Под затылком, уже не растекаясь, стыла лужица крови. Левая рука подвернулась, ушла под спину, правая же выметнута вперед, сжата в кулак, и на стянутой холодом коже, сквозь которую проступают белые косточки суставов, — татуировка: всадник в бурке и в папахе на фоне горы, а под ним фамилия — «Алиев».
У ног его в странной позе, выгнув спину и уткнувшись головой в землю, осел немец. Поддев ногой, Белов перевернул труп. В подвздошье торчал всаженный по самую рукоять штык-тесак.
Третий валялся, широко разбросав руки, каска слетела с головы, шинель распахнута, на мышином кителе, воронено поблескивая, покоится Железный крест. Склонившись, Белов отпрянул: лица у немца не было — кровавая маска из мяса и костей. Видно, вся очередь пришлась в лицо.
Ни оружия, ни вещей возле убитых не оказалось. Обыскав нашего солдата, Белов не нашел ни бумаг, ни документов, лишь в кармане шинели — половинку сухаря и большой махорочный окурок. Белов жадно смотрел на сухарь, чувствуя, как рот наполняется слюной, кисловатым ржаным вкусом, будто сухарь уже во рту и разжеван. Не глядя на мертвецов, он затолкал сухарь в карман шинели, еще с минуту потоптался и, сожалея, что не от чего прикурить найденный окурок, двинулся дальше…
На все, что произошло и длилось, казалось, неимоверно долго, на самом деле жизнь потратила всего несколько минут.
Саша Ивицкий опустился возле мертвого Муталиба, снял ушанку, ветром приподняло слипшиеся от пота соломенные волосы. Еще раз, как бы проверяя, осторожно глянул он в лицо друга и словно очнулся, до конца поняв, что ничего измениться не может — Муталиб убит. Мучительно ударила вдруг мысль, что и похоронить-то здесь негде его, некуда унести с этого поля, чтобы укрыть от чужих глаз, от дождя и снега, от равнодушного неба…
Только сейчас Саша увидел, что рация разбита, зияют пулевые дыры, остро вспучены края вспоротого металла. И кольнуло сожаление: заметь он это раньше, сразу, как только почувствовал удар за спиной, не пришлось бы столько тащить бесполезный уже груз, и Муталиб, освободившись от тяжеленного ящика с питанием, мог бы бежать быстрее и, наверное, сумел бы увернуться от роковой пули… Саше хотелось обвинить себя хоть в чем-то, в несообразительности, что ли, хоть кроху вины отобрать у смерти и переложить на себя, — смерть-то ни перед кем не отчитывается… Хотелось хоть так свое личное невезение приблизить, слить с тем огромным и страшным, что произошло с Муталибом…
Осторожно прикасаясь к телу друга, Саша собрал немногие вещи Муталиба, переложил из его вещмешка в свой автоматные диски и «лимонки», утопил в ирригационной канаве рацию, ящик с питанием, вещмешок с запасными БАСами, немецкие автоматы и, мысленно еще раз попрощавшись с Муталибом, пошел прочь…
Два-три раза он суеверно оглянулся в нелепой надежде: «а вдруг…», но чуда не произошло — мертвый Муталиб Алиев лежал на своем месте, издали уже почти неразличимый.
Саша шел, бесконечно возвращаясь памятью к случившемуся с ним, отыскивал ошибки, в которых винил себя, и мысленно устранял их, придумывал новые ситуации, в которых исход дела виделся счастливым. И такую печаль нес он в себе, такая неразделенная беда шагала с ним рядом, что, когда увидел впереди лес, подумал с надеждой, как некогда в детстве после чего-нибудь обидного и несправедливого, теперь уже все должно быть благополучно, иначе просто нельзя, невозможно…
Лес был темен. Мокрые деревья, мокрые кусты, под замшелыми бугорками пористый снег, оседала под сапогами мякоть сопревших листьев. И тишина. Лишь редкий царапающий звук цепляющихся друг за друга голых, ревматически изломанных ветвей.
Саша уходил в глубь леса, в надежную сомкнутость деревьев.
Он не был новичком на войне, и тем не менее ежедневные испытания, которыми она проверяла его человеческие возможности, порой гнули так, что силы, казалось, истрачены до конца. И все же чем-то они всегда пополнялись из неведомых запасов, бывших в нем самом, но о существовании которых он как бы и не знал. Шел ему двадцатый год, и после школы война вдруг стала единственной его наставницей на все случаи жизни.
Саша был рад, когда весной сорок второго с командой других мальчишек в обносившихся костюмчиках, с рюкзачками, сшитыми наспех мамами из плотных наперников или старой мешковины, он прибыл в военное училище связи. Веселый и общительный, он сразу, еще будучи в карантине, нашел друзей, позже любил ходить патрулем в гарнизонный наряд, когда можно было покрасоваться перед городскими девчонками курсантской выправкой и щегольской по тем временам курсантской формой. Учили их основательно, почти по программе мирных дней, а не так скоропалительно, как в пехотном или танковом, находившихся в этом же городе. Однако доучиться не пришлось: их роту внезапно отправили на Урал, на краткосрочные радиокурсы. Саша сперва огорчился, но затем успокоился, полагая, что уж после этих курсов непременно попадет в разведывательно-диверсионную часть: не зря же их, хорошо подготовленных в училище, перебросили вдруг еще и на специальные радио курсы, где он и другие ребята могли бы сами кое-что уже преподавать тем, кто прибыл сюда на недолгий срок прямо после призыва.
С этой будоражившей надеждой он и прибыл на фронт, но был удручен, обижен и даже растерян, когда оказался в отдельном артиллерийском полку тяжелых гаубиц. Работать здесь приходилось только микрофоном — повторять и передавать артиллерийские команды, в смысле которых он поначалу совершенно не разбирался, а кроме того, страдало и самолюбие радиста высокого класса, принимавшего на слух и передававшего ключом в минуту до двадцати двух групп смешанного текста. Но война заставляет забывать и не такие обиды. Вскоре он стал комсоргом дивизиона. А как человек легкого и уживчивого нрава, Саша утешался тем, что, будучи радистом взвода управления, мог выбрать время и надеть наушники. Изредка, прикрыв глаза, слушал он трескотню чужой морзянки или же сам брался за ключ и лихо выстукивал воображаемому адресату радиограммы, предварительно, конечно, отключив передатчик.
Сейчас, осторожно пробираясь лесом, он вспоминал все свои прежние невезения, ребячески смешные и пустые теперь, когда далеко-далеко за спиной на мокром поле остался лежать мертвый Муталиб, а сам он, Саша, одиноко, ловя каждый звук, бредет в неизвестность…
В один и тот же лес они вступили с интервалом в час: сперва Саша, затем — Белов, вошли, не ведая о существовании друг друга.
Белов сразу обзавелся оружием: выломал увесистую сырую палку. Часто озираясь, он недоверчиво продвигался вперед, придерживая шаг там, где кусты были погуще, а деревья теснее жались друг к другу. Лес не внушал ему доверия, как место, где укрытия ищет не только дичь, но и охотник. И это чувство все время толкало Белова к полянкам и прорубкам, тут глазу его, привыкшему далеко и зорко видеть в открытой степи, было легче просматривать даль, нежели предугадать, почувствовать опасность в таинственной путанице кустов, за которыми темнели деревья, а дальше — опять непроглядные кусты и снова — сомкнутые стволы, хотя он и понимал, что именно густой лес и есть самое надежное место.
Нестерпимо донимал голод. Тощий вещмешок был пуст. Пошарив поначалу по кустам палкой, а затем разбирая упругие стебли пальцами, Белов неумело попытался отыскать ягоду. Не сразу, но все же нашел несколько сморщенных черничин, затем еще; в ежевичных зарослях повезло больше — набрел на щедрую делянку, давно обмежеванную под вырубку, где на веточках омертвело синели мелкие усохшие комочки. Он быстро обобрал все, что мог, присев на корточки, не побрезговал и осенним оброном, еще не сгнившим, мокнущим на палых, почерневших листьях.
Тревога, мысль об уходящем времени в конце концов согнала его с места, и Белов двинулся дальше, наверстывая потерянные минуты. Постепенно привыкая к тишине и шорохам леса, он думал теперь лишь о том, как бы не заблудиться, — лес уже обжимало первое дыхание сумерек короткого дня, а ночлега себе Белов еще не придумал…
На просеку он вышел внезапно, будто кто вытолкнул — так неожиданно она возникла, пробив лесной массив и распахнуто уходя в его глубину.
Хоронясь за кустами, Белов пошел вдоль просеки, обрадованно замечая, что она постепенно поворачивает на северо-восток. Теперь он не боялся, что заблудится: узорно выделялись в колеях недавние следы колес.
Так и шагал он, приободрившись, не замечая ни верст, ни времени, пока темнота не выела последнее сумеречное свечение угасающего дня, долго стоявшее меж черными ветвями…
В овражке Белов нагреб листьев, собрал, шаря впотьмах, ветвей, что посуше, и присел передохнуть. И сразу же голод, усталость и слабость закачали его. Прикрыв глаза, он повалился на бок, чувствуя, как сон мягко пеленает, уносит подальше от забот долгого, трудного дня. Проспал он два или три часа и снова вернулся к просеке, которая пугала его и вместе с тем манила.
Слабый утренний свет уже отделял кусты от деревьев, а ствол от ствола. Развязав лямки вещмешка, Саша подсчитал запасы провизии: зная, что путь к фронту предстоит нелегкий и неблизкий, он наказал себе есть два раза в сутки: утром и перед сном — не любил ложиться спать голодным.
Оставалось у него две килограммовые банки тушенки, кусок зажелтевшего старого сала в тряпице, десяток сухарей, два больших куска рафинада, шесть брикетов пшенного концентрата, немного спирта во фляге. При этом подсчете мысли Саши невольно все делили надвое, и все делилось, было четным — вторая половина принадлежала Муталибу. И право на эту половину смущало Сашу; ему казалось, будто он отбирает ее у спящего, который вот-вот пробудится и спросит о своей доле.
Экономно поев, определившись по карте и перекинув автомат через плечо стволом вниз, Саша двинулся в путь.
Ветер шумел в верхушках деревьев. Иногда из сине-черных туч начинал падать снег, зима будто брала разгон.
Просека привела Белова к поляне, он постоял за кустами, что-то прикидывая, подозрительно оглядел поляну и все же решил обогнуть ее лесом, но едва отошел, как наткнулся на старый почерневший улей. С трудом отворотив для удобства лицевую доску, скрипнувшую гвоздями, Белов пошарил рукой внутри и на- щупал кусок обломанной соты. Он вытащил ее, заглянув в улей, но, кроме нескольких высохших пчелиных телец, ничего не обнаружил.
Соты были запечатаны, пахуче дышал темный воск. Белов разламывал его зубами, высасывая душистые капельки меда. Покончил он с этим быстро, на ходу. И пока огибал поляну, на которой прежде, видать, была пасека; все надеялся найти еще ульи, однако тот, первый, был и последним…
И снова он шел вдоль просеки, уже по другой стороне поляны, облизывая липкие от меда губы. Все острее и беспощадней, о чем бы ни думал, свербила мысль о еде; сосредоточивала на себе, будоражила воспоминания, связанные с нею. «Сколько же я еще смогу?» — думал Белов, вслушиваясь в себя, чувствуя, как во впалом животе холодно перекатывается голодная боль…
Машину он увидел на самом повороте просеки. От неожиданности остолбенел, судорожно, сухим горлом вдохнул сразу загустевший воздух. Машина была наша — «эмка». Замерев за кустами, Белов ждал, как показалось ему, очень долго, но никто не появлялся. Разглядывая машину из своего укрытия, он заметил, что скаты осели до дисков, из-под передних колес вытянулась темная лужа масла, и, уверившись, что машина брошена, пошел к ней. Спущенными были все четыре ската. Видимо, перед уходом люди просто расстреляли их; на крыльях виднелись пулевые отверстия; очередью изрешетило радиатор; ухитрились как- то пробить и картер. Белов заглянул внутрь. На заднем сиденье валялась кожаная куртка, карманы ее оказались пусты, на подкладке под внутренним карманом — бурое пятно засохшей крови.
Белов снял подушку сиденья, под которой обычно шоферы держат свое, особое хозяйство, и взгляд его обрадованно заметался — так много тут было всякого добра: брезентовый чехол с инструментом, банка с солидолом, пакля, банка с гайками и шайбами, аккуратно сложенный танкистский комбинезон, офицерская полевая сумка, не из кирзы, а еще довоенная — из толстой, как ее называли, «спиртовой» кожи, что так хороша на подметки, выскобленный до блеска плоский немецкий котелок с крышкой, тугой сверток в белой тряпке. Белов, торопясь, стал разворачивать его, почему-то решив, что в нем-то и есть съестное. В свертке же лежал по-складски густо смазанный здоровенный маузер, но коробка магазина была пуста, патронник — тоже. В полевой сумке он нашел облезшее зеркальце, опасную бритву, помазок, кусок мыла, а в тугих гнездах торчало два обломанных карандаша. Зато в нижнем, надколенном кармане комбинезона обнаружился начатый брикет пшенного концентрата.
Воду Белов заметил метрах в ста от машины в бочажине, у которой, журча, змеился тоненький и короткий родниковый ручеек. Набрав сушняка, Белов сложил его крест-накрест неплотной кучкой, среди инструментов отыскались напильник и старый перочинный ножик с двумя лезвиями, одно, правда, оказалось сломанным у основания. Намотав на длинную ветку паклю, он опустил ее в горловину бака и, вытащив уже пропитанную бензином, сунул в сушняк.
Поискав у родничка, Белов принес несколько небольших голышей, вытер о шинель и, примостив около пакли, начал чиркать напильником. Но искр не было. Долго и терпеливо возился он, меняя камешек за камешком, пока не отыскал нужный, выметнувший из-под напильника россыпь искр.
Веселый огонь шевельнулся в пакле, побежал по веточкам, извиваясь, будто отыскивая наиболее сухие места на них. Белов протянул руки к огню, пошевелил пальцами, вдохнул ноздрями горьковатый, отозвавшийся тоской дым…
До сих пор он все делал не торопясь, трезво, расчетливо, вроде забью о голоде, боясь спешкой что-то непоправимо испортить. Теперь же, когда в котелке булькало и легкий пар касался его лица, заторопился. Что-то дрожало внутри. Выструганной, как лопатка, широкой плоской деревяшкой он часто помешивал кашу, обжигаясь, нетерпеливо пробовал, заранее остро, до дурноты чувствуя ее вкус. Когда же, наконец, каша показалась ему готовой, он начал есть, почти ничего не ощущая, торопливо глотая большие горячие комья. Потом стал сдерживать себя, кашу подолгу держал во рту, жевал медленно, чтоб растянуть удовольствие и не повредить отвыкшему от горячей пищи желудку.
Съел он полкотелка и устало отодвинул его, хотя мог, конечно, умять весь, но пересилил себя, помня, что остатком должен будет перебиваться бог весть сколько еще времени.
От еды вдруг потянуло в сон, но, превозмогая дремоту, Белов поднялся, вернулся к машине.
Зеркало испугало Белова: из помутневшей стеклянной глади выплыло незнакомое, заросшее щетиной, изможденное лицо, под скулами темные провалы, а зеленые глаза так зло и подозрительно сощурены, будто глянул кто-то чужой, неожиданно встретившийся в этом лесу.
Потом он посмотрел на руки. Огромные, грязные, в засохших ссадинах, с большими темными дугами под ногтями, они тоже показались ему чужими. Белов усмехнулся и горестно покачал головой.
Был он человеком чистоплотным и даже брезгливым. Бывало, Галя вымоет помидоры, подаст на стол, а он все равно осмотрит каждый, прежде чем съесть, за что всякий раз Галя его незло поругивала.
После смены, поднявшись из забоя, дольше всех полоскался он в душевой, а потом разомлело, с удовольствием сидел в предбанничке полуодетый и, не торопясь, вычищал ножичком из-под ногтей набившуюся угольную пыль, чувствуя, как вся сила его крепкого тела приливает к большим отяжелевшим рукам, еще час назад сжимавшим судорожно бившийся в них отбойный молоток. А дома перед сном — так уж привык — Галя все равно грела на кухонной плите воду в оцинкованном баке, в котором кипятила обычно белье, выливала воду в овальную, обитую обручами большую лохань, называвшуюся в их местах на украинский лад «балия», и весело купала его, едва умещавшегося в этой лохани. А он, молчун, тихо посмеивался, подставив Гале сухощавую, в гибких полосах мышц спину, доподлинно зная, как сейчас выглядит Галя, босая, только в юбке, одна бретелька белой полотняной сорочки свалилась с мягкого плеча, круглое лицо в испарине, и на нем — через высокий лоб — взмокшая русая прядь; глаза смеющиеся, озорные, счастливые; сильные полные руки по кисти в шипучей пене, и один пузырек ее, щекоча, сохнет у Гали на щеке, а она налегает на жесткую мочалку, купленную как-то в Сочи на базаре, и трет, как рашпилем, а он терпит, иногда притворно охает: «Тебе бы, Галина, рубанком фуговать…»
Надо же, что вспомнилось!
Он пошел к бочажине, скинул гимнастерку, вымыл руки, тощим помазком взмылил бороду. Густо отросшая, она трудно поддавалась чужой незнакомой бритве, давно к тому же не правленной, — пощипывало кожу, но второй раз пошло глаже, и Белов почти выбрился, ополоснул лицо, вымыл в ледяной воде ноги, вытер их гимнастеркой и снова вернулся к машине.
Комбинезон, обнаруженный там, в плечах оказался с запасом, правда, коротковат, но с сапогами, если заправить внутрь, сойдет. Кожанка тоже почти в размер, вот рукава только намного короче, чем нужно. Хозяин вещей, видимо, был человеком плотным, но росту невысокого… Кто он? И жив ли?..
В карманы комбинезона Белов распихал все, что решил взять с собой. Поверх кожанки надел шинель; сунул в карман маузер. Гимнастерку, всякую мелочь и котелок с остатками загустевшей каши затолкал в вещмешок. Полевую сумку на длинном ремешке перекинул через плечо.
Снарядившись, в той же бочажине вымыл тряпкой сапоги, стал смазывать их солидолом из банки, стараясь плотнее забить шов между головкой и подошвой. Он не жалел, что потратил здесь много времени: почувствовал себя бодрее и увереннее, а это всегда считал для себя особенно важным. Он рано осиротел и потому привык всю жизнь в главном полагаться на себя, на свой выбор, уверовав: все, что делал или решал сам, никогда не подводило ни его, ни других, предпочитал сделать и за другого, но взамен получить убежденность, что все сделано и сделано так, как надо. То, что предстояло ему дальше, было таким трудным, что лишь надежда на себя и могла подсказать решения, в которых не должно оставаться места для сомнений.
Только теперь отпустил его страх, который был прежде неведом: страх пленника, когда бессмысленно, ни за грош можно погибнуть от прихоти конвоира. Его не пугало одиночество, он был готов к тому, что многое предстоящее зависит теперь только, от него самого, разве что какая случайность… Тут уж как сумеешь.
За последние полгода наступательных боев, когда вызволили уже большую часть Украины, судьба несколько раз сводила Белова с «приймаками». Это были солдаты, не сумевшие по разным причинам выбраться из окружения 41-го года к своим. К холодам они потянулись ближе к жилью — на хутора и в села. Были среди них и бежавшие из плена, и такие, кого в беспамятстве подобрали после откатившихся дальше на восток боев местные жители. Многие, отлежавшись, уходили при возможности к партизанам, иных приютившие их люди выдавали за родственников или просто прятали, дожидаясь прихода наших.
Снова призванные затем в армию, солдаты эти вливались в общий строй. Отношение к ним было разное: кто подтрунивал, посмеивался над ними, кто сочувствовал, а некоторые, откровенно презирая, осуждали. Белов молчаливо приглядывался к ним, как бы изучал. Люди эти не сумели, как полагал Белов, сделать чего- то последнего, что уже зависело только от них. А вот почему — это его и занимало, поскольку он считал, что всегда есть что-то последнее, что живет в тебе самом и на что в самом крайнем случае можно опереться. Поначалу он с любопытством наблюдал «приймаков», затем интерес к ним пропал, поскольку со временем жизнь их растворилась в общем солдатском быту, в равной для всех судьбе, подчиняясь одинаковым для всех законам.
Теперь, оказавшись почти в таком же положении, как и те люди, вспоминая их, Белов думал о том, сколько раз и из чего судьба предлагала им выбирать, сколько еще и ему она предложит…
Склоненную фигуру Белова Саша увидел, выходя из чащи к просеке. Спрятавшись и приготовив автомат, Саша наблюдал, как незнакомец мыл у ямы сапоги, старательно протирал их, окуная тряпку в железную банку. Похоже, он был один.
«Смотри, какой аккуратный… Кто же это? — Саша всматривался в незнакомца. — Шинель наша… Переодетый немец? Здесь? Зачем?.. Может, дезертир?..»
Скрываясь за кустами, за стволами деревьев, Саша приблизился. Спина незнакомца — сильная, широкая — была почти рядом. Комбинезон, кожанка, шинель рядового… Странное обмундирование, слишком много всего. Чужое, что ли?
— Не шевелись! Руки вверх! — скомандовал Саша.
Команда была понята сразу, человек выпрямился и поднял руки.
— Кругом! — приказал Саша.
Белов повернулся и увидел молоденького солдата, шинель под ремнем ловко оправлена, застегнута на все скобочки, ППШ. И палец на спусковом крючке не дрожит, не елозит… «Наш! Неужто наши уже здесь?» — подумалось радостно.
Какое-то время оба стояли, не зная, что делать дальше. Белов, остро поглядывая, решал, как начать разговор, — мешал наведенный автомат. Саша думал, как быть с плененным.
— Ну, налюбовался? — первым начал Белов.
— Вы кто? — спросил Саша, подходя ближе.
— Руки можно опустить? — усмехнувшись, уклонился Белов.
— Опустите, но держите по швам. Зачем и откуда идете? Документы? — Саша отметил, что этот странно одетый человек гладко выбрит.
— Иду издалека. И куда — отсюда не видать, — медленно ответил Белов. — Фамилия моя тебе не нужна. Веди к своему командиру… Только время теряем…
— Не юлите. Что делаете здесь?
— Не отвечу, пристрелишь? Ты-то чего сам шепотом разговариваешь? — ухмыльнулся Белов.
Уверенность, независимость, сквозившие в манере разговаривать, в жестком взгляде немигавших воспаленных глаз незнакомца, смущали Сашу. Белов понял это, оглянулся и, расслабившись, присел на поваленную ольху.
— Ты-то кто сам, если не военная тайна? — спросил он.
— Вам знать необязательно.
— Я тебе расскажу, кто ты. Хочешь? — осенило Белова.
— Любопытно, — хмуро ответил Саша. Его начинали раздражать то ли нахрапистость, то ли сила и самоуверенность этого человека, не желавшего отвечать на, казалось бы, прямые вопросы. «Рубануть — и дело с концом, — шевельнул Саша пальцем на спусковом крючке. — Выбрился, как на свадьбу… Время с ним теряю».
Белов был почти уверен, что этот молоденький солдатик наш, свой; надо бы как-то договориться с ним, чтоб отпустил, и Белов одобрительно вспомнил:
— Лихо ты фрицев заделал… там, в поле… Друга твоего видел… Что же не закрыл ему глаза, не похоронил? — Он неотрывно смотрел Саше в лицо и сразу заметил, как оно дрогнуло. — Торопился?.. Нет, значит, здесь наших…
— Заделал — не заделал — не ваша забота.
— Как знать, — перебил Белов.
— Мы ведь тут не в лото встретились поиграть. Последний раз спрашиваю: куда идете?
— Из окружения, к своим, — отчеканил Белов.
— Полк, дивизия?
Белов назвал. Эту дивизию Саша знал, на участке обороны названного полка он и Муталиб переходили линию фронта. Значит, дивизия отступила… Вот в чем дело!.. Если, конечно… этот говорит правду.
— Оружие есть? — спросил Саша.
— Вот. — Белов отдал маузер. — Пустой…
— Значит, попутчики? — прищурив глаз, все еще проверял незнакомца Саша.
— Вместе нам ни к чему, — покачал головой Белов. — Поодиночке вернее. Меньше шуму и больше согласия…
— Странно вы рассуждаете… Вдвоем все-таки надежнее.
— Одолжил бы ты мне для надежности десяток патронов маузер снарядить. Авось отдам при случае… И пожелаем друг другу счастливого пути.
— У меня ведь и карта…
Да я и без нее могу… Нюх у меня на них теперь собачий, — Белов вспомнил о фельдфебеле, его зубах и широкой бычьей шее. «Вот привязался, — думал он о Саше. — У него и патроны, и харч, наверное… Но одному надежнее. Кто знает, что он за малый?.. В такой дороге несогласие — смерть».
Теперь они сидели оба на ольхе. Саша достал кисет. Предложил. Он видел, с какой жадностью и вместе с тем осторожностью Белов сыпал махру в обрывок газеты, как плотно и умело сворачивал самокрутку, как медленно и глубоко затягивался, прикрыв от наслаждения глаза.
— Давно не курил, — сказал Белов, слюнявя самокрутку у низко обгоревшего края, чувствуя, как легко и приятно кружится голова. — Так что, дашь патронов?
— Не понимаю вас. — Саша пожал плечами.
— Настырный ты хлопец! Боишься один, что ли?
— Вы что, не представляете, где мы? — не отвечая на обидный вопрос, спросил Саша.
— Ладно, — погодя отозвался Белов, экономно погасил окурок, спрятал в карман. — Хочется тебе вместе со мной? Идем. Только помни: в няньки не гожусь, делать буду то, что сам определю, с советами не лезь и вопросами душу не тревожь.
— Да-а-а… Условия… — протянул Саша. — Возьмите свою бесполезную игрушку. — Потом развязал вещмешок, зачерпнул горсть патронов от автомата. — Нате… — но задержал руку. — А может, вы дезертир?
— Дезертир? — сверкнул Белов глазами, не принял шутки. — Значит, никак по твоей мерке не выше?.. Прыткий ты, солдат. Поглядим, не упреешь ли, — и сердито умолк. Не глядя на Сашу, вытащил из маузера обойму.
— Возьмите патроны. — Саша протянул руку.
— Много я с тобой слов потратил, — сказал Белов, — на неделю вперед лимит израсходовал… — Он поднялся, вогнал отяжелевшую обойму в маузер и сунул его в карман шинели…
Шагали они молча. Белов — впереди. Саша поспешал следом, вопросов больше не задавал, а знать хотелось: как, при каких обстоятельствах его попутчик оказался в окружении, почему так странно одет, в каком звании. Подумывал даже, не зря ли увязался за ним, ведь выходило — сам напросился. И теперь все складывалось так, что вроде попал в подчиненные к человеку, о котором ничего не знает и который не желает ни спрашивать мнения, ни выслушивать советов в рискованной, полной неизвестности дороге, где на каждом километре их может подстерегать судьба Муталиба…
На редких привалах они почти не разговаривали. Разве только о самом необходимом, что неизбежно заявляло о себе на долгом и трудном пути. Но получалось, что если Саша и задавал вопрос, то как бы испрашивая разрешения…
От еды, от Сашиных запасов Белов не отказывался, но брал деликатно, самую малость, будто задолжать боялся, а о себе сказал Саше лишь то, что зовут его Петром Ивановичем.
Отходчивая натура Саши требовала общения, но постепенно он привык, смирился с молчаливостью попутчика, которая поначалу удивляла и отталкивала его в Белове. А тот не спеша вызнавал у Саши, откуда он родом, каким военным делом был занят, как давно на фронте, зачем оказался в тылу, расспросил и о том, как погиб Муталиб. И все Сашины рассказы завершал одинаково, одной фразой: «Давить их, паскуд, надо!» И при этом смотрел на свои огромные руки, сжимал их, а Саша дивился скрытой в них силе, не зная, что в эти моменты Белов мысленно видел перед собой лицо коротышки фельдфебеля из конвоя, его бычью шею со вздувшейся жилой, которую так хотелось тогда поймать в пятерню, сжать, скрутить.
Этот коротышка и пристрелил сержанта Шарыгина из роты автоматчиков, единственного во всей колонне пленных знакомого Белову человека. У Шарыгина были пробиты легкие, он задыхался, терял сознание. Всех их загнали под открытые навесы, где прежде колхозники из Щуровки сушили лен и хранили тресту. Немцы наскоро обнесли эти загоны колючей проволокой. Ветер продувал их, налетая то с одного, то с другого конца поля, пронизывал до костей, забирал остатки тепла, уносил его… Белов сидел, привалившись спиной к столбу, в голове все еще звенело после контузии, мысли путались, кидало в дрему. День тускнел, дождь вымыл из него последние проблески чистого света, монотонно стучал по навесу.
Фельдфебель подал команду строиться, но Шарыгин подняться больше не смог, и его пристрелили. Конвоир тащил труп за ноги в кювет по чавкающему черному месиву, на мертвом задралась одежда, и по глазам полоснула беззащитная белизна молодого тела с коричневым родимым пятнышком на впалом животе. Большим, облепленным черноземной мякотью сапогом конвоир уперся в податливое, еще не застывшее тело, спихнул в кювет. Белов скрипнул зубами, словно это его проволокли по залитым ледяной водой колдобинам, по холодной липкой грязи и пнули под ребра, оставляя на коже навечно след родной земли, налипшей на чужой сапог…
Постепенно Белов тоже привыкал к Саше и уже, пожалуй, не испытывал особых сожалений, что взял его с собой, хотя понимал, что ровность их отношений еще не прошла проверки, не споткнулась ни обо что на пути, который до конца гладким быть не может. Иногда, вспоминая все, что приключилось с ним, Белов вспоминал и комбата, и тогда вновь думал: что же в конце концов стряслось с той батареей, до которой он так и не добрался, вышла ли из окружения, нашлась ли?..
Большой снег повалил неожиданно, стало суше, но и холоднее, небо свежо засинело; красное солнце, продравшись сквозь чащобу, розовыми бликами засияло на молочной коре берез, колкий морозец прихватил лицо, в разреженном воздухе яснее ощущались звуки и запахи леса…
Дым они почуяли, когда по глубокому уже снегу взбирались на косогор, куда, отделившись от лиственного леса, зеленым клином выползал хвойный массив, и вскоре на краю молодого ельничка увидели летний егерский сруб, на снегу горел костер, а возле костра на лапнике сидели трое наших солдат. Над костром висел котелок, один из солдат сказал: «Ну, братва, кашу сварганил, пальцы оближете!»
И прежде чем Белов успел поднять руку, удержать Сашу, тот шагнул из-за кустов, выставив на всякий случай автомат.
— Кто такие? — окликнул Саша.
Двое схватились за карабины, но третий, в шинели без ремня, цыкнул.
— Вы что, очумели! Не видите, свои!
Вслед за Сашей вышел и Белов.
— Костер загасите, — зло сказал он, недовольно изучая незнакомцев. — Вояки, мать вашу, нашли место, где жечь. Учил вас немец, да недоучил!
Те, что с карабинами, сквозь узкие щели глазниц грустно смотрели на Белова и Сашу. Были они по- восточному темнолицы, высокоскулы.
«Вроде узбеки, — подумал Белов. — Лицо третьего показалось знакомым — осунувшееся, рябое. — В колонне, кажись, был со мной. Неужто ушел там же, у переезда?» — присматривался Белов.
— Куда путь держите? — спросил он.
— Я утек из плена. А эти — окруженцы. — Рябой назвал полк, бывший в арьергарде дивизии, прикрывавшей отход армии. — Самаркандские они. Народ южный. Три недели, как на фронт прибыли, а вот попали уже! Ноги подморозили. Вчерась в лесу встретились мы. Теперь вот к своим вместе топаем.
— Так не дотопаете, — хмуро сказал Белов. — В избушке, конечно, теплее, да немец вас тепленькими и накроет.
— Если можно, мы бы с вами? — попросил рябой. Он, похоже, вспомнил, узнал Белова. — Тикать — так разом.
— Тикать? — переспросил Белов. Ему не понравилось, рябой произнес это так, будто других слов и не оставалось. — Значит, ты тикать, а я тебе штаны держать, чтоб не упали? — Он отвернулся и, пригнувшись, заглянул в окошко сруба.
— В компании, товарищ командир, лучше. Не так боязно, — робко произнес рябой, обращаясь теперь к спине Белова.
— Ишь, уже и командира себе нашел! А сам что? — не оборачиваясь, ответил Белов. — Компанией хорошо водку пить. А тут шуму много будет с твоей компанией.
— Дак мы тихо будем, товарищ командир. Что прикажете, будем исполнять. Организуемся…
Пока он говорил, узбеки молчали, с надеждой переводя взгляды с Белова на Сашу, а с них на своего заступника. Оба, пожалуй, одного возраста, сколько им, не угадаешь, но ясно было, что давно немолоды.
— Ну, хорошо, — сказал Саша. — Собирайтесь.
Белова словно ожгло — выпрямился. Новички пошли в избушку за вещами.
— Вот что, радист, — процедил Белов, — мне ты компанию не подыскивай. Ежели тебе одному скучно, не держу, уходи с ними. — Его задело Сашино распоряжение, то, что он, даже не посоветовавшись с ним, принял самостоятельное решение, хотя беспомощность и изможденный вид новичков шевельнули и в его душе жалость, пробудившую на миг воспоминание и о его, Белова, собственных тяготах и бедах.
— Не дойдут они сами, Петр Иванович, — тихо сказал Саша. — Люди неопытные, пожилые.
— Кто знает, может, это они меня с собой берут, а не я их, — усмехнулся Белов, а сам подумал: «Конечно, чем нас меньше, тем мы ловчее. А то каждый пойдет характер показывать, и начнется: кто в лес, кто — по дрова. А это гибель… Да и какой из меня помощник?.. Самому бы кто помог…» Он понимал, что двое пожилых людей, да еще с обмороженными ногами, будут в тягость, намного усложнят и его, Белова, личную задачу: как можно быстрее выбраться к своим. Осторожность, обострившаяся с момента побега, все еще цепко держала его. — Поторопи их, — вздохнув, сказал он Саше…
Теперь шли медленнее — впереди по-прежнему Белов, а замыкающим — Саша. Снегу навалило много, торили дорогу с усилием. Лес становился реже, низкорослей, обрываясь у больших открытых полян, над ними в лучах солнца под ветерком искрилась снежная пыль. К ночи мороз крепчал. Неоформившаяся луна, желтая, как обглоданная кость, роняла сквозь ветви выстывший свет, вокруг нее в черном небе, будто шевелясь от стужи, помаргивали чистые звезды, и снег казался голубоватым пухом, под которым тихо и тепло.
Саша научил Белова пользоваться картой, и теперь тот знал, что предстоит им пересечь полевую дорогу, шедшую от Щуровки к деревне Кременцы, что за Кременцами — река, глубокой петлей поворачивающая к востоку, и все прикидывал, как и когда выйти к дороге и где переправляться через реку.
Молчаливая уверенность, с какой Белов вел за собой четверых, не позволяла задавать лишних вопросов, не допускала просьб, и поэтому чаще всего разговаривали между собой лишь Ульмас и Шараф — земляки-самаркандцы. Их негромкая, неспешная речь звучала для Саши таинственно, и порой ему казалось, что в этом незнакомом ему гортанном говоре и звучат самые важные, самые насущные и необходимые слова о смысле человеческого бытия…
Потом Саша стал замечать, что Шараф почти не разговаривает с земляком, идет медленнее, обреченнее, ест с неохотой, а присев, начинает раскачиваться, постанывая и потирая ноги. И как-то во время вынужденной остановки, когда Шарафу потребовался отдых, Ульмас сказал Саше:
— Скажи командиру, пусть ваша все уходят. Ульмас останется с Шарафом. Ноги совсем плохой у него, — и тревожно посмотрел на Сашу темными тоскливыми глазами.
— Нельзя так, Ульмас, — ответил Саша. — Не по- советски это. Пойдем все вместе.
— Ты хороший человек, Сашка, — кивнул Ульмас и отошел к Шарафу.
Об этом разговоре Саша сообщил Белову.
— Ишь, чего удумали!.. — покачал тот головой — Чего уж тут… Приглядывай за ними!..
Дорога, которую им предстояло перемахнуть, тянулась под высокой крутой насыпью, а дальше, за ее широкой колеей, вел к лесу долгий спуск, заметенный нетронутым снегом.
Вроде все Белов учел: нашел кустарник, близко подступавший к насыпи, и самое низкое, единственно пологое место на ней, но когда подполз к краю и глянул вниз, отшатнулся: прямо под ним на дороге стоял автофургон и два немца, подняв капот, возились в моторе.
Саша, лежавший в кустах с остальными, видел, как Белов предостерегающе поднял руку.
Немцы не могли завести двигатель, гоняли стартер, ковырялись в трамблере, устав, садились покурить, прихлебывали из термоса, над которым поднимался парок. Потом разожгли паяльную лампу. Сильное пламя, почти оторванное от сопла, с гудением ударило в морозный воздух, и стало видно, как он тепло колышется над синей струей огня. Немцы выкрутили свечи, прокалили их, протерли и вновь поставили на место, но и это не помогло, машина не заводилась.
Сцепив зубы, чувствуя, как холод дрожью бьет тело, как деревенеют ноги и руки, Белов ждал. Почти физически ощутимое время тягуче текло в тишине, которую пробивало лишь гудение пламени паяльной лампы.
Белов уже склонялся к рискованному делу: пристрелить немцев, заведомо зная, что этим выдаст свой след для погони так невыносимо, до саднящей боли в груди было лежание на снегу, — когда на дороге со стороны Кременцов показалась женщина в валенках, в платке, накрест перехватывавшем ватник.
Немцы с криком бросились к ней, остановили, стали что-то объяснять, размахивать руками, толкать автоматом. Женщина закивала, видимо, поняла, повернулась и пошла назад, а немцы вернулись к машине.
«За подмогой отправили?» — подумал Белов и опять стал ждать.
Уже смеркалось, когда подъехал бронетранспортер, с трудом развернулся на узкой дороге и, захватив фургон на буксир, потащил в сторону Кременцов. Условленно махнув рукой, Белов первым скатился с насыпи, перемахнул через дорогу и быстро, не оглядываясь, глубоко увязая в снежной целине, взметая белую пыль, побежал. За ним посыпались остальные…
В лес они вошли, когда на западе догорала узкая малиновая щель, прорезанная последним солнечным лучом, прижатая к горизонту темнеющим небом, от ее света еще розово дымился снег.
Белов не знал да и не мог знать, что дивизия его в общем-то сохранила боеспособность и значительный личный состав, но часть людей потеряла; отсеченные, отрезанные от своих, дрались они в окружении, а позже, оказавшись в немецких тылах, выбирались поодиночке и группами. Не знал он и того, что контрнаступление немцев захлебнулось, осталось почти безрезультатным и никакого существенного значения для общего итога не имело.
Чутьем солдата, воевавшего с первого дня и за последний год привыкшего наступать, наступать, наступать, Белов мог догадываться о временном характере последних событий, о необратимости нашего размаха, который он уже улавливал даже в мельчайших деталях фронтового быта, менявшегося и обновлявшегося на его глазах часто и быстро, а главное — по- иному, отличительно от того, что помнил по 1941 году.
Но понимал Белов и другое, что, как бы хорошо все ни складывалось в масштабах войны в целом, для него, бредущего по немецким тылам, все это — пока слишком далекое, почти неосязаемое, не убавляющее ни риска, ни горечи, ни опасностей, ни холода, ни усталости: война есть война, а немцы остаются немцами. И чем ближе продвигалась прифронтовая полоса, тем осторожнее вел он свой маленький отряд, загодя зная, что встречи с немцами не миновать, но избегать ее нужно до того момента, за которым уже явственно увидится свободный путь…
Стоя на опушке, изучая санный след, он думал, как лучше выйти к реке: лесом ли, хотя это и дальше, или ближней, но открытой дорогой через пойму…
Он проторчал на опушке минут двадцать и не спеша двинулся обратно, гадая, сообразил ли радист и этот рябой Илья Стаников собрать для костра хворосту.
Белов свернул за кусты и, приближаясь к месту привала, еще издали увидел возле Саши и Ильи шестерых человек. Все мирно беседовали, курили. Один — в танкистском шлеме, в распахнутом ватнике и ватных брюках поверх комбинезона, с кобурой на боку — взмахивал рукой, улыбался.
— Я как приметил вас, замер, — говорил он Илье. — Гадаю, кто же? Разведка из большого отряда? Ты ему, — указал он на Сашу, — чего-то толкуешь про кого-то: «Падло». Все, думаю, это как пароль, нашенское! — засмеялся танкист. — Значит, свои, надо швартоваться… Кто же у вас старшой?
— А вон. — Илья заметил над кустами фигуру Белова.
— В кожане?.. Вроде комиссар?..
— Он, — кивнул Илья.
Белов подошел и молча, неторопливо стал разглядывать так неожиданно появившихся людей.
— Принимай пополнение, комиссар! — Танкист вскинул ладонь к виску. — Старшина Леонтий Тельнов. 26-я отдельная танковая бригада. Курс — на базу. Со мной пятеро: два сапера, трое из матушки-пехоты. Пять стволов: «ТТ», два ППШ и две винтовки. Один добудет себе оружие в бою. — Он протянул Белову руку.
Тот пожал ее, соображая, как быть, разгадывая интонацию, с какой старшина произнес «Принимай пополнение, комиссар». Насмешливо или просто весело? С чего бы тут веселиться?
— Пополнение, говоришь?
— Так точно!
— Шестеро вас?
— Маловато, конечно, но все же… Может, еще кто подобьется.
— А нас, знаешь, сколько? — спросил Белов, пропуская обнадеживающую фразу старшины.
— Наверное, пока толкуем, твои люди за кустами нас уже на мушке держат?
— Не удержат, — усмехнулся Белов. — Пятеро нас, старшина.
— Шутник ты, комиссар. Проверяешь?
— Что мне тебя проверять?
— Все равно, — махнул рукой танкист. — Принимай, комиссар, под свое кожаное крыло. Раз уж вышло так, значит, судьба нам вместе.
Белов смутился — экий неожиданный оборот: целая команда да еще «под крыло»! Сам не пробьешься, погибнешь, сам за себя и отвечай. А тут бери ответственность за чью-то судьбу, а может, и жизнь! Он посмотрел на Сашу. Тот отвернулся, сделал вид, что не понял…
— Немцев встречал? — спросил Белов старшину.
— Еще встретим, — подмигнул танкист. — Располагайся, братва, — повернулся он к своим, полагая, что все улажено.
— Встретимся так встретимся, — усмехнулся, понимая, что все решилось само собой, Белов.
Кроме оружия, у вновь прибывших были вещмешки, кое-какой харч в них. Всяк ел свое.
Илья вертелся возле старшины, ждал, не перепадет ли чего.
Белов сидел в сторонке вместе с Сашей, медленно жевал сухарь и неодобрительно взглядывал на Илью, прислушивался к его разговору с танкистом.
— Слышь, — спросил старшина, — что это ты без ремня, без оружия, как с гауптвахты?.. Обтрепанный да тощий какой-то…
— Из плену мы. Утекли, — озираясь, тихо ответил рябой.
— Кто это «мы»?
— Я вот и он. — Илья дернул бровью на Белова.
— Да ну?! — удивился Тельнов. — А я думал, что вы все из окружения. Неужто в плену? — водил он взглядом по рябому лицу Ильи, будто отыскивал в этом лице уже некую печать порчености. — И как там?
Илья с ужасом покачал головой, словно перед его взором неслышно возникло все, что довелось пережить.
— Такое ни в книгах, ни в снах не бывает, — сказал он. — За один день там всего себя выяснишь так, как за всю жизнь не сможешь.
— Бьют?
— Не в том дело. В навоз тебя норовят обратить, в слизь, в тряпку.
— А он как? — Старшина посмотрел на Белова.
— Завидный человек, каленый. — Илья видел, что Белов прислушивается к разговору, и, может, не без расчета полагал, что тому эти слова придутся по душе.
И принялся рассказывать, слегка привирая о том, как бежали они у переезда и как Белов…
— Из командиров, наверно? — перебил танкист.
— А ты думал!..
Позже, когда Илья остался один, Белов поманил его.
— Ты вот что, герой, — Белов недобро сощурил глаз, — про плен наш поменьше звони. Особенно про наши с тобой подвиги там. — Он насмешливо скривился. — Какой я тебе командир?..
— Дак я что? Я просто ведь! — Илья испуганно отошел.
Когда стали устраиваться на отдых, старшина спросил Белова:
— Часового бы, комиссар?
— Я покараулю.
— Растолкай кого-нибудь на подмену. Хоть меня.
— Ладно, иди дави ухо. Лишнего у меня не поспишь…
Продуктов было совсем мало. Кто грыз одни сухари, запивая кипятком, кто варил концентрат, а кто и тушенкой лакомился, расчетливо и экономно опорожняя банку, не оставляя на стенках ни волоконца. У кого что было.
Белова это беспокоило: дальше будет хуже. Люди случайно встретились в пути и до этого не знали друг друга. Он догадывался, чем пахнет это неравенство. У одних разбудит зависть, у других — жадность и подозрительность… Тревожился Белов: в их положении это может стать гибельным, порушится все, даже самое надежное, что связывает людей… Теперь самое разумное, полагал он, объединить все продукты — что у кого есть — и питаться из одного котла. Предложить такое сразу не решился: ведь ни ему, ни Илье внести в общий круг было нечего. Илья кормился около старшины, а с Беловым делился Саша. Белов старался брать самую малость, да и то каждый кусок в горле чувствовал, вроде комок стоял. Саша заметил это, сказал:
— Петр Иванович, ешьте, пожалуйста. Не стесняйтесь, а то ведь и мне неловко. Не будет, значит, не будет ни у кого.
Белов молча кивнул и отвел глаза.
Но во время одного из привалов Белов все же решился:
— Я вот что думаю… Идем вместе, а с харчами по- немецки получается: мое не трожь. Выходит, у кого запас больший, у того и шанс верней выбраться отсюда… Сложить бы в один котел, чтоб всем поровну. Тогда всех нас надольше хватит… Хочу предупредить: ни я, ни Стаников своей доли не имеем. Так уж вышло…
Никто не высказался ни «за», ни «против». Молчали. И тогда старшина Тельнов сказал:
— Слышали приказ? Выполняйте!
Белов хотел поправить его: мол, не приказ это, не имеет он права им приказы давать, но старшина уже распоряжался:
— Освободить два мешка! Все продукты сложить туда! Живо! Один понесет Илья, другой я возьму. Кашеварить будет Ульмас. Вопросы есть? Все в порядке, комиссар, — веселея, доложил он Белову, беря под козырек.
Может, были и недовольные, но постепенно все образовалось, напомнило прежнюю солдатскую жизнь, когда ротный повар раскладывал черпаком из одного котла равные порции одинаковой для всех еды…
Продукты убывали быстро, да и не могло их хватить надолго на одиннадцать голодных ртов. А тут еще ночью Белов услышал шорох. Не шевельнувшись, приподнял веки и заметил, что Илья роется в мешке, который досталось ему нести. Пошарив, стал перекладывать что-то в карман, а когда обернулся, увидел неподвижный, давящий взгляд Белова. Замер, едва не вскрикнул. Белов приложил палец к губам.
— Положь на место! Еще раз поймаю, пристрелю…
В ночном морозном лесу стояла тишина, изредка, как от усталости, похрустывали ветки. Меж облаков лениво скользила луна…
Наутро Белов никому не сказал о ночном происшествии, не желал будоражить людей, не хотел, чтобы они оглядывались на того, с кем идут рядом, им и так хватало оглядок за спину…
Илья старался теперь держаться подальше от Белова, не мозолить глаза. С каждым трудным шагом группа удалялась от Кременцов, и с каждым километром суетливее и беспокойнее делался Илья, часто останавливался, озирался, трусцой догонял старшину и шел рядом, искательно заглядывая ему в лицо. Наконец не вытерпел:
— Как без жратвы дальше будем?
— Дикую козу подстрелим, — то ли шутя, то ли всерьез откликнулся Тельнов.
— Вот дела… Попытаться бы на выселках… Тут недалеко, — дернул простуженным носом Илья.
— Что за выселки?
— Дымари называются… Сродственники там у меня… Братовой жены сестра двоюродная… Баба добрая. Хозяйство свое было… Картошки даст хоть с полмешка. Может, там сала какого…
Тельнов остановился, посмотрел на Илью. Тот взопрел от ожидания.
— Что ж раньше молчал? — спросил старшина.
— Думал все…
— Долгий же для тебя это процесс… Ладно, потолкую с комиссаром! — И старшина заспешил догонять Белова.
— Рискованное дело, — выслушав, сказал Белов. — Ох, этот рябой! — подумав о своем, вздохнул.
— Зря ты. Все-таки из плена бежал он.
— Подвиг, что ли?
— Как ни есть… Продукты нужны. А риск… Куда ж денешься? Немцы вряд ли к ночи на выселки заявятся, они больше к деревням жмутся. Пошлем с Ильей еще двоих.
— Кого пошлешь? — усомнился Белов. — Нет, ежели идти, то мне самому…
— Сходим с тобой, а за старшего Сашку-радиста оставим.
— Ну-ка кликни рябого.
Илья заспешил, заторопился на зов старшины.
— Не брешешь? — спросил Белов, глядя Илье в межбровье.
— Истинная правда! — Тот затряс головой.
— Смотри, десять жизней в залог берешь. За них хоть и мало одной твоей, да все же твоя она, не ошибись…
Договорившись с Сашей, где ждать их, и посоветовав ему в случае чего зря и без выгоды в бой не ввязываться, а уводить людей, Белов пустил вперед Илью и двинулся за ним вместе с Тельновым.
Ночь выпала темная, когда вышли на открытое место, с полей пронизывающе ударило тугим ветром, выбило из глаз слезы. Шли по цельному снегу, проваливались по колено, пыхтели. Белов оглянулся. Лес стоял далекой черной стеной, словно отделив их от тех, что остались ждать под прикрытием сомкнувшихся деревьев. Километра через два набрели на гладко наезженный санный путь и, выбившиеся из сил, сразу ощутили, будто с ног отвалился груз.
Пять выселковых изб разбросанно ютились под обрывом холма, в низине, темные, будто покинутые, мертво поблескивали оконными стеклами. Забытым и ненужным казалось висевшее на длинном журавле ведро, высоко над обледеневшим колодезным срубом. Но в окне одной избы, пробиваясь сквозь глухое рядно, тепло и зазывно лучился свет.
Перед спуском с холма высились штабеля снегозадерживающих щитов. Когда-то колхозники расставляли их вдоль полей, но сейчас щиты лежали без дела и, наверное, потихоньку перекочевывали в печи. Меж двух штабелей была узкая щель. В нее и втиснулись Белов со старшиной, решив дожидаться здесь Илью, спустившегося вниз к избе своей родственницы.
Сквозную узкую щель продувало с обеих сторон, тяга была как в хорошем дымоходе, и Белов понял, что они тут быстро окоченеют, но ничего иного не оставалось…
Пугливо озираясь, Илья постучал в ближнее окно, погодя — еще. Но никто не отзывался. Он перешел к другому, у крыльца, и постучал смелее. Низкая занавеска шевельнулась, и слабо забелело, выплыв из темноты, приблизившееся к стеклу женское лицо. Женщина долго, видимо со сна, всматривалась в Илью, потом до него донесся слабый голос:
— Кто? Чего надо?
— Мотя! Это я… Илюшка Стаников… Пусти, Мотя…
Лицо женщины исчезло во тьме избы занавеска задернулась, звякнула щеколда, Илья оросился к крыльцу и юркнул в приоткрытую дверь, шепча:
— Я это, Мотя, я… Илюха Стаников… Признала, слава богу…
Хозяйка зажгла на блюдце фитилек, лежавший рядом с кусочком оплывшего сала.
— Откуда же ты? — скомкав у шеи ворот ночной рубахи, вглядывалась она в Илью.
— Из плена утек я, Мотя, — вдыхал Илья щемяще знакомый воздух обжитой избы. Он различал в нем запахи болтушки для скота — распаренной и размытой картофельной шелухи, смешанной с отрубями, запахи отгоревших в печи углей, вареной картошки, кисловатой опары, уютный дух высыхавшей овчины, теплой постели и не остывшего от сна женского сильного тела.
— Наши-то были здесь? — спросил Илья.
— Да как сказать? Фронт прошел через Щуровку.
Вот там и были, да и то всего ничего, снова отступили. А мы ведь выселки. От дорог в стороне. Заезжала, правда, одна машина с ранеными и докторша военная с ними. Часок вроде побыли, рассказали, что чего, как немца гонют, отдохнули, спросили, как проехать к шляху на Крупярку, и подались. А тут и немец возвернулся.
— Да-а, дела… — протянул Илья.
— Да что же я! Господи! — шлепая босыми ногами, вокруг которых путалась длинная широкая рубаха, Мотя метнулась к печи. — Картошка еще, небось, не простыла. — Она загремела заслонкой, вытащила чугунок.
— Не могу я, Мотя. Спешу. Не один я. Со мной еще двое. Комиссар и старшина. Да и в лесу еще люди. Мы к фронту идем. А к тебе за провизией. Может, дашь хоть чего…
Он сидел на лавке, устало вытянув ноги, ощущая, как отдаляются от него прошлое и будущее, как плотно укрывает, защищая ото всех, настоящее, родное тепло и дух этой избы.
Но уже перед ним стояли стакан самогона, чугунок, лежало полбуханки хлеба, луковица и желтобрюхий большой соленый огурец. Жадно давясь едой, захлебываясь торопливыми словами, рассказывал Илья о своих мытарствах, а Мотя сидела напротив, упрятав босые ступни под рубаху, все так же стягивая на груди широкий ее вырез, и пыталась отыскать в лице этого уставшего, голодного человека знакомые, но давно выпавшие из памяти черты.
А он ел торопясь, заглатывая кусками, и чувствовал, как все вокруг — эти прогретые стены, потрескавшаяся печь с тараканьей щелью у потолка, крепкая лавка и выскобленная столешница, на которой дрожит в блюдечке маленькое пламя набухшего жиром фитиля, эти дурманящие запахи полузабытой жизни, пробудившие в нем смутные надежды, — все это отнимает у него силы, отгораживает от холода, голода и тех, что ждут в лесу. И все слабее скреблась в мозгу мысль, что в щели меж щитов его ждут двое, околевая от стужи. Ему делалось страшно, когда вспоминал о них, и он податливо скользил в сон, в искушающее и надежное тепло жилья, жалей себя и чувствуя, как невозможно и нелепо все это вдруг оставить…
В сенях громыхнуло ведро, кто-то выругался, и, прежде чем разомлевший Илья смог вскочить, дверь отворилась — в избу вошел человек в распахнутом тулупе, в меховой шапке, через плечо у него висел карабин. Из-за длинного тулупа он казался очень высоким.
— Ты что не спишь, Матрена? — спросил он, а сам все глядел на Илью. — Нам бутылочки как раз не хватило, выхожу, смотрю — свет у тебя… Ты, никак; гостя принимаешь?
— Родственник, — испуганно поднялась Мотя.
— Разве приказа не знаешь, Матрена? Почему не доложила, что посторонний в хате?
— Да что вы, дядька Петро! Он ведь только вошел… Вы уж не серчайте.
— Документы имеются? — спросил Петро, обмеривая взглядом Илью. — От партизан, небось?
— Не имеется… Из плену я…
— Так-так… Из лесу, значит? Один?
Обмерший Илья стоял, вытянув руки по швам, разглядывая лицо незнакомца, будто обожженное с одной стороны большим малиновым родимым пятном.
— Один, говорю, иль с дружками?
— Ну да, — икнув, неопределенно ответил Илья. — Отогрелся малость… Я ведь сейчас и уйду… На минутку забег…
— Ты икать погоди. Еще наикаешься… В нашей хате веселей разговор пойдет. Собирайся.
— Отпустите его, дядька Петро! На что он вам сдался? — попросила Мотя. — Родственник мой, ей-богу. Ульяна наша замужем за его братом…
— Разберемся, Матрена… Бутылку не забудь.
Мотя метнулась в сени за самогоном.
Едва вышли в морозную ночь, как Илью начала бить нервная дрожь. Он с тоской глянул вверх, на уходивший к черному небу белый холм, где стояли щиты, силясь сообразить, сколько же прошло времени, как оставил он там старшину и Белова, но в голове все путалось, скакало, отдавалась болью мысль: «Из плена утек, а тут попался… Не судьба, видать…»
— Что молчишь? Чего не просишь, чтоб отпустил? — спросил со смехом Петро.
— Чего уж там… Насмехаешься…
— Иль не дюже охота опять в лес волков пасти? В шинеленке с тощим пузом далеко не ускачешь.
— Холодно, — дрожал челюстью Илья. — Намыкались в лесе.
— Намыкались? Кто же еще с тобой? — ухватился полицай.
«Вырвалось! — охнул мысленно Илья. — Случайно ведь вырвалось… Кончилось бы все скорей… Все как-то кончается… Должно ведь… Хоть как-то…»
— Оглох, что ли?! — прикрикнул Петро. — Дам в ухо, сразу почуешь!
— К Моте вот зашел… Поесть взять чего… Двое еще там. — Обмирая, Илья махнул рукой вверх. — За щитами… Ждут меня.
— Кто такие? Тоже из плену?.. Завертай на это крыльцо…
Они подошли к большой избе со светившимся окном. Еще в Сенях услышали громкие голоса. Илья перевел через порог ногу, шагнул в яркий свет, сквозь табачный дым надвинулись чьи-то лица, за спиной со стуком, от которого он вздрогнул, плотно, будто навсегда, захлопнулась дверь…
Навалились на них шестеро. Как ударом, ослепили ярким фонарем и, заломив руки, отобрали оружие, едва державшееся в окоченевших пальцах, связали сзади ременными постромками и привели в просторную горницу…
Белов уже осмотрелся. Его не утешило, что немцев не было, только полицаи. И те не здешние, двое только с выселок с обозом пришли и дружков сюда завернули — погостевать. Это он понял из мельком услышанного разговора. Большая керосиновая лампа хорошо освещала полицаев, сытых, с любопытством разглядывавших его и Тельнова. На столе стояло несколько порожних бутылок и одна начатая, в мисках — квашеная капуста, моченые яблоки, огурцы. Розово лоснился на тарелке последний ломтик сала. Хлеб был нарезан прямо на столе. Белов сглотнул слюну. Пахло едким самосадом, потом и керосином.
Старшим, похоже, был дюжий мужик в немецком френче, без погон, в синих галифе и валенках. На красивом смуглом лице — молодцевато-черные, кончиками вниз усы.
Илья жался в углу под образами, там стояла лавка, но сесть он не смел и все боялся пойматься на жегший медленный взгляд Белова и на танкиста старался не смотреть. «Как же это вышло?.. Бежал из плена, чтоб теперь вот так… с ними, — с ужасом и недоумением смотрел Илья на полицаев. — А, пропади все пропадом!..»
Еще час назад Илья не знал, что и как с ним будет и как ему самому-то быть; еще мучительно думал, кто же определит это, ожидающе глядел в темное, с вечным загаром лицо усатого. И полицай понял задачу, которую никак не мог решить Илья, и велел под приглядом карабина отвести его к щитам, чтоб Илья выманил Белова и старшину. В тот момент, преодолевая душный страх предательства, Илья испытывал и ненависть и вроде благодарность к усатому, избавившему его наконец от необходимости что-то решать самому. Усатый полицай догадался и об этом, он понял, что, отправившись к щитам, где его ждали, Илья все сделает, как велено, и вернется сюда, где остаются тепло, пища и надежда выспаться хоть на заплеванном полу, но в четырех стенах и под крышей…
Допрашивал усатый лениво, без пристрастия и крика, иногда даже грубовато, с матерщиной, шутил над видом и положением понуро стоявших перед ним людей. А пошутив, погладывал на товарищей, довольный, что повеселил и насмешил их.
— Значит, он и есть комиссар, в кожане который? — спросил усатый у Ильи, указав на Белова.
Распадавшимся сознанием, как сквозь воду, видел Илья лица людей и слышал их голоса. Он даже удивился, что не помнит: действительно ли Белов комиссар, или кто-то это внушил ему. Но на повторный вопрос усатого, опять икнув, утвердительно дернул головой и подумал: «Что уж теперь…»
Белов на вопросы не отвечал. Танкист же вертел словами в привычной своей манере: вроде что-то сказано, а начнешь вникать в слова — за ними пусто, один звук.
Дивясь тому, как незлобно допрашивает усатый, Белов думал: «Мягко стелет… Это так у них, наверное, принято для начала. Мордовать потом будут… Эх, были бы руки развязаны…»
— Сколько вас всех? — спросил усатый у старшины.
— Залил глаза самогонкой и сосчитать не можешь? — усмехнулся Тельнов. — Или двоится у тебя?
— Видал умника? — оскалил красивые зубы усатый. — Дай ему, Петро, прикладом по сопатке.
— Успеем, — отозвался Петро. — Ну-ка ты, стручок, — повернулся он к Илье, — повтори-ка, сколько вас.
— Этих двое да в лесе восьмеро, — дрожа губами, ответил Илья.
— А себя что не числишь? — засмеялся усатый.
— Дак я что… Я ведь…
— Понятно, — хмыкнул Петро. — В штаны наклал. Те, что в лесу, вооружены?
— Имеется, — ответил Илья.
— Отвечать толком будете? — Усатый поворотился к Белову и танкисту.
— Отвечать будешь ты, сука, когда наши придут, — не выдержал старшина.
— А ты, комиссар?
— Я тебе почтой ответ отправил, потерпи чуток, — сказал Белов.
— Ладно. — Усатый положил здоровенную ладонь на стол, где лежал маузер Белова, потом обратился к своим: — Что, хлопцы, пойдем в лес ловить пташек? Проводник у нас есть, ихний.
Полицаи молчали. И Белов понял, что им, разомлевшим от тепла, самогона и еды, неохота выходить на мороз, в ночь, брести, утопая в снегу, к лесу, где, чего доброго, еще на пулю нарвешься. И еще показалось ему, что вся ретивость и раж полицаев больше от разогревшей их выпивки, и сейчас они вроде и не слишком рады, что объявился Илья, а через него черт еще двоих подкинул несговорчивых, будто безразличных уже к своей судьбе, решать которую надо им, полицаям, а решать тоже неохота, ведь так спокойно и мирно было до этого в натопленной избе заедать самогонку капустой и салом и не думать о том, что происходит за окнами в заснеженном притихшем мире.
Белов почти угадывал истину, однако не ее причину, состоявшую в том, что был уже не сорок первый, а конец сорок третьего, и люди эти, много нагрешив, хорошо понимали, что дела немцев покатились под гору, что наши вот-вот наверняка вернутся сюда, что лучше бы увильнуть, где можно, вря не усердствовать и не лютовать, если рядом нет понукающего присмотра хозяина…
— Решайте, хлопцы, — снова сказал усатый. — Идем в лес иль нет?
— Хрен с ними, сами подохнут от голода или немцам достанутся, — ответил за всех Петро. — А вот с этими что?
— Комиссара шлепнуть, а второго отпустить голым в лес, к дружкам, — предложил усатый.
— А может, обоих до утра в сарай, пусть вшей своих поморозят, а утром немцам передадим? — сказал Петро.
Сидевшие за столом шевельнулись, и в этом движении Белов поймал чувство облегчения, означавшее, что наконец все пришли к согласию, что не придется делать нынче неугодную, требующую какого-то усилия над собой работу.
А усатый все раздумывал, плеснул из бутылки в граненый стакан и, сощурив цыганский глаз, глянул на свет через мутную жидкость в нем, затем выпил, но закусывать не стал, а длинно затянулся цигаркой и, пустив дым через нос, сказал:
— Можно и так.
— Кто сторожить пойдет? — спросил Петро.
— А вот он и пойдет. — Круто повернувшись на табуретке, усатый ткнул пальцем в Илью. — Его дружки-приятели? Пусть и сторожит. На пару со Степаном. На! — Он протянул Илье маузер Белова. Илья смотрел на маузер, но видел лишь расплывавшийся в глазах матовый блеск оружейного металла, он не пошевелился.
— Кому говорю! — прикрикнул усатый. — Бери!
— Не!.. — задохнулся Илья. — Нельзя мне!..
— Ты что это?! — Усатый ткнул ему маузер под подбородок. — И оскоромиться не прочь и в святые хочешь? Бери!
— Я… с этим не умею, — отчаянно мотнул головой Илья.
— Степан, дай ему свой винтарь и тулуп… Комиссарову «пушку» возьми себе… И с глаз моих долой! — распорядился усатый. — Ступайте оба. А ты смотри, — погрозил он Илье, сжимавшему двумя руками карабин за ствол, — не надумай чего. Подменим — к Мотьке под бок пойдешь греться. А можешь и под другую перину — под белую на дворе…
— Слушай, есаул или как тебя там, — с трудом, через запекшиеся губы выдавил Белов, — руки освободи нам, по нужде ведь сходить захочется. Или сам мотню мне расстегивать будешь?
— А что, комиссары в штаны не привыкли? — засмеялся усатый.
— Я тебя, сволочь, даже расстреливая, развязал бы! — крикнул Тельнов.
— Все ты просишься, танкист, получить по сопатке. Допросишься… Возле сарая развяжешь им руки, Степан. Пусть знают доброту нашу.
Их вывели.
— Слышь, — шепнул Илье Степан, — ты не трухай, наши подойдут поближе, мы усатого батьку к ногтю… Выкрутимся… Ему-то куда деваться? Весь в крови…
У сарая осторожный Степан развязал руки только Белову.
— Танкисту сам распутаешь, — подтолкнул он Белова маузером к распахнутой двери.
Белов слышал, что замка полицай не навешивал, лишь задвинул тяжелый, выкованный, наверное, в сельской кузнице засов и через ушко на нем и через скобу на двери протянул проволоку и концы ее закрутил.
Сквозь редкие щели сеялся далекий лунный свет, Белов разглядел какие-то жерди, грабли, колоду с воткнутым топором, ворох сена, и опустился на него, устало уронив голову. Тельнов со связанными руками молча примостился рядом. Пахло птичьим пометом и перьями, за стеной поскрипывал снег под шагами Степана и Ильи — от угла до угла…
А Белову все еще чудилась горница, освещенная двенадцатилинейной лампой, потные, раскрасневшиеся от выпитого лица полицаев, сытых, безразлично отвалившихся от стола.
«Утром все будет кончено, — думал он, вспоминая злую ухмылку усатого, — Еще бы: комиссара поймали!.. Уж немцы их за это возблагодарят… Может, зря не сказал, что не комиссар, зря радость доставил?.. Они и обойдутся с ним, как с комиссаром. Но признайся он теперь, что рядовой, не поверят, решат, что струсил. Еще больше обрадуются… Да и перед Тельновым стыд, тоже подумает, что испугался… Нет, не отрекусь, потешиться не дам… Неужто пытать станут?.. И эти, — подумал он о полицаях, — приложатся. И заставлять не придется. Откуда она, такая ненависть? И почему ко мне?.. Ах, да, я ведь комиссар!.. Ну пусть тот, усатый, зуб на Советскую власть имеет. Пусть еще кто-то… Но остальные! Просто ведь мужики… Как они могут… Почему предали? Одни ведь песни пели и на Первомай и на Октябрьские… И на одном языке ведь все понимаем. Неужто по-немецки лопотать милее?»
Жгли досада и горечь. Казнил себя: так глупо влипли… Уж такой путь прошли к своим! А все кончилось… в горнице… Чего же тем, в горнице, не хватало?! Не может же быть, чтобы просто так на измену пошли, как на свадьбу, как в гости ходят. Одинаково ведь и бескорыстно с начала жизни было отпущено и им и нам. Что же развело по разным дорогам?.. Что породило такую лють?.. Эх, сволочье! Забыли, суки, что расплата придет!..
Никогда еще не приходилось ему думать об этом так напряженно, проникать в сплетение судеб так глубоко, остро и горестно… Может быть, оттого, что прежняя жизнь не сталкивала ни с чем похожим. Там, если что и шло против сердца и совести, всегда оставалась надежда поправить что-то самому… Нынче же все было иначе…
— Слышь, новенький, — тихо заговорил за стеной Степан, — я мотнусь домой скотинку покормлю. Жинка совсем с хозяйством измаялась, я-то все в разъездах. Ты тут сам… того… Я скоро, через полчасика…
Илья не ответил.
— Только не учуди чего… Не подведи… Еще пригожусь… — И по снегу, удаляясь, быстро проскрипели шаги…
— Развяжи, — поднялся с сена Тельнов и горько добавил: — Отвоевались, комиссар.
— Через кого?! Через гниду! — отнимая руки от лица, выдохнул Белов.
— Может, поговоришь с ним? — предложил Тельнов.
— Не клюнет на меня. Тайна меж нами есть. Грозился я пристрелить за одно дело. К тебе, может, и подойдет, как-никак на иждивении твоем состоял.
— Попробую, — вздохнул старшина.
— Не спеши. Вот когда замерзать начнет и сам с собой наговорится, — тогда можно…
Илья уже начал постукивать сапогом о сапог, чувствуя, как прихватывает пальцы в задубевших кирзачах, резвее заходил вдоль сарая, томясь одиночеством и беспокойными мыслями, когда услышал голос старшины:
— Стаников!.. Илья!..
Илья подошел к двери, остановился.
— Что ж ты, дурак, наделал? Кого предал? Ведь пойдешь под трибунал, — обжигали слова Тельнова — Тебе даже штрафная не светит. Один шанс есть — отпустить нас да в лес вместе… Слышишь, Илья?
— Не могу больше в лес, — тихо отозвался Илья. — Не выдюжу, от холода и голода подохну… И комиссар не простит… И отпустить не могу — эти пристрелят…
— Сволочь ты, Илья… Поесть перед смертью принес бы… Ты ж говорил, родственница у тебя добрая… Иль наврал все?
— Нет, не врал… Тихо ты. — Илья заторопился от двери. Через какое-то время вернулся. — Кто-то из ихних по нужде выходил… Слышь, старшина, у меня тут кусман хлеба и пара картошек… — Он нащупал под тулупом карман шинели, куда успел незаметно сунуть краюху и две картофелины, прежде чем полицай вывел его от Моти.
Тельнов оглянулся на шорох. За спиной стоял Белов, держа Двумя руками топор.
Проволоку Илья из предосторожности раскручивать и вытаскивать не стал, а лишь отодвинул засов на всю длину проволочной петли, дверь подалась, открылась щель в две ладони шириной. В тот же миг Тельнов сунул в щель ногу, а сверху со страшным замахом на проволоку, разрубая ее, рухнул топор. Дверь распахнулась. Илья не успел и вскрикнуть, как был сбит кулаком с ног. Падая, роняя карабин, хлеб и картофелины, Илья почувствовал, как, торопливо шаркнув по лицу, вжалась в рот широкая шершавая ладонь Белова. Мыча в эту жесткую, беспощадную ладонь, задыхаясь, Илья дергал кадыком.
— Беги, старшина! — Рука Белова железной скобой скользнула Илье под подбородок. — Карабин!.. Прикроешь, если что!..
Старшина метнулся назад, поймал за ремень карабин, подобрал валявшийся хлеб и картофелины и понесся мимо колодца вверх по холму…
Илья, подмятый Беловым, упирался каблуками в снег, выламывал спину, но Белов уже тащил его, сучащего ногами, в сарай…
Швырнув туда Илью, Белов запер дверь — задвинул засов, подхватил топор и ринулся вслед за старшиной к лесу.
Саша потерял уже надежду на благополучное их возвращение, он чувствовал: людям становится невмоготу выносить холод и тревожащее бездействие, Но продолжал ждать даже тогда, когда оговоренный заранее срок ожидания прошел. Он часто выходил к опушке, всматривался в белое ночное поле и наконец увидел их — две медленно смещавшиеся по снежной белизне точки. Но почему только двое?.. Они почти не двигались, и человеку, с таким нетерпением подстерегавшему их появление, могло показаться, что там, вдали, просто кусты, раскачиваемые ветром. Не выдержав, Саша побежал навстречу.
— Где Стаников? — Саша остановился прямо перед Беловым, даже слегка задел его.
Тот покачнулся и, ничего не ответив, прошел мимо, дальше к лесу. Саша понял: что-то стряслось. Тельнов за ним. И только около костра, опустившись прямо в снег и протянув к низкому огню дрожащие руки, Белов сказал:
— Нет его.
— Был да весь вышел, гад, — отдышавшись, коротко объяснил старшина и тяжело упал рядом с Беловым.
Какое-то время они сидели молча, окруженные товарищами, которые приблизительно угадывали в этом молчании некую опасность — уже миновавшую или еще грозящую, — угадывали чутьем людей, привыкших жить настороже…
Было тихо, лишь сидевший у костра Шараф стонал, как в молитве, раскачиваясь над своими ногами. И стоны эти, постепенно, не сразу пробившись к сознанию, словно пробудили Белова. Начинало светать.
— Пора, — устало поднялся он и, как бы объясняя другим, внушая всем, что действительно пора, бросил в огонь горсть снега, а потом, подгребая его сапогами, засыпал костер вовсе…
На следующий день к ним присоединилось еще пятеро — четыре пехотинца и сержант из иптапа. Все с автоматами.
Сначала сержант сомневался: стоит ли объединяться, все выспрашивал, допытывался у Тельнова, кто они, куда да как…
Белов с интересом слушал, уже не безразличный к тому, как поступит недоверчивый сержант, видимо, верховодивший: пехотинцы выжидательно молчали.
Один ходит только ишак. Он ишак, — вдруг громко сказал Ульмас. — Сайгак умный, он стая ходит.
— Я, что ли, ишак? — дернулся сержант.
— Моя сказал: ишак — это ишак, — ответил Ульмас. — Комиссар лучше знает, — кивнул он на Белова, — спроси комиссара, зачем он карта смотрит. Зверь нюхом ходит. Человек карта смотрит.
— Ну что, славяне? — помягчел сержант. Широкое лицо его давно забила светлая курчавая щетина. — Останемся?
— Можно бы, — ответил высокий пехотинец, на ушанке которого звездочка была вырезана из консервной банки.
— Но учти, сержант, дисциплина как в полковой школе, — веселея глазами, сказал ему Тельнов. — Чуть что — на «губу».
— Да уж вижу. — Сержант ухмыльнулся. — Наверно, и трибунал есть?
— Как положено, — подыграл Тельнов. — Ступай, доложись комиссару.
— И без доклада вижу, — отмахнулся Белов. — Учти, сержант, едим из одного котла. Ежели не по тебе — вольному воля.
— Крохоборничать не обучены, — обиженно буркнул тот.
Так их стало пятнадцать.
Шли они гуськом, а если позволяла дорога, то по двое, выдвигая справа и слева по дозорному. Новичкам вроде понравилось, как быстро и без особых обсуждений все решал Белов, как, не мельча на подробности свою мысль, коротко излагал ее, когда выбирал тот или иной маршрут, во всех случаях теперь ложившийся строго на восток. Высоко над деревьями проплыл однажды подвывающий гул самолета. Но чей он — угадать не могли. И этот, казалось, далекий от них посторонний, но живой звук вернул им ощущение стершегося времени, напомнив, куда и зачем несут они свои жизни, спасаясь от холода, голода и тайных опасностей, готовые в любую минуту к гибельным встречам с ними… и о том, что надо торопиться.
Опять начались ольшаники, хвои стало меньше, она выдавала себя синеватой зеленью лишь на высоких местах, где под снегом угадывался песок.
После недолгого утреннего перехода лес неожиданно оборвался — вырубка со свежими пнями лысо уходила в ложбину, за ней густо темнела чаща. Эта странная вырубка насторожила Белова, и, не выходя из кустов, он взял у Саши бинокль.
— Пришли, — буркнул Белов, внимательно рассматривая что-то. — Погляди. — Он отдал бинокль Саше. Белов понял: вырубка обнажала местность, делала ее защитным сектором, на котором просматривается любое движение, а за нею, в ложбине, там, где темнеет лес, замаскированные ветвями, камуфляжными сетями, стоят автофургоны развернутых радиостанций, пыхтит выхлопной трубой передвижной генератор, ходят часовые. Вдоль кромки леса, обнося большой участок, бежали колья, опутанные колючей проволокой в той — снизу доверху — ряда. В глубине лепились два рубленых домика с оконцами, над заснеженными крышами из жестяных труб выкручивался синий дымок. На одной из крыш торчал металлический шест антенны, утончавшийся в каждом суставе, и вдоль стены этого домика, провисая, вились жгуты кабеля. Поближе к вырубке — справа и слева — торчали две вышки с прожекторами и пулеметами…
— Узел связи, — сказал Саша, опуская бинокль. — И довольно крупный.
— Вот рвануть бы его! — вскинулся Тельнов. — Нас же теперь сколько! И саперы есть, а, комиссар?!
— Рвануть! Чем? Соплей или из этой пукалки? — Белов тронул карабин старшины. — У тебя что, тол есть? Да и как подберешься — с вышек выкосят за милую душу.
— Во втором домике караулка, — сказал Саша. — Оттуда только что человек восемь на развод вышло.
Сколько же будем драпать без дела?! — вскипел старшина. — Шкуры только свои спасаем? Воевать надо!
— А мы и идем, чтоб воевать, — спокойно ответил Белов.
Но Тельнова занесло, он уже обсуждал с саперами, как подорвать этот узел, спорил с ними, что-то доказывал, ему уже виделось все, что будет потом, куда пойдут после этого…
Белов терпеливо, отстранившись от разговора, слушал. Он знал свое: нужно идти к фронту, идти как можно скорее тем путем, где виделась ему большая надежда на удачу и какой он выбирал, придирчиво и подолгу водя крепким ногтем по карте…
— Время зря теряем, — наконец не выдержал Белов.
— Эх! — махнул сокрушенно рукой Тельнов. — Такой случай упускаем. Становись, хлопцы! — без охоты скомандовал он…
Не сразу, но все же вышли они на подходящую, как считал Белов, дорогу. Шла она по просеке с запада на восток — хорошо наезженная — с тугими свежими колеями.
Но двигались вдоль нее лесом, по глубокому снегу, таясь, не рискуя ступить в умятый, отглянцованный санный след.
День разгулялся, звонкий от яркого солнца и мороза; белый пар от трудного дыхания замаявшихся людей невесомо отлетал за спины, растворялся в воздухе.
На крутом спуске в укачавшийся ритм их шагов вдруг вплелся посторонний звук: он донесся из-за бугра, который им предстояло одолеть. Белов поднял руку, все остановились. Он чуть подался из-за куста к просеке и, глядя вверх по ней, полого поднимавшейся, стал ждать, приготовив бинокль.
Три санные упряжки — одна за другой — поднялись из-за бугра и скользнули вниз. Сквозь сильные линзы Белов видел пар над мордами запряженных в сани лошадей. На санях, развалясь в сене, устроились немцы — по трое на каждых, с автоматами. Это был обоз. Что-то в розвальнях везли, прикрытое брезентом. На третьих санях торчала из-под рогожи красная с белыми прожилками сала ляжка свиной туши.
«Хорошая штука бинокль, — подумал Белов. Что-то вдруг шевельнулось внутри. — Этих не пропущу. Надо хлопцам дать разговеться».
— Обоз. Брать будем, — сказал он старшине, и взгляд Тельнова удивленно и радостно метнулся к дороге.
— Гранаты? — спросил Саша, снимая рюкзак.
— Не надо. Еще пригодятся. Управимся и так. — Белов отобрал десятерых. Автоматы перевели на одиночные выстрелы. И патронов жаль, да и шуму меньше. Себе попросил у Шарафа карабин.
Цепочкой растянулись вдоль просеки, притаились за кустами, распределили — кто бьет возниц, кто седоков.
— По лошадям не стрелять. — Белов с почти позабытым наслаждением открыл затвор, глянул, как выплыл из магазина жирно блеснувший желтый патрон, мягко поддал его и одним движением ладони запер в патроннике.
Из ложбины обоз уже тянулся на подъем, лошади шли медленно, низко склоняя под дугами головы; позвякивала сбруя, звонко скрипел снег; передние сани были уже близко, и солнечный луч играл зайчиком, раскаленно поблескивал на краешке выглядывавшего над колеей плавно загнутого кверху отполированного стального полоза.
Ударил неровный, недружный залп, недолгое эхо, спугивая тишину, отозвалось в чаще и застряло в ней, с мохнатых ветвей посыпался излишек снега.
Немца-возницу с передних саней выстрелом швырнуло на дорогу, он свалился, натянув накрученные на кулаки вожжи. Лошадь стала. За ней привычно остановились и две другие — тела в розвальнях были уже неподвижны. Хлопнуло еще несколько выстрелов, кого-то добивали поодиночке. Один немец был ранен. Он перемахнул через кювет, побежал, левая рука висела плетью, правую, с автоматом, немец выкидывал назад и стрелял. Перебежав дорогу, Белов увязался за ним. Фигура немца петляла меж деревьев, но Белов не стал гнать его дальше: вскинул карабин, чуть повел и, когда узкая серо-зеленая спина заслонила свет перед камушником, выстрелил. Обхватив ствол ольхи, немец сполз, откинулся в снег. Белов подобрал его шмайсер, выдернул из-за широкого голенища убитого запасной магазин и пошел к обозу…
Трупы оттащили в заросли, забросали ветвями, там же спрятали сани. Выпряженных лошадей уже держал под уздцы Ульмас. Две припорошенные снегом свиные туши лежали у дороги. Под брезентом в санях оказались три бухты кабеля и несколько пустых бидонов для молока.
— Хорош трофей! — смеялся Тельнов, топчась возле свиных туш. — Попируем!
— К рождеству готовились. За сметанкой ехали, — сказал сержант-артиллерист. — Обойдутся…
Белов топором, прихваченным во время бегства из сарая, разрубил туши на части, мерзлое мясо распихали по рюкзакам.
— Что с рысаками делать? — спросил Тельнов.
— Самаркандцам. Им верхом легче. Третьего — в поводу… Сено с саней забрали? — напомнил Белов. — Еловыми шишками коней не накормишь… Получай свою берданку, — возвратил он Шарафу карабин. — Хорошо бьет, главное — не солью…
Через час они уже далеко отошли от этого места. Разделяя пеший строй, осторожно меж деревьями ступали послушные, видимо, реквизированные в здешних местах деревенские кони, спокойно покачивались на широких спинах их всадники. На третью лошадь навьючили рюкзаки с провизией и сено, увязанное в брезент.
Привал устроили в лесном яру, выставили часовых, разожгли костер и на подвесных жердях жарили огромные ломти свинины. По лесу пошел аппетитный дух, вкусным дымом тянуло от углей, на которых с шипением закипал стекавший жир. Сглатывая голодную слюну, люди нетерпеливо тыкали ножами в мясо, пробуя, не готово ли, и тогда из этих порезов, поднимаясь, пузырился розоватый сок. Когда наконец уселись и принялись за еду, обнаружилось, что в кругу нет самаркандцев.
Они сидели в сторонке под деревьями и грызли сухари, запивая кипятком из одного котелка, рядом лошади лениво подбирали бархатными губами сено.
Что же вы, Ульмас? — спросил, подходя, Саша.
— Нам чушка нельзя, — ответил Ульмас. — Наша закон есть.
— Вот оно что! — Он вернулся к костру.
— В чем дело? — спросил Белов, держа в вытянутых руках, чтоб не закапать одежду, сочащийся растопленным салом кусок мяса.
— Люди недавно в армии, не привыкли, — объяснил Саша.
— Привыкнут, голод не тетка, — сказал кто-то.
— Считайте, что они на диете, — засмеялся Тельнов. — Ну-ка, Александр, там в артельном сидоре должны быть две банки говяжьей тушенки. — И, не отрываясь от еды, он отмахнул, показывая рукой за спину.
Саша нашел банки и отнес их самаркандцам.
— Ты хороший человек, Сашка, — сказал Ульмас и, повернувшись к молчаливому Шарафу, быстро заговорил по-узбекски…
Костер почти погас, слабым багрянцем дышали отпылавшие угли, люди потянулись за куревом, после сытной еды со вкусом затягивались, беседовали, слова были негромки и спокойны. Совсем стемнело. Накаливался мороз. Сквозь верхушки деревьев вниз заглядывали белые звезды…
Даже зная, что теперь немцы переполошатся, Белов не жалел о сделанном. Невелика, правда, победа — смять каких-то обозников, может, и в стрельбе хватили лишку для столь малой удачи… А все же… Была избыта хоть какая-то капля душившей его ненависти и за бессильное унижение в плену, и за последующие мытарства по лесу, и за страх, липко облапивший его там, в сарае на выселках, когда ждал смерти, тоскливо думая, что утром казнят.
Была и еще одна причина, которая укрепляла в мысли, что поступил правильно. Не всякому втолкуешь свой резон: избегать по возможности нерасчетливых встреч с немцами: главная-то задача — как можно быстрее выбраться к своим. Одним это может показаться трусостью, чрезмерной осторожностью, у других, обломав веру и волю, и впрямь отобьет память о том, что они, солдаты, идут-то по своей земле и что уходящий от врага с оружием, но без попытки огрызнуться человек со временем может привыкнуть к мысли, что тихонько, без стрельбы, таясь, лучше — шкура своя целее будет. Теперь же, возбужденные риском, хоть небольшой и недорогой, но победой, люди поверят в себя…
Утром Белов брился, пристроив зеркальце меж веток. Делал он это регулярно, если, конечно, позволяли обстоятельства. Имелась возможность — грел воду, а нет — обходился холодной и скоблился.
Ульмас находился рядом, держа котелок с водой. Закончив бритье, Белов раздевался, подставлял спину, и Ульмас поливал его. Поводя мышцами, фыркая, Белов тер спину и грудь до малинового цвета, казалось, они дымились розовым паром.
— Худой стал, комиссар. — Ульмас провел ладонью по влажному боку Белова.
— Были б кости, Ульмас, а мясо наживем, — Белов ощупал лицо, пробуя, гладко ли…
К этому утреннему ритуалу Белова привыкли даже те, кто вначале недоумевал: и так сил не хватает. Позже нашлись и последователи: кое-кто вспомнил про бритву и мыло на дне вещмешка, и пошло…
После Белова брился старшина.
— Дерет, зараза, — ворчал он, — пасты бы на ремень, направить. Хорошо мы долбанули фрицев, а, комиссар? Как это ты сразу решил?
— Верняк был. Там, где бабка надвое гадает, — не люблю. — Белов уже оделся и курил.
— Может, еще чего удумаешь? — Тельнов смеялся намыливая щеки по второму разу.
— Сейчас надо думать, как похитрее да подальше уйти. Всполошили мы гадов, искать начнут. Так что придется без передыху.
— Да мы ведь и так махнули от того места, знаешь сколько?
— А они не могут махнуть?! Мы — пехом, они на колесах.
— Тебе виднее…
— Видно-то всем одинаково… Слепых нет Понять надо: на авось не проскочим… Пора, однако, закрывай парикмахерскую.
— Плесни-ка, — попросил старшина…
Кое-как утершись, Тельнов быстро застегнул комбинезон.
— Становись! — скомандовал он.
Люди построились. Белов видел, с каким усилием они снова поднимались в путь, но, не давая никому ни секунды на раздумья, негромко сказал: «Пошли» — и, повернувшись спиной к строю, зашагал…
После ночного побега из сарая в Дымарях, а еще больше после удачного нападения на обоз пошел, покатился от села к селу слух об отряде какого-то ловкого и отчаянного комиссара. По пути обрастая вымыслом, порожденным ненавистью к оккупантам, слух этот доходил и до солдат-окруженцев, застрявших здешних лесах и нередко делавших вылазки по окрестным деревням и хуторам. Прослышав про отряд Белова, эти пробиравшиеся к линии фронта люди теперь тянулись к нему, отыскивая след в заснеженной лесной глухомани, то по одному, а то и по трое-четверо присоединялись к отряду.
Смелые и сохранившие присутствие духа, от радости, что они теперь вместе и их много, с нетерпением ждали случая показать себя в бою. Те же, что, попав в окружение, разуверились в удаче или растерялись, измученные голодом, холодом и одиночеством, теперь, прибившись к Белову, с очнувшейся надеждой быстро вспомнили солдатскую выучку. Видя перед собой всегда выбритого, подтянутого Белова — в комбинезоне и в кожанке под шинелью, — старались выглядеть перед ним и новыми попутчиками бодрыми и исполнительными, поверив, что человек, взявший на себя ответственность вывести их к своим, и должен быть именно таким: неразговорчивым, даже хмурым, но деловым, отвергающим неразбериху, нерешительность и двусмысленность, связанные в их положении со смертельным риском.
Наблюдая все это, Саша думал, как живуча в людях тяга к чьей-то справедливой силе и воле, которые оказались надежней их собственной; что воля эта и собрала в единый послушный и сильный строй людей, еще не успевших в новых обстоятельствах открыть в себе способность к подвигу и самопожертвованию, но поверивших, что Белов, как комиссар, знает нечто, чего не знают остальные, и умеет то, до чего в своем жизненном и фронтовом опыте не дорос другой…
«Догадывается ли об этом Белов?» — спрашивал себя иногда Саша.
Белов же понял, что Саша простил ему однажды проявленное нежелание обрастать, как тягостью в пути, людьми; бескорыстное, но вместе с тем и жестокое прежнее стремление его в одиночку и побыстрее пройти этот путь. Отвергая желание других разделить с ним предстоящее, Белов боялся возможной обузы, которая может задержать или в чем-то помешать ему совершить то естественное и необходимое, на что, как полагал он, способен каждый, даже в одиночку.
И, следуя своему правилу, старался теперь делать еще больше и вернее, чем другие, однако не из прежней недоверчивости — нынче, как никогда, ему требовалось ощущение надежности каждого своего следа, в который ступят остальные, кто поверил ему…
Отправившись за сушняком, Саша брел за кустами, огибая покрытую нетронутым снегом поляну, когда увидел белку. Перебегая от дерева к дереву, прыгая по веткам, она словно играла с ним, и он, задирая голову, шел следом за ней, до колен проваливаясь в снег. И, как обычно в лесу в таких случаях, с просчетом отмахал лишнюю версту. Зверек скрылся. Саша раздвинул кусты, осматривая- противоположный край поляны, и тут увидел шалашик, а возле — троих в маскхалатах. Склонившись над рюкзаками, они вытаскивали похожие на мыло брикеты, мотки черного шнура. Потом из шалашика вышел еще один человек. Вглядевшись, Саша изумленно обмер: из-под ушанки, прикрытой белым капюшоном, выбивались темные пряди волос, обрамляя лицо три далекой, уже почти забытой девушки, в которую была влюблена вся курсантская рота на радиокурсах…
Не раздумывая, Саша махнул через поляну. Три автомата вскинулись ему навстречу, а он шел к ним — парень в форме советского солдата, и улыбался, и его автомат доверчиво висел через плечо стволом вниз.
— Кто такой? Что надо? — повелительным движением руки остановил Сашу человек с белым, раздвоившим бровь шрамом.
— Рядовой Ивицкий. Иду к своим, — не потеряв улыбки, ответил Саша, а сам смотрел на девушку, все точнее и радостней вспоминая ее.
Чем докажете? — спросил мужчина со шрамом.
Все больше веселея, Саша сказал:
— Есть доказательства! Такие, что отсалютуете мне из трех стволов. Если не верите, что я рядовой Ивицкий, попробуйте не поверить, что ваша спутница — старший сержант Соболевская. Радистка высшего класса! — засмеялся он.
Девушка оторопело глянула на своих товарищей и снова — на Сашу. Мужчины переглянулись. Но тот, со шрамом, все же сказал:
— А можно без загадок? И покороче.
— Товарищ старший сержант, — уже серьезно обратился Саша к девушке, — вы у нас на курсах преподавали СЭС[3]. Я из третьей роты. Помните, знаменитая третья курсантская, из училища прибыла, — и, торопясь, он сыпал подробностями, огорченно понимая, что лично его Соболевская не узнает, хотя в глазах ее уже тепло оживало прошлое.
Саша объяснил, как оказался в тылу у немцев.
— Что, Юля, твой птенец? — спросил тот, что со шрамом.
— Похоже, мой, товарищ старший лейтенант. Все точно, даже расположение столов и окон в классе.
— Кто у вас тут командир? — спросил старший лейтенант.
— Петр Иванович Белов.
— Звание?
— Зовем просто: кто «командир», кто «комиссар».
— Далеко отсюда?
— Да нет.
— Ну что, Володя? — Старший лейтенант обратился К высокому чубастому парню. — Сходим? — И, не дожидаясь ответа, скомандовал: — Собирайтесь!..
Они укладывали рюкзаки. Саша видел, что брикеты — это тол, а шнур огнепроводный, и, как человек, достаточно повоевавший, понял, что люди эти — разведчики-подрывники. Из шалашика вынесли рацию, и он восторженно шепнул:
— «Северок»! — легендарная для каждого радиста рация «Север», которой пользовались те, кого забрасывали в тыл для дальней и долгой разведки.
Только сейчас Саша заметил, что правая рука Соболевской на перевязи, кисть и предплечье обложены оббинтованными шинами. Но в чем дело, спрашивать не стал…
Саша шел впереди, по своим же следам, остальные— за ним гуськом.
Он вспомнил радиокласс, несколько десятков столов с ключами и наушниками, подсоединенными к пульту, за который садилась Юля Соболевская. Вспомнил и то, как входила она к ним, свежая, красивая, стройная, в отутюженной гимнастерке, в синей диагоналевой юбке, сильно перехваченной в талии ремнем, в легких хромовых сапожках. Все вскакивали. Дежурный рапортовал, а курсанты, пользуясь этими краткими мгновениями, неотрывно смотрели на строгое белое лицо, подсвеченное сиянием зеленоватых глаз. Она снимала пилотку, отбрасывала назад черные кудри:
— Садитесь!..
Курсанты работали попарно между собой, потом с Юлей; старались, потели, выкладывались, хотя знали, что для нее все они одинаковы, что есть, кроме них, еще и старшина Виноградов, с которым старший сержант Соболевская бывает больше, нежели требует служба.
Эта легкая, пьянящая и общая для всех влюбленность выражалась по-разному. Одни чисто и восторженно замирали при виде Юли, другие со сладким комом в горле торопились оглядеть всю ее, начиная с ног и бедер, узко затянутых в синюю диагональ, третьи мечтали, вспоминали своих одноклассниц, которых едва ли успели хотя бы раз робко чмокнуть в щеку, сравнивали…
Юля Соболевская ни о чем не догадывалась. Ей шел двадцать второй год. Она была старше. Пусть всего на три года, но в этом возрасте разница всегда кажется большей…
Белов встретил гостей настороженно. Слишком непривычно среди них, оборвавшихся и отощавших, выглядели эти трое. Было в них что-то независимое, свободное, подчинящее; то ли от добротной, по форме экипировки, то ли шло от их лиц, не измученных голодом и надсадностью.
Отошли в сторонку, познакомились.
— Старший лейтенант Кухарчук, — представился подрывник со шрамом.
— Белов.
— Комиссар? — не стесняясь, откровенно разглядывал его Кухарчук.
— Не похож? — уклонился Белов. — Что на фронте? Все еще отходим?
— Нет. Немцев остановили почти всюду. Жмем на Житомир и Овруч. Одним словом, большой замах.
— А вы, значит, туда? — Белов мотнул головой за плечо.
— Туда, да вот не пофартило — при выброске радистка руку вывихнула. Куда с ней? Дело гибнет…
— Ясно, — неопределенно ответил Белов и подумал: «Намекает на Сашку?»
— Просто не знаю, как быть, — сказал Кухарчук и посмотрел в сторону Соболевской, там уже суетился, улыбаясь во весь рот, Тельнов. — Все дело гибнет, — повторил старший лейтенант.
Белов поймал краем глаза лицо Саши, в раздумье прикусившего губу, и подумал, что радист — везде человек полезный, может сгодиться еще и ему, Белову.
Кухарчук что-то еще говорил про радиста, но Белов сделал вид, что не слышит.
— Забот хватает, — неопределенно заметил Белов. — У тебя свои, у меня — свои. Одним словом, житуха, — заключил он.
— Сколько у тебя радистов? — спросил Кухарчук.
— Я могу пойти с вами, товарищ старший лейтенант, — сорвалось вдруг у Саши, который неуверенно, будто прося о чем-то недозволенном, посмотрел на Белова.
Кухарчук тоже смотрел на него, но Белов молчал, насупившись.
— Сможешь? — спросил, наконец, прервав затянувшуюся паузу, Кухарчук у Саши.
Саша понял по-своему.
— У меня первый класс. Работал на РБ, РБМ, 5АК, — оживляясь, перечислял он. — Знаю кю-код, зэт-код, код Маркони, жаргон, — волнуясь, как на экзамене на классность, торопливо заговорил Саша, на мгновение он словно забыл о присутствии Белова, думая лишь о любимой работа, по которой истосковался.
Белов не вмешивался в этот разговор, хмурился, не ожидал, что так болезненно царапнет обида на Сашу — не ждал, что так легко тот решит расстаться с отрядом, да и с ним, ведь вдвоем начинали этот тяжкий путь, а теперь радист был целиком в будущем, в том, что предстояло им с Кухарчуком и к чему он, Белов, был уже непричастен. Не нравилась ему и торопливая, почему-то показавшаяся хвастливой скороговорка Саши…
— Так что, Белов, отпускаешь радиста? — спросил Кухарчук. — Пойми, позарез нужен, иначе все бессмысленно, зря выбрасывали нас.
— Я его на поводке не вожу… — ответил Белов. — Вольному воля.
Саша ожидал, что Белов будет возражать Кухарчуку, и даже заранее испытывал неловкость перед ним — вроде бы покидал его пусть ради дела, но ведь неизвестно, имел ли бы он, Саша, возможность выбирать сейчас, если бы тогда, в начале пути, не свела его судьба с Беловым.
— Значит, столковались, — сказал подрывник. — Спасибо… — И уже к Саше: — Иди к Соболевской, пусть покажет рацию. За двадцать минут освоишь?
— Освою! — отбегая, крикнул тот.
— А вы — дальше? — спросил Кухарчук. — Задача-то какая у вас?
«Какая еще задача? — недовольно подумал Белов. — Кто мне ее ставил? Что он, не понимает, этот старший лейтенант?»
— Уходить отсюда — вот и вся задача, — пожал Белов плечами.
— Это-то понятно, само собой, — сказал подрывник.
— А что еще? — Белов глянул на белый, обескровленный шрам, пересекающий лоб, резко сломавший, разделивший бровь Кухарчука.
— Тут уж кто какой счет к ним имеет.
— Мой счет — моя забота. Ты за то не болей.
— Дорогу хорошо знаешь?
— По нюху да по карте.
— Дай-ка карту, — сказал Кухарчук.
Белов вытащил карту.
— Вот река. — Подрывник повел пальцем посиней ниточке. — Переправляйся здесь, — надавил он ногтем, — здесь поуже. Отсюда возьмешь к болотам. Там у фрицев дырка, на топи надеются. Учти: болото плохо промерзло, скопом не прите. Летом оно вообще гиблое. Между болотом и березняком зенитная батарея, «эрликоны». Сплошной линии фронта еще нет. Ни у них, ни у нас. Все еще в движении. Если с умом — пробьетесь. Пострелять придется, правда.
— Обучены. — Белов спрятал карту в сумку, хотел было поблагодарить, да передумал и сказал: — От просеки держитесь подальше. Мы там их обозик распотрошили. Будут искать. Северо-западней, — он снова достал карту, развернул, — вот тут — узел связи у них крупный.
— За это спасибо. Подходящий объект… Слушай, браток, — помялся Кухарчук, — выручи еще: возьми с собой радистку. Куда мы с ней.
— Обмен-то неравноценный, — ухмыльнулся Белов. — Продукты на нее положены?
— Выделим… Туго, что ли?
— Полкабана осталось. На всех…
Прощались коротко, нешумно. С помощью Тельнова Юля уже взобралась на лошадь. Кухарчук и его люди задали Сашу.
— Не обижаетесь, Петр Иванович? — стоял он перед Беловым. Белов хмыкнул.
— Я им полезней буду, чем тут…
— Скажи какой могучий!.. Ладно, топай. — Он отодвинул, подтолкнул Сашу широкой ладонью.
— Карту я оставляю вам, Петр Иванович. Доберетесь, передайте какому-нибудь начальству… Это — вам, на память. — Он снял с груди бинокль. — Тельнову я дал шесть «лимонок»… Ну, прощайте!
— Авось, свидимся, радист… Иди, ждут тебя, вишь, застоялись, ногами перебирают…
Прежде чем исчезнуть за деревьями, Саша оглянулся в последний раз и помахал рукой, но увидел лишь спины. Медленно удалялся снявшийся со стоянки отряд. Во главе его, склонив голову, глядя под ноги и сутулясь больше обычного, шел Белов…
Он не соврал Кухарчуку: еды оставалось совсем мало. Пришлось урезать дневной рацион. Можно было б, конечно, и в какое-нибудь село завернуть, местный народ подсобил бы, но в прифронтовой полосе непросто сунуться в село с группой в тридцать человек.
И все же, измученных, их, со стертыми ногами и уже почти равнодушных к холоду, вела, торопила в путь, ломая нежелание подниматься с привалов, мысль, что уже близка заветная черта, которая зовется «линией фронта». И за нею ждет их необходимое и привычное: громкий, не таящийся от чужих ушей звук родной речи, веселое звякание котелков у походных кухонь, голос взводного или ротного, письма из дому.
И хотя Белов знал, что там все начнется заново, что еще будут жестокие бои, что, может, ждут смерть или ранения, что и на снегу доведется снова спать, и грязь месить на маршах, а порою и недоедать, грызть те же сухари и, как сейчас, выскребывать из уголков карманов табачную пыль, смешанную с крошками хлеба и свалявшимися нитками, — он все упрямее вел людей к этому желанному рубежу.
Он да и все его непросто обретенные сотоварищи знали, что слово «комиссар» уже давно заменено в армии словом «замполит», пусть и вобравшим в себя суть давнего понятия, но здесь, где судьба брала их каждодневно на мушку, ожил прежний его смысл. И не было это оговоркой, звучавшей не по уставу.
И сам Белов угадывал в себе, что не стань он «комиссаром», в подобном же положении он обращался бы с этим словом к любому иному человеку, в котором уловил бы то главное, чем, считал он, нельзя поступиться даже при выборе: жизнь или смерть…
Молчаливый Шараф был совсем плох, после привалов с трудом взбирался на лошадь, ноги его распухли и почернели, его сжигала высокая температура: большие сливовые глаза на смуглом лице горели, будто отражалось в них пламя близкого костра.
Ульмас, обеспокоенный и почти не отходивший от земляка, сказал Белову:
— Жалко Шараф. Три дочка у него.
— Жалко, Ульмас.
— И Сашка жалко. Зачем отпустил, комиссар?
— Сам он захотел.
— Ты не сказал: «Нет, Сашка, будешь с нами ходить». Кто аксакал: ты или он? А ты сделал как? Есть Сашка — якши; нет Сашка — тоже якши. Обиделся он.
— Ну уж! Говорил он тебе, что ли?
— Зачем говорил? Я сам видел…
Шараф умер перед рассветом, умер тихо, сохранив на потемневшем лице тот покой мудрости, с которым переносил выпавшие на долю страдания, с которым вообще жил на земле, понимая все на ней происходящее…
Какое-то время они побыли вдвоем — мертвый Шараф и Ульмас, — так у них полагалось. Белов выбрал место под сосной, где песчаный грунт не так промерз. Верхний слой он выбил топором, глубже земля была мягче. Но все равно без лопаты хорошую могилу не выроешь.
Сержант-артиллерист срезал широкий кусок бересты и, слюнявя огрызок карандаша, с трудом нацарапал на ней фамилию и имя умершего, а под ним дописал — «солдат». Расщепив кол, Белов вставил бересту и пристроил его в изголовье невысокой могилы, обложенной лапником. Постояли, опустив глаза, каждый думал свою думу, как и бывает на любых похоронах…
К реке подошли, когда начало смеркаться. С их стороны берег был крут, противоположный отсюда казался пологим. Вдоль берегов синел лед, но по стрежню шла черная медленная полоса чистой воды, загустевшей на холоду, как машинное масло. Над нею поднимался подвижный пар. Все это предстало как явление из другого мира — равнодушное, обособленное в своем праве не вникать ни в их положение, ни в их жажду очутиться на другом берегу. Они сошли с косогора к реке и остановились, притихли перед этой силой, понимая, что ее не обмануть, не сбить пулей, не сломить отчаянным навалом, как в рукопашной. Они видели, что реку не обойти ни справа, ни слева. Не одолеть ее и вплавь. Стояли и смотрели молча на белое морозное дыхание темной воды, которая казалась сейчас нескончаемо глубокой.
Может, каждый, оказавшись один на один с рекой, и придумал бы что-нибудь или хотя бы попытался сделать это, но сейчас, как по команде, все посмотрели на Белова.
— Комиссар, плоты, а? — тихо спросил Тельнов. — Вон лесу сколько.
— Давай! И жерди подлиннее.
— А чем вязать их, подумал? — спросил сержант-артиллерист. — Да и с одним топором мы тут до майских праздничков будем сидеть, — махнул он рукой.
— Разговорчики! Становись! Смирно! — скомандовал Тельнов. — Погреться работенкой пора! — И, повернувшись к Белову, вскинул руку к виску: мол, все готовы — приказывай.
Белов почти никогда и никому не приказывал, но так уж получалось, что даже обычные слова его, произнесенные кратко и веско, слушались как приказ. Сперва Белова это смущало, но постепенно он привык, обнаружив, что все чутко ловят каждое его слово, с надеждой и верой смотрят в лицо, будто так, как решил он, они думали и сами, но ему, как и положено командиру, это пришло в голову первому…
Старшина Тельнов, незаметно начавший наводить уставную дисциплину, вскоре оказался в роли заместителя Белова, чем словно подтверждал эту его роль.
Не сразу, поначалу даже насмешливо щуря глаза, но все же Белов привык к тому, что его называли «комиссаром», что так легко брошенное однажды Тельновым и подтвержденное испуганной фантазией рябого Ильи слово это, не вызывая ни сомнений, ни недовольства, определило его место в нелегкой доле людей.
Коротко объяснив, что без плотов не обойтись, сам еще не зная, чем вязать их, Белов поднялся на косогор и двинулся вдоль него. Лес отступал, открылось поле. Вслушиваясь в глухие, по сырым стволам удары топора, Белов шел дальше, его обступала тишина, и оттого, что здесь он был в одиночестве, знакомые по первым суткам его мытарств беспокойство и тревожная напряженность вновь сжали сердце, и нестерпимо захотелось немедленно вернуться к людям, увидеть их, услышать голоса. Но не мог он возвратиться ни с чем, и, жадно цепляясь слухом за еле различимый уже стук топора, Белов удалялся в поле. Надежда не слукавила: вдали затемнели сложенные в штабеля, давно забытые и потемневшие от времени щиты для снегозадержания, за такими же он с Тельновым прятался возле Дымарей. Политые осенними дождями, присыпанные снегом, щиты смерзлись. Он долго раскачивал верхний, наконец, с трудом отодрал от льдистой корочки и потянул на себя. Щит был тяжелый, и Белов, подумав, что сам не управится, всё же заставил себя кое-как стащить его и, подперев раскинутыми руками, подхватить на спину. Крякнув от натуги, переломившись в пояснице, широко и медленно переставляя ноги, пошел…
Он шел, обливаясь потом, согнувшись в три погибели, чувствуя, как шумно и трудно рвется из груди дыхание и как что-то изнутри давит на глаза, выпирая их их орбит. Особенно тяжело было спускаться с косогора, но кто-то уже заметил Белова, изумленно вскрикнул, и несколько человек бросились на помощь.
За час щиты сволокли на берег, несколько штук разобрали ради гвоздей и ими набили на щиты вырубленные лесины. Потом недолго отдыхали, перекурили, загнанные, но и успокоенные работой, и на реку уже смотрели без растерянности, просто задумчиво: за нею был желанный, хотя и незнакомый берег…
Плоты спустили на воду. Перед тем как грузиться, Белов и Ульмас отвели лошадей к лесу и оставили там, надеясь, что привыкшие к человеку животные сами отыщут дорогу к жилью.
Белов любил лошадей. Считал их добрыми и понятливыми животными. С юношеских лет, с тех пор, как: стал работать в шахте попервоначалу коногоном, привязался он к коням, спущенным однажды и навсегда под землю тянуть вагонетки, привыкшим к полутьме, запаху сырости и угольной пыли, почти слепым. Они выполняли свою однообразную работу без излишних понуканий, без строптивости. Он и жалел и уважал их за это, как всех, с кем честно трудился бок о бок…
Весу на каждый плот досталось с лишком, щиты осели, вода сразу же залила ноги по щиколотки, люди стояли, боясь шелохнуться, полные ощущения, что под ступнями во мраке вода, медленно струящаяся, ледяная, глубокая. До дна длинные жердины доставали с трудом, да и то не во всех местах. Но все же доставали, и уже через три-четыре минуты все работали шестами уверенней и сноровистей.
Покинутый берег уходил во тьму, и последнее, что Белов разглядел на нем, были смутные силуэты лошадей: не желая расставаться с людьми, они спустились с косогора к берегу.
«Не потерять бы в темноте отряд!» — Белов осторожно налегал на жердь, вслушивался в хлюпание воды и сожалел, что не узнал точнее у радистки, как и где переправлялась группа Кухарчука.
Течение растаскивало плоты. Люди недоверчиво всматривались во мрак, где угадывался новый берег: что там? Может, немцы стерегут? Залегли за пулеметом и, посмеиваясь, с нетерпением ждут потехи, еще раз проверяя, хорошо ли вошла лента в приемник, не перекосило ли…
Но реальная беда настигла раньше. На одном из плотов кто-то сильно ткнул жердью, но, не встретив упора, невольно подался за ней. Пытаясь удержать падающего, трое других шагнули к нему, освободившийся край плота подняло над водой. Крик ужаса вместе с плеском скользнувших в реку тел ударил в темноту. Пустой плот быстро отнесло от тонущих. Намокшая одежда тянула вниз. Из последних сил выгребали на поверхность те, кто умел плавать, пытались за что-нибудь зацепиться, догнать плот. Но скрюченные пальцы захватывали лишь воду; людей уволакивало сильное донное течение, кто-то с захлебом вскрикнул последний раз — и все стихло…
Длилось это несколько минут, за которые Белов едва успел понять, что произошло. Прикрыв глаза и стиснув зубы, он коротко тряхнул головой от бессилия что-либо поправить, изменить…
Выгребая к берегу, он отыскивал взглядом другие плоты, пытался сосчитать их, замирая от суеверного предчувствия, что лиха беда — начало. Его вдруг зазнобило страхом вины за случившееся и за тех, кого судьба могла еще присоединить к погибшим. Имел ли он право, полагаясь только на свою уверенность, лишь на свои силу и надежду, так нерасчетливо толкнуть людей на эти жалкие плоты? Но ведь никто не возражал, никто не противился, — пытался успокоить себя Белов… И что оставалось? Какой выбор? Но имел ли он право не поискать иного пути в сомнениях и опыте других?..
Берег был пуст и встретил тишиной, спеша узнать, кто же утонул, солдаты заглядывали друг другу в лица… Наконец Тельнов собрал всех, построил, и после торопливой переклички, уставшие и подавленные, люди заторопились к лесу…
Тельнов постоянно и неотступно держался около Юли. Внимание старшины к девушке с момента ее появления в отряде казалось Белову неуместным. Но танкист делал вид, что не замечает его неодобрительных взглядов.
«Неужто втюрился? — удивленно думал Белов. — И голодуха не помешала. Гремит костями, а глазом — туда же… Парню двадцать четыре. А ей? И того меньше… Ах ты, жизнь!..»
Привал устроили в густом березняке, куда добрались едва живые. Белов разрешил разжечь два небольших костра — надо было передохнуть, хоть малость обогреться, поесть, а Главное — переобуться, выжать и высушить портянки.
Сидели, горестно придавленные бедой на реке, перебрасывались лишь самыми необходимыми словами.
Рука у Юли налилась болью, отекла под шинами, набухшие синевой пальцы одеревенели. Юля ловила толчки боли, как бы следя за ее движением от кисти к плечу, и тогда становилось чуть легче и можно было не стеречь себя, боясь выдать свое состояние стоном. Она не хотела, да и не имела права быть в тягость этим людям, изможденным, почти потерявшим ощущение собственного тела. А они вдруг лихорадочно и жадно начинали пересчитывать патроны, дотошно проверять, хорошо ли укутаны последним тряпьем затворы автоматов и карабинов. Делали они это сосредоточенно, а вспоминали о хлебе и с сожалением о том, что зря не пристрелили лошадей — конина, если хорошо посолить, тоже вкусная…
Клонило в сон, усталость давила на плечи, склеивала глаза, и, с трудом разлепляя веки, Юля смотрела в огонь. Тельнов жарил ей кусочек свинины, шипел над костром парок от сырого прута, на который было нанизано мясо. Юля понимала, что смерть постоянно подстерегает их на этом пути, может, через час и она погибнет от немецкой пули, но тот крик, расколовший тишину над рекой, еще, казалось, звучал и был страшнее ее представления о собственной смерти…
Сдавая перед выброской документы в штабе, Юля успела уплатить членские взносы и еще раз прочитать номер комсомольского билета: проверяла, правильно ли запомнила его. Если суждено вернуться, думала она, будет просто стыдно, когда пойдет за документами: называется, сходила на задание!
Вывихнула руку, как неудачливая школьница на волейбольной площадке. Ведь майор предупреждал: «Аккуратненько. Только аккуратненько… Если ты выйдешь из строя, Кухарчук и его орлы могут устраиваться там на зимнюю спячку». Хорошо, что встретили этого молоденького радиста…
— Готово. — Тельнов протянул ей мясо. — Вот сухарь.
— А вы?
— Я свою порцию утром съел, — солгал он — Много нельзя, заворот кишок будет.
— Шутник вы…
— Был да весь вышел…
— Где вы жили до войны?
— Тверской я. Монтером работал. Бывало, влезу на столб, держусь на одних «кошках», без ремня, фокусы показываю девчонкам, частушки там пою… Знал их пропасть… Хотите частушку?
— Спойте.
Старшина оглянулся на Белова и, улыбнувшись, продекламировал:
Разжевывая ржаной сухарь, Юля хмыкнула.
— Ничего, добраться бы до Берлина! Залезу на самую высокую крышу и такую частушку врежу — вся Европа услышит!
— А вы женаты, Леонтий?
— Нет. Все искал, чтобы сирота была: без приданого, да зато и без тещи… А вы? — осторожно спросил старшина. — Замужем?
— Мужа у меня нет… — Юля не закончила.
Белов ковырял палкой в костре и, занятый своими мыслями, слышал лишь обрывки этого разговора. Ветки, отпылав, превращались в уголья, лопались. Он отодвигал их, постукивал, они легко рассыпались, покрывались пепельной дымкой, совсем не похожие на тот уголь, к которому привык он. То ли дело антрацит! Алмазно твердый, сияющий на гладких изломах, откалывался он от пласта под отбойным молотком тоже пластами. А как горел! Почти бездымно, синим чистым пламенем… Доведется ли еще когда-нибудь колупнуть уголек?.. В памяти ожили звон и подрагивание клети, спускающейся в забой. Он любил утренние смены. Перед спуском любил выкурить по последней с ребятами из бригады. Утро свежее, веселое, ветерок играет слинявшим малиновым полотнищем флага на копре, гудит маневровый паровозик «овечка». В ламповой Галя приготовила ему «карбидку»… Что там, дома?.. Наверное, восстанавливают шахты…
Он понимал: фронт близок, позавчера слышали уже погромыхивание артиллерии, — и заметил, как напряглись лица людей, как словно подались они навстречу этому далекому призывному гулу. И тогда же вдруг подумал: а как бы он без них?.. Одолел бы все? Чужие, незнакомые прежде, а теперь кажется, что ближе и родней нету… Что тут судить-рядить, никто ему сейчас не нужен, кроме них, голодных, иззябших, обессиленных, но проверенных, умеющих одолеть все… Ведь если что — полягут друг за друга… И за него, значит… В последний прорыв… пойдут без удержу за ним. Великую цену положат фрицы, став поперек. Последний прорыв таких людей — дело страшное, вспять жизни им нету… Однако пора…
Опершись ладонями о колени, Белов с усилием поднялся, хотел было позвать Тельнова, увлекшегося разговором с Юлей, но передумал, кликнул сержанта-артиллериста:
— Надо бы идти. Наш случай — пока темно.
— До рассвета еще часа три, комиссар.
— В аккурат и двинем. Спящих нет?
— Дремлют. Сморило… Ничего, разомнутся, когда с фрицем встретятся. Тельнов-то соловьем разливается. Видал?
— Видал, видал… Не наше дело…
Но уже подошел Тельнов:
— Пора, комиссар? Половина пятого.
— Да!.. У фрицев самый сладкий сон со слюнями…
Огневые позиции немецкой зенитной батареи, о которой говорил Кухарчук, обходили низиной, шли осторожно, стараясь ничем не звякнуть, придерживали котелки, остро вглядывались в темень. Батарея, вероятно, стояла на бугре, у самой опушки березняка, неразличимая на его темном фоне. Угадывалось там что-то, но что именно — капониры ли, машины ли, сами орудия, или просто купы деревьев — было не разобрать, не определить. В обход шли к болотам, поросшим низким жестким кустарником. Чутко подстерегали каждый звук. Мороз ослаб еще утром, к ночи наст зачерствел; взламывая корочку, нога уходила в снег, как в норку, тянуло сырым ветром, в безлунном черном небе непроглядно-плотно сбились тучи.
Не одолели и двухсот метров, как наткнулись на ряд кольев, Густо, как сеткой, оплетенных колючей проволокой. Ограждение это широко охватывало низину, пологий подъем на бугор. Сворачивать было некуда, оставалось делать проход.
— Тут у них, наверное, все пристреляно, как на полигоне, — предположил Тельнов.
— Да и мин могли понатыкать, — сказал сержант-артиллерист.
— Позови-ка саперов, старшина, — попросил Белов.
Сгребая верхний снег руками, дуя на зябнувшие пальцы, два сапера на карачках ползали перед заграждением минут двадцать, но мин не обнаружили.
Тогда Белов ударил топором по ближнему колу. Он был прочен, глубоко врыт, и топор отскочил от сырого дерева. Делая интервалы между ударами, напряженно вслушиваясь в тишину, Белов размашисто бил, стараясь попадать пониже, под основание. Удары, недалеко отлетая, чахли. Когда он глубоко подсек два кола, несколько человек разом навалились на них, колья с треском подались, натянув проволоку, тут где-то справа и слева задребезжали консервные банки.
— Ложись! — крикнул Белов.
В тот же миг с бугра взлетела ракета, облила дрожащим молочным светом снег и черные, как тени, фигуры людей на нем. Стекая белым сиянием и раскаленными брызгами, ракета не успела погаснуть, как с бугра ринулась к ним прерывистая цветная нить пулеметной очереди. Снова взлетела ракета. Пулемет сек все ниже и ниже, пули с визгом неслись над головами распластанных людей. «Выбьют! Всех выбью…» — вцепился Белов пальцами наст.
Подполз Тельнов, жарко зашептал:
— Я туда… Отвлечь… Гранаты есть. Как начну, вы сразу — рывком…
— Сам?!
— Еще четверо… Автоматчики… Радистку береги, комиссар! — Он скользнул в темень.
Пулемет умолк, видно, выработали ленту. И эту краткую передышку использовал Тельнов, метнувшись со своими людьми к батарее.
Снова, со взлетом ракеты, стеганули пулеметные очереди, прижимая к земле, взметывая колкий снег. Кто-то закричал сзади. Стрелять отсюда по бугру было бессмысленно… Оттуда, куда ушел Тельнов, темнота вскоре осветилась короткими вспышками, и, обгоняя друг друга, вверх, к бугру, понеслись очереди ППШ.
«Добрался старшина!» — облегченно вздохнул Белов. Но тут же по группе Тельнова ответно ударили шмайсеры. Немецкий пулеметчик тоже перенес огонь туда. Скрещиваясь, рвали тьму раскаленные струи огня…
— Вперед! Быстро! — привстал Белов.
Бросились к проходу, перепрыгивая через проволоку, торчавшую над поваленными кольями. Белов оглянулся. На снегу осталась темнеть одинокая фигура.
— Худяков… Сапер… Убит! — крикнул сержант- артиллерист.
Белов бежал пригнувшись, не отпуская взглядом бегущую впереди Юлю. По ним опять застрочил пулемет, но трассы прошли выше: в ложбине, полого спускавшейся к болоту, начиналась мертвая зона. А у ската немецкой огневой Тельнов вел свой бой. Дважды рванул там гранатный взрыв. Пулемет умолк, но с надсадным остервенением навалились шмайсеры. Стук наших автоматов был не так густ, сбивался, порой глох, но каждый раз после недолгого перерыва слышался снова.
Наконец достигли болота. Под ногами мягко поддавалось, пружинило.
— Не в кучу! Россыпью!.. Болото тут! — крикнул Белов.
Видно, батарея имела связь с частью, занимавшей позиции слева, за болотом. Оттуда вдруг ночь пронизало длинной белой иглой — сухо застучал пулемет, его трассы сбивали промерзшие ветки. Бежать стало труднее. И все же бежали, широким махом перепрыгивая кусты, мчались по заснеженным мшистым кочкам, опасно пружинившим под ногами, мчались, хрипя, задыхаясь, обливаясь потом, чувствуя жар собственного тела, текший из-под расстегнутых воротов… Только бы уйти от губительно стегавших огненных плетей невидимого пулемета…
Юля бежала, сжимая левой рукой пистолет, в правой при каждом шаге толчками отдавалась боль. Ушанку сбило пулей, взмокшие волосы прилипали ко лбу и щекам, мешали. Она видела, что Белов обошел ее слева, прикрыл собой. Упали еще двое и больше не поднялись. А оттуда, где оставался Те льнов, уже слабея, плохо различимо постукивали автоматы, дважды еще донесло гранатные взрывы…
Не видя бегущих, немецкий пулеметчик разряжал ленты просто по площади болота, наугад, упреждающе перенося огонь вперед. И наконец умолк.
Стало тихо. Только топот бегущих, хриплое дыхание и под горлом — тяжелое, загнанное биение сердца.
Болото кончилось, но едва выбежали к поляне, за которой темнел лес, как в чистом зимнем воздухе услышали сладковато-душный запах сгоревшей солярки и тут же увидели крытый брезентом «даймлер». Из кузова выпрыгивали немцы, разбегались цепью, с ходу открывая огонь.
— Бей по тем, что залегли! — крикнул Белов. Он понял, что немцы запоздали: рассчитывали прибыть раньше, поудобней приготовиться, встретить. Длинной очередью прошил брезент. Из кузова рванулся крик.
Немцы, те, что успели отбежать от машины, пытались растянуться цепью вдоль леса, уйти в его глубину, чтобы на открытой поляне оставить и перебить тех, кого они приехали сюда уничтожить…
Упал Ульмас. Юля бросилась к нему. Но тот поднялся, что-то крикнул свое и выстрелил в лобовое стекло машины, шофер ткнулся лицом в баранку. В тот же миг Ульмас выронил карабин и, согнувшись, схватился левой рукой за плечо.
— Была не была! — взвился чей-то крик рядом с Беловым. И он увидел высоко вскинутую руку.
«Противотанковая! — ахнул Белов. — Близко ведь!..»
Взрыв гранаты шатанул воздух, обвеяло теплом, у лица просвистели осколки. Снег, как дым, медленно оседал на черное пятно большой воронки… Прорвались… лес совсем рядом.
Еще излетно посвистывали немецкие пули, но уже можно было перевести дух. Шли быстрым, то и дело сбивающимся на бег шагом. Перед яром с наклонно поросшими березами остановились.
«Неужто вырвались?!» — облизывая шершавые, спекшиеся губы, все никак не мог поверить Белов, оглядывая и пересчитывая людей, в изнеможении припавших к стволам деревьев.
Убитых трое. Двое ранено: Ульмас в плечо, а саперу пулей распороло щеку от рта до уха. Никто не разговаривал: не было сил. Одни сосредоточенно курили, другие с ладоней слизывали снег.
И никто не заметил, что уже рассвело.
Теперь Белов повернул на юго-восток, как бы сближая путь отряда с возможным путем группы Тельнова. Часто останавливались, прислушивались, ожидали и снова шли. Белов старался себя уверить, что старшина выберется, не из тех он, чтоб еще раз не обмануть смерть, от которой уже не раз уходил, обхитрив или по воле случая. Может, другим, более коротким путем уже добрался до своих и сидит теперь с напарниками, наворачивает кашу, шутит… Так забегал он утешавшей мыслью вперед, не желая верить в иное, что жесточе, но реальней подходило к обстоятельствам, в каких за спиной остались Тельнов и четыре автоматчика. Белов часто и обеспокоенно взглядывал на простоволосую Юлю, измученно несшую на перевязи одеревеневшую руку.
Держа путь по карте, он тем не менее не представлял, по какой земле идет отряд — за нами уже она или еще под немцем. Сплошной жесткой линии передовых ни с нашей, ни со стороны противника еще не было. Поверили, что выбрались к своим, лишь тогда, когда у просеки с широко наезженными колеями увидели прибитую к березе дощечку со стрелкой и надписью: «Хозяйство Зарубина»…
Теперь, оглянувшись на все, что прошел, несмотря на страдания, он подумал, что, пожалуй, это и было самым главным в жизни из того, что им сделано. И тут же вспомнил: уж не раз случалось, что считал именно так. Ему всегда казалось, что точно знает, что же оно — это самое главное, но просто назвать не мог. Наверное, подумал он, в судьбе часто бывает что-то такое, что в определенный момент считаешь самым что ни на есть главным, потому что жизнь движется…
На просеке их нагнал «виллис». Рядом с шофером сидел капитан, на погонах черный кант, инженерные эмблемы.
— Кто такие? Из какой части? — Капитан удивленно оглядывал их истрепанную одежду, странное обмундирование Белова, серые, с запавшими глазами лица.
— Из разных частей, товарищ капитан, — ответил сержант-артиллерист. — Из немецкого тыла мы… К своим… Нам бы в штаб какой-нибудь. А потом по своим частям, — сказал сержант.
— Держитесь просеки. Увидите лежневку — свернете… Поехали, Самойленко, — отвернулся он к шоферу.
— Раненые у нас, товарищ капитан, — тихо сказал Белов. — Может, до санбата подбросите.
— Сколько человек?
— Трое.
— Пусть садятся. — Капитан закурил.
— До свидания, Петр Иванович. Спасибо вам за все. — Юля протянула Белову здоровую руку.
Ветерок шевелил ее волосы, сбрасывал пряди на лоб. Белову хотелось коснуться их, сдвинуть, чтоб хорошо видеть Юлины глаза, но он лишь легонько сжал ее ладонь и улыбнулся.
— Ты молодец, радистка, с тобой не пропадешь. Поправляйся.
Юля села в машину рядом с сапером, которому накануне забинтовывала лицо.
— Полезай, Ульмас, — подтолкнул Белов самаркандца.
У Ульмаса сухо блестели глаза, что-то дрожало в них.
— Ты хороший человек, комиссар. Моя — в госпиталь. Как потом найдет тебя? Моя теперь полевой почта нет. Как найдешь меня?
— В Самарканде найду, Ульмас!
— Побыстрее, — сказал капитан, выбрасывая окурок.
— В Самарканде, — растерянно кивнул Ульмас, втискиваясь в кабину.
Хлопнула дверца. Машина тронулась…
— Ну вот… — сказал Белов. — Кажись, все… Пошли, что ли?
Огромный лес был набит войсками. В темноте глыбами выделялись «студебеккеры», где-то дымила полевая кухня — долетал едкий дым медленно горевших сырых чурок, запах вкусного пара, — видимо, повар открывал крышку котла, снимал пробу. Сновали люди в шинелях, ватниках, полушубках, во мраке меж деревьями вспыхивали огоньки цигарок, слышались веселые голоса, звяканье котелков, похрапывали кони, запряженные в пароконные повозки, далеко в глубине урчал двигатель танка или тягача, с железным скрежетом перекатывались траки гусениц, кто-то кого-то громко окликал, пробегали мимо посыльные…
В этих звуках и запахах, привычных, знакомых, как в родном доме, в движениях и шуме скопившегося в лесу войска ощущалась радостная возбужденность перед обещанным наступлением, нетерпеливое ожидание которого будоражило людей, где-то прорываясь в смехе, где-то — в негромкой песне… И было в этом возбуждении естественное, выстраданное, донесенное до этих мест нетерпение, ибо уже меньше месяца оставалось до нового, 1944 года.
Белов не знал, что привел людей в расположение мотострелкового полка дивизии, в которой служил; что контрнаступление противника задохнулось; что пополненный на переформировке полк этот, накануне ночью расположившийся в лесу, находится здесь последние минуты, ибо уже отдан был приказ ему срочно сниматься и двигаться к передовой, лежавшей в трех километрах, что через полчаса в этом лесу не будет уже ни души, останутся лишь уголья костров, торопливо залитых водой или забросанных снегом, опустевшие землянки и выстывшие шалаши, смерзшиеся кучки конского навоза, обломанные и затоптанные ветки хвои, пятна машинного масла, а к ночи все это припорошит снегом и ветер выдует из огромного зимнего леса последние запахи временного человеческого жилья…
Задержавший их часовой, коротко расспросив, приставил к ним подвернувшегося любопытного солдата и побежал куда-то, окликая:
— Товарищ младший лейтенант! Задержали вот… — Потом появился из темноты, кому-то объясняя: — Окруженцы, говорят. С оружием… Какой-то комиссар привел…
— Иди к ним… Я — к подполковнику… Построение сейчас, срочно снимаемся. — И младший лейтенант исчез за деревьями.
Далеко во мраке раздалась команда: «Становись!» И, повторяясь, как эхо, прокатилась по лесу… Все задвигались, сорвались с мест, заторопились. Повзводно выстраивались роты; топот ног, теньканье скоб на оружии, постукивание котелков, ржание растревоженных коней…
Белов отрешенно смотрел, опираясь спиной на сосну, рядом тихо переговаривались его люди.
А войска готовились в путь, звуки этих сборов доносились со всех сторон, шевелилась и дышала вся непроглядная глубина леса.
Вскоре в сопровождении младшего лейтенанта явился подполковник в светлом полушубке.
— Они? — спросил. — Что еще за командир-комиссар?
— Они, товарищ подполковник, — сказал младший лейтенант. — Ихний главный, — указал на Белова.
Белов усмехнулся.
— Докладывайте! — обратился к нему подполковник.
Белов выпрямился, сделал шаг вперед, устало взял под козырек.
— Рядовой Белов, — и назвал свою часть. — Вышли из окружения… Тут из разных частей, — краем глаза он видел, как при слове «рядовой» недоуменно переглянулись его товарищи. А сержант-артиллерист даже шагнул было к нему, приоткрыл рот, вроде хотел о чем-то спросить, да передумал, остановился и молча глядел на Белова. Смотрели и другие, теперь уже кто с веселым интересом, кто с любопытством, а кто — словно впервые видел…
— Сколько вас всех? — спросил подполковник.
— Было тридцать два. Вышло девятнадцать. Трое убыло в санбат.
— Хорошо. Разберемся. Что еще?.. Вы тоже с ними? — заметил он сержанта-артиллериста, стоявшего чуть в стороне.
— Так точно, товарищ подполковник! Сержант Агафонов. 317-й противотанковый артполк.
— Знаю такой… Хорошо. Разберемся… Что еще? Побыстрее! Все?.. Младший лейтенант, всех в строй! Пойдут с ротой Зинченко… На первом же привале накормите всех, там и отдохнут… — Поторапливайтесь! — Подполковник еще раз окинул их взглядом.
— Постройте своих людей, сержант! — скомандовал младший лейтенант.
— Слушаюсь! — козырнул Агафонов. — Становись!..
Белов уже стал в строй, за ним, топчась, пристраивались другие. И тут он вспомнил: карта!
— Товарищ подполковник, разрешите обратиться? — Он шагнул из строя, достал из сумки карту. — С нами был радист. Ивицкий Александр. Просил эту карту кому-нибудь из начальства…
— Хорошо… Разберемся… Сейчас некогда, — повторил подполковник. Он взял карту, сунул в карман, быстро отошел. Мелькнуло еще несколько раз меж деревьев белое пятно полушубка…
Белов, слегка сутулясь, стоял правофланговым. Молчал, слушал… Шумы и шорохи ночного леса, звуки торопливой его жизни собирались из разных уголков, складывались в единое послушное звучание. Люди ждали следующей команды: «Шагом марш…»
Посыпал снежок. Белову хотелось есть, да и закурить не помешало бы… Теперь с этим придется погодить…
Далеко, в начале колонны, раздалась команда к движению, и он дернул плечами, поудобнее пристраивая тощий вещмешок за спиной, пробуя, хорошо ли осели лямки, как обычно это делал перед долгой дорогой…
ПОДРОБНОСТИ НЕИЗВЕСТНЫ
Повесть
От здания вокзальчика уцелело лишь одно крыло, где некогда были буфетный зал, камера хранения и парикмахерская. Гурилев вошел в бывшую буфетную. Сквозь выбитые высокие окна и пустой дверной проем втягивало с перрона сквозняки, они метались, не в силах вытеснить тяжелый многослойный дым махорки и самосада. Война крутила людей по путаным, но определенным и неизбежным для каждого дорогам, сходившимся здесь под временное и ненадежное тепло, спертое от дыхания сотен глоток и живого духа потных, давно не мытых тел. Морозный март загонял сюда людей, долго не знавших ни стен, ни крыши над головой, они вламывались с перрона отогреться и отоспаться, чтоб снова двигаться каждый в свою сторону. Но все больше в одну — к фронту. И все курили, курили, жадно, до ломоты в груди, всасывали дым сгоравшей в газете махры, просили друг у друга «сорок», кто чтобы убить мутивший голод, кто чтоб согреться и отогнать сон, боясь проспать первый же попутный поезд. Одни, скоротав день и отоварив продаттестат, спешили отсюда довольные, что на руках санкарта и вскоре их ждут чистая постель и горячая еда в эвакогоспитале: хотелось хоть краткий срок быть себе хозяином в этом сжавшемся времени и сузившемся пространстве, едва умещавшемся между жизнью и смертью; другие торопились к своим, на передовую, после опостылевшей нудьги запасных полков; третьи не спешили, зная, что дивизия в обороне или на переформировке, значит, опять — строевые занятия, харча меньше, снабженцы жируют, покуда начальство не вздрючит. То ли дело в наступлении! Тут и снабженцы взмылены: попробуй не обеспечь едой, портянками, ушанкой или еще чем…
Люди устраивались вповалку на холодном полу, выложенном цветной, истертой за десятилетия плиткой, не замечая лужиц медленно таявшего снега, отвалившегося с подошв сотен сапог и ботинок. Спали тесно, греясь теплом друг друга. Кому не нашлось месте лечь, сидели вдоль стен. Запрокинув головы или уронив их на плечи соседа, спали с открытыми ртами всхрапывая, обнажив кто молодые белые зубы, кто уже изъеденные никотином до ржави или плотно сомкнув губы, посапывая в глубоком по-младенчески сне.
В однообразии серого шинельного цвета и тусклой зелени залоснившихся бушлатов черное драповое пальто, мерлушковый пирожок на голове и пышный шарф Гурилева выглядели странно и чуждо. Да и сам он, устроившийся в овальной мраморной нише, где до войны стояла трехметровая гипсовая скульптура, тревожно чувствовал, как непонятен и случаен он в этом зале.
Место в нише Гурилеву уступил сержант, возвращавшийся в часть после третьего за два года ранения.
— В родные места возвращаетесь? — Сержант поднял белесые брови, а рыжие глаза его быстро общупали цивильную одежду Гурилева.
— Да нет, командировка вроде, — неопределенно ответил Гурилев.
— Хорошее слово. Мирное, довоенное. Звучит солидно. Когда-то и я ездил из Ростова в Миллерово… Ерхов моя фамилия. Донские мы… Вы по какой профессии?
— Я бухгалтер.
Рыжие глаза снова взблеснули, и взгляд задержался на лице Гурилева, а руки сержанта привычно накладывали плотные ровные витки обмотки над ботинком.
Выбритый, опрятный, несуетливый, сержант виделся Гурилеву человеком бывалым. Таких война протащила по окопным изгибам, обмяв сырыми углами, стенками, проволокла по колдобинам своих дорог, внушив, что работу, в какую она впрягла человека, не отменишь, не отложишь на после, значит, пока жив — живи по-людски.
— Я до войны слесарем-наладчиком был. А учился слесарничать знаете как? Зажми, скажем, заготовку в тисочки, приставь зубило, бей молотком, но — чур: на зубило не гляди! По пальцам, конечно, доставалось, но научился не глядя. Так и на войне надо: дело делай, но и все, что вокруг, охватывай, оно не в разрыве с тобой. «Была не была, завтра, мол, убьют», — это от трусости перед жизнью. А ежели не убьют? — Он аккуратно укладывал в вещмешок тряпичные свертки, жестяную коробочку от монпансье, в которой что-то звякало, мешочек с сахаром, спичечный коробок с солью. Прикрыл все это выстиранным куском портяночной фланели и затянул горловину вещмешка шнурком.
— Вы устраивайтесь на мое место, — сказал сержант, поднимаясь и захлестывая ремнем талию. — Тут, в нише, не так дует.
— А вы? — спросил Гурилев.
— На свежий воздух, — подмигнул сержант. — Не люблю только что освобожденные вокзальчики. Немцы норовят авиацией их прощупать. Так что тоже не засиживайтесь. — Ерхов закинул мешок за спину, примял ушанкой светлые прямые волосы. — Счастливой командировки! — Ловко, никого не задевая, переступая через спящих, пробрался к выходу…
Гурилев окинул взглядом зал. Воздвигнут вокзальчик был еще до революции. Потом, видимо, перестраивался. Но сквозь копоть и пыль выпирала лепка на потолке: крылатые амурчики с пухлыми ягодицами, античные женщины в хитонах. На стене, где был когда- то буфет, тускло мерцали остатки огромного зеркала, а на широкой буфетной стойке, накрывшись одной шинелью, спали два солдата, выставив белые широкие босые ступни с коричневыми пятнами давно истертой на суставах кожи…
Гурилев просидел в нише более часа. Дремал, думал, вяло сжевал кусочек жилистого сала с зачерствелой лепешкой, испеченной в тондыре, купленной женой на базаре как лакомство ему в дорогу… А дорога оказалась долгой, и до места он еще не добрался…
Зал был плохо освещен: лампа под потолком горела вполнакала. И от этого еще гуще казался задавленный махорочным дымом прокисший воздух. Вдруг тихо запели. Не по-русски. Голос звучал медленно, гортанно, вроде без слов. Но Гурилев догадывался, что слова есть. Он вслушивался в переливы мелодии, в мгновенные переходы ее с высоких регистров в низкие, в недоступную ему чужую красоту и смысл песни, который он силился понять, ощутить, приблизить к себе. И впервые удивился своей беспомощности постичь до конца чье-то желание высказаться…
Он встал, отряхнул пальто и вышел.
На выщербленных плитах перрона стыл размякший снег, раздавленный за день солдатскими сапогами. У дальней тупиковой ветки чернели коробки сгоревших вагонов. Меж их темными ребрами оранжево тлел закат, пробивавшийся сквозь истонченные ветром низкие сизые тучи.
Гурилев побрел в конец перрона. У деревянной будки продпункта переминалась солдатская очередь. Галдели, нетерпеливо топтались, передвигались к окошку медленно, протягивали продаттестаты в его светившуюся глубину. Навстречу высовывались две большие рыжеволосые руки и сбрасывали в растопыренно подставленное нутро вещмешка сухари, рыбные консервы, изморозно белые льдинки крепкого рафинада, пачки спрессованного пшенного концентрата, куски желтоватого жира — лярда.
Вдруг застекленная форточка оконца захлопнулась. По толпе судорогой пошло: «Закрыли!» — «Перерыв у них». — «Какой перерыв?!» — «Тыловые крысы!» — «На передовую бы их. Там без перерыва!» — «Надолго закрыли?» — «Говорят, шестнадцать часов без передыху работают». — «Я, может, через час на передовую уеду. Кто мне за сутки жратву вернет?» — «Убьют — не понадобится!» — «Не прите, хлопцы, стекло раздавите». — «Хрен с ним!» — «Ну-ка, шумни им!»…
Очередь плотнела, ворчала, угрожала, кто-то настойчиво забарабанил по стеклу. И тут подошел патруль — лейтенант и два солдата. Втиснулись.
Лейтенант крикнул:
— Спокойно, товарищи! Соблюдайте порядок! Я немедленно доложу коменданту и сообщу вам. Только — порядок. Все положенное отоварите.
Поворчав, люди утихли, но не расходились. Лейтенант же повернулся, заметил стоявшего в стороне Гурилева и, словно найдя спасение, шагнул к нему, переключая внимание толпы:
— Вы кто такой? Почему здесь? Документы!
Десятки глаз с хмурым любопытством ощупывали драповое пальто Гурилева, мерлушковую шапку, ботинки.
Гурилев понял нехитрый маневр лейтенанта, полез в карман. Но там было пусто. Изогнувшись, еще раз засунул руку поглубже. Бумажник исчез… Горячим потом облепило затылок и спину… Он помнил точно, что где лежало, и все же принялся суетливо и ненужно шарить по другим карманам, ощущая выжидательное молчание толпы.
Юное лицо лейтенанта насмешливо поворачивалось то вправо, то влево, будто говорило: «Видали, каков гусь?!»
— Документов нет. — Гурилев развел руками, извинительно улыбнулся.
— Я так и знал, — хмыкнул лейтенант. — Пройдемте в комендатуру.
Узкий темный коридорчик перед закрытой дверью был набит военными, больше — офицерами.
— Разрешите, товарищи, — строго сказал лейтенант, пробивая перед Гурилевым проход.
Уже входя в кабинет коменданта, Гурилев услышал за спиной:
— Шпиона поймали, что ли…
— По виду не скажешь… Одет прилично…
— То-то и оно…
На табурете за квадратным ресторанным столом, перед двумя трофейными телефонами в кожаных футлярах, сидел человек в овчинной безрукавке, закрывавшей погоны. В гильзе от сорокапятимиллиметрового снаряда ярко горел высокий фитиль, пламя с черным венчиком копоти шевелило увеличенные тени, по углам комнаты стоял сумрак.
Лица коменданта Гурилев почти не видел. Низко опустив голову над бумагами, тот сильно, так, что двигалась кожа, тер ладонью лысеющий лоб.
Лейтенант, склонившись, что-то докладывал коменданту, а Гурилев измученно вспоминал, где он мог потерять документы.
— Воронков, — позвал комендант, — принеси табурет. Да соли подсыпь в бензин. Опять забыл? Смотри, оторвет мне голову эта гильза… И узнай, когда будет свет.
И только тут Гурилев заметил солдата, стоявшего у затемненного мешковиной окна. Тот ничего не ответил, вышел, следом за ним — и лейтенант со своим конвоем. Солдат тотчас вернулся с табуретом, поставил перед столом и лениво сказал:
— Соли нет, товарищ капитан. А свет обещали…
— Садитесь, — велел комендант Гурилеву.
Сидя, Гурилев теперь видел худощавое лицо капитана — изможденное, плохо, с царапинами, выбритое, с тенями под скулами, с глазами, залитыми усталостью. Комендант был немолод, а может, постоянное бессонье, напряжение нелегкой службы старили его, высоко обобрав светлые волосы по краям лба.
— Кто вы? Где документы? — понуро спросил комендант.
Гурилев ответил.
— А чем вы можете подтвердить, что вам был разрешен въезд в прифронтовую зону? Честным словом, правда? Мне этого мало… Как вы сказали ваша фамилия?
— Гурилев… Антон Борисович…
— Мало мне этого, допустим, товарищ Гурилев. С какой станции прибыли сюда?
— Пересаживался в Алпатьево.
Комендант снял трубку телефона:
— Амур, Амур, дай-ка мне Цветок… Алло!.. Гузенко?.. Здравствуй… Да так… Еще живой, как видишь… Жду литерный. А к ночи еще два… Слушай, твои люди никого не снимали с пятьсот веселого., что с Алпатьево пришел?.. Так… Понятно. Нашли чего-нибудь? Посмотри хорошенько… Нужно — Комендант бросил взгляд на Гурилева. — Всяко может быть… Жду. — положил трубку. — Вам придется погостить у меня, сказал капитан Гурилеву. — До выяснения.
— Как долго? — упавшим голосом спросил Гурилев понимая, что уговаривать, доказывать или спорить бесполезно.
— Не знаю, — ответил комендант. — Сейчас мне некогда, литерный встречать надо. Воронков, — позвал он солдата, — проводи в камеру…
«Камерой» оказалось просто помещение бывшей камеры хранения с нешироким входным проемом, запиравшимся складной дверью-решеткой, перед которой стоял часовой. Полки тут переоборудовали под нары Окон не было. В темноте Гурилев нащупал свободно место, положил вещмешок, лег, накрылся пальто. Из разных углов слышал дыхание и храп спящих, но раз глядеть никого и ничего не мог.
Он понимал, что положение его — без денег и доку ментов в прифронтовой полосе — хуже не придумаешь и чем все это может кончиться, не представлял…
— Тебя за что? — услышал он близкий шепот..
— Документы пропали, — ответил Гурилев в темноту.
— Да… дела! Выяснять им некогда. Лет тебе сколько? — шуршал голос.
— Сорок шесть, — сказал Гурилев, надеясь, что наконец от него отвяжутся.
— Староват, однако. Могут и пожалеть… А у меня судьба похуже. Вагон с мукой сопровождал. А он потерялся. Куда-то с другим эшелоном загнали, покуда я за кипятком бегал… Как думаешь, может, штрафной отделаюсь? — Шепот сбился на хрип. — Вагон муки! Шутка ли? Батальон неделю кормить можно… Что теперь будет? — Говоривший вздохнул, завозился на нарах — Комендант сказал, лучше б тот вагон с патронами был. Патронов еще наклепать можно… А вот хлеб…
«Хлеб… Какая власть у этого слова?» — подумал Гурилев, не зная, чем успокоить соседа. А тот, вздохнув, умолк. Гурилев был сам растревожен его разговорами, и прежнее его беспокойство теперь тяготилось всякими мрачными подробностями, возможно, ожидавшими его в скором будущем…
Уснул он незаметно, будто водой накрыло, как детстве, когда нырял в пруд, подначиваемый сверстниками: «Ну-ка, хромой, нырни за цветным камешком! Слабо найти…»
Проснулся же он от того, что кто-то дергал за ортопедический ботинок и негромко звал:
— Вставайте, вас к коменданту… Слышите, вставайте!..
Не сразу сообразив, где он, Гурилев ознобно шевельнул плечами, надел пальто, взял мешок и поплелся за разбудившим его все тем же солдатом Воронковым.
— Который час? — спросил Гурилев.
— Ночь уже… Час, а может, два, — безразлично ответил солдат.
В кабинете все так же сидел комендант в своей овчинной безрукавке и, видимо, после чистки собирал пистолет. Пахло щелочью и ружейным маслом. Валялись обрывки ветоши со следами стального налета.
— Ничего приятного не снилось? — спросил комендант, заглядывая в ствол, почти приставленный дульным срезом к глазу.
«Как самоубийца», — с неприятным ощущением подумал Гурилев.
Словно угадав его мысль, капитан отвел от лица пистолет, удовлетворенно отложил его на край стола и быстро протянул Гурилеву бумажник:
— Ваш?
— Мой, — кивнул, удивляясь, Гурилев и торопливо стал проверять содержимое. Все было на месте.
— Вытащили его у вас. Два огольца… Много их сейчас бродяжит. У кого родителей немец побил, кто потерялся… Беда… Сколько у вас было денег?
Гурилев сказал.
— Кое-что они успели проесть… Время голодное.
— Бог с ними, — заторопился Гурилев. — Я могу идти?
— Через час-полтора будет поезд на Росточино. Оттуда как сумеете: дальше поезда еще не ходят.
Гурилев поблагодарил и вышел.
На первом пути без паровоза стоял эшелон: платформы с зачехленными орудиями и распахнутые теплушки. В глубине их виднелись нары с сеном. В одной Гурилев увидел дневального, присев, тот заталкивал шомполом в багровое нутро печки березовые чурки, красный отблеск огня дрожал на лоснившемся круглом мальчишеском лице.
Солдаты, высыпав из вагонов, шумно разминались, весело толкали друг друга плечами, играли в «жучка» — не стесняясь, с оттяжкой били в чью-нибудь выставленную из-под мышки ладонь. Избыток застоявшейся силы — все они были молоды, не старше двадцати, крепкие, в подогнанной одежде.
— Эй, папаша! — Кто-то из них приметил Гурилева. — Чем торгуешь? Продай баранью шапку, мы из нее плов сварим.
Они почти окружили Гурилева и веселились.
Роняя на шпалы спекшийся, но еще ржаво пламеневший шлак, подкатила паровозная спарка, лязгнули буфера, раздалась команда: «По вагонам!» Солдаты бросились к теплушкам. Дернув раз-другой, спарка, пыхтя в две трубы, медленно стронула состав. И, глядя вслед последнему вагону, Гурилев, прощая шутников, подумал: как мой Сережка. Неужто и он так жесток?.. Нет, это не жестокость… Радость бытия… Совсем дети…
Поезда он решил дожидаться на перроне, зная, что посадка будет тяжелой. Пассажиров набиралось много, они выходили из здания вокзала, растягивались вдоль платформы. Ближе всех к Гурилеву стоял высокий старший лейтенант, левая рука его согнуто лежала в черной повязке. Лицо офицера и эта повязка показались Гурилеву знакомыми, но ничего вспомнить не мог…
Услышал он поезд еще издали по тонкому звону, бежавшему по рельсам, по приближавшемуся тяжкому пыхтению. Потом показались две синие щели замаскированных фонарей. Со скрипом и лязгом остановились старые расшатанные вагоны, и плотная толпа ринулась к дверям. Проводницы, стоя на высоких ступеньках, размахивали фонарями, пытались навести хоть какой- то порядок. Мелькнуло сосредоточенное лицо сержанта Ерхова, пробивавшегося ко входу. Вслед за старшим лейтенантом напиравшие сзади вмяли, вкрутили Гурилева в узкий проход вагона.
В полутьме горло перехватила духота. И не понять было, то ли внесли ее сюда только что втиснувшиеся люди, то ли источали деревянные стенки. Поезд тронулся, а Гурилев, перешагивая через чьи-то ноги, узлы, баулы, пробирался в поисках места, видя впереди себя широкую спину старшего лейтенанта.
Наконец нашлись две свободные полки: одна нижняя, другая — на самой верхотуре.
— Вам придется на третий этаж, — сказал старший лейтенант, указав на свою руку.
— Разумеется, согласился Гурилев стал карабкаться наверх.
Свеча фонаре, подрагивавшем на столике, неглубоко освещала пространство и в нем. — большое лицо старика: широкий оклад седой бороды, крупный рыхлый нос и лоб, гладкий и розовый, будто после ожога покрытый молодой кожицей. Старик сидел на краешке второй нижней полки, у окна, а за спиной под большим, видимо, его полушубком спала белоголовая девочка, сам же он остался в серой с открытым воротом косоворотке.
Старший лейтенант сразу скинул шинель и сапоги, подложил под голову и спину вещмешок и так полулежал, согнув ноги в коленях, опершись огромными босыми ступнями о полку.
Поезд едва тащился, делал частые остановки. За окнами густо стояла неразмешанная тьма, ни проблеска огня в чьем-нибудь придорожном жилье, словно ехали по вымершей земле. Лишь иногда ветром проносило сноп искр, выброшенный паровозной трубой, они впивались в черноту ночи и тут же гасли, не успев ничего осветить…
Глядя сверху на лицо старшего лейтенанта, желтовато обведенное светом фонаря, Гурилев стал задремывать. Как сквозь дымку, под мерный перебор колес в голове возникали и таяли какие-то зыбкие воспоминания. И тут, словно от толчка, он быстро открыл глаза, перед ним все еще стояло лицо старшего лейтенанта, и Гурилев вспомнил: конец сорок второго года, военрук в школе, где учился Сережа, черная рука на перевязи, один красный кубик в петлице… Гурилев видел военрука два или три раза, когда заходил в школу справиться о делах сына. Но дома от него и его одноклассников часто слышал, как влюбленно они произносили фамилию Вельтман… Значит, это Вельтман… Что же так долго с рукой у него? Спать уже не хотелось, и он бездумно лежал, накрывшись пальто.
Старик пошарил в изголовье у спавшей девочки и достал узелок с зачерствелой обкусанной краюхой, луковицей и солью в солдатской масленке.
— Ужинать? — спросил Вельтман, приподнимаясь. Голос его был низкий, мягкий.
— Сперва обед, — сказал старик. — А ужин — во сне, авось, что вкусное привидится.
— Бывает и так, — согласился старший лейтенант. — Давайте уж за компанию. — Он извлек из вещмешка флягу, полкирпича армейского хлеба, сало и банку шпрот. — Присоединяйтесь. — Вельтман повернул голову к Гурилеву.
Достав свою снедь, Гурилев спустился.
В крышку от котелка Вельтман налил спирту, поднес старику. Тот выпил, сложив губы трубочкой, выдохнул, закусил луком и салом, от шпрот отказался:
— Не нашенская еда. Рыбе положено быть соленой. Хороша и жареная либо из ушицы. А эта вроде сырая да еще в масле.
— Девочку бы покормили, — предложил старший лейтенант.
— Кормлена внучка, кормлена, — ответил старик. — Ейное у меня в отдельности: сальцо, огурец и бульбочка вареная.
— Пейте, — налил Вельтман Гурилеву.
— Спасибо, не хочется, — отказался Гурилев.
— Бросьте деликатничать, всего лишь спирт.
— Но я действительно не хочу.
— Давно не встречал стерильных мужчин, — засмеялся Вельтман. — Что ж, дедуля, помучаемся вдвоем?
— Господь простит, — махнул рукой старик, беря спирт.
— Если бы за ним только было дело! — весело покачал головой Вельтман.
— А больше мы никому, кроме господа, и не задолжали, — вздохнул старик. — Все прочие — нам. Да сможем ли простить? — Он оглянулся на внучку.
— Тоже верно, — согласился Вельтман. — Я до войны работал археологом, — повернулся он к Гурилеву. — Упоительно мирная, тихая работа. Сидишь в карьере, копаешь сантиметр за сантиметром. И вдруг радость: то кувшин найдешь, то наконечник от стрелы, то череп в позолоченном шлеме… А сейчас с отвращением думаю: чего я веселился, трогая чьи-то останки? Не могу себе представить, что через триста — четыреста лет кто-то с восторгом, как я, отроет каску, а в ней — обглоданный мой череп с ремешком под бывшим подбородком.
— Это пройдет, — осторожно сказал Гурилев. — Кончится война, начнется мирная пора, и вы опять с радостью будете искать в земле следы прежней жизни.
— Следы эти, увы, процентов на восемьдесят связаны с войнами, с уничтожением чьей-то жизни и культуры. Раньше никогда не думал об этом, абстрагировался… Вы кто по профессии?
— Бухгалтер, — ответил Гурилев.
— Зачем едете?
— В командировку.
— Что у вас с ногой? Видел, хромаете. Ранение?
— Ортопедический ботинок. С детства — туберкулез сустава.
Тон расспросов был не очень деликатен. Но, может, сейчас и надо так?.. И этот Вельтман прав? Логика времени. Во всем одна сердцевина — война.
— В командировку можно бы и в противоположную сторону, к Уралу — безопасней. Или сами выбрали? — продолжал с усмешкой Вельтман.
— Не совсем, — ответил Гурилев.
— Да-а… Выбор — дело не простое.
— Я никогда не считал, что это просто. Хотя это — вечное право человека.
— Во-во! Вечное! — Будто пародируя кого-то, Вельтман вскинул руку, сел, подобрав колени к подбородку. — Достоевского помните? Карамазовых? Легенду о Великом инквизиторе? — Он порылся в вещмешке и достал истрепанную книгу, без обложки с нитками на оборванном корешке, быстро нашел, видимо, не раз читанные страницы. — Итак, Христос уважил просьбу народа и сошел с небес, — ухмыльнулся Вельтман. — И Великий инквизитор, вершивший гнусности от имени Христа, сказал: «…тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего. Это так, но что же вышло? Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла?…» — Вельтман отложил книжку. — Под дых бил, сукин сын, а? — захохотал он. — А что же народ? Небось рад был, что с него сняли это бремя?.. Право это не столько вечное, как вы изволили заметить, сколько извечно пугающее, но обязывающее. Хотя многие от него с удовольствием бы отказались…
Старик, непонимающе слушавший их разговор, все же при упоминании Христа напрягся, поправил на внучке полушубок, погладил спящую по голове и тихо проговорил:
— Прости, господи, и помилуй, все отдам в этой жизни, пронеси только, господи!
— Отдавать-то вроде уже нечего, папаша, — со злой веселостью сказал Вельтман. — А вы в хорошие дни вспоминали своего господа? Или только когда вот так прижало, когда худо?
— Молод ты еще меня исповедовать, — огрызнулся старик и уставился в окно.
Поезд тяжко проламывал ночь, отстукивая медленные версты. Сопение и храп никого не тревожили, не раздражали — сон уравнял всех, избавив в забытьи от обид, тревог, бед и забот отошедшего дня. И кто знает, какую красоту, покой и улыбку можно было бы подглядеть в этот час отдохновения, если бы можно было увидеть человеческую душу или то, что мы называем ею…
И в эту редкую минуту примирения с явью вдруг ударило в тишину взрывом, вагон сотрясло, поезд резко сбавил ход. Лязгнули буфера, железо скрипнуло о железо, взвыл паровозный гудок. Где-то впереди с малым интервалом, почти слившись, прогрохотали еще взрывы, осветленные оранжевыми всплесками огня. И, словно на их вызов, застучали зенитные пулеметы с платформы в хвосте состава. В черном окне Гурилев видел белые нити пулевых трасс. Частые и прерывистые, как истошные вскрики паровозного гудка, они. неслись в ночное небо, навстречу чему-то страшному, невидимому отсюда.
— Бомбежка, — сказал Вельтман и снова разлегся на лавке, выставив босые ступни в проход.
Встревоженный Гурилев удивился его спокойствию.
Зашевелился на своем месте старик.
— Во, ироды, опять. И не спится ему, все крови мало. — Он стал завязывать холстину с остатками еды.
— Пронесет, — сказал старший лейтенант. — Они теперь не очень-то по тылам… Какой-нибудь случайный дурак.
— Ну да, — заговорил старик, — а я, умный, все от него бегаю с сорок первого года. Дурак-то он дурак, однако он сверху, — и задул свечу в фонаре.
Заоконная тьма впрыгнула в вагон. Разрывы бомб то отставали, то обгоняли поезд. Люди повскакивали с полок, теснились в темноте в узких проходах, протискивая впереди себя пожитки. Близкая бомба тугим воздухом вышибла стекла, раздались крики, быстрый сквозняк пронес по вагону оскомную вонь сгоревшего тротила. Поезд еле тащился, с толчками, с частыми остановками, ревел гудок, и не умолкая огрызались пулеметы.
Гурилев, напрягшись, ждал очередного разрыва, вслушивался в то, что происходило снаружи, будто непременно хотел уловить приближение момента, когда для него все замрет и исчезнет вместе с ним.
Серия взрывов ударила по другую сторону насыпи. Поезд остановился, и стало слышно, как, пикируя, самолет набирал высокую ноту, как, совсем истончившись, этот звук перешел в ввинчивавшийся свист летящей бомбы.
Кто-то крикнул:
— Всем в поле! Быстро!
Люди рванулись к выходу, толкая, сбивая друг друга. Несколько вагонов в конце состава горело. Крики и плач, кто-то кого-то звал, искал, освещенная крутившимся пламенем насыпь словно качалась, с нее в поле скатывались фигурки. Старик держал внучку на руках. Спросонья девочка перепуганно обхватила его шею. Спотыкаясь о шпалы, он семенил почему-то вдоль эшелона к паровозу, простоволосый, в одной рубахе.
Уже отволакивали раненых и убитых под насыпь. Кто-то хрипло кричал:
— Врача! Товарищи, есть ли среди вас врач?!
Парень в распахнутой шинели бил бревном в заклинившуюся дверь горевшего вагона, за которой стоял истошный вопль боли и ужаса. Свет прыгавшего огня выхватил лицо человека с бревном, и Гурилев узнал сержанта Ерхова.
— Тут у меня все! Держите! — крикнул Вельтман и, швырнув Гурилеву свой вещмешок, куда-то побежал. Потом Гурилев увидел его склонившимся над раненым. Одной рукой он бинтовал ему голову. Бинт тут же проедало темно-ржавое пятно.
Женщина в валенках тормошила убитого, звала, обезумев, просила встать, убежать отсюда.
Гурилев топтался меж людьми, понимая, что надо что-то делать, но, как в параличе, не мог сообразить, куда двинуться. Он не обращал уже внимания ни на рев самолетов, ни на свист бомб, ни на пулеметную трескотню: все главное, казалось ему, происходило сейчас не в черном небе, а тут внизу, на земле…
Бомбежка кончилась внезапно, как и началась. В тишине остались только стоны и треск огня, обгладывавшего обшивку вагонов.
Подошел Вельтман и устало опустился на насыпь.
— Не доехали, — выбрасывая окурок и сплевывая, сказал он. — До Росточино километров двадцать оставалось.
— Пешком пойдем? — неуверенно спросил Гурилев и подумал, что никогда не ходил на такие расстояния и что при своей хромоте даже в удобном ортопедическом ботинке быстро устанет.
— Нет! Недалеко должен быть переезд, дорога. Попробуем поймать попутную машину. Подберем раненых и сами пристроимся…
Они пошли к голове поезда и тут увидели старика. Он стоял на коленях, а на разостланной шинели с торчавшим сержантским погоном лежала девочка. Присев на корточки, Ерхов забинтовывал ее ногу. Девочка была бледна, глаза закрыты, она тихо стонала и попросила пить.
— Это сейчас! — подхватился Ерхов, отвязал от своего вещмешка котелок, оглядел низину за насыпью. — Там вроде березнячок, болотисто, должна быть вода. — Размахивая котелком, в одной гимнастерке, низко перехваченной ремнем, сержант побежал через пути. Было слышно, как защелкал под его ботинками мерзлый гравий, перемешанный с потемневшим снегом. А потом оттуда, где скрылся Ерхов, глухо ударил взрыв — придушенный, булькающий, будто с трудом вырвавшийся из-под земли.
— Подорвался! — охнул Вельтман и бросился с насыпи.
Гурилев поспешил за ним.
Метрах в трех от черного круга воронки кулем лежал сержант. В месиве крови и изломанных костей Вельтман нашарил карман сержантской гимнастерки, отыскал документы. Гурилева бил озноб, он боялся, что его стошнит.
— Кружка воды. Вот и все, что ему нужно было тут. — Дернув плечом, Вельтман пошел прочь.
Гурилев постоял еще какое-то время, поискал глазами котелок. Но что увидишь в темноте.
Когда он вернулся, девочку уже уносили две женщины на ерховской шинели. Вельтман поймал какого-то солдата и послал искать лопату — захоронить Ерхова…
До переезда они добрались минут за сорок. Судя по следам, полевая дорога была живой, пользовались ею и подводы и машины. Обметя снег, уселись на невысокий штабель старых шпал.
— Который час? — спросил Вельтман.
— Без четверти шесть.
— Мог же он опоздать на этот поезд. — Вельтман достал папиросу.
— Кто? — не понял Гурилев.
— Сержант. И остался бы жив… Что это — рок, судьба, случай? Или существует предопределенность?
Измученному Гурилеву было не до рассуждений. Он все еще видел рыжеватые веселые глаза Ерхова, широкую спину в гимнастерке, низко и туго опоясанной брезентовым ремнем, котелок в руке, слышал щелк гравия под подошвами сержанта… А потом — изорванное тело на снегу у воронки… Забудется ли это?.. Забудется, забудется… В том-то и дело… Уж эту жестокость жизни он знал… Но ни о чем таком ему сейчас не хотелось говорить.
— Вы уж извините, — вдруг сказал Вельтман, — если как-то задел вас тем разговором в вагоне… Да и старика зря обидел… Думаете, спирт виной? Нет!.. Вид мужчины в гражданском, одеянии раздражает. Снисхождение обесценено. Сейчас либо высочайшая ненависть, либо высочайшая доброта. Нюансы забыты…
— Кто знает, — неопределенно ответил Гурилев.
— Как-то отвели нас на переформировку. Фронт далеко. Славная деревушка. Бабы, молодки. Лето. Река, зеленый луг, за ним — лес. Красота! И прибыл фотокорреспондент из армейской газеты. «Давайте, — говорит, — я сниму вас, ребята. Не для газеты, так просто. Сбросьте каски, автоматы, сниму вас, мирных и смирных, на этом лугу, перед лесом. Становитесь». Стали мы. И что же вы думаете?! Никто не снял ни касок, ни автоматов. Лица, как перед атакой. И каждый норовил, чтоб именно оружие попало в фокус объектива. Начихать, как там выйдет фон — вся эта природа за спиной! А все мы уже были славно повоевавшие, не новички, которым бы пофорсить… Вот и объясните мне…
— Все не объяснишь. Да и нужно ли? — устало сказал Гурилев, не думая об услышанном. — А мы ведь с вами в некотором роде земляки.
— Каким же образом?
— Вы работали военруком в школе, где учился мой сын. Тогда у вас рука тоже была на перевязи.
— А я вас не помню. — Вельтман пошевелил плечом больной руки. — Нерв перебило осколком, пальцы почти неподвижны… Еще под Керчью, в сорок втором… Обещают со временем…
— Как же вы на фронт с такой рукой?
— Какой фронт?! В интендантах теперь. Продовольственно-фуражная служба. Овес, пшеница яровая мягкая, яровая твердая, ячмень, полба, чечевица тарелочная… Видите, какие познания! Заготовки, учет излишков… Какие сейчас излишки, будь оно неладно! Я ведь артиллерист. А у вас что за командировка?
— Буду заниматься почти тем же, что и вы.
— В каком районе?
— Бортняковский. Далеко отсюда?
— Километров пятьдесят от Росточино. Возможно, встретимся. Пока тылы стоят, мне в тех местах придется бывать. Немцы кое-что бросили, подгрести надо для госпиталей. Вы сами родом откуда?
— С Донбасса, — ответил Гурилев. — А вы прибалт?
— Нет, я туляк. Предки были крепостными у помещика Вельтмана. Так что мне в лапы к немцам попадать нельзя, за одну фамилию расстреляют: то ли еврей, то ли немец, — усмехнулся Вельтман. — Хотя самый что ни наесть Иван Сергеевич, чистопородный.
Звук машины первым услышал старший лейтенант, вышел на середину дороги. Тяжелый «студебеккер» пер с погашенными фарами. За стеклом слабо мерцал красный огонек — кто-то курил. Вельтман поднял руку, но, не сбавляя скорости, едва не сбив его, машина, резко вильнув, громыхнула на переезде и, рыча, ушла в темноту.
— Вот сволочь! — ругнулся Вельтман. — Видел же… Влепить бы ему по скатам…
Они прождали еще с полчаса, пока вновь услышали чихающее урчание изработавшегося мотора. Старший лейтенант достал пистолет и опять шагнул на середину дороги.
Трехтонка с дребезжащим ведром под правым бортом, сбавляя скорость, сдала к кювету, остановилась. Двигатель железно клацал плохо подтянутыми клапанами, треск вылетал из прогоревшего глушителя. В окно высунулось круглое девичье лицо.
— Пострелять захотел? — сердито спросила шоферша у Вельтмана. — Так на передовую иди. Чего с пистолетом по тылам гуляешь? Баб пугать?
— Ты меня не учи, куда идти, — крикнул Вельтман, пряча пистолет в кобуру. — Ну-ка выключи мотор, поговорим.
— Потом не заведешь, он с норовом… Говори, чего надо? Подкинуть? Куда? — миролюбивей спросила девушка. Она сняла ушанку, утерла лоб.
— В сторону Бортникова едешь? — спросил Вельтман.
— Допустим.
— Автобатовская? Из хозяйства Крайнюкова?
— Тебе-то куда надо? — уклончиво ответила она.
— Хозяйство Манурова знаешь?
— Господи, я-то думала действительно человек на передовую спешит, аж пистолетом размахивает! А он — к Манурову, — засмеялась она, влажно блеснув зубами. — Я им мешкотару везу. Залезай, мягко будет, как на перине.
— Садитесь в кабину. — Вельтман повернулся к Гурилеву.
— Это еще кто? — Шоферша строго посмотрела на штатского Гурилева.
— Пассажир. В Бортняково человек едет, по службе… Тебя как звать? — спросил Вельтман.
— Ефрейтор Качина.
— Сперва раненых подберем, ефрейтор.
— Какие еще раненые? Ты мне, старший лейтенант, не придумывай работенки. У меня своя есть. Мне было сказано: в Росточино и обратно, на одной ноге.
— Эшелон разбомбило, Качина…
— Это где?
— Недалеко.
— Проехать туда можно? Не по шпалам же…
— Это уж твоя забота… Поехали. — Опершись сапогом о скат и ухватившись здоровой рукой за высокий борт, Вельтман пытался влезть в кузов. Но мешала рука на перевязи.
— Садитесь вы в кабину, — сказал Гурилев.
— Ладно, — с досадой ответил Вельтман. — Вы уж извините, — снял он ногу со ската. — Взберетесь?
— Да-да, не беспокойтесь. — Гурилев влез в кузов и удобно устроился на пустых мешках…
Шоферша, щурясь, прощупывала взглядом темень, угадывая заезженные до рытвин колеи. Машину сносило то влево, то вправо, круто выворачивая баранку, девушка склонялась к Вельтману, и он близко видел скуластый с ровным маленьким носом профиль, слышал теплое дыхание и сладостно томящий запах женского пота, ощущал ее крепкую ногу под диагоналевой юбкой.
— Как тебя зовут, Качина?
— Сказала ведь.
— Имя?
— Нинка.
— Давно воюешь?
— Два года… Да разве это воюешь? То мешки вожу, то бочки от лярда, то сено, то крупу. Сам у Манурова служишь, знаешь, что у продслужбы за война. Мы из автобата вам приданы… Хотела в снайперы, а очутилась тут.
— И тут кому-то нужно.
— Слышала уж… Зараза, а не машина, выбивает вторую, — ругнулась Качина, дергая ручку переключения скоростей, в коробке, срываясь, лязгали шестерни. — Ты-то хоть повоевал или тоже все время в интендантах? С рукой-то что?
— Повоевал…
Обогнув низину, Нина, ни разу не засев, каким-то особым шоферским чутьем вывела машину почти к железнодорожной колее.
— Без нас обошлось, — выходя, показал Вельтман на насыпь.
Там в сторону Росточино медленно двигался их состав, подталкиваемый сзади двумя паровозами «ФД», тянувшими за собой длинный санитарный эшелон.
— Повезло им… Не замерзли? — спросил старший лейтенант Гурилева, стоявшего в кузове.
— Терпимо. — Гурилев пошевелил в карманах пальто окоченевшими пальцами?
— Поехали, что ли? — позвала Качина. В ватнике и кирзовых сапогах, бедрастая, рядом с высоким Вельтманом она казалась Гурилеву сверху совсем коротышкой. Ветер шевелил ее светлые волосы, привычным движением пальцев она убирала их за уши. И хотя было темно, Гурилев видел, что девушка осторожно разглядывала Вельтмана…
В Бортняково они добрались к семи утра. День начинался гнилым серым рассветом, тускло нависли тучи, по всему небу в один цвет размазанные сырым ветром.
Городок был побит и еще не убран, уцелевшие одноэтажные домики жались друг к другу, словно отстраняясь от воронок и закопченных печей, оставшихся от таких же домиков…
Остановились на базарной площади, где торчало несколько телег.
— Прибыли, — сказал Вельтман. — Куда же вы теперь? — спросил Гурилева.
— В райисполком. А вам еще далеко?
— Далеко, — ответил Вельтман, и Гурилеву показалось, будто старший лейтенант произнес это весело, довольный, что остается вдвоем с Качиной и что ехать им теперь вместе еще много верст…
Райисполком Гурилев отыскал на главной улице в кирпичном бараке бывшей пожарной части. Девушка сидела за старым «Ундервудом», била одним пальцем по клавишам, что-то печатала на обратной стороне голубоватой тетрадной обложки. «Ундервуд» металлически щелкал, в нем откликались какие-то звоночки, когда каретка со скрежетом двигалась к краю.
Гурилев объяснил, кто он и зачем приехал.
— Председатель в Кобыляковке, там старосту поймали, судят, — ответила девушка. — Есть товарищ Маринич, он сейчас по всем вопросам, в конце коридора дверь, там мелом написано…
Дверь эта с надписью, заново навешенная, из тонкой фанеры, была приоткрыта, за нею шумно спорили:
«Ты, Анциферов, на меня не кричи, я ведь тоже не хрипуном родился». — «Я не кричу, я пытаюсь тебе втолковать. У меня огромный куст — восемь сел, и все разбросаны. Не возить же из каждого отдельно в райцентр. Ты прикинь расстояние! И за год не управлюсь. Да еще гужом. Были бы автомашины — другое дело. Скот вот-вот поступит. Чем кормить? С нас с тобой шкуру спустят! В общем, организовывай временный приемный пункт в каком-нибудь удобном селе. А оттуда уже все будем вывозить сюда». — «А где я тебе штат наберу? Бухгалтера, кассира, кладовщика, таксировщика? Нет людей, понимаешь? У меня самого здесь одной задницей на двух стульях сидят. Три дня, как немцев выбили, а ты хочешь, чтоб как до войны было». — «Во! Три дня! В самый раз мне и пошуровать по селам…»
Гурилев не стал дожидаться окончания разговора, постучался и сразу же вошел. В комнатенке, где едва умещался маленький стол, на табуретках сидели двое. Тот, что за столом, видимо, Маринич, пожилой, с бритым черепом, вскинул на Гурилева голубые, как после хорошего сна, ясные глаза. Второй, сидевший спиной к двери, и был, как понял Гурилев, Анциферовым.
Он повернул немолодое морщинистое лицо, осветленное платиново-седой шевелюрой, чуть тронутой никотиновой желтизной. Глаза его метнулись по всей фигуре Гурилева, только сейчас заметившего, что пальто его в крупяной пыли, в ворсинках от мешков.
— Вы к кому, товарищ? — спросил Маринич.
— Вероятно, к вам, — Гурилев достал документы.
Бумаги Маринич прочитал одним взглядом, вскочил, подал Гурилеву свой табурет:
— Садитесь, садитесь… Устали с дороги… Вас сам господь послал, спасибо ему, хоть и нет его, — засмеялся Маринич и уже радостно Анциферову: — Какого главбуха заимели! С двадцатого года стаж!
— Видишь, а ты хныкал, — улыбнулся Анциферов, протянул Гурилеву руку, представился.
Гурилев тоже назвался, ощущая жесткое, жилистое пожатие горячей ладони.
— К сожалению, вы к нам временно? Так, Антон Борисович? — спросил Маринич.
— Наверное, — ответил Гурилев, надеясь, что это действительно так.
— И то спасибо, зашились мы, людей не хватает. У меня главбухом девчонка сидит, перед войной кончила курсы счетоводов. — Маринич повернулся к Анциферову. — Теперь могу уступить ее тебе, пусть сидит там, пока не управишься.
— Я не собираюсь детские ясли организовывать, Маринич, — вскочил Анциферов. — Мне нужен кустовой пункт по заготовке кормов. — Из-за худобы он казался высоким, суконный френч делал его стройным. Синие диагоналевые галифе старого покроя обвисли на длинных ногах, крепко стоявших в добротных яловых сапогах. — Он мне нужен, — указал тонким пальцем на Гурилева. — Выгадывать ты любишь, Маринич. Ну о чем мы спорим?
— Я тоже не пойму, о чем вы спорите, — перебил их Гурилев. — Меня попросили поехать к вам на несколько дней, помочь. — Он посмотрел на Маринича.
— Вы поможете нам в глубинке, — поднялся Анциферов. — Я поеду выбивать корма. И нужен временный заготпункт. Хочу, чтоб вы поехали со мной.
— Я полагал, что меня… ну, мою квалификацию можно использовать более целесообразно даже в райцентре, — хмурясь, ответил Гурилев. — Товарищ Калиниченко просила меня помочь именно здесь. А то, что предлагаете вы, — он повернулся к Анциферову, — может делать любой человек, умеющий считать.
— Нет у нас сейчас таких человеков, Антон Борисович. Просто нет. И взять негде. — Анциферов нервно покусывал губу. — Я хочу взять вас с собой всего на три дня… Три дня! О чем речь?! Время-то какое, Антон Борисович! Что же нам торговаться?!
Гурилев понял, что упираться дальше бессмысленно и уже неприлично, Анциферов не отступится, и Маринич молчит, опустив свои ясные глаза.
— Корма, — развел руками Маринич.
Гурилев встал.
— Вот и славно, — улыбнулся ему Анциферов. — Пошли отсюда, Антон Борисович. Отдохнуть вам нужно. — Он одернул френч, на костистом узком лице чахло зажегся румянец.
— Что ж, Антон Борисович, уговорил он вас? — покачал головой Маринич.
— По-моему, вас, — сдержанно ответил Гурилев.
В другом конце барака по ступенькам они спустились в подвал.
— Тут три комнатенки, временная гостиница, — сказал Анциферов, отпирая амбарный замок. — Лучшего пока нет. Все разбито… А в сущности, что человеку надо? Крыша над головой. По мне лишь бы было где выспаться ночью. Днем все в бегах. Располагайтесь. Правая кровать моя, левая — свежая. В коридоре за дверью — кран с водой, сортир во дворе. Сейчас чай вскипячу. — Он вышел, громко стуча сапогами по цементному полу.
Гурилев огляделся. Окон в комнате не было, слабым накалом светила лампа, от стен пахло сырой побелкой. Железные кровати были застелены штопаными солдатскими одеялами, поверх них лежали почти плоские подушки в красных наволочках. На вбитом у двери костыле висели перешитое из шинели пальто с толстым ватиновым подстегом и черная кепка с пуговкой.
Пока Гурилев умывался, Анциферов принес медный закопченный чайник, достал из-под кровати видавший виды черный фанерный чемодан с висячим замком.
— Это у меня и стол, и шифоньер, и сейф, — хлопнул Анциферов по крышке. Он достал кружку со сбитой эмалью, полкаравая ржаного хлеба, круг серой ливерной колбасы.
Гурилев выложил свои поубавившиеся запасы.
Ел Анциферов быстро, но не жадно, колбасу резал аккуратно, чтоб зря не крошилась, ровными долями, отодвигая лезвием ножа Гурилеву столько же, сколько брал себе.
— Правильно сделали, что согласились, — сказал Анциферов, допивая чай.
— Почему же? — спросил Гурилев.
— Человек должен быть там, где больше всего нужен, — сверкнул глазами Анциферов. — Мне ведь предлагали возглавить райотделение Госбанка. Отказался. Пошел в райнаркомзаг. Тут моя стезя, как говорится. Нынче с людьми по-особому следует. Конец оккупации — это не просто уход вражеских солдат. После этого во как все надо держать! — Он сжал костистый кулак с такой силой, что кожа на суставах побелела. — Одних за дело, других для острастки… Надеюсь, сработаемся.
— Надеюсь, — ответил Гурилев. — Ситуация, конечно, сложная: голод, разорение.
— Ситуация? Ею надо овладеть! Создать самим, если хотите. Иначе любой бардак вечно будем оправдывать ситуацией. — Надев кепку, Анциферов нервно втискивался в рукава пальто. — У вас что, телогрейки нет? Не годится, замерзнете, простудитесь в своем драпе. — Он полез в чемодан, выдернул оттуда телогрейку. — Это вам… Нашу задачу знаете?
— Приблизительно.
— Корма! Все, что годится, — кукурузу, макуху, отруби, сено, картофель. Ну и, конечно, если удастся, зерно. Выезд через два дня. За это время мне тут кое- что успеть надо. Сани достану. Побывайте у Маринича. Пусть выдаст побольше денег под отчет: платить придется мужикам наличными. Не забудьте квитанции и прочие бумаги… Значит, до вечера…
Выехали, как и рассчитывали, на третий день. Кобыленкой, понурой, как та сивка, которую укатали крутые горки, правил мальчишка с красным простуженным носом. Анциферов и Гурилев для тепла глубоко зарылись в старую посеревшую солому. Выглядел Анциферов сурово и неприступно. Пальто обхватывал теперь широкий ремень с подвешенной большой брезентовой кобурой. Из соломы торчал автомат ППШ с обтершимся прикладом.
«Наверное, так нужно, — взглянул Гурилев на оружие. — Все-таки прифронтовая полоса, да и сумма у меня, — вспомнил об инкассаторском мешке, набитом пачками взятых под отчет денег. — Человек, видимо, решительный».
А тот сидел не шелохнувшись, губы сжаты, иногда только, как гордая птица, поводил — вправо-влево — головой, цепко посматривая по сторонам, и снова замирал.
— Дорогу хорошо знаешь? — погодя спросил он у возницы.
— В Рубежное сказали, — сипло ответил паренек, уткнувши нос в рукавичку.
— Говорю, дорогу в Рубежное знаешь? — повторил Анциферов.
— Ездил.
— Ну гляди. — И уже Гурилеву: — Рубежное — большое село. В центре куста. Там удобно заготпункт расположить. Маринич посоветовал. Немцы колхоз не разгоняли, смекнули, что невыгодно, создали свой лигеншафт, вывозили сельхозпродукты. Правда, народишко трудный — избалован довоенным достатком. Вытряхивать из них будет непросто. Главное — никаких поблажек. Учтите, Антон Борисович. Иначе фунт дыму заготовим.
— Вы. были на фронте? — спросил Гурилев.
— Не пришлось. Поэтому для меня фронт там, где нахожусь в текущий момент.
— Почему вы считаете, что надо будет, как вы сказали, «вытряхивать»?
— По-всякому сложится… Чувствуется, что у вас еще настроение оттуда, из Средней Азии. Кончайте с этим… Не мерзнете? Смотрите, не подведите.
— Постараюсь не простудиться. Я же теперь и бухгалтер, и кассир, и таксировщик, и приемщик в одном лице, — усмехнулся Гурилев.
— Тем более, — серьезно ответил Анциферов.
Гурилев стал клевать носом, то и дело сладко окунаясь в зыбкую дремоту, а пробуждаясь, взглядывал на Анциферова. Тот сидел в прежней позе чуткой птицы, изредка поводя крупной головой по сторонам…
Перед самым Рубежным им повстречались розвальни. Съехались, остановились. Из розвальней вывалился, разминаясь, знакомый Анциферову старшина из райвоенкомата.
— Здорово, сосед! — поприветствовал он Анциферова.
— Лифиренко? Ты-то откуда? — удивился Анциферов, перебрасывая ноги. Вылез, подошел к старшине.
— Дела! — Улыбаясь широким лицом, Лифиренко смаргивал слезу, нагнанную ветреной дорогой. — Давай- ка пройдемся. — Они отошли к кустикам. — Военком, понимаешь, послал по вопросу мобилизации.
— Ну и как?
— Да, может, роту нестроевиков наберу со всего района. А у тебя как дела?
— Пока никак. Еду начинать. — Анциферов посмотрел в сторону, где остался Гурилев.
— Слышь, а это кто? — всмотревшись в Гурилева, тихо спросил старшина.
— Прибыл к нам в командировку. А что?
— Странная личность.
— Знакомы?
— Да как сказать. — Старшина рукавицей почесал нос. — Я видел, как его в Ольховатке патруль задержал. Слушок пошел, чуть ли не шпион. Я в коридорчике был, когда его к коменданту заводили. Документов не оказалось. Подозрительный.
— Ты что?! — оглянулся Анциферов на Гурилева. — Документы в порядке, сам держал в руках.
— Что ж это — вторые у него нашлись? — посерьезничал старшина. — Может, он какой беглый староста или бургомистр? Втереться хочет.
— Да он из Средней Азии сейчас, — пытался возражать Анциферов.
— Сам ты его вез оттуда, что ли?.. То-то! Время нынче неспокойное. Всякий народ перемещается. Попробуй уследи! А тут еще прифронтовая полоса.
— А ты не обознался?..
— Головой ручаюсь — он! Ладно, твое дело… Поехал я, мне еще в Клещевский сельсовет надо…
Лифиренко уехал.
Оставшись один, Анциферов задумчиво снял кепку с пуговкой, пригладил седые волосы и медленно вернулся к саням.
— Поехали, — буркнул он вознице, натягивая рывком кепку.
Разговора их Гурилев не слышал, он молча сидел, пытаясь согреться думой о скором тепле, тревожась неизвестностью, что ждет его в Рубежном. Лошадь тронулась, и ветерок донес с тощего мосластого крупа запах конского пота.
До Рубежного добрались к сумеркам. Село тянулось вдоль тракта, тылом прижавшись к лесу. Стояло особняком, в стороне от военных дорог, прежде считалось центральной усадьбой колхоза. Пять дней назад в Рубежном еще была дивизионная медслужба немцев. Убегали они отсюда быстро, может, потому село и уцелело.
У встречной бабы Анциферов узнал, где хата председателя сельсовета. Подъехали. Громыхнув сапогами по доскам высокого крыльца, Анциферов толкнул дверь. Следом шагнул Гурилев. В темных сенях пахло давним рассолом, куриным пометом, запаренными картофельными очистками. Было темно. Но Анциферов безошибочно ухватил дверную скобу.
В горнице у окна сидела немолодая женщина в длинной юбке, прикрывавшей сапоги, и штопала цыганской иглой шерстяной носок. Не торопясь поднялась, положила на стол работу. И показалось Гурилеву, что неторопливость ее намеренна — слышала их шаги на крыльце и в сенях, ждала. Была она высокой, полной, может, от свободной, с широкими рукавами, кофты. Лицо смуглое, гладкое, темные большие глаза смотрели спокойно.
— Добрый день, хозяйка! Принимай гостей, — сказал Анциферов, усаживаясь на лавку.
— Гостям всегда рады. — Она повязала голову косынкой, лежавшей на плечах.
— Ольга Лукинична Доценко? — сказал Анциферов.
— Догадливый вы, — чуть прищурилась она.
— Ты председатель сельсовета? — спросил Анциферов.
— Четыре дня как выбрали.
— Я — Анциферов. Представитель райнаркомзага. — Он поднялся. — А это — Гурилев Антон Борисович. Мой помощник.
— Да вы сидите. Представитель — он и сидячий представитель, — чуть дернулась ее губа. — С чем бог послал?
— Не бог. Власть, Ольга Лукинична. Скот дают нашей области, а значит, и району. Корма нужны. Заготовки. Слышала такое слово? Или отвыкла?
— Отвыкать нам ни к чему. Власть нашей была. Нашей и вернулась. Вы, видать, и не признали меня. Мы ведь до войны на разных совещаниях районных встречались. Директором мельницы вы работали.
— Узнать-то узнал. А вот насчет признать — дело покажет, как справишься. — Анциферов качнул седой шевелюрой.
— Ну, коли узнал да на «ты» меня по старому знакомству зовешь, то и я тебя, Анциферов, обижать не стану, — нажала она на слово «тебя». — Так оно дружней… Может, с чаю разговор начнем? Небось, замерзли в дороге с товарищем, — посмотрела она на Гурилева, устало сидевшего на лавке и улавливавшего какое-то напряжение в их разговоре.
— Чай потом. Сперва дело, — отказался Анциферов. — Посоветуй, где у вас разместить временный приемный пункт. Возить будем из окрестных сел сюда. Это раз. А еще мне нужен подворный список всех хозяйств. Фамилии, состав семьи. Может, у кого надел свой появился при немцах. Так сколько соток или гектаров, — ухмыльнулся Анциферов. — Поняла?
— Поняла. Исполню. Корма временно свозить можно в мастерские бывшей МТС. Там подпол удобный.
— Далеко отсюда?
— Версты три.
— Хорошо… На постой Антона Борисовича примешь, — посмотрел он на Гурилева. — А я с мальчонкой где-нибудь по соседству. Пацан совсем квелый, в соплях весь… Значит, вы, Антон Борисович, располагайтесь. А я на разведочку схожу. Чтоб — врасплох, — хлопнул Анциферов ладонью по столу, будто что-то накрыл ею, глянул на Доценко. — А уж сюда вернусь с полной информацией… Вот так, — кашлянул он, зыркнул за окно, где уже стемнело, и, не оглянувшись, шкрабанув огромными сапогами по половицам, шагнул к двери.
Гурилев ждал, что Доценко скажет сейчас что-то об ушедшем, но она молча убрала в сундук недоштопанный носок, зажгла керосиновую лампу.
— Городской будете? — спросила.
— Да.
— И откуда же?
— Сейчас из Средней Азии. — Он выжидательно посмотрел на нее.
— Ну и как там, в Азии? Тепло, сытно?
— Тепло… А прочее — как всюду. Конечно, освобожденные места в сравнение не идут: разорение, пепелища.
— Нас еще бог миловал, уцелели. Дотянули кое- как…
В сенях послышались шаги.
— Володя Семерикин, наверное. — Доценко поднялась.
В хату вошел коренастый парень в военном, но шинель не подпоясана, без погон. Сняв у порога фуражку с черным околышем, он взъерошил широкой ладонью высокий русый чуб, поздоровался.
— Знакомься, Володя. — Доценко кивнула на Гурилева. — Это товарищ из района.
Парень повернулся к Гурилеву, и тот увидел его лицо: правая сторона чистая, светлая, с тихим румянцем, с живым карим глазом, а левая — неприятно розовая, со стянутой ожогом кожей, с багрово-красными спекшимися веками вместо второго глаза.
— Был я там, тетя Оля. — Володя швырнул фуражку на лавку. — Не трактор, а пугало. Все ржавчиной объело. Еле головку блока снял. Подшипники менять надо. Одним словом — капремонт.
— Надо, Володя. На бабах все не вспашем. Особливо за рекой, где уклон. Там и трактор еле тянет, чернозем. А клин тот — самый родючий. Под сортовое распашем… Нужен трактор. Баба хоть и доброе тягло, да всему мера есть.
— Это понятно… Что если к армейскому начальству съездить, поклониться? Тут недалеко автобат. Может, помогут с ремонтом?
— Съезди. От такого поклона голова не отскочит… Ты-то как устроился?
— У Крайнюковых пока.
— Свою печь когда затопишь? Чего у соседей углы обтирать?
— Лесу надо, инструмент… Да еще бы пару рук. Плотник из меня слабоватый. Конечно, хату в порядок приводить пора — родительская. Хожу мимо — душа болит. Родился ведь в ней… Вчера на кладбище был, могилки обровнял, кресты поправил. Весной дерном обложу. — Он достал кисет, скрутил цигарку и, подняв фитиль, прикурил, густо выдохнув дым первой, дерущей глотку затяжки. — От Лизы нет вестей? — тихо спросил, глядя в окно.
— Найдется, — как-то горько сказала Доценко. — Иди, Володя, дела еще у меня, — встала она, вроде не желая больше ни о чем говорить.
Он взял с лавки фуражку.
— Хорошо, тетя Оля, — посмотрел на Гурилева и вышел.
Какое-то время Ольга Лукинична задумчиво ходила от печи к полке с посудой, отодвигала дверцу-дощечку, что-то трогала, переставляла, словно позабыв о Гурилеве. Потом вернулась к столу.
— Я постелю вам… Может, чаю сперва?
— Нет, благодарю вас. Устал очень. Часок бы отдохнуть.
— Как хотите. — Она ушла за занавеску в другую половину.
Вернулась скоро.
— Идите, почивайте, — приподняла занавеску.
— Спасибо. — Гурилев прошел.
В комнате было почти темно. У окна стояла большая деревянная кровать, старый шифоньер и пустая этажерка, лишь на одной ее полке высилась стопка белья. На стене висела географическая карта — два полушария. Пахло сухим теплом, какой-то травой, от побеленной печи тянуло жаром.
Гурилев сел на скрипучий стул, с облегчением снял ботинки. Посмотрел на белую постель с высокими подушками. Лоскутное одеяло было заботливо откинуто. Он подумал, что, давно не мытый, провонявший всем, что существует в долгом вокзальном и вагонном житье, не может он забраться в эту чужую чистую постель, к которой люди приходят отдыхать, приготовившись к ночи, не смея осквернять давним потом и грязью ни саму белизну постели, ни свой отдых… Он накрыл одеялом простыню, улегся поверх, чуть ли не поперек, едва касаясь головой края подушки, подставив под ноги стул.
Усталость волнами ходила по его телу, он с наслаждением смежил веки, но уснуть не мог. Слышал, как выходила Доценко, что-то делала в сенях, слышал ее шаги на крыльце и на улице, потом она возвращалась в хату, кто-то к ней приходил, произносились слова «председатель», «подворный список», «корма»… И уснул.
Спал чутко, вроде плыл поверх сна. А очнулся опять от голосов и какой-то миг не мог понять: то ли еще вечер, ночь, то ли уже следующий день и вот-вот начнет светать.
На этот раз разговаривали двое. Голос Ольги Лукиничны Гурилев узнал сразу. Второй же был молодой, и звучали в нем то робость, то безразличие, то надрыв и непонимание.
— Мама, я…
— Покаяться пришла? — спросила Ольга Лукинична.
— Мне не в чем каяться, мама!
— Значит, брешут люди, что у немцев работала?
— Работала. Да знали бы вы, как и почему!
— Расскажи, Лизавета, расскажи. А я послушаю.
— Не надо так, мама… Вы неправы…
— Вот даже как!
— В Неметчину меня хотели угнать… Из Росточина почти всю молодежь угнали… Дядя Гнат помог мне… Устроил на работу в немецкую прачечную… С утра до ночи. Руки до крови стерла… Вот карта моя рабочая.
— Ну, а что видели тебя в кабинке немецкой машины… С их солдатом. Тоже брешут? Тебя кто в курвы определил? Тоже Гнат? Иль сама пошла?
— Тот солдат — шофер, мама… В лазарете на санитарной работал… И не немец он… Румын…
— Для меня все они немцы! Ироды!.. Чего слезы пускаешь? Разжалобить пришла? Позор мой отмыть своими слезами?
— Нет, — всхлипнула дочь. — Не за этим… Нету на мне и на вас позора… Он другой… Любили мы друг друга… Дезертировал он потом… Чтоб к партизанам перейти… Мы после всего пожениться хотели…
— Хорошего зятя нашла мне, дочка… Спасибо тебе… Отец покойный тоже тебя отблагодарил бы батогом поперек спины… Жениться, значит, хотел… А ты, дура, тут же ему хотелку свою и подставила?! Перестань реветь! Собирай вещи и уходи из села… Чтобы люди тебе в лицо не плевали!..
— Нету уже Стелиана, мама! — крикнула дочь. — Повесили немцы его… Поймали и повесили… Не добежал до партизан… Некуда мне идти… Беременная я…
— Господи!.. Что же ты наделала, Лизка?! Боже ж ты мой!.. Как жить-то дальше будешь?
— Не знаю…
— Иди к бабке Крайнюковой…
— Нет, мама, — вдруг жестко и спокойно сказала дочь. — Не будет этого. Жизнь Стелиана уже во мне живет… И второй раз убить его не позволю… Даже вам!..
Потом наступила долгая тишина. И Гурилев представил, как они сидят друг против друга — глаза в глаза.
— Нельзя тебе, Лиза, в селе… пока… — вдруг жалостно сказала Ольга Лукинична. — Нельзя… Не поймут люди, если узнают… Уехать тебе надо… Поезжай в область… Руки сейчас всюду нужны… Разруха какая… Поезжай, пройдет время — видно будет… — И, вздохнув, сказала: — Поживи пару деньков и поезжай. Так лучше…
— Хорошо, мама. Я уеду.
— Ты знаешь, кто здесь? — погодя спросила Ольга Лукинична.
— Кто?
— Володя Семерикин. Танкист он… Два дня, как вернулся. Без глаза. С ним как встретишься? Не боишься? Родню его всю постреляли.
— Не боюсь. Никаких обещаний ему не давала. Дружили в школе. Что с того?
— Ты уж постарайся не встретиться с ним, Лиза.
— Хорошо, мама, постараюсь.
— Ох ты, горюшко мое… Спать полезай под стреху, там перина есть. Рядно в сундуке… А у меня приезжий, не выгонишь…
Гурилев встал, натянул ботинки. Выходить сразу не решился, какое-то время побыл в темноте, поправил постель, старательно разгладил ладонями одеяло. Погромче шаркнул ботинком, кашлянул, чтоб услышали, что не спит уже.
Лиза примостилась в углу на лавке. Щуплая, плоскогрудая, совсем девочка. И только по узкому лицу, желтому от света керосиновой лампы, по горестно приподнятым тонким бровям с морщинкой меж ними можно было угадать, что ей за двадцать. Она сидела, нервно вжав меж колен смятые в кулачок пальцы, заплетя под лавкой ноги в девчоночьих — в рубчик — чулках, вовсе не похожая на мать — беловолосая и тонкая в кости.
Гурилев кивнул ей.
— Дочка моя, Лиза, — познакомила Ольга Лукинична. — Повечеряем. — Она сняла с загнетка чугунок с картошкой.
На тарелке уже лежали две синие луковицы, в блюдечке — подсолнечное масло, в миске с рассолом — крутые желтобрюхие огурцы.
— Хлеб, правда, с отрубями, но все же хлеб, — сказала она, оглядывая стол. — Ну вот, хоть маленькая рыбка, да лучше большого таракана.
Гурилев вытащил из своего мешка полкирпича зачерствелого хлеба, два куска рафинада и американскую колбасу в банке с ключиком, припаянным сбоку.
— Ишь, как придумали, чтоб не потерялся, — повертела Ольга Лукинична банку.
Сели к столу.
— А ты чего? — оглянулась Доценко на Лизу. — Особого приглашения ждешь? Не в президиум зовут. Или еда не по тебе, там слаще кормили? Так, что пухнуть начала…
Лиза послушно подсела. Гурилев вскрыл банку, отрезал три пласта красноватого мяса и, разложив по хлебным ломтям, придвинул к себе один, остальные оставил на тарелке:
— Ешьте, пожалуйста.
Лиза осторожно жевала бутерброд, закусывала огурцом. Ольга Лукинична сперва макала лук и картофелину в масло, затем в блюдечко с серой комковатой солью, ела аккуратно, иногда утирая согнутым пальцем уголки губ…
Потом пили морковный чай. Доценко разлила горячую коричневатую бурду в кружки.
— Мама, я пойду? — поднялась вскоре Лиза.
— Рядно не забудь, — наказала мать.
Сунув ноги в маленькие ботинки и не зашнуровав их, Лиза вышла. Ольга Лукинична стала собирать посуду. Двигалась она ловко, от длинной широкой юбки отлетал ветерок. Гурилеву казалось, что уже глубокая ночь, — таким долгим и полным был еще не отстоявшийся день. Однако жестяной маятник старых ходиков передвинул стрелки чуть за восемь…
Около девяти заявился Анциферов. Вошел так же, не постучавшись, шумно. Снял кепку, изможденно опустился на лавку, вытянул ноги. Лицо его было серым, изъеденным усталостью, на костяного цвета виске судорожно дергалась жилка, обострив скулы. Он прикрыл уставшие глаза, но веки дрожали, будто боролся со сном. Только сейчас Гурилев заметил, что Анциферов, пожалуй, его ровесник.
Словно стыдясь своей слабости, не в силах одолеть эту дрожь в сомкнутых веках, боясь ею унизить себя, Анциферов открыл глаза, блеснул взглядом по лицам Гурилева и Доценко: мол, все в порядке со мной, не думайте.
— Сколько верст до хутора Бабкина? — спросил он.
— Четыре.
— Сходить туда, что ли? — вроде себя спросил.
— Может, завтра? — усомнилась Доценко, видя, как он безмерно устал. — Ты же вон, как выдоенное вымя.
— Меня всего не выдоишь, Доценко, — усмехнулся.
— Поел бы чего.
— Сыт, — глянул он на ходики. — Не врут?
— Семнадцать лет по ним живу.
— Отдохнули? — он повернулся к Гурилеву.
— Вполне. Вам бы тоже не мешало, Петр Федорович.
— Некогда. Успею после войны. Если такие, как я, сейчас отдыхать станут, фронт без мяса и молока останется. — Он почти без усилия встал, натянул свою кепку с пуговкой. — Ночевать я буду у Лещуков. Вместе с пацаном… Значит, до завтра. — Он вышел.
— Его энергии позавидуешь, — сказал Гурилев.
— Свету только мало от энергии этой, — вдруг ответила Доценко. — Купили мы колхозом до войны движок, чтобы электричество давал. Работал с утра до ночи. Весь ходуном ходил. А свету — на копейку. Одно слово, что энергию посылал. На двадцать хат едва хватало. Керосиновая лампа и та потеплей горела.
— Положение его, наверное, такое, — сказал неуверенно Гурилев.
— У всех у нас теперь положение… Хлеб — вот кто всему начальник. Народ наш не может без хлеба — крутила она в пальцах край косынки. — Немцы — те для блезиру хлебом пользуются. А для нас он — все… В сороковом в область на совещание животноводов ездила. Кормилась в ресторане. Уж на что дома хорошо и вкусно ели, но и в ресторане этом, скажу вам, не откажешься: и рыба всякая соленая, салаты разные, ветчина городская. Потом, помню, борщ подали. Красивый, жирком светится, кусочки сала плавают. Как домашний, как сама делала. А вот хлеб официантка подать забыла. Сижу, жду. Все наши уже отобедали, а я все смотрю на еду, дожидаюсь хлеба, борщ стынет. Обидно, холодный борщ — сами знаете. А позвать девушку, напомнить стесняюсь. Перерыв кончается, одна я осталась. Попробовала несколько ложек борща. Вкусный, пахучий, а без хлеба не идет: то укусить надо, то под ложку подставить, чтоб не капало… Так, не поевши, и ушла. Вот что оно — хлеб! Жили перед войной, конечно, что и говорить… Хлеб ко всему шел… Да что вспоминать, — вздохнула она. — Вчера не догонишь, а от завтра не убежишь. Посеяться в срок бы. Весна стучится, пахать скоро. У нас примета: жабы закричат — пора сеять.
— А есть чем? — спросил Гурилев. — Зерно?
Доценко сделала вид, что не расслышала, только бровь чуть шевельнулась, и понял он, что повторяться с вопросом не следует — не ответит.
— Сеять на наших землях сортовым хорошо бы. Да где его взять теперь столько? — Она пальцами скребла по скатерти. — И трактор нужен. Подсказали бы в районе. Горючее у меня есть: бочка солярки и полбочки масла. Немецкое. Бросили они, убегаючи. В МТС, где корма вам складывать, храню.
— Вряд ли мое слово вес будет иметь, — ответил Гурилев.
— А пустых слов и не надо, не то время…
Проснулся Гурилев, едва рассвело. Какое-то время лежал, прислушиваясь, но из половины, где оставалась на ночь Ольга Лукинична, не доходило ни звука. Однако, когда встал, почувствовал, что в комнате тепло, а приложив ладонь к побеленной, в черных трещинах стене, понял, что печь уже топилась.
В кухне у печного угла над оцинкованным тазом висел сиявший медью бачок старого рукомойника, на табурете лежал обмылок. Зная, какова теперь цена мылу, Гурилев вынул из мешка свое, завернутое в марлю. Ополоснувшись, вернулся, стал одеваться, потуже зашнуровывая ортопедический ботинок, когда за окном, выходившим во двор, раздался отзванивавший стук топора. Отодвинув занавеску, Гурилев увидел Лизу. Она выносила из сарая березовые кругляки и колола их возле валявшегося бревна. Топор, наверное, был тяжел для ее тонких рук, она с трудом взмахивала им и, когда он падал вниз, клонилась следом. И тут во двор со стороны огорода через поваленный тын вошел Володя Семерикин. Лиза выпрямилась, стояла не выпуская топора, вытянув руки вдоль тела. Остановился и Володя. Лиза всматривалась в его обезображенное одноглазое лицо, потом они что-то сказали друг другу и сели на бревно. Заговорили. Больше говорил Володя, согласно покачивал головой, часто курил, нервно вдавливая окурки в сырую кору бревна. Потом Лиза поднялась и пошла огородами, а Володя стоял, не решаясь двинуться за ней, окликнул дважды, но она не оглянулась, и он, горестно махнув рукой, вышел за ворота…
За ночь подморозило. Сыпала снежная крупка, ветер сдувал ее с ледяной корочки, затянувшей лунки.
Гурилев подумал: не переобуться ли, в ботинках не вытерпит, замерзнет за день, хотя в валенках из-за хромоты ходить тяжелей. Валенки были старые, с лысинами на внутренних сторонах — кустарные катанки с тугим негнувшимся подъемом, иногда натиравшим ногу.
Переобуваясь, слышал, как отворилась дверь, холодком качнуло занавеску.
— Входи, — раздался голос Ольги Лукиничны. — Замерзла я. Март вроде без рук, а щеки хватает… Сними шинельку, Володя, в хате тепло… Ну, какие у тебя дела-новости?
— Если не нужен вам, хочу в автобат наведаться. Насчет ремонта трактора. Остап Иванович коня дает, — ответил Володя.
— Давай лучше с воскресенья. Может, нужда будет в тебе, пока Анциферов в район не отъедет… А ты что такой хмурый?
— Нет, я ничего…
— Не бреши. Случилось что?
— С Лизой встретился…
— Вот как… Поговорили? — тихо спросила Доценко. — Чего молчишь? Ты уж правду мне… Брехать не умеешь, с люльки тебя знаю… Мечтала, зятем будешь…
— Сказала она мне, тетя Оля.
— Что сказала?
— А все.
— И что ж?
— Все равно люблю я ее, тетя Оля.
— Со всеми теми ее богатствами?
— Тут делить нельзя, не получится: это — кому-то, а это — мне. При человеке и жизнь его вся. Это когда мануфактуру выбираешь, тут — что тебе больше подходит…
— Не много ли хочешь взвалить на себя? Унесешь ли?
— А что делать, тетя Оля? Жалко мне ее.
— Жалеть мое дело. Дочь моя. А она-то что? Хоть сказала чего?
— Сказала: обещаний никаких не давала и не даю. Подумай, говорит, на что идешь. А пока — оставь меня в покое, время покажет, кому какая и с кем дорога…
— Сам смотри, Володя, — вздохнула Ольга Лукинична.
Они помолчали. Затем Доценко спросила:
— Завтракал? Тогда разом будем. Картошка уже подоспела. — Она подошла к занавеске, позвала: — Антон Борисович! Иль спите еще?
— Нет, нет, обуваюсь, — отозвался Гурилев.
— Ждем вас…
После завтрака вместе с Володей Гурилев вышел на улицу ждать Анциферова: Володя по просьбе Ольги Лукиничны согласился проводить Гурилева к мастерским МТС.
Вскоре подошел Анциферов. По-деловому кивнул обоим.
— У вас все с собой? — глянул на инкассаторскую сумку под мышкой у Гурилева.
— По-моему, все, — пожал плечами Гурилев.
— Место надежное? — спросил Анциферов Володю.
— В каком смысле?
— Смысл один: надежное или не надежное. Для временного заготпункта. Может, охрана на ночь нужна?
— Это дело ваше. Поглядите, сами решите. — Володя достал кисет, нахмурившись, стал крутить цигарку.
— Вот подворный список, Антон Борисович. — Анциферов подал бумажку. — Против фамилий сдатчиков — галочку. Помните: квитанции и денежный расчет на месте. Ценник у вас есть. В дискуссии не вступайте. У вас ощущается склонность к этому.
— Что, собственно, вас беспокоит в дискуссиях, Петр Федорович?
— Да вы не обижайтесь. Я человек прямой. Что думаю, то и говорю. Ведь брать-то нам все, под метлу.
— Что значит — под метлу? — пыхнув дымом, спросил Володя. — А народ с чем хозяйство поднимать начнет?
— Это я уже слышал. Народ — это армия, фронт.
— Тут, значит, где не фронт — все во второй сорт пошло? — Володя ощупывал лицо Анциферова единственным глазом.
— Хоть бы и так. Я могу двое суток не жравши, а солдат или командир на передовой не может. И не должен! Ему под пули идти. А кто веселей пойдет? Сытый или голодный? Ему кусок мяса или сала нужен. А в госпиталях? Сам знаешь, хлебнул.
— Но и в обстановку вникать полагается. Фрицы сколько скота побили? Особливо свиней.
— Во! Опять это слово — обстановка, ситуация! — насмешливо скривился Анциферов. — Мы этой обстановкой управлять должны! В поддавки с нею играть я не могу и не стану, иначе она мигом скрутит. Мне отсюда не обстановку вывезти надо, а корма.
— Ну-ну, — сплюнул Володя. — А тыл, город в смысле, не от нашего ли личного хозяйства получать должен и сало, и то же мясо?
— Доценко где? — отмахнулся Анциферов.
— В хате, — буркнул Володя.
Анциферов двинулся было к крыльцу, но его остановило тарахтение мотора. Из конца улицы катил грузовик. И когда был уже близко, за мутным в трещинках стеклом Гурилев различил лицо Вельтмана, баранку вертела Нина. Подъехали.
— Что ж, Антон Борисович, свели нас интендантские дороги? — выскочил из кабины Вельтман.
— Значит, и вы сюда? — Гурилев пожал протянутую руку.
— Я всюду. Полковой заготовитель Фигаро.
— Заготовитель? — спросил Анциферов. — Рад коллеге. Я от райнаркомзага. — Он уже решил не идти к Доценко, прищурив глаз, хитровато приценивался к Вельтману.
— Не много ли нас на эту житницу, — смеясь, показал Вельтман на осевшие сельские хаты, вытянувшиеся вдоль улицы. — Как делить этот пирог будем? До дуэли не дойдет?.. Ладно. Пошутили. Я-то по конкретному делу. Убегая, немцы вроде оставили здесь небольшой склад: мука, оливковое масло в бочках, шоколад, что- то еще. Склад где-то в лесу. Не слыхали?
— Пока нет, — ответил Анциферов. — Про такое мужики объявлений не дают.
— Уточнить бы… У кого можно?
— А вам никто не скажет. Трофейное — оно ничье, раз не оприходовали. Народ растащит по хатам. Или уже растащили.
— Правильно сделали, если так, — засмеялся Вельтман. — Но, может, еще не успели?.. Уточнить бы, где этот склад.
— Мертвое дело, — махнул рукой Анциферов. — Тут мужики — молчуны. Кто вы им? А никто. Сегодня здесь, а завтра убыли. Так что страху у них никакого. Но мне скажут! С ними надо уметь говорить! Найду я вам этот склад. Но с условием: дайте на два дня машину. Корма свезти надо отсюда и еще из нескольких сел. На санях не развернешься. Да и пацан мой, кучер, совсем плох. Всю ночь спать не давал — кашлял, хрипел.
— Далеко возить? — спросил Вельтман.
— За день по две ходки можно сделать.
— Надо посоветоваться с начальством. — Вельтман надул языком щеку.
— Долгая история, — разочаровался Анциферов.
— Я начальство с собой вожу, вон — в кабине — Вельтман повернулся к машине: — Нина!
Подошла шоферша.
— Слушай, Нина, тут такое дело… Надо помочь товарищам. Несколько ходок сделать, корма. Нам за это с тобой обещают склад тот самый на блюдечке поднести, — весело глядя на нее, сказал Вельтман. — Как смотришь?
— А горючее чье? — спросила Нина.
— Ладно тебе торговаться, — улыбнулся Вельтман. — Шоферская психология. — Здоровой рукой он обнял девушку, привлек к себе. Чуть подняв плечо, Нина сделала попытку отстраниться, но Гурилев подметил, что жест этот был пустой, больше похожий на игру, снизу вверх глаза ее ласково метнулись по лицу Вельтмана.
«Ужели все так просто? — подумал Гурилев. — Ведь три дня, как познакомились! Или нынешнее время все уплотняет, убыстряет, не меняя существа дела? И чувства, и поступки, и саму жизнь…»
— Тогда езжай с товарищем Анциферовым, — сказал Вельтман.
— А ты куда? — не стесняясь, на «ты» спросила она.
— Не потеряюсь, найдешь.
Она поднялась на цыпочки, что-то шепнула Вельтману на ухо, затем коротко бросила Анциферову:
— Садитесь… Скажите — куда.
Они уехали. У Вельтмана были еще какие-то дела в селе.
— Увидимся, — сказал он Гурилеву и ушел.
— Пойдем, что ли? — нетерпеливо спросил Володя, шагнул к дороге.
— Да-да. — Гурилев двинулся за ним.
— Теперь куда? — спросила Нина.
— Вправо, к лесу, — ответил Анциферов.
— Увязнем там.
— Давай, давай. По просеке. Она прямо к Бережанке выведет.
Они въехали в плотный лиственный лес. Черные деревья с жесткими промерзшими ветвями и спутанные густо кустарниковые заросли слились в одну, почти не пробиваемую взглядом стену. Лес был старый, с буреломами, валялись легкие, пустотелые, давно сгнившие ольховые и березовые стволы, обглоданные муравьями и зверьем, зараставшие с весны высоким буйным папоротником. За годы войны лес бесприглядно дичал, даже поперечные просеки, некогда делившие его на участки, вроде сузились, обжатые с боков нависшими цепкими ветвями.
Дорога шла наезженная, кое-где с глубокими заснеженными колеями, и, боясь посадить в таких местах машину, Нина норовила ехать одной стороной грузовика по бугру над колеей. Тогда машину клонило, и Анциферов тревожился: не сползут ли в кювет. Но когда привык, болтаясь от этих маневров то вправо, то влево, стал похваливать Нину и молча радовался, что пофартило раздобыть грузовик.
— А этот старший лейтенант понятливый малый. Выручил. Я в долгу не останусь, — сказал он, чтоб сделать Нине приятное.
— Конечно, понятливый. Воюет с сорок первого… Во, зараза, опять, — задергала она ручку переключения скоростей.
— Ты чего ругаешься?
— Ругаюсь? — удивилась Нина. — Да на такую машину и матюгов не жалко.
— Не к лицу. Тебе сколько лет?
— Двадцать два.
— А с ним роман у вас?
— А что такое роман?
— Ты не придуривайся… Любовь значит.
— А что такое любовь?
— Ну вот… Наблюдал я за вами.
— И что?
— Нравится он тебе, вот что.
— Нравится, — согласилась Нина.
— А ты ему?
— И я ему.
— Давно знакомы?
— С начала войны, — соврала Нина.
— Тогда еще ничего, — согласился Анциферов.
— А если три дня как знакомы, тогда что?
— Так не бывает, чтоб за три дня — и уже любовь.
— А что бывает, если за три дня?
— Сама знаешь, как это называется.
— Я-то знаю… И знакомы мы точно три дня. Понятно? И называется это не так, как вы подумали. Я замуж выйду за него.
— Захочет?
— Захочет.
— А вдруг он уже женатый?
— Кто? Иван? Нет, неженатый.
— Может, сбрехал тебе.
— Мне?! Да я насквозь вижу человека… Да и такие, как он, не врут.
— Всякие врут, Нина, — вздохнул Анциферов.
— И вы тоже?
— И я тоже. Но только ради большой общей пользы.
— Никакой общей пользы от вранья быть не может. Потому что кому-то все равно это вранье во вред.
— Молода ты еще… Есть высшая польза, ради которой многое простить можно.
— А я бы не простила никому… Смотрите, смотрите, что это! — вскрикнула она, быстро глянув вбок.
— Что там? — дернул головой Анциферов.
— Промелькнуло… На просеке, слева… Какие-то фигурки… В зеленом… Это немцы! — Нина притормозила.
— Какие тут немцы? Ты что!
Слева от дороги в лесную глушь уходила заброшенная просека. Анциферов притянул к себе автомат, но сколько ни всматривался в серую от легкого тумана глубину просеки, ничего не видел: мертво по бокам ее, не шелохнувшись, торчали черные ветки.
— Поехали, — сказал он. — Мерещится тебе. Откуда тут немцы? Шуганули их так, что не скоро очухаются.
— Нет, что-то зеленое промелькнуло, — настаивала Нина, отжимая сцепление.
— Может, баба какая или мужик хворост собирают.
— Так далеко? — усомнилась Нина. — Давайте вернемся, глянем на следы?
— Поехали, поехали, некогда мне забавляться, — . приказал Анциферов, откинувшись спиной. И вдруг спросил: — А вы откуда знаете Антона Борисовича? Давно знакомы?
— Он с Иваном вместе в поезде ехал. В Ольховатке сели разом. А потом в моей машине до райцентра… А что?
— Да так…
Следя за дорогой, Нина теперь все чаще тревожно косилась по сторонам, где шла — справа и слева — нескончаемая стена леса.
— Мы когда вернемся? — спросила Нина погодя.
— Как управимся, — неопределенно ответил Анциферов.
— А что вы там делать будете?
— Заготавливать корма.
— Откуда же теперь корма?
— Поищем — найдем, то, что надо, возьмем, — пропел рифмованную прибаутку Анциферов. — А найти надо! — уже резко сказал он.
— Вы и для армии заготавливаете? Вы же гражданский.
— Не имеет значения. И для армии, и для тыла.
— Получается, что у одних забираете, чтобы другим давать?
— Путаница у тебя в голове, милая. Ты сало ешь?
— Ем.
— Где взяла? Сама хряка вырастила?
— Выдали.
— То-то что выдали. А тот, кто выдал, сам кабана кормил? Деревня его поставила. А город производит другое, то, чего деревня не может. Машину ты хорошо водишь, а в политграмоте — слабовата. Учиться тебе надо, а не замуж.
— Странный вы. Не пойму я вас. Иван лучше мне все объяснит.
— Кто это? Старший лейтенант твой? Пусть объяснит, если знает.
— Он все знает. Он археологом работал до войны..
Дорога пошла в гору. На макушке подъема лес внезапно кончился, и внизу, в широкой заснеженной долине, зачернели хаты села Бережанка с вялыми дымами над крышами…
Первые сани потянулись к мастерским МТС вскоре после ухода Володи. Тягла в Рубежном и ближних селах, где побывал вчера Анциферов, было мало. Делали несколько ходок, три-четыре семьи везли свое на одних санях. Сидели на них в основном бабы и подростки. Везли кто что мог: проросший картофель, отруби, кукурузу, похожие на жернова круги макухи, от которых пахло подсолнечным маслом, тюки спрессованного немецкого сена, уворованного при немцах или припрятанного после их бегства.
Гурилев спрашивал фамилии, ставил в списке крестик. Весов не нашлось, принимал он на глазок, определив себе считать картофель в мешках вкруговую — по четыре с половиной пуда. Выписывал квитанцию, тут же платил наличными. Бабы прятали деньги в тряпицы, заталкивали куда-то глубоко за пазуху, сносили мешки и макуху с саней под крышу: в углу у стены был люк с лесенкой в просторный зацементированный подвал. Там и складывали.
За тару люди справедливо хотели отдельную плату Мешок в хозяйстве всегда ценился, а по нынешним временам — особенно. Гурилев платил. И лишь один старик, привезший два небольших мешка картофеля, требовал возвратить мешки, денег не хотел. Уговаривали и Гурилев, и односельчане: не высыпать же картошку на цемент! Уломали после того, как Гурилев накинул ему лишнюю бумажку. Слюнявя черные, плохо слушавшиеся пальцы, не привыкшие к пересчету денег, старик медленно отделял купюру от купюры.
— А они-то хоть в силе еще? — спросил он под конец Гурилева. — Ходют? — поцарапал он ногтем по пачке денег.
— Ходют, дед, ходют. Поживей тебя. А сумлеваешься — отдай мне, я им быстро ноги приделаю, — крикнула весело молодая бабенка, вынув изо рта шпильки и закалывая ими волосы.
— А чего за них купить можно? — не унимался старик, всовывая деньги в большой брезентовый карман, пришитый на извороте истрепанного овчинного полушубка. Карман застегивался на большую изящную перламутровую пуговицу, сохранившуюся бог знает с каких времен.
— Все купишь, Лексеич, — шумела молодуха. — Только унести сумей. Не то вторую килу натянет.
— Ты за мою килу не переживай, Шурка. Гляди, чтоб тебе чего не натянуло, покуда Аркашка на войне, — отбивался старик.
Бабы смеялись.
— От тебя, что ли? — веселилась молодуха. — Ты, Лексеич, небось годов двадцать уже постишься.
С трудом просунув перламутровую пуговицу в петлю из белой тесьмы, старик, махнув рукой, присел на сани и полез за кисетом.
После полудня вернулся Анциферов с неполно груженной трехтонкой.
— Ну-ка, народ, помоги разгрузить, — скомандовал он, выламываясь из кабины. — Как дела у вас? — спросил Гурилева. — Сколько? Чего?.. Всего-то! — недовольно удивился, услышав ответ.
— Вы что, красный обоз ждали?!
— Ничего, я их взнуздаю! — дернул головой Анциферов.
— Нас, что ли? Меня, к примеру? спросила молодуха. — Гляди, какой наездник!
— Ты язык втяни, — погрозился Анциферов. Он отошел к Гурилеву и тихо спросил: — По скольку вы считаете в мешке?
— По четыре с половиной пуда.
— Да что вы, Антон Борисович! По четыре — максимум! Там больше песка и гнили, чем картофеля.
— Весов у меня нет. Но я и на глаз не ошибусь. Зачем же обсчитывать людей?
— Не получится ли, что обсчитаем государство? Меня это больше волнует. Так что — четыре! Вот вам моя установка.
— Нельзя так, Петр Федорович.
— Ответственность за все несу я. Свое несогласие вы сможете высказать потом, когда мы сделаем дело. — Он отвернулся, нервно переставляя ноги в широченных галифе…
Вытирая ветошью испачканные в машинном масле маленькие руки, подошла Нина.
— Старший лейтенант не возвращался? — спросила она Гурилева.
— Пока нет.
— А вы не знаете, где он может быть?
— Он ничего не говорил.
— Мне опять надо ехать с ним, — кивнула она на Анциферова.
— Куда же?
— В Гуртовое…
Когда машину разгрузили и колхозники уехали, Анциферов сказал:
— Полчаса передышки. Перекусим сухим пайком и поедем. Так, Нина?
— Дело ваше. — Она пошла к машине, села на подножку.
Анциферов развернул пакет с едой, отрезал ломоть хлеба, кусок серой ливерной колбасы и отнес Нине.
— Ешь, — подал он.
— Спасибо; Я не очень голодна, — но взяла.
Ели молча. И по лицу Анциферова Гурилев видел, что жует тот как-то механически, словно по необходимости, наморщив лоб, что-то прикидывал, обдумывая при этом.
Они еще не успели доесть, когда показались сани. Правила ими баба, до бровей укутанная платком. За ее спиной развалились мужик и Вельтман.
— Вот пшеничку отдаю, — сказала баба, развязывая мешок.
Анциферов запустил руку, вынул горсть зерна, подул, сметая мусор.
— Это пшеничка называется? Суржа у тебя. Ты что думаешь, слепой я?
— Тут больше пшеницы, товарищ начальник Жита почти нет. Запишите как пшеницу. — Углом толстого платка она прикоснулась к глазам. — Запишите, а? Все ж денег поболее будет. Вдова я, ребятишки поизносились, одежа нужна.
— Всем нужна, — отрезал Анциферов. — Пишите суржа и платите как за суржу, — велел он Гурилеву.
— Но, может, здесь действительно в основном пшеница. Какие у вас основания не верить? — спросил Гурилев.
— А вы, Антон Борисович, по зернышку, по зернышку рассортируйте. Налево пшеничное, направо — ржаное… Что вы, в самом деле!
— Хорошо, — тихо ответил Гурилев. — Но этот мешок я помечу. Вернемся, я проверю в лаборатории. И если окажется, что женщина права, вам придется…
— Ничего мне не придется, Антон Борисович, перебил Анциферов. — Какая лаборатория? Откуда? Район всего пять дней как освобожден… А это кто такой? Муж твой? Что за сено? — повернулся он к бабе и указал на сани, где сидел мужик.
— Сосед, безлошадный он.
— Картофеля или отрубей нет у меня. — Мужик сошел с саней. — Сено бери. — Он хмуро повел глазами на тюки.
— Немецкое? — хмыкнул Анциферов.
— Оно.
— Что ж ты, трофейным хочешь отчитаться перед властью? Где взял?
— Где взял, там уже нет. Не гнить же ему. А у меня ни коня, ни другой скотины.
— Все трофейное, бесхозное и так принадлежит государству.
— Ты мне правила не читай. Хошь — бери, не хошь — ей за так отдам, — указал он на бабу.
— Сгружай, — уступил вдруг Анциферов. — Засчитайте ему, Антон Борисович…
Вельтман сидел рядом с Ниной в кабине.
— Ты где был, Ваня? — соскабливая с его шинели засохшую грязь, спросила она.
— Крутился в окрестностях. Мед нужен для госпиталя.
— Наверное, голодный? Я покормлю тебя. — Она заглянула ему в глаза.
— Да нет, я перекусил… Ты как съездила?
— Съездила. Он собирается в Гуртовое.
— Надо, Нина, помочь. Его дело тоже невеселое.
— Да уж видела;.. Глухой он какой-то.
— Глухой?
— Себя только слышит.
— Ты у меня психолог, — засмеялся Вельтман и погладил ее шершавую, в царапинах, узкую кисть. — Пальцы у тебя красивые, смотри, форма ногтей прямо аристократическая. Маникюр бы сделать!
— Сейчас в самый раз, — грустно сказала Нина, отстранив руку и разглядывая ее. — А потом в карбюраторе копаться… Иван, мы когда ехали в Бережанку, что-то на просеке мелькнуло. Не немцы ли? Вроде ихние шинели…
— Ты просто устала… Стрельнули по вас? Нет?.. Откуда им тут взяться, в тылах?
— Не знаю… Анциферов идет. Соскучился по мне.
Вельтман отстранился, выпрямился.
— Ну что, Нина, — подошел Анциферов, — в путь- дорогу? А с тебя магарыч, старший лейтенант. Нашел я твой склад.
— Неужели?
— Плохо меня знаешь… В лесничестве, по дороге на Бережанку. Я там предупредил: если хоть грамм чего пропадет — под суд…
— А как вы узнали?
— Я еще вчера знал. Антон Борисович отдыхать изволили, а я на разведочку ходил. Хотел сегодня оприходовать, да ты подвернулся.
— Отчего ж не сказали сразу?
— Чтоб ты машину дал, чтоб интерес у тебя был.
— Вы не из купеческого сословия? — засмеялся Вельтман, выходя из машины. — Как же вы унюхали этот склад?
— Просто. Взял одного старика на хуторе за бороду: «Ты, говорят, немцам свинью свою заколол, подношения делал?» А он рот раскрыл от страху: «Было такое». Я ему и говорю: «Если не хочешь неприятностей, выкладывай, что и где немцы оставили».
— Кто же вам сообщил про свинью эту?
— Я и понятия не имел. На арапа: ведь немцы многим приказывали свинину им поставлять. Вот и весь фокус. Психологический расчет. Я всегда учитываю, что у каждого грешок какой-нибудь за душой, каждый в чем-то виноват. Совсем чистых не бывает. Один больше грешен, другой меньше. Вот на эту мозоль и жму. Учитывая, конечно, общую обстановку.
— Занятный вы индивидуум. — Вельтман с серьезным любопытством разглядывал Анциферова. — Значит, и на вас таким способом давить можно при необходимости?
— Наверное. И я не святой, — по-деловому согласился Анциферов. — Ладно, пора мне…
Холодный мартовский день, убывая, менялся: небо стало ниже, как бы разделилось — прополоскалось светлым на западе, тенью затянулось на востоке. Анциферов и Нина давно уехали в Гуртовое.
Прихрамывая сильнее обычного, чувствуя, что натер валенком ногу в подъеме, Гурилев присел на валявшуюся балку. Вельтман, томясь, ходил по разрушенному зданию мастерских, цепляя ведра с примерзшими остатками извести, пустые добротные ящики с немецкой маркировкой. Звук его безразлично громыхавших шагов раздражал Гурилева. Он понимал, что Вельтман меньше всего повинен в его дурном настроении… Не совершил ли он, Гурилев, ошибку, согласившись на эту поездку и вообще затеяв переезд из Джанталыка на Украину? Может, проще было досидеть в Средней Азии до конца войны, а потом уже, более осмотрительно, искать возможность перебраться в родные места? Получилось же вовсе нелепо, совсем не то, на что рассчитывал.
После ухода Сережи в армию, оставшись одни, они с женой стали подумывать о возвращении из эвакуации. Судили-рядили, и Гурилев по совету жены написал в Москву в наркомат старому приятелю Шарыгину, что хотел бы вернуться в освобожденный осенью Донбасс. Написал, почти не надеясь на ответ: не переписывались они прежде. Жив ли Шарыгин? Не на войне ли? Затея отозвалась спустя пять месяцев телеграммой из Киева, приглашавшей приехать для переговоров о трудоустройстве в системе потребкооперации. Рассудили с женой, что он поедет, устроится на работу, решит вопрос с жильем, а там и ей вышлет вызов.
В освобожденном три месяца назад Киеве ему сказали: «Люди нам очень нужны. Куда бы вы хотели?» Гурилев хотел, конечно, в Сталино, но ему уклончиво сказали: «Мы имели в виду другое. Вот, выбирайте, есть три города. Все одинаково пострадали. С жильем, сами понимаете… Но надеемся, жизнь наладится… В каждом из этих городов нам нужны бухгалтера».
Он выбрал старый город, бывал в нем до войны, помнил невысокие, по-южному побеленные дома за палисадниками, красивый парк, плотно мощенные улицы с акациями, на окраине большое озеро с деревянными купальнями.
«Езжайте, мы сообщим туда о вас. Явитесь в облисполком к товарищу Калиниченко», — сказали ему.
Из Киева он добирался шесть суток. Приехав, был потрясен разрушениями. Товарищ Калиниченко оказался женщиной. Немолодая, в расстегнутой телогрейке, она сидела спиной к растрескавшейся голландской печи; из-за плохой тяги из щелей просачивался дымок, стоял горьковатый чад, хотя вьюшка была открыта полностью. Посмотрев бумаги Гурилева, Калиниченко смущенно сказала: «Вы уж извините, произошло недоразумение. Пока вы к нам добирались, вернулся наш прежний главбух. Из госпиталя, без ноги… Но вы не волнуйтесь, вы нам очень нужны, найдем хорошее место, сейчас вакансий много», — вздохнула она. «Что же мне делать?» — стараясь скрыть растерянность, спросил Гурилев. «Вы смогли бы нам помочь. Вчера полностью освобождена наша область. А сегодня уже пришла телеграмма, что к нам перегоняют с востока большое количество скота. У нас ведь раньше было сильное животноводство… Срочно нужны корма — весна. Особенно плохо у нас с кадрами в Бортняково. Это самый дальний район. В прифронтовой полосе. В райисполкоме там есть товарищ Маринич. Помогите ему… Самим им там не осилить. Учет, финансовые операции, расчеты с населением. Очень прошу вас… Временно, конечно. К вашему возвращению подыщем подходящую службу, что-нибудь с жильем придумаем… У вас семья большая?» «Я и жена», — ответил Гурилев, обескураженный таким поворотом. И тут же суеверно встревожился, что не назвал в составе семьи Сережу, ушедшего в армию…
Выбора не было. Гурилев вынужденно согласился. Упоминать о своей хромоте было не к месту… Затем дал уговорить себя и в Бортнякове, согласившись поехать сюда, в Рубежное, с Анциферовым, уступив его напору, жесткой парализовавшей воле, не допускавшей никаких сомнений или обсуждений.
Глядя, как Вельтман ковыряет носком сапога в каких-то смерзшихся железках, Гурилев осознавал между тем, что исподволь возникавшие в его душе за истекшие сутки возражения и несогласие с Анциферовым натыкались всякий раз на неуязвимую правоту слов Анциферова, в которые тот облекал чуждую ему Гурилеву, суть, И раздражала собственная беспомощность, невозможность обосновать свое, несогласие поскольку это можно было сделать лишь в обстоятельном разговоре, тогда как Анциферову на все доказательства хватало минуты и нескольких лаконичных общеупотребимых формул, бывших нынче в ходу и в большой цене…
Он не заметил, как рядом присел Вельтман, положив на колени автомат и опершись о него локтями, как о деревяшку.
— Устали? — спросил Вельтман.
— Ногу натер.
— Я где-то вычитал, что до Наполеона солдаты носили одинаковую обувь: башмаки не делились на правый и левый. То-то было удобство!
— Вы думаете?
— Конечно! Все в равном положении. А сейчас, бывает, наденет человек правый штиблет на левую ногу, мучается, но делает вид, что все в порядке.
— Вы это в каком смысле?
— Больше в переносном… Вы довольны?
— Чем? — не понял Гурилев.
— Сегодняшним днем. Успели что-то?
— В известной мере.
— Все-таки вы ищете нюансы, просто «да» или «нет» вас не устраивает? — усмехнулся Вельтман.
— А вы? — задело Гурилева.
— Война требует однозначности и императивности… Привык. А в общем все условно… Все применительно к чему-то… Вы видите вогнутое там, где кто-то видит выпуклое. В одном и том же предмете. Вот и все.
— Удобно, утешительно. Но иногда опасно… Почему вы не поехали в лесничество?
— Не на чем. Отдай жену дяде… Завтра Володя Семерикин обещал сани и кобылку достать… А чего вы ждете? Конец дня, вряд ли кто-нибудь еще привезет. Да и нечего, наверное, им везти уже.
— Анциферов должен вернуться сюда.
— Разве что… Пойду я, — встал Вельтман. — Не обидитесь, что покину? Надо подумать о, ночлеге Нине скажите чтоб шла к Семерикину. Он будет знать, где я.
Гурилев поднял голову, встретился с ним взглядом. Вельтман понял.
— Не надо обо мне дурно думать, — сказал он. — Разве ваша жена понравилась вам заочно, и лишь потом, спустя месяц или сколько там, когда вы увидели ее, вы пришли к чему-то более определенному? Всему предшествует реальное начало. А какое?.. У жизни много вариантов. И все они однажды повторяются. Часто со счастливым исходом.
— Я вас понимаю… Простите.
Повесив автомат через плечо вниз стволом, Вельтман ушел.
«Я, наверное, просто стар, — подумал Гурилев, глядя ему в след. — И моралист».
Ему не хотелось вставать, вообще двигаться, знать, который час, чтобы время, которое предстояло пробыть здесь в ожидании Анциферова, не тянулось так медленно. Внизу, над горизонтом, темнеющее небо чуть светилось зеленой полоской.
Он не сразу увидел, как из сумерек выделилась фигурка, перемещавшаяся по снегу, умятому с утра санным полозом, а когда она приблизилась, узнал Лизу. Поднялся. Лиза остановилась перед ним, бросила взгляд за его плечо.
— Мама велела, чтоб ужинать вы шли к нам, — бесстрастно сказала она.
— Хорошо… Спасибо… Но мне еще тут побыть придется.
Лиза продолжала стоять. Была она в старом коротковатом демисезонном пальто, толстый платок почти скрывал лицо, глаза смотрели ожидающе, недоверчиво, готовые зажечься гневным отпором. И было что-то жалкое в ней, но не от худобы или невзрачности, а от детских ботиночек и толстых чулок в рубчик, какие носили школьницы.
— Вы еще что-то хотите сказать, Лиза?
— А что я вам должна сказать? — пожала плечами, но не двигалась с места, снова глянула мимо него, куда-то за спину, в пролом стены.
Это ее молчаливое стояние смущало Гурилева, будто она ждала от него какого-то извинения за незаконно присвоенную им тайну ее.
Ни слова не сказав больше, она повернулась и ушла — видение, возникшее из сумерек и исчезнувшее в них…
Было уже совсем темно, когда он услышал ворчание мотора, где-то вдруг забуравившего тишину.
Он не сразу угадал, в какой стороне звук, и, лишь заметив свет фар, стал нетерпеливо следить за их приближением.
Когда подъехали, из кабины вышел только Анциферов. Нина, не глуша мотора, осталась за баранкой.
— Ну как? — спросил Гурилев.
— Выли в Гуртовом и в Липники успели. Взял отрубей немного, макухи и шесть тюков сена. — Анциферов довольно потер озябшие руки. — Вот сдача и корешки квитанций. Пересчитайте деньги… Что у вас?
— Больше ничего не было.
— Плохо… Вот стервецы!.. Завтра смотаюсь в Криницу и в Борщево. Там немецкие обозники сено сбросили, когда убегали. В старой силосной яме. Я его по стебельку, если придется, заставлю вытянуть. Машину надо использовать…
Они сгрузили все в подвал; опустив крышку люка, Анциферов топнул по ней ногой.
— Замерзли ожидаючи? — спросил он. — Садитесь в кабину.
Как и с утра, он был полон энергии. Снедаемый одной, понятной Гурилеву заботой, он не желал допускать ни в действия, ни в слова ничего, что не имело отношения к тому, ради чего он приехал сюда. Даже себя, замерзшего, уставшего, голодного, он, казалось Гурилеву, отстранял от себя же — непреклонного, подвижного, понимавшего все и видевшего все дальше и глубже других, отстранял как унижавшую возможную помеху.
«Как же все это совместить — неистовость, необходимость и жестокость?» — думал Гурилев, глядя в спину Анциферова, шагавшего к машине…
Они лежали на широкой перине, набитой колкой соломой. Тонкая дощатая загородка отделяла этот холодный чулан от сеней. Вельтман чувствовал, что Нина никак не может согреться под жиденьким хозяйским рядном из жесткой домашней пряжи, с которого давно стерся плотный ворс, и все старался подвернуть ей под бок полу своей шинели.
— Какой ты большой, — сказала, она, прижимаясь щекой к его плечу.
— Ты только сейчас это заметила, лежа? — тихо засмеялся он.
— Мне придется носить туфли на очень высоком каблуке.
— Конечно, — шутливо согласился он.
— А вдруг все неправда? — прошептала Нина.
— Что?
— Ну вот это… У нас с тобой… Если это — как во сне. А потом — утро. И останется только вспоминать. И ничего уже не исправить. Сон исправить нельзя. Если он сладкий — хочется, чтоб еще долго снился. А горький — болит, скорей бы проснуться.
— Я тебя сейчас щелкну по носу, и ты поймешь, что это правда, а не во сне. И больше не станешь болтать ерунды, — сказал он, глубоко втягивая теплый запах ее волос, мягко лежавших у его лица…
Они потянулись друг к другу разом. Его опыт и ее торопливая страсть сжигали Нину до изнеможения, она задыхалась, слепо ища губы Вельтмана, сильно вцепившись пальцами в его плечо, словно боялась хоть на мгновение остаться одна в этом невыносимом, до стона сладостном полете, откуда она возвращалась счастливо уставшая, с гулко бьющимся у горла сердцем. Потом она затихла, держа Вельтмана за руку.
— Спи. Завтра рано вставать, — хрипло прошептал он.
— Хорошо, — послушно ответила Нина, пошевелившись, устроилась поудобней и по-детски радостно вздохнула.
«Кто же она? — думал Вельтман, вслушиваясь в ее ровное дыхание. — Лежит рядом. Доверчиво. Успокоенно… И почему она, а не другая? Случайность? Или природа долго вела свой отбор, отыскивала разбросанные в огромном мире, существовавшие розно два цветных стеклышка, чтобы, составив их, получить осмысленный, как в витражах, рисунок?.. „Безмерное, превыше чисел, время скрывает явь и раскрывает тайны…“ Это, кажется, у Софокла… „Я, наверное, люблю тебя“, — вспомнил он слова Нины. Что вкладывала она в это? Как объяснила бы то, что тысячелетия люди тщатся объяснить, но не могут до конца исчерпать значение этих слов? И все же произносят… Потребность? Он не произносил никогда… Не испытывал нужды, бывая с другими женщинами… Повторяя про себя, как пробуя, замечал даже ироничный привкус. Сейчас он вдруг ощутил сочетание этих слов… Ощутил! Они возникли в нем. Сами по себе. Но произнести их поостерегся: звук может сфальшивить, исказить смысл… А какой же смысл он вкладывает в них? Даже его рациональный ум не разложит их на составные… Были умы похлестче! „Я люблю тебя“ — формула! Как в математике. Она решает, но не объясняет. И остается с этим согласиться;.. С ним все может случиться — война. Надо написать в Тулу отцу. Вдруг Нина забеременеет… Отец примет. Он без предрассудков… А Нине дать тульский адрес. Не объясняя. Просто так. И с улыбкой, дескать, на случай, если они потеряются… Как он сказал сегодня этому бухгалтеру насчет заочной любви? Не резко ли? Старик, кажется, приятный, интеллигентный. Времени нет, поговорить бы с ним… Вспомнили б Джанталык…» Вельтман чувствовал, как во сне. Нина согрелась, ее маленькая босая ступня была теплой, расслабленной. Он попытался представить себе Нину в туфлях на высоком каблуке, в легком платье, с иной прической, но возникало что-то неясное, далекое, чужое, чему он не мог придать милых черт, уже привычных интонаций голоса, манеры вскидывать на него глаза, которые в этом воображаемом облике даже не имели цвета…
Втроем они заканчивали ужин: Анциферов, Доценко и Гурилев. Лизы не было. Видимо, загодя ушла к себе под стреху.
Доценко разлила по мискам постные щи. Бутылка самогона дымчатого цвета стояла почти непочатой: Анциферов отказался, а Гурилев и Ольга Лукинична порядка ради пригубили с донышка кружек.
Гурилев радовался теплу, чувствуя в настывшем за день теле легкий приятный зуд. Ел из глиняной миски, сперва почти не ощущая вкуса, наслаждаясь тем, что щи обжигающе горячи. Поднося ложку, видел перед собой черный прямоугольник окна, в нем — отраженное пламя керосиновой лампы и, будто заглядывавшее с улицы, свое лицо, отблескивавшее залысиной лба. Краем глаза Гурилев подмечал, как вяло жевал Анциферов, словно исполнял одновременно две работы: здесь ел, а где-то, где был мыслями, двигался, говорил, что-то совершал, вовсе не имевшее отношения к состоянию отдыха и покоя, какое должен был испытывать сейчас, после трудного и утомительного дня.
«Он мыслит и чувствует отдельно, — подумал Гурилев, глядя, как Анциферов отрешенно и без нужды долго помешивает ложечкой в алюминиевой кружке. — Кто же он? Подвижник? Сжигает себя? Жертвует собой? Ради чего? Ради деревьев, за которыми не видит леса?..»
Анциферов вдруг будто очнулся, услышав звук своей ложки, глянул на Ольгу Лукиничну, сказал:
— Почему не берешь рафинад, Доценко? Я не угощаю и не в долг даю, а делюсь.
— Спасибо. — Ольга Лукинична обмакнула осколок сахара в чай и осторожно поднесла к губам.
И снова наступила тишина. Все было вроде просто и пристойно, но Гурилев чувствовал что-то неестественное в этой затянувшейся тишине, уплотнявшейся, словно с трудом удерживавшей в своей глубине грозовой разряд, устремившийся наружу'…
Предчувствия не обманули его. Отложив ложечку, Анциферов выпрямился, по серому запавшему лицу судорогой прошла усмешка.
— Да ведь ты, Доценко, скрыла картофель, — сказал он так, будто об этом только и было сейчас разговору. — Я говорил тебе, что на разведочку пойду. А я зря никогда не хожу. Ты по какому закону живешь? Краденые семена лучше родят?
— Красть я ничего не крала, — спокойно ответила Ольга Лукинична, сверля темными глазами желтый в испарине лоб Анциферова. — А сортовой картофель действительно спрятала. И живу по старому закону: лучше поголодай, а добрым семенем засевай.
— Где же спрятала? — спросил Анциферов.
— Это тебе знать ни к чему. — Она подперла подбородок, широко, по-хозяйски расставив на столе локти.
— Картофель этот, Доценко, сдать придется. Иначе нечем тебе рапортовать будет.
— Сдать сортовое на корм скоту? А что получу для посевной?
— А мне разницы нет. Мне вал нужен.
— Чтоб ты отрапортовал?
— Угадала, чтоб отрапортовал: наш район сдал государству столько-то тонн кормов. — Он развел руками, мол, никуда не денешься. — Значит, вынь да положь, Доценко.
— Вынула б да положила б на такие твои просьбы. Да ведь баба я — нечего мне вынуть и положить тебе, Анциферов.
Ты не умничай. — Он стянул к переносью крутые брови. — Шутки твои оскорблением пахнут… Ты ведь и ссуду получила? — вдруг зашел он с другой стороны.
— Получила.
— Вот и оформим ее как поставки.
— Ты в своем уме? — подняла она голову, сложив на столе руки. А сажать что?
— А сортовой, — усмехнулся Анциферов.
— Сколько его? На один клин — и то не хватит.
— Найдете еще. Поскребете и найдете. Знаю вас!
— Тебе бы цифру записать, а нам как потом? Ты про завтра думай. Не одним годом живем.
— Завтра, может, помрем! А корма нужны сегодня! — крикнул Анциферов.
— Ты не кричи на меня. — Она поднялась. — И помирай, если желаешь. А нам еще пожить полагается. И завтра, и после войны жить надо. Земля — миска: что положишь, то и возьмешь.
— Все, что мне нужно, то и возьму у вас — Он тоже поднялся, сорвал с гвоздя пальто, выдернул из кармана черную кепку с пуговкой, пошел к двери.
— Начальство вызовешь? — вдогонку бросила Ольга Лукинична.
— И это могу! — отозвался Анциферов с порога. — Ты еще пожалеешь!
— Вызывай! Не свое от тебя уберечь хочу — народное! — крикнула Ольга Лукинична, бледнея.
— Каждый мешок на горбу понесешь в заготпункт! Ему вот, — указал Анциферов на Гурилева и хлопнул за собой дверью.
Весь этот разговор Гурилев просидел, придавленно опершись лбом о ладонь, согнув шею и уставившись глазами в столешницу, будто рассматривал на ней узоры потемневших от времени сучков. Он не слышал грохота шагов Анциферова и понял, что тот стоит на крыльце.
Гурилев встал. Стараясь не встретиться со взглядом Ольги Лукиничны, влез в пальто.
— Пойду успокою его, — пробормотал он, заталкивая пуговицы в петли.
Доценко не ответила. Стояла спиной, глядя в темное окно, будто ожидала, когда он выйдет.
Анциферов сидел на сыром крыльце. Пальто было распахнуто, но он не замечал холода и, не поворачиваясь, спросил:
— Видали, что такое кулацкая психология?! В чистом виде!
— Застегнитесь, простудитесь, — отозвался Гурилев.
Анциферов поднялся, но застегивать пальто не стал, глубоко сунул руки в карманы, спустился с крыльца. Они пошли рядом.
— Вот так и живем… Мне, что ли, нужны эти корма? — уже спокойно спросил он. — Война ведь… — Он вдруг обмяк, словно упругая пружина, двигавшая им, истратила свой завод, распрямилась, усилив ее кончилось, а сжать тут же заново уже не хватало мочи.
— Ваши отношения… такие… с Доценко, по-моему, сложились еще до войны, — сказал Гурилев. — Так мне показалось.
— Да! Я никогда не стеснялся там, где речь шла о важном, о главном. Никого не жалел. И себя тоже.
Как две тени, двигались они безлюдной темной улицей. В окнах двух-трех хат теплился слабый свет. Подмораживало, твердела под снегом грязь, похрустывал тонкий ледок, окольцевавший дневные лужицы.
Гурилеву казалось, что этот вечер, и эта вымершая улица, и их движение по ней длятся невероятно давно — месяцы или годы. И так это утомительно и бесконечно, словно в тоннеле, где пора бы уже наступить и чему-то иному, яркому свету, определенности… Определенности слов, мыслей, итога, за которыми стояло бы нечто, близкое к истине. Единой для всех, а не отдельной для каждого. Ведь прав из них кто-то один: либо Анциферов, либо Доценко. Или оба? Но кто же — если один?.. И с кем же тогда я?… Нельзя же быть между только ради того, чтобы примирить… Родится ли истина от такого примирения?
— Что вы молчите? — спросил Анциферов.
И что-то вдруг всколыхнулось в Гурилеве. Не против Анциферова — уставшего, надсадившегося, но двужильно неуемного в необходимой работе, — а против того, что Анциферов считал своей силой. И, стараясь сдержаться, Гурилев сказал:
— Вы были сегодня несправедливы. — Гурилев ждал в ответ вспышки, раздражения, даже замедлил шаг.
— Справедливо одно — собрать корма. И как можно больше. Вот наша цель.
— А не заслоняют ли ваши средства саму цель, Петр Федорович?
— Это уж моя забота, — резко остановился Анциферов. — А ваше дело платить им за то, что я укажу, и столько, сколько я скажу. Вы отчитываетесь перед бухгалтерией, я — перед страной. — И не было в тоне высокопарности — так буднично и естественно получилось у него то, что у иных звучало краснословьем.
Они стояли на кочковатой, смерзшейся под снегом земле посреди пустынной улицы, словно одни в этом мире. Стояли друг против друга, глядя в глаза, и Гурилеву оставалось либо отвести взгляд и тогда уйти, либо заставить Анциферова вслушаться в слова, которые до сих пор обтекали его. И Гурилев остался, сказал, не отводя глаз:
— По-моему, вы размахиваете средствами, как топором: направо — налево. Так можно и саму цель позабыть.
— Идет всенародная война. И нечего слюни пускать, — пожал плечами Анциферов, словно дивясь непонятливости Гурилева.
— Разве эти… здешние — не народ?
— Это мы еще выясним. Село только освобождено. И кто как себя вел при немцах… Идите-ка лучше спать, Антон Борисович, — вдруг устало повел он рукой и быстро зашагал прочь.
— Вы дальтоник! Духовный дальтоник! — в отчаянии крикнул ему вслед Гурилев.
Утром Анциферов как ни в чем не бывало поздоровался с Гурилевым, пожал руку, словно и не было вчерашнего разговора: ни раздражения в словах, ни обиды в тоне, вроде забыл все или отмахнулся, как от мухи. По-деловому объяснил, что уезжает с Ниной в Криницу и Липники — дальние села куста; велел Гурилеву идти к мастерским, может, кто еще подвезет чего; наказал ждать там его возвращения, надеясь из своей поездки вернуться не пустым.
Гурилев был поражен. Все, что он подготовил и настороже держал в себе на случай возможных объяснений, потеряло смысл и, вдруг выветрившись, опустошило его. С ощущением какой-то потери, чего-то незавершенного он и отправился к мастерским…
Тем временем Вельтман и Володя Семерикин уже катили в лесничество смотреть трофейный склад.
Лошадь с натугой тянула розвальни: кое-где смерзшиеся комья грязи выпирали из-под снега.
— Довезет? Или нам придется ее на сани, а самим в оглобли? — весело спросил Вельтман. Бросив в солому автомат, он развалился за спиной Володи.
— Дальше легче пойдет, — отозвался Володя, понукая вожжами коня. — Через лес дорога санная, снегу побольше… Как спал? Не замерзли в чулане?
— Нормально. Мерзнуть после войны начнем, Володя, в двуспальных кроватях, в благоустроенных квартирах. Паровое отопление, пуховые одеяла, пододеяльники в кружевах. Но чего-то другого уже будет не хватать. Тогда и станем мерзнуть.
Володя повернулся, спросил удивленно:
— После всего этого, что прошли?
Так уж человек устроен.
— Пусть тогда В лесок сходит. Поспит ночку на снегу, на лапничке под шинелькой. Может, согреется, — сказал Володя, жарко блеснув единственным глазом.
— Нет, Володя. Это уже будет чудачество. А над чудаками смеются. Но никто не любит, чтоб над ним смеялись. Вот и придется мерзнуть в теплых постелях под пуховиками. А согреваться воспоминаниями. — Вельтман лег на спину, потянулся до хруста сильным телом, заложив здоровую руку за голову, смотрел в небо. — Далеко нам? — спросил, слушая, как у лошади в боку глухо бьет селезенка.
— Сейчас в сторону Бережанки. Километров через пять свернем влево, на боковую просеку…
По лесной дороге лошадь ища резвее. Лес был одичало темен. Снегу на деревьях осталось мало — лишь тот, что, подтаяв за несколько теплых дней, за ночь примерзал к ветвям, поблескивавшим глянцем сосулек и тонкой корочкой льда на стволах, сквозь которую просвечивал буро-зеленый старый мох.
— Слушай, старший лейтенант, — Володя снова повернулся к Вельтману, — ты вроде нормальный мужик… Не сбрешешь… Хочу спросить… Лицо у меня… здорово… того? Уродом выгляжу?.. Замечал я: кое-кто глаза отводит. То ли, чтоб не смущать, то ли со страху. Ты вот смотришь прямо, без всякого, будто на себя в зеркало…
Вельтман сел. И словно впервые увидел лицо Володи Семерикина со стянутой в рубцы обожженной кожей, с багрово-красными спекшимися веками вместо второго глаза.
— В кино, конечно, сниматься ты не годишься, — сказал Вельтман, зачем-то снял ушанку и с силой опять надел. — В Париже, в Луврском музее, есть знаменитая скульптура. Сделана она около сто девяностого года. Да еще до нашей эры. Выставлена на самом парадном месте. Много десятилетий люди ходят любоваться ею. Называется она Ника Само фракийская.
— Такая красивая?
— Необыкновенно!
— Ну и что? Не крути ты… Я тебе вопрос задал… Лицо у нее особое, что ли?
— Нет у нее лица, Володя. У скульптуры этой нет головы. — Вельтман снова лог, положив на грудь больную руку.
— Инте-е-ресно рассказываешь… Тебе сколько лет, старшой?
— Считай — тридцать… Через две недели стукнет.
— А с девахой этой у тебя серьезно? Или так — мимоходом? — спросил погодя Володя.
Но Вельтман не ответил, лежал с закрытыми глазами — то ли дремал, не слышал, то ли притворялся. И Володя подумал: если старший лейтенант просто отмолчался, то, наверное, серьезно у него с этой шофер- шей — о таком не треплются, болтать можно о случайном…
Так и катили они, то переговариваясь, то молча, в покое лесной тишины, когда каждый мог отдаваться своим думам о прошлом и нынешнем и сладко заглянуть в будущее…
Дорога заняла много времени. В лесничестве пробыли часа три, не меньше: пока Вельтман осматривал склад, оприходовал. Лесник, живший тут же, в низком срубе, глуховатый старик, неловко державший карандаш заскорузлыми пальцами, подписал каракулями акт. Потом угостил их чаем с медом. На вопрос Вельтмана о меде для госпиталя искренне посетовал, что почти все пчелы погибли, ульи рассохлись…
Возвращались они, когда влажные сумерки поползли по лесу. Вельтман был доволен поездкой, хотя она и заняла почти день. Рассчитывал завтра взять двух-трех сельчан, Володю, заехать сюда уже своей машиной, загрузить все и свезти на склад продотдела бригады.
Володя поторапливал лошадь. И ему, и Вельтману хотелось в тепло. Чай с медом, конечно, хорошо, но хотелось плотной горячей еды. Вельтман пообещал Володе, что Нина сварит им картошки, заправит ее целой банкой тушенки, а запьют они клюквенным киселем из порошка, который начисто растворяется в кипятке.
Вельтман надеялся, что Нина уже вернулась, знал, что она не станет ужинать, будет ждать, теперь они будут всюду ездить вместе. Так он договорился с командиром автобатальона… Но это — пока бригада не тронется в наступление. А когда начнется, автобат могут перебросить и на артснабжение. Тут уж ничего не поделаешь. Разве что поговорить с замначпрода по заготовкам, пусть похлопочет, чтобы Нину перевели вообще в продотдел на чей-нибудь «виллис»…
Стараясь сократить путь, Володя поехал поперечной просекой, выводившей на ту, главную, какой ехали утром. Послушная вожжам в надежных руках, лошадь чутко сбавила ход, свернула с дороги. Сани задели кусты, ветки, пружинно распрямившись, швырнули в лицо Вельтмана холодные брызги. Проехали метров пять, когда оба внезапно ощутили в глубинно чистом и пресном еще зимнем воздухе тягучий запах отработанной солярки, а еще через секунду услышали слабый лязг металла и негромкие голоса с чужим подбором звуков, с картавым «р».
Мгновенно переглянувшись, поняли: немцы!
Схватив автомат, Вельтман сполз с саней к кустам. Володя уже стоял перед лошадью, упершись одной рукой ей в грудь, а другой — в оглоблю, пытаясь сдать сани назад, на дорогу. Лошадь вскидывала голову, не понимая, чего от нее хочет человек, дотоле спокойно направлявший ее движение легким подергиванием вожжей.
Вельтман раздвинул кусты. На маленькой поляне стояли два крытых брезентом грузовика. Из бака одного солдаты, видимо, шоферы, перекачивали шлангом солярку в ведро, а затем опрокинули над ним железную бочку, сливая остатки. Один солдат огорченно развел руками, подхватил ведро и перелил солярку в бак другого грузовика, возле которого на лапнике сидело человек двадцать солдат в обтрепанной, замызганной форме, с серыми заросшими лицами. Они курили, тихо переговаривались.
Вельтман поманил Володю, взахлеб зашептал:
— Быстро… на главную просеку… Тихонько… Если что, я прикрою… У них почти нет горючего… Надо успеть… предупредить там… в селе… В какую-нибудь часть сообщить…
— Окруженцы… Прорываются…
— Их и заметила Нина… Не поверил…
— По нашей дороге побоятся… Чтоб скрытно, удобней им мимо лесопилки… Но села им не миновать…
И не видели оба, что сзади, в конце просеки, прижав к груди охапки хвороста, застыли два немца. Длилось это секунду. Бросив хворост, рванули ремни автоматов. Ударили разом в Вельтмана: приметили, что был вооружен.
Удар поперек спины отбросил Вельтмана на кусты. Он попытался подняться, еще не понимая, что произошло, но не мог: деревья и небо, набирая разгон, завертелись, меняясь местами, и стало вдруг не на что опереться.
— Пошел!.. Зачем… ты мне… безоружный?! — успел он крикнуть Володе. Но снова налетел частый стук, колотя его тело о землю… Деревья и небо дернулись в обратную сторону, понеслись каруселью, вернулись на свое место и — замерли…
Все произошло мгновенно. Отпрянув от мертвого Вельтмана, Володя метнулся взглядом, ища его автомат. Но под убитым не увидел. Ужаснулся своей бесполезности, мучимый горечью, что безоружен, беспомощен, вскочил на сани, дернул вожжи, гикнул. Испуганная лошадь рванула сани. А он стоял пригнувшись, стегал ее, что-то кричал. Вдогонку спарено хлестнули два автомата, пули с коротким свистом обгоняли его то справа, то слева. Чуть не вылетел из саней, когда круто вывернул на главную просеку. Почуяв знакомую дорогу, всполошенная выстрелами, хриплым криком ездока, лошадь неслась по прямой наезженной просеке. Володя стоял, широко расставив ноги, неистово вертел над головой зажатую в кулаке ременную петлю вожжей, с хлестом опуская ее на конский круп.
До горки бы… Перевалить за нее. Там не догонят… А потом — в село. В автобат… Чтоб взять всех… Нет, положить до единого!.. Там же — в лесу… Сам… каждому полдиска… В рожу… В живот!.. Суки!.. Как они Ивана — в спину!.. Всего в решето…
Ему хотелось стать меньше ростом, потерять объем, форму, стать плоским, как бумажный лист, — только бы не убило до горки. Пусть ранят… За горкой он уйдет от них… Пусть умрет по дороге. Конь мертвого довезет, знает домой дорогу… И все тогда поймут.
Но он стоял во весь рост, гнал, не оглядываясь. Он понял, что немцы выбежали на просеку, что их уже не двое — гуще стала дробь автоматов и пули чаще взвизгивали у самой головы, впивались в сани, разбрызгивая щепу. Он догадывался, как опасен им — больше, нежели громкая стрельба, выдавшая их в тишине леса, которую они так берегли…
Но и они это знали и остервенело, с отчаянием стреляли вслед, пока не увидели: человек, стоявший на санях, рухнул навзничь, лошадь, ощутив натянувшиеся вдруг вожжи, пошла шагом. Спотыкаясь, скользя сапогами на выбоинах, потные, измученные страхом и напряжением, немцы радостно побежали догонять сани…
Мерзлые сумерки уползли к закату. Со снежного наста туда стек их недолгий сиреневый отсвет, и, настигая его, все вокруг накрыла сплошная вечерняя тень.
Глядя на быстро меркнувшую лиловую полосу над горизонтом, Гурилев вслушивался: не долетит ли оттуда звук машины. Уехав вторично уже после полудня, Нина и Анциферов до сих пор не вернулись. Было тихо и мертво, темное поле бескрайне выстилалось вдаль, покрытое уже плотно осевшим к этой поре зачерствелым снегом.
Гурилев понимал всю бессмысленность своего одинокого сидения здесь. Но и уйти в село не мог, все надеялся: вот-вот подъедет Анциферов из своей последней ходки, на которую надеялся, не зря же просил ждать его тут. Гурилев отвергал мысль, что Анциферов мог забыть об этом либо по злопамятству решил поморозить его без толку. Что-то, видимо, задержало их в обратном пути.
Он совсем окоченел, поминал в душе свою невезучесть, неумение вовремя отказать кому-то, отвергнув домогательство, высказанное деликатным словом «услужите», отчего становился подвластен условиям, которые переиначить вроде уже и не представлялось возможным.
Как многие люди, остающиеся в одиночестве, он без нужды полез за часами. Из недр под одежками извлек их, массивные, серебряные, с двумя крышками, на которых вычеканены медали — заслуги фирмы «Павел Буре». На циферблате римские цифры, ажурные стрелки. Часы в 1910 году купил покойный отец. Он носил их в гнездышке жилета на затейливой белой цепочке, ловко доставал пухлыми в веснушках пальцами и, дальнозорко отстранив, говорил: «Антоша, нам пора». Вместе с отцом, директором реального училища, они выходили из дому. На углу расставались: отец шел к себе в училище, а четырехклассник Антон — в гимназию… Боже! Этим часам тридцать четыре года!
Гурилев посмотрел на циферблат. Пятнадцать минут десятого.
Затолкав поплотнее шарф за пазуху, он решил обойти со всех сторон полуразрушенное здание мастерских, очень уж не хотелось забираться внутрь, усаживаться и ждать бог знает сколько.
Медленно двинулся с места, в валенках прихрамывал заметней, но зато было теплей. Вспомнил, что самое главное при нем: в вещмешке ботинки, один обычный, другой — ортопедический, с высоким задником, похожий на утюг; там же, в вещмешке — старая холщовая инкассаторская сумка, набитая казенными деньгами. Никогда ни у него, ни при нем не имелось таких огромных сумм. Обычно они существовали для Гурилева в виде банковских чеков или ордеров. А тут — наличными, тысячи! Он подумал, что сейчас самое время и пересчитать деньги, — тем и занять себя, отвлечься…
Посветлело — выкатился восковой круг луны в таинственных пятнах возвышенностей и впадин.
Гурилев шел вдоль уцелевшей стены. Кирпич оставался еще свежекрасным, выдавленные из щелей застывшие качалочки раствора едва побурели. Здание было новым, выстроили его, видимо, перед самой войной, да вот мало попользовались…
Он свернул за угол, остановился у вываленной взрывом стены, собрался было дальше, когда услышал отдаленный зов:
— Антон Борисович!.. Анциферов!.. Вы где?
Гурилев пошел навстречу голосу, обогнул здание, увидел Доценко.
— Антон Борисович! — бросилась к нему. — Анциферов где?
— Еще не вернулся. Не знаю, что и думать.
— Беда, Антон Борисович! Нельзя вам в село! Немцы!
— Какие немцы? — не понял он.
— Бог знает… Машиной заехали… Похоже, по лесу блукали. Табор какой-то, как бродяги, грязные, обтрепанные… Видно, обессилели, что не побоялись в село… Как поняла, горючее у них на исходе… — Все она проговорила быстро, не сводя темных глаз с осунувшегося вдруг его лица.
— Что же делать? — спросил он растерянно.
— Переждать вам. Они не задержатся. Самих страх гонит. Думаю, до рассвета уйдут. Погреются, пожрут — и в бега, своих искать-догонять.
— А где старший лейтенант? — вспомнил Гурилев о Вельтмане.
— Не прибыли еще. С Володей он, в лесничество подались. Надо бы в часть какую сообщить. Чтоб этих немцев…
— Да-да, — закивал Гурилев, пытаясь что-то придумать. Но ничего не придумывалось, и он стоял перед Доценко, стыдясь своей слабости, беспомощности и того, что вынужден надеяться на эту немолодую, заезженную хлопотами женщину.
— Я пойду, — наконец сказала она. — Может, где по дороге Володю перехвачу… Вернется Анциферов, вы ему все так и передайте…
Ока уже отошла, почти слившись с теменью, когда легкий стрекот мотора простучал по тишине, дальний свет фар лизнул снег и стал перемещаться.
— Едут! — крикнул Гурилев. — Ольга Лукинична! — Крикнул еще раз: — Анциферов едет! — Он увидел, что она повернула обратно.
Обрадованный Гурилев решил не укорять Анциферова и, когда тот, подъехав, выскочил из кабины с перекошенным от усталости лицом, лишь спросил:
— Благополучно?
— Дальше некуда! — буркнул Анциферов. — Четыре часа порожняком в поле простояли. Ремешок вентилятора порвался. С тем и вернулись… Доценко, что ли? — увидел он приближавшуюся Ольгу Лукиничну. — Что ей?
— Немцы, — почему-то шепотом сказал Гурилев.
— Это еще что?! — выпрямился Анциферов.
— Она вам все расскажет.
Анциферов двинулся навстречу Ольге Лукиничне. Из кабины вышла Нина и, сунув назябшие за день руки в карманы телогрейки, обогнула машину, постучала сапогом по скатам, подошла к Гурилеву:
— Иван не возвращался? — спросила она.
— Нет, — ответил Гурилев. — Знаете, в селе немцы, — сказал осторожно.
Нина резко подняла голову. В лунном свете он увидел ее сузившиеся глаза, пересказал все, что услышал от Доценко.
— Значит, я не ошиблась… там, в лесу. — Она оглянулась на стук дверцы.
Это Анциферов взял с сиденья автомат и теперь шел к ним.
— Ты все поняла, Доценко? — крикнул он Ольге Лукиничне, стоявшей у машины. — Так и действуй!
Нина вернулась к грузовику, села на подножку.
— Ну что ж, — откашлялся Анциферов. — Обстоятельства будут такими… — Он не сказал «складываются так», а именно «будут», словно спланировал их сам. — Немцы тут долго не задержатся. В крайнем случае — до рассвета. Сами, небось, мечтают ноги унести… Вы, Антон Борисович, пересидите тут ночку, вроде охранником. Я с Ниной махну в райцентр. Сообщу куда следует. На всякий случай возьмите мой автомат. Я останусь с наганом. — Он протянул Гурилеву автомат — Стрелять умеете?
— Нет, не приходилось, — ответил Гурилев.
— Как же так? — укоризненно-удивленно сказал Анциферов. — Все равно берите. Тут просто. Эту штуку, затвор, оттяните на себя. А потом пальцем жмите на крючок. Вот запасной диск. — Он говорил торопливо, делал руками суетливые движения, все время оглядываясь на Доценко, стоявшую с Ниной у грузовика.
На все быстрые слова Анциферова Гурилев лишь послушно кивал, не успевая что-либо спросить или возразить. Но вроде и возражать было нечему. Все, что сказал Анциферов, выглядело, целесообразным, логичным: и что немцы здесь не задержатся, и что вряд ли они сунутся сюда, так что риску никакого, и что оставляет он Гурилева здесь просто для порядка, чтоб местные под шумок не разворовали, и что в райцентр ехать надо, конечно же, ему, Анциферову, поскольку он там человек свой, к тому же напористый, поворотливый…
— Ну все! Я поехал. — Анциферов дернул кепочку за козырек.
— Петр Федорович, — остановил его Гурилев. — Есть ли смысл вам гнать машину порожняком? Нас четверо. Может, хоть сено увезете?
— Да какая разница?! Долго это, — махнул Анциферов недовольно. — Завтра все сразу и заберем, Антон Борисович. Раздобуду «студебеккеры», пригоню, заберем… Делайте, как говорю… — Он заспешил к машине.
Гурилев остался, где и стоял, неумело держа автомат, с трудом заталкивая в карман запасной диск в чехольчике, вслушивался, как, чертыхаясь, Анциферов крутил заводную ручку, срывавшуюся с изношенного храповика. Наконец машина завелась, тускло-желто ожила фарами и покатила…
Подошла Ольга Лукинична.
— Уехал, — сказала она, вроде обнадеживая Гурилева.
— Упрямый человек, — отозвался Гурилев то ли ей то ли своим мыслям.
— Они быстро обернутся, — сказала Ольга Лукинична. — Тут верст тридцать.
— Тридцать до райцентра? — переспросил Гурилев.
— До воинской части, автобат там.
— Какой автобат? Он поехал в райцентр! Что он вам сказал?
— Что в автобат. Я ему дорогу рассказала.
— Мы что-то путаем. Я или вы… Но он поехал в райцентр, — чувствуя, как сохнет во рту, сказал Гурилев.
— Это как же? — Она непонимающе водила взглядом по его лицу. — Зачем? До райцентра сто сорок верст. Ночью по этой дороге да на такой машине… Это же, считай, часов пять в один конец… А тут — под рукой… За час бы сгонял… Что же мне-то не сказал?
— Не знаю… не знаю… — Гурилев вдруг ощутил, как зазнобило внутри, в душе. Может, встретите Вельтмана и Володю…
— Я пришлю их к вам, — спохватилась Ольга Лукинична. — Им пора бы уже. Схожу к лесу… — И, пятясь, медленно пошла, а потом, повернувшись, широко шагнула в темноту…
Он вошел под крышу. Хаос и запустение. В боковых стенах чернели проломы — трехтонка свободно бы въехала. Гуляли сквознячки. Задутый ими давний снег орел на обвалившихся балках, кирпичах, кусках штукатурки, на рваных листах кровельного железа. Сквозь дыры в потолке свет луны отбрасывал крестообразные тени от стропил. В углу стояли две железные бочки, прикрытые жестяными кругами. «Одна с соляркой, другая — с маслом», — вспомнил Гурилев. С поперечного швеллера, еще державшегося на боковых опорах, свисала талевая цепь, во время ремонта на ней подвешивали двигатели…
Бетонные ступени без перил вели наверх. Там, на цементной площадке под самым скатом уцелевшей части крыши, Гурилев и устроился. Отсюда была видна рухнувшая торцовая часть строения, дальше за ней шло открытое поле.
Гурилев зябко съежился, прижался плечом к белой от изморози штукатурке. Дохнуло холодом. Все, что за день оттаяло, сейчас вновь костенело, ночные морозы еще брали свое. И оттого, что Гурилев был одинок, а темень промыта безжизненным лунным сиянием, казалось еще холодней. Уже не хотелось считать деньги, главное, что они были при нем, стало как-то все безразлично, он только притянул мешок поближе, положил между собой и стеной.
Ему было страшно. Он пытался понять шкалу риска, найти ту отметку на ней, где обозначено его место сейчас, но не мог. Гурилеву > всегда были интересны люди, либо глухие к ощущению риска, либо расчетом сводившие его до минимума. Самому же, как полагал, не приходилось рисковать — так складывалась жизнь. Все, что говорил, делал, казалось ему, было лишено того высокого, что в его представлении могло быть отнесено к риску. И он подумал: не есть ли его страх просто чувство одиночества? «Впрочем, чему быть — того не миновать», — успокоил он себя… Всю жизнь он укутывался в эту свою поговорку. Но жена догадывалась, в чем дело, оберегала от чьей-нибудь бестактности, сглаживала прямоту, с какой ее мать, Анна Степановна, норовила выговорить ему: «Вы, Антон, человек образованный, а жизни не понимаете. Все ждете, чтоб судьба на вас глянула, нет, чтоб самому ее перехватить. А ей на вас — тьфу! Один вы у ней, что ли? Тысячи! Тут только и успевай вперегонки за той судьбой — жар-птицей…» Грубоватая простая женщина, она рано овдовела. Муж ее, котельщик на электростанции, погиб от ожогов во время взрыва… Гурилев терпеливо прощал ей выпады. Она вела в доме все хозяйство, была заботлива, когда дело касалось своих, домашних. К весне он иногда ложился в больницу с обострением язвы желудка, тогда Анна Степановна сама бралась за его диету: не разрешала есть казенную пищу, готовила свою, особую, и носила в судочках разные желе, тыквенные и геркулесовые каши, протертые супы… «Вот видишь, — смеясь, говорила жена, — она и обидит, и пожалеет. Дома будет тебя поругивать, а на людях грудью заслонит». И темно-карие ее глаза с легкой коричневой тенью вокруг век счастливо щурились…
И, вспомнив жену, Гурилев забеспокоился: как там она одна? Он мягко смежил веки, чтоб памятью вглядеться в далекое лицо жены. Увидел ее почему-то совсем молодой: чернявая хохотушка в красной косынке — такой он увидел ее впервые на курсах счетоводов, куда его пригласили прочитать несколько лекций по бухгалтерскому учету. Она задавала толковые вопросы, а когда он уходил, подошла, сказала: «Вы такой молодой, а уже лекции читаете». Протянула руку: «Меня зовут Вера Чубарева». Рука у нее была маленькая, горячая, крепкая… И еще он вспомнил жену: смуглолицая, с заметным пушком по сторонам губ, лоб высокий, чуть прикрыт челкой — тогда в моде была стрижка «под мальчика», — плотная, с отблеском загара на гладкой коже полных рук, она сидела босая в высокой траве на берегу Северного Донца в синем, с белыми горошинами, сарафане, едва прикрывавшем тугие колени, а рядом стояли ее маленькие, тридцать пятого размера, прюнелевые туфли, он купил их, будучи в командировке в Харькове. Уже подрастали сыновья — Олегу было девять, Сереже пять…
И, увидев жену так близко, он испугался мысли, что с ним здесь может что-то случиться, стало страшно за нее. «Она не переживет этого, — думал он. — Сережу вот-вот отправят из училища на фронт… Может быть, уже… Совсем ребенок… Узнаешь ли ты, мальчик, что происходит здесь с твоим отцом?.. Или как Олег?.. Олег, сынок… мама даже не знает… Я скрыл…»
Вроде только что, осенью сорокового, старший — Олег уходил в армию. Только что… Три с половиной года назад… Их было шестеро: четыре парня и две девушки. Стол был застлан лучшей скатертью — белая-белая, с желтыми нежными полосами по бокам, плотно накрахмаленная, сохранившая ровные складки после глажки. Они пили красное массандровское вино, ели ветчину, дунайскую селедку и малиновые тугие помидоры. Дверь на кухню была распахнута, входили теща и жена, вносили блюда с едой. Вбегал и выбегал возбужденный четырнадцатилетний Сережа. Шутка ли, брат уходил в Красную Армию служить срочную!
Гурилев сидел с ними за столом, вслушивался в разговоры, шутки, смех. Они не замечали его, увлеченные своим делом, своим временем, своим пониманием его. Лишь Олег иногда посматривал на отца быстрым веселым взглядом, как бы уверяя, что все нормально, все прекрасно, только так может и должно быть. Гурилев отвечал сыну улыбкой, но Олег ее уже не видел: голова его была повернута к худенькой раскрасневшейся блондинке. Она сидела между Олегом и Ашотом Погосяном… Гурилев был застенчиво счастлив. Еще сегодня утром он знал их мальчишками. Сейчас в его доме сидело четверо мужчин, с которыми прощались две женщины, не зная, что прощались наверняка навсегда. И он этого не знал. И уже не эти юноши были с ним наравне, а вроде он с ними — равно пил вино, прикуривал от спички, которую нестеснительно запросто подносил ему Женька Горенко, бывший одноклассник Олега, державший справа от себя на столе пачку ростовских папирос «Наша марка»… Но что-то во время застолья иногда тревожно покалывало Гурилева, новое ощущение счастья как бы окуналось в нечто темное, отстраняло его от смеха и шума голосов. Однако объяснить себе или назвать эту тревогу ее истинным именем Гурилеву не удавалось, он не мог сосредоточиться: то входила жена, просила разжечь примус, то кто-то за столом обращался к нему с вопросом… Женька несколько раз, вскакивал, пытаясь произнести тост, но его перебивали, шутили, и он сокрушенно садился, а когда наконец уловил паузу и вновь поднялся с рюмкой в руке, в комнату вдруг вошел важный белый петух с огромным свалившимся набок красным гребешком. Он независимо простучал коготками по половицам, обошел стол и принялся склевывать крошки у Женькиных ног. Раздался хохот, Женька обескураженно сел, а петух, возмущенный шумом, недовольно задрал голову, повертел ею и спокойно удалился…
Вечером Гурилев с женой неожиданно были приглашены в гости к Погосянам. В том же дворе, в низеньком одноэтажном доме, Погосяны за тридцать лет небогато, но уютно обжили маленькую двухкомнатную квартиру. Деревянное крыльцо, в котором одна плаха совсем прогнила, вело в небольшую кухню, отделенную от комнатушек проемом, занавешенным выцветшим ситцем. В чаду кухни смешались дух лука, перца, лаврового листа, кинзы и еще каких-то трав. Но они не могли растворить в себе острый запах кожи, пропитавший за многие годы эти стены: Вардгес. Погосян, отец Ашота, был самым знаменитым в городе чувячником. Сидел он обычно в кухне, в углу, у низкого окна, с улицы всегда виднелась его седая курчавая голова. На приземистом прямоугольном столике в своем порядке лежали картонные лекала, белые лосевые стельки, шильца, клубки дратвы, катыши черного воска и заточенные до бритвенного блеска ножи, которыми Вардгес кроил материал… Рабочий табурет Погосяна в тот вечер был пуст. Кухня оказалась во власти жены Вардгеса, толстушки Сэды. В широкой темной кофте и длинной юбке, обвязанная белым полотенцем, Сэда отбивала телятину, расстелив ее на плоском камне. Гурилев понял: готовилась кюфта — большие, с апельсин, тефтели, которые будут вариться в бульоне. На жаркой плите, разогретой антрацитом, что-то булькало в кастрюлях и кастрюльках. Сэда умела вкусно готовить и любила гостей…
У стены на топчанчике сидела мать Вардгеса, семидесятилетняя Амаспюр. Лицо ее, наполовину скрытое черным платком, напоминало сухую персиковую косточку — коричневое, в трещинках морщин. Старуха не обращала внимания на гостей, по-русски она почти не понимала и была занята своим делом — из тройной шерстяной нити вязала носок…
В первой просто побеленной комнате их ждал Вардгес: в свежей синей косоворотке, подпоясанный тонким ремешком с мелким набором серебряного орнамента, в серых коверкотовых брюках, заправленных в высокие мягкие сапоги из шевровой кожи.
— Заходите, Антон-джан, заходи, Вера-джан, — шагнул он навстречу. — Садитесь, гости… Сэда, поторопись! — крикнул жене.
На столе, прикрытая салфеткой, тепло дышала горка лаваша, в центре стояли бутылка коньяка, миска с травой и тарелка с тонкими ломтиками жгуче проперченной бастурмы.
Ужинали вчетвером. Обняв задубевшей ладонью бутылку, Вардгес аккуратно налил коньяк, встал, легко держа рюмку:
— Мы с тобой, Антон-джан, и с тобой, Вера-джан, знакомы много лет, мы соседи. Сыновья наши выросли здесь, вместе пошли в школу. Завтра вместе они уходят в армию. Одной дорогой. Пусть же эта дорога вместе и возвратит их нам! — Он выпил стоя, вытер усы, осторожно взял двумя пальцами кусочек бастурмы, завернул в лаваш несколько веточек травы, откусил и сел, сосредоточенно жуя крепкими зубами высушенное теплыми сквозняками мясо…
Потом выпили за здоровье гостей и хозяев, за благополучие и покой, за доброту, которая не должна покидать людей. Женщины даже прослезились, вспоминая, как росли их дети, выросли, и вот сейчас…
Гурилев хотел успокоить жену, дал ей платок, а Вардгес задумчиво посмотрел на них и сказал:
— Пусть поплачут. Человек с сухими глазами, не познавший слез, — несчастный человек. «Чтоб у тебя не было слез» — самое плохое пожелание, Антон-джан, как проклятие…
Сидели поздно. Женщины ушли на кухню мыть посуду. Разливая остатки коньяка, Погосян прищурил глаз.
— Тем, что на дне, — покрутил он рюмку в заскорузлых пальцах, — смывают тревогу, что на дне души. Чтоб не было войны, Антон-джан. За это!
— Вы думаете?..
— Дорогой, я старше тебя на сто лет!
— На десять, Вардгес, — улыбнулся Гурилев.
— На сто, — покачал головой Погосян. — Я видел резню 1915 года…
Домой вернулись за полночь. Не зажигая света, тихо прошли первую комнату, где на узкой, железной кровати спал Сергей. Промятый диван с высокой спинкой, стеганной большими квадратами, был пуст — Олег еще не вернулся, белела горка его постельного белья…
Лежа рядом, еще долго вспоминали всякие мелочи этого длинного дня, мелочи, вдруг показавшиеся важными.
— Та беленькая девушка, по-моему, Валя, как ты думаешь, она — Олега или Ашота? — шепотом спросила жена и сама же ответила: — Наверное, Олега, она все время на него смотрела, — счастливо вздохнула.
Он в темноте улыбнулся. Потом вспомнил слова Погосяна: «Чтоб не было войны…»
Они еще долго в ту ночь шептались с женой. Рядом с лицом Гурилева теплело обнаженное полноватое ее плечо. От него шел запах земляничного мыла и даже, казалось ему, утренний запах речной воды, будто только что, а не месяц назад, она искупалась в Донце — летом они снимали комнатушку у одних и тех же хозяев в Святогорске… Уже засыпая, он слышал, как вернулись Олег и Ашот — во дворе раздавались их голоса; потом сын вошел, пил воду, стелился, наконец звякнули пружины старого дивана, Олег зевнул и затих…
Вечером следующего дня Олег, Ашот и их друзья уехали к месту службы, куда-то под Борисов. Домой с вокзала Гурилев возвращался один — жена пошла навестить больную сотрудницу.
Теплый октябрь начался сухим шелестом сожженной за лето, бурой от пыли листвы акации. Все стояло обвялое, колючее, рытвины засыпала мягкая пыль, по ней неслышно перекатывались окованные колеса бричек и тугие, из гусматика, шины линеек; мальчишки забавлялись, вышибая усохшие кругляки сучков в сосновых досках заборов; а по утрам ветерок вносил в город из степи чистый настой пропекшейся полыни и чебреца.
Гурилеву было грустно. На вокзальном перроне, в шуме голосов, он стеснительно молчал, предоставив жене возможность торопливо высказать Олегу все пожелания и советы, и сейчас сожалеюще думал, что ограничился лишь словами «пиши чаще» и унес с собой многое, наверное, важное, что следовало бы сказать сыну, и еще такое, что только сейчас приходило на ум…
Он уже подходил к воротам своего дома, когда его окликнули по имени. Оглянулся. На противоположной стороне на лавочке под палисадником сидел брат. По-прежнему сухощавый, загоревший, голова знакомо обрита, в кремовом чесучовом костюме и в белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком. В жилистой руке он держал платок и все время утирал шею.
— Жорж? — удивился Гурилев, переходя дорогу.
— Здравствуй, Антон. — Брат поднялся.
Они не обнялись, лишь коротко соприкоснулись ладонями, хотя виделись последний раз лет пять назад.
Развела их давняя размолвка еще в 1923 году.
Прапорщик с 1915 года, Георгий четыре месяца провел в немецком плену, бежал, с любопытством встретил Февральскую революцию, не понял и не принял Октябрьскую, добрался до Архангельска, там поступил служить в аппарат Верховного управления Северной области, однако после того, как англичане прибрали к рукам Верховное управление, разочаровался, уехал, мыкался по стране, приглядываясь, перебивался случайными заработками, не желая служить ни белым, ни красным. Вернувшись после гражданской войны из странствий по взбудораженной, голодной и кипевшей стране, Георгий — инженер-путеец — устроился на железную дорогу в Юзовке, в восьмидесяти верстах от родного города, куда изредка наезжал. Человек прямолинейный, вспыльчивый, работал он много, честно, не суетясь, самолюбиво боясь чьих-нибудь подозревающих взглядов — намека на его прошлое…
К тому времени, когда Георгий вернулся в родные края и уже работал в Юзовке, Антон служил счетоводом в финчасти штаба 80-й стрелковой Донбасской дивизии и был уже женат на дочери котельщика Верочке Чубаревой, конторщице Особой продкомиссии 1-й Донецкой трудовой армии.
Ничего этого Георгий Борисович не знал, а случайно узнав, был обескуражен, потрясен и, не медля, поехал к младшему брату за объяснениями. Прибью, домой к нему не пошел, а долго в ожидании конца рабочего дня торчал у проходной штаба, где часовой-красноармеец стал уже на него настороженно поглядывать.
— Нужно объясниться, — сухо сказал Георгий Борисович вышедшему Атону. — Через сорок минут я уезжаю рабочей дрезиной. На станции и поговорим…
Они устроились в пристанционном скверике под высокими тополями, все вокруг было устлано их пухом, он раздражающе лез в глаза, за ворот. Стояли четыре столика, куда подавали мутное и невкусное пиво с солеными ржаными бубликами. Взяли по кружке пива.
— Зачем тебе нужна была эта женитьба? — без обиняков спросил Георгий Борисович. — И почему ты не сообщил мне? Скрыл?
— Свадьбы не было, — засмеялся Антон, — поэтому ты и не был уведомлен.
— Не паясничай, строго перебил брат. — Я задал тебе вопрос и жду ответа.
— Какого ответа ты от меня ждешь? — спросил Антон. — И по какому праву? Тебя смущает, что Вера из простой семьи?
— Меня не смущает! Меня возмущает твоя женитьба на ней.
— Но и мы ведь с тобой не голубых кровей. Откуда в тебе эти амбиции? Ты что, оцениваешь людей в зависимости от их происхождения? — спросил Антон, чувствуя, как немеют губы, как их щекочет лопающаяся пивная пена.
— Не в том смысле, какой ты имеешь в виду. Я не перебегал на другую сторону улицы, если навстречу попадался провонявший потом грузчик. И чтоб тебе было понятно до конца и навсегда, знай: я ненавидел двор Романовых — сплошь немецкая сволочь. Они прикрывались русской фамилией, дабы удобней устроить свои задницы в русском троне. Я презирал Корнилова и Деникина, клянчивших у французиков и англичан снаряды, патроны, пушки, штыки, чтобы рвать на куски тела русских мужиков…
— Позволь, но ты был в Архангельске, а потом умыл руки…
— Минуточку… А, черт! — Георгий Борисович раздраженно снял прилипший к мокрым от пива губам тополиный пух. — Это безнравственно — унижаться и просить французскую пулю, чтобы выпустить кишки русскому мужику.
— Значит, отечественной — нравственно?! — улыбнулся Антон.
— Это была наша, русская свара, и не их ума дело, как и чем мы бы ее решили.
— Революцию ты называешь «сварой»?! Ты — интеллигентный человек?! — Антон мелко барабанил пальцем по краю кружки.
— Нам не нужна была эта революция. России было достаточно Февральской.
— Опомнись! Не нужна была революция?!
— Что получил от нее лично ты? Женился на комсомолочке и остался недоучкой. Ты погряз в узеньком мире этой семьи, для которой чья-то духовность — повод для презрения… На ком ты женился, Антон? Разве нашей семье грозило вырождение, разве она нуждалась в этаком обновлении?..
Пожалев тогда брата, Антон не сказал ему, что отчасти именно он, Жорж, виноват в том, что Антон воздерживается от поступления в институт, где пришлось бы без утайки высказаться о странной жизни Жоржа в годы революции и гражданской войны и о его взглядах, прошлых и нынешних… Отставив кружку и усмехнувшись, поманил брата пальцем, зашептал:
— Хочу тебе открыть одну нашу семейную тайну. Я случайно узнал ее от покойной мамы. — Он выжидающе посмотрел на брата. — Недалеко отсюда, в Селидовке, живут переселенцы-меннониты. Очень давно они пришли туда из Северной Германии. В 1890 году во время ночного пожара в своей хате погибла семья крестьянина-меннонита, муж и жена. Чудом уцелел двухмесячный мальчик. Его усыновил директор реального училища. Дал ему свою фамилию, и мальчик, родившийся в семье немецких сектантов-анабаптистов, стал православным. Директор училища — это наш с тобой отец, Жорж… — Антон сделал паузу.
— А мальчик? — покусывая губы, спросил брат.
— Ты, Жорж.
— Врешь, — тихо сказал Георгий Борисович, упершись грудью в стол. Побледневшее лицо его было так близко, что Антон увидел маленький спиральный волосок, проросший из родинки.
— Почему? — приблизив и свое лицо, спокойно спросил Антон. — Разве в этой истории что-то сверхвозможное?
— Нет, конечно… Но я… не мог… я…
— Значит, этот вариант тебя не устраивает? Есть другой, третий, пятый, десятый!.. Скажем, усыновленный двухмесячный мальчик мог оказаться сыном бердичевского шорника, который погиб с семьей во время погрома… Этот вариант тебе больше подходит? Или ты отказываешь нашему отцу вообще в благородстве?
— Ты врешь… Врешь, Антон… Понимаю тебя, понимаю…
— Вот и хорошо, мой единокровный, — отодвинулся Антон. — Это тебе ответ на все и, в частности, на вопрос о моей женитьбе. В доме я тебе не отказываю, все-таки — брат. Если, конечно, захочешь прийти и познакомиться с моей женой. — Он встал, глянул сверху на брата: — Прощай. — И ушел…
С тех пор прошло много лет.
За это время они виделись всего несколько раз, да и то случайно и накоротке: на кладбище в годовщины смерти матери или отца, а однажды Георгий Борисович приезжал с просьбой поискать среди семейных бумаг его аттестат об окончании реального училища.
Переходя дорогу, Гурилев гадал, что опять привело брата к нему. Он видел, как постарел Жорж, худое костистое лицо, иссушенное загаром, было иссечено мелкими трещинками морщин, воротник рубашки апаш стал вроде слишком широк и открывал жилистую шею со старчески мятой кожей. Ему ведь уже пятьдесят, подсчитал, и что-то жалостливое колыхнулось в душе и тут же осело, он сдержанно спросил:
— Ты давно приехал?
— Вчера. Я в командировке, — ответил Георгий Борисович.
— Ты в гостинице?
— Да… А ты как живешь?
— Только что проводил Олега в армию.
— Я, собственно, ради этого… Мне Палевские сказали, что он уходит в армию… Надеялся повидать племянника. Попрощаться… Жаль, опоздал… У меня ведь своих детей нет… Ему воевать придется… Скоро, Антон… С немцами. Эта сволочь нас в покое не оставит.
— У нас договор с ними.
— Ерунда! Они его нарушат в любой день… Хотел напутствовать Олега…
— Не понимаю твоего порыва, — сказал Антон и пожалел.
— А мы с тобой никогда не понимали друг друга… Я ведь с Олегом чаще виделся, чем с тобой… Мы вроде дружили…
— Знаю.
— И ты не возражал, не боялся?
— Нет, мой сын меня ни в чем не разочаровал… Может, все-таки зайдешь? Вера тебя давно простила.
— Нет, нет, — поспешно отказался Георгий Борисович. — Да и не нуждаюсь я ни в чьем прощении.
И по этой поспешности Антон понял, что брат ломал себя, свое желание принять приглашение.
Георгий Борисович сунул в карман кулак с зажатым в нем платком, переступил с ноги на ногу, сказал:
— Когда от Олега придет письмо, перешли мне, пожалуйста, его адрес… Прощай. — И, дернув угластым плечом, на котором свободно сидел великоватый чесучовый пиджак, зашагал прочь, ровно и напряженно держа спину, как человек, чувствующий, что ему глядят вслед…
И была еще одна, последняя, встреча через два с половиной года, самая, пожалуй, памятная и щемящая за все время, что знал он Жоржа…
Машину трясло на вздувшихся черноземных буграх, промерзших, присыпанных снегом. Выпиравшая в старой подушке сиденья пружина толкалась в ляжку, и Анциферов ерзал, пытаясь сесть поудобней. Его раздражало неприязненное молчание Нины и тарахтение ведра, подвязанного под бортом, хотелось сосредоточиться, окончательно укрепиться в мысли, что все сделано правильно, поскольку привык всегда ощущать неуязвимость своей позиции.
Конечно, можно было отправить шофершу в автобат за подмогой, а самому остаться с бухгалтером… Но черт его знает, чем дышит… Соглашатель какой-то… Наверное, из бывших… Не верю я ему… Всем этим бывшим не верю… Случись немцы — ткнул бы на меня пальцем, спасая свою шкуру: этот, мол, из райнаркомзага… И разговор короткий — к стенке… Оно неплохо было бы и в райцентр прибыть с грузом, дескать, удалось спасти, остальное Гурилев охраняет. Но опять же: пока загружались бы, немцы могли нагрянуть… И все — то же самое… Да и баба эта, Доценко. Разве ее проверили как следует после оккупации?.. Злом пышет на меня. Выдала б за милую душу. Я ведь ей горячего сала за шкуру залил… Нет, правильно, что в райцентр еду! Это не трусость! Разумная осторожность. В райцентре я свой… Сообщу про немцев… Там военком. Кого-нибудь поднимут по тревоге… Поймут: корма спасаю… Главное, чтоб мужики не растащили, покуда немцы в селе…
— Слушай, отцепи ты это проклятое ведро, — не выдержал Анциферов. — Тарахтит, тарахтит, мочи нет, заткни его куда-нибудь.
— Что вы нервный такой стали? — безразлично спросила Нина, выкручивая баранку.
— Станешь с вами!..
— Некуда мне его. В кузове еще больше громыхать будет.
— Вредная ты.
— Это как кому…
Дорога пошла под уклон. Лунный свет освещал сползший с откосов снег, обнаживший бурую мертвую траву, напоминавшую о скором времени, когда ее забьет свежая мурава, сливаясь с зеленой щетинкой озими, пробьющейся на этом размахнувшемся черноземном отлоге.
Вскоре они выехали к перекрестку. Вправо дорога вела к фронту, влево — к райцентру. Не выезжая с перекрестка, Нина вдруг остановила машину, открыла дверцу.
— Ты чего? — спросил Анциферов. — С машиной что-нибудь?
— Сколько километров до лесничества?
— До какого?
— Куда поехал старший лейтенант с этим Володей.
— Черт его знает… Отсюда далеко. Зачем тебе?
— Я еду туда, — решительно сказала Нина. — Вышло, что я его бросила. А он про немцев ничего не знает.
— Ты что, с ума спятила?! Это ж в противоположном направлении! Это ж возвращаться надо!
— Значит, надо!
— Времени у нас нет! Тогда мы только утром сможем уехать в райцентр!.. Ведь беды они наделают, если не сообщить о них вовремя!.. Понимаешь, чем может обернуться твоя затея?! — разволновался Анциферов. — И ради чего?
— Я знаю, ради чего, — твердо стояла на своем Нина.
— Предупредят твоего Ивана. Доценко знает, как это сделать. Я ей сказал. Пошлет людей к лесной дороге. Ну?!
— А если не удастся, и он, не зная, заявится в село? Что тогда?
Говорю тебе распорядился я, чтоб ждали их на выезде. Там и предупредят.
— Тогда в автобат едем, — решила Нина.
— А если фрицы дорогу перехватили? — спросил Анциферов. — Ведь они к линии фронта рвутся, к своим пробиваются. — И, видя, что Нина засомневалась, решительно произнес: — Поехали, поехали, зря время теряем.
— Смотрите… — Нина захлопнула дверцу.
— Ну ты и стервоза, — вздохнул Анциферов. — С тобой нахлебаешься.
— Нахлебаетесь. — Нина выжала сцепление. — Если обманули и с Иваном что-нибудь случится, я вас под землей найду.
— И что будет? — усмехнулся Анциферов, довольный, что машина уже выбралась с проселка и свернула в сторону райцентра. — Что же будет? — повторил он.
— Пристрелю, — просто сказала Нина.
— Эх ты, я ведь пуганый.
— А я не пугаю. Хочу, чтоб знали, что вас ждет.
— Под трибунал пойдешь.
— Пойду. Зато вы уж никуда не пойдете.
— Веселая у нас дорога, — покачал он головой. — Я ведь тебе в отцы гожусь, а ты меня пристрелить грозишься.
— Нет, в отцы вы мне не годитесь, — отрезала Нина.
— Это как же?
— Не годитесь… Порода не та… — Она прибавила газу, ярче кинулся на дорогу свет фар.
Забыв о тарахтевшем ведре, Анциферов откинулся, прикрыл глаза, не желая больше думать ни о чем…
Бок у Гурилева онемел — то ли от стужи, то ли от неподвижного сидения под скатом крыши. Что-то распиравшее карман пальто давило в бедро. Он пошарил в том месте, нащупал твердый кругляк, вспомнил: запасной диск к автомату… Нелепость… Получилось, что Анциферов, оставляя ему автомат, как бы безоговорочно определял в сторожа здесь… Глупо все вышло… А если он не выдержит холода и захочет уйти отсюда?.. Он не обязан… Он штатский… Что может помешать ему уйти?..
Автомат лежал под стеной. Немой блеск металла пугал Гурилева. Никогда он не держал оружия в руках и обращаться не умел, хотя давно разменял пятый десяток… Осторожно придвинув к себе автомат, Гурилев ощутил непонятные ему холодные изгибы стали, вспомнил слова Анциферова: «Вот это — затвор, оттяните к себе и жмите на крючок. Пойдет, как по маслу..» Он мягко отложил автомат к стене, сдвинул в сторону запасной диск, топыривший карман, уселся поудобней и, вздохнув, опять подумал: «Чему быть — того не миновать».
В памяти, как в агонии, еще трепетали слабевшие видения прошлого. О чем просил брат на прощание?.. Адрес Олега… Нет уже адреса!.. Нет Олега!.. Нигде. И не будет никогда!.. Прости, сын, что я скрыл от мамы и Сережки…
Он полез за пазуху, достал спрятанную меж страничек паспорта бумажку. Ее дал ему приятель их, Тимофей Алексеевич Крылов, работавший в военкомате. С тех пор Гурилев не расставался с нею — желтоватой, грубой, с шелухой завальцованной древесины, с отчетливо выбитыми пишущей машинкой жуткими словами: «Управление по персональному учету потерь сержантского и рядового состава Действующей Армии. Военному комиссару Джанталыкского района… области… Известие гр. Гурилеву А. Б. Старший сержант Гурилев Олег Антонович погиб 29 сентября 1942 г. в поселке „Красный Октябрь“ (г. Сталинград). Похоронен там же».
Похоронен… Кем?.. Как?.. Похоронен… Не стало… В сущности, какая разница, известно мне или нет, где он находился в то мгновение, когда его не стало?.. Оказывается, это валено мне — и когда его не стало, и где зарыли… Уму необходимо это утешение… Разве не жажду знать, как он погиб? Мучаюсь ведь, что не знаю. Хотя у слов «погиб» и «похоронен» смысл всегда один: человека нет…
Когда пришла похоронка на Олега, Гурилев подумал, что боль и скорбь теперь навечно будут с ним. Это странным образом даже успокаивало. Хоть что-то получил взамен, хоть неравноценную долю чего-то, чем смерть охотно делится, когда забирает детей, оставляя родителям еще долгую жизнь. Лишь времени он боялся. Знал, что имеет оно столько лукавых возможностей пробуждать в человеке его защитную способность утешаться. Он заранее страшился этого утешения, стыдился, что такое может и с ним произойти. Не раз за минувшие месяцы подозрительно вслушивался в себя, сокрушенно отмечал, что острота первого удара медленно и незаметно угасает, вязнет в сутолоке нелегкого быта и служебных хлопот трудного и горестного времени. Горестного для всех. Вот, пожалуй, в чем дело…
Над ухом Гурилева в щели заунывно пел сквознячок. Слюдяно мерцал в свете луны снег. Спала земля, скованная ночной стужей. И где-то далеко, в глубине ее темного и холодного чрева, спал его сын Олег, которого не пробудить ни криком, ни тихой мольбой…
В эти минуты одиночества и неизвестности он вспомнил — и не случайно — людей близких, дорогих, памятных тем, что своей праведностью или ошибками помогли ему понять жизнь… Жена… Сыновья… Вардгес… Брат… Да, и брат…
Было это уже потом, в эвакуации, в Джанталыке. Жена работала счетоводом в госпитале. Однажды после обхода в финчасть вошла медсестра Гуля Давлетова и, склонившись, тихо сказала на ухо Гурилевой:
— Вера Васильевна, ночью привезли новеньких… Среди них один… Фамилия, как ваша…
Лицо Гурилевой ожгло изнутри, горячая боль ударила в виски, руки и ноги онемели, попыталась встать — не могла. Поняла, что обморочно бледнеет, заметила, что все уставились на нее. Деревянными губами произнесла, думая об Олеге:
— Молодой?
— Нет, совсем старый, — сказала Гуля — Но фамилия ваша. В четвертой палате…
Поняв, что испуг был напрасен, что раненый — однофамилец, слабыми пальцами пошевелила бумаги на столе и вышла вслед за Гулей.
Четвертая палата для особо тяжелых. Войдя, Гуля показала на кровать у печки…
Медленно приближаясь к раненому, Вера Васильевна издали всматривалась в него. Он лежал, почти плоский, укрытый до подбородка синим одеялом с пристегнутой к изнанке простыней. И белый ее край касался лица, оттеняя серовато-сизый подбородок, наскоро выбритый неловким госпитальным парикмахером. Голова, тоже кое-как обритая, тяжело лежала в мягком лоне жиденькой подушки. Лицо, с закрытыми глазами, остро худое, изможденное, было незнакомо. Она смотрела в эту неподвижную маску то ли глубоко спящего, то ли умиравшего, на синие, покойницки выпуклые веки, плотно закрывшие глаза, и пыталась хоть что-то, что было в ее памяти, соотнести с чертами этого человека. Но ничего не вспоминалось. Тихонько она вышла из палаты.
Перед уходом, в конце рабочего дня, все же заглянула в сестринскую, где Гуля что-то писала в разграфленную школьную тетрадь.
— Гуля, вы уверены, что его фамилия Гурилев?
— Ну конечно! Зачем бы я вас тревожила. — Гуля достала регистрационную книгу, полистала. — Вот: «Гурилев Георгий Борисович, 1890 года, железнодорожник…»
«Это Жорж Жорж… — Она нервно свела пальцы. — Откуда? Как он сюда попал?»
Видела она его всего два раза, первый, кажется, в 1924, второй — в 1936. Из осторожных рассказов мужа сложилось представление, что брат его человек со странностями, трудный… Был против их брака. Догадывалась, почему… Поддерживать отношения не желал, но она не особенно печалилась, ощущая внутреннюю неприязнь к нему. Считала, что по его вине муж не получил образования: тогда, в сложные двадцатые годы, иметь брата, служившего в 1918 году в Верховном управлений в Архангельске, оккупированном англичанами, было большой помехой… С тех пор все перегорело, остыв, улеглось, и она просто забыла о существовании этого человека…
Вечером сообщила новость Гурилеву. Взволнованный, растерявшийся, он порывался тут же идти в госпиталь, но она отговорила его — час поздний, не пустят, тем более к тяжелораненому. Побежал, едва наступило утро. В палате еще от двери увидел, узнал источенное страданиями лицо. Пока приближался, брат следил за ним серыми сосредоточенными глазами, потом выпростал из-под одеяла легкие от худобы руки. И Антон Борисович, едва присев на белый стул, нежно накрыл эти две слабые руки своими теплыми ладонями, почувствовав чужую сухость кожи и холодок ногтей.
— Ты можешь разговаривать? — спросил Антон Борисович.
Брат утвердительно шевельнул веками.
— Мне Вера сказала… Она работает тут…
— Знаю. Она вчера была… Мне сестра милосердия сказала…
— Вера подумала, что ты спишь.
— Я не спал… Я понял — это она…
— Ты не хотел?..
— Я не мог… — В уголке глаза, горячо смотревшего на Антона Борисовича, шевельнулась слеза.
— Ну что ты, Жорж, — гладил Антон Борисович руку брата. — Она давно все забыла.
— Такое — нет… Так не бывает. — Губы его чуть сползли в кривую улыбку.
— Все бывает, Жорж… Все бывает…. Так должно быть… Сейчас война… Прошло столько лет… Все мы изменились…
— Как Олег? — вдруг спросил брат.
Антон Борисович вздрогнул, показалось, что сузившийся в луч воспаленный взгляд брата видит во внутреннем кармане его пиджака паспорт, где меж страничек спрятана пришедшая месяц назад похоронка на Олега.
— Он под Сталинградом, — быстро ответил Антон Борисович.
— Воюет… Хорошо… С ними надо воевать… Расскажи о себе, — и поправился: — О вас…
— Лучше ты о себе… Как это случилось?
Георгий Борисович слабо развел руками, мол, что говорить. И все же сбивающимся голосом, часто умолкая, чтоб отдохнуть и чтоб вышло покороче, рассказал.
Из города он уходил почти последним с несколькими путейцами. Сперва ехали в вагончике-дрезине, затем на телегах с каким-то колхозом, угонявшим скот на восток. Добрались к Дону. Явился в военкомат. По возрасту в армию не взяли, направили как специалиста по мостам и тоннелям в железнодорожный отряд. Кочевал с ним по прифронтовым полосам, строил мосты, укреплял насыпи, укладывал колею. И вот — железнодорожная катастрофа под Калинином; их рабочий поезд — паровоз, три платформы с рельсами и шпалами, жилой вагон — пошел под откос. Какая-то труба вонзилась в живот, разворотила все внутри, повредила позвоночник. Почти месяц возили по разным госпиталям, наконец довезли сюда, в Среднюю Азию.
— Хорошо, что ты здесь, — устало закончил Георгий Борисович. — Хоть знать будешь, где я умер…
— Что ты, Жорж! Поправишься, вот увидишь… Время только нужно… Мы тут, выходим тебя…
— Антон, — позвал брат. — Когда-то… давно… ты рассказывал… Будто наш отец усыновил меннонита… Будто это я… Ты шутил, правда?
Антон Борисович ахнул: вот что вспомнилось! Неужто в холодном несуетливом рассудке брата все минувшие годы сидело это?! Ужели трезвый, уравновешенный ум Жоржа усомнился, что была это всего лишь метафора, притча… Сидело занозой столько лет!.. И, пораженный исповедальностью его вопроса: «Ты шутил, правда?», Антон Борисович успокаивающе улыбнулся:
— Разумеется… Просто нужен был аргумент…
Вошел врач со свитой, и Антон Борисович удалился, сидел в коридоре, дожидаясь конца обхода…
— Ничего утешительного, — быстро идя к следующей палате, говорил ему потом хирург. Антон Борисович едва поспевал за ним. — Безнадежен. Подробности вам не нужны. Сделано все, что возможно, но — увы…
— Может быть, что-нибудь… Я прошу вас… — растерянно говорил он хирургу.
— Нас просить незачем. Я прикажу, чтоб вас пускали к нему все это время… До конца… Это — единственное, чем я могу еще помочь ему… И вам…
Брат прожил еще четверо суток. Похоронили его на новом кладбище, возникшем с той поры, как появился госпиталь, положили его в ту же землю, где покоилась теща, умершая в первый год их жизни в эвакуации.
Внизу послышалось какое-то движение. Звякнуло. Гурилев притянул к себе автомат, замер. Что-то тихо перемещалось. Потом умолкло. Он осторожно посмотрел вниз. То ли волк, то ли большая бездомная собака, задрав голову, видимо, почуяв человечий дух, глядела на Гурилева недвижными угольками глаз, подсвеченных лунным отблеском. Сперва он хотел крикнуть, что-нибудь швырнуть, отпугнуть, но раздумал, боясь обозлить. Решил выждать. Животное заскулило, прошло вдоль стены и исчезло в проломе…
Гурилев полез за часами. Половина одиннадцатого. Час, как уехал Анциферов…
Гурилев уже понял, что если тот и вернется, то не скоро, в лучшем случае к утру. Вельтман тоже, наверное, где-то затаился… А он должен — тут. Ради чего?.. Да и обязан ли? Скорей бы утро… Что-то определится… За какой-то ничтожно малый отрезок времени он успел еще раз прожить памятью кусок прошлой, исчезнувшей жизни, преодолеть огромные расстояния и десятилетия… А решить: оставаться ли здесь стеречь корма — от кого?! — или все-таки уйти — он не успел, хотя на это нужны лишь секунды… Не успел?.. Или не хотел, отдалял это решение?.. Но, может, это и было уже решением… Он понял, что Анциферов солгал… Зачем?.. На труса Анциферов не похож… До утра, конечно, тут, на холоду, не выдержать… Кто вправе его упрекнуть, если он уйдет отсюда? Но куда? Просто на восток… И, сжавшись, привалившись к ледяной стене, он с тоской посмотрел на пустынное ночное поле, открывавшееся за рухнувшей стеной.
Дуло в затылок. Гурилев затолкал выбившийся шарф. Жена называла его «кашне». Он не любил этот шарф, не умел его носить, раздражался: при ходьбе шарф вылезал сзади над воротником, а спереди — к подбородку, тогда шея оставалась голой. Сколько раз жена учила надевать его! Если куда-нибудь шли вместе, много раз по дороге поправляла, аккуратно засовывая за ворот и борта пальто… Но сейчас Гурилев был рад этому теплому плотному шарфу, даже понюхал его конец с пышными кистями, будто там могли сохраниться тепло и запах пальцев жены, так часто прикасавшихся к толстой шерстяной пряже. Но сохранилась лишь пришитая к изнанке залоснившаяся уже фирменная бирка: овца и золотыми буквами надпись по-польски: «Яцек Глоговский. Сатурн. Лодзь».
Шарф этот Гурилеву подарила Ганка Байцар. Супруги Байцары — Ганка и Юзеф, беженцы из Польши, уже раздавленной немцами, — появились в городе незадолго до войны. Все имущество этой четы умещалось в наспех набитых рюкзаках, они протащили их на спинах от Люблина до Белостока, но память о пожарах, облавах, расстрелах погнала Байцаров дальше, на юг Украины.
За стеной у Гурилевых в двухкомнатной квартире жила одинокая портниха, которую вся улица называла «мадам Лимбут», — в молодости она пела в оперетте и имела псевдоним Жозефина Лимбут, хотя была она просто Женя Липовенко. Ее уплотнили, подселили Ганку и Юзефа. Было им лет по тридцать. Но ужас пережитого, казалось, навсегда парализовал этих молодых еще людей. Движения их были пугливыми, они старались не производить шума, чтобы не привлекать к себе внимания, торопливо прижимались к забору или стене дома, уступая встречным дорогу, даже между собой разговаривали тихими вкрадчивыми голосами, боялись лишний раз потревожить кого-нибудь из соседей необходимыми вопросами или просьбами. Незнание языка затрудняло им быт, речь их состояла из спутанного набора польских, немецких, еврейских и русских слов.
Для всех во дворе эта пара казалась явлением из незнакомого и таинственного мира, называвшегося «заграницей». Все в них было неясно, любопытно: и робкие голоса, и то, что ботинки они называли «буты», а галстук — «краватка», и беспрерывное «пан» и «пшепрашам» — простите. Странной казалась и одежда: короткие, из грубоватого сукна полупальто с прямоугольно приподнятыми плечами. Ганка носила к тому же плотные, зауженные книзу брюки, заправленные в высокие тупорылые ботинки на толстой подошве, а Юзеф — суконное, военного образца кепи.
Соседи долго присматривались к Байдарам, остро хотелось знать о них все, знать, как там, откуда они явились, что такое эта их «заграница» и что такое немцы.
Боязливо, как бы оглядываясь, Ганка и Юзеф рассказывали об ужасах войны, о страданиях, обрушившихся на людей, о глухой жестокости немцев. Рассказы эти вызывали у одних недоумение, у других — тягостное предчувствие беды, а кое-кто просто не понимал, как такое может происходить на виду у всех и почему не дать этим немцам по морде. После таких рассказов Ганка и Юзеф выглядели еще загадочнее, а тот мир, из которого они пришли, — непостижимее.
Четырнадцатилетний Сережка однажды спросил:
— Папа, а они не шпионы?
— Кто? — не понял Гурилев.
— Ну эти, наши новые соседи из Польши? Они похожи на шпионов.
— Они не шпионы, Сергей, — серьезно ответил Гурилев. — Они работают на швейной фабрике.
— Ну и что? — удивился сын. — А кто они?
— Просто люди. Несчастные люди, бежавшие от войны.
— А почему они бежали? Испугались немцев или войны?
— Что-то вынудило их покинуть свой дом, — подыскал ответ Гурилев. — Ты думаешь, это легко и просто? Познакомься с ними поближе, поговори. Они тебе лучше объяснят, чем я.
— Я не понимаю по-ихнему.
— Захочешь — поймешь, — сказал Гурилев сыну.
Пока Байцары обзаводились скарбом, Ганка, случалось, заходила к жене Гурилева попросить сковороду или кастрюли, а то и корыто для стирки, при этом застенчиво краснея, долго объясняла, почему ей так необходимо то или иное.
С Юзефом Гурилев по вечерам иногда пил чай с вишневым вареньем. Вишня была без косточек, Юзеф хвалил, и теща Гурилева, сварившая это варенье, начинала ворчать, что оно могло быть еще лучше, но ей попался не тот сорт вишни. Она тут же уходила и приносила банку со сливовым или айвовым джемом собственного изготовления и заставляла Юзефа все пробовать.
— Старики разборчивы, — сказал Юзеф, когда Анна Степановна вышла в очередной раз. — Любят проявлять свой характер.
— Может, проявление характера — это проявление их желания жить, — ответил Гурилев.
— Мои старики уже ничего не проявят, — вздохнул Юзеф. Он видел, что Гурилев деликатно молчит, но понимал, что у Гурилева много вопросов к нему. И начинал рассказывать, сперва вяло и общими словами, но постепенно все подробней и точней, сам уже испытывая потребность в собеседнике: хотелось, чтоб кто-то услышал и понял, одному нести в себе тяжесть пережитого невмоготу, а надо начинать новую жизнь, создавать кров, обретать привычки и правила нового, незнакомого прежде уклада.
Гурилев слушал внимательно, обхватив ладонью подбородок и поглаживая пальцами щеку. Слушая, он понимал, Юзеф, рассказывая, видел. И эта разница иногда мешала Гурилеву оценивать услышанное, примерять его к себе, к своей семье, случись им такое.
Подробности в исповеди Юзефа были страшные и неотвратимые. Он рассказывал о женщине у руин дома, где только что погибли ее близкие. Камни еще исходили сизым дымом, а она стояла и держала подобранную в развалинах взбивалку для яиц и крема — единственное, что осталось от всей ее жизни…
— Нелепо?! Смешно?! — шептал Юзеф. — Н-е-т! Война не признает юмора…
Юзеф говорил о мелком, ничтожном, подлом, что с войной вдруг выплыло на поверхность, вселяя в людей страх; о том, что испуганная людская молва не должна наделять ничтожества властью, иначе они тут же начинают верить в то, что обладают ею.
И, слушая Юзефа, Гурилев мысленно подсчитывал ошибки отдельных людей и целых поколений, простые и вроде ясные всегда и всем, каких, казалось, можно избежать. Но ими пренебрегли. И человечество уже начало расплачиваться. За все ошибки надо платить. Но плата всегда выглядит непомерно и оскорбительно завышенной… «Неужели это — уже начало?» — думал Гурилев, слушая Юзефа, вспоминая слова брата и Погосяна о немцах и войне… Желтые клыки немецкой овчарки под белой бородой на горле старика… Пес только еще вкусил человеческой крови. И она пришлась ему по вкусу…
— Я слышал, у вас сын В армии? — спросил Юзеф. — Их остановите вы, правда? Когда вы сможете их остановить?
— Я всего лишь бухгалтер, Юзеф…
— А человечество и состоит из бухгалтеров, трубочистов, инженеров, портных, гимназистов, акушеров, золотарей! И вешают, травят собаками их же, а не слова «человечество», «общество», «народ»!.. Что вы на это скажете? — Он отхлебнул остывший чай.
— Увы ничего, кроме того, что вы правы.
— На земле несчастных больше, чем счастливых, — с отчаянием глядя в глаза Гурилеву, сказал Юзеф. — Среди счастливых подлецов больше, чем порядочных. Среди несчастных — наоборот. Наверное, в той же пропорции.
— Страшный подсчет, Юзеф. Вы не ошиблись? Просто добро менее броско, менее заметно. С этим вашим балансом хоть в петлю лезь — так все безотрадно, — возразил Гурилев.
— В этом, как вы сказали, балансе ваши бухгалтерские познания ничто в сравнении с моим опытом.
— На моей стороне опыт всей жизни.
— А на моей — год войны.
— И тем не менее… — Гурилев пожал плечами, понимая, что спор бесполезен. Какие бы аргументы он ни приводил, все они могут звучать либо пошло, либо бестактно из его уст — человека, не побывавшего ни в шкуре солдата, ни в рубище беженца…
И, как бы подводя багровую черту под их разговором, Байцар сказал:
— Где-то я вычитал, что и добро, и зло имеет своих героев. Вот что самое ужасное — не только добро, но и зло имеет.
Это была еще чужая война. И все-таки запахи ее руин, голоса ее жертв, цвет ее зарева на дребезжащих стеклах принес в дом живой конкретный человек, принес в себе и разделил с ним, Гурилевым…
А он не подозревал, как все уже близко. И то воскресенье. В пыльном и душном маленьком городе жаркое лето тянулось медленно и спокойно. Заботы людей были просты, но, поскольку это были все же заботы, они казались значительными и необходимыми.
На базарной площади, где все продавалось с подвод, сметану покупали только такую, чтобы ее можно было резать ножом, а масло — обязательно в свежем капустном листе с росой, и чтоб было оно желтым и пахло сливками; кур брали только живых, долго ощупывали, дули под перья, где пушок, чтоб поглядеть, не синие ли. Базар ломился от молодых овощей и ранних фруктов. Стоял галдеж, ржание коней, жевавших новое сено и отмахивавшихся хвостами от аспидно-синих ожиревших мух, визг поросят в мешках, требовательный гусиный крик. Пахло болотом от близкой реки, навозом и жареными семечками. И никому не могло прийти в голову, что это вдруг исчезнет. Слишком долго и надежно все это длилось, составляло саму жизнь, создано было людьми и для людей.
А Гурилев в то воскресенье, как обычно В конце квартала, сидел у себя в конторе и готовил квартальный отчет. На столе — гора бумаг, папок и скоросшивателей. Под рукой — счеты и арифмометр. За спиной на белой стене висела черная тарелка репродуктора с выдернутым из розетки шнуром. Гурилев, ничего не зная, сидел один в бухгалтерии, щелкал костяшками, сверял колонки цифр, составлял какие-то сметы, делал все, к чему привык, не предполагая, что все это уже лишено смысла, не будет иметь никакого результата: та жизнь, для которой все же что-то значили мизерные цифры маленькой провинциальной мебельной фабрики, кончилась еще на рассвете этого знойного вечного дня…
К августу в трехэтажном здании партшколы развернули госпиталь, и жена пошла туда работать счетоводом. Первое время к госпиталю наведывался чуть ли не весь город: поглазеть на непривычное — раненых как на первых живых героев, хотя некоторые из них и выстрелить не успели; кое-кто приходил в надежде встретить сына или брата, поспрашивать о них. В распахнутых окнах всех трех этажей было бело от нательных рубах, гипсовых кукол и панцирей, бинтов, темнели лишь загоревшие лица. Свесившись с подоконника, раненые улыбались горожанам, заигрывали с девушками. То жуткое, что испытали эти молодые парни, не забылось, а как бы отпустило их сюда, в этот навсегда, казалось, тыловой городок, отпустило, оставшись где- то там, почти в нереальной жизни, которую отсюда человеку хотелось видеть без страшных ее реальных подробностей…
Занятия в школе кончились. Сережа с утра до вечера где-то пропадал с ребятами. Являлся лишь к ужину — голодный, запыленный, счастливый, с исцарапанными локтями и коленками. Он с приятелями таскал раненым гостинцы — горячую вареную кукурузу, черные вишни в кульках, зеленовато-желтые диски подсолнечников, терпкие, с налетом матовой пыльцы, яблоки. Все это, конечно, добывалось в чужих огородах и садах не самым честным способом. По просьбе раненых мальчишки бегали в ларек за папиросами, ситро и пивом, получая за услугу одну-две папироски на всю ораву или несколько стреляных гильз, чудом сохранившихся у кого-нибудь в кармане.
С вечера компания подростков начинала шастать по чердакам и сараям — искали шпионов-парашютистов, про которых уже сюда долетали слухи, или, таясь за забором, следили, не попытается ли кто взорвать единственный на всей улице важный объект — маленькую трансформаторную будку с трафаретным черепом и костями на дверце.
Иногда по ночам над городом высоко в темном звездном небе проползал самолетный гул. Все прислушивались, пытаясь угадать, чей — наш или немецкий. Но гаданья эти были еще пустые, в них не жил опыт, который придет попозже…
В один из походов по чердакам Сережа нашел ржавый кавалерийский клинок. Костяные щечки на рукоятке давно отбились, торчали лишь некогда державшие их медные заклепки. Несколько дней сын усердно шкурил наждаком сталь, сдирая ржавчину. С лезвия она почти сошла, но осталась в продольной ложбинке, будто не стекшая когда-то и засохшая в ней кровь…
В другое время эту находку сына Гурилев бы, возможно, и не заметил, как не замечал многие другие его забавы. А тут поймал себя на том, что с серьезностью тайком наблюдал, как Сережа чистил клинок — когда-то чужое, настоящее оружие…
В октябре госпиталь опустел. За две ночи всех раненых увезли куда-то глубже в тыл, новые уже не прибывали. Город забеспокоился. Каждый искал объяснение этому. И все сходились на одном, понятном, о чем вслух говорили только дома, с близкими. И Гурилев вдруг ощутил, как исподволь в него вселяются тревога и чувство ответственности — еще смутной, непонятной — за что! Оно накапливалось в нем всякий раз вроде случайно: оттого что видел, как, завернув клинок в промасленную тряпку, Сергей прятал его под шкаф; оттого что теща однажды вечером сказала: «В магазине на Благовещенской нет спичек и мыла»; оттого что жене предложили в госпитале представить список членов ее семьи… Чувство это пугало, поскольку он не знал, что должен исполнить, чтобы избыть его, или чем удовлетворить, ибо ничто конкретное прямо пока не было названо, не требовало от него каких-то поступков, чтоб защитить себя и семью. И эта неопределенность была мучительней всего. С нею он вставал, уходил на работу, жил там и с нею возвращался, подавленный, домой.
В октябре возникло слово «эвакуация» — в разговорах со знакомыми, слышалось в очереди в магазине, в шепоте сослуживцев на работе. Оно прокралось в город со станции, через нее уже проходили эшелоны, увозившие' куда-то платформы с демонтированными станками и теплушки, набитые детьми и женщинами, чьи мужья когда-то стояли у этих станков…
Однажды вечером жена, вернувшись из госпиталя, сказала:
— Мы сворачиваемся. Уже сколачивают ящики для рентгенаппаратуры. — Замолкла, напряженно глядя ему в лицо.
— Ты думаешь… — начал было он.
— Да. Политрук сказал, что я должна заполнить эваколисты на себя, тебя, маму и Сережу.
— Неужели ехать? — опешил Гурилев.
— Не знаю, — пожала она плечами, хотя знала, что он сам не в силах будет принять решение.
Гурилев тем временем думал, что, выскажись он определенно, что-то должно рухнуть, может, вся прошлая жизнь, а может, и будущая. Вроде какая-то высокая стена возникла, ничего не видно ни по ту, ни по эту ее стороны, стена раскачивается, и не поймешь, куда она завалится. Но что-то так или иначе погребет под собой. И давно глодавшее его чувство ответственности вдруг закричало в нем, требуя исхода. Он спросил.
— Ты думаешь, они скоро будут здесь?
Но она, видимо, ответила своим мыслям:
— Другой возможности у нас уже не будет.
Гурилев посмотрел на жену, разом охватив ее лицо, смуглое, с темными печальными глазами, потом оглядел комнату, где столько лет все незыблемо стояло на своих местах и где к скромно нажитому однажды скарбу больше уже ничего почти не прибавлялось, разве что по одной-две книги на этажерке. Это было как прощание, чувствовал он…
— Поговори с мамой, — сказал Гурилев.
И тут вбежал Сергей.
— Папа, Витька Чубенко уезжает! Эвакуируются! И мы поедем? — спросил сын с ожиданием мальчишки, просто жаждавшего перемен.
— Возможно.
— Вот бы вместе с Чубенко! — подпрыгнул Сергей…
Вечером они объявили Анне Степановне, что должны эвакуироваться вместе с госпиталем.
— Мне незачем ехать, — строго сказала мать. Ее полные руки, с не по возрасту гладкой кожей, распрямляли скатерть — от середины к краям. — Я родилась здесь. Ехать искать смерть куда-то — дурость. Ишь, придумали!
— Мама, но разве ты не слышала радио? А Байцары, их рассказы?
— Я не верю им. Мелют, лишь бы оправдать свое бегство. Не паникуйте. Антон, — повернула она седую голову к Гурилеву. — Куда мы потащимся? Бросить все это?! — Она указала за спину. — В надежде на какую такую вашу прыткость? Вы всю жизнь как тот мастер, что сеном воду запружает. А она себе течет… Сидеть надо дома в такое время… Только прикажите Сереженьке выбросить эту саблю…
Гурилев нервно приподнялся и придвинул стул ближе к столу, но жена, упреждая, сказала:
— Мама, мы должны ехать. — Она знала: начни он возражать, что-то доказывать, спору не будет конца. Мягкость и спокойные аргументы мужа обычно лишь подзадоривали мать.
— Анна Степановна, вы во всем абсолютно правы, — сказал вдруг Гурилев. — Можно остаться, рискнуть собой, всем этим. — Повторив ее жест, он обвел комнату. — Но можем ли мы рисковать Сережей? Если даже в том, что пишут и говорят о зверствах немцев, есть хоть один процент правды. Понимаете — даже один! Разве. этого не достаточно, чтобы увезти Сережу? — Он знал: теща помешана на внуке.
И она, хоть и не сразу, сдалась…
Сборы были печальные, немногословные, с частыми вздохами, особенно когда, опорожняя чемоданы от старья, натыкались на забывшиеся, отношенные и давно не нужные вещи. Они вдруг вызывали щемящие воспоминания об ушедших годах, о молодости. Вещи эти грустно откладывали в сторону, расставаясь навсегда, как с чем-то живым, а в опустевший чемодан напихивали самое необходимое: простыни, наволочки, пододеяльники, теплое белье, все, что было поновей, без заплаток и штопок. В старые покрывала укладывали подушки, а в них — посуду и стекло, перепеленатые полотенцами, стягивали концы покрывала и весь тюк перевязывали бельевой веревкой.
За два дня обе комнаты стали тоскливо чужими, без гардин казенно обнажились окна, а опустевший буфетик вдруг голо забелел покоробившейся внутренней фанерной стенной и плохо полированными полками. Все вдруг выставило свою старость: и диван с потрескавшимся дерматином, и допотопный умывальник с мраморной доской, куда вправлено тусклое круглое зеркало, и тарелка репродуктора с вмятой черной бумагой, из которого звучали невеселые сводки и еще бодрые довоенные песни…
По комнатам ходили, переступая через чемоданы и узлы, словно вытеснившие внезапно воздух и пространство, в котором свободно обитала прежняя жизнь.
— Мама все-таки настаивает, чтоб ты выбросил эту саблю, — сказала жена Гурилеву.
— Но Сережка не даст.
— Сделай так, чтоб он не видел.
— А если он обнаружит и спросит?
— Объясни ему.
— Что объяснить? Что боюсь держать в доме кусок старого железа? Или выбрасываю потому, что это — оружие. Тогда как объяснить ему, почему его отец боится оружия? В такое время.
— Мать не отстанет, ты же знаешь ее.
— Хорошо, — согласился нехотя Гурилев.
— Ты знаешь, о чем жалею?.. Что вечные болезни Сережи помешали мне в тридцать пятом пойти на курсы фельдшериц. Помнишь, райком партии предлагал? А сейчас формируется санпоезд. Фельдшеры нужны.
— Только я никому не нужен со своей ногой, — нахмурился он.
— Не говори ерунды… Да и твой возраст пока не призывают…
Когда стемнело, он вынес завернутый в тряпку клинок, в конце двора была сколоченная из неструганых досок уборная, и Гурилев швырнул клинок в зловонную дыру, над которой всегда жужжали мухи. Сереже пришлось солгать: приходил милиционер, потребовал: если у кого есть оружие, сдать. В этой вынужденной лжи было что-то унижающее…
Потом жена напомнила:
— Не забудь у Вардгеса забрать ботинки.
В тот же вечер Гурилев пошел к соседу. Вардгес сидел на своем табурете, работал. Поверх синей вылинявшей майки на нем был широкий темный фартук, прикрывавший колени.
— Садись, Антон-джан. — Вардгес отложил иглу с дратвой. — За ботинками пришел? Готовы. — Сильной волосатой рукой он вытащил из кучи обуви и поставил перед Гурилевым два блестевших наново накатанными рантами ботинка. — Уезжаешь, Антон-джан?
— Собираемся, — смущенно ответил Гурилев. — Вы считаете, что зря? А сами не думаете эвакуироваться?
— Даже хотел бы — кому нужен кустарь Вардгес Погосян? Ты на станции был? Видел, сколько сидят на чемоданах? А кто их берет? Эшелоны идут мимо. Всех не увезешь в такое время, дорогой. Тебе повезло, что Вера в госпитале работает. — Он взял дратву и стал протягивать ее через катышок темного воска. — Как могу уйти отсюда без Сэды? Куда потащу мать?
Гурилев знал, что жена Погосяна еще в мае уехала в Ереван к брату, у которого умерла жена и осталось четверо малышей.
— Буду Сэду ждать, — сказал Вардгес. — Буду сына ждать — Ашота. Но я не дам себя зарезать, как барана, Антон-джан… И дай бог нам увидеться…
С чувством вины и неловкости уходил Гурилев из этого дома…
Он задремал и очнулся, будто кольнуло. Услышал чьи-то шаги, сбившееся дыхание. Не понимая, всматривался со страхом в маячившую в затененном углу мастерских фигуру и, когда она вышла на млечную лунную полосу, вдруг узнал: Лиза! Он молча следил за ней. Словно уверенная, что здесь никого нет, Лиза громко поставила звякнувшее о кирпич пустое ведро, потопталась, озираясь. Что-то искала. Заметив бочки, подхватила ведро, сбросила с первой жестяную круглую крышку, заглянула внутрь и погрузила ведро в бочку. Обратно тянула за дужку с трудом, переломившись, двумя руками; широко расставив ноги. Набрала, видно, с лихвой: через край выплеснулась темная густая жижа. «Надо же, черт…» — озлилась она, тяжко опуская ведро. С боков его стекало. И когда Лиза подняла его снова, как бы пробуя вес, на снегу остался черный круг от донышка…
Ушла она не сразу. Пошевелив ботинком, выколупнула в закоулке придавленный упавшим стропилом кусок рогожи. Обтерла им ведро, присела на груду кирпичей и заплакала — негромко, спазматически всхлипывая, часто шмыгая носом. Наконец успокоившись, вздохнула по-детски глубоко, со всхлипом, поднялась, сказала себе или кому-то с давней решимостью: «Я дотащу… дотащу…»
Гурилев хотел было окликнуть ее, спросить, кому она берет горючее, но передумал. Боялся напугать, угадывал, что свое дело. Лиза вершит тут тайно. Да и себя выдавать не видел резона, заопасался вдруг чего-то…
С ведром в руке, кренясь, Лиза уже медленно шагала прочь.
Сверху Гурилев видел бочки у боковой опоры, истоптанный снег, черный круг от донышка, расплывавшиеся пятна. А дальше — в недвижном свете округлившейся луны — заметил, как вдоль неутоптанной Лизиной стежки, по которой она теперь удалялась, по снегу отчетливо потянулась темная вязкая нить: в ведре была дырочка. Он понял, что останется не только этот след, но и более явный: дальше Лиза чаще начнет передыхать, опускать ведро на снег, оставляя на всем пути черные круги и густые натеки. И все это не затоптать, не смахнуть со снега, разве что метель покроет, но небо было чистым, звездным, и медленная луна все сочнее наливалась платиновым морозным сиянием…
Гурилев, кряхтя, поднялся и, волоча автомат, спустился по лестнице. Едва передвигая закоченевшие и словно смерзшиеся в суставах ноги, вышел на волю и двинулся по Лизиному следу, проверяя свои предположения. Прошел далеко, оглянулся на черневшее вдали свое неуютное убежище, где остались его вещмешок и инкассаторская сумка с деньгами. Постояв, посмотрел по сторонам, надеясь увидеть хоть что-то живое. Но он был один в мертвом ночном поле, с уходившим к горизонту белым мерцанием снега. И он медленно поплелся обратно, поглядывая на черную ниточку нефтяного следа, словно сам по нему отыскивал кого-то. Что-то знакомое, уже бывшее однажды, очнулось в его памяти. Он вспомнил: Сережка, варенье…
Сережке тогда было лет одиннадцать. В погребе стояли банки с вареньем, которое накануне сварила теща. Аккуратно прикрытые пергаментными бумажками, прихваченными резинками, банки были заготовлены на зиму. Кто-то из друзей сына подбил его достать это лакомство: «Тащи клубничное и из крыжовника». Торопясь из погреба в сарай, что стоял в пяти шагах, где собралась вся компания, Сережка, видимо, повредил одну банку: из трещины потянулась тонкая сладкая ниточка, по которой через час преступники были обнаружены Гурилевым, посланным тещей в погреб за сметаной…
Шалость маленьких проказников… Какой ужасной показалась она тогда!.. Где же сейчас сын? Убыл уже из училища на фронт?.. Как хорошо, что мы помирились перед его уходом, что он понял меня и мать, а мы — его… Ты не знал, Сережка, что Олег погиб. Я скрыл не только от мамы, но и от тебя. Иначе ты понял бы, наверное, как непросто быть одновременно и родителями и обыкновенными людьми, гражданами…
Это было в феврале. Только что отгремела Сталинградская битва. Отпраздновать вечером к Гурилевым зашел их приятель Тимофей Алексеевич Крылов, старший политрук, вернувшийся с фронта без одного легкого и с тяжелейшей контузией. Он работал в учетном столе военкомата.
Жили Гурилевы в мазанке, в одной комнатушке с двумя окнами, в которой едва умещались печь, стол с тремя табуретами, Сережина железная кровать, ящики с посудой, постельным бельем и периной. Гурилев с женой спали на этой перине, расстилая ее на полу у печи. Одежда, прикрытая простыней, висела на гвоздях, вбитых в стену. С низкого потолка свисала сорокасвечовая голая лампочка. При ее то замиравшем, то разгоравшемся свете жена, щурясь, штопала и подшивала износившиеся вещи, а Сергей делал уроки.
В тот вечер они сидели втроем: Гурилев, жена и Крылов. На плите посапывал чайник. Жена заварила зеленый чай, подала оладьи — смесь отрубей, муки и сахарной свеклы, кусочки приторной вяленой дыни, вместо варенья — патоку.
Крылов был одинок, семья погибла в Бобруйске, и он не спешил уходить от Гурилевых — спешить было некуда; спал на продавленном диване в красном уголке, а питался в военкоматской столовой из котла, который каждый день опорожняли прибывавшие и убывавшие призывники…
Сидели долго, пили чай, говорили о фронте, о сводках Совинформбюро, о Сталинграде. А потом пошли провожать Крылова. Стояли на крыльце под навесом. И снова говорили, ругая англичан и американцев за проволочки с открытием второго фронта.
— Где Сережка? — спросил Крылов.
— В школе. Помешались на этом военруке, — ответила жена.
— Вельтман? Знаю его. Славный хлопец, — сказал Крылов.
— Строят школьный тир под его руководством. Десятиклассники уже, — улыбнулся Гурилев.
— Да… Выросли… Вот какое дело, Антон, — помялся Крылов и глянул на жену. — Десять мальчишек из их класса, комсомольцы, подали заявление. Просятся добровольцами на фронт… Призываться им только осенью.
— Что же будет? — холодеющим голосом спросил Гурилев, поймав краем глаза белое, гипсово-застывшее лицо жены.
— Право, не знаю. — Крылов посмотрел на Гурилева, а тот словно читал его взгляд: — «Понимаю тебя. Полгода не прошло, как принес я тебе похоронку на одного сына… Теперь вот Сережка…»
— Но что-то же надо делать! Надо остановить его! Ему ведь семнадцать лет, ребенок! воскликнула жена.
— Черт его знает… Что тут придумать… — запинался Крылов. — Может, вытащу его учетную карточку… Передержу у себя, пока официальный призыв их возраста не начнется…
— Спасибо, Тимофей, — робко поблагодарил Гурилев…
Они расстались понуро-молча, с ощущением, что каждый прикоснулся к чему-то недозволенному, запачкавшему их чистые прежде руки…
Минут через десять вернулся Сережа. Брови сведены, взгляд колкий, быстрый. Ужинать отказался. И с решимостью сказал:
— Я все слышал… Я вышел от Рустама, когда вы стояли на крыльце с дядей Тимофеем… Этого не будет!
— Сережа, сынок! Ведь ты еще совсем дитя! — воскликнула жена.
— Если уйдут девять человек, а нас было десять, каждый спросит: «Почему же Сережка Гурилев не с нами?» Ответ один: Гурилев струсил. И я не смогу объяснить, что струсил не я, а мои…
— Сережа, воздержись… — остановил его Гурилев. — Нельзя так с нами.
— Мой брат воюет… И другие… Я что, хуже?.. В такое время! И как вы могли, не поговорив со мной. — Глаза его завлажнели.
Жена, спрятав лицо в ладони, сидела на ящике, сжавшаяся, жалкая. Гурилев никогда не видел ее такой, у него ныла душа так больно было видеть их, не знавших, что Олег погиб.
— Побудь с нами… Хоть до осени, — осторожно сказал Гурилев. — Ты ведь должен, ты можешь понять нас… Ты ведь уже взрослый… Понимаешь, это даже как-то эгоистично.
— Значит, для этого я — взрослый. А бить врага — еще дитя! Значит, я — эгоист! А не вы!.. Ну и логика у тебя, папа, — усмехнулся недобро. — Скажите дяде Тимофею, чтоб он не трогал мою карточку Иначе пойду к военкому.
— Ты этого не сделаешь! — поднялась жена.
— Сделаю, мама!
И оба они — Гурилев и жена — знали: сделает.
Пришлось предупредить Крылова…
В июне Сережа уходил в армию. На вокзале прощаясь, он сказал:
— Вы не сердитесь… Я понимаю вас… Сейчас понимаю, — смотрел он на их осунувшиеся лица. — Я тогда вспылил… Простите меня… Но иначе я не мог… Вы ведь учили меня и Олега честности… И вам самим было нехорошо от того, что вы задумали… Я видел…
Жена молчала, не сводя с него взгляда, словно заучивала каждую черточку, каждое движение глаз, губ, бровей.
— Гурилев! Серега! Кончай! — позвали его ребята Они стояли уже отдельной от своих родителей группкой возле теплушки, о чем-то весело говорили, изредка, как бы с превосходством, поглядывая на матерей и отцов, уже отстранившись от них своим пониманием жизни.
— Иду! — отозвался Сережа.
И ушел. И Гурилев подумал, что если и существуют две истины, то они, как близнецы, не могут друг без друга, потому что вышли из одного лона…
Он уже почти добрел до мастерских, когда за спиной его послышалась далекая стрельба. Обернулся. Там, где было село и откуда шел слабый стук выстрелов, всполошено закачалось зарево. И, вглядываясь в черное небо, обкусанное снизу огнем, он подумал, что это как-то связано с тем, что здесь, у этих бочек, побывала Лиза…
Держа часы на ладони, он повернул их к лунному свету. Десять минут третьего. Мороз все усиливался. Сквозняк подвывал в узкой дыре под крышей. А над селом все еще алело зарево, но уже опавшее…
Гурилев прикинул, что времени у него немного. Если они придут, то придут скоро. Они могут прийти сюда. Но мысль эта теперь почему-то не испугала его, скорее — удивила. Он усмехнулся: вот и произойдет какая-то перемена в его жизни. Вспомнил тещу, когда, упрекая его, говорила: «Всю жизнь вы, Антон, боялись перемен». Это означало: «Вы — неудачник, потому что никогда не могли на что-то решиться, боялись перемен».
Может, она действительно права? Случались возможности что-то изменить в жизни, семьи, сделать лучшую карьеру. Но от этого слова всегда разило чем-то нечистоплотным, хотя знал, что пути к этой самой карьере могут быть и честными, и все же не помнил, чтобы огорчался впоследствии, упустив какую-то возможность.
Однажды в город во главе бригады ревизоров приехал Виктор Шарыгин, бывший одноклассник, с которым Гурилев не виделся много лет. Встретились случайно на лестнице в банке. Шарыгин — пополневший, в коверкотовом костюме, при галстуке на кремовой рубахе, в фетровых гамашах на полуботинках — вальяжно спускался с широкой мраморной лестницы, окруженный свитой. Узнали друг друга сразу. Оставив спутников, Шарыгин бросился обнимать Гурилева, а тот, держа в одной руке дерматиновый портфельчик, а в другой ковровую тюбетейку, смущенно оглядывался.
Вечером они прогуливались по аллеям городского сада. Шарыгин громко и с удовольствием рассказывал о своей жизни, о том, каких чинов достиг в Наркомфине.
— Как ты мог застрять здесь, Антон?! — восклицал Шарыгин. — Ты же был самый способный из нас! Ты помнишь, как тебя прозвали? «Арифмометр»!.. А? Нет, я тебя вытащу отсюда!.. В Москву!.. Только в Москву!.. Заберу к себе в отдел… Бросай свою мебельную артель! Это же кустарщина! Москва стоит того, чтобы жить в ней!.. Помнишь Маяковского: «Я хотел бы жить и умереть…» И так далее… Москва, голубчик!
Гурилев смущенно кивал, соглашался. Он не думал ни о Москве, ни о должности столоначальника в Наркомфине. Его огорошил напор Шарыгина, звучавший искренне, и было неловко возражать или высказывать сомнения.
Через день Гурилева пригласили в отдел кадров местной промышленности.
— Вами интересовались, Антон Борисович, — сказал многозначительно кадровик.
— В каком смысле? — не понял Гурилев.
— Да вы садитесь, — приглашающе откинулся на стуле кадровик, будто готовясь к долгой беседе. — В том смысле, что товарищ из Москвы интересовался, как говорится, вашей анкеткой. В разумении прошлого и настоящего.
Гурилев понял.
— И что же вы ему сказали? — закусил он губу, чтоб не улыбнуться.
— Что лишенцем вы не были, в партчистку не попадали, газеты читаете, в коллективе пользуетесь авторитетом… Разве этого не достаточно?
— Вполне! — сказал Гурилев. — Простите, я должен идти. Мне надо подписать банковские документы. Сегодня зарплата. Как-нибудь в другой раз доскажете…
Дома, в лицах, он весело рассказывал жене эту историю, больше всего его забавляло, что Шарыгин все же наводил о нем справки в отделе кадров. Гурилева не обидела эта осторожность друга детства. Но когда через месяц от Шарыгина вдруг пришло письмо с конкретным предложением о переезде в Москву, Гурилев ответил деликатным отказом со множеством благодарностей, туманно сославшись на семейные обстоятельства. За всю свою жизнь он помнил всего три места службы: финчасть штаба 80-й дивизии, мебельная фабрика и потребкооперация, уже в Джанталыке…
Там что-то произошло — он смотрел на зарево в селе. Но что? Конечно, они могут прийти сюда, искать… Это так просто — он взглянул на бочки… А решающим окажется всего-то маленькая дырочка в ведре, черная маслянистая ниточка от нее… Они и доберутся сюда по ней… Найдут его… И отыщут все… Увозить корма не станут. Зачем они им?.. Но сжечь могут… Два дня труда. Люди последнее отдавали… Боже!.. Прохудилось дно в ведре! Вот что, оказывается, иногда все и решает — пустячок… Возникший в какой-то свой момент… Будь это ведро целым или проржавей оно через день или месяц… Могло бы Лизе подвернуться в сенях и вовсе другое… Так нет же!.. И потянулась ниточка к нему… Зачем Лиза приходила?.. Что же делать?.. Уйти?.. В лес, в поле, куда угодно… Или остаться?.. Выбор… Как итог всего, чем раньше жил… Соответствуем ли мы сами себе, или всякий раз наши поступки — произвол обстоятельств?.. А если все проще, как у Анциферова: дескать, время такое — война все упрощает. Нет, Петр Федорович, так вам удобней, легче существовать… Не будь войны, вы все равно упрощали бы, но по другому случаю…
И он понял, что не уйдет. Если они придут, хоть как-то помешает. Им ведь и горючее нужно… Доценко сказала… Значит, бочки эти… Помешает испоганить или уничтожить корма… Что он еще им помешает?..
Гурилев торопливо снял брезентовые рукавицы, расстегнул пальто, ватник под ним, залез в боковой карман пиджака, где лежали документы и химический карандаш, которым дорожил, выложил все перед собой. Список подворного обхода, где против фамилий колхозников, сдавших корма, стояли крестики, корешки квитанций с. вложенной' внутрь четвертинкой уже пробелившейся синей копирки… Это спрятать, тут фамилии. Паспорт. Продуктовые карточки. Командировочное удостоверение… Это он оставит при себе — его личное…
Прятать все в одно место Гурилев не стал. На листке из блокнота нацарапал: «Нашедшего прошу сдать в госбанк». Сунул записку в инкассаторскую сумку с остатками денег, а сумку затолкал меж стропил в глубокий паз под скатом крыши.
Корешки квитанций… Список подворного обхода… Они, может, и не поймут их смысла. А все же… Для него и для тех, кому выдал, квитанции эти значили многое… Да и, привыкший иметь дело с документами, он не мог допустить, чтоб по незнанию их кто-то втоптал сапогом в снег… Если же все обойдется, то ему же по этим бумажкам и отчитываться в бухгалтерии. Он завернул в носовой платок список и квитанционную книжку и положил под носилки с застывшим цементным раствором…
Все исполнив, Гурилев вернулся на свое место у вентиляционного окна. Теперь, успокоенный, он даже подумал, что слишком запаниковал, это от одиночества; что скорей всего промучается здесь ночь, а к утру либо они сами убегут, либо Анциферов вернется с нашими…
Свесившись с настила и выставив автомат, он стал ждать, пристально вглядываясь в проем, где когда-то была торцовая стена: там в лунном свете искрилось заснеженное поле. И все же момент появления немцев упустил. А немцы — их было семь человек, — разделившись на две группы, стали обходить здание справа и слева. Они были солдатами и знали свое дело. Гурилев бросился к боковому окошечку, вышиб стекло и, выглянув, увидел внизу троих. Тотчас на звон стекла отозвалась автоматная дробь, осколки кирпича брызнули ему в лицо. Но все же он высунул ствол, нажал на крючок. Автомат, словно вырываясь из неумелых рук, задергался, и длинная очередь ушла высоко в небо. Опустив ствол, Гурилев начал стрелять долгими нерасчетливыми очередями, почти не видя немцев. Короткое частое пламя на кончике его автомата ослепляло и отвлекало. Но он продолжал стрелять, надеясь отсечь немцев от стены. Внизу что-то звякнуло. Гурилев подполз к краю настила и заметил скользнувшие тени. Он понял: проникли через пролом в боковой стене. Он дал протяжную, веером, очередь — от стены к торцовому проему. Вверх к нему ответно метнулись хлесткие иголочки огня, пули вгрызались в балки, в штукатурку, летела щепа, куски известки. С него сбило шапку, он инстинктивно ткнулся головой в автомат, закрыв глаза.
И сразу же поднял голову, заметил, как темная фигура проскочила под навес к лестнице. И тут взгляд уперся в угол. Бочки!.. Надо по бочкам!.. Он повел стволом, нажал, но автомат молчал, спусковой крючок ушел до упора, а он все давил, не понимая, что диск пуст. А по лестнице уже гремели сапоги. Гурилев рвал из кармана не дававшийся, закутанный в чехольчик запасной диск, который он сам же с таким трудом затолкал туда. Наконец выхватил, вырвал из чехольчика. И тут с ужасом понял, что не знает, как его вставить. Лихорадочно, с силой отдирал пустой диск от ложа. Но металл словно прикипел… Почему же он не сказал, как это делать?.. Знал ведь… не умею… Почему?.. Почему?.. Почему?.. Обламывая ногти, пытался выдрать, вывернуть пустую круглую коробку. Что-то шаркнуло за спиной. Резко повернул голову и успел увидеть отделившийся от пола огромный сапог, словно канцелярские кнопки, на подошве блеснули кругляшки истершихся шипов-подковок. Сильный удар в грудь опрокинул его. Что-то шершавое, потное обхватило подбородок, мерзкое дыхание гнилозубого рта плеснуло в лицо; потом его поволокли за руки по настилу, по лестнице вниз…
Вели Гурилева по той стежке, по какой уходила Лиза. Немцев было трое. Четверо остались там, у бочек с горючим. Это он понял из их разговора. Немецкий знал хорошо с детства. Больше они не били его. Шли сзади, редко переговариваясь, курили, в морозной свежести резче ощущался табачный дым. Луна стояла в зените, окольцованная мутным радужным венцом. Из открытого поля тянуло ветром, он гнул редкие метелки сухой прошлогодней травы, торчавшей над снегом. А по снегу тянулась ниточка нефти, и там, где Лиза отдыхала, виднелся черный круг… «Ведро… Ведро?.. Дырочка? Нет! — вдруг ожгло Гурилева — Анциферов!.. Не в райцентр надо было… В автобат… Там солдаты, телефон… И понимал же это не хуже Доценко!.. Тридцать километров… Уже б успели сюда… И ничего бы не было: этих следов на снегу и немецких голосов за спиной…»
Болело лицо. Знобило. Только сейчас Гурилев сообразил, что идет без шапки, задувало за ворот, холодило шею, грудь, он хотел поправить шарф, но его не оказалось, потерял…
Еще на подходе к селу, у крайних дворов, в ноздри ударил запах гари — едкий и сладковато-тошнотный в чистом, настывшем за ночь воздухе. И Гурилев вспомнил: зарево!.. Пожарище он увидел, когда задами через огороды вышли к хатам, стоявшим у леса. Сгорел большой, на каменном фундаменте амбар. Рухнувшие стропила малиново дышали на ветру, по ним еще судорожно бегало рыжеватое умиравшее пламя. Кто-то расшвыривал головни длинными жердями, забрасывал комьями мерзлой земли, перелопаченной со снегом, плескал из ведер воду. Вырывались искры, курился пар, перемешанный с пеплом…
Хата была крайней, почти на выезде. За нею, сомкнутый тьмою, стоял лес. У самого забора — крытый брезентом грузовик, дверца открыта, и оттуда торчали сапоги спящего шофера.
Гурилева втолкнули в большую комнату, захлопнулась дверь, он остался один. Изнеможенно опустился на лавку под божницей, в медной лампадке едва дышал огонек. Только сейчас, в тепле, в незнакомых мягких запахах чужого жилья он ощутил тяжесть всей этой ночи, боль в каждом сочленении, вялость каждой мышцы. Начали одолевать вязкая сонливость, безразличие, нервная зевота. Он встряхнулся. Скользя взглядом по стенам, повернул лицо к иконе и тут же услышал — скрипнула дверь.
Вошла маленькая женщина, сутулая, лицо побито оспой, осторожно посмотрела на Гурилева, покосилась на дверь, молча поставила на стол керосиновую лампу, сняла стекло, приблизила лучинку к плошке и перенесла с нее огонь на фитиль лампы, экономно утопив его медным колесиком сбоку. Надев стекло, вышла.
Предметы, попадавшие в поле его зрения, были знакомы ему — валенки на печи, коробок спичек, обмылок, но казалось, будто увидел сейчас их впервые. И он подумал, что есть понятия, которые не сразу высказывают свою подлинную ценность, хотя постоянно и долгие годы сопутствовали нам, легко доступные, а потому — малозаметные. А теперь все это обрело свою настоящую цену… Так, наверное, и слова. Много их было до войны, обычных или красивых. Не всуе ли мы их произносили, не слишком ли часто, легко? Ведь каждое слово существует только для единственного случая, которому оно и соответствует, полностью совпадая с истиной… Вещи… Слова… Да и человеческие усилия, поступки… Не было ли их, не к месту, торопливо истраченных, не дождавшихся момента, чтобы проявиться со всей глубиной смысла, полезности?.. Что же в моей жизни прозвучало или совершилось вполовину и не в тот раз, когда нужнее всего?..
Он так напряженно думал об этом, говорил с собой, что стало казаться, будто не один здесь, а вступил в спор с кем-то.
И в этот момент отворилась дверь, вошел офицер, за ним несмело Лиза, а за нею — солдат.
Гурилев невольно поднялся, офицер остановил его взмахом руки. Был он высок, длинная замызганная шинель расстегнута, небритое лицо обрюзгло, по краям рта чуть провисала морщинистая кожа, будто кости под ней вынули. Он сел за стол. Солдат услужливо положил перед ним паспорт Гурилева, бесполезный уже автомат и его запасной диск.
Офицер вскинул глаза, и Гурилев увидел воспаленные, в красных жгутиках глазные яблоки, припухшие веки. Правый глаз его все время слезился, офицер мягко утирал его марлевым тампоном и морщился этой стороной лица.
Было тихо.
Офицер повертел в руках паспорт, полистал и, как бы примеривая фотографию к облику Гурилева, еще раз взглянул.
Из паспорта выпала похоронка на Олега. Гурилев сжался, боясь, что холодные белые пальцы чужого человека прикоснутся, как к открытой ране, к этому листку.
— Переведи ему, что мне некогда, — повернулся офицер к Лизе. — Скажи, чтоб не морочил голову, отвечал на все вопросы коротко и ясно. Ты поняла? Я спешу.
Лиза переступила с ноги на ногу. Гурилев видел, что она с трудом, в уме, переводила слова офицера. Худенькое лицо ее было бледно. Она уже успела переобуться, снять валенки и надеть знакомые ему детские ботинки. В коротком тоненьком пальто она выглядела совсем подростком. Покрасневшие, в цыпках руки держала защитно на животе.
— Вы сами попросились в переводчицы, Лиза? — спросил Гурилев.
— Нет, — замотала она головой. — Кто-то им сказал, что я работала в лазарете и знаю немножко по-ихнему.
— Что он сказал? — спросил офицер Лизу, прикладывая к глазу тампон.
— Я сказал, что она вам не нужна, — ответил ему Гурилев по-немецки.
— Вы знаете немецкий? — Офицер отнял руку от лица.
— Да.
— Откуда?
— До революции я учился в гимназии. Там хорошо преподавали этот язык.
— И вы не забыли?
— Как видите.
— Кто вы по профессии?
— Бухгалтер.
— Вы партизан?
— Это она вам сказала? — кивнул Гурилев на Лизу.
— Нет. Это сказали мои люди. Вы облили амбар, где ночевали солдаты, соляркой, подожгли его, а потом отстреливались… У вас отобрали этот автомат… Эта девушка сказала, что вы не местный. Вы в командировке.
— Она сказала правду. — Гурилев вспомнил о Лизе. Она стояла, все так же прижимая худенькие руки к животу, еще по-девичьи плоскому. По ее тревожному, измученно-напряженному лицу Гурилев догадался, что из его быстрого разговора с офицером Лиза улавливала, быть может, отдельные слова, не успевая понять и перевести себе смысл всего. И чтобы успокоить ее, сказал:
— Вы не нужны здесь, Лиза… Уходите… Куда-нибудь далеко. Маме скажите, я сделал что мог… Пусть так и передаст Анциферову…
— Прекратите! — оборвал офицер. — Если правда, что вы бухгалтер, а не партизан, зачем вы с автоматом, зачем подожгли амбар?
— Этих «зачем» я могу задать вам больше.
— Возможно. Но сейчас спрашиваю я. — Он посмотрел на часы.
«Спешит, — понял Гурилев. — Нельзя им долго тут… Надо потянуть время… Может, Анциферов…» И, вспомнив Анциферова, он услышал в себе его голос: «Ситуации создаю я… Я их хозяин…» И Гурилеву вдруг открылось то, что пряталось за бодрой и независимой поверхностью этих фраз. Их суть и смысл он сперва и все время потом воспринимал, как они и звучали. А произносились они горделиво, уверенно… «Но ведь это шелуха, — подумал он. — Там, в глубине, — иное: Анциферов не „создавал“, а выбирал обстоятельства, и только те, где точно мог определить, на что способен в них, а на что его не хватит… Пусть инстинктивно, он избегал таких, где ему предстояло делать выбор…» А с ним, с Гурилевым, все иначе, понял он внезапно: ситуации всю жизнь выбирали и вбирали его. А в них ему оставалось самое трудное — делать свой выбор, делать, либо соизмеряя свой последующий шаг с совестью, либо шагнуть, отмахнувшись от нее… Ах, как хотелось ему сейчас сказать об этом Анциферову, спросить… Забавно, что бы ответил он на сей раз?.. Перед Гурилевым как бы отодвинулась заслонка, загораживавшая всю прошлую жизнь. И из глубины этого тоннеля, по которому он шел десятилетия, вспыхнул свет — сильный, чистый, выделивший все, что раньше представлялось обыденным, случайным, заурядным в его жизни, к чему он по застенчивости боялся привлечь внимание других людей, считая, что ни он, ни эти подробности его существования не стоят того. Потому никогда не задумывался, что живет по внутреннему закону: не ожидание награды должно побуждать к добру. И, вспомнив свое «чему быть — того не миновать», подумал, что со стороны всем виделось только это — простая формула, оболочка. Хотя внутри нее он всегда вел борьбу своими средствами, считая, что у жизни есть законы и привнесенные извне, и другие — идущие из собственной души. И если вынужден служить первым, служи так, чтобы их оберегали законы те, другие — из своего нравственного запаса. И наоборот…
— Вы будете говорить правду? — услышал он голос офицера. — Мне некогда с вами возиться.
— Я знаю, вы спешите… Правда моя вам все равно не нужна, как мне ваша, — устало сказал Гурилев.
— Вы не годитесь в герои.
— Да ведь и вы тоже. — Он уже не боялся.
Офицер встал.
Солдат подтянулся.
У Лизы испуганно дернулись брови.
— Выведите его, Зиги! — приказал офицер.
— Слушаюсь, господин обер-лейтенант! — Солдат поджал губы. — Что с ним делать?
— Что хочешь. — Офицер махнул рукой с зажатым в пальцах тампоном.
— А девчонку?
— Пусть уходит…
После светлой комнаты ночь показалась Гурилеву черной стеной без единого рельефа. Когда сходили с крыльца, он споткнулся, едва не упал. Конвоир за спиной легонько толкнул его автоматом в плечо.
— Лиза, уходите… Вам разрешено… — быстро сказал Гурилев, уже различая узенькую спину Лизы.
Но она стояла, боясь сделать что-то не так. И лишь когда солдат стволом автомата направил Гурилева во двор, она стремительно повернула в обратную сторону и заспешила по темной улице…
Гурилев брел медленно, почти ничего не видел перед собой, с трудом передвигал обмякшие ноги, иногда улавливая позвякивание какой-то железки на амуниции конвоира. Ни на чем не мог сосредоточиться. В голове все клубилось, путалось, горячо мельтешило. Какие-то обрывки мыслей, фраз — то ли тех, что он где-то говорил, то ли тех, что собирался произнести… Захотелось спать… Ужас как захотелось спать!.. Упасть бы и заснуть… Он все боялся выстрела в спину, когда они пересекали темный двор…
Они остановились у крепкого сарая. Солдат втолкнул Гурилева внутрь, закрыл дверь, накинул переплет на проушину, громыхнул шкворень…
Обвыкнув в темноте, Гурилев у стены увидел пароконную бричку. Он влез в нее, лег обессиленно навзничь и закрыл глаза, желая одного — уснуть.
Но сон пришел не сразу, разболелась голова, виски разламывало изнутри, его чуть не стошнило. Но незаметно он начал куда-то исчезать от себя, проваливаться. Это не было сном, скорее — отсутствием. Он не мог определить, сколько так длилось…
«Терпи!» — послышалось в душе… Так говорил, бывало, отец Никодим, выкручивая ученику ухо. Терпи… Не убий… Не укради… Сколько этих заповедей!.. Но они не охватывают все зло. Его не просто больше. Оно разнообразней, разбросанней, не всегда сосредоточено в умысле одного человека, а складывается в нем из побуждений многих… Сколько же и какую доброту надо этому противопоставить?! Чтоб она не только выставила зло на осмеяние и позор. Чтоб убила его. Дабы новым поколениям его досталось меньше… И неважно имя того, из чьей души выйдет эта доброта… Но какой она должна быть? Такой, что усовестит словом или же поднесет спичку к соломе под амбаром, где спят те, кто принес зло?.. «И добро и зло имеет своих героев. Вот что самое ужасное — не только добро, но и зло имеет…» — сказал когда-то Юзеф Байдар… Чьи это слова?.. Впрочем, какая разница…
Он очнулся от голосов во дворе, их было много, они суетливо перекрывали друг друга. Говорили по- немецки. Торопливо, с выкриками. Раздавался топот сапог. На ровных оборотах заработал мотор грузовика. Сладковатый запах выхлопов проник сквозь щели. Потом все утихло. И кто-то спросил: «Что делать с русским, господин обер-лейтенант?» — «Где он, Зиги?» — узнал Гурилев голос офицера. — «В сарае». — «Я же сказал, он мне не нужен… Нам пора ехать…» Щелкнула дверца кабины.
К сараю приблизились шаги. Гурилев поднялся в бричке, хотел выбраться из нее, зацепился карманом обо что-то, услышал звук рвущейся ткани. И в этот момент распахнулась дверь. В проеме возникла знакомая коренастая фигура конвоира. Что-то металлически щелкнуло в его руках, и тотчас громкие белые вспышки прошили наугад темноту в углах. Затем солдат дал длинную очередь вдоль стены. Сперва Гурилев услышал жесткий треск досок. А потом — удар в плечо и грудь. Опрокидываясь, выставил уже немевшую ладонь, словно пытался остановить добивавшие его огненные разряды…
«Уважаемая товарищ Гурилева, — писал Анциферов. — Ваш муж, Антон Борисович, спасая государственные деньги и корма…» Он остановился, заметив на кончике пера ворсинку, осторожно снял ее и отложил ручку. Ему не нравилась фраза «государственные деньги и корма». Обыденно. Надо бы позначительней, может: «спасая государственное имущество»? Он поскреб шею, посмотрел на Доценко, сидевшую обок:
— Как думаешь, Доценко, «спасая государственное имущество» — звучит? Нам ведь вдвоем подписывать как свидетелям… А подробности… зачем они ей? Подробности, допустим, неизвестны.
Ольга Лукинична отозвалась не сразу.
— Имущество, говоришь? — раздумчиво и вроде недоуменно спросила она, встала, остановилась за его спиною, долго смотрела ему в затылок. — Пиши… «имущество»… — вздохнула. — Ты сочиняй… я сейчас… к поросенку надо… — Она вытащила из печи чугунок с распаренной картофельной шелухой и, направившись к двери, еще раз оглянулась.
Анциферов, словно почувствовав неприятное прикосновение ее взгляда, погладил то место на седом затылке, затем взял ручку и решительно ткнул пером в старую школьную чернильницу «невыливайку» с засохшими фиолетовыми разводами на белом фаянсе.
РАСШИФРОВАНО ВРЕМЕНЕМ
Повесть
Все мы при необходимости любим ссылаться на случай. Благодарим или обвиняем его, иногда относимся как к чему-то потустороннему, неестественному, что возникло вопреки логике.
Тем не менее случаи существуют повсеместно, жизнь узаконила их в любой человеческой судьбе, они происходят с кем-нибудь из нас постоянно. Как сказал Даль, «все на свете случай».
Недоверие к случаю рождается потому, что происходит он с кем-то, а не с тобой. Под сомнение ставится его истинность, сама возможность возникновения. Забываем простую закономерность: с кем-нибудь из десятков миллионов людей это должно было произойти.
…Странно, необъяснимо: я спал и вместе с тем знал, что кричу во сне. Вопль шел из нутра моего, распирал горло, душил. Я хотел, чтоб меня разбудили — так тяжко и страшно было от этого предостерегающего кого-то крика. А сам я не мог вынырнуть на поверхность реальности, чтоб унять свой голос, пытавшийся предотвратить что-то роковое…
Позже, лежа в темноте с открытыми глазами, вслушиваясь, как колотится, будто после бега, сердце, я пытался оглянуться: что же такое снилось? Однако передо мной — лишь глухая, тревожащая пелена. Но поскольку это не впервые и происходит издавна от одного и того же сна, я легко догадался, что было и в этот раз…
…Невысокое кирпичное здание буквой «П» на пригорке, сводчатые ворота в центре, узкие окна. Мы бежим к нему втроем: Марк Щербина, Сеня Березкин и я. Сквозь ворота вижу огромный двор, и тут же, споткнувшись о вбитый в подворотне рельс, падаю; поднимаюсь, вбегаю в здание и через окно замечаю, как из противоположного крыла дома выскакивает немец, волоча за собой карабин. Марк не видит немца, я кричу, чтоб предупредить. Кричу, кричу, кричу, но Марк не слышит, и тут тяжко, со сдвоенным отзвуком вламывается выстрел…
Давняя явь стала сном, он преследует меня много лет, — подробен, точен и реален, как каждая минута того далекого дня. Сон возникает по одним и тем же законам: что-то случившееся накануне отворяет ему дверь в мой мозг. Понимаю, что на этот раз был телефонный звонок…
— Ответьте Москве, — сказала телефонистка.
В трубке далекий плавающий звон, затем мужской голос:
— Здравствуйте. Меня зовут Клаус Биллингер, — говоривший слегка картавил. — Я аспирант из ГДР, учусь в Москве… Здесь в редакции журнала мне дали ваш телефон… Берлинский еженедельник перепечатал ваш очерк. Я прочитал… Там много знакомого мне по рассказам отца, по его письмам и записям… Они нашлись спустя тридцать лет… Мне трудно объяснить вам все по телефону… Среди этих бумаг оказалась тетрадь… Она, по-моему, имеет к вам отношение…
Я не понимал, о чем речь. Что за тетрадь? Но поблагодарил за внимание к моему очерку.
— Вы больше не собираетесь в ГДР? — спросил он.
— Собираюсь, но не скоро. Возможно, в марте следующего года.
— О, это не так далеко, — сказал он, полагая, что время — категория, равная для любого возраста. — Через месяц я уже буду совсем дома… Закончу приводить в порядок бумаги отца… Запишите мой берлинский номер и обязательно позвоните…
И вот — март следующего года. Конец месяца застал меня в Дрездене, откуда я должен был возвращаться в Берлин, где, помимо прочих дел, собирался позвонить Клаусу Биллингеру…
Встретились мы в вестибюле «Боулинг-Центрума». Он пришел после работы — невысокий лысоватый парень, выглядевший старше своих лет от рано облившей его полноты и больших очков с сильными стеклами, за которыми светло-серые глаза казались чуть навыкате.
Большой коричневый портфель его раздулся, выступ застежки едва держался в скобе. Я понял: четверг последней недели марта, канун пасхи, когда делают закупки.
Столик мы заняли близко к барьеру, за ним — размеченное на дорожки широкое игровое поле. Странным выглядело оно в уютном ресторанном зале. Люди, взопрев от усердия, кто в спортивных костюмах, кто просто в рубашках с закатанными рукавами, швыряли массивные шары размером с баскетбольный мяч, прихлебывая пиво.
Шары, тяжело гудя по твердому настилу, нацеленно неслись вдоль дорожек к треугольнику из десяти кегельбанных кукол. Каждый старался сбить их побольше. Куклы падали, проваливались под пол, а автоматические ухваты, звякая, выстраивали их заново. Шар так же автоматически-тайно возвращался к игрокам, и все повторялось сначала. Стоял беспрерывный гул катящихся шаров и грохот падающих кукол. На типографски отпечатанных бланках игроки вели какой- то подсчет.
Клаус пытался объяснить мне смысл игры в боулинг, но я понял лишь, что плата за один час пятнадцать марок, что любители приобретают годовые абонементы, получая по ним право поиграть раз в два месяца (слишком много желающих!), что, наконец, его, Клауса, дядя имеет такой абонемент от либерально-демократической партии, будучи членом одной из ее организаций в Шилдове, что в часе езды от Берлина…
— У вас есть еще дела в Берлине? — спросил Клаус.
— Есть.
— Но раньше понедельника вы ничем заняться не сможете: пятница, суббота и воскресенье — мертвые дни, пасха. Я предлагаю на это время поехать ко мне. Что вам скучать в гостиничном номере? Мы живем недалеко от Тирпарка. Квартира большая.
— Удобно ли? — усомнился я. — Пасха ведь, семейный праздник.
— У нас это не так серьезно, уже давно — ритуал быта, не больше, чем привычка. Мама в субботу уезжает к дяде в Шилдов, а ухаживать за нами будет моя сестра Марта.
Видя, что я все же колеблюсь, он добавил:
— Есть еще один аргумент в пользу моего предложения: за эти три дня вы просмотрите бумаги отца.
Я согласился.
Официант принес на тарелочке счет, деликатно прикрытый салфеткой, поставил перед Клаусом. Он близоруко склонился, заглянул под салфетку, выписал чек, вложил его в свой паспорт и подал официанту. Затем паспорт был возвращен, и после этого протокольно обстоятельного, но и удобного безналичного расчета мы покинули зал «Боулинг-Центрума». На Александерплац нырнули в метро. Час «пик» еще не начался, в вагоне удалось сесть.
— Дело вот в чем, — сказал Клаус, пристроив пузатый портфель у ног. — За три месяца до того, как я разыскал вас и позвонил вам, умер мой отец. Тяжелый диабет. А два года назад во время разбора руин на Ляйпцигерштрассе в дымоходе разбитой котельной рабочие нашли мешки полевой почты вермахта, опечатанные военной цензурой. Они были доверху набиты письмами солдат с Восточного фронта. Пролежали в развалинах около тридцати лет. Кто их туда сунул, зачем — сказать трудно. В одном из них оказались письма и дневник моего отца. Вместе с ними, завернутыми в кусок брезента и перевязанными телефонным кабелем, была и тетрадь, о которой я говорил.
— Каким образом тетрадь может иметь отношение ко мне?
— По-моему, самое прямое. Девяносто девять за то, что я прав. Больше не скажу ни слова — сюрприз, — засмеялся Клаус. — Когда я прочитал ваш очерк, я тут же принялся вас разыскивать в Москве. Отец много возился со своими воскресшими бумагами, что-то расшифровывал, уточнял, дописывал… Выходим, мы приехали, — Клаус быстро поднялся, подхватив портфель…
Вечером мы пили кофе со сливками, сыром и гренками, которые мать Клауса фрау Криста Биллингер готовила, как сказал он мне, по рецепту из календаря. Сама же она, худая высокая женщина, с лицом напряженным, словно от давней неизбытой заботы, неслышно выходила и входила, ни разу не подсев к столу. Развлекала нас Марта — рыженькая смешливая двадцатилетняя сестра Клауса. Говорила она без умолку, очевидно демонстрируя мне свое знание русского языка. Марта работала продавщицей в магазине военторга, где покупатели — в основном жены советских военнослужащих.
Сперва меня смущала холодность хозяйки, ее ни на чем не останавливающийся взгляд, неучастие в застолье; щебетанье Марты казалось мне желанием как-то сгладить сухость матери. Но постепенно я понял, что ко мне это отношения не имеет, что все происходит в том порядке, каким обычно живет этот дом.
Вскоре фрау Криста Биллингер сняла передник, включила телевизор и села в кресло. Западный Берлин транслировал предпасхальную передачу из Мюнхена. Программа называлась «Небесная весть», после чего, объявил диктор, в исполнении драмкружка евангелической общины пойдет религиозная пьеска со странным названием «Куда с таким количеством тухлой рыбы».
И тут возник конфликт: Марта хотела смотреть по другой программе какой-то фильм, ждала его целую неделю. Не знаю, чем закончился спор, — Клаус, посмеиваясь над матерью и сестрой, увел меня в свою комнату…
— Что ж, приступим, — он извлек из кармана связку ключей в кожаном футлярчике, долго перебирал их, близко поднося к глазам, наконец, нашел нужный, отпер ящик письменного стола и вытащил две пухлые папки. — В этой — оригиналы, — сказал он, откладывая, — а в этой фотокопии, — он протянул мне папку. — Здесь есть и письма, которые дошли с фронта благополучно, часть хранилась у матери, часть у родителей отца. Мать всем этим очень дорожит и никуда из дома не дает. Поэтому для себя я сделал фотокопии…
Открыв папку и бегло перебрав плотные, одинакового формата листки фотобумаги, я поднял глаза на Клауса. Я даже не заметил, в какой момент в его руке оказалась общая тетрадь в слинявшем сером коленкоровом переплете.
— Вот, — сказал он, кладя ее передо мной.
Обыкновенная, общая, девяносто шесть листов, невероятно старая, иссохший коленкор в трещинах, кое-где на корешке он вовсе истерся, обнажив швы с побуревшим клеем на марле и поржавевшие скрепки.
Оставалось открыть тетрадь, что я и сделал. И взгляд мой пристыл к первой странице: на пожелтевшем листе в широкую линейку с красными фабричными полями по-русски было написано «Дневник», а ниже — моя фамилия, имя и довоенный адрес. И еще: «Начат 1 сентября 1939 года». Все написано моим школьным, но уже взрослевшим почерком, запретным для учеников пером «рондо». Я узнал все это сразу или же вспомнил сразу. И не только это. В моем мозгу, как падающая звезда, пронеслись десятилетия, впечатанные в них события, человеческие лица, целые и уничтоженные города, грохочущие эшелоны и ветер от них, пахнувший мазутом и паровозным дымом, — огромный пестрый мир, озвученный голосами людей…
— Ваш? — услышал я Клауса.
— Как он попал сюда?.. Впрочем…
— Все здесь… И ответ на ваш вопрос, — он показал на папки. — Эту, с фотокопиями, возьмите себе.
— Кем был ваш отец?
— До войны подручным у провизора. В 1940 году его призвали в армию, в строй отец не попал — сильная близорукость с астигматизмом. Его определили в армейскую аптеку при лазарете. Расфасовывал порошки, мыл колбочки… Остальное и главное вы узнаете из его бумаг. Я не знал, как ими распорядиться. Просто сохранить на память или показать в какой-нибудь редакции, издательстве? Я не был уверен, что это может кого-нибудь заинтересовать. А потом прочитал ваш очерк. Вот так, — он умолк, склонив голову, готовый слушать меня.
Но что я мог ему сказать в тот момент?
— Здесь все в хронологическом порядке, — снова заговорил Клаус. — Что ж, до завтра. — Он вышел.
Прошла неделя моего пребывания в Берлине, три дня из нее я прожил у Биллингеров. Клаус вызвался проводить меня до аэропорта в Шенефельде, а до электрички с нами пошли Марта и пятилетняя Эрика — соседская девочка, которую родители, уехавшие в отпуск, подкинули Марте.
Мы стояли на платформе в ожидании электрички. Эрике наскучили наши разговоры, у Марты она выклянчила марку, разменяла ее в киоске «Митропы» и развлекалась: став на весы-автомат, опускала в щель монетку, взвешивалась, а за следующую денежку получала порцию туалетной водички из этого же автомата. В весы было вмонтировано зеркало, Эрика на цыпочках тянулась заглянуть в него, чтобы пригладить ладошкой светлые легкие волосы, смоченные пахучей водичкой…
Так и запомнилась она мне: курносая, с высокими скулами, стоящая на цыпочках.
Уже сидя в электричке, я подумал: мир для этой девочки состоит из конкретных вещей и явлений- символов. В основном — добра. Понятие зла приходит к ней еще из сказок. Эти три дня, выходя в сад, я учил Эрику ездить на роликовых коньках по асфальтированной дорожке; разок сходил с нею в Тирпарк, где она потащила меня в «Бремхауз» смотреть хищников, живущих в открытом вольере.
Наверное, я для нее тоже остался отзвуком добра, как отец Клауса, «опа Конрад» — дедушка Конрад. Попробуй, сообщи ей я или кто другой из взрослых, что «опа Конрад» мог убить меня, а я его! Что рухнет в ее душе?!
Пройдут годы. Из учебников и книг Эрика узнает, что была война, кто с кем и почему воевали. Узнает она, что были Освенцим, Майданек и Равенсбрюк. Но сможет ли она понять, как это тот конкретный «я», что учил ее ездить на роликовых коньках, и конкретный «опа Конрад», на коленях у которого она любила сидеть, могли убить друг друга? Мир для нее уже будет делиться по четким признакам на хороших и плохих людей, на добро и зло. Но я и умерший Конрад Биллингер будем пребывать в ее памяти рядом. Способно ли будет то время ответить на все ее вопросы, если уже сегодня это не так просто сделать, потому что подробности растворяются в общих понятиях, которые не всегда принимаются на веру, а если и принимаются, то только разумом. Значит, сохранить подробности? Но не возбудят ли они новые вопросы, в которых будут недоумение, горечь и недоверие? Нужно ли это делать? Если да, то следует помнить, чем рискуем, когда в своем рассказе, оглядываясь на прошлое, станем угодничать перед настоящим…
Автостоянка около аэропорта была забита машинами с западногерманскими номерами. Их владельцы улетают отсюда по делам и в отпуск по всему миру: из Шенефельда им дешевле, чем из аэропортов ФРГ, а машины ждут их возвращения, благо стоянка бесплатная.
Объявили посадку. Я поблагодарил Клауса за гостеприимство и, разумеется, за то, что разыскал меня, чтоб возвратить дневник. Он лежал в моем чемодане в папке вместе с фотокопиями бумаг покойного Конрада Биллингера, а от его сына я получил право распорядиться ими по своему усмотрению. Я ничего не пообещал Клаусу заранее, бегло просмотрев письма и дневник его отца. С Клаусом мы могли встретиться лишь осенью, когда он приедет в Москву на какой-то симпозиум химиков.
Клаус заметил, что благодарить его не за что, никаких хитроумных комбинаций выстраивать не пришлось: просто на глаза ему попалась моя фамилия под очерком в еженедельнике, который он выписывает уже десять лет, где упоминались события, знакомые ему по рассказам и дневнику отца. Остальное было делом двух-трех телефонных звонков, на последний из которых я и отозвался. Ему повезло, шутил Клаус, что я уцелел на войне и стал писать очерки. Вот и все Ведь имелись и другие варианты, улыбался он и, загибая пальцы, перечислял: дневник его отца мог попасть ко мне; отец его или оба мы могли погибнуть, я не умел бы писать очерки; оба мы могли не веста никаких дневников; находились бы на разных фронтах и т. д.
Мне хотелось сказать этому молодому немцу что-то хорошее, приятное, но обычные, обязательные для такого момента слова давно утратили искренность. И я просто похлопал Клауса по плечу, в проходе еще раз оглянулся и прощально поднял руку…
В первое же воскресенье по приезде я пошел к Лосевым.
Когда-то нас было четверо: Витька Лосев, Сеня Березкин, Марк Щербина и я. Из школы вместе ушли в одно пехотное училище. За месяц до выпуска, не получив своих кубарей на петлицы, отбыли на фронт Выгрузились из эшелона и с марша — в бой. Так и началось. Нам везло: все время были вместе. После первого ранения мне удалось вернуться в свой полк. Уже младшим лейтенантом. Витька Лосев сказал тогда: «Обскакал ты нас: пока мы воевали — звание получил». Не завистливо, а удивленно сказал. Лосев никогда не завидовал, а лишь удивлялся, считал, что самый способный среди нас — он. Тем более на войне. Сеню Березкина вообще в расчет не брал. Тут, пожалуй, Лосев не ошибался. Березкин был хилым и всегда неловким человеком, во время разговора вскидывал голову, а веко левого глаза прищуривал, будто вслушивался во что-то. Был он совершенно нелепым для армии существом. Что ни надевал, все выглядело карикатурно: гимнастерка почти до колен, шинель горбом на спине, обмотки постоянно сползали. И вечно простужен. Особенно донимали его строевые занятия. Лишенный чувства координации, Семен по команде «шагом марш» вперед выносил левую ногу и левую руку одновременно, вроде боком выступал. Другой захоти так — не получилось бы, а у Семена — только так. Намаялись с ним взводный и старшина, и смеху было, и горя, а потом махнули рукой.
Зато был у Семена редкостный слух, играл на баяне, на пианино, на мандолине. Мелодии из фильма «Большой вальс» знал наизусть…
Было нас четверо. Теперь я один, недавно не стало и Виктора. В некотором смысле под моей опекой остались жена его Наташа и дочь Аля. Внешне ничего в их доме не изменилось. Обе привыкли к моим посещениям, но старались держаться независимо, хотя я понимал, что без Виктора их материальное положение значительно ухудшилось.
В этот раз я пошел к ним вручить подарки из Берлина: Наташе — пудреницу, Але — купальник. Так полагалось еще и потому, что этот порядок давно завел Виктор. Он часто бывал в заграничных командировках и любил привозить подарки не только жене и дочери, но и друзьям. Слыл широким и добрым, но счет одолжениям вел: кому и какой значимости; не терпел, когда это забывали. Едва появились газовые зажигалки «Ронсон», он тут же привез мне такую из Англии. Я знал, что в руках у спекулянтов она полсотни, сказал ему об этом. Он засмеялся: «Ты только рассказывай всем, что это я привез, мне этого достаточно». Делая подарки, как бы получал удовольствие, мол, это он достал первым…
Дома была только Наташа.
— А где дочь? — спросил я.
— В библиотеке. Топанатомию зубрит. Ну, как съездил?
— Хорошо.
— Чаю хочешь?
— Давай…
Пока она возилась на кухне, я вытащил из портфеля подарки, обвел взглядом комнату. Стены потемнели, на потолке проявилась желтизна, разошлись трещины. С ремонтом нахлебаются, то ли дело при Викторе. Я посмотрел на его фотографию в тонкой металлической рамке над тахтой. Точка съемки была необычной: куда бы я ни смещался — вправо ли, влево ли, — его глаза будто передвигались за мной, вроде он следил, что делаю в его квартире, о чем говорю с его красивой еще, легкой в движениях женой, словно только сейчас Виктор спохватился, как давно и тайно нравилась мне Наташа…
Впервые я увидел Наташу еще школьницей на маленькой фотографии, а познакомился, когда она стала уже студенткой и Витькиной женой. Все было хорошо, а главное — просто, потому что мы оставались друзьями.
Однажды мы лежали с Витькой на пляже, на горячем песочке, ногами к воде, уперев подбородки в скрещенные руки. Наташа ушла в кабинку переодеваться. Она вышла оттуда и направилась к нам. Я наблюдал ее приближение, и вдруг будто увидел незнакомую молодую женщину: в тугом оранжевом купальнике, высокую, с плавно выгибавшейся линией бедер.
Было в тот день много света, плеска воды, синевы неба, август истомно дышал солнцем, запахами настоявшейся полыни и чебреца, теплый ветер приносил их к берегу с рыжих сухих холмов степного Крыма.
Я вдруг увидел Наташу всю: ее спокойное лицо, прямую шею, шевельнувшиеся нетерпеливые губы, жадно подпухлые, без малейшего следа помадной влажности; длинные ноги были сомкнуты той легкой полнотой и силой, какие появляются у женщин после родов; и грудь ее налилась счастливой материнской нестыдливостью: Альке только что исполнился год…
— Хороша у меня жена, а?! — словно пробудил меня Витька. — Моя! Сам выбрал, — хохотнул он. — Что молчишь? Вон как расцвела со мной. У тебя бы такая усохла.
— Пошел к черту! — я встал и побежал к воде…
Вот так неожиданно оно началось во мне и длится уже бог знает сколько, с годами изменившись, став мудрее, трезвее, что ли, перейдя в привычку, которой я давно научился управлять. И потому я ходил в этот дом много лет просто и естественно, без страха выдать себя или кого-то предать…
Теперь же, без Витьки, все становилось несколько сложнее, двусмысленнее. Но едва ли Наташа это понимала.
Я снова посмотрел на Витькин портрет. Глаза его опять следили за мной, и было ощущение, что вот-вот он шевельнет бровями и скажет мне нечто важное, чего не успел: скованные немотой губы как бы кривились в мучительной, но безнадежной попытке разомкнуться…
Спокойно поблагодарив за подарки, Наташа, почти не разглядывая, переложила их со стола на сервант, постелила салфетку из соломки и подала чай.
Я вкратце рассказал ей о поездке, поговорили об Але — у нее есть парень, молодой врач, приехавший откуда-то на курсы по повышению квалификации, дело, кажется, серьезное…
— Слушай, я хочу продать машину. Помоги. Просто не знаю, к кому обратиться, — сказала Наташа.
— Ты из-за денег?
— Теперь она нам ни к чему…
Одним из первых Витька купил «Жигули», хотя стоял в очереди на «Москвич». Он любил первые вещи.
— Не спеши, это всегда успеешь. Пусть Альке останется. Вдруг зять попадется хороший.
— Деньги теперь мне тоже нужны.
— Лучше продай охотничьи ружья. Он знал в них толк, барахло не покупал.
— Я уже договорилась с одним из «Военохоты».
Эта прыть Наташи меня удивила.
— Правда, не хватало «Меркеля». Самое его дорогое ружье, но недавно мне его привезли из Сысоева леса. Последнее время Виктор любил охотиться там, — странно повысила голос Наташа. — Оно хранилось у его приятеля-лесничего. А привезла его женщина. Биолог. Работает в Сысоево на опытной станции… Так что ружья я почти продала, — вздохнула она и поднялась. — Между прочим, вчера звонили из его главка, поздравляли: французы купили лицензию…
Я знал эту историю. Виктор с группой инженеров разработал очень экономичную, по его рассказам, технологию производства панелей для домов. Дрался за это тяжко, — не верили: строитель, производственник, а туда же — в изобретатели. «Я им докажу! У себя на домостроительном! Сам! — шумел он. — Предлагают, понимаешь, передать это в НИИ. Вот им! — делал он выразительный жест. — Сам докажу!» Любил он это слово «сам». Теперь, оказывается, французы купили…
В прихожей, когда я одевался, Наташа неожиданно спросила:
— Он с тобой всегда был откровенен?
— Что ты имеешь в виду? — удивился я.
— У него была женщина. Я недавно узнала. Красивая. Та самая, биолог, что привезла ружье. — Наташа смотрела мне в глаза, в ее зрачках было такое напряжение, что я ощутил, какими силами дался ей равнодушный тон.
— Ерунда какая-то! Кто это выдумал?.. — возразил я, не раздумывая..
— Нет, это правда, — упрямо сказала она, будто ей действительно нужно, чтоб это оказалось правдой, которая должна подтвердить в Витьке что-то еще, чего не знал я, но что угадывала она, жена его.
— От него я никогда ничего не слышал, — честно сказал я. — Зачем ты себя терзаешь? Даже если что-то было… случай… Какое это имеет значение сейчас?
— Имеет… Тебе не понять. Ладно, не мучайся, иди…
По дороге я думал: может, мне действительно чего-то там не понять, но ей-то что даст это понимание? Хочется еще пожить в прошлом? Свершить в мечтах то, что не удалось в реальной жизни?.. Вспомнилась любимая Витькина фраза: «Не надо мелочиться, иначе самое важное покажется никчемным». Когда-то Наташа повторяла ее, теперь эта бодрая фраза не устраивает ее. Что поделать!..
Постепенно семейные дела Лосевых отошли в сторону, и когда я уже подходил к дому, вовсе забыл о них: меня ждала работа — папка с бумагами Конрада Биллингера.
Конрад Биллингер. Солдат вермахта… С конца 1943 года мы с ним находились чуть ли не рядом, противостояли, нас разделяла ничейная полоса, лежавшая между окопами. Мы перемещались почти одновременно в направлениях, в каких двигались наши фронты. Было и так, что либо я его, либо он меня мог убить. Продолжалось это до конца войны…
Я понял это, читая его письма и дневники. Начинались они с ноября 1942 года. Похоже, попотел он немало: дневники подробно развернуты, видимо, дополнены, обрели повествовательный, беллетризованный характер. Мои же фронтовые записи — просто телеграфный текст, оборванные фразы и слова, что-то из них и расшифровать, пожалуй, уже не смогу — позабылось. Да и что мог в тех условиях пехотный офицер, командир роты? И все-таки интересно выбрать у себя даты, совпадающие с пространными записями Биллингера, и сопоставить, попытаться вспомнить…
Но для начала — запись Конрада Биллингера, сделанная незадолго до смерти:
«…Теперь, когда все отдалилось во времени и как бы остановилось, отстоялось в истину можно пристальней вглядеться в лица, в судьбы и в смысл происходившего, все понять, чтоб не пытаться искать прощения себе и другим. Волей господа или случая (так будет удобно для верующих и неверующих) кое-что из того, что я писал домой с Восточного фронта и записал, будучи там, уцелело в заплесневелом мешке, опечатанном военной цензурой. На этот раз обманул их, воспользовался их же методом: спрятал краденое в кармане полицейского и тем спас свои слова и свои мысли. Я хотел их воскресить, ведь за каждым сокращенным словом и недописанным предложением были живые люди, их судьбы.
Но воскресить не для того, чтобы потешить свою память воспоминаниями о молодости или испытать свои силы в писательстве. Мне это не нужно. Делал без расчета, что попадется кому-нибудь на глаза. Тем не менее делал, хотя даже себе не мог объяснить зачем…
Из Дюссельдорфа приезжал некий господин Блюм- мер, из издательства, прослышавший про мешки, ездит по обеим Германиям, желая приобрести их содержимое.
Я спросил:
— Зачем вам это?
— Сейчас снова издают много книг о войне. Вы хорошо заработаете.
— Что мы, немцы, можем писать о войне? Что могут писать побежденные? — спросил я. — Искажать факты? Побежденным всегда хочется выглядеть лучше. Так ведь результат известен. Оправдываться? Какой смысл, если ничего исправить нельзя?
Все же он выпросил мои бумаги посмотреть, унес в гостиницу. Явился через несколько дней.
— Мне жаль, если я не смогу вас уговорить, — сказал он. — Похоже, в вас погиб способный литератор. Это почти готовая книга.
— Это не так важно, — заметил я. — Неизвестно, кто в ком погиб. Их было слишком много, погибших… До свидания, господин Блюммер».
1942-й годжжжжж.
«22 ноября, воскресенье.
Здравствуйте, отец, мама и сестренка Хильда!
Не знаю, когда к вам придет это письмо, но как бы ни было, оно станет божьей вестью, что я жив. Сегодня день поминовения погибших, и каждый из нас рад, что поминают не его. Фюрер научил нас не бояться смерти. По-моему, я уже не боюсь ее, страшит только мысль быть похороненным именно здесь, за тысячи километров от дома, в мерзлой чужой земле.
Хотя, казалось бы, какая разница?
Два дня назад еще стоял промозглый осенний туман, и вдруг выпал снег, началась сильная метель — пришла русская зима. Для меня вторая уже. Сегодня очень холодно.
В аптеке работы хватает, но ходят слухи, что нас, тыловиков, переведут в строй, хотя у медиков забот по горло. Это мне сказал Альберт Кронер. Он хороший хирург и хороший парень. Передайте Марии Раух, пусть чаще ему пишет, не то пожалуемся в Союз[4], что одна из его активисток забывает свой долг перед воинами Германии, сражающимися под Сталинградом…
Только бы скорей миновала зима, а там, даст бог, все наладится. Вы спрашиваете: какая она, Волга? Большая, широкая, а вода, как в Шпрее. А нам нужно туда, за Волгу!
Да хранит вас бог!
Ваш сын и брат Конрад Биллингер».
«22 ноября.
Наши жмут немцев под Сталинградом. А я валяюсь в госпитале. Уже целую неделю. Еще по дороге узнали: едем в Казахстан. Не был никогда. Городок наз. Кара-Курган. Госпиталь в бывшей школе. Палата большая, коек двадцать. Залита солнцем. Все — бело: от простыней, нательных рубах, бинтов. Моя койка у стены, под окном. Знакомых никого, кроме тех, с кем был в одном вагоне. Нога болит, кость ломит. Отсыпаюсь и слушаю радио. Читать нечего, да и не хочется. Сколько же прокантуюсь здесь?.. Возле меня все время вертится какой-то стриженый.
День истек быстро. Стемнело как-то торопливо. Свет долго не зажигают, писать трудно. Палата затихла, погрузилась в тоскливую пору сумерек. В этот короткий промежуток между ужином и сном одолевают раздумья, и раны начинают болеть сильнее…»
Уже после войны, в 1947-м, я опять побывал в этом городке, все еще пытаясь разыскать следы Лены, хотя письмо из НКПС вроде и подвело под всем черту…
Но сначала была осень 1942-го.
В Кара-Курган поезд прибыл ночью. Нас долго держали на запасных путях. Сквозь дрему я слышал голоса за стеной, хлопали крышки букс, отзванивал молоток, простукивавший тормозные колодки, шуршали шаги, в чьих-то руках раскачивался фонарик, и свет его, удаляясь, метался по окнам темного вагона. Кто-то крикнул:
— Что за поезд?
— Санитарный с фронта. Раненые. Будем подавать на первый под выгрузку.
Многие проснулись. Одни просили пить, другие — свернуть цигарку, третьи — судно.
В соседнем купе моряк без одной ноги кричал:
— Сестра, а сестра… морфию дай! Слышь, морфию, говорю. Болит, спасу нет… Оглохла, что ли?!.
Моряк еще долго ворчал и матерился. Потом началась выгрузка.
Было холодно. С гор тянуло ледниковым дыханием. На площади перед маленьким глинобитным вокзальчиком выстроились санитарные машины и грузовики.
То ли от стужи, то ли от того, что почти не спал, знобило. Я лежал на носилках под шинелью. Светлевшее небо еще было исколото белыми морозными звездами. Носилки стояли на булыжнике, пахло навозом, мочой, бензином и пылью. Санитары покуривали, хрипло откашливались, ждали команды: кого в какую машину. Сестры суетились: шла сортировка. Откуда-то хлестнул ветер и принес тошнотную вонь. Я вспомнил лето, зной, вздувшиеся трупы и теплую эту вонь, когда задувало с немецкой стороны. Вонь была похожа на эту, сладковатую.
Кто-то на соседних носилках спросил:
— Что это так смердит?
— От нас от всех, — ответили ему.
— Дурень, я серьезно.
— Жом. Вон телеги стоят груженые.
— Что за жом?
— Отработка от сахарной свеклы. С завода. Жом и патока. Слыхал про такое?
— Значит, и спирток должен быть, — откликнулся кто-то третий.
— Ишь, резвый! Спирток ему нужен, доходяге…
Сперва загрохотали по булыжнику телеги, похожие на корыта с высокими бортами. За ними тянулся мокрый след — жижа вытекала в щели. Затем поехали и мы…
В палате было тепло. Я прикрыл глаза. Угрелся. Озноб уходил из меня, и я погружался в какой-то ватный покой, за обморочную пелену, временами возвращаясь в явь, и тогда слышал обрывки фраз троих людей в белых халатах, стоявших в изголовье:
— Голень… Осколочное… Дважды скоблили…
— Где температурный лист?..
— На боли не жалуется?
Я понимал: обо мне. Я не жаловался на боль, уже отупел от нее, она была постоянно при мне, точно приросла. Только попросил привычно:
— Мне бы перевязку.
— Сделаем, милый, обязательно сделаем, — женский голос…
Они ушли…
Начиналась моя госпитальная жизнь.
Очнулся я от прикосновения чьей-то торопливой руки.
— Градусничек возьми, младший лейтенант, — передо мной в стершемся синем байковом халате, в кальсонах и ботинках на босу ногу стоял стриженный наголо паренек.
— Ты кто? — спросил я.
— Из выздоравливающих. Помогаю вот сестричкам, — улыбнулся щербатым, вроде как беззубым ртом и отошел к другим.
Я не слышал, кто и когда заботливо разложил мои вещи на тумбочке: трофейный складной прибор вилка — ложка — нож, химический тонкий карандашик, общая тетрадь — мой дневник, начатый еще в школе. Опущенный в белую эмалированную кружку, чтоб было громче, щебетал наушник…
В обед Стриженый паренек появился опять: на деревянном подносе разносил пайки хлеба и компот из урюка. Подсел.
— Перевязку сделали? — спросил. — Ну, как?
— Живой.
— Это главное, — расплющил он щербатый рот, зубы у него искрошены, от этого улыбка — детская, жалобная.
— Тебя как зовут? — спросил я.
— Шурка.
— А зубы кто выбил?
— Связист я. В спешке не всегда плоскогубцы или там нож под рукой. А еще если немецкий кабель попадется, — попробуй, сгрызи оплетку — камень! Да еще срастить надо, сжать понадежней. Чем, как не зубами? А сталь пружинистая.
— Дали, значит, тебе фрицы по зубам?
— Однако и у них звон в ушах пошел. Слушал небось, как под Сталинградом, — кивнул он на наушник в кружке. — Ладно, пойду я. Ты, ежели чего надо будет, скажи. Заскучаешь, в домино захочешь или в шашки-поддавки, тоже сгонять можем…
— Ты кто по званию, Шурка?
— Рядовой, кто же еще?!
— Я ведь младший лейтенант, что ж ты меня на «ты» все время? — схитрил я.
— Дак тут мы все голые. А там — другое дело, — серьезно ответил он. — Обиделся, что ли?
— Нет, так просто…
Когда он уходил, я заметил на выбритом затылке — от уха до шеи — широкий багровый шрам…
«2 декабря, среда.
Телефонист Густав Цоллер в углу грызет галеты.
Очень холодно, и постоянно хочется есть. Эти два ощущения заволакивают мозг. Только и что готовимся к прорыву отсюда.
Мы живем в подвале разрушенного дома. За ним — огромный овраг, заметенный снегом. Еще с осени на его краю стоял разбитый штабной „Хорьх“ с эсэсовскими рунами на дверцах. Вчера в нем нашли мертвого унтера Майера. Чего он залез в машину? То ли замерз в ней, то ли застрелился. Труп его не могли разогнуть. Майер служил в Потсдамской дивизии и всегда гордился, что ее тактический знак — старый прусский гренадерский шлем. Что с того? Майера похоронили в давней воронке. Солдаты не очень старались углублять ее, их распухшие пальцы с трудом удерживали лопаты. Была сильная метель. Ветер задрал борт шинели на мертвом, и я увидел в петлице черно- бело-красную ленту Железного креста. Но тут же с солдатской лопаты на этот знак доблести полетел снег, перемешанный с серыми комьями мерзлой земли. И Майера не стало. Исчез…
И все-таки надо жить. Надо верить. Нас здесь сотни тысяч. Мы нужны Германии. И есть люди, которые помнят о нас и делают все, чтобы и мы помнили, кто мы и зачем мы здесь. „Можно забыть, недосчитаться одного человека (все-таки война!), но не всех“, — так говорил покойный Майер. Мне досталось его одеяло. Вечером Альберт принес его мне — темно-серое, с двумя красными полосами по краям; нижняя, где выткана надпись „ноги“, была полуобгорелая, зато на верхней гордо проглядывали слова „немецкий вермахт“.
Принес Альберт и бутылку ротшпона.
— Давай кружки, — сказал он.
— Ты же держал ее к рождеству.
Он махнул рукой и разлил вино. Холодное, оно ломило зубы, но по телу поплыла нежная теплота, голодный желудок сперва с трудом принимал алкоголь — меня замутило, потом прошло, и приятное опьянение толчками приливало к голове. Я заговорил о скором рождестве, вспомнил, как мы праздновали его дома, как бежали в школу на спевку. Наш хор считался лучшим. Косоглазый Шлиммель поднимал камертон и говорил: „Дети, вы готовитесь к празднику первого адвента. Вы будете петь накануне самого пришествия Христа. Вы должны так спеть, чтобы все ангелы прослезились“. Как мы радовались, что в эти дни нам не задавали уроков! А потом мы неслись на угол Грейфсвальдерштрассе со стороны Алекса, там недалеко была кондитерская, и мы покупали пирожные. Там я и познакомил Альберта с Марией Раух. Он был на два класса старше нас, у него уже водились свои денежки, и он угощал нас пирожными с апельсиновой водой…
Пока я все это говорил, Альберт молчал. В подвале было холодно, железная печь быстро остывала. В лампе кончался карбид, и она слабо освещала наши лица с глубокими тенями под глазами.
В дальнем углу вообще темно. Там возился возле печки толстяк Густав Цоллер — сорокалетий немногословный мекленбуржец.
— Ты слишком много вспоминаешь— сказал вдруг Альберт, допивая вино.
— Но иначе можно превратиться в животное — ответил я.
— Ах, чистюля! Ты боишься превратиться в животное! А как же остальные? Полагаешь, именно ты и есть самый необходимый Германии человек, а остальные — дерьмо, пусть превращаются в скотов?!
— Ты меня не так понял. Думаешь, вспоминать легко? — удивился я его вспышке.
— Я просто хотел сказать, что не нужно ничего вспоминать. Убеди себя, что ты родился среди воронок, обрушившихся окопов, окоченевших трупов, в бесконечном холоде, что никогда не знал ни сытости, ни чистой постели, ни тепла женского тела, только — это, — обвел он рукой подвал с белой изморозью на стенах. — Сожрать гуляш из мерзлой конины, пахнущей потом, и тут же в углу помочиться. Все прочее выбрось из головы, чтоб не свихнуться.
— Это рецепт врача? Ты ведь не психиатр, Альберт.
— Рецепт для 6-й армии. Иначе войну не выиграем.
— Чей рецепт?
Он долго молчал, делая, что раскуривает отсыревшую сигарету, затем повторил:
— Для всей 6-й армии. Понял?..»
«2 декабря.
Дела мои идут неплохо. Так сказал Василий Александрович, хирург, — огромный, халат до пола, рукава закатаны, руки мясистые, в седых ворсинках. Со страхом ожидаешь их прикосновения. Пухлые, но ловкие пальцы его холодны, будто только что окунал в полынью…
— Танцевать будешь, — сказал он сегодня. — Сперва на костылях. На фронт хочешь? Сводку слушал? То-то!..
Сперва отсыпался. Времени свободного много. Чтоб побыстрее шло — пишу дневник, все равно безделье. На тумбочке удобно, не то что в окопе или блиндаже… Шурка интересуется, что я сочиняю. Киричев нагл с ним. Это начинает надоедать… Замполит обещал концерт — художественная самодеятельность шефов. А шефы — школа…
Морячок косится на Киричева, из-за Шурки.
Сегодня написал ребятам в полк…»
После перевязок я всегда чувствовал слабость и сонливость. Ненадолго, правда. В эти минуты у моей постели появлялся Шурка. Его хочется вспомнить подробней.
— Полегчало? — спрашивал он, садясь на табурет и расставляя на обтершейся складной картонке шашки.
Обычно мы играли в поддавки. Чаще проигрывал Шурка.
— В настоящие шашки никто не хочет, все норовят в поддавки, — удивлялся он. — А у меня не получается. Ну как это — поддаваться, чтоб у тебя лупили?! Рукой я знаю, куда поставить, чтоб ты убил «дамку» мою, а душа сопротивляется: за что, я ведь ловчее тебя, знаю, как обойти, а тут — сам голову в петлю суй. Дурак какой-то слабохарактерный придумал игру эту, — бормотал Шурка.
Часто наблюдал за ним, как без хитрости и без выгоды он помогал раненым неожиданным словом, незаметной услугой. Мы все к нему привыкли и полюбили. И лишь с сержантом Киричевым — рыжим артиллеристом, раненным в обе руки. — у Шурки отношения не сложились.
— Давай, Киричев, письмишко напишу твоим. Ты сочинишь, продиктуешь. Сам ведь не управишься, — помню, предложил Шурка.
Правая рука у Киричева в тяжелом гипсе, снаружи торчали только набрякшие синей омертвелостью неуклюжие пальцы.
— Это за что же: за пайку хлеба или за компот мой? — ухмыльнулся Киричев. — Ишь, прихлебало! Шустрый ты! По чужим ранам да чужим салом мазать не убыточно.
— Зачем же? Просто мне ловчее это сделать. А пайка мне твоя силы не прибавит, я от своей дюжее буду и, значит, на фронт раньше тебя уеду. Да и хлеб-то свой сытнее, собинка всего дороже, Киричев, — вроде не обидевшись, ответил Шурка и отошел, постукивая башмаками, прошнурованными наспех, через две дырки.
Но с тех пор Киричев при случае стал называть Шурку «прихлебало».
С людьми типа Киричева жизнь меня сталкивала и впоследствии, в иных, правда, обстоятельствах. Их цинизм с возрастом слинял, осталась лишь подозрительность к чьей-то искренности. Жизнь они полюбили по-своему: иногда вижу их в поликлинике, узнаю по скучным глазам и по терпению, с каким они высиживают там в очередях, чтоб попасть в который раз к врачу — этакая жажда лечиться…
Но о Киричеве речь еще впереди…
«Жигули» светло-дымчато го цвета номер 43–03. Ждать я должен на углу возле кафе «Бригантина», рядом с моим домом.
Затея Наташи меня покоробила, но отказаться не хватило духу. Вчера, когда она сообщила по телефону, что хочет поехать в Сысоев лес, где Виктор любил охотиться, я пробовал отговорить ее, уповая на логику и здравый смысл, — испытанное оружие самих Лосевых, — пытался внушить, что это нелепое предприятие.
— Возможно, — ответила Наташа.
— Тогда зачем же?
— Я не сумею тебе этого объяснить… Так ты поедешь со мной? — давила она.
Пришлось согласиться…
Сысоев лес километрах в девяноста. Дорога уже просохла. Апрель после затяжной и снежной зимы обрадованно налился теплынью, оглашенной птичьим щебетом. По серым безлистым ветвям запрыгали зеленовато-коричневые пупырышки почек, а на черном влажном поле зелено выглянул низкий бобрик озимых. Ветерок уже гнал пыль вдоль обочин, где во впадинах еще томились редкие пятна серого, уставшего снега, тут же топтались грачи.
Наташа вела машину свободно, без напряжения, ровно держала скорость.
Поглядывая изредка на ее спокойное лицо, я удивлялся: откуда такое — жгущее душу упрямое стремление к тому, от чего люди обычно бегут? Ну на кой сдалась ей эта баба, с которой у Витьки могло что-то быть, а может, ничего и не было?! Существует она или нет — ровным счетом уже ничего не изменит. Наташа понимает это не хуже меня. Тем не менее… Такой я ее никогда не знал. Обычно веселая, легкая, шутливо потакавшая Витьке, его напору подчинять себе всех, она вдруг словно сбросила с себя этот гипноз, явив свой, не сломленный ни Витькой, ни его утратой стерженек, в котором оказалось много духовной, наверное, чисто женской силы…
Лицо Наташи еще красиво, профиль молодо четок, ничего лишнего, разве что мягкая припухлость, появившаяся недавно под подбородком, да при повороте головы податливо вяло морщится шея…
Захочет ли Наташа попытаться устроить свою судьбу вторично? Слишком многим заполнил ее жизнь Витька. Да и Алька уже взрослая…
В школе я не дружил с Витькой. Сблизила нас война, которую прошли бок о бок. Дружил я с Сеней Березкиным и Марком Щербиной. Но война не оставила мне никого, кроме Витьки. Наверное, это и свело нас потом.
За пологим бугром, заслонив горизонт, обозначился темными зубцами Сысоев лес.
— Ты не нервничай. Я ничего не стану выяснять, — вдруг сказала Наташа, глядя перед собой на дорогу.
— Собственно… Я не нервничаю… С чего ты взяла?
— Вот и хорошо.
— Что у Альки слышно?
— Что может быть у взрослой дочери? Взрослые интересы. Бредит своим Женькой. Говорит, любовь должна быть современной. Что это значит — не знаю. Но так она все объясняет.
— Он бывает в доме?
— Последнее время почти ежедневно.
— Хороший парень?
— Приятный. Пока не зять, а я не теща…
Машина уже шла по мягкой сыроватой просеке. За указателем поворота «Опытная станция» мы свернули и вскоре выехали на поляну.
Две большие, рубленные из свежих лесин избы стояли на опушке. Из трубы одной тянулся в синь хилый дымок. Поляна еще пахла зимней влагой и сопревшей прошлогодней травой, но кое-где ее уже прозеленила свежая.
Звякнула щеколда, сухим деревом скрипнула дверь, и на крыльцо вышла невысокая молодая женщина в черных брюках и красной нейлоновой куртке. Мы поздоровались. И пока женщина приближалась к нам, она и Наташа смотрели друг другу в лицо.
— Вы не узнали меня? — спросила Наташа.
— Нет, почему же… Вы ко мне?
— Не совсем… Посмотреть эти места, понять, почему так тянуло сюда моего мужа… А дом лесника далеко отсюда?
— Километра полтора. Но его нет. Уехал в город, дочь заболела. Если хотите, могу показать наши заповедные красоты.
— Спасибо… Мы ненадолго… Я сама похожу, посмотрю. — Пр тропинке она пошла в лес, медленно, как на прогулке.
В наступившей тишине, наполненной ожиданием чего-то, стало хорошо слышно, как веселились у кормушек синицы.
— Хорошо здесь у вас, — сказал я, обводя взглядом верхушки сонных деревьев.
— Не жалуемся, — улыбнулась женщина.
Была она моложе Наташи лет на десять. Лицо узкое, смуглое, темные, зачесанные назад, в узел, волосы натягивали кожу лба, и это удлиняло ее внимательные глаза. Она, конечно, могла понравиться мужчине. В этом случае им мог оказаться и Витька…
— И вы здесь круглый год? — спросил я.
— Почти.
— Не тоскливо?
— Бывает по-всякому… Слушайте, — вдруг сказала она, — я знаю, зачем вы приехали. Да я ведь вам ничего не скажу, кроме того, что действительно любила его.
— Мы не за этим ехали.
— Вы-то, может, и не за этим. Но я ведь женщина и понимаю ее, — кивнула она в сторону леса, куда ушла Наташа.
— За что же вы его любили? — усмехнулся я.
— Вам этого не понять… И ей я зла не желала… Так уж все получилось… Он был жаден к жизни. Часто говорил мне об этом… Вроде как отравлен был тем, что выжил на войне, этим счастьем, которое воспринимал, как право… И только я, как он считал, поняла это в нем и приняла… Вот в чем дело…
Любопытно, знала ли Наташа Витьку таким? Или только этой женщине он так открылся? Что же это? Значит, какой-то малый процент от нашего «я» мы утаиваем от самых близких людей — жен, с которыми прожили долгую и даже счастливую жизнь, и открываем утаенное случайно тому, кто найдет и заденет эту немую, но натянутую в нас струну?..
Что-то от Витьки было в ее словах, я узнавал в них его характер, но сказал, вдруг обозлившись:
— А может, все проще? Без всякой философии?
— Неужели я выгляжу так примитивно?
— Нет, просто примитивны были сами обстоятельства…
— Которые свели нас, так, что ли?.. Ну хорошо, меня вы не знаете. Но его-то вы знали!..
Что ж, каждый видит в человеке важное для себя, остальное в нем либо не замечается, либо ему не придаешь значения. Лишь то, что годится тебе, увы, и составляет фразу «я знаю этого человека»…
Дальше мне не хотелось развивать эту тему, я махнул рукой:
— Все это сейчас бессмысленно.
— Вот именно, — согласилась женщина. — Позовите ее, напою настоящим парным молоком… Надо же быть гостеприимной и великодушной, — печально улыбнулась она.
Как ни странно, Наташа согласилась. Мы вошли в избу. Середину большой комнаты занимал непокрытый стол из грубых столешниц, четыре тяжелые табуретки. У стены — простенький сервант. В русскую печь было декоративно влеплено несколько цветных изразцов. Стены голые. Лишь на одной приколочена пахучая еловая ветвь. На подоконнике в граненом стакане голубым светили подснежники.
Прихлебывая молоко из обливной керамической кружки, Наташа оглядывала комнату, вроде искала следы чего-то, и остановилась взглядом на двери в другую половину избы. Что там, за этими темными, хорошо подогнанными плахами? Спальня?..
— А в другой избе лаборатория и маленький виварий, — сказала женщина, перехватывая взгляд Наташи и как бы отводя его от темной двери… — Вы что-то хотели от лесничего? Я могу передать.
— Пожалуй, ничего, — Наташа поднялась. — Спасибо… за молоко… Поедем? — посмотрела она на меня так, будто я ее привез сюда…
Мы вышли, торопливо попрощавшись с хозяйкой. В лесной тишине вызывающе хлопнули дверцы машины, и она валко вошла в просеку, пробитую меж старых берез с поблекшей, в серых трещинах, корой.
Долго ехали молча, наконец я не выдержал:
— Ну, чего ты добилась? Зачем тебе нужно было это самоедство?
— Наоборот, я успокоилась, — сощурилась она вроде от солнца, бившего в лобовое стекло.
— Я же тебе говорил, что все это — чушь. Ты мне не верила. С чего ты взяла, что у него что-то было с этой женщиной? Теперь убедилась?
— Ты меня не так понял… Знаешь, женщинам для этого и объясняться между собой не нужно. Так уж мы устроены. Но для успокоения человеку хочется определенности. Даже горькой. За этим я и ездила. Так что ты уж не старайся…
— Как знаешь, — вяло сказал я, сдаваясь, думая о том, что творится в душе Наташи, какими словами она мысленно беседует сейчас с Витькой, что говорит ему, что спрашивает, что он отвечает ей. И мне представилось его вечно улыбчивое лицо не зря понадеявшегося на себя человека. Неужто и сейчас в ее мысленном диалоге с ним Витька говорит ей свое обычное: «Наташенька, ну стоит ли мелочиться? Этак мы и важное что-то упустим»…
Высадив меня у дома, прощаясь, Наташа сказала:
— Многие люди считают, что счастлив непременно кто-то другой, но не они. Виктор исповедовал противоположное и приучил к этому меня. И я привыкла. Оказывается, за это надо платить двойную цену…
На следующее утро позвонила мне Алька:
— Что с мамой? Куда вы вчера ездили? Она всю ночь плакала…
— Ездили заказывать памятник отцу…
«23 декабря, среда.
Здравствуйте, отец и мама, и сестренка Хильда!
Вот и наступило рождество! Закрою глаза и ясно вижу, как вы возвращаетесь из кирхи.
В большой комнате, где стоит елка, пахнет хвоей и воском.
Я знаю, что вы молились за фюрера, победу и за меня, и мне легче переносить обычные солдатские невзгоды.
Очень донимает холод, но держимся: нам на помощь спешат танкисты Манштейна; ждем самолеты с продуктами и одеждой, которые обещал рейхсмаршал. Нас, наверное, выведут отсюда, из-под Сталинграда. Конечно, временно.
У Альберта много работы: на войне врачам есть чем заняться, она никого не оставляет без дела.
Я прочитал в газете траурное сообщение, что погиб Зепп Кольбах. Ужасно, ведь у него остался малыш! Ему, наверное, скоро в юнгфольк вступать. Пожалуйста, подарите ему мою юнгфольковскую форму, она еще новенькая, скажите, что от меня. Правда, она с черно-зеленым кантом. Но, может, он хорошо сдает нормы на спортивный значок и его быстро сделают хауптюнгцугфюрером…
Да, забыл вам сообщить: я подал рапорт об отпуске. Ах, если б это сбылось! Как мне хочется всех вас повидать!
Да хранит вас бог!
Ваш сын и брат Конрад Биллингер».
Запись в дневнике за тот же день:
«...Носить воду из колодца — пытка. Он оброс глянцевыми глыбами льда, опуская цепь, приходится ложиться грудью на них, ведро тянуть неудобно, вода выплескивается, и брызги тут же замерзают на шинели и рукавицах, ноги скользят, боишься упасть и опрокинуть на себя ведро. Не дай бог в такой холод! Я никогда не мог себе представить страха, какой он вселяет в тело и в душу. По утрам солнце встает багровое, раскаленное морозом, режущим тело до костей, и снег делается кровавым. От ветра и стужи деревенеет все.
Самолеты приходят все реже и реже. Тот, которого мы ждали накануне, так и не прибыл. Говорят, его сбили русские. А в нем — продукты, теплая одежда, письма с родины. Но, может, это все выдумывают голодные, замерзающие, тоскующие люди, околевающие в окопах, а на самом деле никакого самолета не было?! Но ведь рейхсмаршал обещал!..
Альберт принес банку фасоли и полфляги рома. На кубиках сухого спирта мы разогрели в котелке вчерашнюю конину, высыпали туда фасоль. Это был наш рождественский ужин.
С Альбертом последнее время вижусь мало. Он работает как вол: уйма обмороженных, тиф, дизентерия, раненые — само собой. Размещать их все труднее.
— Что же это с нами произошло? — спросил я, когда мы выпили ром. — Ведь все не так должно было быть.
— Все впереди, — ухмыльнулся он.
Не люблю его эту ухмылку, похоже, что-то знает, но скрывает.
— Скоро мы пожмем руки танкистам Манштейна… Либо здесь, либо на том свете.
— Зачем ты так? — спросил я его. — Нас ведь должны были выводить отсюда. Говорили, пойдем на прорыв. Когда же? Ведь был приказ готовиться, — уничтожить, сжечь, привести в негодность все, что не сможем взять с собой. — И я вспомнил, как пылали страшные костры, огонь сжирал запасы снаряжения, грузовики, поврежденные танки, технические средства связи, документацию… — Так когда же, Альберт? — снова спросил я его.
— Никогда, — хрипло ответил он. — Узнай правду: еще 24 ноября из Ставки фюрера пришел приказ, запрещающий 6-й армии вывод войск из Сталинграда. Никакого прорыва отсюда не будет.
— Значит, мы здесь…
— До конца!
— А если Манштейн не…
— До конца! — тупо перебил он.
— Как же мой рапорт об отпуске? — вспомнил я.
— Отпуска, наверное, отменят… Я пошел спать…
Когда он ушел, я сел сделать эту запись и написать письмо родным. Пришлось поверх шинели закутаться в одеяло покойного Майера… Что я могу написать домой? Правду? Зачем она им? Кто ее поймет там, в тепле, сытости, при свете электричества? И дойдет ли она туда?..»
«23 декабря.
Месяц, как я в госпитале. Хожу на костылях.
Рана заживает плохо. Василий Александрович боится, чтоб не было свища.
Утром пришел Шурка. Веселый, скалит щербатый рот.
— Слышал хруст? Немцам под Сталинградом ребра мнут.
— Держатся они еще там.
— Собьем! Держалась и кобыла за оглобли, да упала.
— А мы с тобой, Шурка, тут груши околачиваем.
— Ничего, еще будет куда поспеть: от Волги конца дороги нашей не видать.
Так мы с ним поговорили. Забавный парень. Зря Киричев его донимает. Вот и сегодня был скандал. Я мог бы дать Киричев у в рыло, но беспомощный он — обе руки перебинтованы. Был концерт. Молодцы школьники. И учительша их ничего.
Сегодня опять написал в полк: Марку, Витьке и Сене — общее. Хотя Семену следовало бы отдельно. Больше всех в этом нуждается».
Эти госпитальные дни, хотя были в них и боль, и страдания, все же остались в памяти, как дни светлого душевного отдохновения и неторопливых раздумий, когда оттаявшее после передовой сердце, распахнутое и подобревшее, вбирало в себя весь мир с его многообразием судеб и подробностей быта, когда хотелось подолгу всматриваться даже в какой-нибудь пустяк и не спеша, вроде даже отстраненно осмысливать слова и поступки людей.
Эту уравновешенность во мне укреплял, возможно, Шурка своим ровным отношением ко всем. Он появлялся обычно по утрам, от него всегда пахло простым мылом, свежестью, холодной водой; садился около меня:
— Ну как нога?
К другому у него был другой вопрос: «Небось не болит уже?» или: «А ведь рука-то у тебя уже сгибается? А ты не верил!» Только сейчас понимаю, что он никогда не приходил с дурными вестями.
— Ты, давай, ногу свою лечи понадежней, — говорил мне Шурка. — Нашей бы травки тебе! На любую хворь у нас травка растет. Я в аптечный медикамент не шибко верю. Все эти порошки да мази аптекари из всяких формул в колбочках складывают. А траве сама земля сок дает и назначение: одной быть ядом, другой — на здоровье человеку. До войны сам собирал и сдавал на пункт, деньги за это платили!..
Родом Шурка был с Алтая. Дома оставались у него отец и мать. Было еще два брата. Убило обоих. На разных фронтах воевали, а похоронки в один день пришли. «Война не просто беда, а еще с надбавкой!..» — Шуркина фраза.
Он не спеша ходил меж коек, кому подушки взобьет, кому судно подаст и унесет — и все не брезгливо, не угодливо, просто человек в работе. Я понимал, что скоро ему снова на фронт. И верил, что и там будет он делать все с той же мерой доброты, умения и надежности…
Обещанный замполитом концерт состоялся: пришли ребята и девочки из местной школы. Пели песни, особенно много — довоенных. Показали два скетча. Привела школьников молодая учительница — в облезлой шубейке, грубых детских чулках и ботах. Представилась:
— Елена Андреевна. Можно просто — Лена.
Она читала стихи. Тогда мне показалось, что здорово читала! Стояла у окна, смотрела куда-то поверх наших голов, в одну точку, глаза блестели, лицо худое, бледное, все время поправляла волосы. И читала, читала. Я поразился: ну и память!..
Когда все кончилось, я спросил, Где можно достать почитать эти стихи.
Сказала, что книги достать не сможет. Перепишет и принесет. И ушла.
Мне же не хотелось, чтоб она уходила, да и не был я уверен, что принесет эти стихи…
У всех было хорошее настроение. Жизнь продолжалась за стенами госпиталя, мы ощутили ее дыхание, трудное, учащенное, но живое и глубокое, а главное — свою связь с жизнью и что мы в своих бедах не одиноки.
Испортил все Киричев.
Перед ужином Шурка, как обычно, разносил пайки хлеба. Киричеву показалось, что его пайка поменьше:
— Что это у тебя хлеб усыхает, покуда идешь из хлеборезки? — сказал он Шурке. — Вроде и нести недалеко. Гладкий ты стал, прихлебало.
Палата притихла. Шурка провел ладонью по ежику отраставших волос, покачал головой и ответил:
— Ты, Киричев, видать, человек умелый. И медаль, и орден у тебя. Танки немецкие жег. Да дело это не хитрое, и медведя обучить можно. Видал я до войны кинокартину такую про цирк. Они там на велосипеде разъезжали, косолапые. Главному тебя не обучили: человека уважать. Все норовишь оплевать кого-то, сражаешься с собой, чтоб не делать этого, да не можешь себя осилить — смелости недостает.
— Ты про смелость мою не вякай, не тебе судить, — огрызнулся Киричев.
— Да я не сужу — правда судит.
Одноногий морячок, что просил все время у сестры морфия, приподнял себя на локтях и крикнул Киричеву:
— Ну-ка ты, сволочь, заткни казенник! Я ведь и по сусалам могу, когда на костыли встану! Пар на немца стравливай, а не тут… А вы что, в рот дерьма набрали и молчите?! — накинулся он на нас.
Скандал утих лишь после того, как вмешался дежурный врач…
Я тогда часто думал о Киричеве: зачем он так? Человек, видно, действительно смелый. Наверное, и под пули полез бы на ничейку раненого товарища вытащить, и с детишками-погорельцами хлебом бы поделился. Но что это — только долг, обязанность, радивое их исполнение? Отделимо ли это от прочего в человеке, когда обстоятельства уже не требуют подчинения долгу?..
В те дни и позже Шурка напоминал мне Сеню Березкина. Мягкостью, что ли, согласием, душевным складом. Сеня тоже искал и находил простые ответы на сложности жизни в доброте, что нередко злило Витьку. Лосев полагал: это — отжившие выдумки дешевой философии. Только жесткость, считал он, приспособит человека к условиям войны, поможет выжить и выполнить свой долг, а иначе все — размазня, в которой и самому утонуть недолго, и дело утопить. Витьке важен был главный результат, а не его издержки…
1943-й годжжжжж.
«8 января, пятница.
У всего есть начало, должен быть и конец. Но этому ужасу, по-моему, конца не будет…
Кажется, что шевелится кожа — это вши. Я уже без стеснения, впрочем, как и другие, лезу под рубаху, чешусь, скребу ногтями, чтоб унять зуд.
И холод!
Боже мой, какой холод! Все костенеет.
У Густава Цоллера опухли ноги. Он с трудом стащил сапоги, ступни его обмотаны вонючими свалявшимися тряпками. Он содрал их и растирает грязные, вздувшиеся пальцы. Мерзостное зрелище. Меня мутит от вони, идущей из угла, где устроился Цоллер. Наверное, так же смердит и от меня…
Неужели где-то наяву существует белая ванна с горячей прозрачно-зеленоватой водой, пахнущей сосновым экстрактом?! Прав Альберт, лучше не вспоминать — свихнуться можно…
К холоду и голоду добавились беспрерывные бомбежки и артобстрел. Мы уже живем не в подвале. Это был райский уголок! Сейчас мы в полуобвалившемся блиндаже. Понятия фронт и тыл перемешались, мы в огненном кругу, который ревет и грохочет, сжимаясь. Всем нам, тыловикам, приказали взять оружие и отправиться на передовую. Мы стреляем, даже не видя точно, куда и в кого…
По-моему, от нас что-то скрывают, я слышал, как о чем-то спорили офицеры, переругались…
Альберта я не видел уже дней десять. Куда-то исчез. Телефон, возле которого обычно дежурил Цоллер, мы перетащили из подвала сюда, но эта кожаная коробка уже несколько дней молчит: где-то порыв. Цоллер дважды ходил искать, но из-за обстрела не мог добраться. Зато он обнаружил другое и, когда стемнело, сказал:
— Давай попробуем, может, чего-нибудь раздобудем…
При мысли, что надо покидать блиндаж и ползти по снегу на ветру, продувающему каждый шов одежды, стало не по себе. О том же, что нас могут просто убить русские, я и не думал. Цоллер выжидательно смотрел на меня. В белесых воловьих глазах его под рыжими ресницами ютились одновременно и страх и надежда: страх, что я соглашусь, — ведь и он боялся ползти, — и надежда, что все-таки он уговорит меня, — голод был сильнее страха. Я согласился. Мы предупредили унтер-офицера, чтоб, чего доброго, свои из охранения не подстрелили, прошли в конец окопа к последней ячейке и там вылезли за бруствер.
Сразу же в лицо хлестнуло ледяным глубоким ветром. Он срывал с зачерствевших сугробов колкую снежную крупу. Тьма. Иногда взлетали ракеты. Их сперва яркое, а потом замирающее полыхание медленно и немощно опускалось на землю, в судорогах уродливо и торопливо удлиняя корчащиеся тени от сожженных танков, опрокинутых грузовиков и покореженных орудийных стволов.
Цоллер полз впереди, иногда оглядывался, и в обмиравшем недолгом свете ракет его лицо казалось лицом мертвеца. Где-то далеко дрожало зарево, и, как в странной игре, по черному небу беззвучно неслись навстречу друг другу пулеметные трассы. Дикое зрелище всемирного хаоса. „Бессмыслица“, — родилось в моей голове слово. И чем дальше я полз, уже не вслушиваясь в тяжкое сопение Цоллера, полз, околевая от железного ветра, весь облепленный снегом, чувствуя толчки крови где-то у горла, тем громче стучало в мозгу привязавшееся слово „бессмыслица“…
Наконец, мы увидели подбитый самолет. Вовсе не похожий, как мы привыкли воспринимать это чудо человеческой мысли, на птицу. Он напоминал скорее огромный черный крест на белой груди земли.
Самолет лежал на брюхе. Мы подползли. Это был штабной „Физелер-Шторх“. Он упал между русскими и нашими позициями.
Стараясь ничем не звякнуть, с трудом сдвинули деформировавшийся при падении дюраль и влезли внутрь.
— Ящики, — прошептал Цоллер. — Наверное, консервы! Я же говорил! — радостно срывался его голос.
Ящики оказались вскрытыми. Кто-то до нас побывал здесь. В них лежали не консервы: в прорыве туч, разорванных ветром, выглянула луна, и свет ее, как дуновение, скользнул по тускло засиявшим металлическим кругляшкам — значкам за ранение — и по Железным крестам.
Каждый из нас мечтал получить такой орден. Сейчас мы с Цоллером могли набить ими полные карманы.
„Бессмыслица“ — опять откликнулось в мозгу цепкое словечко. Круглая физиономия Цоллера вдруг сморщилась, расплылась, и он заплакал.
— Ну что вы, Густав, — я пытался его утешить, готовый завыть сам. — Заглянем в кабину и будем сматываться отсюда…
На полу, в узком пространстве ничком лежал мертвец в комбинезоне. Сдвинуть с места, перевернуть его, чтоб взять документы и личный знак, не было ни сил, ни возможности — он закаменел. Другой сидел в пилотском кресле, запрокинув голову, тяжко уронив руки вдоль тела. Лицо его было словно из серого воска; скованное смертью и морозом, оно матово поблескивало в лунном свете, скользившем сквозь плексиглас; рот приоткрыт, страшными казались зубы — белые, красивые, будто зубы еще живого человека. И только в широко раскрытых неподвижных глазах, в которых не было ни боли, ни ужаса, ни муки, мутнели в затянувшей их пленочке холод, пустота и вечность… Кобура его была открыта и пуста, комбинезон расстегнут, все карманы тоже, планшет исчез — болтались обрезанные постромки.
Мне жутко было прикасаться к его морозному телу, но, превозмогая себя, я содрал с его холодной волосатой груди личный знак.
Кое-как обшарив кабину, я не нашел ничего, хотя искал одно: витаминизированный шоколад — бортовой запас летчиков…
Тем же путем мы вернулись к себе.
И вот Цоллер сидит и растирает заскорузлыми ладонями давно не мытые отечные ступни — пальцы с выпуклыми лиловыми ногтями, расплющенные, в трещинах, пятки. А я пишу эти строки, прислушиваясь к зову голода — тупой, сосущей боли в желудке…»
«8 января.
Случилась беда. С Шуркой. Нелепость: из-за шкафа!.. Ах, Шурка, Шурка!.. Подумать только!..
Была и радость — сообщили: уничтожение немцев под Сталинградом идет полным ходом. Не разгром — уничтожение! Так и сказано. Зароют их в землю, исчезнут, будто никогда и нигде не было. Уничтожение… Сколько их под Сталинградом? Миллион? И все должны исчезнуть. Все наше, что за их спиной, как ни крути, уже принадлежит им только потому, что они захотели, смогли дойти до Волги, считая, что прошли только полпути, чтобы исчезли мы…
Ну и день! В Красной Армии вводят погоны! Чушь какая-то. Я — в погонах! Зачем?..
Лена (я теперь так про себя называю учительницу) сдержала слово.
Не могу спать: все видится щербатая добрая улыбка Шурки, и голос его слышу. Сижу в коридоре, у подоконника, пишу. Одноногий морячок ушел в палату. Выходил покурить. Я понимал: хочет поговорить со мной о Шурке, но только сказал: „Там она его не достала, так тут догнала. Без выбора бьет, сука, вот что обидно!..“
Начну о том дне по порядку. Кажется, утром пришла новость: принят указ, что в Красной Армии вводятся погоны! Не верилось, все удивленно галдели.
— Да что же это, братва! — кричал морячок. — Мы что, белогвардейцы, что ли?!
— Ты-то чего раскудахтался? — дернулся Киричев. — Тебе-то уже с костылями подчистую гулять. А если это вообще враки?
— Не, все точно, — подтвердил Шурка. — Начмед говорил.
— Ты мне объясни, для чего это? — не унимался морячок. — Вам-то ладно, можно и петлицы носить, и погоны. А нам, флотским? Куда их? На задницу пришпилить? Так не спиной же ходим, а передом, не видно будет, кто ты есть…
Я мысленно представил себя тогда в гимнастерке с „кубарем“ да еще и при погонах. Получалась чепуха. Вспомнил золотопогонников-каппелевцев, как они шли в психическую атаку в фильме „Чапаев“…
— Прикажут — наденешь, — хмыкнул Киричев. — Одно не пойму, что будем цеплять на погоны?
— Звезды, — сказал Шурка. — А что? Вроде вячит — пятиконечные. А все это, чтоб немца с панталыку сбить. Поначалу он не поймет: что за новая армия у нас? Покуда соображать будет, мы его по харе и огладим разок-другой.
— А потом когда разберется, кто ты есть, прихлебало, он тебя так огладит, что ушами засопишь, — загоготал Киричев…
Тема погон постепенно угасала, хотя я понимал, что у каждого в мыслях будет идти свой спор.
— А я думаю так, — примирительно сказал Шурка, — пегий иль каурый — лишь бы сани тянул. Нам что важно? Одолеть! А потом хорошо жизнь направить. Так, что ли? — повернулся он ко мне.
После обеда Шурка снова заглянул в палату и поманил меня пальцем:
— К тебе оголец какой-то.
В коридоре возле лестницы стоял паренек, мял в руках рыжий треух. Пальто из синего стершегося сукна было ему едва до колен, в плечах обузилось, из рукавов, вроде уползших к локтям, длинно торчали руки; кулачки уже по-мужски мосластые, красные, обветренные. Я узнал его — из школьной самодеятельности. Он достал из-за пазухи тетрадочку:
— Это вам от Елены Андреевны.
Я был обескуражен, — я ведь почему-то полагал, что она сама их принесет.
— А где же Елена Андреевна?
— Уехала в Чир-Тау на сахзавод.
— Спасибо тебе. Передай ей привет.
Он кивнул и, напялив пролысевший треух, облегченно метнулся вниз по лестнице.
Читать стихи не хотелось, и я положил тетрадь на тумбочку…
Хлеб перед ужином нам внесла в тот день санитарка Анечка, а не Шурка, как обычно.
— Что это, прихлебало забастовал? — спросил Киричев.
Анечка не ответила. Когда проходила мимо, я поймал ее за полу халата:
— А где Шурка?
— Нет Шурки, — тихо ответила она. — Заболел.
Тут я глаза ее заметил — испуганные, в слезах.
Я вышел в коридор и дождался Анечки.
— Мне не велено говорить, — оглянулась она по сторонам. — Начмед запретил.
— Никому не скажу, Анечка, честное, — пообещал я.
— Худо с Шуркой. Давеча кастелянша и тетя Женя шкаф стали передвигать. А он тяжеленный, полный папок. Где уж тут тете Жене, когда ей семьдесят, охает, за поясницу держится. А Шурка возьми и появись: „Ну, женщины, удумали! Это же танк, а не шкаф, ну-ка погодите“. И ухватился за низ, где ножки, поволок. У самой двери порожек, волоком не переведешь. Шурка и приподнял с одного краю, потянул на себя. Только и сказал: „Порядок“, как ойкнул, схватился за затылок, зашатался, уперся руками в стену и пошел, как слепой, да все клонится, клонится. Тетя Женя и кастелянша к нему, а он тут и упал… Хирург потом сказал, что какой-то сосудик у него в голове не то перебитый, не то слабый был, одним словом, что-то лопнуло. Нельзя ему было тяжесть брать на себя.
— Где он лежит, Анечка?
— В изоляторной… Нельзя к нему.
— Что говорят, выживет?
— Не думаю, — утерла Анечка глаза. — Ой, жалко-то как!..
Я вспомнил выбритый затылок Шурки, широкий багровый шрам от уха до шеи и понял, почему Шурку так долго не выписывали…
Уже перед отбоем я осторожно прокрался к изоляторной, тихонько, чтоб не грохнуть костылем, вошел. В палате полумрак. Экономная, в пятнадцать свечей лампочка под прогоревшим картонным колпаком едва согнала к углам и стенам глубокие тени, с улицы тьма навалилась на окно.
Шурка лежал на железной узкой койке, руки поверх одеяла, голова на высоких подушках укутана бинтами. Глаза его уставились в потолок, при моем появлении взгляд даже не шевельнулся. Я заставил себя улыбнуться, но он, как кукла, не заметил этого.
Сев рядом на табуретку, я терпеливо смотрел Шурке в лицо, ожидая, когда он узнает меня, даже придумал, что скажу. Дышал он ровно, спокойно, как спящий человек после честного трудового дня. Длилось это долго. Было жутко от этих широко открытых неподвижных глаз, словно хитривших со мной, не желавших замечать мое присутствие. Меня колотила дрожь. Я позвал: „Шурка!“ И еще раз. И вдруг понял, что он больше никогда не услышит и не увидит меня…
Я ведь даже не знал его фамилии…
Умер Шурка, так и не придя в сознание. В госпитале умирают. Все мы к этому привыкли. Но смерть Шурки почему-то старались скрыть от нас. Да разве скроешь: каждый друг другу по секрету сообщал…
Так ушел из моей жизни алтайский паренек Шурка».
В таком деле я мог положиться на Альку…
Предстоял мой день рождения, исполнение опостылевшего ритуала. Избежать этого уныния невозможно. Я никого никогда не приглашал — приятели, помня, с утра звонили, поздравляли, а вечером являлись.
На сей раз сложность заключалась в том, что впервые от Лосевых должна была прийти только Наташа. Но придет ли? Я понимал, как нелегко начинать ей все делать одной, без Виктора — и собираться в гости, и выходить из дому, и подниматься в лифте на мой этаж, и входить в квартиру, и сидеть за столом на привычном месте, где справа всегда сидел Виктор… А этому должно предшествовать дурацкое хождение по магазинам в поисках подарка — затея, обретшая уже цепную реакцию престижной необходимости. У Лосевых ее издавна исполнял Виктор — легко, весело и азартно, меньше всего при этом думая об имениннике или имениннице. Теперь Наташе предстояло самой отправиться в тяжелый поход по магазинам, искать совершенно не нужную мне вещь стоимостью, конечно, не меньше десятки (как же — так заведено!), неизбежно обращаясь памятью к Виктору…
Вот я и подумал об Альке.
— Слушай, — сказал я ей по телефону. — Какой завтра день? То есть как не знаешь? День моего рождения!.. То-то! Во-первых, сделай так, чтоб у матери не возникло сомнения идти или не идти. А во-вторых, как только она отправится на работу, сбегай на рынок и купи мне в подарок хороший букет цветов… Ее надо избавить от хождения по магазинам… Да… По многим причинам. Понимаешь?.. Ты умница, правильно… Перед концом рабочего дня позвони ей и скажи, что подарок ты уже купила. Только не говори, что… Да, да… Перед фактом. Договорились?..
Наташа пришла.
Внешне она была спокойна. Чуть подкрашены ресницы и глаза. В одежде — никакого безразличия, все с интересом к ней и вниманием, вторая пара туфель в сумочке. В общем, все как всегда. «Слава богу», — подумал я успокоенно. Мы стояли в прихожей.
— Это тебе от Альки, — подала букет гвоздик. — А это от меня и от него, — Наташа извлекла из сумочки «Паркер» — новенький, подаренный Витьке в каком-то торгпредстве.
Я не хотел никаких его вещей брать на память. И однажды, вскоре после похорон, сказал Наташе об этом, когда она попыталась что-то отдать мне.
Но сейчас я понимал, что не взять ручку нельзя, слишком спокойно и естественно постаралась она сказать «от меня и от него». Не стоило усложнять то, что она помогла избежать нам обоим.
— Но пиши ею только правду, — улыбнулась Наташа. — Для гадания или для пасьянса нельзя пользоваться картами, которыми хоть раз сыграл в азартную игру. Соврут. Этой ручкой еще никто не пользовался…
Мы расцеловались. Мы понимали, что каждый хорошо справился со своей ролью. Только бы никто за столом не начал оказывать Наташе усиленное внимание или вспоминать со вздохом, как ловко Виктор умел открывать шампанское…
Все получилось гладко, окончилось около двенадцати. Я пошел провожать Наташу. После теплого весеннего дождя стояла мягкая сырая тишина. Белый свет фонарей прилип к мокрому асфальту, шурша, проскакивали машины, перемаргивались указателями поворотов, в городской апрельской полуночи были разлиты мир, благодать, равновесие…
— Ты молодцом, спасибо тебе, — сказал я Наташе.
— Учусь ходить, как после болезни. Покачивает, но ничего, надо привыкать, предстоит еще много прошагать, — ответила она.
— Ты не одна, у тебя хорошая дочь.
— Дочь хочет замуж.
— И дай ей бог.
— А я не хочу, чтоб она выходила замуж. Не хочу, чтоб ее потом предали.
— При себе держать будешь?
— Нет, зачем? Пусть так живут. Тем более что так нынче модно, говорят. Поживут, первый угар любви сойдет, тогда пусть решают, смогут ли друг без друга дальше. А в загс сбегать недолго.
— Ты ей этого не скажешь, не сумеешь.
— Сейчас смогу.
— Блажишь, Наталья… Разве ты не была счастлива с Виктором?
— На этот вопрос, если постараться, ответить можно. Но вот был ли он счастлив со мной? Он искал утешения на стороне. Знаешь почему? В сущности, он был неуверенным человеком, в чем-то слабым и боялся, чтоб его жалели самые близкие люди.
— Виктор — слабым?! И это ты говоришь мне?
— Представь себе. Он держался на тщеславии. Отсюда весь его напор, энергия, деловитость. Он боялся риска. Говорил: «Не для этого я вернулся живой с войны, чтоб сейчас рисковать». Я его понимала и подыгрывала ему. Другого выхода не было… Конечно, человек он был способный и удачливый. Считал, что способности и удачливость друг без друга существовать не могут. Но поскольку везение всегда под угрозой каких-то обстоятельств, что ли, он стремился использовать его на сто процентов. Не обладал он чем-то главным в характере, чтобы верить в надежность свою и окружающих… Ты знал его много лет, но у тебя просто никогда не было нужды и повода вникать в это так глубоко и заинтересованно, как мне. Это удел жен… Но я его не осуждаю… А то, что лично меня коснулось, — лично мое…
Мы никогда так не говорили с Наташей о Викторе. Сейчас мои слова о нем ничего бы не добавили, но и не опровергли бы, потому что Наташа знала то о муже, чего не мог знать я о приятеле. И, разумеется, наоборот…
Проводив Наташу, я возвращался домой в пустом ночном троллейбусе, дребезжали стекла, какие-то железки.
Все еще думая о разговоре с Наташей, я вспомнил, как однажды на вечеринке во время какого-то спора Витька под рюмку жарко, взахлеб сказал соседу по столу:
— Бросьте вы прикидываться! Ничто так не раздражает, не подзадоривает, как чья-то слабость, неумение отстоять свое положение. Это волчий искус слопать слабого, чтобы проверить себя: а насколько я силен еще и хваток. Такая проверочка нужна, чтоб держать себя постоянно в форме и раньше успеть дать по зубам, прежде чем эти зубы клацнут у тебя на горле. Цинично? Да! Но разве вы никогда этого не испытывали? Ну, честно, признайтесь!.. То-то, братцы. Слабых надо жалеть, это верно. Но жалость убивает в них последнюю волю к сопротивлению. И тогда они паразитируют за счет жалости к себе и начинают раздражать…
— Волк — санитар леса, — буркнул кто-то в ответ.
— Но-но! Без аналогий! — огрызнулся Витька. — Там инстинкт, а тут расчет.
— Ну да, ты просто разборчивей, — сказал тот, с кем он спорил. — Слопать не любого, кто подвернется, а с выбором. Но это уже вопрос вкуса, что ли, так сказать, элемент эстетики…
Витька тогда посмотрел на Наташу, подмигнул ей, вдруг захохотал, мол, здорово я их завел…
И только сейчас в памяти моей возникло, каким настороженно-тревожным был быстрый ответный взгляд Наташи…
«2 февраля, вторник.
Болит голова. От краски и дезинфекционного яда, которым в бараке травили клопов и тараканов. Шесть таких бараков стоит на окраине Познани. Они выкрашены снаружи и изнутри зеленой, долго не просыхающей краской. Женщина, ухаживающая за нами, в белом передничке и в белой наколке, то ли полька, то ли фольксдойче. Она сказала мне, что прежде здесь жили русские военнопленные, их расстреляли. Теперь живем мы — те, кому удалось выбраться из-под Сталинграда…
Рядом со мной на нарах, покрытых армейским матрасом из бумажной нитки, набитым колкой сухой соломой, спит Густав Цоллер. Он впал в какую-то летаргию: все время спит, боится яви, будто, проснувшись, вновь окажется там, у Волги, а не здесь, в Познани, в этом карантинном вонючем, но тихом и мирном бараке. Цоллер почти не ест. Голод вроде перестал его донимать. Пальцы ног у него все еще синюшные, распухшие, нестерпимо зудят, врач сказал от обморожения и от мацерации, — ноги постоянно были мокрые. Цоллер никак не может запомнить это слово, все время переспрашивает. На вопрос, зачем это ему, ответил: „Я должен написать обо всем домой…“
Вонь в бараке нестерпимая, открыть дверь, проветрить удается редко — на улице холодно, лежит снег, и кто-нибудь орет из угла: „Эй, вы там, дверь закройте! Вам мало было свежего воздуха там?! Соскучились по снегу?“
За полбутылки сорокаградусного корна я выменял флакон одеколона „4711“ и по капельке расходую его, чтоб перебить удушливый запах краски и дезинфекции. Но это мало помогает…
Сплю плохо. Преследуют кошмары последних дней нашей катастрофы. Здесь нас горстка. Все остались там — на снегу или под ним, в промерзшей до металлического звона земле или в плену. Великий исход не состоялся: не нашлось Моисея. Для меня и Цоллера, правда, им оказался Альберт. Где он, что с ним?
В последний момент он прибежал к нам. Шинель разодрана, весь в чужой крови, черный от усталости и ужаса, только запавшие глаза сумасшедше блестели.
— Собирайтесь! Живо! — крикнул он, влетев в блиндаж.
— Куда? — затравленно спросил Цоллер. Он сидел на полу и при словах Альберта потянул к себе кожаный футляр с телефоном.
— Да оставьте эту дурацкую коробку!.. Встать!.. Марш за мной!.. Бегом!..
Спотыкаясь, падая в снег, мы трусили за Альбертом. В ложбине, куда спускалась дорога, стояли пять семитонных грузовиков, забитых ранеными и обмороженными. На малых оборотах урчали двигатели.
— Конрад, это последний шанс! — крикнул Альберт. — Полезайте в машину… Быстро!.. Если что — помни: ты и Цоллер сопровождающие… Вот бумажка. На всякий случай… Прощай!.. Ну! — толкнул он меня и махнул кому-то: —Пошел!
— А ты? Альберт! — закричал я.
Но он не слышал. Сильный ветер гнал поземку, хлопал брезентом над кузовами. Мы с Цоллером вскарабкались в последнюю машину уже на ходу и свалились на лежавших людей. Кто-то застонал. Вцепившись в задний борт, я смотрел на удаляющуюся фигурку Альберта. Он стоял, расставив ноги, воротник длинной расстегнутой шинели поднят, ветер трепал ее полы, захлестывая вокруг сапог. Лица его я уже не мог разглядеть, да и весь он стал растворяться в крутившейся снежной пыли, одинокий на холодной зимней дороге… А вслед за машиной гнались белые взвихренные смерчи, метель не хотела отпускать нас с этой проклятой земли…
Уже здесь, роясь в карманах, я нашел липовую бумажку, выданную Альбертом. Никто ни разу не потребовал ее. Ведь мы были оттуда и, значит, автоматически зачислялись в герои, а состоявшиеся герои не подлежат проверке…»
«2 февраля.
Под Сталинградом фрицам хана. Полный разгром.
Живу на частной квартире. За глинобитным дувалом домик с плоской крышей. Две комнаты и кухня. Хозяин — Утеган Саспаевич — пожилой казах, сторож на базе райпотребсоюза. Жена его украинка, Оксана Ивановна. Предки ее за участие в бунтах царским указом были когда-то переселены сюда всей деревней с Житомирщины.
У хозяев хороший абрикосовый сад. Утеган Саспаевич, показывая его мне, печально покачивал головой: зима затяжная, суровая, как бы не остаться без урюка. Печаль его сдержанна, немногословна: „Беда, понимаешь? Это все от война, а?..“
Приходила Лена».
Топила Оксана Ивановна кизяковыми лепешками и саксаулом, в доме стоял горьковатый степной дух кочевья и вместе с тем надежного уюта.
Она с мужем переселилась в закуток, который называла «клуней».
Питался я в военкоматской столовой по аттестату. К тому времени истекала уже третья неделя, как кончилась моя госпитальная жизнь. Шкандыбал с палочкой, еще хромал, сапог натягивал с трудом, ходил в госпиталь на перевязки. «Пока гуляй, — сказал начмед, подписывая справку. — Там видно будет…»
В комнате моей были две железные кровати, застеленные латаными, но чистыми простынями и покрытые серыми армейскими одеялами. Вторая койка пустовала. Одновременно со мной выписался и Киричев, у него тоже был отпуск. Хотел поселиться вместе, но я сказал, что койка уже занята. Невзлюбил я его за Шурку.
— Врешь, не занята. Мне военком сказал, ты там один, — ухмыльнулся Киричев. — Думаешь, не понимаю, в чем суть? Ну и хрен с вами со всеми.
— Раз понял, значит, будь здоров, — отрезал я и, не прощаясь, ушел…
Вторую комнату снимал Николай Петрович Рукавишников — профессор, эвакуированный из Ленинграда.
Кажется, в тот день хозяева пригласили меня к обеду. В честь разгрома немцев под Сталинградом. Оксана Ивановна сварила украинский борщ, а на второе была баранина с домашней лапшой.
— Ты ешь, сынок, ешь, — говорила она, видя, как я с аппетитом уплетаю позабывшуюся домашнюю еду. — Ведь какой день сегодня! Разве не праздник! Сволочь эту разбили, будь она проклята!..
Она сидела, подперев смуглое лицо ладонью, подвязанный платок сполз на плечи. Детей у них не было, жили они друг для друга. Утеган Саспаевич молча хлебал борщ. Лоб и бритая голова его взопрели, в свисавших по-запорожски усах застыл кусочек капусты.
— Мой-то и борщ с салом приучился есть, — улыбалась Оксана Ивановна. — Тридцать годов как вместе. А вот на второе баранину обязательно подавай ему.
Муж согласно кивал. В черных щелочках-глазах светился огонек удовольствия от еды. Поев, он вытер расшитым рушником темные морщинистые скулы и усы, достал кисет с мелко посеченным табаком. Я видел листья такого табака в тюках, его везли как сено — на машинах, и мальчишки бежали следом в надежде, что несколько листьев выпадет на дорогу.
Потом с работы вернулся Николай Петрович Рукавишников. Я еще в коридоре узнавал его шаркающие шаги и кашель.
— Совсем больной, — качал головой Утеган Саспаевич, уминая табак в газетный обрывок. — Я ему говорю: лечиться ходи, ты большой человек, ученый, коран знаешь, тебе врач надо, кумыс надо. А он на станцию бегает, вагон свой сторожит.
— А как же! — восклицала Оксана Ивановна, собирая со стола. — Человеку доверили, как же ему теперь — бросить?!
Мне казалось, что этих двоих людей я знаю всю жизнь, что живу издавна в небогатом уюте их дома; наблюдаю, как Утеган Саспаевич кормит ишака и о чем-то разговаривает с ним по-казахски, часто повторяя «шайтан»; как Оксана Ивановна печет лепешки: ловко облепляет ими раскаленное нутро печки и кропит их, румянящихся, водой… Жил я в покое, отгороженный тысячами километров родной земли от того оплавленного огнем края, где свистят пули и падают на снег убитые. Уж не праздную ли я труса? — думал тогда. Все там, а я здесь. Ведь хожу. В госпиталь, по улицам, на базар, в столовку. Не на носилках — своими ногами. Но военком на эту тему разговоры вести не желал. «Я не лекарь, — говорил он. — Как получу от твоих лекарей „добро“, будь спокоен, у меня тут не задержишься…»
Вечером я лежал поверх одеяла одетый, читал, когда открылась дверь и просунулась круглая голова Утегана Саспаевича: «Твой девка пришел, учительница. Заходить не хочет, стыдливый…»
Начавшееся со стихов знакомство наше длилось уже третью неделю. Мы часто бывали вместе. Елена Андреевна Родомыслова… Преподавала русский язык и литературу… Как и профессор Рукавишников, Леночка была тоже из Ленинграда, закончила три курса пединститута. Жила здесь с матерью и парализованной теткой, втроем на учительский заработок. Тяжко им было. Пытался дать денег, мне-то они — ни к чему, но не взяла, даже обиделась, хотя я и пошутил, что после войны приму этот долг с процентами. Сказала: «Мне не должно быть лучше, чем другим, только потому, что случай свел нас». Ходила в своей облезлой шубке, детских толстых чулках в рубчик и ботиках. Гордая.
Профессора Рукавишникова Лена знала по Ленинграду, слушала его лекции. Жена его умерла в блокаду. Старик прибыл в Кара-Курган с тремя вагонами каких- то редкостных книг и рукописей. Вагоны стояли на станции, в тупике. Он ходил туда, топил печурки, чтобы все это не отсырело. Работал в тамошнем городском архиве, где и получал продуктовые карточки, часть зарплаты отправлял сестре в Свердловск, а сам — впроголодь. Собирал на станции щепки — топить «буржуйки» в вагонах, на саксаул денег не хватало, все вещички свои распродал. Саксаул был дорогой. Утеган Саспаевич несколько раз подвозил ему на тачке со своей базы немного списанной тары. Нужду в топливе испытывали ясли, детсадики, госпиталь, городская амбулатория и больница, школы. А угля почти не было, все навалились на саксаул…
Лена ждала меня за калиткой. Было темно и хмуро. Мы прошли к арыку. Там рос старый тутовник. Под ним — наше излюбленное место. Тихо шелестела ледяная вода, набиравшая весной силу в близких горах.
— Почему ты так рано сегодня? — вглядывался я в ее узкое, стянутое худобой лицо.
— Вторую смену отменили. Старшеклассники грузят на станции хлопок. А я осталась в школе — две пачки тетрадей. Половину проверила, больше не смогла, глаза болят.
— Каждый день одно и то же — диктанты, сочинения… Кому это сейчас нужно?
— Ты говоришь странные вещи. Разве не ты попросил у меня стихи?.. Нынче сочинение было на тему «Чем вы займетесь после войны?». Знаешь, один мальчик из десятого класса написал: «Во всем, чем бы ни занялись, постараемся еще раз выразить самих себя, так же, как в войну, чтоб мир снял перед нами шапку».
— Скажи, какой философ!
— Он сирота. Отец сгорел в танке в самом начале войны. Мать, военврач, пропала без вести. Тоже в сорок первом. Его хотели усыновить твои хозяева, еще в восьмом классе. Но он отказался, живет в детдоме…
Я сказал тогда об этом мальчике пренебрежительно «философ». И тут же подумал: а ведь скоро он, наверное, уйдет воевать, и, может быть, после войны, если уцелеем, я буду знаком с ним, посмею судить о его делах, вовсе не зная, что он и есть тот мальчик… Уцелел ли он? Кто он и что теперь?..
— Как его зовут? — помню, спросил я Лену.
— Зачем тебе?
— Да так просто.
— Саша Левин… Мне пора. Мама будет волноваться.
Мне не хотелось, чтоб Лена уходила.
— Еще рано. Пойдем ко мне. Ты совсем замерзла.
— Нет.
— Ты стесняешься Рукавишникова?
— Я не делаю ничего постыдного, чтоб стесняться…
В ней жила какая-то исступленность. Полное отрицание малейшей честной возможности получить чуть больше благ или удобств, нежели это доступно другим. Ее преследовали призраки блокады: трупы на детских саночках, варево из высохшего клейстера, соскобленного с обоев, которое она ела, чтоб не умереть… В ту пору жертвенность Лены мне была не совсем понятна. Может, потому, что жизнь на передовой, где множество смертей на глазах, была в те дни моим привычным бытом, приучившим мыслить сиюминутными категориями? Там смех и трагедии длились кратко и слишком поспешно сменяли друг друга, и от смерти тебя отделяли либо год, либо месяц, либо секунда. Кто знал — сколько?..
— Как долго мы будем вместе? — спросила Лена.
— Не знаю. Думаю, еще долго, наверное, месяц.
— Это долго?!
— Конечно.
Руки у нее были тоненькие, озябшие. Я прятал их глубоко в рукава своей шинели… Так мы и стояли обычно, тесно прижавшись, чувствуя малейшую судорогу наших тел. Я все хотел спросить, хорошо ли ей со мной, но боялся вспугнуть словами «хорошо ли ей», ведь для нее они были как крамола…
А дома ждал меня к вечернему чаепитию профессор Рукавишников.
Голая лампочка, свисавшая на шнуре, сиро освещала почти пустую комнату. Непокрытый стол, два табурета, железная, как у меня, кровать, на стене под простыней на гвозде какая-то одежда — последнее, что он еще не продал. Но зато — книги! Связанные в пачки, они громоздились под самый потолок. Личная библиотека Николая Петровича. Вернее — лучшая ее часть. Я знал, что какой-то доцент, ферт из юридического института, эвакуированного в Кара-Курган, предлагал Рукавишникову огромные деньги за эти книги. Но старик категорически отказал, предпочел продавать свои носильные вещи. Еще и шутил при этом: «Понимаете, вещи выходят из моды. Скажем, серый коверкотовый костюм или тупорылые ботинки фабрики „Скороход“. Кто знает, что будут носить через десять лет?! А книги остаются модными всю жизнь, друг мой, всю жизнь! Разумеется, настоящие книги…»
Мы пили кок-чай с лепешками, испеченными Оксаной Ивановной из муки, смешанной с отрубями и патокой. Муку достал я.
Рукавишников был совсем плох: глаза запали, лицо вроде усохло, седенькая бородка задралась, и, когда он наливал в пиалушки чай, сморщенные белые руки дрожали…
«Ну что он, в самом деле? — думал я тогда, окидывая взглядом связки книг. — Беречь все это, а самому загибаться! Да стоит ли все это одной человеческой жизни?!.» Я вспомнил госпиталь, муки раненых — безногих и безруких, Шурку, его. щербатую улыбку… Города исчезают с лица земли! Гибнут миллионы людей, все напряжено, чтоб одолеть такую безжалостную, такую железную силищу! А он ходит в парусиновых туфлях в гнилую зиму, зато сохранит прижизненные издания классиков. Для кого? А если сам загнется? Если б эти книги существовали в единственном экземпляре — куда б ни шло! Но все это уже есть в библиотеках, существует в тысячах экземпляров…
Сказал ему об этом.
— А за что вы, собственно, воюете? — как-то грозно придвинулся он ко мне.
— Против фашизма.
— Я спросил: за что?
— За нашу землю.
— Так вот это — ее духовные корни! — он ткнул длинным пальцем за спину, в сторону книг. — А мы — нравственный плод этих корней. Нельзя пресекать подобную связь. Гитлер, между прочим, тоже не дурак, он просто сатана. Вот почему он направил все не к духу, а к инстинкту.
— А какой прок, если вы простудитесь, заболеете и умрете, продав все свои вещи, чтоб сохранить эти книги?
— Иногда нужно много страданий, чтоб человек понял себя до сердцевины, понял, что он закономерная и необходимая частица чего-то большого, целого, а не случайность в этом мире… А умру, опять же кому-то ближнему достанутся не ботинки мои, а книги… И так должно длиться бесконечно…
Он говорил, а я слушал и думал: в дни, когда, казалось, рушилось все наше прошлое, — устойчивое, надежное, прекрасное, — когда вымирал и вымерзал Ленинград, когда гусеницы немецких танков подгребали под себя тысячи кубометров и километров нашей земли, когда сгорал, обваливался в воронки ее древний рельеф, а с ним тысячи столь же древних городов и деревень, когда все это не удавалось спасти даже такой ценой, как миллионы человеческих жизней, Рукавишникова заботили три вагона с книгами и рукописями в тупичке заштатного среднеазиатского городка! Старик уводил меня от частностей, из которых складывался мой мир окопного долгожителя: страдания одноногого морячка, жившего на морфии, непонятная мне озлобленность Киричева, бессонные траншейные ночи с друзьями — Витькой, Марком и Семеном, брикетик пшенной каши, разопревшей в кипятке, радостное возбуждение или тупая апатия усталости после выигранного боя — отбитой у немцев траншеи…
С первого дня войны, с первого дня блокады Ленинграда старик будто знал наперед, что в какой-то точке времени все повернется согласно здравому смыслу в ином направлении. Словно все это однажды уже было где-то в прошлом, — сто или тысячу лет назад, — а он, Рукавишников, лишь высмотрел из маленького Кара-Кургана, как все это было в том прошлом, и поэтому, заранее зная, каков конец всему, так уверенно полагал, что книги эти понадобятся и в нынешнем, и в следующем веках, что читать их будет кому…
«18 февраля, четверг.
Я — дома. В отпуске. Не могу привыкнуть. Жизнь Берлина выглядит замедленной, ненастоящей: асфальт, легковые изящные автомобили, люди в гражданском, работают кинотеатры и пивные. И никто на меня не обращает внимания, никто не подает команд. По вечерам город погружается в сырой сумрак — затемнение, лишь кое-где горят синие лампочки…
Мы прибыли с Цоллером вместе, одним эшелоном. Вывалились на перрон Восточного вокзала. Встречающих — толпы. Аккуратненькие девочки из „Союза“ в форме. Они раздавали нам пакеты с подарками, перевязанные цветными ленточками, и желали хорошего отдыха на родине. Больше всех суетились корреспонденты, щелкали фотоаппаратами: прибыли герои Сталинграда! Цоллер стоял в окружении газетчиков, совершенно обалдевший, по лицу его стекал пот, пытался улыбаться, силясь понять, что происходит.
Все это было дико: из нас делали героев! А у нас с ним не было даже одного Железного креста на двоих, хотя мы могли набить ими полные ранцы и продавать по марке за штуку. Самое интересное, что покупатели нашлись бы! Эта мысль едва не рассмешила меня тогда на вокзале. Но надо было выглядеть серьезными, как подобает героям…
Все это я рассказал отцу по дороге в кирху. Мы пошли туда вдвоем на следующее утро.
— Сейчас об этом поздно говорить, Конрад. Сейчас нужно выжить, — ответил отец и пугливо оглянулся…
Народу в кирхе было очень мало, в основном старые люди. Тоскливое зрелище. В притворе мимо нас к себе на верхотуру, к органу, прошел Поох. Совсем дряхлый. Он поднимался по состарившимся под его ногами деревянным ступенькам. Темные от времени, они скрипели, как клавиши, и сияли чистотой, шел от них памятный с детства керосиновый запах мастики.
Тут же на доске висело траурное объявление о тех, кто почил в бозе и по ком полагалось отслужить молитву. Меня удивило, что в большинстве это были мужчины, каждому за шестьдесят. Жены их находились в кирхе, я почти всех их знал. Что же выпадает совершить мужчинам в своей жизни такое, за что господь призывает их к себе на суд первыми? Прежде я не обращал на это внимания.
Рядом с этим грустным и, как показалось мне теперь символическим списком висело объявление, приглашавшее прихожан на садовый участок при общине с просьбой захватить с собой садовые инструменты: приближалась весна…
Но для меня уже существовала и другая реальность: Криста Панкнин, задумчивая, молчаливая девушка. Она счетовод, работает вместе с моим отцом в бухгалтерии электростанции. Я знал ее еще в школе, где все ее считали дурнушкой, незаметной, блаженненькой. Она всего сторонилась…
Красивее за эти годы Криста и не стала, но мне с нею хорошо. Несколько раз мы ездили на Мюггельзе. В эту пору года вода в озере темная и грустная. Вокруг пусто: купальни и ресторанчики закрыты. Мы бродили по холмам, по сырому лесу в беззвучной оголенности оскудевшей за зиму природы. Мы целовались, охраняемые тишиной и ощущением одиночества. И когда уже возвращались из Кёпеника домой, продрогшие, счастливо-молчаливые, я сказал Кристе, что сразу же после войны мы поженимся. И только сейчас меня обожгло: да уцелею ли я? Ведь мне скоро возвращаться туда…»
«18 февраля.
Кара-Курган и безделье мое надоели. Иногда ловлю на себе недобрые взгляды женщин: с руками и ногами, а околачивается в тылу. На фронтах относительное затишье, судя по сводкам. Но я-то знаю, что и в это затишье есть что на войне делать. Скорей бы в полк, к ребятам… Вот только Лена… Как будет дальше? Нужна определенность. Не смогу так уехать. Все роднее мне эта маленькая, суровая и нежная девушка…
Нижний Таласс. Никогда не забуду этой поездки. Что это было?!
Рукавишников прочитал мне целую лекцию о Пушкине: 118 лет со дня выхода первой книги „Евгения Онегина“. Одержимый человек, о чем бы ни говорил — философия, для него важна зависимость. А я как-то все поверху тут…»
В Нижний Таласс Лена поехала просить дирекцию тамошнего сахзавода отремонтировать в школе отопительный котел. Я подался с нею. Лена в кабине, я — в кузове старой расшатанной полуторки. Тряслись на ухабах, все нутро у меня ныло, несколько раз сильно зашиб больную ногу. На обратном пути машина сломалась — полетел кардан. Решили идти пешком до шоссе в надежде сесть на попутную, километров десять.
С гор дул влажный ветер, под ногами хлюпала грязь. За обсаженным тополями проселком чернели свекловичные поля.
На втором километре я понял, что дальше не смогу — разболелась нога. Тусклые сумерки быстро заклубились теменью. В стороне от проселка в случайном окне желтел огонек. Двинулись к нему. Дом был дачного типа, окруженный забором, охранявшим и сад…
Дверь отворила высокая старуха в фуфайке и дорогих фетровых мужских бурках.
— Вам чего? — хрипло пробасила она.
— Переночевать бы… Машина сломалась. Я уплачу.
— Вы кто же будете? Документ есть какой? — покосилась на мою палку.
— Ездили в Нижний Таласс по делам… Вот документ, — я протянул удостоверение.
Она отодвинулась в глубь коридора, где на стене горела керосиновая лампа, повертела перед ней удостоверение, возвратила.
— Вместе, что ли? — кивнула на Лену.
Я не ответил.
— Куда же вас?.. — пробурчала старуха и толкнулась в узенькую дощатую дверь. — Чуланчик вот…
Из коридора в чулан сквозь щели в дверях падал вялый свет. Я разглядел на полу высокий матрас с выпиравшими под поблекшей китайкой пружинами; какие-то ящики, оплетенные лозой бутыли…
Все это время Лена молчала. Но я понимал, чего стоило ей это покорное молчание, как она вся напряжена сейчас, как нестерпима ей эта постыдная двусмысленность нашего вынужденного совместного ночлега…
Старуха принесла подушку и рядно.
— Прикройтесь, оно чистое, — сказала и ушла.
Я слышал, как несколько раз дунула, гася лампу. Стало темно.
Мы лежали молча, вслушиваясь в непонятные шорохи чужого жилья. От подушки пахло чем-то незнакомым…
Спустя какое-то время Лена сказала:
— Я ведь знаю, о чем ты думаешь. Ты считаешь, что я попала из-за тебя в унизительное положение… Мол, тебе скоро уезжать, как же будет со мной?.. Правда? Тебе не хочется, чтобы я думала обо всем, что произошло, как о случайном похождении заезжего офицера. Как в старинных русских романсах. Но ты ничего не можешь придумать: ты уезжаешь очень далеко, туда, где не угадать, как сложится твоя жизнь. Потому и не знаешь, что предложить или что пообещать мне сейчас в утешение… Мы ни разу не сказали друг другу: «Я люблю тебя». Ты — из боязни ответственности передо мной за эти слова. Я — из опасения усложнить твое положение… А между тем…
Я хотел перебить ее, сказать, что мы будем вместе, что, как бы ни сложилось, нам нельзя терять друг друга. Но это могло оказаться ложью: я действительно уезжал в слишком далекое и ненадежное путешествие.
— Мне ведь ничего не нужно, — горячо говорила Лена, — только уважение. Это очень важно — уважение. Ни деньги, ни подарки, ни прекрасные слова — ничто не может возвысить человека и придать смысл его существованию, если он не способен уважать другого… Мы сейчас ничего не сможем решить. Если мы поженимся до твоего отъезда, это будет выглядеть фальшиво для окружающих меня людей… Что-то от воровства… Не надо, не возражай… Я не ханжа, я не боюсь молвы… Все сложнее. В каждой семье тревога, горе, ожидание… А я — замуж, вдруг, случайно, торопливо. Да и что это тебе даст?.. Пусть все останется, как есть. Считай меня женой или любовницей… Доверимся времени… И больше не надо об этом…
Я ничего не мог ей сказать тогда, она все решила. Я боялся услышать в себе чувство облегчения и благодарности ей за это, словно она избавила меня от необходимости совершать вынужденное благородство, чтоб выглядеть порядочным. Мне не хватало ее простоты понимания всего, ее естественности…
— Скажи, а ты убивал их? — внезапно спросила Лена.
— Кого? — не сразу понял я.
— Их!
— Да. Вероятно, попадал. Я хорошо стреляю.
— Это страшно?
— Разве думаешь? Там не до этого.
— Наверное, потому что не мы к ним, а они к нам пришли.
— Возможно. Но для них такой разницы не существует.
— Пожалуй, ты прав… Как же их много еще на нашей земле!.. Представляешь, сколько раз тебе придется еще убивать их… Но так им и надо! Так и надо! Разве мы этого хотели?! — прижавшись, яростно шептала Лена…
Потом снова была тишина, и в ней за тонкой перегородкой послышались шаги и женский молодой голос:
— Кого это вы пустили в дом?
— Людей, кого же еще, — отозвалась старуха.
— Вы что, знаете их? А если обворуют?
— Тебе-то чего волноваться? Что здесь твоего? Здесь мое да сына моего.
— Но я жена Андрея!
— Жена?! Сучка ты вертлявая, а не жена! Его настоящая жена на фронте, врач.
— Вы не смеете так! Я тоже была на фронте! Я беременна от вашего сына. Он оформит развод, и мы поженимся.
— Беременная! Ишь, какое геройство на фронте проявила!..
— Я напишу Андрею, как вы со мной обращаетесь! — голос сорвался на плач…
Утром, когда, попрощавшись со старухой, мы уходили, я увидел прильнувшее к стеклу молодое круглое лицо, светлые волосы женщины были закручены на папильотки, толстой оголенной рукой она придерживала у белого горла ворот халата.
Николай Петрович в тот вечер вернулся раньше обычного. Пришел не с работы, а со станции — расстроенный, взволнованный: снег, плотно лежавший всю зиму на крышах его вагонов, начал таять, вода затекала по стенам внутрь. Необходимо было срочно сбросить снег и, пока гнилая погода — месяц-полтора— регулярно топить печурки, выпаривать сырость, которую невидимо, жадно впитывала бумага.
Я сказал ему, что сбросить снег — ерундистика: попросим Лену мобилизовать старшеклассников. А вот достать топливо и постоянного истопника с оплатой — сложнее: нужно много денег, да и вольные рабочие руки найти не просто. Но я успокоил старика: что-нибудь и тут придумаем…
А когда пили чай, он вдруг подмигнул мне:
— Сегодня 18 февраля, молодой человек! До войны в этот день жена устраивала званый ужин. Приходили друзья, и мы пили лучшее вино из Абрау-Дюрсо, — он подошел к связке книг, порылся и вернулся с маленькой брошюркой в поблекшей голубовато-серой бумажной обложке. Стоя, торжественно сказал: —18 февраля 1825 года был отпечатан и выпущен в продажу весь тираж первой главы «Евгения Онегина»! Две тысячи четыреста экземпляров. Вот она. — он протянул мне книгу.
На титульном листе значилось: «Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Санкт-Петербург. В типографии департамента народного просвещения. 1825».
Этому томику было 118 лет! Его, возможно, держал в руках сам двадцатишестилетний автор! Пушкин!..
— Вам ведь сложно представить нынче, что для тогдашнего читателя этой книжицы ни Татьяны, ни Ленского еще не существовало! — он сощурил глаза и задрал бородку. — Роман-то выходил по главам, с интервалом. А вы в школе читали его сразу! И, конечно же, знали что-то о его прелестных героях еще задолго до знакомства с текстом. Пушкин входит в нашу жизнь с детства… И еще заметьте: из 2400 экземпляров до нас дошли единицы. Но дошли! Так как же не уберечь их?!
Я понимал восторг Николая Петровича. Да и сам был удивлен, что держал в руках такую реликвию, с трудом представлял себе, чьи еще руки могли ее касаться… И вдруг Пушкин — великое и вечное имя- символ, вошедшее еще в детское сознание, как постоянная данность, один и тот же портретик в хрестоматии, — предстал в виде слабой, доступной разрушению живой плоти: тоненькая книжечка. Это была уже осязаемая и зримая часть того, во имя чего не раз звучали в торжественных случаях солдатские клятвы не отдать на поругание нашу историю и во имя чего солдаты просто умирали в бою, в тот момент вовсе и не ощущая в себе, как все это неистребимо, как связано воедино в нашей душе, со знати, в жизни с самых малых лет…
— …И существует, молодой человек, зависимость, — почти крикнул он мне тогда. — И векторные силы ее невероятной досягаемости. Невидимые, они пронзают дни и целые столетия; Зависимость между двумя конкретными людьми, между народами, между эпохами и социальными системами. А следовательно, и поколениями. Не это ли сцепление и является гармонией мира?..
— Хороша гармония — пол-Европы в руинах! — помню, возразил я тогда.
— Как ни странно звучит, но войны — это частность, — заходил он вокруг стола, поглаживая тыльной стороной ладони подбородок. — Мерзкая частность в той неустанной целесообразности, которая управляет человечеством со дня его рождения. Какой-нибудь просвещенный монах, участвовавший в разрушительных крестовых походах, имел основание изречь, что гармонии нет: он видел, как рухнула она под огнем и мечом в реки крови. Однако же через шестьдесят лет после четвертого похода появился Данте, через триста лет — нате вам: Шекспир! Прошли еще века — заговорили Пушкин и Толстой! А сколько было бессмыслицы между этими вехами?!.
Все, что говорил профессор, было понятно мне, интересно и вместе с тем как-то призрачно далеко, только тревожащим холодком касалось моего мозга, но в душе вроде не находило места. Я пытался все это сопоставить с тем, что видел своими глазами: как бегает по танку верткое на ветру пламя, лущится от жара краска и оседает копоть, как сидит солдат, вытянув ноги в обмотках и прижимает к животу вывалившиеся кишки, белое лицо его в последней липкой испарине, а он просит пить и все косит глазом в красное месиво, куда вломился кусок рваного железа… Но не сопоставлялось… Ах, Сеню бы Березкина сюда! — думал я тогда. — Вот кто бы получил полное душевное удовольствие от мудрости Рукавишникова! Любил Сеня такие беседы! Хлебом не корми. Витька, бывало, посмеивался, а Сеня приспускал свое левое веко и ораторствовал. Тут же сопел Марк Щербина, по-медвежьи подмяв Витьку, чтоб не мешал витать мыслям Сени своими дурашливыми репликами…
Чем больше я углубляюсь в бумаги Конрада Биллингера, чем острее и громче начинает звучать во мне прошлое, когда читаю свой дневник, тем тревожнее одолевает мысль: смогу ли сделать так, чтоб все было понятно всем? Не эгоистично ли постоянно напоминать людям о том, что кажется главным для тебя? Может, чье-то главное лежит далеко в иной сфере? И годится ли напоминать взрослым, как школьникам, что они выучили не все уроки? Взрослые вольны пользоваться правом выбора.
В годы войны мы — Лосев, Березкин, Щербина и я, молодые тогда, спорили, тоже отыскивая нравственный центр, вокруг которого должно вращаться наше представление о мире; рядом с нами в конце своего пути и по-своему пытался делать это немец Конрад Биллингер.
Кто-то до нас на протяжении веков занимался тем же, не оборвется это и после нашей смерти. А ведь людям уже тысячелетия известно, что негоже силы души тратить лишь на прихоти плоти. Но должно ли успокаивать или обескураживать нас то, что это известно столь давно? Герой одной популярной книги изрек, что добро делают из зла, потому что больше не из чего. Но не слишком ли дорого тогда обходится человечеству грамм добра? И сколько его уже должно быть в таком случае, если на одну чашу весов положить зло, содеянное хотя бы с начала нашего века? Однако справедливой пропорции все еще не сложилось, на другой чаше слишком маленький вес…
Сейчас мой собеседник на эту тему — время, а ведь мог им быть и Сеня Березкин. Именно он, почему-то кажется мне, когда вспоминаю своих погибших друзей.
Шли годы. Время отворовывало у нас Сеню Березкина по черточке — его голос, цвет глаз, их выражение на худом лобастом лице, что-то еще и еще. Мы все реже стали видеться с ним в нашей памяти, и только по какому-нибудь внезапному случаю она, напрягшись, опять воскрешала весь облик Сени, и он недолгий срок жил в ней, смутно колеблясь, как сквозь подвижную воду. Но случаев таких становилось все меньше, у живой жизни всегда избыток насущных хлопот и забот. Сперва я восстал против этой инерции забвения всем сердцем, позже — совестью, еще позже — просто стыдил себя уже разумом.
Как-то сказал об этом Витьке Лосеву. Мы сидели втроем: Наташа, Витька и я у них дома. Алька угощала нас современной «классикой» — американской оперой «Иисус Христос», все время восклицая: «Ну как?»
— Годится, Алька! — хохотал Витька. — Шпарь, глуши модерном сантименты этого дяди, — кивнул он на меня. А потом уже мне — серьезно: — Жить одной памятью — чушь! Сколько можно плыть против течения времени? Все равно где-то не одолеешь, снесет тебя на стремнину в общий торопливый поток. Ты это понимаешь не хуже меня. И уже ощущаешь на себе, но все тужишься. Логика и целесообразность управляют миром. В этом залог его завтрашнего существования.
— И это исчерпывающе устраивает тебя?
— А почему бы нет? Я работаю как одержимый Некогда оглянуться. Разве это оскорбительно для памяти Сеньки и Марка? Работаю для того же, ради чего они погибли, прости за банальность. Сколько я домов построил? Города!
— Дурацкий спор, — вмешалась Наташа. — Оба вы ломитесь в открытую дверь.
— Но каждый в свою, — захохотал Витька.
У Сени Березкина осталась мать — Ольга Ильинична, врач. Сквозь долгие годы мужественно несла она свое горе, укрыв его от сторонних, не разменивая на встречные слова сочувствия, как нечто живое прятала в себе, словно хранила от сглаза, как и бумажку со словами: «…пропал без вести». Была какая-то нелепость в его исчезновении: ушел из роты и пропал.
За все время лишь однажды Ольга Ильинична подробно расспросила меня и Витьку, как жил Семен на войне, очень ли тяжело приходилось ему переносить ее тяготы, как и где пропал. Будто что-то можно было изменить в зависимости от наших ответов.
— Расскажи, — попросил я Лосева: я-то ведь все знал с его слов, в тот день, когда это случилось, меня в роте не было.
— Лучше ты, — уклонился Витька. — Что уж тут… Одинаково знаем…
Больше Ольга Ильинична о Семене не заговаривала. Мы виделись с нею все реже и реже. Лишь одно неизменно исполняла она: с детских наших лет помнила дни рождения — мой и Витькин, — и теперь всякий раз, испекши ореховый торт, каким мы любили когда-то лакомиться в доме Березкиных, являлась поздравлять нас.
Я старался относиться к этому спокойно, хотя ощущение неловкости, однажды возникнув, постоянно смущало меня. Витьку же это ее настойчивое внимание раздражало. В дни рождения у него обычно собиралась компания больше из сослуживцев — людей, не знавших ни Сеню Березкина, ни его мать. И тут Ольга Ильинична появлялась с тортом. Витька, Наташа и я встречали ее в прихожей, начинались уговоры (она не хотела садиться за стол). Наше долгое отсутствие замечали гости, выскакивали полюбопытствовать. Но Ольга Ильинична, вручив Витьке торт, целовала именинника в щеку и уходила. А он пространно, и вроде как-то оправдываясь, объяснял гостям, кто эта женщина и в чем дело, поглядывая при этом на меня, дескать, помоги.
Почти та же ситуация возникала и на моих именинах, с той разницей, что я испытывал лишь недолгое смущение, а Витьке становилось тревожно, и весь вечер он оставался каким-то растерянным.
— Ну зачем она с этим тортом? — насупившись, говорил он мне. — Ну на кой черт… Он мне поперек горла уже… Каждый год одно и то же, одно и то же… Ладно, зашла, так уж сядь за стол… Нет, тут же убегает… Что она этим хочет сказать? Что мы виноваты, что выжили? — пожимал он плечами, зло и вместе с тем обеспокоенно глядя мне в глаза, словно что-то выпытывая…
К визитам Ольги Ильиничны привыкли и в Витькиной, и в моей компаниях. И когда звяканье ножей и вилок, гул голосов вспугивал звонок в прихожей, кто-нибудь из гостей восклицал:
— Ореховый торт! Прибыл ореховый торт!..
И все с аппетитом набрасывались на еду, а мне становилось не по себе… Витька уже не обращал внимания, наливал себе рюмку, отчаянно опрокидывал ее и делал вид, что занят с кем-то разговором, а я выходил в прихожую встречать Ольгу Ильиничну…
Теперь, когда с нами не стало Витьки, я не представлял себе появление Ольги Ильиничны. Каково все это будет при Наташе? Но Ольга Ильинична не пришла. Звонить, выяснять — неловко, оставить без внимания — может обидеться за безразличие. Но она позвонила сама, извинилась, сказала, что ездила к захворавшей подруге на дачу. Правда это была или ложь — не знаю, однако я испытывал облегчение, что все разрешилось само собой, и благодарность к ней за то, что уберегла Наташу от нескольких тягостных минут на моих именинах. И Наташа не обмолвилась ни словом, а ведь не могла не обратить внимания, что Ольга Ильинична не появилась со своим ореховым тортом…
«26 февраля, пятница.
Отпускные дни летят быстро. Так не хочется покидать родительский дом — его тишину и уют. Ощущение такое, что все меньше и меньше пространства, оно сжимается вокруг меня, куда-то выталкивает. Спастись можно, лишь убежав в иное время — в воспоминания и мечты. Но разве убежишь? Существует только реальное время и реальное пространство, и они связаны между собой, как сообщающиеся сосуды. Но надо прорваться сквозь это оцепенение, так не годится. Хочется, чтобы рядом был кто-то, кто поднимет твой дух, это сейчас так необходимо! Но Криста молчит, как обычно, или говорит о чем-то далеком, на чем моя мысль сосредоточиться не может. Альберт же вовсе невыносим в разговорах, желчен, насмешлив, крамолен. Я был счастлив, когда через неделю после моего приезда появился Альберт. Спасся он чудом, выбрался из-под Сталинграда одним из последних, проскочив уже замкнувшееся кольцо. Я не просто благодарен ему, а обязан: он спас мне жизнь. Но когда я искренне сказал ему об этом, он как-то глумливо засмеялся: „Не спеши благодарить, Конрад. Может быть, настанет день, когда ты будешь проклинать свое спасение, потому что глаза твои не захотят видеть того, что предстанет перед нами“. Вещает, как пророк, черт его побери! И только Мария Раух держится молодцом: рассудительно-бодра, жизнерадостна и энергична. Она работает теперь в библиотеке клуба гитлерюгенд. Очень красива, в полувоенной форме выглядит старше, стройнее, у нас таких девушек изображают на плакатах: сильные ноги и подчеркнутая кителем высокая грудь. Волосы у Марии потемнели, она стала светлой шатенкой, хотя в детстве была таким белокурым ангелочком. У нее большой смеющийся рот, такой, наверное, приятно целовать. Глаза остались прежними: серые с голубизной, подвижные, будто все она хочет увидеть разом.
В день, когда я пришел к ней в библиотеку, фольковцы проводили кампанию по сбору макулатуры. Я знал в этой библиотеке каждую паркетину: столько раз было хожено сюда когда-то. Мария обрадовалась мне. Я еще издали увидел ее: сидя на корточках и выставив крутые коленки, она паковала в связки книги. Я залюбовался ее чистым, словно вырезанным профилем, темневшим на фоне белой стены. Мы тепло поприветствовали друг друга.
— А знаешь, я подала заявление. Хочу в армию. На фронт.
— Кем же?
— Кем пошлют. Сейчас не время рассуждать. Нужно действовать, Конрад, — смеялась она, щуря веселые глаза.
— Что это ты делаешь? — я указал на стопки книг, среди которых увидел „Избранное из Ницше — подборка для фронтовиков“, „Роща 125“ Эрнста Юнгера, его же „Огонь и кровь“ и томик Зеренсена „Голос предков“.
— Это мы готовим призы победителям на празднике Солнцеворота. Жаль, что вас не будет дома в этот день. Ни тебя, ни Альберта…
С Альбертом у них завязалось серьезно. Но он молчит. Спрашивать не стану. Захочет— сам скажет.
Потом в библиотеку пришли ребятишки из фолька. Они рассматривали мою солдатскую форму, о чем-то шептались, поглядывая на меня. Потом один спросил:
— Вы настоящий фронтовик?
— Самый что ни есть, — засмеялся я. — Похож?
— Похож! — закивали мальчишки. — Вы опять поедете сражаться?
— Конечно!
— Мой папа тоже там. Он под Харьковом. Это далеко?
— Далеко. Но ты не горюй. Ты же сын солдата!..
Мария дала ребятишкам на макулатуру старые газетные подшивки и изъятые из обихода книги.
— Ты извини, у меня еще много работы, — сказала Мария. — Вечером пойдем куда-нибудь. Свяжись с Альбертом… Надо же как-то отметить ваш приезд?!.
Я согласно кивнул.
В кафе-кондитерскую, куда нас когда-то водил Альберт, мы пошли вчетвером: он с Марией и я с Кристой. Тут по-прежнему уютно, пахло ванилью и сдобным тестом. Мы пили кофе с ликером и пирожными и, как в школьные годы, весело разговаривали. Альберт тоже был оживлен, смешил нас, и Мария не сводила влюбленного взгляда с его белого осунувшегося лица с резко темными густыми бровями. Но у меня было такое ощущение, что Альберт этим весельем насилует себя, хочет забыться.
За соседним столиком одиноко сидел парень и пил пиво, иногда поглядывал в нашу сторону. На его форме красным выделялись петлички зенитчика, а на рукаве — ефрейторский шеврон. Мы даже не заметили, когда он подошел к нам и, склонившись к Альберту, медленно произнес:
— Ты похож на русского… А что? В древности Берлин был славянским поселением. Она, — кивнул на Марию, — не может тебе принадлежать. Нация не позволит.
Лицо его было почти вровень с моим, и я успел заметить пляшущие огоньки в его зеленых глазах пьяного или наркомана. Он тут же выпрямился, щелкнул каблуками, достал из-за пояса форменное кепи и направился к выходу.
— Идиот! — вспыхнула Мария. — Я пойду за патрулем!
— Оставь, — Альберт поймал ее за руку.
Мы притихли. Очарование вечера было разрушено, и ничего уже нельзя было поправить…
По дороге домой, расставшись с Кристой и вспоминая лицо Альберта, его насмешливо кривившуюся губу, я подумал: нет, все же существует правда в том, что мы делаем, чему преданы, если несколько десятков миллионов участвуют в этом, неистово веря, что только так нужно, что прав тот один, кто внушил нам эту мысль, и если Альберт в чем-то не согласен с ним, значит — и с ними; но может ли один судить верно, а десятки миллионов заблуждаться?..»
«26 февраля.
Первый час ночи. Тишина. Во дворе пофыркивает ишак. Утеган Саспаевич привязывает его на ночь к столбику…
Был на медкомиссии, затем — к военкому. Все в порядке: 10 марта отбываю! Наконец-то! Одно заботит — Лена. Как у нас сложится? Все время твердит: при малейшей возможности — в Ленинград. Пусть бомбежки, обстрел — только скорее б открыли въезд туда…
Заходил в госпиталь проведать ребят. Там ждало письмо от Сени. Сидят в обороне, в болотах, мокрые по пояс. Витька мучается от чирьев на шее и ягодицах, но в санбат не хочет. Марк донимает рассказами, как вкусно готовила его мамаша, от этого овсянка в котелках убывает быстрее… Ждут меня… И все их новости…
Из госпиталя пошел на Мучной базар. Солнце уже вытопило здесь снег. Глинистая земля быстро просыхает. Весна тут скорая, разгонистая.
Возле лавки, где керосин, безногий на тележке с колесиками-подшипниками за небогатую мзду гадает: в узкую коробочку втиснуты свернутые бумажки, — что с кем произойдет. Белая морская свинка с красными бусинками глаз долго нюхает эти бумажки. Инвалид понукает: „Ну-ка, Аристотель, ну-ка, родной, ищи судьбу этого гражданина, ищи точно, не ошибись“. Почему Аристотель? Свинка выщипывает одну записочку, инвалид нежно гладит животное: „Ох ты моя умница! Цены тебе нет!“ — и отдает бумажку- предначертание жаждущему. Зеваки жмут: „Читай, чего тебе нагадала эта крыса“…
На длинных дощатых столах, вкопанных в землю, — товар: в мешках мука; висят сладкие сушеные дыни, они нарезаны полосами и заплетены в жгуты, вокруг них уже вьются осы; на белых полотенцах — высокие стопки румяных лепешек с хрустящей вздувшейся корочкой; в кувшинах — топленое молоко, покрытое аппетитной коричневой пленкой. Торговля бойкая. С заиканием кричит ишак, ему откликается другой — и пошло!.. Тут же торгуют и барахлом. Много эвакуированных. Поляки. Узнаешь их по одежде: пиджаки и пальто с ровными высоко поднятыми ватными плечами, обувь тяжелая, на толстых подошвах, со шнурами или металлическими пряжками. Тоже торгуют. Втиснулся со своим товаром: немецкий офицерский свитер из тонкой серой шерсти и такие же носки, трофейные часы „Ольма“. Свитер и носки было не жалко, хотя ни разу не надевал. А часы… Впрочем, сколько мне самому теперь отмерено времени?..
За час все продал. Пачку денег завернул в газету, отдал Утегану Саспаевичу, чтобы вручил их, когда я уже уеду, профессору Рукавишникову. У меня бы старик не взял, а так — меня нет, дело с концом. Пусть сохраняет свои реликвии…»
«9 марта, вторник.
Слава богу, я пришел в себя. Мать ухаживает за мной, как за младенцем: кормит как на убой, сидит за столом рядом и смотрит в рот, когда я жую, оберегает от сквозняков, а мне смешно. Проветрила мою солдатскую одежду, в нее после дезинфекции крепко въелся казенный запах лизоформа[5].
Отец заказал мне новые очки, в старых были сильно исцарапаны и потерты стекла. Я примерял их утром, стоя в пижаме перед зеркалом. Красивые очки, большая роговая оправа. Наверное, но отец ласково щурится и молчит, не говорит, сколько стоит…
Зеркало в моей комнате старинное, в темной рез ной деревянной раме, в углах, правда, помутнело, но я себя хорошо разглядел: этакий коренастый большеголовый малый с уже лысеющим высоким лбом, ровный пробор в светлых поредевших волосах, в голубых глазах беспомощная близорукость, лицо широковатое, без таких четких линий, как у Альберта, да и уши великоваты. А теперь, в новых очках, у меня вид серьезного чиновника магистрата…
Сегодня посмеялись и погрустили. Приходила фрау Генике. Она заявила, что выгляжу я отменно и могу составить счастье любой порядочной немецкой девушке, даже из благородной фамилии, и готова взяться за подыскание кандидатуры. Я поблагодарил ее и сказал, что это преждевременно. И тут мы с мамой переглянулись. Мы знали, что фрау Генике сдает на ночь комнаты в своем доме проституткам и что блокляйтер Бохнер угрожал ей за это неприятностями, хотя, когда был помоложе, заглядывал туда с какой- нибудь девицей на часок под предлогом „конфиденциальной беседы“.
Фрау Генике несколько поблекла и, словно поняв по моему взгляду, что я это уловил, прослезилась.
Повод у нее, конечно, был: Людвиг Генике вернулся еще весной сорок второго из России без правой руки, ее оторвало по самое плечо. Я помню Генике много лет: он работал контролером на станции Осткройц. Мальчишкой я всегда завидовал, что у него такие красивые никелированные компостерные щипцы, он носил их в правом кармане своей форменной тужурки…
Когда фрау Генике ушла, мам, посмеиваясь, сказала:
— Ты заметил, она ведь теперь не красит губы. Говорит, неприлично после Сталинграда…
Днем забежала Мария Раух, веселая, быстрая, шумная.
— Сегодня идем в „Атлас-бар“! — объявила. — Есть повод: наши победы под Харьковом! Ты слышал: там окружена целая армия русских!.. Встречаемся в восемь у входа… — И выпорхнула.
Что и говорить, успех операции под Харьковом воодушевляет. Если снова возьмем Харьков, будет просто здорово! 3-я танковая армия русских обречена. Так сказал фюрер. И если он объявил это во всеуслышание, значит, иного исхода быть не может.
Уж теперь-то он не позволит, чтобы его слова не сбылись…
Отец вернулся рано, и мы возились в саду, вскапывали клумбу, он хочет посадить голландские тюльпаны, кто-то пообещал ему хорошие луковицы.
Земля мягкая, сочная, влаги много, лопата легко входила в грунт. Тут уж мой солдатский опыт показал себя!
Хильда принесла нам пива, отцу трубку и табак, а я дымил своими „Равенклау“. Было так славно!..
За Кристой я отправился часам к семи. Почти стемнело. Возле синагоги был полицейский пост — в ней теперь какой-то склад. Прежде на входных дверях просто висела табличка „Вход воспрещен“…
В баре мы пробыли до одиннадцати. Альберт ушел провожать Марию, а я — с Кристой. Я выпил немножко лишнего и пытался расстегнуть Кристе лифчик. „У тебя слишком свободные руки, — сказала она, — возьми-ка мой зонтик, пожалуйста“. Находчивая моя Криста, ничего не скажешь. Когда уеду, наверное, буду ревновать ее. Когда еще я смогу выбраться в такой отпуск?!»
«9 марта.
Итак, завтра — на фронт. Пожитки уложены. День был суматошный. Возле базара встретил Киричева. Крупно поговорили. Смурной. Скулил.
Неприятный осадок от встречи с матерью Лены. В чем я виноват?
Адрес Лены в кармане гимнастерки. Суждено ли нам еще увидеть друг друга?.. Где и когда?.. Или никогда?.. Письма с фронта идут сюда, наверное, по месяцу. Лена будет ходить мимо этого домика, поглядывать на мое окно, но здесь уже поселится кто-то другой…
Прощай, Лена! Прощай, Кара-Курган!..»
На этом кончаются мои относительно подробные записи госпитального и отпускного периодов — пером, нормальными чернилами или хорошо отточенным карандашом, за крепким столом о четырех ножках. А дальше — хуже, такое, что и самому трудно разобрать, — огрызком карандаша, на коленях, при фитиле коптилки, после боя, когда дрожат руки, строчки наползают друг на друга, разве что на переформировках что-то можно было записать подробней.
Но о том последнем дне в Кара-Кургане, накануне отъезда на фронт, хочется вспомнить…
Киричева я действительно встретил у базара. Я хотел пройти мимо, но он загородил дорогу:
— Все ты от меня рыло воротишь. Все ты мне Шурку костью в горле держишь. А ведь зря! Чем он люб тебе был?
— Валяй, валяй дальше, — сцепил я зубы.
— Добрый он был, а? Сердечный? А откуда ты знаешь?
— Видел.
— А может, ему выгодно было так? Каждый норовит рольку сыграть. А доброго сыграть — лучше и не придумаешь по нынешним временам. Все жалостливые и жадные на доброту стали…
Это уже был не кураж, а исповедь, и я сказал:
— А какую же роль избрал ты?
— Об этом и речь, что я ничего из себя не корчу. Какой есть — такой на виду, — он отстранился, звякнув медалями. — Я ведь эту войну-суку переживу, — сказал он вдруг очень серьезно. — В госпитале время медленное. И поспать хватало, и думы свои поворошить, в будущее заглянуть. Днем, бывало, дрыхнешь, а ночью не спится, глазеешь в потолок под чужой храп и роешься у себя в душе. Вот и задал я однажды себе вопрос: что я есть, что я умею? Волчьим нюхом обзавелся, и все прочее по-волчьи… Все мы волками стали… Так кем же я на гражданке окажусь с этой нынешней своей высокой квалификацией?.. Постой, не перебивай, знаю, — полезешь с политграмотой, мол, сперва немца догрызть надо, а потом вернемся на гражданку, к другим профессиям и все такое прочее-разное… Ну, догрызем мы немца, а потом всей стаей ринемся по домам, на гражданку, и что же? Мозгой все будем правильно понимать, мол, пора профессию менять, да вот будет ли душа к этому готова? Вот в чем страх, а может, и ужас мой.
— Ты что же, один такой? Нас миллионы заняты сейчас одним делом. И миллионы вернутся с войны.
— А ты что же, думаешь, среди этих-то миллионов я один урод такой? Об этом и речь, что с этой загадкой перед гражданской жизнью будущей столкнусь не я один… Вот какой шурум-бурум получается. И начнем, значит, друг у друга кусок из пасти рвать? Вот он в чем весь страх мой, а может, и ужас… — повторил Киричев.
— А вдруг тебя убьют, дурак. Чего зря волнуешься, — сказал я в выпученные его глаза. Думал, взорвется он, кинется.
— В том-то и дело, что нет, — глядел Киричев куда- то поверх, будто все именно там точно видел…
Расстались мы, не поняв друг друга и не примирившись…
У самого дома ждала меня маленькая пожилая женщина, все время заталкивавшая седенькую прядку под платок, нервничала, что ли.
— Я — Леночкина мама… Здравствуйте.
Оторопел: что стряслось?
— Видите ли, я пойму, если вы отвергнете мою попытку… Но я — мать и надеюсь, вы правильно все оцените. Я ничего не имею против вас… Против ваших встреч с Леночкой. Хоть и не знаю степени их серьезности. Разговаривать с нею мне очень тяжело… Время трудное. Кто знает, как все сложится? Ведь ребята ее поколения на войне, гибнут… А у Леночки есть возможность сейчас устроить свою жизнь… Вы уж простите меня за прямоту… Надеюсь, вы человек добрый… Тот, о ком идет речь, доцент-юрист… Правда, несколько старше Леночки, но я была бы спокойна… Он не подлежит мобилизации…
— А что говорит сама Лена? — остановил я ее.
— Она не желает объясняться со мной…
— Вот видите… Но вы не волнуйтесь: я завтра уезжаю на фронт.
— О господи! — заплакала она вдруг.
— Утром, в девять, — зачем-то уточнил я.
— Простите меня… Пожалуйста, Леночке не говорите, что я была у вас… Будьте счастливы… — она засеменила прочь.
А вечером мы встретились с Леной. И хотя это был наш последний вечер, я понимал, что затевать с нею разговор на тему нашего будущего бессмысленно: помнил ее слова, сказанные тогда в домике, где мы заночевали.
— В котором часу поезд? — спросила Лена.
— В девять.
— Я не смогу тебя проводить, у меня первый урок.
— Ерунда, не маленький.
— Я просто думала, что тебе неприятно будет одному на вокзале.
— Что ж поделаешь…
Я видел, что она нервничает, покусывает губу, перебегает взглядом по моему лицу. Глаза ее сухо горели.
— Ничего, мы должны все выдержать, — вздохнула она. — И когда-нибудь вспомним и не поверим, что это было, что это было с нами, что было так тяжело… Всем тяжело… Мы будем самыми великодушными, потому что прошли такое разорение и такие страдания…
— Ладно, оставь. — Я привлек ее голову к груди и гладил по мягким теплым волосам, а сам думал о том, сколько и чего еще предстоит, и где он, тот Берлин, если только-только мы сдвинули немца за Великие Луки и топает он еще по нашей, тверской земле… Какое тут, к черту, великодушие, когда войдешь в деревню и обогреться негде — ни души, ни хатенки — одни печные трубы и сквозь пепел уже трава пробилась…
— Пойдем в школу, там сегодня вечер. Духовой оркестр играет. Пойдем?..
Вечер был в разгаре. Концерт художественной самодеятельности. В конце коридора помост — сцена. Рядами составлены стулья и скамьи. Сидели дети и учителя. Мы не стали пробираться в середину, пристроились у подоконника, ближе к выходной двери, чтобы на нас меньше обращали внимания. Потом скамьи и стулья были сдвинуты вдоль стен — освобождалось место для танцев. На помост вышли оркестранты- красноармейцы. Здоровые, сытые хлопцы. Покуда рассаживались, о чем-то переговаривались между собой весело, улыбались. Начали они не с танца, а грянули «Тачанку». Медь ревела так, что позвякивали стекла. Капельмейстер — маленький крепыш с сержантскими треугольничками в петлицах — отмахивал ритм рукой и притопывал ногой в тяжелом новеньком кирзаче. Танцевать не хотелось, и мы ушли. Долго ходили по улицам, долго прощались, стояли обнявшись или взявшись за руки. Я понимал, что конца этому быть не может и, сколько бы это ни длилось, завтрашний отъезд мой был неизбежен…
«26 марта.
Дорогие отец, мама и сестренка!
Добрался я благополучно. Ехал опять через Польшу. Тащились долго, весь запас еды, взятой из дому, за дорогу прикончил.
Правда, в одну из ночей, когда я спал, круг кровяной колбасы, лежавшей отдельным свертком, который упаковывала Хильда, у меня украли. Вагон был набит до отказа, люди разные, из всех уголков Германии, и все — на Восточный фронт, в основном те, кто уже там побывал…
Странное дело: пока был дома, я старался меньше спать, просто не хотелось, здесь же снова постоянно думаешь, как бы урвать лишний часок для сна.
Может, потому, что во сне время летит быстрее, и все, что оно несет в себе, как бы обтекает спящего, оставляя его в стороне от всех тревог.
Пишите мне чаще. Когда Криста будет забегать к вам, обходитесь с нею поласковей, она очень самолюбивая. Ты-то, отец, знаешь ее.
Кто скажет, когда мы снова с вами увидимся?!
Да хранит вас бог!
Ваш сын и брат Конрад Биллингер».
«26 марта.
Вышли из окружения. Шли ночью, избегая населенных пунктов. По дороге пропал Семен. Послал В. — искать. Вернулись вдвоем. Лицо Семена в крови. На вопросы не отвечал. Остался неприятный осадок. Выяснить!.. Старшине — про валенки. Доп. паек за три дня…»
Из окружения тогда мы вышли в тылы соседнего батальона. Никогда, наверное, не забуду этих двух страшных суток беспрерывного марша и особенно последней ночи. Черная, слепая, она затопила все вокруг, не видать было ни зги. В жизни не помню такой темени. Мы шли, окликая друг друга, вслушиваясь сквозь ветер в голоса, в надсадное чавканье сапог, глубоко вгрузавших в раскисшую и бесплодную пахоту, напрягали последние силы, чтобы вытащить из тяжелой грязи ноги вместе с сапогами. Через голенища затекала ледяная липкая жижа. В лицо из мрака хлестало дождем и мокрым снегом: шли согнувшись, чтобы меньше доставалось от холодного встречного ветра. Полы шинелей хоть и были заткнуты за пояс, но сукно все равно замызгалось, намокло и отяжелело.
От усталости ноги подламывались, не держали тела, хрипом рвало грудь. Шли уже несчитанные километры и все вязкой, скользкой пахотой, матерясь, проклиная темень, дождь, вой ветра и Витькину затею идти этим полем. Семен еще утром, когда мы были в лесу, предложил зайти на выселок, узнать у местных дорогу лесом, но Лосев воспротивился:
— Нечего нам туда соваться, продадут немцам — и поминай как звали! А где-то посчитают нас дезертирами.
— Разве ты их знаешь? — спросил Семен.
— Кого?
— Ну, этих жителей.
— И знать не хочу! — отрезал Витька.
— Так почему ты не доверяешь им? Это же наши, советские люди.
— Можно подумать, ты их знаешь, — ответил Витька. — И мы ведь не только за себя отвечаем, с нами еще двадцать бойцов.
Этот аргумент и склонил меня, как командира роты, принять сторону Лосева, и, глянув на компас, я приказал идти пахотой.
Мы шли в засасывавшей темноте цепочкой, она с каждым километром растягивалась. У всех был груз: оружие, вещмешки. Марк Щербина, самый сильный, тащил еще РПД и два диска к нему. Казалось, ночи и цепкой глубокой грязи не будет конца. Я окликнул Лосева. Он возник, слабо пробеливая темноту пятном лица. Я приказал ему пройти назад по цепочке, пересчитать и подогнать людей и еще раз напомнить, чтобы не курили.
Пока мы ждали Витьку, Марк снял с плеча пулемет и проворчал:
— Ты-то хоть знаешь, куда идем?
— На Восток. А что?
— Ничего, раз знаешь, веди, — буркнул он и с подвывом до хруста в челюстях зевнул. — Поспать бы и разуться, а?..
Лосев вернулся запыхавшийся. Едва остановился, сообщил, что Сеньки нет.
Я испугался.
— Ребята говорят, все время обгоняли его, пока он не остался замыкающим, — прохрипел Витька.
— Может, присел он? У него со вчера живот резало, — вспомнил Марк. — Жаловался. Наверное, что-то съел.
Я велел Лосеву отправиться бегом назад и без Семена не возвращаться.
Приплелись они через полчаса. Лосев держал мешок и карабин Березкина.
— Ты что это?! — набросился я на Семена.
— Оставь его, — оттеснил меня Марк высоким плечом.
— Все уже в порядке, — буркнул из тьмы Витька. — Пошли.
— Пойдешь рядом со мной, — приказал я Семену.
Ни слова не сказав, он торопливо отобрал у Лосева свой мешок и карабин, Марк помог ему продеть руки в лямки, и мы двинулись.
К исходу ночи перед нами встал лес. В лощине устроили привал. Марк и двое бойцов ушли собирать валежник. Когда стало светать, я вдруг увидел, что рот у Семена в крови, на подбородке присохла красная струйка, нос и верхняя губа подпухли. Он перехватил мой взгляд и так впился в него, будто умолял: «Не спрашивай, от этого будет больнее». Я отвернулся и посмотрел на Лосева, тот отвел глаза.
— Иди умойся в лужице, — приказал я Семену. Когда он ушел, спросил Лосева: — Зачем ты бил его? Что произошло?
— Темень, ни хрена не видно, еле волочу ноги, кричу ему, а он молчит. Едва нашел. Сидит, как комочек, согнулся, карабин меж ног и стонет. Говорю: «Вставай, Семен». «Нет, — отвечает, — идите, я уже не в состоянии, вам надо побыстрее, пока не рассвело, а я не могу, не дойду все равно, ноги уже не мои». Ишь чего придумал! Я говорю: «Ты что ж, зараза, думаешь, мы не падаем от усталости?» А он свое: «Пойми, ну, пойми — не могу уже, только ползти могу, пойми, Витя!» Ну, я психанул: рванул его с земли и по морде, по морде. Кричу: «Стреляться надумал, зараза?! Нет, еще повоюешь!» А он то стоит, то гнется крючком и руки не подымет, только бормочет «не могу» и все тут! Снял я с него вещмешок, забрал карабин и почти волоком припер.
— Плохо, — сказал я, не зная что и предпринять. — Как же вы теперь с ним будете?
— Что плохо?! — вскинулся Лосев. — Подумаешь, несколько раз по сопатке! Так ведь этим и спас его! Понимаешь, кулаком своим я ему жизнь спас! Слова до него не доходили. Мозги ему заклинило. Сам готов был рядом с ним лечь, и пропади все пропадом!..
С тех пор Витька, Семен и я делали вид, что забыли эту историю. По разным причинам не хотелось вспоминать о ней, хотя в оправдание могли сказать одно: мы были на пределе физических и духовных сил.
Мы все отяготили себя в ту ночь какой-то виной друг перед другом. Все, кроме Марка. Он ничего так и не узнал, иначе при удобном случае переломал бы Витьке руки, и я вряд ли смог бы удержать его…
Много лет спустя я не раз задумывался над фразой Витьки: «Кулаком своим я ему жизнь спас». Возникнув в ситуации критической, безысходной, возможно, внезапно, впоследствии она стала для него удобным оправданием в иных случаях, когда он добивался какого-нибудь полезного результата, зачастую даже вовсе далекого от личных интересов.
— Время тихих стишков и нежного шепота прошло, — говаривал он. — Век нынче такой. Шумный… Вот, смотри… — и Виктор показывал мне какие-то цифры, выкладки. — А ведь это за каких-нибудь двадцать лет сделано. Пустяковый кусочек времени. Впечатляет? Думаешь, одно лишь убеждение помогло нам? Дудки! Кулаком тоже приходилось. И жизнь спасать, и будущее наше. А иначе все было бы зря — и жертвы на войне, и победа…
К цифрам я всегда был глух, воспринимал их только рассудком. Мои эмоции и вера возникали от другого. Я возразил ему, сказал, что и в тихих, некрикливых стихах, в нежном шепоте для иных людей живет такая сила, что и на подвижничество позовет.
— Не рискованно ли полагаться на это? — спросил он, ухмыльнувшись.
— Страна может пойти на такой риск, — сказал я.
Виктор пожал плечами, и я понял, что не убедил его…
— Ты всегда была чутка к моде, мама. Почему же ты сейчас заупрямилась? — Алька стояла у книжной полки в моей комнате и листала толстенный, в 700 страниц, западногерманский журнал «Неккерман», рекламирующий ширпотреб — от кружев на дамском белье до автомобильных скатов с металлическими шипами.
— Речь не о моде, — спокойно ответила Наташа. — Неудобно бегать впереди нее. Тем более на таких каблучищах и платформах.
— Но это же прогноз на будущую зиму — весну, посмотри, — Алька поднесла матери журнал. — Господин Неккерман тоже не дурак. Кстати, он не только коммерсант. Он спортсмен, мама, мастер верховой езды. Кажется, даже участвовал в Олимпийских играх вместе с нашей Петушковой…
— Ну, хорошо, покупай, покупай, — сдалась Наташа. — Ты же упряма.
— Все-таки папа был терпимей к моде.
— Просто равнодушней. У него хватало других забот…
Мать и дочь… Совсем не похожи. В Альке больше от Виктора. Я знаю ее со дня рождения. Ко мне обращается на «ты». И лишь однажды, помнится, в десятом классе, когда в ней пробилось уже много женского, в какой-то вечер, когда я пришел к ним, открывая мне дверь, вдруг засмущалась и пролепетала не то «проходи», не то «проходите». Потом все стало на свое место: мы как всегда на «ты»…
Визит их ко мне был вызван приятным для Альки обстоятельством: она включена в группу студентов, едущих на производственную практику в Дрезден в Медицинскую академию. Две недели при клинической кафедре и десять дней отдыха и поездок по Саксонии. Я должен был выступить в роли консультанта и советчика.
Пока Наташа листала «Неккерман», мы с Алькой, раскрыв путеводитель и план-карту Дрездена, совершили маленькое путешествие по городу и округу.
— Если удастся, непременно съезди в Бауцен. Это недалеко от Дрездена, километров семьдесят. Он еще называется Будизин, по-славянски. Это центр сербо-лужичан, они живут там более тысячи лет. Подробности — в этой книжице. Дам тебе и письмо. Есть там такой Мартин Фолькель, хороший парень, работает в сербо-лужицкой газете «Нова доба». Все покажет и расскажет… Как у тебя с немецким языком?
— Почти так же, как с японским, — засмеялась Алька.
— Понятно. По этому поводу надо грустить, а не радоваться. В школе-то учила!
— Забыла все.
— Займись до отъезда. Время есть. Хоть немножко восстанови, самое обиходное. Иначе будешь глухонемой…
Еще с полчаса я просвещал Альку, а когда они уходили, подарил ей «Неккерман», понимая ее вожделение.
— А тебе не жалко? — спросила она, зажав журнал под мышкой.
— Бери, не то передумаю… Ну, а как твой жених?
— Женька? А он еще не жених. Кандидат.
— Как же так? А мать все зовет меня на смотрины.
Она оглянулась на Наташу.
— Ладно, доктор, захочешь — сама познакомишь, — сказал я.
Ушли…
На столе лежал путеводитель и развернутая план- карта Дрездена… Вот и Алька скоро махнет в Дрезден…
Месяц назад я уезжал оттуда поздним будапештским экспрессом в Берлин. Конец марта был гнилой. Сырая темень незаметно вползала в город. Дождевая пыль липко оседала на здания и брусчатку, оставалась испариной на лице. Радужные венчики ее висели вокруг белого сияния неоновых фонарей. Непроглядно глухая вода Эльбы, вовсе черная под мостами, с дрожью, как от внезапных ожогов, перекатывала быстрый отсвет автомобильных фар и скользившие желтоватые полосы света, падавшего из окон громыхавших трамваев. Дул сильный ветер, закручивая штанины брюк, выламывая наизнанку зонты в руках редких прохожих. Увязли во тьме точки предупредительных огней телевизионной башни на лесистой вершине Вахвицер — Хеэ.
Пустынны были улицы, пустота сквозила из витрин обезлюдевших магазинов. Она особенно обнажена была на залитой светом многоэтажной Прагер-штрассе — счастливой и клокочущей днем.
К непогоде становишься чувствительней на чужбине, когда смотришь с вымершей мокрой улицы на сотни зазывно полыхающих окон многоэтажных отелей или в ожидании поезда слоняешься по вокзалу, где лаконичные и сокращенные надписи-указатели обращены вроде не к тебе, а к тем, кто и без них все здесь знает. Ты же, чужеземец, только путаешься в них…
Поезд опаздывал, и я заглянул в привокзальный гастштет, бойко обслуживавший пассажиров, несмотря на поздний час.
Быстро самообслужившись, я устроился с подносом за столиком у самой двери. Ужин был дежурный: квадратик пресного холодца, несколько кружочков кровяной колбасы, салат из холодной картошки и лиловой капусты, кружка пива.
Мне всегда казалось, что краткая жизнь людей на вокзалах, как нигде, обнажает их суть, характеры, привычки. Я любил эти мгновения тем любопытством, которое дорого потому, что не может быть удовлетворено до конца, ведь люди эти тут же исчезают навсегда, увозя с собой что-то, оставшееся для тебя тайной.
Так могло быть и в этот раз в закусочной, набитой пассажирами. Но то ли я устал, то ли был перенасыщен впечатлениями и утомлен необходимостью все время вслушиваться в немецкую речь, чтобы понимать окружающих, — ничто конкретное не воспринималось, детали размылись, и я сидел, погруженный в монотонный гул голосов, лениво потягивая пиво.
Лишь позже обратил внимание на группу людей, едва умещавшихся за столиком справа. Их ничто не обосабливало, но что-то выделяло, хотя они вели себя, как и все здесь, — ели то, что и остальные, взрослые пили «гросс бир», а дети «кляйн бир», говорили между собой по-немецки. И все же я понял — это семья цыган. Их присутствие на дрезденском вокзале, в центре Саксонии никого не удивляло и не занимало.
И на память тогда пришла другая встреча — в Ораниенбурге, в бывшем концлагере Заксенхаузен, где ныне музей жертв фашизма. Я ходил по этой страшной и грустной земле с пожилым подполковником в отставке Романом Дмитриевичем Корякиным, бывшим узником Заксенхаузена. Мы молча слушали гида, хотя Корякин знал здесь все лучше, чем он. Однако молчал. И лишь когда вышли за ворота, на которых сохранилась циничная надпись «Arbeit mach frei» — «Работа приносит освобождение», Корякин сказал:
— Я был здесь не просто военнопленным, я ведь цыган, а мы подлежали уничтожению. Это очень плохо и опасно, когда у человека нет никаких достоинств. Он начинает считать своим достоинством либо богатство, либо свое положение в обществе, либо цвет собственных волос и глаз, отличающий его от прочих, и хочет возвыситься, самоутвердиться, быть заметнее за счет унижения других. «Славяне, евреи, цыгане — низшая раса». И все тут. А он — высшая. Примитивно, но удобно…
Поезд пришел из Будапешта с опозданием на сорок минут. Народу на него было немного. В купе, кроме меня, оказался молоденький немецкий солдат. Поставив черный портфель на багажную полку, он взялся за толстую книгу в голубой суперобложке.
Здесь не принято, как у нас, затевать знакомства и разговоры со случайными попутчиками. По нашей мерке это ненормально: несколько часов маешься в полуночную пору, лечь выспаться нельзя — места сидячие, расстояние пустячное, но томишься от безделья, а тебя подзуживает обыкновенный интерес к людям, просто любопытство. Но есть в таком подорожном отчуждении и свои преимущества — никто (трезвый или поддавший) не лезет с советами на все случаи жизни…
Так мы и ехали. Я все норовил заглянуть на голубую суперобложку книги, хотел прочитать название, но солдатик держал ее слишком низко.
Поезд был почти пуст. По вагонам ходила пожилая уборщица со щеткой и совочком. На узкой колее вагон раскачивало, колеса убаюкивающе отбивали свой ход. За черным окном в косых дождевых насечках мгновенной искоркой вспыхивал огонек в чьем-то далеком, затерявшемся среди полей и рощ жилье, и снова подступала непроглядная ночь.
Перед Цоссеном солдат, порывшись, достал из портфеля бутылку пива, боквурст — зажатую меж ломтями хлеба сардельку, густо помазанную горчицей. На длинной цепочке, пристегнутой к его брючному ремню, оказались нож и открывалка для бутылок. Ел он не спеша, пил из горлышка тихо, аккуратно. Покончив с трапезой, расстегнул ворот кителя, удобней оперся худенькими лопатками о спинку сиденья и прикрыл глаза.
Он дремал, а может, уже глубоко спал, и я мог рассмотреть его. Лицо мальчика. Красивое, с ровной линией светлого лба, прямой нос и мягкий выгиб подбородка, бледное, уставшее лицо с легким бисером пота над безусой губой. На нем ничего не отражалось, кроме безмятежности, какая проступает на лицах наших детей во сне после трудного, наполненного утомительными играми дня. Голова солдата чуть склонилась к плечу, подрагивала, круче напрягалась ребячья шея с хрящиком кадыка.
Я погасил верхнюю лампу, бившую светом ему в запрокинутое лицо, задернул шторку на стеклянной двери, чтобы загородить свет из коридора, и вышел из купе.
Меж двух половинок шторки оставался просвет, и теперь я видел фигуру спящего издали: на мышином кителе — черный воротник со светлыми петлицами, внутри их зеленая полоска, две такие же нашивки на рукавах.
Кольнуло, когда я понял, что ищу на знакомом мышином кителе еще что-то, некий признак иного времени. И я отвел глаза на руки солдата: тонкие с гладкой кожей, с аккуратно остриженными ногтями, безгрешно и расслабленно покоились они на коленях, вытянувшись из широких рукавов. Это были еще руки школьника, но уже без чернильных пятен меж указательным и средним пальцами…
Солдат пошевелился, уселся поудобней и снова заснул, бледнело в полумраке его нежное лицо, и я подумал о том, что глянуло вдруг из прошлого на этого немецкого мальчика минуту назад. И ничего объяснить я бы ему не смог, он и мой сын скорее бы поняли друг друга, нежели меня. Да и слава богу. Он был очень похож на моего сына и тонким добрым лицом, и щуплостью плеч, и хрупкостью пальцев…
С укором заглушив в себе позыв недоброй памяти, вызванный цветом кителя спящего юноши, я подумал: «А за что, собственно, укоряю себя? Не угодничаю ли перед прихотью времени и обстоятельств? Не пытаюсь ли приспособиться памятью и совестью одновременно к двум разным, несовместимым событиям истории?..»
И ни при чем этот солдат, выросший в иной социально-нравственной атмосфере. Его с моим сыном, с той же Алькой связывает новое время, за которое уплачена высокая цена…
После Рангсдорфа уборщица погасила в пустых купе свет, за окном слабо горели перронные огни. Поезд тронулся. Фонари, людей на перроне и сам перрон отодвинуло назад. Так мы и ехали до самого Берлина: я и спящий немецкий солдат…
Ночной Остбанхоф был почти безлюден. В возвышавшихся застекленных диспетчерских будках горели только настольные лампы. Пассажиры нашего поезда негусто выбрались на перрон. Одни заспешили вниз по лестницам и тоннелям, безразлично проскакивая мимо витрин магазинов и киосков «Митропы», довольные, что наконец добрались домой, другие переходили на платформы, откуда на Эркнер и Шонефельж через пригородные станции шли уже редкие в эту пору электрички; а иные садились на скамейки тут же, на перроне, ожидать поезда на север, к Ростоку.
Мой сосед-солдат одернул мундир, подхватил портфель и, совсем не заспанный, легким быстрым шагом прошел мимо меня вниз по лестнице. В гулком пустом нутре тоннеля я еще долго слышал стук его каблуков…
«29 апреля, четверг.
Деревня, в которой мы стоим, называется Дерюги. По-русски это, конечно, что-то обозначает. Почти все названия деревень имеют у них определенный овеществленный смысл…
Лазарет наш в десяти километрах от передовой.
При нем и аптека. Правда, аптека — слишком громко сказано: весы для расфасовки порошков, автоклав.
Много времени занимает подготовка перевязочного материала. Стоим в обороне, но все равно лазарет забит. Оборона — тоже войн. Раненые офицеры, те, что поопытней, кадровые, ругают сидение в обороне, — медленно истекаем кровью: скоро два года, как мы начали поход в Россию, а все еще не видно конца этой страны — гигантской, необозримой и непонятной; хватит ли нас?..
Конечно, должен наступить какой-то перелом.
15 марта нами опять взят Харьков. Там убедительная победа: говорят, только пленных 70 тысяч. Может, это и есть начало, вступление к большой летней кампании?..
Деревня почти вся сожжена: несколько раз переходила из рук в руки. Уцелела лишь школа, где и разместился лазарет. Жителей мало, старики и дети.
Хмурые, странные люди. Иногда ловлю себя на желании заговорить ними, что-то понять. Ведь что-то же они знают, о чем-то говорят между собой!.. Что, о чем?.. Так уж ли они примитивны, как это мы считаем?.. Тайна чужого духа всегда влечет…
В двух километрах — маленькая станция. Там полевая почта и пункт военной цензуры, где служит Мария Раух. Пристроил ее туда Альберт. В свободное время она приходит к нему. Несколько раз оставалась ночевать. Неунывающая, веселая, верящая, что все хорошее еще впереди. Местных жителей она старается не замечать. Иногда, правда, засмотрится на хилого ребенка, потом, словно очнувшись, тряхнет волосами, улыбнется Альберту и скажет:
— Это неизбежно, это сопутствует войне, которую мы ведем для благополучия наших детей, нашего государства!.. И ничего не поделаешь, нельзя смешивать все в кучу. Надо верить в дело, которым занята вся нация, иначе ничего не получится… Ну, разве не так, Альберт, Конрад?..
Я не знаю, что ответить ей. А Альберт посмеивается:
— Ах, Мария, Мария! Что бы армия делала без тебя?..
20 апреля, ко дню рождения фюрера, из райха прислали подарки. Набор бессмысленных вещей. Кто-то формально отнесся к этой идее и все испортил.
— Экое издевательство, — ворчал простодушно Густав Цоллep, вороша обожженными в кострах пальцами нутро посылки. Он извлек оттуда охотничий нож — атрибут формы гитлерюгенда. Такой нож мне когда-то торжественно вручал в банне[6] наш баннфюрер Лотар Витт. Как я тогда был рад! Витт потом служил в СС. Дома мне рассказали, что его повесили партизаны где-то под Смоленском.
У нас новичок: пожилой солдат-резервист Дитцхоф. Он из Ораниенбурга. Худой, болезненный, лицо серое, изрубленное морщинами, на ушах растут волосы. Он ездовой на санитарной повозке. В свободное время Цоллер и и Дитцхоф режутся в карты — в дурацкого „Черного Петера“…
Сегодня они играют на разные безделушки из этих никчемных посылок. Дитцхоф выставил „кабаре“ — маленькую пластмассовую тарелочку, разделенную на секции, в которые помещается по ложке всякой закуски, а в центре — рюмочка для яйца. Цоллер поставил охотничий нож…
Играли они молча, сосредоточенно. Я смотрел на склоненную, коротко остриженную голову Цоллера.
Волосы у него начали едва отрастать. Густаву не повезло: уже дома, в отпуске, его свалил тиф. В часть Цоллер вернулся из инфекционного лазарета. Глядя на его широкий выпуклый череп, я вспомнил обложки наших иллюстрированных еженедельников 1941–1942 годов. На них печатались фотоснимки русских пленных — изможденных, оборванных, остриженных наголо. Последнее особенно смешило нас.
Ощущение такое, будто я дома и не был. Все продолжается…»
«29 апреля.
Неделя как мы в обороне. Врылись в землю по уши. Лопаты — дрянь: черенки суковатые. Я получил еще одну звездочку на погоны. В. — новый взводный, получил старшину. Самоутверждается».
Дальше в записи перечисляются хозяйственные заботы.
В тот день я стал лейтенантом, а Витька — старшиной, командиром взвода.
Рота занимала самый правый фланг дивизии: Между нами и соседом — 115-й стрелковой — был приличный разрыв. Обещали заткнуть его резервной ротой, но долго никого не присылали.
Передовая шла по лесистой возвышенности, внизу лежала глубокая ложбина с кустарником. Немцы притаились за ней, на лысых холмах.
Окопались мы в полный профиль, с ячейками для пулеметов, блиндажами, — благо леса навалом. Так было приказано.
Марк ворчал: «Пустая работа. Не первый день воюю. Это уже закон: только выроешь, присыплешь бревна землей, не успеешь и перекурить, как приказ сниматься. Даже ночки в таком блиндаже не покимаришь…» Тем не менее рыл, бушлат скинул. Лопата, как детский совок в его здоровенных руках.
Чесал ею вовсю, на сыром грунте оставались глянцевые срезы, и из них торчали, пошевеливаясь, бледно-розовые разрубленные дождевые черви. Рядом устало возился Семен. И я понимал: Марк спешит, чтоб помочь Семену. Витька расхаживал, покрикивал: «Побыстрее, орлы. Вы же — взвод Лосева!» «Мы не в училище на тактике, — огрызался Марк. — Ты бы еще секундомер взял. А вообще, товарищ взводный, флягу принес бы, попить родимым солдатушкам. Ты ведь теперь наш отец родной». «Оставь его, Марик», — сказал Семен, оберегая Витькино самолюбие.
Я увел Лосева, чего доброго, еще вспыхнет. Взвод он принял только-только. И утвердиться надо, и еще неловко было приказывать другим выполнять то, что еще недавно делал вместе с ними. Но я знал: Витька свое возьмет — не мытьем, так катаньем.
— Ты бы поговорил с ними, — сказал он мне потом. — Все-таки авторитет мой… Скоро и пополнение придет. Как новички на меня смотреть будут?.. Или переведи на другой взвод.
— Тебе что, безразлично? — спросил я.
— Представь себе… А если тебе не безразлично, прикажи Щербине, чтобы не подначивал. Я воюю не хуже его…
— Вы что, в детском садике, игрушки не поделили? — сказал я. — Шутки понимать надо.
— Мы все шутники, а над нами пули шутят… Думал, поймешь меня, а ты… — он обиженно махнул рукой и ушел…
Витька всегда мог обидеться из-за пустяка, а позже, уже став инженером, мог возненавидеть человека за то, что тот оказывался лишь свидетелем какой-нибудь его неудачи…
«5 июля, понедельник.
Несносимая жара. Пыльный ветер. Ухитрился тайком сбегать дважды в душ. Вчера нас гоняли рубить лес у самой деревни: начальство опасается партизан.
С зимы там стоит наш сгоревший тягач с 75-мм пушкой. Щит смят, замка нет. Обнажившийся из-под краски металл обрызган какой-то багровой ржавчиной…
Все мы живем последней новостью: фюрер начал грандиозную летнюю кампанию под Курском. Неужели, наконец, перелом, поворот к счастливому, а главное — скорому концу?!. Дай-то бог, чтобы все завершилось быстро…
В деревне стоит его батальон. Прибыл позавчера. В основном юнцы, подросшие за годы, что мы на войне. Завтра их отправляют на передовую. На них все новенькое, подогнанное, а именно это вызывает во мне жалость к ним. Будто прибыли эти мальчики, как до войны во время школьных каникул, на учебные игры в спортлагерь. Бычки эти настроены браво, воинственно, рвутся в бой, поскорее на передовую. Выглядят и рассуждают так, словно они и есть та последняя и единственная сила, которая способна будет привести нацию к победе вроде сам господь избрал их для этого. Кто и сколько из них уцелеет через неделю, а кто останется в этой земле навсегда и растворится в ней, превратившись со временем в ее пыль, пока что их не занимает…
Альберт ходил читать им лекцию, как уберечься от венерических заболеваний…
В лазарете стоит жуткая вонь: зной делает свое дело, раны преют, частые гангрены. Смердящие грязные бинты, задеревеневшие от крови и гноя, мы сжигаем в яме. Вчера во время этой операции подошло несколько юнцов из батальона. Я как раз заталкивал палкой бинты в огонь. С каким-то странно-тревожным интересом, молча они смотрели на мое занятие. Одного, по-моему, начало мутить, он сглотнул слюну и торопливо достал сигарету. Я поднес ему дымившийся малиновый конец палки, но он отдернулся, помотал головой, вытащил спички и тут же ушел. У этих ребят я достал свежий номер „Нахтаусгабе“. Ничего интересного я там не вычитал. Крупно подавалось сообщение, что рейхсфюрер призвал членов гитлерюгенда к участию в сборе урожая…
Сегодня во время обеда спросил старика Дитцхофа:
— Почему вы так мало едите?
— Нет аппетита. Мяса видеть не могу, воротит от него. Это у меня уже полгода… А когда-то любил. В особенности поросячьи ножки.
Я знаю, что у Дитцхофа что-то с желудком, его часто рвет после еды.
— Слушайте, Дитцхоф, вы же из Ораниенбурга? — я решился, наконец, задать вопрос, который мучил меня давно. Он возник еще дома, в отпуске.
— Из Ораниенбурга.
— Это правда, что там… в Заксенхаузене, в этом концлагере…
— Я ничего не знаю, — он пугливо оглянулся.
— Но лагерь же почти в самом городе, в трехстах метрах от центра?
— Мы ничего не слышали…
Он не первый из Ораниенбурга, у кого я спросил о Заксенхаузене. Но ответ один: „Ничего не знаю“.
Мне же отец сказал, что якобы в этом лагере, почти в черте города, убивают узников, свезенных из разных стран. Их очень много… Вот и Дитцхов: „Мы ничего не слышали“.
Чего же ищу в своих расспросах? Подтверждения? Или опровержения, потому что мне удобней не верить в это, и я хочу спрятаться за ложь Дитцхофа и других, хотя понимаю, что ничего не слышать и не знать невозможно: в лагере узников, наверное, столько, сколько жителей в городе…
— Поговаривают, что там уголовники и другие государственные преступники. Их перевоспитывают там… трудом, — пробурчал Дитцхоф…»
«5 июля.
В св. Совинформбюро: „На ос. фр. бои местн. знач.“ Главное под Курском. Немец там попер здорово. Про нас не скажешь даже „бои местн. знач.“. Тишина вообще. С чего бы? Письмо от Лены. Невеселое.
В. фантаз. — собир. в инженеры! Расх. боепр. урез.
Про Щербину — в дивизионке».
К этой записи в дневнике хлебным мякишем приклеено письмо от Лены. Не все, половинка оторвана.
В день начала битвы на Курской дуге мы все еще сидели в обороне. Запомнился тот день еще и тем, что Витькины высказывания, возможно, определили его будущую профессию, хотя тогда они показались мне не больше чем обычный его треп.
Немцы жгли по ночам порцию ракет, постреливали из пулеметов. Днем тоже велась пустая и редкая стрельба: кто-то из наших пальнет — они отвечали, немцы дадут очередь — наши отвечали. Перед их передним краем тянулась железнодорожная насыпь. Была она ничья, поезда не ходили. В бинокль видно было, как заржавели рельсы, меж шпалами проросла трава. На одном участке немцы попробовали было разобрать колею и выворотить шпалы, но мы их пуганули из пулемета. Больше не лезли.
Дошло до того, что наши стали ползать за водой в низинку к ручью, откуда и немцы брали воду. Даже расписание установилось: они — на рассвете, мы — перед заходом солнца. Ни они, ни мы не стреляли в это время. Вода там была чистая, проточная, а мы, кроме болотца с ряской и жабами, ничего другого не имели. Но комбат устроил мне разнос. Боялся, как бы фрицы нас не обдурили: устроят засаду и утащат кого-нибудь к себе. Я сказал, что мы ведь тоже так можем «языка» прихватить. Но комбат отмахнулся: «Команды не было»… Витька злился: «Никакой инициативы проявить нельзя! Нет, даже если дослужусь до полковника, как только кончится война, — демобилизуюсь. Любыми средствами. В мирные дни мне в армии делать нечего. Размах не тот. Твоя инициатива не от тебя зависит».
Он таскал с собой измятую страничку какого-то немецкого журнала. На тонкой глянцевой бумаге — сплошь фотографии: красивые многоэтажные дома, виллы. На обороте в разрезе изображались квартиры в них.
— Вот что строить надо, братцы, — щелкал. Витька командирской линейкой по странице. — Не коммуналки, а такие домики, к примеру. Вот она, послевоенная стезя умного человека. Тут тебя ордена и слава ждут!..
— Ты же все печалился, что не получил лейтенантского звания после училища, — напоминал ему Марк.
— Захочу — будет. Еще и второй просвет на погонах появится. Война еще долгая, Маркуша. Пока всех фрицев не передавим. Еще до Берлина на брюхе доползти надо. Но уж там гульнем! Немочек выстроим — на выбор! — заводил он Марка. — В каждой жизненной ситуации, Маркуша, нужно ловить момент, когда следует возвыситься до пика, а когда вовремя потихоньку начинать спускаться с него. Чтоб тебя не турнули, если задержишься. Понял? — поучал Витька. — А потом лезь на другую горку, что маячит перед тобой надеждой. Вот так, друг Маркуша. Иногда ведь что получается? Не сделал вовремя чего-то, после начинаешь фантазировать, а как бы ты это мог сделать. Выходит еще красивее, чем если бы на самом деле состоялось. А толку что?.. Вот мы с Семеном и пойдем в строители. Знаешь, сколько нужно будет домов? Так, что ли, Сеня?
— Нет, Витя, ты давай сам, — отвечал Семен, прикрыв свое левое веко. — Ты это будешь делать лучше меня.
— А ты что станешь делать?
— То, что сумею лучше тебя…
Марк молчал. Я знал, — что он хочет остаться после войны в армии, закончить училище. Он еще в школе мечтал об этом. Тут у нас с ним интересы тогда совпадали. Но совпадут ли они, думал я, с тем, что тайно наворожила война?..
Письмо Лены: «Дорогой мой! Редкие твои весточки получаю. К сожалению, они не очень подробны. Но, вероятно, сейчас необходима суть, а не ее подробности. У меня все без изменений. Жизнь здесь — как эхо чего-то большого и главного. Утешает работа в школе: дети взрослеют духовно на глазах, умеют дорожить самым важным. Это, по-моему, останется на всю жизнь. Мама чувствует себя лучше. С тетей дела обстоят совсем плохо. Ей нужны лекарства, которые не достать. Я скучаю по тебе, хотя ты об этом не спрашиваешь. Как ни странно, это мне доставляет радость, которую могу себе позволить: значит, я живу и на что-то надеюсь. Профессор Рукавишников уехал в Ленинград. Увез свои вагоны. Из его сокровищ почти ничего не пострадало. Мы намерены тоже возвратиться в родной город. Ведем необходимые переговоры. Свершится это через две-три недели. Я никогда не давала себе воли поразмыслить над тем, что я старше тебя на два года. Хотя ты об этом знаешь давно, но…»
На этом письмо Лены обрывается. Вспомнить же, что в нем было еще, не могу, как ни старался.
«23 августа.
Здравствуйте, отец и мама, здравствуй, сестричка Хильда!
Письмо, написанное Хильдой. Сегодня относительно спокойный день, и я имею возможность ответить вам и Кристе Панкнин. Вы уже, наверное, знаете о делах под Курском. Я стал ближе к вам еще на сотню километров. Не знаю, утешит ли это вас. Мне как-то стало все безразлично, потому что не могу постичь смысл происходящего и свое место в нем. Но надо повиноваться обстоятельствам…
Как вы живете? Какие новости от опа Фреймута? Если у него в этом году будет много винограда и он пришлет вам пару бутылочек, сохраните для меня одну, даст бог, вернусь, разопьем вместе. Как видите, я надеюсь на лучшее.
Да хранит вас бог!
Ваш сын и брат Конрад Биллингер».
«23 августа.
Дорогая Криста!
Вопреки теории Альберта, что воспоминания для фронтовика — лишь тягостная ноша, я все же не лишаю себя этого единственного здесь удовольствия. Вспоминаю дом и прежде всего — тебя, наши прогулки под Кепеник, когда я был в отпуске. Тогда в блаженном покое, в тишине природы, рядом с тобой я все думал: что же человеку еще нужно, кроме этого. За чем он искушает судьбу? Но никто мне на это не ответил. Ты же вообще у меня молчунья. Но я знаю, в душе ты согласна со мной.
О моей жизни здесь ты знаешь, она однообразна, и ничего нового сообщить тебе не могу. Альберта и Марию Раух вижу часто. Это единственные близкие мне люди, и я ими очень дорожу.
Кто знает, суждено ли нам с тобой еще увидеться, но не надеяться нельзя, иначе было бы совсем скверно. Если мы поженимся и у нас будет сын, я очень хочу, чтобы он стал врачом. Глядя на Альберта, я понял, что они больше всего нужны людям. Всегда, во все времена, даже тогда, когда люди уже перестают нуждаться в священнике.
Пиши мне чаще. Я люблю твои письма и тебя.
Твой Конрад».
«23 августа.
Под Курском победа! Вломили им! Дел по уши. Готовимся и мы. И все-таки — убитые: Колыванов, Мазуркевич, Гизматуллин — уже после отправки строевки. Два ящика пр. танк. гранат. В. „организовал“. Понимаю — спер. Связи нет два часа. Гуменюк — на порыв. Нюх у него на это. Скирда еще дымит. От Лены пока единственное письмо. Был разговор с Мар. Жаль, некогда записать. Что у них с В.? Ссорятся».
День был, видимо, обычный, неприметный и едва ли вспомнился, если б не последняя фраза в записи.
Пожалуй, тогда Марк Щербина впервые откровенно высказал мне то, что думал о Витьке.
Марк был комсоргом роты. Его любили за ровный характер, за справедливость. Даже пожилые солдаты на политинформациях, которые он проводил, вооружившись дивизионной газетой, не стеснялись задавать ему вопросы.
Сейчас я понимаю, что Витька ревниво относился к его авторитету, иногда язвил. Но и Марк не оставался в долгу, и у него это звучало посерьезней.
Я спросил у него:
— У тебя есть претензии к Лосеву, как к командиру взвода?
— Нет.
— Так в чем же дело?
— Ему больше взвода давать нельзя: слепнет от тщеславия. Ты знаешь его философию: лес рубят — щепки летят, а на войне, мол, тем более. А щепки для него — это хиляки вроде нашего Семена. Удобрение. Витька так рассуждает: «Кому после войны все строить заново? Нам, фронтовикам. Мы — хребет народа».
— Правильно рассуждает.
— Не перебивай. «А хребет, говорит он, не должен гнуться. Только самым сильным и жестким это по плечу. Чувствительным и сентиментальным нечего будет делать. Разве что под ногами станут путаться. Война и есть тот естественный отбор». Значит, топчи тех, у кого душа помягче, оттирай от жизни? Так, что ли?..
— Но ведь он и себя не жалеет… Ты его видел в бою.
— Это тоже можно по-всякому. А ему важно, чтобы его заметили.
— А тебе?
Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся большими добрыми губами.
Мягко втягивались в лес закатно-лиловые сумерки. Мы сидели на поваленной ольхе. Марк вытащил из-за голенища ложку — самодельную алюминиевую с черенком в виде обнаженной женской фигурки; стащил сапоги, размотал портянки, прошелся босой по теплой траве — высокий, огромный, остановившись передо мной, сказал:
— Знаешь, мне кажется, что все настоящее, ну, реальное — это наша мирная жизнь и что она продолжается. А война — просто трудный сон. И его хочется и надо досмотреть до конца, не суетясь, не внося в эту необходимость никакого шкурничества. — Он сел на ольху, разгладил на траве портянки — истертые, с неотстирывающимися темными пятнами пыли и пота, вбитыми в каждую ворсинку.
— Значит, в реальной жизни можно шкурничать?
Он выпрямился:
— Ты не так понял. Война — сама по себе тяжесть. И для тела и для души. Нельзя ее усугублять прихотями своего характера. А у каждого в характере этих прихотей — будь здоров! Сейчас жить надо только для войны, для ее цели. Не то чтобы не думать о будущем, думать надо. Но как-то иначе, не алчно, дескать, вернемся и покажем, кто есть кто. Понимаешь? Нельзя воевать по принципу: восемь пишем, два в уме…
Слушая Марка, я вспомнил в тот миг бой под Клюевкой, траншею, немца, добивавшего из пистолета раненого Саятбетова… Марк этого немца саперной лопаткой рубанул с размаху по затылку, кровь и мозги выплеснулись ему на гимнастерку, в лицо. Два дня Марк ходил без гимнастерки в одной телогрейке. Витька неделю донимал его: «Расскажи еще раз, Маркуша, как ты его по кумполу лопаточкой». Трижды на день готов был это слушать. Они тогда повздорили, и Марк потом сказал мне: «И еще буду бить — хоть лопатой, хоть ножом, хоть голыми руками давить, пока эта погань паскудит нашу землю и истязает народ. Но вот забожиться готов, если уцелеем, через двадцать, тридцать лет где-нибудь на вечеринке перед дамами Витька снова начнет приставать ко мне, чтобы опять рассказал. А мне ведь неохота будет. Не это запоминать надо…»
Не знаю, сколько бы мы еще с Марком просидели на ольхе, но разогнал нас по местам внезапный артналет. Немцы били бегло одной батареей, фугасами. Что-то им показалось. Огонь так же внезапно утих. Кисловато-едкая гарь сползла вниз, к нашим окопам, вытеснив свежий воздух вечернего леса…
«8 ноября, понедельник.
После полудня произошла неприятная история. Я сидел у окна, сортировал иглы для шприца, когда во двор въехал „опель-капитан“. Из него вышел высокий молодой офицер. Шинель нараспашку. На левой стороне груди глянцем поигрывали ордена. Что-то блестело и под воротником на шее. У входа в здание часовым стоял Дитцхоф, заступивший на пост после обеда. Старый карабин 98-К торчал у него из-за спины. Офицер шел прямо на Дитцхофа. Тот испуганно замер.
Офицер прошествовал мимо и остановился перед группой встречавших его людей. Был среди них и Альберт.
— Что за чучело? — спросил офицер, кивнув на Дитцхофа.
— Из резервистов, господин капитан, — ответил старший врач.
— Он прежде всего солдат германской армии — перебил гость. — Напомните ему, что часовой обязан приветствовать Рыцарский крест.
— Безусловно, господин капитан, — кивнул старший врач.
Теперь я понял, что блестело у него на шее.
В это время из другой двери, где находилась сестринская, громко хохоча, выскочила Мария Раух и, ничего не заметив, побежала через двор. Она была в коротеньком, не застегнутом, видимо после душа, халате, придерживала его на груди свертком с бельем. Рванувшийся ветер задрал полы халата почти до бедер открыв высокие белые ноги Марии.
Капитан дернулся, вытянулся, будто проглотил кол.
— Это что еще? — едва разжав губы, спросил он. — У вас воинская часть или бордель!.. Среди бела дня шлюхи бегают…
Наступило тягостное оцепенение. И тут Альберт сказал:
— Господин капитан, эта женщина служит в вермахте. Она доброволец… Если не ошибаюсь, вы, господин капитан, — фон Киеслинг? Едва ли вашей фамилии делают честь подобные слова о незнакомой женщине. Тем более о немецкой женщине.
Разорвалась бомба!
Пухлое, гермафродитно-гладкое лицо капитана не побледнело и не побагровело. Не шевельнувшись, выслушал Альберта, не перебивая, до конца. Потом сказал:
— Я действительно фон Киеслинг. А кто вы?
— Хирург.
— Ваше звание?
— Обер-лейтенант Альберт Кронер.
— Я запомню вас, обер-лейтенант. Мы еще встретимся.
— Не исключено, господин капитан, мы на войне.
— Где вы получили Железный крест?
— Под Сталинградом.
— Вы смелый человек, обер-лейтенант.
— Что поделаешь, господин капитан, я же сказал: мы на войне.
— Я вас больше не задерживаю, обер-лейтенант. Вы свободны.
— Так точно, господин капитан, — Альберт сделал шаг в сторону, открывая гостю путь к двери…
Позже я зашел к Альберту и сказал, что все видел.
— Что теперь будет, Альберт? — спросил я.
— Этот хлыщ не простит. Он инспектор из штаба группы армий. Заехал к нам передохнуть по дороге на передовую. Они так и воюют: год в тылу, три дня на передовой. И — новый крест на грудь… Да пошел он к черту! — вскипел Альберт. И вдруг рассмеялся: — Но Мария-то хороша была! Этот педераст чуть не поперхнулся!..
— Ты откуда знаешь, что он педераст?
— Все они, эти выродившиеся клопы, — фон Бюлловы, фон Киеслинги… или импотенты, или гомосексуалисты… Другой бы, не породистый хам. просто загоготал бы и приказал подать ему такую бабенку в постель… А этого, видишь ли, покоробило…
Знаю Альберта: человек он отчаянный, прямой.
Чем все это для него кончится?..»
«8 ноября.
Взяли! Взяли эту прокл. 226,4! Кровью. Сижу в немец. блинд. Обживаем транш. Убит Гусятников. У меня потери — 12 уб.; ранен. — 6. Писарям работа — похоронки. Попортил нервы с Упр. — свол. А Киричев — везун. Иду в транш, закрепиться…»
Эту запись делать было трудно — дрожали пальцы, карандаш вихлял, выводил каракули — слишком легким, невесомым был он после автомата. Запись делал почти сразу после боя.
Высота 226,4… Сколько о ней шло разговору в дивизии! Будто одна она существовала от Балтики до Черного моря и из каждого уголка страны была всем видна. А в сущности — прыщ на ровном месте, на моей карте несколько изломанных, тонко вычерченных окружностей, одна в другой, с точкой в самом центре и цифрой 226,4. Сколько же таких пометок на картах всех ротных командиров! И за каждую приходилось класть людей…
За два дня до этого офицеров полка собрал командир — подполковник Рубинчик. Разложил свою карту, чиркнул быстрым взглядом по лицам:
— Вот эта макушка — бельмо на глазу дивизии. Полку определено пробить здесь брешь. В нее войдет дивизия, а затем корпус. Первая задача — сбить немцев с этой верхушки 226,4. Отсюда они вот уже месяц смеются над нами. Им видно в глубину на шесть-восемь километров, кто где спит и кто что ест. В чьей полосе высота?
— В моей, — отозвался я и представился. — Прямо перед ротой.
— Укомплектован?
— Почти.
— Огневые точки засек? — его черные глаза буравили мне переносье.
Я доложил.
— Главное тут, — ткнул я пальцем в карту, — крупнокалиберный пулемет. Весь мой правый фланг режет, головы не поднять. И подножье высоты простреливает. Ни метра мертвой зоны. Слева…
— Слева не твоя забота. Кто сосед слева?..
К концу недолгого совещания все стало ясно: артподготовкой будут обработаны подступы к первой траншее, где минные поля и выдвинутые пулеметные гнезда противника. Когда огонь перенесут на гребень, моя рота поднимается и идет в лоб. Слева — две другие роты, но с глубоким обхватом высоты с фланга… Батальону придается батарея полковых минометов. Перед самой атакой она должна подавить тот крупнокалиберный, что на холме справа…
— Все ясно? — спросил Рубинчик. — Комбат-два, — обратился он к нашему, — обеспечьте себе связь с минометчиками. Все сверьте часы. Начало в восемь ноль-ноль. Теперь по местам. — Низенький, плотный, подвижный, он быстро сложил карту по давним сгибам…
Тут у меня произошла встреча с Упреевым. Он все время сидел в блиндаже комполка и, когда я докладывал, с ухмылочкой поглядывал на меня, но молчал.
С Упреевым я познакомился в резерве. Невзлюбил его за манеру поучать, за неуместное щегольство, за придирки к младшим по званию, хотя сам-то он был всего-навсего старшим лейтенантом. Обращался он только на «вы». «Запомните, — говорил он мне, — армейский консерватизм в общем штука не страшная. Он идет на пользу не только тупым, сообразительный народ и тут сможет извлечь выгоду и для себя, и для дела. Тупых потом можно отодвинуть. Пока же они над тобой — годится им и поддакнуть. Если этого не усвоите, будете играть в демократа — так и проходите в чудаках всю жизнь». Он не стеснялся этих откровений.
Попал он к нам в батальон командиром соседней роты. Прославился, как борец с расхлябанностью. Разбуди ночью — устав будет шпарить как по писаному. В общем, любитель параграфа. Что правда, то правда — дисциплину в роте навел железную. Но каждая лычка, не очень заметно отделяющая одного человека от другого, в его роте стала гранью, обрывавшей чисто человеческие связи между людьми. Борясь с панибратством, Упреев отнимал у подчиненных святую потребность в душевности, которая естественно возникает меж солдатами, долго живущими на виду у смерти в одних окопных стенах. В бою его рота действовала организованнее других. Со стороны все выглядело примером. Но со временем стало проступать и другое. Его солдаты жаловались моим на Упреева. Я ему как-то и намекнул. Он ответил: «Я знаю, что у вас в роте такое братство-панибратство, просто не война, а рай земной для солдатушек… Мне это не подходит. Смею вас заверить, что для чисто военных результатов мой метод полезнее». Рассказал я об этом Витьке Лосеву. Витька рассмеялся: «Человек он дрянь, но дело знает. Увидишь, как он обскачет дивизионных дундуков. Если, конечно, уцелеет». «А может и не уцелеть. Это просто», — вдруг отозвался Марк. И мы поняли, что он имеет в виду. А потом Семен как-то удивленно спросил: «Неужели никто не видит, что в его роте всегда самые большие потери?» И это было правдой. Вскоре она стала понятной и комбату…
Когда дивизию отвели на переформировку, комбат поговорил с подполковником Рубинчиком. Упреева перевели на какую-то вакансию в штадив. И на том совещании он появился в штабе нашего полка, как представитель оттуда…
— Как воюется? — спросил он, быстро оглядывая мою замызганную гимнастерку.
— Как всем, — ответил я. Мне не хотелось торчать с ним на виду у других офицеров.
— Все христосуетесь с солдатушками, товарищ лейтенант? — улыбнулся он.
— Приходите увидите, товарищ старший лейтенант, — улыбнулся и я.
Ему не понравилось мое напоминание, что он вот уж сколько в штадиве, а все еще старший лейтенант.
— Я ведь знаю, кому обязан своим выдвижением в штадив. И, представьте, нисколько не жалею. Должность неплохая. Что же касается моего самолюбия при этом, то оно у меня в порядке. Я имею в виду: бдит и помнит.
— Рад за вас, — козырнул я и, уходя, подумал: «Что ж, бди, Упреев. Только подальше от передовой…»
В шесть утра в день наступления зазуммерил телефон.
— Срочно ко мне, — узнал я голос комбата. Он, видно, тут же отпустил клапан на трубке — в ней тотчас умолкло.
Я вышел наверх. Немцы уже не жгли ракеты. В восемь у них проводилась смена постов и пулеметных расчетов. Было тихо, темно и мокро. Снег раскис в ночном липком дожде. Время всеобщего молчания и покоя. Еще никто не был ни убит, ни ранен. Казалось, это будет продолжаться вечно. Но я-то знал, как будет. Кто-то досматривал уже последний ласковый сон, сладко шевеля улыбчивыми от видений губами. За ночь на похолодевших стволах автоматов и пулеметов осел матовый изморозный налет. Он испарится после первой же очереди. Я оглянулся на высоту. Брать в лоб…
В землянке у комбата сидели двое: Упреев и незнакомый старший лейтенант.
— Знакомься, — сказал комбат, — командир штрафной роты.
— Гусятников, — представился гость.
— Все меняется, — сказал комбат, поглаживая щетину на подбородке. Наверное, не спал всю ночь. — Видишь, вот и пополнение прибыло. После артподготовки они сразу пойдут в атаку. Как доберутся до траншей, начнешь ты, но круто вправо, загибая за высоту, чтоб — в тыл.
— А почему не одновременно с ними? — спросил я.
— Вдруг у них сорвется, а ты уже сдвинешься? Вот и отсекут тебя фрицы от батальона…
Пока мы говорили, Гусятников молчал, вникал, а в конце спросил:
— В полку мне говорили, что с этой шишки справа гансы чешут вас крупнокалиберным? Поди, и моих догонят еще внизу, до высоты…
— Обеспечим. Будет порядок. Батарея полковых минометов накроет, — успокоил его комбат.
— Ну-ну, — сказал Гусятников и, сутулясь, поднялся.
Он и комбат вышли первыми, за ними я и Упреев.
— Вы вот что, товарищ лейтенант, — придержал он меня. — Учтите — это штрафники. Будьте начеку. Приглядывайте.
— Это приказ штадива? — спросил я и почувствовал, что лютею.
— Это мой вам совет. Их для того и прислали, чтобы очистились от грехов.
— Может, вместо Гусятникова вы их поведете? Может, у вас лучше получится, чем у него?
— У меня все получится. Но у меня другая должность, — спокойно ответил Упреев.
Ах, как мне хотелось послать его!..
— Что ж, веди к себе, лейтенант, — сказал подошедший Гусятников.
Штрафники быстро построились, и тут из темной шеренги меня окликнули. Я подошел ближе, глянул и обомлел: Киричев! Мой знакомый по Кара-Кургану!
— Ты как сюда попал? — спросил я.
— Не по трусости, по дурости. Из запасного самовольно ушел в другую часть, стояла рядом. Вроде наниматься пошел, а вышло как дезертирство… Мне ведь тут до первой крови, чтобы смыть…
— Только не из носу, Киричев.
— Спасибо за доброе пожелание, — усмехнулся он. — Я же тебе говорил, что меня не убьют, выживу.
— Ну, давай живи… Авось еще увидимся… — отошел я к Гусятникову.
Сперва все получалось, как на бумаге: пушкари наши долбали уже по гребню, железный шелест снарядов удалялся над головой к высоте, штрафники перебежками приближались к ее подножию, и минометная батарея отстрелялась по холму, откуда прежде донимал нас крупнокалиберный. И тут случилось: ожил он, резанул с холма, сек протяжными трассерами, даже при свете дня были видны раскаленные белые иглы. Откуда он взялся? Его же быть не должно, там все разворочено минами! И я понял, что пулемет бил уже не с макушки, а пониже, со ската. Длинные тяжелые очереди стегали по бегущим людям. Я видел, как их сшибало с ног, швыряло на снег, будто ударом оглобли. Рота Гусятникова залегла. Я схватился за телефонную трубку — звонить на батарею, но телефон молчал. Сообразительный и юркий Гуменюк все понял и, задев меня сапогом по спине, ринулся по ходу сообщения назад, выметнулся наверх искать порыв. По времени я вот-вот должен был поднимать свою роту, из-за изгиба траншеи Лосев уже поглядывал. И тут в траншею свалился Гусятников. Страшный, лицо в брызгах крови, а лоб бледный, в поту. Он тыкал меня в грудь стволом ТТ и, задыхаясь, хрипел: «Вы что, курвы, делаете?! Забыли задавить пулемет?!. Штрафники тоже люди. Отсиживаетесь тут, сволочи!» — рука его дрожала. Сквозь грохот разрывов и пулеметный стук я слышал, как ствол его пистолета чиркал по пуговке на моей шинели. На всю жизнь запомнил я это чирканье…
Из-за его спины вдруг возникло лицо Лосева.
— Витька! — крикнул я. — Бери людей, обойди холм, задави пулемет! Бегом!.. Гранаты возьми!..
За Лосевым через бруствер махнул Марк с РПД, следом Семен и еще кто-то.
— Убери, — отвел я руку Гусятникова от своей груди. — Всё было правильно, но фрицы нас купили: ночью сменили огневую. Будто чуяли… Иди к своим людям… Сейчас все будет, все будет… — успокаивал я его, а сам шарил глазами по тому месту, где уже должен был быть Лосев…
Немцы, поняв, что атака наша захлебнулась, начали бить из орудий вглубь, чтобы не дать подойти резерву. Где-то далеко за скатом высоты стояла их батарея… Гусятников побежал к залегшей цепи…
Витька рассказывал потом, как было у них. Обошли они холмик благополучно, за заснеженным кустарником. Осторожно поднялись по склону и увидели блиндаж. От него вниз — траншейка к пулеметной ячейке. Те, за пулеметом, спинами к ним — ничего не видели, увлеченные стрельбой. И тут из блиндажа — немец, в обеих руках коробки с лентами. Марк приложил палец к губам, мол, тихо. Немца и заколодило. Пулемет вдруг умолк и оттуда голос: «Юрген, шнеллер!» В блиндаже, однако, оказался еще один. Наверное, увидел изнутри, как замер этот Юрген, и выскочил с автоматом. Марк метров с пяти влупил в него из РПД, того аж зашвырнуло обратно. Витька противотанковую — в пулеметную ячейку, Семен туда же «лимонку», а Кахий Габуния (он был с ними четвертым) срезал Юргена с коробками. Вытащили из ячейки убитых, искореженный пулемет, огляделись. Перед ними под малым углом по всей дуге высоты открывался профиль немецкой траншеи, ее изгибы. Внизу — залегшие штрафники. Марк воткнул сошки РПД в землю и ударил по траншее. Гусятников поднял своих людей.
Но растяпа наблюдатель с нашей минометной батареи, заметив, что на холмике снова заработал пулемет, решил, что немцы установили другой, скомандовал. Я увидел первые разрывы и понял: накроют сейчас Марка, возьмут в вилку. Молодчина Гуменюк, наладил уже связь с батареей, я позвонил. Но все же беда стряслась: осколком первой же нашей мины снесло пол-лица Кахию Габунии. Семен оттащил его в траншею, но парень уже был мертв. Восемнадцать лет только исполнилось. Две недели, как прибыл с пополнением в роту…
Штрафники уже дрались в ближней траншее. Я с ротой обходил высоту справа, поднимался на нее под прикрытием пулемета Марка. Немцы опомнились, из лощины, где вела бой третья рота, застучал их МГ. Чиркнули пули, швырнув комья в лицо. Мы уже ввалились во вторую траншею, а высунуться из нее — никак. Пригнувшись, я свернул за угол и тут увидел Киричева. Он привалился к стене и торопливо набивал патронами диск, вытаскивая их пригоршнями из карманов шинели. Пальцы дрожали. Рот черный, запекшийся, по лицу полосы грязного пота.
— Где Гусятников? — спросил я.
— Убит в рукопашной, еще в первой траншее.
— Ну-ка встань… Здорово не высовывайся… Видишь, МГ из лощины бьет?
— Вижу, шьет, как машинкой, — строчка к строчке.
— Два взвода моих прижал, пальца не поднимешь. Понятно?
— Понятно, — усмехнулся. — Сколько со мной пошлешь?
— Еще двоих. Бери сам, любых. Скажи, я приказал.
— И на том спасибо…
Вскоре МГ умолк. То ли это Киричев, то ли кто из третьей роты. Киричева я увидел уже после всего, когда высота была наша. Поджав ноги, он сидел на дне траншеи, невредимый, и, захлебываясь, пил из трофейной фляги в новеньком суконном чехле. Голова высоко задрана, глаза наслажденно прикрыты. Вода стекала по грязному подбородку, по сильной, дергавшейся в такт глоткам шее.
Он меня не видел, и я прошел мимо…
Голоса после боя… Я помню их, громкие, возбужденные. Звякали под ногами немецкие каски и гофрированные коробки от противогазов. Хлопцы обживали траншеи: расчищали от обвалов проходы, засыпали глиной лужицы крови, перебирали трофейное оружие, чертыхались, вытаскивая из узких ходов уже остывшие, негнущиеся тела убитых. Трупов было много. Их выталкивали сперва за бруствер. Немцев я велел засыпать в двух глубоких воронках, сросшихся краями. Своих похоронили отдельно, а сперва они лежали на скате, прикрытые камуфляжными немецкими плащ-палатками. Потери у нас были большие.
Дрались немцы люто, остервенело. Гибли, чтобы удержать, не отдать чужое. А мы только за то, чтоб возвратить свое же, какую цену уплатили!.. Помню, как старшина принес мне горку красноармейских книжек, старых, замусоленных, с обтершимися углами, и новеньких, совсем недавно выданных…
И странное дело — помню неприятные в наступившей тишине металлические щелчки. Это хозяйственный Гуменюк крутил разболтанную, с люфтом, ручку телефонной катушки — мотал в запас красный трофейный кабель…
По телевизору шла передача «А ну-ка, девушки!». А мы держали семейный совет: Наташа, Алька и я. После Виктора остались бумаги, какие-то экспериментальные выкладки, которые хранились у него дома в письменном столе. Когда-то он собрал их как материал для будущей диссертации. Сам не думал этим заниматься — был слишком заядлым и нетерпеливым практиком, но держал для Наташи, все уговаривал, а она все откладывала. «Пока ты под моей опекой — делай, пригодится. Кто знает, вдруг меня отсюда выгонят, как это бывает у строителей, — говорил он. — Тут нечего деликатничать, тем более что не из пальца высосано, самой жизнью подтверждено».
Материалы эти были отсевом, что ли, того объемного рацпредложения, за которое и был получен патент. Теперь о них вспомнил Виктора сослуживец Казарин: при НИИ создана группа, работающая над дальнейшим развитием этой темы, и нуждается в этих бумагах.
Казарин ждал ответа.
— Просто не знаю, как быть, — развела Наташа руками.
— Мама, сядь и сделай сама. За год ты сделаешь диссертацию, — решительно сказала Алька.
— Дурочка ты моя, — улыбнулась Наташа. — Это не так просто. Если я возьмусь, значит, там, в НИИ, тему прикроют, а группу разгонят. Мне же, как видишь, войти в группу предложения не последовало. Если даже не разгонят, то мою диссертацию там угробят. Где же мне тягаться с целым коллективом? Это внешняя, так сказать, рабочая сторона вопроса. Есть и другая, не менее важная. Мне уже за сорок, стоит ли терять на это время и силы. Это не один год, как ты полагаешь, Аля. И зачем нам с тобой, дочь, это нужно? А ты как считаешь? — обратилась она ко мне.
— Честно? Отдай ты им к чертовой матери эти бумаги. Насколько я понимаю, не сядешь ты ни за какую диссертацию. А если и займешься, только огребешь кучу лишних хлопот.
— Виктор так хотел…
— Но ты-то не хочешь.
— Как тебе сказать…
— Женька мой, например, считает, что надо делать, — вмешалась Алька. — И знаешь почему? Потому что это придаст маминой жизни некий моральный импульс, заставит ее держать себя в форме, наконец, отвлечет… — замялась Алька. — Ну, в общем, вы понимаете, о чем я, — она глянула на часы. — Мне пора, я ухожу. Мое мнение вы знаете, учтите его при решении…
— Ребенок, — сказала Наташа, когда Алька ушла.
— Я вижу, этот доктор Женька у вас уже почти член семьи — в курсе всех дел и имеет право голоса, — засмеялся я.
— А она совсем наивный дурачок, жизни не знает, все меряет по своим идеалам.
— Ты ошибаешься в отношении ее наивности. Все мы ошибаемся, оценивая их поступки и суждения по шкале собственного жизненного опыта. Если бы у тебя была возможность узнать свою дочь, какова она в своей возрастной среде, где нет тебя и других взрослых, какова она, когда вдвоем с этим Женькой, ты бы очень удивилась…
— Возможно… Но все-таки мне нужно решать, исходя из собственного возраста и жизненного опыта: отдавать эти бумаги или оставить.
— Ты говоришь сейчас со мной, а будто споришь с Виктором, а он-то не хочет, чтобы ты отдавала, — сказал я без обиняков, — даже если сама не станешь этим заниматься.
— Великий ты психолог.
— Просто хочу тебя избавить от лишних проблем.
— Ты почти убедил меня, но еще неделя на раздумья есть. Все-таки диссертация дала бы мне кое-что и в материально-престижном смысле. Я перешла бы на преподавательскую работу.
— Ужели ты в этом так нуждаешься, Наташа?
— Я ведь всего лишь человек, милый мой. Знаешь, однажды Виктор сказал мне: «Материально, Наташа, мы можем позволить себе, чтобы ты бросила работу. Я вообще считаю, что женщина не должна работать больше четырех часов в день. И все же не хочу, чтобы ты сидела дома. Пока я жив и в силе, фамилия Лосева при тебе, как охранная грамота. Случись что со мной— ты просто жена некогда могущественного Лосева. Тебя постепенно перестанут приглашать в те дома, где мы бывали вместе, будут деликатно извиняться, забыв поздравить с каким-нибудь праздником, ты не сможешь поддерживать прежний уровень отношений, тратиться на подарки приятельницам, как раньше, а значит, и сама не захочешь сохранять с ними отношений, чтобы не выглядеть хуже других. Такова правда, от которой не надо прятаться. Поэтому работай. И ты будешь менее зависима и сейчас, и потом, когда время подойдет к пенсии». Словно знал, что с ним что-то произойдет.
— Разве ты почувствовала, что к тебе стали хуже относиться на работе? — спросил я Наташу.
— Нет. Но все-таки я довольна, что ушла еще при Викторе из их системы. Здесь я просто Наталья Федоровна Лосева, групповой инженер. Там бы я была женой бывшего главного инженера треста. Тем более ты знаешь, какие сложности были между Казариным и Виктором. Он на парткоме сказал Казарину: «Вы любите раскавычивать цитаты. Не надо этого делать, цитата есть цитата, и выдавать ее за свои мысли неприлично…» Странно ведь: вне работы они прекрасно ладили, ездили вдвоем на охоту, понимали друг друга, выпить любили вдвоем, а на работе были непримиримы. — Наташа подошла к телевизору. — Оставить или выключить?
— Выключи, — попросил я. Казарина я знал, встречался с ним у Лосевых за столом.
Они и ехали в прошлом году вдвоем, когда погиб Виктор. Был ноябрь, гололед. Ехали на служебной «Волге» в один из домостроительных комбинатов. Виктор сидел рядом с шофером, Казарин сзади. «Плетешься ты, Карэн, — сказал водителю Виктор, — а еще бывший автогонщик! Ну-ка, прибавь, а то Олегу Павловичу не терпится увидеть, как я обмишулился». «Не дури, Лосев, дорога-то какая! — сказал Казарин. — А то, что ты обмишулился, я знал еще раньше, так что я не тороплюсь потешиться». Но шофер прибавил и на загибе дороги пошел на обгон автобуса, когда навстречу в лоб на них выпер тяжелогруженый панелевоз. Он шел с того комбината, куда спешил Виктор. Все произошло в мгновение, которое ускорил лед, швырнувший затормозившую «Волгу» под удар панелевоза. Шофер был убит на месте, Казарин отделался сотрясением мозга, Витька скончался в больнице через двое суток…
Перед смертью он попросил, чтоб пришла Ольга Ильинична Березкина. Мы напомнили ему, что она уже на пенсии и давно не работает, что здесь тоже хорошие врачи. «Я знаю, — сказал Виктор, — но я хочу, чтобы она пришла». Позвонили Ольге Ильиничне, объяснили. Она пришла. Он попросил нас выйти из палаты, они остались вдвоем. Ольга Ильинична сидела у его кровати, ждала, а он молча и напряженно смотрел на нее, будто взглядом пытался передать какую-то тайную свою мысль, потом взял ее руку, сжал, отвернулся к стене и умер…
На похоронах Ольга Ильинична не плакала. Стояла чуть в стороне, а когда уходили с кладбища, как-то странно посмотрела на меня и сказала: «Ах, мальчики, мальчики, что вы делаете! Как же так можно: умирать раньше нас!..» — и, сгорбившись, одиноко ушла…
Народу на поминки собралось много. Еще с утра, в день похорон, я притащил две авоськи водки и минеральной воды. С кладбища все вернулись замерзшие, сперва чинно сели за стол, были сказаны положенные случаю слова, выпили. Видно, с мороза первую и вторую рюмки не почувствовали, и бутылки быстро пустели. Стало шумней, пошли всякие разговоры.
Я вышел на кухню курить. Соседки Лосевых и еще какие-то незнакомые женщины вносили посуду, тут же мыли ее и утаскивали обратно. Вошла Алька. В черном глухом свитере с высоким воротником-гольфом. Лицо потемнело, осунулось, глаза красные от слез на ветру. Попросила сигарету. Я впервые видел, что она курит.
— Как все это дико — громкие разговоры, грохот посуды! — дернула она плечами. — Как на свадьбе… Нелепый обычай… Похоронили человека и сидят дуют водку.
— Не такой уж нелепый, Алюша. Неужто лучше было бы матери и тебе одним сейчас? — спросил я.
— Все равно мы уже вдвоем… Ты-то хоть не уходи сразу, — она выбросила сигарету в мойку и прильнула ко мне.
— Не уйду, — гладил я ее по волосам.
— Как же теперь без него?.. Мама никогда не сможет привыкнуть, — всхлипывала Алька. — Еще не могу поверить в это… Там так холодно… на кладбище… ему… А мы тут сидим в тепле, едим, разговариваем… Он так любил жизнь, всякие компании…
— Иди, мать там одна, посиди с нею, — сказал я.
— Дай платок.
Утерев глаза, Алька ушла в комнату. А мне вспомнилось, как однажды, года два назад, мы отдыхали вместе в Крыму в пансионате. Повисла тихая черная южная ночь с большими вылупившимися звездами, с огромной рыжеватой луной, с лунной дорожкой, как из фольги, на неподвижной воде. Было все, как на рекламной открытке. И только теплый ветерок напоминал, что все это настоящее, живое. Мы стояли на балконе, курили.
— Какая благодать! — сказал Виктор. — Знаешь, иногда, глядя на такую красоту, думаю: как это я уцелел на войне, за что, почему именно я? По какому закону? Кто-то предопределил? Мистика! Или — по тому же закону целесообразности: естественный отбор? Остается тот, кто более приспособлен, более нужен жизни, обществу?
— Ты хочешь что-то этим оправдать? — спросил я.
— А почему бы нет? — посмотрел он на меня серьезно. А потом расхохотался: — Ну, ты даешь! Что мне оправдывать! Просто у жизни надо брать все, что по милости божьей она приготовила тебе. Другого случая не будет. Разумеется, брать, чтобы отдать.
— Может, все-таки сначала надо отдать, а потом брать? — усмехнулся я.
— Разве я мало отдал?
— Ты что же, счет ведешь? А если кто-то считает, что он — больше, а ты — меньше. Как измерить, Витя?
— Говорят, после смерти все измерится точно. Только я в это не верю. После смерти это уже никому не интересно…
«23 ноября, вторник.
Капитан фон Киеслинг и впрямь оказался человеком мстительным: написал рапорт. Альберта уже дважды вызывали к начальству — давать объяснения, требовали письменного извинения перед капитаном.
Но Альберт отказывался. Он не считал себя виновным. Сперва ему внушали, затем орали на него, угрожали. Но Альберт стоял на своем. Он упрям.
Впрочем, упрямство ли это?..
Мария тоже пыталась уговорить его.
— В конце концов, ты пострадал из-за меня, — сказала она. — Я прощаю этого офицера, и ничего с тобой не сделается, если ты напишешь ему извинение. Все-таки он кавалер Рыцарского креста.
— Действительно, Альберт, — я поддержал ее. — Напиши, и они от тебя отцепятся.
— Ну, ради меня, — упрашивала Мария.
— Хорошо, — вдруг согласился Альберт. — Но при одном условии: если он извинится перед тобой.
— Но он этого не сделает, — спокойно сказала Мария.
— А почему бы ему этого не сделать? — усмехнулся Альберт. Он начинал злиться на Марию.
— Все-таки…
— Что „все-таки“, Мария?
— Он старше тебя по званию…
— Всего лишь?..
Я уже не вмешивался, понимал: Альберта не уговорить. Не знаю, чем это кончится для него. Могут ведь разжаловать и отправить рядовым на передовую. Я сказал ему об этом, когда ушла Мария.
— Ты дурак, — отрезал Альберт — Мы им сейчас очень нужны. Разве ты не видишь, куда после Курска все покатилось? Из этой мясорубки скоро полезет столько фаршу, что и санитаров произведут в хирурги…
Почему и ты, и Мария так слепы? Или вы видите то, что хотите видеть, а не то, что есть на самом деле?!
Меня начинала раздражать эта вечная манера Альберта не считаться ни с чьей душевной болью, лечить ее только своей прямотой, похожей больше на соль, что сыплют на рану; нежелание щадить ближних или неумение говорить правду так, чтоб она не убивала…
— Ты считаешь, что наши дела совсем плохи, Альберт? — спросил я.
Он свел темные брови к переносью:
— Мы проигрываем эту войну, Конрад.
— Не рано ли паникуем? — не унимался я. Мне хотелось досадить ему.
— Я не паникую. Но выиграть эту войну уже невозможно.
„Ага, уже! Значит, он думал и о другом исходе“, — ухватился я:
— Ну, представь себе, что выиграем. Что тогда?
— Что я должен тебе ответить?
— Если мы выиграем… Ты сын обеспеченных родителей. У твоего отца фабрика. Ты вернешься домой, увенчанный лаврами, — я ткнул пальцем в черно-бело-красную ленту его Железного креста. — Как победитель, ты вернешься с надеждой получить то, что обещал нам фюрер. Значит, все, от чего ты сейчас воротишь нос, захочется забыть или оправдать? Всем, кого называешь сволочами, ублюдками, тебе придется пожимать руку у как товарищам по победоносной войне?
Он, видимо, не ожидал, что меня так прорвет Мне и самому стало страшно.
— Знаешь, что? Убирайся к черту! Ты лучше себя обо всем этом расспроси. И когда тебе станет ясно все и до конца, именно до конца, тогда задавай вопросы другим!..
И в самом деле: задавая эти вопросы ему, не спрашивал ли я и себя? Но ответа у меня не было. Да и хотел ли я его? Альберт же, в отличие от меня, хочет его…
Что-то произошло с нашим духом после Сталинграда и Курска. Меня самого пугают мои сомнения, пугает, что я беспрерывно пытаюсь во что-то проникнуть, хочу ясности в чем-то. Убеждаю себя, что это нехорошо, что я не должен так. И то, что мне требуется убеждать себя, это и есть самое страшное, ибо я не могу вызвать, расшевелить в себе прежней естественной, как дыхание, веры в необходимость этого нашего пути…»
«23 ноября.
Сидим в Невельском мешке. Фрицы бьют с флангов. Плохо с обувью, со жратвой. Опять заявился Упр. Из-за листовок с „рамы“. Стишки у них хренов. Пугают. Говорили с Семеном за жизнь. От Лены — ничего. Сок-ский рванул пальцы запал. от гран.».
Дни эти помню хорошо. Тут по записи можно идти, как по конспекту.
Еще в октябре фронт наш был переименован во 2-й Прибалтийский. Но мы месили грязь и мокли в лесах и болотах Калининской области.
Положение было странное и сложное: дивизия прорвала фронт и пошла по тылам немцев. Сперва они растерялись, а потом прижучили нас в Невельском мешке. Он — длинный, глубокий, но с флангов простреливался насквозь. Противник спешил перехватить его в горловине, «перевязать», чувствовал, что мы рвемся к станции Пустошка — оттуда дорога на Прибалтику. Но к той поре немцы уже пошли не те: спеси поубавилось, осторожничали, не так нахально перли под огонь. Донимали их и партизаны. Мы сидели в мешке, а немцы — во внешнем полукольце, которое наша 3-я ударная с трудом, но сжимала. Тогда-то и появились листовки. Сбрасывала их «рама» — двухфюзеляжный разведчик-корректировщик. Висел над нами с утра высоко, боялись его — всегда чего-нибудь настрекочет. Какой-то он заговоренный был — сбить не могли. На листовках они печатали стишки. Действительно, хреновые, но в общем-то по существу: «Мы в кольце и вы в кольце, посмотрим, что будет в конце»…
В это время и объявился Упреев. Пришел в мою роту. Все еще старший лейтенант. Такой же лощеный, вежливый и официальный.
— В штадиве обеспокоены, товарищ лейтенант, — сказал он мне. — Дошли слухи, что ваши солдатушки литературу почитывают. — Он достал из нагрудного кармана аккуратно сложенную немецкую листовку и, брезгливо зажав меж двумя пальцами, протянул мне.
— Ну и что? Они их швыряют сотнями. Что ж, мне из рук у солдат вырывать? Смешно из-за этого беспокоиться, — сказал я.
— Не до смеху, товарищ лейтенант. Это похоже на ЧП. Вы знаете, в каком положении дивизия. И знаете приказ: вражеские листовки собирать и уничтожать тут же. А они у вас по рукам ходят.
— В основном на курево. Махорка в них хорошо горит.
— Кто у вас парторг?
— Старшина Поздняков. Вчера убыл в санбат.
— А комсорг?
— Сержант Щербина.
— Позовите…
Я послал Гуменюка за Марком.
— Какую работу вы ведете против этих листовок? — спросил Упреев, разглядывая здоровенную фигуру Марка.
— Работу? — Марк посмотрел на меня. — У нас есть рядовой Березкин. Он им стихотворный ответ придумал. Только не знаем, как перевести на немецкий язык и распространить. Могу прочитать. — И, не ожидая согласия Упреева, Марк продекламировал:
— Нн-да, — разочарованно отозвался Упреев. — И все?
— Да нет, товарищ старший лейтенант. Сегодня утром ихнего снайпера, наконец, сняли. Здорово он шкодничал.
— Ладно, идите, — отпустил Упреев Марка. — Все это несерьезно, — сказал он мне. — Я вынужден буду доложить.
— Дело ваше, — ответил я. — А своим людям я доверяю. Видел их в бою. Это можете тоже доложить. И также — что не хватает мясных консервов. Если больше вопросов нет, разрешите идти?..
Сволочь! Сам же под пули ходил! Но верил только себе…
Позиции у немцев были выгодные: на холмах, высотках, дороги хорошие. А мы в низинах, мокрядь. Копнешь в два штыка — вода. Снизу мокро и сверху не суше — дождь со снегом. Невозможно было портянки просушить, обогреться. Старый сушняк отсырел. Разжечь костер — мука. Совали в него «макароны» — длинные желтые стержни немецкого артиллерийского пороха; он давал хорошую вспышку, но жара, чтоб разом занялись ветки, — мало. Дуешь, бывало, на затлевшую веточку до головокружения, до темноты в глазах, пока на ней появится пламя… Дорог не было, все колесное перло по вязкой целине, утопало в грязи. Леса, заболочены, настилали бревна поперек просек. А топи страшные. Как-то упал снаряд, мы — плюхнулись, лежим, ждем разрыва, а в болоте только заурчало, забулькало, вспучилось пузырями — и весь взрыв. Посмеялись над собой. Даже там умели посмеяться над собой…
Плохо было с обувью: сапоги и ботинки у многих проносились до дыр, подошвы отваливались, часть народа получила уже валенки. С утра еще ничего — морозец, а к полудню отпускало, и войлок, как губка, впитывал воду, тяжелел, за неделю на печке не просушишь. Обозы к нам с трудом пробивались через узкий коридор — немцы с флангов били их навылет, да еще и бомбили. С едой тоже было негусто: ржаные, набрякшие влагой сухари, пшенный концентрат или плохо очищенный овес — «конский рис», как мы его прозвали…
В один из таких дней я подсел к Сене Березкину, когда он чистил автомат. На лапнике лежала старая портянка, на ней — разобранный затвор, масленка, ершик. Старый подворотничок Сеня порвал на лоскутки…
Он понюхал тряпицу, смоченную маслом, улыбнулся:
— Люблю запах масла. Есть в нем что-то от железа, машин, движения… Ну, как тебе объяснить? Что-то городское, устойчивое, постоянное…
— Только сухарь этим маслом не помажешь, — сказал я.
— Можно и так сгрызть… С кипяточком. Вот сахар у меня пропал, жаль. Было пару ложек в мешочке, мешочек промок, а когда высох, сахар — корочкой по нему присох, часть в ткань впиталась. Хоть высасывай… Помнишь, какой до войны был рафинад? Такие конусообразные головки. Крепкий, синевой светился…
— Много щелочи берешь, Семен, — заметил я, как он окунал шомпол в одну из горловин масленки. — Все было до войны, Сеня…
— Загадочное существо человек, — опустил Сеня левое веко. — Вот Витька говорит: «Не жизнь, а война». Но ведь мы живем, — выделил он. — Как и в нормальной, мирной жизни есть те же понятия утра, дня, вечера, ночи. Есть завтрак, обед, ужин…
— Иногда условно, — весело подмигнул я ему.
— Да… Но я не об этом… Есть уже сложившийся быт, новые устойчивые привычки, и уже давно не ощущаешь их случайности или ненормальности. День начинаешь не с опасения, что сегодня тебя могут убить, а с мысли о естественных вещах, интересных и необходимых в этой жизни… Значит, надо не существовать, не выносить, а жить. Не думать постоянно, что все делаешь только ради войны и для нее. Ведь она временная работа в нашей жизни. — Он взял автомат, перевернул прикладом вперед, приник глазом к стволу, проверяя, хорошо ли вычистил. — Ну вот, порядок, теперь Виктор не придерется. Я ведь для него солдат второго сорта, — стеснительно улыбнулся Семен. — Может, он прав, и потому меня пули обходят?
— Разве ты не боишься смерти, Семен? — спросил я, раздумывая над его прежними словами.
— Я не понимаю, что это. Мне страшно, когда бомбежка, артобстрел. Это грохот, свист… Чисто физические ощущения… Для меня смерть — это исчезновение. Но как это — чтобы я вдруг исчез?! Исчез навсегда для тебя, для мамы. Как это, чтобы меня не стало?! Вот не представляю себе! Глупо, конечно, но не представляю, — он собрал затвор, вставил в автомат, пару раз взвел, клацнул, загнал диск, портянку с масленкой и ершиком спрятал в вещмешок. — Я, наверное, говорил глупости и тебе смешно?..
— Нет, Сеня, тут смеяться не над чем.
В ту пору меня не раз занимала мысль: вот увидеть бы его лет эдак через пятнадцать — двадцать. Мне было любопытно, как он будет выглядеть. Кем станет? Какая у него будет жена, дети, как он с ними будет разговаривать?.. О себе так никогда не думал, а вот о Семене думал. Такой уж он был человек…
— От мамы есть письма? — спросил я.
— Да, очень устает. В больнице персонала теперь не хватает. Приходится много работать… У нее недавно карточки хлебные вытащили из ридикюля. Есть же негодяи! И в такое время! Страшно расстроилась… А ты получаешь оттуда, от этой девушки?
— Что-то давно не было…
От Лены действительно давно не было вестей. Я волновался и не понимал, в чем дело. Из Кара-Кургана мое письмо вернулось с пометкой «адресат выбыл». Я полагал, что она уже в Ленинграде, и не понимал, почему молчит… Я помню, что вырезал из «Красной звезды» статью Ильи Оренбурга, хотел отправить Лене, может, она ей не попалась. Статья была такая, что по минным полям готовы мы были зашагать, чтоб только до немцев добраться, за глотки хватать. Во мне звучали слова Лены: «Что они с нами сделали и что нас вынудили делать!» С какой обидой она говорила об этом, о ненависти, какую пробудили в нас! Ее волновало, остынет ли когда-нибудь эта ненависть. «Ведь после войны нужно будет столько доброты и нежности, чтоб ее хватило для всех сирот, вдов и матерей, чтоб унять их горечь», — говорила она…
Обо всем этом, думал я тогда, потом когда-нибудь напишут. Но вот что казалось мне несколько несправедливым: все равно всю правду те, кто будет читать, не ощутят, часть ее останется в словах, потому что есть чувства и ощущения, которые доступны только собственной шкуре, они живут как бы только один раз и только для конкретного человека, воспроизвести их для кого-то невозможно… Прав ли я был?..
«31 декабря, четверг.
Завтра Новый год!
Стоим за Невелем. Близка граница Прибалтики. Похоже, нас прижимают к ней. Куда же потом?..
В этих местах все сожжено. Уничтожена сама возможность жить: городишки — в пыль, деревни — в золу. Уцелевшие жители прячутся в лесах, в землянках.
Наши спецкоманды не дают им и там покоя. Я видел солдат из одной такой команды. Люди как люди, но поразило их равнодушие и настойчивая исполнительность в этой адской работе. Кто же мы?.. Иногда мне кажется, что эта война не для победы, а на истребление. Взаимное. Все однозначно: русские для нас — до единого враги, мы для них — тоже, все до единого.
Никого не интересуют отдельные люди, их душевный мир, наконец, их поступки. Будто все друг перед другом виноваты… К чему это приведет — бог знает…
Наступили холода. То мокрый снег, то дождь с ветром. И снова — тоскливая чужая земля. Впрочем, и наша сейчас такая же мокрая и тоскливая…
Старик Дитцхоф очень плох. Исхудал, форма на нем, как на палке, лицо совсем серое, особенно уши, поросшие волосами. Вчера он поскандалил с Густавом Цоллером. Тот принес откуда-то русскую икону, намалеванную на черной от времени и копоти доске. Мы долго ее разглядывали. Цоллер ударом о колено расколол ее пополам и швырнул в печку. Дитцхоф испуганно вскочил и стал выгребать половинки, кричал на Цоллера, что это грех, что бог не простит, а Цоллер смеялся и запихивал их обратно…
Сегодня я сказал Альберту, что с Дитцхофом плохо, так отощал, что кожа будто от костей отделилась. Что ни поест, тут же вырвет. Зачем его держат? У него же трое детей.
— Знаю. Я и доктор Флюммель его смотрели, — ответил Альберт. — Ему уже ничего не поможет — стеноз, рак пищевода.
— Почему же его не отправят на родину в хороший лазарет? — спросила Мария.
— Там для мертвецов нет места…
Я подумал: лучше бы Дитцхофа убило пулей или при бомбежке. Семья получила бы извещение, что он погиб как герой, сражаясь за фюрера. И все бы сочувственно кивали, кто-то помог бы жене и детям. А так — кроме неприязни, они ничего не получат: умирать от болезни, когда тысячи мужей и сыновей гибнут в великом сражении, позорно и нелепо. В этой нелепости есть даже какой-то оскорбительный для нации смысл, унижающий ее достоинство…
— Ничего, Конраду ты не очень огорчайся, — усмехнулся Альберт. — У Дитцхофа есть утешение: все его страдания здесь, как он утверждает, — пустяк. Главное там, на небесах. А там ему будет хорошо. Он в этом уверен… С нами обстоит похуже. Если нам наплевать, что будет там, значит, мы должны хорошенько почувствовать, что происходит здесь…
— В твоей иронии, Альберт, нет веры, сказала Мария.
— Во что?
— Да хоть во что-нибудь. Все, что выпало на долю нашего поколения, — быть первыми во имя будущего германского народа. Только это и должно нас утешать…
— Это я уже слышал, Мария, — перебил он ее.
— Нет, ты дослушай. Да, нас послал фюрер. Но ты когда-нибудь задумывался, зачем ему гигантские просторы России, все ее богатства, ему лично. Зачем одному человеку все это? Ему одному достаточно тарелки овощного супа. Ты это знаешь. Он призывает нас делать все и терпеть все ради нас же самих, миллионов немцев, ради тех, кто будет жить после нас! Это тебя устраивает?
— Нет!
— Тогда, может, ты пойдешь сдаваться в плен?
— Нет! Я пройду все до конца, со всем народом, чтобы те, кто будет жить после нас, поняли, что это был гибельный путь нации.
— Конрад, — обратилась ко мне Мария, — почему ты молчишь? Ответь ему…
Мне хотелось ответить им обоим. И я сказал:
— А что, если все зря? Вообще все: и твоя жертвенность, Альберт, и твои жертвы, Мария? И все останется, как прежде, как до войны? Только нас не будет. Без нас. Тогда во имя чего — мы?
— Ловко ты хочешь выбраться из всей этой истории! — рассмеялся Альберт.
Все чаще и чаще между нами возникают такие споры. И страшно, что это уже стало привычным. Но они не мешают дружить нам. Альберт и Мария — самые близкие и дорогие мне люди. Знаю я и то, как близки и они между собой, хотя иногда мне кажется, что в их любви есть что-то истеричное…»
«31 декабря.
Завтра Новый, 1944-й! Сделаем все, чтоб стал победным! Старшина привез „наркомовскую“. Готовимся!
Увидел убитого фрица. Вдруг поразило: лицо. Именно лицо.
В. ведет широкую переписку с девч.
А от Лены — ничего. Написал в Кара-Кур. в архив, где работал Ник. Петр. Рукав., запросил его Ленинград. адрес. Прислали. Рукав, отозвался. Ничего утешительного: получил от Лениной матери письмо еще из Кара-Кур., сообщала: выездные док. на руках, через день-два покинут Кара-Кур. Куда подевались? Из Ср. Азии выехали, а в Ленингр. не прибыли… Ума не приложу!..»
1944-й год нес для всех нас надежду, что он будет последним годом войны.
Старшина выскреб все свои загашники, чтоб покормить солдат повкуснее, привез водку: 31-го еще затемно, до рассвета немцы предприняли разведку боем. Мы отбили. А когда утихло и рассвело, я, Витька и Сеня спустились вниз к кустарнику по старой кочковатой пашне с перемерзшей стерней, торчавшей из-под снега.
Мы все уже привыкли к тому, что видишь после боя: обвалившиеся окопы, вздыбленные бревна блиндажей, стреляные гильзы, какие-то бумаги, тряпье, брошенное оружие и трупы. На них никогда взгляд не задерживался. Трупы стали привычной деталью такого пейзажа, к ним никто не проявлял никакого интереса: захвачены вражеские окопы, валяются вражеские трупы. Это слово существовало в нас уже как простое обозначение.
А в этот раз я испытал странное ощущение, когда увидел на взлобке, под голым, ободранным кустом убитого. Он был один. Еще издали заметив это одинокое, единственное темное пятно на снегу, я подумал: «Убитый человек лежит». И, может, потому, что он был один, я увидел его. Осколок вспорол немцу шею, из красной дыры под запрокинутой головой торчали перерубленные желтоватые и бело-розовые жилы и хрящи.
Витька присел на корточки рядом с ним, а мы с Семеном стояли. Суконное форменное кепи-каскетка убитого валялось рядом. Засаленная пропотевшая подкладка в одном месте, на шве, отпоролась, и виднелась чистая, не слинявшая зеленоватая изнанка сукна. Ветер ворошил снег, задувая его в шевелящиеся темные волосы немца. Лицо его было уже мутно-сизым, окаменевшим.
— Как ты думаешь, сколько ему лет? — тихо спросил Сеня.
Я пожал плечами. По лицу мертвеца уже ничего нельзя было понять.
— Тебе очень важно, сколько ему лет, — засмеялся, поднимаясь, Витька. — Будь спокоен. Новый год и дни рождения праздновать ему уже не придется…
Я не испытывал ни ненависти, ни жалости к этому немцу. Возникло лишь ощущение неуютности от того, что он неподвижно лежал на холоде, обнаженным затылком на снегу…
Долго не выходил у меня из головы этот немец с перерубленной шеей. Как-то уж очень одиноко лежал он там под кустом. По сей день стоит эта картина перед глазами, особенно снег в его волосах. Тогда действительно было любопытно, сколько лет ему, сколько прожил, что успел повидать?.. Семен наш был не дурак, если уж такой вопрос задал, значит, какая-то важная мысль его донимала. Но какая — уже не узнать…
К вечеру в землянку ко мне пришел Витька. Я слышал, как он встряхивал плащ-палатку и ругал кого-то: «Хоть бы лапник настелили. Ноги не обо что вытереть. Вон грязища какая. Все размесили». Потом вошел.
— Все пишешь летопись, командир? — хмыкнул он. — Смотри, Нестор, пронюхает Упреев, подведет он тебя за этот дневник под монастырь… Почитать бы дал, что там про нас есть.
— И так проживешь, — спрятал я тетрадь в вещмешок.
У самого Витьки канцелярия была похлестче. Он совсем запутался — завел многоадресную переписку со школьницами, студентками, молодыми женщинами из разных городов страны. У него накопилась целая коллекция их фотографий. В тот день он получил еще две: из Подольска и Ростова. Вывалил все на ящик от мин и пояснил:
— Эта вот, беленькая с перманентом — Настя. Из Рязани. Намекает, что дальняя родственница Есенина. Брешет, наверное. А эти, видишь, сфотографировались рядышком, комсомолочки-восьмиклассницы из Читы. Ничего, правда? Молоденькие только очень. Но есть надежда, что подрастут, а? — смеялся Витька. — Справа Нина, а слева — Наташа. Напишем? Ты одной, я другой… А вот это Оля из Ростова. Шляпка с перышком! Челита! Но Олю из Ростова придется побоку, была в оккупации…
Витька просидел у меня долго, звонил комбат, спрашивал обычное: «Как там у тебя? Война или тихо?..» У меня было тихо. Я понимал: приближается Новый год, немцы тоже, наверное, готовятся отпраздновать, и вряд ли у них есть охота сейчас соваться к нам, под огонь…
Так и встретили мы 1944-й — в тишине, под мягкий снегопад, выпили водку, чокнувшись котелками, заели тем, что послал господь бог — старшина, раздобывший к общему приварку хороший офицерский доппаек…
В этот день работалось плохо. Сперва вроде пошло, с утра, а потом как заколодило. Я листал свой дневник и записи Конрада Биллингера, вчитывался, сопоставлял, вспоминал, пытаясь озвучить в себе умолкшие годы, но слова приходили пресные и глухие, как в комнате, где стены обиты плотной, звукопоглощающей тканью.
Бросив работу, пошел в город, благо нашлась и необходимость: зайти в химчистку за брюками, в магазин подписных изданий за очередным томом Теккерея, в аптеку за каким-то дефицитным «антигриппином» для Наташи — она второй день сидела на бюллетене…
В праздности есть тоже некий полезный смысл — пристальней всматриваешься в меняющийся облик улиц, в бесконечное движение людей, в котором начинаешь различать подробности времени и обстоятельств, в лицах людей вдруг угадываешь характеры и примеряешь к судьбам, не боясь при этом ошибиться. И уже интересно: каждый человек что-то обозначает в жизни, его существованием жизнь решает какую-то задачу, возникает ощущение целесообразности, начала и продолжения чего-то, постигаешь, что это — вечно, и радуешься, что никакой самый изощренный и злой ум, никакая самая высокая власть не обладают возможностью все это остановить…
И тем не менее что-то меня беспокоило, неясное ощущение досады, незавершенности скреблось в душе. Причина была смутной, едва намекалась, но я понимал, что связана она с тем, что вдруг пропало желание работать.
С помощью логики я пытался выверить все свои ощущения, добраться до истока, и тут в уме моем возникло, как вспышка, слово «мальчик». Он не был в чем-либо виновен, этот Сережа, но после его ухода работа больше не пошла, что-то он сказал такое…
Он позвонил в дверь часов в одиннадцать утра — маленький, лет семи-восьми, в красном свитерочке и в джинсах.
— Здравствуйте. Вы наш сосед, — сказал он, стоя на лестничной площадке.
— Заходи, сосед, — пригласил я.
Он несмело шагнул через порог, остановился у вешалки.
— Я тебя слушаю.
— Почтальон сказала, что нашу газету случайно положила вам в ящик.
— Давай посмотрим, — я перебрал утреннюю почту, лежавшую на столике в коридоре, и действительно обнаружил «Медицинскую газету». — Она?
— Да, — сказал мальчик, — спасибо.
— Ты из какой квартиры?
— Из двадцать четвертой. А у вас дети есть?
— Есть. Сын.
— А где он? В школе?
— Нет, в институте.
— Значит, большой, — огорченно сказал мальчик. — А он в хоккей играет?
— По-моему, нет.
Он заглядывал в глубину коридора, ему явно не хотелось уходить.
— Пойдем ко мне! — предложил я, не очень понимая, зачем приглашаю и как себя вести с человеком этого возраста.
— Ненадолго можно, — согласился маленький сосед, — а тапочки у вас есть? — и стал снимать ботинки.
— Да ты проходи так. Для твоей ноги у меня ничего подходящего нет. Тебя как зовут?
— Сережа.
Он прошел в мою комнату. Сперва ходил вдоль книжных полок, разглядывал безделушки за стеклом. Увидел кортик, когда-то подаренный приятелем, спросил:
— Это настоящий?
— Настоящий.
— А можно потрогать?
— Возьми, — мне хотелось поговорить с ним, но я не знал о чем.
Кортик занимал его недолго, аккуратно положив его на место, он подошел к письменному столу, заваленному листами рукописи.
— Зачем у вас столько бумаги на столе? — спросил Сережа.
— Пишу.
— А что вы пишете?
— Да вот сочиняю книгу.
— Про что?
— Про войну.
— А зачем про войну? Про нее в кино показывают.
— И ты ходишь смотреть?
— Раньше ходил, а теперь нет. Там однажды убило лошадь. Папа сказал, что их и так мало осталось, а их еще и для кино убивают. Я люблю мультики. А в войну мы играем во дворе.
— А почему именно в войну, Сережа?
Он недоуменно посмотрел на меня, не зная, что ответить, но, погодя, ответил:
— А разве вы не играли, когда были маленькими? Все мальчики играют. А девочки — в куклы.
— Хочешь быть военным?
— Нет.
— Кем же? Космонавтом?
— Не, ездить на пожарной машине. А вы про меня что-нибудь сочините в своей книге?
— Что же мне про тебя сочинить? Ты ведь про войну не любишь.
— Люблю, только чтоб лошадей не убивало.
— Там ведь и людей убивает, Сережа.
— Люди умные, они понимают, а лошадь животное, — он снова посмотрел на меня как-то удивленно, потом опустил глаза и сказал: — Ну, я пойду, а то мама будет звать…
Я проводил маленького гостя, вернулся к столу, но работать уже не мог: мне надо было возвращаться в прошлое, но оно внезапно отодвинулось за какую-то стену, которую я преодолеть не мог…
Что-то было в его словах простое и мудрое разом. Но какой он вкладывал смысл в них — четко выделить не мог, его и мой жизненный опыт не совпадали, дети многое воспринимают по-своему, необъяснимо для нас, но, может, и гораздо глубже.
«Люди умные, они понимают, а лошадь — животное». Что хотел он сказать, объяснить мне этими словами? Лошадь гибнет, потому что она существо неразумное, а вот зачем одни люди делают так, чтоб другие гибли? Или мыслил он проще: по вине людей гибнут лошади? Не знаю… Но ведь фраза эта возникла, похоже, как возражение на мою: «Там ведь и людей убивает…» Я был для мальчика Сережи представителем мира взрослых, которые в любом случае несут ответственность…
Дверь мне открыла Наташа. Глаза ее слезились, нос покраснел.
— Заразиться не боишься? — спросила она.
— У меня свой насморк, хронический.
— У тебя аллергия, у меня вирус.
— Ничего, как-нибудь договорятся. Возьми, — я отдал ей порошки.
На столе лежала калька, несколько рулонов ватмана, готовальня.
— Ты что, надомницей стала? — спросил я.
— Нужно кое-что срочно пересчитать.
— Ужас! Сплошные цифры! — вгляделся я в чертеж.
— Ты еще не забыл, сколько два и два?
— Четыре. А дважды два — не знаю. Когда-то тоже было четыре, а сейчас не знаю…
Потом я стоял у окна, а в голове все еще вертелись слова мальчика Сережи, но я их уже варьировал на свой лад: «Лошади гибнут, они неразумные животные, люди со знанием дела убивают друг друга». Вот без чего бы обойтись! Но — легко сказать! Пацифистам проще…
Из окна квартиры Лосевых был виден пустырь, где недавно начались строительные работы. Ползали бульдозеры, копошились рабочие в оранжевых люминесцентных безрукавках. Мое внимание привлек канавокопатель. Как просто и рационально, думал я.
Наташа, укутанная в мохеровый платок, убирала со стола чертежи.
— Элементарно, просто, но кто-то же сушил мозги, — сказал я.
— Ты о чем?
— Да вот, канавокопатель.
— Это была самая любимая машина Виктора.
— Почему именно эта? — удивился я. — Есть поинтересней.
— Он ненавидел лопату. Вспоминал, сколько вырыл ею земли за войну, сколько натер водянок на ладонях. И был страшно рад, когда впервые увидел этот канавокопатель в работе. У него вообще был пунктик: он привез с войны целый список того, что нужно сделать, чтоб облегчить человеческий труд.
— Идей у него хватало.
— Не хватало только характера, — вздохнула Наташа.
— Почему же? А эта история с лицензией, которую купили французы. Ведь догрыз он это дело.
— Тут был верняк. Понимаешь? Он любил только верняк и сражался за него до конца. Но — только верняк, — повторила Наташа.
Она отошла к креслу, села у торшера. Лицо ее было в тени, хорошо видны были только руки, лежавшие в кругу света на журнальном столике.
— Что ты имеешь в виду под этим словом? — спросил я.
Острым, чуть подкрашенным ногтем она обводила чье-то лицо на обложке «Огонька».
— Он брался за то, что обещало лишь стопроцентный успех. У него на это был нюх. Даже если приходилось пробивать что-то с усилием, все равно брался — чутье обходить риск у него было сверхвысокое.
— Что ж тут плохого? — спросил я.
— Я не говорю, что это плохо, — Наташа посмотрела на меня. — Ведь не сужу его задним числом. Просто вспоминаю, каким он был и каким бы мог стать. Тут и моя вина. Слишком бездумно поддакивала ему… Впрочем, не знаю, не сделала бы хуже, начни я подправлять его характер. Хрупкая эта штука, характер, пробовать на излом опасно.
— Виктор не был серым человеком, не был заурядностью. В чем же дело? — спросил я. — Тщеславен? Он был тщеславен, кто-то другой не тщеславен. Много и с размахом работал, был предан своим идеалам: строить, строить, строить.
— И тебя в нем все устраивало? — спокойно спросила Наташа.
— Да при чем здесь я? То, что меня в нем не устраивало, он знал. Говорил ему не раз за все годы нашего знакомства. Но он был таким. Значит, иным быть не мог.
— Как ты его защищаешь! От кого? От меня? Да я сама за него кому угодно глаза выцарапала бы. И сейчас не позволю никому ни слова худого о нем…
— Тогда зачем же это запоздалое копание?
— Я тебе уже как-то сказала, что ты этого не поймешь никогда.
— До сих пор меня не считали тупым.
— Дело не в тупости. Не поймешь, потому что ты не овдовевшая женщина. Это не копание, а потребность оглянуться, увидеть свое место в жизни человека, которого любила, с которым прожиты лучшие годы и которого потеряла.
Я развел руками:
— Твое право.
— Спасибо, барин, — она иронически поклонилась.
— Ладно, хватит об этом, — сказал я.
— Почему же? Ты хороший собеседник. С Алькой не могу же я так… Для завершения темы поведаю тебе еще одну маленькую подробность. Бумаги, которые остались у Виктора и которые просит Казарин, — это не совсем отсев. Даже совсем не отсев от работы, за какую Виктор получил патент. Тут история другая. Ты помнишь, он часто ездил в Красноустье, где строится химкомбинат? Он проверял там на месте одну свою интересную идею. В двух словах суть ее в том, что работу, которую выполняет тысяча человек, по новой технологии Виктора могут выполнять двести. Это условно, чтоб ты понял суть.
— Я понял. Что ж, хорошая суть.
— Не спеши. Проверяли эту технологию две межведомственные комиссии. Одобрили: шутка ли, какая экономия и как возрастает производительность труда! Однако была третья комиссия, в ней главное слово принадлежало местным властям. На них тоже все это произвело эффект. И все же они встали на дыбы, потому что сокращение штатов автоматически перебрасывало предприятие в низшую категорию.
— Ну и что? — удивился я.
— Сейчас поймешь. Поскольку все финансирование осуществляется в зависимости от количества штатных единиц, это значило, что премиальный фонд урезается, уменьшаются средства на строительство яслей, детских садов, профилакториев и других социально- бытовых объектов. Вот чем идея Виктора оборачивалась для жителей Красноустья. И он от нее отказался. Мне сказал, что не должен ради производственной выгоды ставить в такое положение жителей этого райцентра. Но я понимала, что он просто струсил, быстро смекнул, что это не «верняк», что настаивать — значит войти в серьезный конфликт с местными властями. Ведь Красноустье — райцентр нашей области.
— Ты ему сказала об этом?
— В том-то и дело, что нет. Сделала вид, что поверила его чувствительной версии, пожалела его самолюбие. Да и гнездышко свое, грешным делом, хотелось уберечь от возможных неприятностей.
— Значит, вот это и есть тот материал для диссертации?
— Да. Но ситуация изменилась. Пересмотрены кое-какие инструкции, найдены компромиссные решения, а при НИИ создана группа во главе с Казариным, в которую мне войти не предложили.
— А в одиночку ты не справишься?
— Возможно, справлюсь, хотя препятствий будет много. Но дело еще и в том, что, даже если я напишу, если удастся защититься, сей научный труд в переплетенном виде отправится в какое-нибудь хранилище в библиотеке. И путь его оттуда до практического применения маловероятен. Виктор это понимал, хотел, чтоб я занялась этим, поскольку риск был минимальный, а кандидатская степень — реальна.
— Отдай тогда все это Казарину.
— И получить взамен фунт дыма, как говорил Виктор? Вот куда привела его теория «верняков». Не могу простить ее ни ему, ни себе. Себе — за потакание. Ведь Казарин даже имени его не упомянет. Разве мне не обидно будет?
— Даже не знаю, что порекомендовать тебе. Сложный сюжет. Алька знает?
— Столько, сколько и ты знал до сегодняшнего дня… Ладно, что-нибудь придумаю, так или иначе, а решать предстоит мне…
1944-й годжжжжж.
«17 февраля, четверг.
Холодно, но терпимо. Днем иногда подтаивает, идет мокрый снег. Но это — Россия. Впереди еще половина февраля и март. В казарме, правда, тепло. Осталось много бревен от сгоревших русских домов. Топить есть чем. Печка — „изобретение“ Густава Цоллера — железная бочка из-под горючего.
Здание, в котором живем— монастырского типа, пэобразное, толстые стены из красного кирпича, окна узкие, как бойницы, сводчатые, ворота ведут в большущий двор. Но сколько удастся просидеть в этом относительно надежном месте, никто не знает…
Вчера утром я должен был ехать за дистиллированной водой для нашей аптеки. С вечера приготовил две большие бутыли, подогнал к ним тугие пробки, положил на сено в повозку и прикрыл брезентом. Попросил Густава приглядеть за ними. Он торчал во дворе на посту и, когда поблизости никого не было, напевал, как всегда, „Скачут синие драгуны“. Ее пели солдаты еще в польскую кампанию. Боже, как это давно было!..
А накануне ночью я проснулся от шума голосов и грохота сапог. Подняли нас всех — хозяйственников, нестроевиков, выстроили во дворе на холоде и злых, невыспавшихся погнали по морозу на станцию Пустошка. Ветер бил в лицо, воспаленные глаза слезились. Впереди меня, спотыкаясь, семенил старик Дитцхоф.
Оказалось, прибыл эшелон полицейских из Гамбурга. Все в черных мундирах. Что ж, взялись уже и за них… Командир их — здоровенный парень из эсэс — с серебряными рунами на погонах, разглядев нас, рассмеялся и сказал кому-то:
— Хайнц, посмотри на этих доходяг в форме немецкой армии! Ходячие нужники! Они тут три дня будут ковыряться. А у меня приказ утром на грузовики и к передовой. Расшевели это дерьмо, а я пойду насчет ужина…
Этот Хайнц старался: криком, руганью, а где и кулаком. А задача наша заключалась вот в чем: пока полицейские будут пить и жрать в огромном пакгаузе, где оборудованы столовая и казарма, мы должны разгрузить вагоны. Работа на холодном ветру несладкая: выкатывать орудия, таскать ящики с патронами и снарядами, корзины с гранатами. Особенно доставалось Дитцхофу: от тяжести у него немели руки, и я все боялся, что скоба, за которую он держал ящик, вот-вот вырвется из его ослабевших пальцев. Он быстро взмок, запыхался, на кончике худого носа все время висела капля, и он утирал ее рукавом шинели. А за стеной барака шло еще пиршество — доносилось коллективное песнопение..
Вернулись мы под утро. Измученные, замерзшие, голодные, с исцарапанными руками. И сейчас еще ноет поясница…
Перед обедом позвал Альберт, дал халат и повел в палату — в маленькую, как келья, одиночную. Человек, лежавший в ней, то ли спал, то ли был без сознания.
— Узнаешь? — спросил Альберт.
Я посмотрел на лицо человека — желтое, заросшее. И не узнал.
— Это капитан фон Киеслинг. Помнишь? Его привезли ночью. Подорвался на мине. Все попало в живот. Я еле собрал ему кишки. Да и то не все — кое-чего не хватило.
Альберт говорил громко, чем смущал меня. Он заметил это и сказал:
— Не бойся, он еще спит после наркоза. И вообще до его сознания не скоро дойдет человеческий голос.
— Он выживет?
— Я сделал все, что мог.
— Тебе вовсе не жаль его… после всего, что между вами произошло?
— Я врач, Конрад. Этим все сказано…
Мы молча сидели у постели фон Киеслинга. Альберт часто брал его бесчувственную руку с высохшей кожей и щупал пульс.
Когда мы вышли, Альберт сказал:
— Вот все, что осталось от фон Киеслинга. От былого величия, напыщенности, надежд, слов.
— Немного, — согласился я.
— Человек всю жизнь фальшивит, Конрад, — Альберт прикуривал от зажигалки. Его белые длинные пальцы были точны в каждом движении. — Всю жизнь человек играет какую-то роль. Иногда даже не подозревая. И только перед смертью, когда он уже понимает это, становится самим собой. Тоже не подозревая. С ним, — Альберт кивнул на дверь палаты, — это тоже произойдет, если, конечно, он перед смертью придет в сознание.
— Ты думаешь, он?..
— Боюсь, что да… И знаешь, чего захочется этому фон Киеслингу? Стать несчастным, нелепым Дитцхофом, поменяться местами с тобой или туповатым Цоллером, променять свои ордена, славу и положение на любую жизнь. На возможность пребывать на земле хоть самым незаметным михелем, который развозит по квартирам угольные брикеты…
— А может, в отношении фон Киеслинга ты заблуждаешься? — спросил я. — Разве ты уверен, что, придя в сознание, он не скажет: „Я прожил хорошо и умираю, выполнив волю Германии и фюрера?“
— Он скажет это мне, но не самому себе.
— Ну, а мы с тобой, Альберт?
— Нам нет необходимости лгать ни друг другу, ни себе.
— Потому что мы прожили жизнь правильно?
— Я бы этого не сказал.
— А тебе не кажется, что мы слишком часто стали говорить на эту тему? Интересно, рассуждают ли столько русские?
— Вряд ли, Конрад. Они просто изгоняют нас со своей земли. Как видишь, тут нет темы для рассуждений.
— Ты хочешь сказать, что фюрер не прав по отношению к России? — спросил я его прямо.
— Мне плевать на Россию. Меня заботит Германия. Вот прав ли он по отношению к ней?
— Но смотри, Альберт: он избавил страну от безработицы, нация вздохнула, люди стали жить сытнее, он прижал толстосумов, протянул руку рабочим и ремесленникам, а их детей назвал своей опорой.
— А в итоге — война? И все облагодетельствованные — в земле. А что впереди? Возможно, катастрофа пострашнее той, что была после первой мировой. Тогда какой же был во всем смысл?
— А если мы все же выстоим, Альберт?
— Не валяй дурака. Ты сам уже в это не веришь…
Альберт, как всегда, безжалостен, полагает, что и здесь как врач он обязан изрекать единственный диагноз…
Сейчас два часа дня. Сижу у печки, греюсь и пишу…»
«17 февраля.
Погиб Марк».
Марк Щербина погиб на моих глазах. И я ничего не смог сделать. Ни я, ни Семен, хоть были рядом… Помню, после боя нужно было пройти по взводам, посмотреть, как устроились люди, но не мог заставить себя, не мог встречаться глазами с Семеном и Витькой. И еще комбат допек: «Как же ты не уберег комсорга?.. Жаль Щербину…»
Батальону было приказано зайти в тыл немцам, готовилось общее наступление. Скрытно, по лесным тропам повели нас два местных партизана: усатый дядька в заячьем треухе, в тулупчике, валенки обшиты внизу красной резиной, и молодая женщина в фуфайке. Выступили едва стемнело, двигались во тьме тихо, слышалось только тяжелое усталое дыхание. На коротких привалах курили осторожно, в рукав. Отмахали пятнадцать километров лесом. В нем и заночевали. Где-то юго-западней осталась Пустошка. Костров не разводили. Спали на еловых ветках, потные тела быстро остывали, и ночной мороз ломил кости…
В полдень вышли к опушке и напоролись на немцев, валивших лес. Управились с ними быстро, но шуму успели наделать. Пришлось часов до пяти вечера отсиживаться в лесу. Перед деревней на бугре темнело длинное кирпичное здание. Наша задача была пересечь шоссе за деревней и сбить немцев с высоты, господствующей над переправой через реку. Ни здание, ни деревню было не миновать…
Когда мы ударили, немцы всполошились. Я видел: из сводчатых ворот выскочил семитонный грузовик, крытый брезентом, и рванул к деревне. Пока мы бежали к воротам, ушел второй. Немцы огонь вели из окон. Но слабый. Здание пришлось брать — в случае контрудара немцев за него можно удобно зацепиться. Так мы решили с комбатом. И еще он приказал бой вести так, чтоб пленных было поменьше, девать их здесь некуда — мы в тылу у противника. Тех же, кого вынуждены будем брать, — передавать партизанам, их уже присоединилось к нам человек пятнадцать.
Впереди меня к воротам, скользя на подъеме, бежал Марк с тяжелым РПД на весу. Чуть приотстав — Семен. Правее, в обход — Лосев со взводом. Марк и Семен уже вбежали во двор, когда я, споткнувшись о рельс, вбитый в подворотне, упал, тут же вскочил. Двор огромный. В левом углу вторые ворота, деревянные, распахнутые. Перед ними сарай. Валялись убитые немцы. И — тихо. Только у деревни грохотало. Пулемет Марка стоял на сошниках, а сам он пошел вокруг сарая. Семен был уже в здании, в правом крыле, я бросился за ним, и в первой же комнате, оглянувшись в окно, увидел вдруг, как из двери в противоположном крыле выскочил немец в расстегнутой шинели. Бежал он как-то семеня, по-старчески мелко, будто ноги были спутаны, волочил за собою карабин, пилотка поперек головы. Марк его не видел из-за сарая, и я закричал, чтоб предупредить, вышиб ногой окно и снова закричал. Но Марк не услышал. Немец исчез за сараем. Марк шел к нему с противоположной стороны и, наверное, заметил: он рванул с пояса «лимонку», быстро свернул за угол и скрылся. И тотчас — выстрел. Когда мы с Семеном прибежали, Марк лежал. Длилось все это две-три минуты. В правой руке у Марка была «лимонка» с невыдернутой чекой — не успел. Немец исчез. Где-то за воротами в стороне леса заурчал мотор, звук его быстро удалялся…
Марк был еще жив. Мы внесли его в комнату, где стояла койка. Пуля попала в грудь и вышла меж лопаток, наверное, разбила позвоночник: пока мы снимали с него одежду и перевязывали, он не шевельнулся. Семен стоял рядом со мной, его трясло, как в ознобе. Прибежали Витька Лосев, Гуменюк и еще кто-то.
— Как же ты оплошал, Маркуша?.. Ничего, родной, крепись… Мы тебя сейчас в санбат… Они быстро подштопают, душа из них вон! — суетился Лосев.
Мы стояли молча, слов не существовало. Я вцепился Семену в плечо, боялся, что он вот-вот заревет в голос — так его трясло, послал кого-то за фельдшером.
Марк дышал уже не так тяжело, но в тишине все равно слышалось бульканье в его груди, и лицо стало вдруг каменеть, румянец сгорел, оставив желтоватый след, пот со лба исчез. Каким-то усилием воли он сдвинул взгляд в нашу сторону, обвел им всех и остановился на мне. Я наклонился, и он слабо шевельнул большими губами: «Сеньку берегите… Без меня ему…» Больше не смог. Умер…
Позже я подобрал карабин, из которого по нему выстрелил немец. В обойме не хватало одного патрона…
Похоронили мы Марка заметно: комбат хотел за деревней, на сельском кладбище в братской, но я уговорил его — Марка отдельно, на бугре, недалеко от ворот этого проклятого здания. Что в нем будет после войны — кто знает, думал я, но могила Марка Щербины будет видна хорошо, не затопчется. Обложили ее ветками, партизаны сколотили обелиск, покрасить, правда, было нечем. Звезду вырезали из желтой жести — нашлась банка от американской тушенки. Дали залп…
Потом сидели втроем — Витька, Семен и я — перед вещмешком Марка. Никто не решался.
— Ладно, — крякнул Витька и потянулся к мешку.
Ничего в нем особого не было. Полкуска хозяйственного мыла, алюминиевая ложка с черенком в виде женской фигурки, пара чистого белья, старое вафельное полотенце, сухие портянки, самодельный блокнотик из половинки школьной тетрада, масленка, немецкий фонарик без батарейки…
Все это мы разложили. Я взял себе блокнотик, Витька, вздохнув, потянулся к ложке. Сенька не стал ничего брать. Попросил разрешения уйти. Минут через пять ушел и Витька…
Блокнотик этот храню по сей день. В нем несколько адресов. Тогда Марк ни с кем не переписывался. Отец его, полковник, военпред, в начале войны был командирован в Иран, вскоре за ним уехала туда же и мать. На предпоследней страничке — стихи, вписанные рукой Семена и посвященные Марку. И обижаться не следует. И дело не в том, что я был командиром роты, а Витька взводным, и судьба нас вроде вознесла над Семеном и Марком или чуть отделила этим от них. Нет, тут существовало иное… Но какое это теперь имеет значение? Марика-то нет уже…
А высоту и переправу тогда мы так и не взяли…
«1 марта, среда.
Наконец-то бегство наше приостановилось. Хорошо это или плохо, — но — передышка. Мы двигались одной колонной. Впереди шли машины с хозяйством полевой почты и военной цензуры. За спиной осталось более двухсот километров. Где-то там, в лесу, могила старика Дитцхофа.
В тот февральский день после полудня позвонили из штаба и приказали срочно готовиться к эвакуации, русские появились в тылах. Все было почти готово, когда они нагрянули. Первыми успели уйти „Даймлеры“ полевой почты и цензуры, мы за ними, погрузив раненых. Грузовик, в котором были мы с Альбертом, выскочил со двора через задние ворота последним, уже под огнем русских. Отъехали метров сто по лесной дороге, когда спохватились: нет Дитцхофа! Я вспомнил: он заливал воду в осветительный аккумулятор. Альберт приказал остановиться, и я побежал назад. Из-за кустов перед воротами я видел, что двор пуст. И вдруг из-за сарая выбежал Дитцхоф — трусцой, лицо бледное, как присыпанное пеплом, шинель расстегнута, карабин волочит за ремень. И тут с другой стороны сарая вышел огромного роста русский. Я снял автомат, но Дитцхоф подтянул карабин и, держа его у живота, не целясь, выстрелил. Русский упал. Дитцхоф уронил карабин. Я закричал ему, и он затрусил ко мне. Изнемогшего, хрипевшего, я почти тащил Дитцхофа к машине. Мы втолкнули его в кузов, прямо на раненых…
Километров через двадцать сделали первую остановку — покормить раненых. Дитцхоф все еще лежал у борта, вытянувшись, как по стойке „смирно“. Я окликнул его, но он не отозвался. Когда я склонился над ним, меня едва не стошнило: от Дитцхофа невероятно воняло. Легкораненый унтер-офицер сверхсрочник сказал:
— Зачем вы везете этого покойника? От него смердит на сто километров вперед. Еще и положили рядом с нами. Он умер, едва вы его вбросили сюда, а перед смертью выпустил под себя отходы за всю неделю…
Я позвал Альберта, он велел убрать тело Дитцхофа. Его зарыли в лесу.
— Он просто умер, — сказал мне потом Альберт. — Так умирают от страха или в постели от болезни… Какая разница? Так или иначе — это произошло бы…
Человек исчезает на войне незаметно. Сожаление о нем недолговечно. Таковы условия войны, где чья-то смерть — не внезапная случай, а как постоянно присутствующее существо, каждую минуту способное сделать очередной выбор, указав пальцем: „Теперь — ты…“ Может, когда-нибудь я вспомню Дитцхофа и еще погрущу о нем…
Чем больше всматриваюсь в Альберта и Марию, тем больше замечаю, как изменились их отношения, — стали ровнее, замкнутей. Они не то что избегают меня, но ищут возможности побыть дольше вдвоем. Альберт стал не так резок, слова его те же — категоричные, но звучат мягче. Что-то произошло и с Марией: нет уже прежней веселой, с постоянной улыбкой, жизнерадостной Марии. Она стала как-то пытливее смотреть на людей, на окружающее. И взгляд у нее долгий.
Однажды она спросила, получаю ли я письма от Кристы, намерен ли я жениться на ней. И услышав мой ответ, сказала, что Криста славная девушка и обманывать ее грех… Мы шли по зимней, чуть оттаявшей уже дороге, было ветрено, над заснеженным полем низко тянулись набрякшие синей тяжестью тучи.
— Как здесь все огромно и чуждо, — сказала вдруг Мария и сжала плечи.
— Для нас с тобой, — ответил я.
— Но мы ведь за этим шли сюда, — она посмотрела на уходившие к сумеречному горизонту поля. — Никогда не думала, что это так бесконечно… У тебя родители верующие, Конрад?
— Да.
— А ты?
— Ну как тебе сказать…
— Объясни мне, почему, когда смотришь на такие пространства, в небо над нами, кажется, что на небе действительно кто-то есть? Сам себе кажешься маленьким, затерявшимся.
— Это необъяснимо, Мария, просто что-то в душе происходит, ты ищешь опору в себе, не находишь, и тогда вспоминаешь, что надо во что-то верить. Скажем, в бога.
— Я иногда начинаю верить, но тут же вспоминаю строчки из „Прометея“ Гёте. Помнишь? — она начала читать.
Эти стихи я знал хорошо, но меня удивило, что Мария обратилась к ним:
Но я подумал: да богов ли небесных она имеет в виду?..»
«1 марта.
Прибыл дивиз. „катюш“. С чего бы — к нам?.. Опять работали на развед. Везет же! Сенька-то — сообразил. Изменился он после гибели Марка. Снился Марк. Как живой. Тягостно после такого сна: есть просил.
У Кр. отобр. „парабеллум“. Модник! Меняют караб. на нем авт. Люди интересн. Писать бы о них. Некогда…
Где искать Лену?»
Сны! Явление малоизученное. Вчерашний можешь забыть к утру, а иной, давний, живет в тебе десятилетия, зацепившись какой-то деталью, черточкой за память и душу. Два слова «есть просил» — и все воскресло: и обстоятельства и настроение.
Тогда перед рассветом я незаметно уснул. Длилось это недолго. Вроде как скользнул во что-то мягкое, неответно глухое и тут же очнулся от слабого ветреного шороха: кто-то проходивший по окопу шевельнул воздух и тишину широкими полами плащ-палатки. И в недолгое это отсутствие мне приснился Марк. Он стоял передо мной, гимнастерка расстегнута, большой ладонью растирал грудь. Потом укоризненно сказал: «Я так голоден, столько времени не ел! Где моя доля сухарей?» Явь и сон еще не разделились во мне, и, тупо уставившись в волглую темень, как бы отвечая ему, я подумал, что ведь старшина на Марка не получает уже довольствие, он выбыл из списков личного состава…
Было зябко. С поймы полз на окопы туман. Немцы жгли ракеты. Свет их судорожно опускался и увязал в тумане, клубясь, оседал в нем белесой мутью и глох. В память откуда-то издалека пришли слова Марка, сказанные накануне гибели: «Из-за фрицев не позавтракал, не успел. Полкотелка каши осталось».
И мне вдруг захотелось есть. Но я уже привык сосущий рассветный голод душить махорочным дымом…
На нашем участке что-то намечалось, ждали дивизионных разведчиков. Мне приказали обеспечить операцию: нужен был важный «язык» — офицер, в крайнем случае — унтер. Готовил на это Лосева и троих солдат его взвода. А потом напросился и Семен, напомнил, что у него тонкий слух. Лосев не очень хотел его брать. Я понимал: на это дело нужны более проворные.
— Тут не только слушать, видеть надо, — сказал Лосев.
— Да я ведь все насквозь вижу, — Сеня улыбнулся. — Вон воронка. Что из нее торчит?
— Коряга, — уверенно ответил Лосев.
— Промах, — покачал головой Семен. — Там фриц убитый. Головой вниз, а ногами к нам.
— Проверим, — Лосев подкрутил окуляры бинокля, приставил к глазам. — Точно, фриц… Даешь ты, Березкин!
Семен посмотрел на меня, и я сказал Лосеву, чтоб взял его с собой. Я понимал Семена, его насилие над своей незадачливостью. Эта потребность подняться над нею обострилась в нем после гибели Марка…
Они свалились через бруствер и поползли вниз — неловко Семен, пригнув голову и выставив зад; распластавшись, гибкий Лосев и остальные.
Утро выдалось немощное, ночная муть медленно сходила с полей. Где-то на левом фланге почти беззвучными пунктирами пролетали редкие пулеметные трассы. Я следил в бинокль за ползущими, они были едва видны у кустарника, передвигались, забирая правее немецких траншей, к холмику. Там в воронку завалилась наша разбитая сорокапятка, ее накрыло накануне тяжелой миной, расчет весь погиб. Только ночью мы вытащили их окоченевшие тела, несколько ящиков со снарядами и орудийный замок. Обзор оттуда — лучше не сыщешь: весь профиль второй немецкой траншеи…
Вернулись они в сумерки, пролежав на холоде девять часов. Синие, озябшие так, что скулы посводило, набросились на горячую еду. Но дело сделали.
В немецких траншеях почти не было никакого движения, и Лосев уже психовал, что без толку про- морозились столько часов. Но Семен углядел, что перед блиндажом в конце второй траншеи, откуда шел ход сообщения в тыл, дважды — в завтрак и в обед — появлялся солдат с двумя котелками в руках. Прежде чем войти, он ставил котелки и охорашивался: проводил по шинели ладонями — то ли смахивал грязь, то ли сгонял складки, подправлял форменную каскетку на голове. Возвращался из блиндажа быстро, но уже с пустыми руками. Кроме него туда наведывались еще трое. И каждый у входа приостанавливался, приводил себя в порядок. Сообразил Семен: офицерский блиндаж! И еще: все немцы в черном. Значит, замена частей произошла. Мы уже знали от пленных, что их часть ждет замены, что каких-то полицейских пригнали из Гамбурга. Везли вроде на краткую прогулку — карателями против партизан, а упекли сюда…
Сидение в обороне — палка о двух концах. Потом за каждый бугорок двойную плату плати. Противник понатыкает мин, обвешается проволокой, спиралями. Да и штабы суетились — самая их работа. У них аукалось, а у нас откликалось. Зуммер то и дело пищал…
В те дни я все еще ждал известий от Лены. Не верил, что оборвалось между нами навсегда. Думал, какая-то случайность или недоразумение. Соображал: куда еще написать, где искать? Не может же человек исчезнуть без следа!.. Или я в чем-нибудь виноват перед Леной? Часто вспоминал прошлое, но не находил в нем ничего, за что мог бы укорить себя. Деликатный Семен больше не спрашивал меня о ней…
«15 марта, среда.
Уже несколько дней ходит слух, что нас вместе с дивизией перебрасывают в Италию. Казначей лазарета Тоберенц был в штабе дивизии, новость эта — оттуда. Неужели сбудется?! Было бы просто счастьем убраться отсюда в нормальный климат, в нормальные условия. Слух стал обрастать подробностями, как снежный ком. Каждый вспоминает все, что знает про Италию.
— Там, Биллингер, ты будешь работать в настоящей аптеке, — сказал мне Тоберенц. — И не нужны там никакие финские утепленные палатки. Он даже принес старый номер „Берлинер“, где на фотографии наши солдаты сидят на улице за столиками возле траттории и пьют кофе…
Сегодня начальник лазарета майор Раволле подтвердил, что есть приказ за неделю все подготовить к отъезду. По этому случаю он собрал офицеров на совещание, обсуждали, кто чем займется, что берем с собой, что оставляем.
Целый день я помогал казначею сортировать бумаги в шкафу, потом перебирал с Альбертом старые истории болезни, которые можно уже сжечь: те, кому они принадлежали, умерли в лазарете от ран. Накопилась большая пачка рентгеновских снимков. Альберт, просмотрев несколько штук на свет, швырнул их на пол:
— Редкий учебный материал для студентов-медиков… Можешь сунуть все это в печь, — сказал он.
Италия… Италия… Надо сообщить об этой новости домой и Кристе…»
«15 марта.
Такой гостьи не ждал! Трудно было. Каково ей. Гусятников, похоже, славный малый! Приходится писать „был“. Ничто не должно пропасть зря для будущего! Ни одна кровинка. Клянусь себе, пусть негромко. Об этом не надо громко…
Готовимся. Придан. 2 пуш. пропали. Комб. ворч. Ищу, жду. Опять — Упрей».
«Придан. 2 пуш. пропали» — означает вот что: батальону был придан огневой артвзвод — две пушчонки, как раз на мой участок. Из полка звонили, что они еще утром конной тягой отправились в батальон, а их все не было. Начштаба полка ругал комбата, что плохо, мол, у нас налажена связь с «придаными». Комбат трезвонил мне. Вечно с ними случалась какая- то чехарда, и всегда мы оказывались виноватыми.
Не помню: то ли застряли они где-то в дороге на вязкой пахоте, то ли лошадей у них побило или просто заблудились по пути к нам.
Еще засветло Лосев отправил им навстречу Семена и автоматчика Сейтлиева, но и те как в воду канули. Уже вечерело, повалил мокрый снег, а — ни пушкарей, ни Семена. Я волновался, как бы в темноте они к немцам не угодили.
И тут снова позвонил комбат:
— Там к тебе гость направился. Выйди, встреть. — И отключился.
Уж не Упреев ли, как домовой к ночи? — подумал я тогда и вылез из землянки идти встречать. Задернул поплотней палатку, чтоб наружу не падал свет. Пошел по окопу. Тьма и тяжелый липкий снег. Солдатские лица в подвязанных ушанках были вжаты в поднятые воротники, хлопцы ежились, пританцовывая на месте. Холодно, ветрено. Курцы присели пониже, на дно окопа, притискивались к мокрой стене, чтобы дать мне пройти; негромко переговаривались, дремали или жевали сухари. И у немцев было тихо — в эту пору они ужинали.
По ходу сообщения я спустился в лощину, по которой бежала наша тропка в штаб батальона. Прошагал недалеко, когда темень словно выдавила навстречу две фигуры. Мы сблизились. В одной я узнал ординарца комбата Мельникова, второй человек был мне не знаком.
— К вам мы, товарищ лейтенант, — сказал Мельников.
— Здравствуйте, — произнес гость женским голосом.
— Так я пойду к себе? — спросил Мельников.
Я отпустил его и с гостем, вернее, с гостьей двинулся к землянке.
Вошли. Фитиль в гильзе едва горел, все же я разглядел моложавую женщину в ладной новой шинели, офицерские погоны медслужбы. Предложил сесть на ящик от мин. Она сперва представилась:
— Капитан Гусятникова. — Расстегнула шинель, села, сняв ушанку, стряхнула к ногам снег. Волосы у нее были темные, короткие, лицо уставшее.
Едва произнесла фамилию, я сразу вспомнил командира штрафной роты. Подумал: жена! Ну зачем комбат — ко мне?! Что я могу? Чем помогу? Одна неловкость — и молчать неудобно, а говорить в таких случаях не знаешь что.
— Валерий последние часы с вами был? — спросила женщина.
Я не знал имени Гусятникова, но понял, что спрашивает о нем.
— Какие уж там часы! Одна атака. Вы что, только узнали об этом?
— Я во фронтовом госпитале работаю. Случайно разговорилась с одним раненым из его роты. От него и узнала. Искала вас… Вот, добралась, — она помяла ушанку, лежавшую на коленях.
Наступило молчание. Готов был провалиться сквозь землю: рта не мог раскрыть — слов не было. Вот уж гостью мне комбат подкинул! Уж лучше бы Упреев.
Пожелал даже: хоть бы немцы чего-нибудь затеяли. Пошла б суматоха, движение — тут уж не до разговоров было бы. А так — сидели молчали, друг на друга глядели.
— Как же это произошло? Расскажите, — попросила она. — Я ведь и домой что-то написать должна маме. Валерий единственный брат у меня был…
«Вот оно что! — почему-то спокойнее подумал я тогда. — Не жена ему она, сестра!» — и вроде мне легче стало, даже не понял отчего.
— Так вы сестра?
— Да…
Что я мог рассказать? В рукопашном, когда его убило, не был с ним. Что тыкал он мне пистолетом в грудь и мог застрелить? Не годилось. Рассказал что знал, без особых, правда, подробностей. Пока говорил, поглядывал. Она все теребила ушанку. Потом спросила:
— Где его похоронили?
— Там, со всеми, на высоте этой.
И снова помолчали. А в глазах у нее уже слезы. Поморгала, чтоб сошли, сказала:
— Близнецы мы с ним. Валерий был очень способный… В Эрмитаже старинную мебель реставрировал… Стамеской, как кистью, работал…
— Вы из Ленинграда?
— Да…
Вдруг она знает Лену или профессора Рукавишникова! — пронеслось тогда в голове. И тут же — отрезвело: чудес захотел? Нелепица! И сдержался, не спросил ее ни о чем. Да и спрашивать-то было некстати. Мы помолчали. Тут снаружи послышалось какое-то движение. Я извинился, вышел. Сильный ветер крутил в темноте заряды хлесткого снега, он тут же таял, под ногами сочно чавкала грязь. В окопах шло шевеление. Оказалось, кухня прибыла. Ужин. Это я понял по звяканью котелков и простуженно-хриплым, но повеселевшим голосам солдат…
Когда вернулся, Гусятникова уже стояла в ушанке, застегнутая.
— Спасибо вам… Извините… Но так хотелось хоть немножко узнать…
Я пошел провожать ее до штаба батальона. Там ее ждала полуторка.
Шли молча во мраке по скользившей под ногами невидимой глинистой тропе, согнувшись под ветром, подняв воротники и сунув руки в карманы.
К комбату заходить не стал — боялся нарваться на разговор о пропавшем артвзводе. Попрощался с Гусятниковой у входа в комбатский блиндаж…
Когда вернулся, в землянке сидел Лосев. Промокший, с бровей стекал по красному обветренному лицу стаявший снег. Он утирался куском потемневшей фланели, которую таскал в кармане вместо носового платка.
На ящике стоял котелок, от него шел манящий пар. Это Гуменюк притащил мне ужин. Бока у котелка были теплые, хотелось держать на них ладони.
— Бери ложку, садись, — сказал я Лосеву.
— Я уже «отстрелялся».
— Березкин вернулся? — спросил я, вспомнив о главном.
— Нет… Где их черт носит?.. Я уже звонил соседям. Не объявлялись и там.
— И пушкарей нет?
— И этих тоже.
— Плохо дело. Пошли кого-нибудь к оврагу. Может, они кружным путем решили.
Я рассказал ему о визите Гусятниковой.
— Не повезло парню, — сказал Лосев.
Эта привычка осталась у него на всю жизнь: о самом страшном говорить словами из другого смыслового ряда. Что это было? Желание спрятаться за ними?..
«9 мая, вторник.
Получил письмо от Кристы. Она спрашивает, как я живу. Что я могу ответить? Ощущение ожидания: что-то должно решить нашу судьбу. Щемящее чувство жалости к себе стало острее с приходом весны — ласковое солнце по утрам, туман на зеленых лугах, иногда теплый дождик. Дома у нас, наверное, уже проветрили зимнюю одежду, прежде чем упрятать ее.
Я всегда страшился ожидания, как темноты в детстве, когда оставался один. Альберт сказал вчера: „Мир ввергнут в хаос, и как в каждом хаосе, казалось бы, должно возникнуть множество проблем. Но никаких проблем нет, выбирать не из чего: жизнь или смерть, между ними пустота ожидания…“ Что же, тут он прав: проблем нет, ничего решать не надо… Это становится привычкой, и тогда жить легко. Но лишь до тех пор, пока те, кто решал за тебя, пожинают успехи своих решений. Когда же они сами попадают в тупик и тебя вдруг настигает необходимость поступать самостоятельно, — становится страшно, потому что человек, разучившийся это делать, опасен и для себя, и для окружающих: у одних появляется ангельская покорность судьбе, у других — самое гнусное в человеке — инстинкт зверя…
С Италией все лопнуло так же быстро, как и возникло: остаемся здесь. Приказ о подготовке к отъезду туда был отменен через двое суток. Гауптфельдфебель похоронной команды, которая находится недалеко от нас, сказал по этому поводу: „У моих ребят еще здесь много работы…“
Вчера привезли какой-то фильм, перед ним крутили старую хронику „Вохеншау“. Фюрер и Муссолини у развалин Брестской крепости. Стоят в плащах. Вокруг — свита. Фюрер что-то весело говорит своему итальянскому другу… Я всматривался в их лица, вдруг подумал: в чем их величие, почему миллионы людей поверили в гений одного человека, со временем уверовав, что не он их избрал, а они его — добровольно?
Но разве сам господь не един для нас? И не в этой ли единичности извечное стремление человека увидеть свои достоинства и свои надежды в себе подобном? Не зря же на смену многоликому язычеству пришло христианство, чем-то оно больше устраивает нас…
Тем не менее сам фюрер питает слабость к язычеству, как к источнику нашего духа.
Сегодня 9 мая, а я и забыл, что 1-го был праздник Солнцеворота[7]. Я любил этот день просто за его веселье: на площади столы, взрослые пили пиво, пели песни. Особенно шумно было в центре плаца возле „майского древа“. Я не раз пытался взобраться по этому гладкому столбу, чтобы снять с верхушки приз — какую-нибудь безделушку. Но повезло мне лишь однажды. Правда, спускаясь, я загнал занозу, и какой-то парень, заметив, что я ковыряю ногтем ладонь, снял со своей рубахи значок и крепежной булавкой вытащил кусочек дерева из моей ладони. Это был Альберт, так мы познакомились. Где этот далекий счастливый май?.. Так хочется напомнить об этом Альберту, но он не любит воспоминаний, признает только реальность: русские вышли к границам протектората Богемии и Моравии, а в Румынии уже идут бои…
Криста пишет, что уже совершенно не может понять, что такое Россия и ее обитатели. Слишком много было слов об этом. Но словами не объяснишь. Я уже давно здесь, но и я не могу сказать, что знаю все доподлинно, что мне понятны причины и следствия всего. Война открывает для нас в человеке многое, но большее остается в тайне. Наверное, это относится и к нам, и к русским. Мы обоюдно стремимся убить друг друга: идет война. В этом истина. Я не хочу навязывать ее Кристе, как веру, но испытать ее, соотнести с действительностью ей, возможно, предстоит. Ибо если мы не удержимся здесь, то русские придут к нам. Как невелик выбор наш!.. А ведь уже вовсю бомбят Берлин…»
«9 мая.
Рота поредела. Пополн. не обещают. Комбат талдычит: „Потерпи“. Дивизия — в растянутой обороне. Бомбят нас по три раза на день.
Предстоят награждения. Старался ордена и медали не просто проявившим храбрость в бою, но одержавшим какую-то победу над собой. В. отнесся презрительно: „Обидишь других. У войны своя логика, рассчитывать можно только на то, что кому дано природой“».
Никто из нас в тот день не мог предположить, что до конца войны, до Дня Победы, оставался ровно год, 365 дней войны, бомбежек, удач и неудач, радостей и смертей. И сейчас, оглядываясь на те дни, думаю: что же налагало на людей ответственность? Я видел нерешительных, робких, может, даже трусливых, кому волею случая вменялось принимать решения, от которых зависела не только их жизнь. И это их преображало: доверенная им чужая судьба вдруг поднимала их над собственной слабостью. Видимо, человеку всегда свойственна жажда быть нужным кому-то. Только так дается ему способность почувствовать свою силу, чтобы обрести уважение к себе…
Со времени гибели Марка отношения между Витькой и Семеном усложнились. Раньше между ними стоял Марк, Витька его побаивался, хотя тоже старался оберегать Семена, но это у него больше смахивало на недоверие. Я его взгрел за это. Сенька-то все прекрасно понимал, однако терпеливо молчал. Но единственную медальку «За боевые заслуги» носил так гордо, будто она одна была на весь полк, и именно у него…
«27 июля, четверг.
Грохот, крики, лязг. Все это до сих пор стоит в ушах. Мы бежим по дорогам Прибалтики. Куда? Кто управляет этим бегством? Рок? Или воля русских? Или нас уводят к балтийским портам, чтобы морем вывезти на родину?.. Никто толком ничего не знает.
Два часа мы торчали на привокзальной площади в Резекне, ожидая приказа, куда двигаться дальше.
Площадь была забита грузовиками. В зное висел запах бензина, пыли и пота, толклись солдаты — грязные, небритые, злые, — разыскивали свои части. Мы с Марией пошли на станцию. Там был какой-то кошмар! Метались люди, много гражданских. Подогнали эшелон: запертые товарные вагоны с надписями „Остарбайт“. Внутри истошно вопили, колотили в стены. Солдаты из кригсполицай начали открывать двери, и рев вывалился наружу. В эшелонах оказались подростки и женщины. Почти у каждого за спиной мешок, в руках белые узелки. Этих русских не успели отправить в Германию, было не до них, и неделю они сидели взаперти! Ужасное зрелище. Солдаты выталкивали их прикладами. Многие женщины были с детьми.
Они ревели от голода и страха. Вскоре вагоны опустели, остались лишь умершие. Трупы их свалили в грузовики и увезли, а кричащую толпу русских построили в колонну и куда-то погнали.
Вагоны обработали карболкой, в эшелон погрузилась воинская часть, и тут же он ушел на Мадону.
Ничего подобного я в жизни не видел. Изможденные лица этих женщин и детей, грязь и вонь, глаза, залитые ужасом! Я знал, что у нас много восточных рабочих. Но неужели всех их вот так — как скот?! Я понимаю, что они нужны. Но зачем — так?
Мария неотрывно смотрела на все это, прижав ладони к вискам. Лицо ее побледнело. Какой-то толстенький унтер-офицер сказал ей:
— Уйдите отсюда, фрейлейн, если не хотите набраться вшей. Это же стадо! Они и прежде так ездили, привычны уже. Так что вы не очень…
Мария не шелохнулась. И когда мы ушли, не сказала мне ни слова. Но я и не хотел никаких слов…
Вскоре мы уехали оттуда…
Уже десять часов вечера. Но в этих местах еще светло. Стоим в маленькой деревеньке на берегу реки Арона. Вокруг лес. Тишина. Только что я вернулся от Альберта. Он сообщил мне страшную весть: 20-го было совершено покушение на фюрера. Подробностей он еще не знает. Из-за быстрого отступления мы не видели газет уже неделю, радио тоже негде послушать. Известно лишь, что в заговоре участвовали офицеры вермахта и что в Берлине аресты. Фюрер жив. Я не могу прийти в себя, осмыслить эту весть. Даже Альберт растерян. Густав Цоллер прореагировал просто: „Ну и свиньи! В такой момент!..“
И только Мария спокойно сказала: „Это серьезней, чем вы думаете. Он слишком доверчив, а за его спиной кучка негодяев творила всякие гнусности. От его имени и от имени нации. Они его и предали. Если его не станет, мы погибнем…“
Боже мой, почему человек ищет опору в ком-то, а не в себе самом?!»
«27 июля.
Бегут фрицы! Прем по двадцать км в день! Кухни едва поспевают. Но живем: на подножном. Все пихают в карманы и вещмешки побольше патронов. Гуляли по г. Резекне. Не похож на наши.
Всех занимает: куда после Риги? В Германию? Восточная Пруссия рядом. Бои уже в Польше. Полтора месяца, как союзники открыли второй фронт. Консервы консервами, но и воевать надо… А нам еще предстоит Ригу брать…»
В Латвию мы вступили 17 июля. После голодной и выжженной Калининской области как-то странно было видеть уцелевшие улицы в городах, опрятно одетых людей, неразрушенное хозяйство на хуторах, пасущихся коров. Помню, как впервые попалась каменная усадьба. Во дворе стоял локомобиль. И хозяин-латыш пояснял, что локомобиль дает электроэнергию для молотилки и для освещения дома. Витька тут же обменял у него канистру керосина на харч — взял сала, яиц, молока, пару бутылок самогона и домашнего пива — по-латышски «алус»…
В Приказе Верховного Главнокомандующего нас тогда отметили за Режицу[8]. Стояли мы на окраине, кажется, часа три, а потом пошли бродить по городу.
Разбит он был основательно. Заглянули в какое-то здание, что-то вроде школы: классы, зал. Ни души — пусто, гулко, под ногами хруст стекла, сквозняк гонял обрывки газет, пряди промасленной пакли. В спортзале у шведской стены стояло старое пианино фирмы «Блютнер». Семен уселся за него и как всегда — лицо к небу, левый глаз прикрыл, заиграл, и неслышные слова зашевелили его губы. Казалось нам, лучше его никто не может играть. Лосев воскликнул: «И это наш-то Семен! Сень, а смог бы ты сочинить про нас что-нибудь? Песню или куплеты».
Семен начал пробовать клавиши, перебирать пальцами звуки, как зернышки крупы, а потом тихо запел:
Потрясенные, мы стояли у пианино. Маленький, тщедушный, Сеня Березкин возвышался над нами. Вспомнился Марк.
— Это ты сам? — оторопело спросил Лосев.
Сеня кивнул.
— И музыку, и слова? — допытывался Витька, хотя знал, что Сеня еще в школе пописывал стихи. Видно, не сама песня всколыхнула Лосева, а то, что сочинил ее Сеня — и слова, и музыку — сам!
Я еще тогда заметил, что Витьку в других удивляло именно это «сам», на которое, кроме него, вдруг оказался способен еще кто-то…
Как-то после ремонта в квартире, когда принято избавляться от старья, среди папок я обнаружил несколько истрепанных карт участков фронта в Прибалтике, где воевал наш батальон. Я хотел их выбросить вместе с прочими ненужными бумагами, но вспомнил Вить кину страсть собирать всякий хлам и сказал ему о находке. Он забрал карты себе.
Теперь я сожалел об этом. Из дневников — моих и Конрада Биллингера — воскресли забытые названия деревень, поселков и городков, и не худо бы, глядя на карты, обойти все это оттаявшей памятью.
Позвонил Наташе. Чем черт не шутит!
— Я не встречала. Но приходи, пороемся, — сказала она.
В тот же вечер я был у нее.
Одна в большой квартире, Наташа казалась особенно одинокой. Будь она старой, это выглядело бы не так удручающе несправедливо. Но ею еще не был прожит тот последний отрезок времени, самый жадный и самый сжигающий у женщин, когда в дело идут опыт и торопливая надежда проверить себя, испытать все так, как не бывало доселе. Я это понимал, она же — чувствовала всей плотью. И может, в благодарность за что-то природа сохранила ей соразмерно этому и внешнюю привлекательность; на улице на таких женщин еще оглядываются юнцы.
Впрочем, другая мысль охладила меня: да так ли это на самом деле, ведь я смотрю на Наташу по-особому, вижу ее одними глазами вот уже четверть века. В дальнем странствии, которое называется «жизнь», мы двигались к горизонту вместе и одновременно, каждому из нас только чудилось, что одного время уносит, а другой, стоя неподвижно, наблюдает, как это происходит…
Иногда мне казалось, будто все эти годы Наташа догадывалась, что нравится мне, где-то я мог оступиться, а у женщин в таких случаях чутье улавливает самые неслышные частоты, но не подавала виду. Сейчас же ей ничто уже не мешало хоть в серьезной, хоть в шутливой форме задать мне вопрос: «Слушай, ты ведь всегда был влюблен в меня? Дело прошлое, признайся».
Что ответил бы ей — не знаю…
Наташа сидела перед встроенным в стену шкафом на низенькой скамеечке и перебирала связки бумаг, ища карты. Я стоял чуть сбоку. Она была в домашнем коротеньком халате, в тапках на босу ногу. Полы халата потянулись вверх, разошлись высоко над коленями и я видел розовую кружевную кромку комбинации. И вспомнил, сколько раз, бывая в Москве, по просьбе Наташи покупал ей косметику, белье. Витька, бывало, позвонит и скажет: «Наташка узнала, что ты едешь, просила купить ей кое-что. Во-первых, комбинацию. Постарайся югославскую, и чтобы поменьше кружев. Дальше. Если попадутся французские лифчики — хватай. Чулки дедероновые немецкие. Французский шампунь. Все размеры ты знаешь…»
И я покупал. С наслаждением перебирал нежно обливающий руки нейлон розового, черного, бежевого цветов; чулки — сразу четыре пары одного цвета, без шва, тонкие, светлые, чтоб ноги выглядели не слишком загоревшими; шампунь искал яичный, для сухих волос. Я все это знал…
Нет, ни о чем она не догадывалась, просить о таких покупках можно только очень давних друзей…
Карты она нашла в папке с выдранными тесемками. Я разложил их на столе, склонился, всматриваясь в линии, наименования, цифры, значки и пометки. Наташа стояла рядом и тоже смотрела на плоские, с подклейками, высохшие листы, на которых для меня могли возникнуть рельефность холмов, шум дождя, голоса людей, чавканье грязи под ногами, выбросы разрывов. Но не стоило сейчас впопыхах, наскоро тратить на это усилия души, ибо сразу придется прервать, остудить себя, отвлечь, потому что надо уходить домой. Только там, в одиночестве, я смогу надолго отправиться туда по этим картам, и никто не будет гадать: что же все-таки я вижу такое на бездушно и безгласно гладких листах бумаги?..
Я сложил карты и сунул их в портфель.
— Как идет работа? — спросила Наташа.
— Трудно. Что-то хочется смягчить, пригладить, чтоб не так жестоко, но тогда все потеряет смысл.
— Когда же дашь почитать?
— Не скоро.
— Там о Викторе есть?
— Есть.
— Какой же он?
— Разный.
— Знаешь, я ведь отдала Казарину бумаги Виктора, — неожиданно произнесла Наташа…
Скажем, Сеня Березкин выразился и сохранился для меня двумя строчками своего стихотворения:
В них для Сени было все: прошлое, настоящее и будущее; остальное — слова, намерения, поступки — должны подчиняться этому главному. В нравственном постулате юноши Сени Березкина была эссенция, чистое, единственное его понимание нашего поведения в тогдашнем и грядущем мире. Но не все могут жить только эссенцией, многие разбавляют ее. Не берусь осуждать за это.
Человеком, в чьем характере я не умел выделить главного, была Наташа. Когда-то это мешала сделать моя осторожная влюбленность, позже, когда образумленное временем и возрастом чувство мое стало степенней и мы остались просто преданными друзьями, помехой уже служила инерция моего отношения к Наташе, обычно убивающая потребность раскладывать характер близкого тебе человека на составные…
Я не стал спрашивать, почему Наташа все же решила отдать эти бумаги, хотя видел, что она ждала моего вопроса. Алька, наверное, просто посчитала, что мать не вняла ее совету…
Пора было уходить. Я поднялся.
— Когда появишься? — спросила Наташа.
— Появлюсь.
— Казарин, наверное, не ожидал от меня такого подвига и был многословно благодарен, — сказала вдруг она. Я чувствовала, что ей все же хочется как-то объяснить мне свой поступок. — Знаешь, человек живет вроде в трех измерениях: слова, произнесенные вслух; слова, молча звучащие внутри тебя для тебя одной; поступки.
— Фиг с ними, со словами, дело сделано. Все правильно, — сказал я, открывая дверь на лестничную площадку.
Раздумывая над поступком Наташи, я понимал: честный человек, она не могла поступить иначе. Но, кроме того, ей хотелось как бы досадить Виктору, с которым, как я полагал, она вела тайный внутренний диалог; досадить ему, мертвому, уже без риска причинить боль, хоть и иллюзорно, испытывая ощущение, что досаждаешь. Досадить за трусливую осторожность, оказавшуюся бесплодной, прикрытую демагогической ложью, понятой, а потому унижав шей Наташу в собственных глазах, ибо вынуждена была сделать вид, что поверила; досадить за то, что он приучил ее, жену, так верить; досадить за то, что сам унизился этой ложью перед нею и людьми; наконец, за то, что доверил не ей, а другой женщине нечто главное о себе. И пусть Наташа не знала, что именно, но это существовало, она интуитивно угадывала, когда укрепилась в вере, что Виктор был близок с той женщиной. Может быть, не сам факт близости оскорбил Наташу, а эта доверительность, откровение, оказанные не ей, а чужой…
«16 сентября, суббота.
Начались дожди. Они настигли нас на выбитых дорогах, в маленьких деревнях, где громоздким тыловым службам трудно налаживать жизнь.
Раненых уйма. Из Мадоны мы могли эвакуировать их в Ригу и Лиепаю по железной дороге, а оттуда морем — на родину. Но из Мадоны нас выбили еще 28 августа. Теперь все сложнее.
В Мадоне я достал карту Латвии, из школьного атласа, но довольно подробную. Она на латышском языке, но это не мешает мне понимать пути нашего отступления. Похоже, нас вот-вот отрежут от Риги и начнут прижимать к морю. А дальше?..
Каждый день какие-нибудь убийственные новости. Вот и Финляндия уже вышла из войны…
У нас новый заместитель начальника лазарета — гауптман Эберхард Готтлебен. Попал он сюда с передовой, где командовал батальоном. Осколком ему раздробило кисть левой руки. Альберт вынужден был ее ампутировать. Эвакуироваться на родину Готтлебен отказался, подал рапорт, чтобы его оставили в строю. У него серебряный значок за ранение и знак отличия за участие в рукопашном бою. Человек очень неприятный, желчный. Свой армейский вальтер он сменил на кобуру с парабеллумом, все время носит ее расстегнутой. Лицо костистое, кожа под глазами провисает пустыми мешочками. Разговаривает Готтлебен неприятно-скрипуче, все время караулит твой взгляд серыми затуманенными как у наркомана, глазами. Не пьет, не курит. Взял на строжайший учет морфий и требует у врачей отчета: сколько и по какой необходимости израсходовано.
С Альбертом у гауптмана сразу же сложились отношения сдержанной неприязни, будто Альберт нарочно ампутировал ему кисть.
В подчинении у Готтлебена все хозяйственные службы, полурота охраны, санитары и ездовые. По духу он ярый наци. Давно таких не видел. Он был в самом начале движения вместе с Ремом[9] и фюрером, но высоких постов не достиг, однако обойденным себя не считает — предан идее. Любопытный тип. Прежде я считал бы такого достойным уважения. Сейчас же он мне просто интересен как экспонат.
Гауптман рассказывал, что с первых дней войны, командуя ротой, запрещал солдатам грабить население, бить скот, себе не позволял взять ни нитки. Его рассуждения при этом сводились к следующему: с таким делом спешить незачем; так или иначе — все будет нашим, но сперва нужно закончить главное — завоевать территорию, закрепиться на ней, а уж потом разумно, по-хозяйски приступать к дележу, не спешить закалывать первую попавшуюся свинью и не рубить голову подвернувшемуся петуху, а помнить, что это — уже твое, ведь всему свое время, иначе разлагается дисциплина и армия превращается в шайку торопящихся мародеров, ворующих в собственном доме…
Готтлебен ежедневно выбрит. Из-за того, что он однорук, бреет его наш лазаретный парикмахер. Он признавался мне, что ненавидит брить гауптмана: Готтлебен капризен, придирчив. Не дай бог маленький порез — гауптман брюзжит: „Вы считаете, что из нас мало крови выпустили? Хотите добавить? Может, вы еврей? Так сейчас не пасха… Подбородок еще раз… У вас не бритва, а рашпиль…“
Хорошо, что я не парикмахер. Тем не менее стараюсь пореже попадаться гауптману на глаза: чего доброго, ему могут не понравиться мои очки, и Готтлебен сочтет, что в них у меня неарийский вид…
Я слышал, как Готтлебен, выстроив во дворе полуроту, в первый же день просвещал солдат: „Я всегда учил солдат не мочиться в окопе и не испражняться под любым кустом. Вы что, животные? Вам предстоит еще тяжело и беспощадно сражаться здесь, у порога Германии, а может быть, даже на земле самой родины, чтобы вернуть все утерянное. Вам давно и внятно объясняли, что все это — одна шваль: славяне, евреи, азиаты. И мы должны уничтожить их, как издержки природы. И пока мы не покончим со всем этим, вы не сможете быть спокойными за своих жен и детей. Уж поверьте мне, я знаю, что говорю! Вы спросите: как же эти недоноски загнали нас аж сюда? Правильно спросите! Об этом надо думать. Меньше слушайте пропагандистских гипнотизеров, этих тыловых болтунов. Мы допустили ошибку: сперва надо было завладеть пространством, а затем приступать к уничтожению. У них инстинкт животных: уцелеть, выжить. Вот откуда удесятеренная сила и изворотливость. Наша задача, наше положение иные: не не выжить, а разумно устоять и победить… Вы хотите победить? То-то же!.. Но помните: нельзя сходить по нужде и не надуться. Так не бывает…“
Это была речь! Как некогда в старые времена, когда все казалось так ясно и все мы были едины. Я следил за Готтлебеном; пока он произносил эту речь, глаза его ни разу не шевельнулись, он уставился взглядом в чей-то лоб, словно проверял, как там, под крышкой черепа, укладываются его слова. Палец единственной руки был воздет, и напоминающе на нем сверкало обручальное кольцо…
Рассказал об этой речи Альберту и Марии.
— Что ж, Готтлебен предостерег: если предстоит защищать Германию, надо знать всю меру мести, с какой туда ворвутся полчища русских, — вздохнула Мария.
— Кого и что защищать? — спросил Альберт.
— Нашу землю, — ответил я.
— А что это? — усмехнулся Альберт.
— Не юродствуй, — оборвала его Мария.
А я задумался над вопросом Альберта „кого и что защищать“: идею, строй, дух или просто дом, родителей, близких? Своим вопросом Альберт дал понять, что все это для него существует уже раздельно. Но Марии страшно вкладывать конкретный смысл в свои слова о родине, она цепляется внутри себя за то, чего в каждом из нас уже почти нет, хотя уговариваем себя, что это есть, а на самом деле все давно рухнуло и погребено под страданиями. Мария это понимает, но боится приблизиться к истине, — тогда надо окончательно расстаться с верой…
Альберт рассказал, что Готтлебен еще мальчишкой, с 1929 по 1937 год, жил в России вместе с родителями. Отец его, инженер, работал там по контракту с фирмой „Борзиг“. Готтлебен учился в русской школе, знает русский. В начале войны служил в оперативном отделе штаба армии, но повздорил с кем-то, защищая Рема, и был отправлен на передовую командовать батальоном…»
«16 сентября.
Мадона. Красивое здание. Городок маленький, а достался дорогой ценой. Дивиз. в движ. — на Ригу. Отправил в НКПС запрос об эшелоне, в котором ехала Лена. Последняя надежда узнать о ней…»
Бои за Мадону начали с форсирования Ароны. Река небольшая, но немцы подготовились: все простреливалось. Переправ не было. Пошли с ходу на подручных средствах, валили лес, вязали плоты, брали лодки у населения, искали броды. Вода всегда пугает людей. Странно устроен человек: под пулями пойдет, — лишь бы посуху, а ступит в воду, кипящую от осколков, — боится утонуть. В роте оказалось много не умевших плавать, их я сажал на плотики. Я видел, как Витька Лосев, идя по грудь в воде, одной рукой толкал перед собой плотик с солдатами, орал на них, матерился, чтоб подбодрить, рядом шел Семен, уцепившись за бревно. Он ведь тоже плавал, как топор. Но на плотик не сел. От разрывов мин и снарядов ничего не было видно, тяжелые удары и взлеты водяных столбов, чей-то крик, с высокого обрыва по нам, как по мишеням, бил пулемет, и пули, чиркнув по воде, с визгом рикошетировали. Я плыл на последней лодке. Ее прошило очередью, она быстро пошла ко дну, те, кто остался жив, еле выбрались. Но когда вырвались на берег, пошли как смерч, не ожидая, покуда переправятся полковые минометы: так обрадовались, что под ногами земля…
Позже спросил у Семена, почему он не сел на плотик. В храброго играл? Витьки стеснялся?
Оказывается, боялся утонуть. С плотика взрывной волной могло сбросить, А так — шел и щупал ногами дно.
Больше всего он испугался, когда по реке поплыли какие-то белые полосы. Волной их подбрасывало, они холодно и скользко касались рук и лица. Оказалось, — оглушенная и всплывшая рыба. Ее было столько, что можно было ухой весь полк накормить…
Потом была передышка. Нас немного пополнили, и сразу же после Мадоны мы начали готовиться к удару по Риге. По дороге к ней нас настигли дожди — самое ненавистное для пехоты время: опять мокрые по уши. А немцы сильно укрепились. У них появилось много самоходок. Солдаты с завистью говорили о тех, кто на украинских фронтах: во-первых, поближе к Берлину, во-вторых, климат получше, да и харч, трофеи…
На войне у каждого возникали новые привычки, привязанности, иной опыт, иные оценки многого. У каждого болело что-то свое. У меня — это гибель Марка и потеря Лены. Потихоньку уже свыкался с мыслью, что потерял ее. Но солдатам моим не было до этого дела. Я для них оставался тем, кто все может, все обязан: чтоб они были сыты, обуты, одеты, — ведь я распоряжался их жизнями, нес ответственность перед их матерями, женами и детьми. Мне не могло быть так же холодно, голодно и страшно, как им, знал я нечто большее, нежели они. И все потому, что в бою они делали то, что приказывал я…
Эх, братцы мои, думал я порой, дорогие окопные землячки! Знали бы вы, как все это непросто! Разве мог я вам сказать, что старшего лейтенанта не дали мне потому, что капитан Упреев написал возражение: ту историю с немецкими листовками вспомнил…
«21 октября суббота.
Наступление русских на нашем участке приостановилось. В каждодневности забот, в привычном исполнении своих обязанностей, в удовлетворении своих потребностей в еде, куреве и сне, здесь в этой латышской деревне, окруженной болотами и рекой, зажатые осенними дождями и ранними заморозками, мы живем теперь как бы в обособленном, сузившемся пространстве, погруженные в маленькие помыслы и ощущения, вроде не соприкасающиеся с внешним миром. Человеческая психика вырабатывает свою защитную пелену, скрывающую от глаз ту даль и те масштабы, от которых веет могильным холодом.
Лишь сильные натуры умеют и желают смотреть сквозь эту пелену — такие, как Альберт, гауптман Готтлебен и даже Мария, хотя каждый из них видит все по-своему. Но иногда и меня что-то подталкивает заглянуть туда. И тогда я вижу себя крохотным существом, никому не нужным, затерявшимся в огромном пространстве, а за спиною ощущаю быстро приближающийся к границам Германии огненный вал, катящийся из морозных, необозримых глубин России. И тогда нелепым становится ощущение относительного покоя и безопасной тишины, в которых я и горстка мне подобных живем в этой латышской деревне, отуманенные иллюзией, что вал этот не заденет нас, обойдет, потому что мы не на главной его дороге. В такие минуты окатывает липкий тяжелый страх. Пытаюсь понять его, успокаиваю себя: я не один, нас миллионы в подобном положении. Собственно, чего я боюсь: за себя, свою жизнь или за судьбу Германии? Что-то в моем страхе особое. Не просто обычный страх солдата, погибающего на чужбине, а — ощущение того, что есть вина, за которую должно прийти возмездие.
Вина конкретная, имеющая название, состоящая из множества пунктов, поддающихся перечислению. Наверное, только сейчас многие из нас ощутили, что она есть, эта вина — за участие в войне против России.
Войны бывали и прежде, и в них участвовали целые народы. Но в этой — вина за то, видимо, как она велась, какова степень ее изуверства и опустошительности. Да! Правде надо смотреть в глаза, не утешая себя, что лично ты ко многому не причастен…
Мы не верили чужим пророкам. Так нас воспитывали. Все, что было написано Гёте, Шиллером и другими нашими гениями, приводило нас в восторг силой чувства. Но силой их прозорливой и всеохватной мысли мы пренебрегали, полагая, что она относится к прошлому. Для того чтобы мы опомнились, нам понадобилось пройти сквозь эту войну и разочарования, понадобилась реальность — угроза гибели страны и нации. Дорогая цена! Но когда-то мы добровольно согласились на нее, лукаво утешая друг друга, потому что в эти минуты наше пиво казалось нам самым вкусным в мире, а наши песни — самыми мужественными, а мы сами себе — самыми достойными…
К чему слова, похожие на покаяние, если грех необратим?
Не пишу ли я все это в надежде на прощение? Кого я хочу обмануть? Разве я не пройду до конца со всеми этот путь? Какая разница, что меня поведет по этому пути — верность долгу или подверженность обстоятельствам? Все остается, как было…»
«21 октября.
Фр. наст. с 16-го. Сейчас увязли. Ливни. Тылы отст., боепр. и прод. — в обрез. Хлопцы завидуют др. фр.: „А когда у нас война начнется?“ Объясняю: держим немца тут за ж… Не даем уйти в Прус.
В дивиз. газ. — стихи Семена. Рад за него.
От проф. Рукав. — письмо. Ничего утешительного».
В ночь на 16 октября фронт опять перешел в наступление. Готовилось оно очень скрытно. Был приказ о соблюдении маскировки, если кто увидит машину с зажженными фарами, разрешалось разбивать их. Поначалу все шло хорошо. А потом увязли в глубокой обороне немцев. Холодные ветры сменялись ливнями. «Студебеккеры» буксовали, все тащили на горбу. В траншеях жижа стояла по колено, шинели намокали, из каждой ведро воды можно было выжать. Тылы отстали, засели где-то на размытых и раздолбанных дорогах. Зимних шапок и рукавиц еще не было, боеприпасов и продовольствия не хватало, а о пополнении людьми и думать не приходилось.
Тогда я, командир стрелковой роты, мог лишь догадываться, что все главное происходило на других фронтах, куда и шли все материальные и людские ресурсы. Но было от этого не легче: немцы, стоявшие против нас, дрались яростно, отчаянно, за каждую деревеньку, чуяли, что жмем их к Балтике. И разговоры у нас шли на одну тему — завидно, что на других фронтах веселее: кто уже под Белградом, кто под Варшавой, а кто и вовсе вышел на границу Восточной Пруссии. Им и слава, дескать, и почет, и боеприпасов вдоволь, и со жратвой тыловики не жмутся, а мы, мол, тут топчемся, даже шутка пошла: «А когда у нас война начнется?» Приходилось объяснять, что мы тут противника заперли, схватили за лапы и не даем уйти в Пруссию или на помощь другим их фронтам, а немцев тут немало — 300 тысяч…
Тогда же я получил неожиданное письмо из Ленинграда от профессора Рукавишникова. Он сообщал, что встретил какого-то доцента-юриста, вернувшегося из Кара-Кургана. Этот юрист знал Лену и ее мать, был влюблен в Лену, хотел жениться на ней, помогал им паковать вещи и провожал, когда они покидали Кара- Курган. Но с тех пор связь с ними потерял. Пытался разыскать в Ленинграде, но безуспешно. Еще Рукавишников писал, что очень болеет, но уверен, что до Победы доживет, и будет рад, если я приеду после войны к нему…
Николай Петрович Рукавишников умер в 1949 году. Умер у себя в комнате в коммунальной квартире большого ленинградского дома, сидя в стареньком кресле-качалке, ноги были укрыты изъеденным молью пледом, а на коленях лежал томик Блока с заложенным меж страниц остро отточенным тоненьким карандашом. В стихотворении «Жизнь» была отчеркнута последняя строфа:
Тут же лежал листок бумаги, на нем — бисером — торопливая, тем же карандашом, запись: «Вечность — дух. Плоть — пустяк… Прекрасные студенты, добрые юные лица. Напор жизни и великая вера, что они все смогут. Наш дух обрел новую плоть! Значит, ничто не напрасно: ни жертвы, ни страдания. Это и есть точка опоры. Через двадцать лет эти юноши и девушки будут так же смотреть на своих детей…»
И как продолжение мысли — поступок: свою уникальную библиотеку он завещал не единственной родственнице — любимой племяннице, а университету…
Витькина переписка с девушками шла полным ходом. У него уже сложилась объемистая коллекция фотографий, он разглядывал их, смеялся, что запутался в именах. Но с Наташей, тогда еще школьницей, обмен письмами шел серьезный. Семен как-то сказал ему: «Зачем ты морочишь девчонке голову?» «Нужно, Сеня, тылы обеспечить, — загадочно ответил Витька. — Девчонка умная, начитанная. Папа у нее какой- то крупный архитектор». «Нечестно это», — заметил Семен. «А что честно, Сеня? Только окопную грязь месить? Но ведь мы люди, живые еще и, значит, думаем о живом. А ты все отрицаешь, все перебираешь, сортируешь. На кой хрен тебе эти тонкости на войне?» «В отрицании рождается истина, Витя», — важно сказал Семен ему. «Это я уже слышал. Надоел ты мне с этим», — отмахнулся Лосев…
Что лучше, подумал я тогда, не вмешиваясь в их разговор, — чтоб рота состояла из одних таких веселых и лихих Лосевых или раздумчивых искателей Березкиных?..
1945-й годжжжжж.
«22 января.
Здравствуйте, дорогие отец, мама и сестренка!
Письмо ваше получил. Был рад ему, как доброй вести, что вы живы. Жаль, что последнее мое письмо к вам не дошло. Криста сообщает, что и она не получила. Что такое два конвертика в этой огненной буре, когда в пепле лежат уже немецкие города?! Меня очень тревожит, что вам приходится далеко бегать в бомбоубежище.
То, что в сводках мало упоминается наш участок фронта, пусть вас не удивляет: все существенное происходит не здесь.
Дорогой отец, как хочется мне поговорить обо всем сейчас с тобой! Уж в этот раз мы бы поняли друг друга. Прежние слова или убиты, или потеряли смысл. Родятся ли новые?..
Русские взяли Остероде. Гауптман Готтлебен оттуда. Я вам писал о нем. У него там жена и двое детей. Теперь ему деваться вообще некуда. Живет одним — ненавистью…
Здесь холодная зима. Все бело. Фронт грохочет недалеко. В Либаве комендант порта приятель Альберта. И Альберт хочет перевести туда Марию на какую-нибудь канцелярскую работу: в случае чего она сможет сесть на первый же пароход, чтобы добраться до родины. Но Мария и слышать об этом не желает. Они уже просто как муж и жена. И я ее понимаю.
Да хранит вас бог!
Ваш сын и брат Конрад Биллингер».
Запись, сделанная в тот же день:
«22 января, понедельник.
Утром я отправил письмо домой, а после полудня случилась беда. Я сидел и расфасовывал сульфидин, когда услышал во дворе крик Готтлебена. Вышел узнать, в чем дело, и увидел на снегу носилки, а на них — Цоллера. Голова его была размозжена. Нашли Цоллера под стогом сена в километре от деревни Межмали, возле хутора, куда он ходил устранять обрыв на линии. Кто-то зарубил Густава топором.
Гауптман Готтлебен в сопровождении нескольких солдат отправился на хутор. Только что я узнал, что хутор он сжег, а хозяина и его семью расстрелял в хлеву…
Бедный Цоллер… Сколько дней и ночей мы провели с ним на этой кровавой, испепеленной земле, начиная от Сталинграда! Он не все понимал в жизни, судьба не дала ему ни образования, ни большого ума. Хотел он немногого — быть сытым и выжить, а для этого, полагал, стоит лишь точно исполнять приказы. Завтра мы его хороним. До утра он пролежит на носилках в сарае. Так приказал Готтлебен. Прощай, Густав Цоллер…»
«22 января.
На переформировку! Новость привез Упр. И еще одну: кто в кадры, в офицер. уч-ща. Об этом был любопытн. разг. с В. Привожу его…»
К сожалению, записать этот разговор с Виктором все же не смог, что-то помешало, а что — не помню, помню лишь суть и обстоятельства, но достаточно подробно, ибо разговор этот мы с ним не раз вспоминали впоследствии, спустя много лет…
Надежды наши не оправдались: мы оставались в Прибалтике, хотя наша 3-я ударная еще в последних числах ноября грузилась в эшелоны и убывала из Курляндии поближе к Берлину. А как хотелось туда, но нас внезапно отвели на переформировку. Первые два дня отмывались, приводили в порядок обносившуюся одежду, отсыпались в теплом человеческом жилье, за толстыми бревенчатыми стенами. Получили почту, последние газеты. Все рвали их друг у друга из рук — столько новостей: в Восточной Пруссии наши жима- нули, в Силезии вышли к Одеру!..
В это время в полк из штадива опять пожаловал Упреев, я был начеку: мог заявиться в роту, «полюбил» он мою роту. Но я узнал, что Упреев прибыл отобрать кандидатуры для офицерских училищ. Новость выглядела странно: вроде людей не хватает, роты не укомплектованы, еще воюем вовсю, и тут же с фронта снимают и — пожалуйста, в тыл, учись.
В моей роте желающих не оказалось. Честно говоря, я не очень-то уговаривал, не хотел лишаться командиров взводов, к которым привык и на которых мог положиться в бою. Позвал и Витьку, спросил его:
— Может, поедешь?
— Под самый конец? Нет дурных! Раньше бы… В одном училище я уже был, а что толку? Так курсантом и выпихнули. Чего я достигну? Оставаться в кадрах, начинать послевоенную жизнь с лейтенанта, когда многие ровесники уже в майорах? Нет, эта перспектива не по мне. У меня большие виды на гражданскую жизнь… Эх, нет Маркуши! Вот он бы с охотой…
Да, тут Витька был прав, Марк оказался бы самой подходящей кандидатурой. Ведь он мечтал о военной карьере. Офицер он был бы отличный… Марк, Марк… К тому времени мы уже привыкли, что его нет, вроде так и надо…
— Но все одинаковые не могут быть, — помню, хмыкнул Витька, понимая, о чем я думаю, — так люди выродятся. А человеки, как мудро заметил наш Семен, всегда стремились к разнообразию, к совершенству. Изобрели телефон и… душегубки. Люди неисправимы, командир.
— Что-то слишком жалостливо, Витя. Себя жаль, что ли?
— Я — что? Я — как все.
— Выходит, по-твоему, напрасны жертвы, напрасно мы с тобой четыре года пашем локтями и носом землю?
— Нет, почему? Мы хорошо поработали на благо справедливости. Но уже сейчас можно предположить, что сволочье, гнусность, подлость, дундуки — все это будет существовать. Доброте, честности, хорошему делу придется со всем этим сожительствовать, приспособиться. Или истребить физически, — зыркнул он на меня.
— А если попытаться доказать, что плохое — это плохое. Доказать! Убедить!
— Но то, что ты будешь считать плохим, кто-то будет считать нормальным. Вот же как! — засмеялся Витька.
— И с этим ты готов завтра умереть в бою? Умирать и вдруг понять, что в общем все было напрасно, что умираешь зря? — кипятился я.
— Ну, ты меня не хорони… Накаркаешь еще… Но если условно, то это меня бы не устроило. Что правда, то правда. Обидно было бы… Ладно, поживём — увидим. Ну и потолковали мы с тобой, командир! — захохотал он вдруг. — Умные мы мужики, а?.. Идем лучше в баньку, попаримся, а то выстынет. Хозяин истопил и бутылку первачка обещал…
Но я отказался, нужно было сходить проверить, что старшина привез за провизию. Овес людям осточертел, обещали немного сушеной картошки и пшена…
Через много лет, сидя однажды в большом, с шиком обставленном служебном кабинете Виктора, я был свидетелем, как он распекал своего подчиненного — немолодого уже человека, уставшего, понурого, на мятом пиджаке которого темнели залоснившиеся, потерявшие цвет орденские колодки.
— Ты еще поплачься на тему «за что сражались», — ехидно сказал ему Виктор. — Квартиру трехкомнатную получил?
— Не в этом дело, — пытался тот возразить.
— Ступай, потом договорим, — услал его Виктор.
— За что ты его так? — спросил я.
— Не умеют радоваться жизни. Все человечество у них виновато!..
И тут я напомнил ему тот наш разговор двадцатилетней давности.
— Ну, мало ли что было, — усмехнулся Виктор, откидываясь в вертящемся финском кресле. — Молодо — зелено.
— А может, этот роскошный кабинет повлиял на твое восприятие человечества? — поддел я.
Он быстро и понимающе глянул на меня, но тут же не без усилия согнал с лица серьезность, как бы уходя от разговора:
— А что, плохой кабинет?..
— Не в трехкомнатной квартире суть, Витя.
Мне хотелось сказать ему: нравственные силы, взлет и чистота души, сохраненные нами в окопной грязи перед лицом смерти, не могут пропасть и не пропали. Их не должен слопать мир вещей. Такое я мог сказать только ему, не боясь прослыть демагогом. Пусть все это трансформировалось за истекшие годы, и в наших детях обрело иную, может, более рациональную окраску, но ведь живо! Связь не оборвалась. Просто такое время, что живем — бегом. Все — от мала до велика. Но если каждый вдруг остановится и заглянет в себя, то поймет, что в движении каждого есть смысл, уходящий корнями к тому смыслу, ради которого в землю полегло двадцать миллионов. И заблуждается Витька, считая, что самое важное — это количество построенных им квартир. Это — вопрос отрезка времени, скажем, плюс-минус пять лет. Я говорю о явлении, равном всему времени.
И еще: случайно ли людям надоело стесняться сентиментальности, нашла свое место мелодрама в театральной афише и хочется тихих слов, а не крика? В тишине человек точнее называет то, что связывает его, сегодняшнего, с родной землей, с ее прошлым. И взрослые наши дети не только из любопытства ходят смотреть в кино хронику о войне. Я убежден: глядя на тех двадцатилетних, в касках и замызганных шинелях поднимающихся с земли под огнем пулемета, спрашивают себя: «А я — смог бы?» Спрашивают тайно. И тайно отвечают. И коль спрашивают, то понимают, ради чего нужно было бы сделать это…
«26 марта, понедельник.
Деревня Стури от нас километрах в десяти. Русские взяли ее позавчера ночью. Рвутся в Броцены, чтобы перехватить дорогу на Либаву. А вчера на свете, воспользовавшись туманом, наши атаковали Стури и выбили русских. Раненые, прибывшие оттуда, рассказывают, как это здорово получилось, как русские попали под огонь наших танков.
Я понимаю возбуждение этих людей, отступающих уже многие месяцы: даже маленькая победа в никому не известном деревенском поселке кажется значительной, утешает, рождает надежду на что-то…
Один легкораненый молодой парень из Дортмунда (Альберт вытащил у него осколок из икроножной мышцы, и дней через десять его выпишут) подарил мне трофей — толстую тетрадь в коленкоровом переплете, исписанную чернилами и химическим карандашом. Он нашел ее в вещмешке убитого русского перед тем, как сам был ранен. Тетрадь эта — видимо, дневник. В ней проставлены даты, но прочесть я не могу ни слова.
Показал ее Марии. Она долго и внимательно листала, всматриваясь в незнакомые буквы, молча отдала мне.
Последнее время с Марией что-то происходит. Она замкнулась, почти не разговаривает, иногда глаза заплаканы. Альберт из-за этого переживает.
Однажды Мария призналась мне, что ее преследуют крики тех русских женщин и детей из эшелона в Резекне, вспомнила, как Готтлебен рассказывал о расстреле латышской семьи на хуторе близ Межмали.
„А что, если эта латышка была беременна?“ — вдруг спросила Мария. Я опешил. Но ответил, что нас послали в Россию не на прогулку. Разве мы не знали, что идем завоевывать эту страну, а жителей ее — истребить?
Мария поняла мою горькую иронию. Обиделась и ушла. И меня тогда словно встряхнуло: уж не беременна ли Мария? Намекнул на это Альберту. Он растерянно развел руками…
Дневник русского, как что-то живое, беспокоит меня. То и дело посматриваю на эту обтрепанную коленкоровую тетрадь, переворачиваю ее страницы. На многих карандашные буквы проявились фиолетовыми разводами: должно быть, от капель дождя или растаявшего снега. И то, что эта жгущая тайна чужой исповеди недоступна мне, странно тревожит и беспокоит. Ведь есть что-то общее, что я и владелец дневника видим и понимаем одновременно. Но какие мысли, чувства, думы, стремления скрывается за странными буквами, за чернильными и карандашными записями этого человека? Какая необходимость породила их? Что хотел сокровенное сберечь в них убитый русский? Этого мне никогда не узнать и не понять. Почему-то это меня огорчает. Неудовлетворенное любопытство? Или невозможность понять человека из неведомого, загадочного и враждебного мира, который мы называем Россия?
Для большинства из нас — это беспредельные пространства, где, конечно же, есть какой-то рубеж, куда мы должны были дойти и где полагалось закончиться войне. Но для русских, кроме этих страшных пространств и расстояний, существует что-то же еще, определяющее понятие „Россия“. Должно быть, что-то духовное. Я же видел их церкви и похожие на наши кресты на могилах сельских кладбищ…
Когда мы шли в эту страну, я знал, что хочу того, чего хочет весь мой народ. Так я отвечал себе, никогда не уточняя, чего конкретно хочу лично я. Теперь пора спросить: что я шел завоевывать здесь себе? Просто землю, пространство? Но мне его хватало дома, в моем огромном городе, в сосновых рощах Кёпеника, на зеркальной воде Мюггельзее; хватало моему отцу, чтоб ежедневно ездить на работу на электростанцию и обратно. И его это вполне устраивало…
Оттого, что слова эти я не могу крикнуть, произнести вслух, мне одиноко: есть же где-то сердце, в котором бы они породили эхо!..»
Пояснение:
Приведенная выше запись Конрада Биллингера от 26 марта 1945 года, прочитанная мною сейчас, спустя почти тридцать лет, относительно точно объясняет, каким образом мой дневник попал к нему.
Взяв поселок Стури, рота расположилась на околице, но закрепиться мы не успели. Перед рассветом следующего дня, воспользовавшись глубоким туманом, немцы батальоном пехоты и четырьмя самоходками неожиданно атаковали.
Туман был такой, что в десяти метрах в нем все тонуло, он размывал свет ракет, впитывал его, как в промокашку. Мы жгли ракеты одну за другой, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, понять, откуда и какими силами нас так бьют. Немцы начали с ходу, без артподготовки, их автоматно-пулеметный огонь ударил внезапно из набрякшей волглостью плотной пелены, ползшей над самой землей. В глубине передвигался рев дизелей самоходок, и оттуда с воем ветрено и горячо неслись снаряды.
За крайней избой у дороги, на танкоопасном направлении, у меня стояло два расчета ПТР. Они били по звуку — по угрожающему завыванию дизелей, по рельсовому отзвону выстрелов, раскатисто отлетавших от орудийных стволов самоходок и почти сразу сливавшихся с разрывами, которые взметали, как щепу, вековые бревна изб, амбаров, сараев.
Потом пэтээровцы вдруг умолкли. Я метнулся туда, к околице, понимая, что, если нас обойдут там у дороги, — конец, отрежут от батальона. Пробежал я метров двадцать, когда из тумана на меня вывалилась какая-то тень, и тут же сквозь грохот я услышал крик телефониста Гуменюка: «Товарищ лейтенант! Комбат приказал немедленно отступать за дорогу». Я понял: за дорогой, у опушки леса, стояла батарея наших дивизионок. Надо уводить роту под их прикрытие. Я велел Гуменюку вернуться и передать это Лосеву, а сам все же побежал к околице…
Помню все, как сейчас…
Но старался я зря. Немецкие самоходки рвались именно сюда, к дороге, и, ощутив препятствие, вслепую, не жалея снарядов, перепахали здесь все. Оба расчета ПТР накрыло прямыми попаданиями. Я ползал меж воронок, надеясь найти хоть кого-нибудь в живых. Но тщетно.
Тем временем Лосев привел роту. Стонали раненые. И тут Семен Березкин сообщил мне, что убит Гуменюк, убит возле амбара, где накануне мы ночевали. И я вспомнил, что там на ржавых гвоздях, торчавших из сухих темных бревен, висели мой и его вещмешки и на лежанке из сена осталась моя шинель…
Конрад Биллингер не точен в пустяке: владельцем дневника, найденного в одном из этих вещмешков, был я, а не убитый Андрюша Гуменюк…
Потеря дневника по тем временам была не такой уж значительной, огорчение длилось недолго, выпадали огорчения куда больнее, да и то радость затмевала их: дело шло к концу. Украинские и Белорусские фронты отзывались гулом со всей Европы, уже освобождена была Польша, бои шли в пригородах Вены, очищена Венгрия, взят Кенигсберг.
С 1 апреля наш 2-й Прибалтийский был упразднен, мы вошли в состав Ленинградского. В двадцатых числах на чердаке хуторского помещичьего дома среди сваленных под стропилами немецких и латышских книг, связок каких-то счетоводческих бумаг, в пыльном хламе я нашел большую алфавитную тетрадь в твердой глянцевой обложке, похожей на лабрадорский камень. Несколько страниц ее были исписаны непривычными в ту пору для нас черными чернилами, в которых от давности появился тусклый красноватый оттенок. Почерк, помню, был мелкий, буквы, как бусины, ровно нанизаны на синеватую линейку и все с одинаковым наклоном. Исписанные эти листы я выдрал, тетрадь же оставшиеся три недели до конца войны служила мне для последних дневниковых записей.
Бумага в ней была поразительно гладкой, без единой шершавинки, белизна ее даже отливала синевой. Трудно было устоять от искушения — не прикоснуться кончиком грифеля. Там же на чердаке я нашел яркую картонную коробку — комплект цветных карандашей фирмы «Фабер». Тетрадь эта сохранилась по сей день, а карандаши я тогда подарил начальнику штаба батальона…
«23 апреля, понедельник.
Делаю свою последнюю запись. Скоро придет Мария. Произошло вот что: вчера на узле связи кто-то из знакомых телефонистов шепнул что на Альберта и на меня послан донос и будто в нем намек, что я веду какие-то записи, содержащие пораженческие настроения. И тогда я вспомнил, что несколько раз замечал, будто в моих вещах рылись.
Я поделился этим предположением с Альбертом.
— Все может быть, — ответил он.
— Ты должен уничтожить свою тетрадь, — посоветовала Мария.
Я наотрез отказался.
— А если будут обыски? Ты понимаешь, чем рискуешь?
Мне уже было все равно, но я вспомнил многое. что писал об Альберте и других людях. Как быть?
Альберт молчал, и мне казалось, что он прочел мои мысли.
— Что ты скажешь, Альберт? — я посмотрел ему в лицо.
— Поступай, как найдешь нужным.
Опять он со своим благородством! Оно похоже на принуждение. Боже, до чего он глух к чужим сомнениям!.. И я закричал на него:
— Мне плевать на твое садистское благородство!
Я спрашиваю у тебя совета. Ты знаешь, как мне дорог дневник, и знаешь, чего я боюсь.
— Отдай его Марии. Пусть отправит почтой твоим родителям. Никто не станет вскрывать сотни мешков и искать его. Сейчас не до этого. Русские на окраинах Берлина. Дай бог, чтобы этот почтовый мешок успел туда добраться… Это мой совет. А там поступай как знаешь…
Что ж, в его словах был смысл.
Я заверну свою тетрадь и дневник русского в упаковочную бумагу от патронов, оберну куском маскхалата, перевяжу и отдам Марии. И если господь добр, он сохранит пусть не меня, но хоть это…»
— Зачем ты купил этот кошмарный торт! — возмущалась Алька. — Ты же знаешь, я не люблю бисквит. Лучше бы взял несколько эклеров и безе.
— Какая разница? Мне лишь бы сладкое, — засмеялся Женя. — Бисквит так бисквит, — поддразнивал он.
— Плебейские вкусы! — фыркнула Алька. — Ему лишь бы розочки из крема.
— Не ворчи, — сказала ей Наташа, — лучше помоги мне на кухне.
Они вышли. Мы остались вдвоем. Алькин парень был недурен собой: высокий, жилистый, с подвижными мышцами широкого лица, даже при разговоре на челюстях перекатывались узлы желваков, под темными бровями весело отблескивали зеленоватые глаза. Когда знакомились, не тряс мою руку, а, плотно поймав в широкую ладонь, чуть сжал, представился: «Евгений Копылов», — и тут же разгреб пятерней густые каштановые волосы.
Он понимал, почему я здесь, но не было в его движениях и словах ни скованности, ни развязности; он выглядел старше Альки лет на семь-восемь и вел себя со мною с той свободой и естественностью, которые возникают у людей, привыкших полагаться на себя и самостоятельно принятые решения…
На столе уже стояла бутылка коньяка. Посмотрев на нее, Женя сказал:
— У меня есть спирт, с Севера. Я это — не очень, — кивнул он на коньяк. — Как вы насчет спирта? Употребляете?
Я давно не пил спирт и с охотой принял предложение.
Он оглянулся, присел к боку буфета, пошарил рукой в щели между буфетом и стеной и вытащил зеленую бутылку с фирменной этикеткой «Питьевой спирт».
— Загашник мой. От Натальи Федоровны, — сказал он, смеясь.
— Не одобряет?
— Как все мамы, тещи, бабушки.
— А вы любитель? — спросил я.
— Умею. Но без склонности. Так, при случае… Разводить будем?
— Можно и неразведенный… — пожал я плечами.
Наташа и Алька сновали из кухни в комнату, накрывали на стол. Затем сели, ужин начался. Алька моментально завела разговор на какую-то институтскую тему, защищала некоего доцента с кафедры философии:
— Но он фронтовик к тому же! — воскликнула она.
— К чему «к тому же»? — спросил Женя. — В том- то и дело, что этого «к тому же» у него нет. Да и вообще, что за аргумент, что за способ мерять людей: «Мы воевали, а вы нет». У него это единственная оценочная категория. Не переношу этого! Воевали-то тоже разные люди. Разве среди них не было злых, жадных, двуличных, глупых?! Разве воевали исключительно высоконравственные, идеальные? Нет, это не может быть мерилом человеческих достоинств, которые не доказаны и не подтверждены другими средствами сегодня. — Женя встал. — Воевали, имея в виду сегодняшний день.
За ним, на уровне его плеча на стене висела фотография Виктора. Алька Лосева и Женя Копылов познакомились через месяц после смерти Виктора. Глухим и немым довелось ему быть в собственной квартире в дни, когда в ней появился новый мужчина, который, очевидно, станет мужем его дочери. Как бы сложились их отношения — Виктора и Жени? Не об этом ли сейчас думала и Наташа, глядевшая в ту же сторону, что и я: на высвеченное, с резкими углами теней лицо Жени и фотографию Виктора, темным пятном проступавшую из глубины?..
Ушел Женя около одиннадцати. Алька отправилась провожать его до троллейбуса.
— Ну что? Как парень? — спросила Наташа.
— Взрослый и, по-моему, серьезный. Ну, а там — бог знает, — пожал я плечами.
— А Алька совсем дитя. Вчера юркнула ко мне в постель, свернулась калачиком, прижалась. «Мама, — говорит, — я так счастлива! Женьку профессор здорово похвалил, он сделал очень тонкую операцию на роговице. Как хорошо, что мы оба врачи!» «Это почему же?» — спрашиваю. «Мы, — говорит, — одинаково будем понимать человеческую боль. А вообще несправедливо, что врач, исцеляя, нередко причиняет боль. Надо бы, чтобы в тот момент она от больного, вселялась во врача, а больной ничего не должен испытывать. На днях трехлетнему малышу вскрывали фурункул. Он смотрел на руки хирурга, на скальпель с таким ужасом и вместе с тем с такой верой, что больно не будет! Ведь ему обещали, что — не будет! А его, исцеляя, обманули». И знаешь, что еще эту дурешку волнует? Не сам факт замужества, а вот оставаться ли на фамилии Лосева или переходить на фамилию Копылова. Очень принципиально для замужества…
— Ну, а благословение твое будет? — спросил я.
— Что поделать, единственная дочь.
— По этой же причине ты собиралась ее отговаривать, — усмехнулся я. — И помнится, собиралась предложить еще что-то.
— Тебе не кажется, что ты засиделся? Завтра рабочий день. Мне еще посуду мыть.
— То-то!..
На троллейбусной остановке Альки и Жени не было…
События остальных восьми дней Конрад Биллингер восстановил по памяти позднее, когда попал в Берлин, о чем сужу по записи, сделанной уже 6 июля.
«6 июля.
Во Фридрихсхагене в полуразрушенном доме, покинутом хозяевами, я нашел цивильную одежду: замызганный светлый плащ, брюки от фрачной пары и старые визитные штиблеты с потрескавшимся лаком. Плащ я напялил прямо на вонючую нательную рубаху и застегнул у шеи на последнюю пуговицу.
Вид мой никого не смущает: сейчас так одеты многие.
Люди бродят среди рухнувших зданий, разыскивают близких. В этот бесконечный поиск включился и я, как только добрался до Берлина. Кварталы, где жили мы и Криста, я разыскал с трудом — руины… Удивляясь, что не плачу, я долго стоял, созерцая битый кирпич и стекло, обожженную штукатурку, обглоданные огнем стропила, пока на меня не обернулись проходившие русские солдаты. Но и им уже нет дела ни до меня, ни до дымящихся еще камней моего города — некогда огромного, звонкого, делового…
С трудом я добрался до Трептова, здесь и нашел себе жилье в полуподвале. Верхних этажей нет — сметены. Хозяйка его — ворчливая старуха с серым лицом — делает из еловых веток примитивные кладбищенские венки. Заказчиков у нее хватает; я помогаю ей ломать ветки, гнуть и связывать их. За это получил крышу над головой и продавленный диван для спанья. Нашелся у нее для меня и карандаш. С бумагой и того проще: за ту неделю, что я уже здесь и брожу по улицам среди развалин вместе с тысячами других людей, также разыскивающих своих близких, я насобирал меж обломков подходящей для писания бумаги. По вечерам, когда закатные лучи солнца освещают только небо, а оно дарит их отраженный свет, я усаживаюсь у окна и пишу: меня преследуют те последние дни, означавшие конец всему, и нынешняя моя пустая жизнь заполнена ими так подробно, будто все еще продолжается то время…
Итак, возвратимся к нему».
«Сцена опустела, занавес опустился, зрителей не стало. Только участники трагедии. Они удерживали за руки нечто бесплотное, именуемое „надеждой“, пытавшееся спасти уже не их, а самое себя: пал Берлин!
Узнал я это от Альберта 4 мая: с передовой по дороге в тыл к нам в лазарет заехал адъютант начальника штаба 563-й пехотной дивизии, ему во время бомбежки бревном раздробило пальцы. Сам начальник штаба, Эрнст Кейтель, сын того Кейтеля, слышал передачу русского радио, что берлинский гарнизон капитулировал; волновался за судьбу отца. Пришел приказ ставки эвакуировать отсюда несколько дивизий в рейх морем, пока это еще возможно. Остальным командующий группой армий генерал Гильперт приказал держаться за эту землю зубами. Безумие!..
Душа моя была там, в Берлине. Мама, отец, Хильда, Криста, что с вами?!. Живы ли вы?!
Раненых срочно отправляли в Либавский порт на транспорт „Фридрих Альберт“. Лазарет постепенно пустел. Однако о нашей эвакуации — ни слова. Ужели мы еще нужны будем? Гауптман Готтлебен вел себя так, будто ничего не произошло, был полон злобы и воинственности, все время твердил о дисциплине. Между ним и Альбертом произошел необычный разговор. Гауптман придрался к Альберту, что тот не носит пистолет.
— Вы что, в плен собираетесь?
— Это я советую сделать вам, — ответил Альберт. — Я лишен такой возможности, как врач: я обязан находиться там, где убивают. Если придется защищать раненых, буду стрелять. Впрочем, как и русские в меня. Другого выхода нет: нас одели в разную форму.
— Слишком романтично, Кронер. Истина не в этом.
— Даже истина есть? — усмехнулся Альберт.
— Представьте… Существует закон диффузии, взаимопроникновения. Особенно в моменты исторических встрясок. Ему подвержены и побежденные и победители одновременно. Меня не волнует, если русский солдат в порыве мести зарежет какого-то цивильного берлинца или изнасилует в Коттбусе девчонку. Со временем это схлынет, будет запрещено, наказуемо, да и страсти остынут. Страшно другое: что-то русские привнесут нам, что-то от нашего приспособят себе. И в какой-то точке круга это, естественно, замкнется, образовав наглухо закрытое пространство с новой атмосферой мышления, в которое рядом с собой русские погрузят Германию. И это — на необозримое время… Чем это обернется для России, меня не волнует, а вот о судьбе Германии стоит подумать.
— Я слушал вас внимательно, гауптман, — сказал Альберт. — Отвечу вопросом: почему это не волновало вас и других теоретиков до начала войны с Россией? Если не ошибаюсь, вам принадлежит афоризм: „Нельзя сходить по нужде и не надуться“. Так что, дуйтесь до конца! Пусть больше будет дерьма, которое покроет Германию. Чем дольше придется очищаться, тем дольше будем помнить, почему мы в дерьме…
— Удивляюсь, что вас до сих пор не вздернули, обер-лейтенант, — прошипел Готтлебен.
— Этот подвиг вы еще успеете совершить…
Они ненавидели друг друга, но вынуждены были идти рядом, одной дорогой… Только ли они?..»
«4 мая.
Дни теплые, с легкими короткими дождями. Весна!..
Немцы притихли. Стрельбы почти нет. Мы тоже „загораем“. Живем беззаботно и весело. Странное ожидание чего-то. Это ощущение, — когда узнали: Берлин взят. Аж не верится! Все возбуждены, радостны, но растерянны: вроде конец, а мы даже краем глаза не увидели, что это такое — Берлин.
Как Лена мечтала об этом дне! Не довелось — из НКПС пришел ответ на мой запрос: их эшелон разбомбило по дороге. И все-таки я еще на что-то надеюсь. Не могли же все погибнуть!..
Был на совещании в штабе полка: будем наступать, чтоб лишить немцев возможности выбраться из Курляндии. И еще: в окрестных лесах — группы немцев и местные банды, приказано поодиночке и без оружия не отлучаться. Много других новостей, о них надо рассказать солдатам…»
Главной новостью в те дни был, конечно, слух, что нас перебрасывают на Дальний Восток. Но это так и осталось слухом. А вот реальностью оказались разрозненные группы немцев и банды. По поводу этого предстояло серьезно поговорить с людьми. С тем я и вернулся в тот день из штаба в роту. На месте оказались все, кроме Лосева и Березкина: оба ушли на хутор. Витька не впервые наведывался туда, завел дружбу с хозяином, доставал у него самогон. У хозяина были две дочки-близнецы.
Меня задело, что в мое отсутствие, не предупредив, бросив взвод, Витька опять подался на хутор. Я отправился туда.
Хутор врос в зеленый холм, высвеченный солнцем. Позади белела молодая тонкостволая березовая роща. У подножия холма густотравные луга светились ромашкой, зеркально играло тихое озерцо с причальным мостиком, к которому была привязана лодка. Красивые здесь места, весной нежные, ласковые. Может, с тех пор я и привязался к Прибалтике, езжу туда почти каждое лето…
Пожилой латыш вычерпывал из лодки воду, заметив меня, приветственно махнул рукой.
Семена я увидел, когда подошел ко двору. Он сидел на колоде спиной ко мне, что-то заворачивал в холстину. Рядом с крепким деревянным домом прилепилась пристройка, сбоку у нее, как крытый коридор, шел глубокий ход на сеновал.
— Эй, воин, — окликнул я Семена.
Он вскочил, смутился, держа полузавернутый кусок сала. Из-под навеса, где был сеновал, на солнечное пятно вышла высокая девушка в телогрейке, накинутой поверх слинявшего ситцевого платья. Сильные в икрах босые ноги будто наспех были обуты в большие рыжие солдатские ботинки, шнурки болтались. Лицо скуластое, раскрасневшееся, к испаренному лбу прилипла светлая прядь. Девушка весело смотрела на нас. И тут позади нее в затененной глубине прохода на сеновал возник Витька. Привалившись к дощатой стене, жадно курил, улыбался.
— Марш в роту! — приказал я и тут же ушел со двора.
Они догнали меня на тропе, пробитой по лугу.
— Чего ты сдрейфил, Семен? Сестрица-то ждала, — скалил Витька зубы.
— Мне ничего не надо, — буркнул Семен.
— Видал чудака! — Витька заглянул мне в глаза, пытаясь втянуть в разговор. — Убьют, а ты так и не узнаешь, как там у них, у баб… — захохотал он.
— Убивают не только осведомленных, — спокойно ответил Семен.
— Ну вот что, — я остановился, — кончайте трепотню и запомните: я запрещаю эти светские прогулки. Подцепить чего-нибудь хочешь, Лосев? И Сеньку не смей с собой таскать. Ишь ты, ванька-взводный фаталист! Троих в полку уже подстрелили… А теперь бегом в роту! Оба!..
Сенька, по-моему, был доволен таким исходом. Лосеву вздрючка не помешает. Я понимал: вот-вот конец войне, напряжение спало, люди рады, что живы. Но стрельба еще не окончена и пули летают…
— Почему у Витьки все так просто? — за ужином спросил Семен.
Я понял, о чем он.
— А ты не завидуй, — сказал я. — Ты что, влюбился в сестрицу той девчонки?
— Нет. А разве Витька влюблен? Ведь он просто так…
Меня убивала наивность и чистота Семена, я не мог с ним об этом говорить на равных, поскольку сам был не ангелом. Я лишь восхищался им. А позже, вспоминая Семена, я часто возвращался к мысли Жюля Ренара о том, что все люди рождаются равными, но назавтра — они уже не равны…
«Ночью, кажется 7-го, пришел приказ сворачиваться и немедля двигаться к Либаве. Раненые кричали и ругались, ведь многие нуждались в перевязках. После краткого отдыха приходившие с фронта грузовики и санитарные повозки, забитые беспомощными людьми, тут же уходили — тоже к Либаве. Все рвались в этот порт.
На лугу, где когда-то пасся скот, было маленькое кладбище — там хоронили умерших в лазарете: ровные ряды березовых крестов с табличками. Кресты — в затылок друг другу, словно выстроил их какой-нибудь ретивый гауптфельдфебель.
Мы уходили. Кресты обретя, имена и фамилии людей, которых больше не существовало. На лугу росла сочная трава, скоту понадобится хорошее пастбище, и кресты, конечно, снесут. Те, кто под ними, просто исчезнут. Я пожалел, что в свое время не списал с них имена и фамилии — вдруг когда-нибудь кто-то спросит меня: не встречал ли я такого-то человека, не знаю ли, где он похоронен…
Пока я стоял, я видел, что Мария издали наблюдала за мной, но не подошла. Может, и она думала о том же. Потом ушла, меж домов мелькнул ее серо-голубой китель связистки…
Альберт договорился с начальником Марии, и тот отпустил ее с нами. С собой мы взяли минимум вещей и оборудования, потому что мы уже были никто. Путаница и паника…
Роясь в вещмешке, я нашел старые карточки на табачные изделия. Вспомнилась лавка Корнелиуса на углу возле цветочного магазина. Корнелиус делал красивые витрины, выставлял курительные трубки разной формы, к ним всякие приспособления для набивки и чистки, зажигалки, пачки сигарет „Аттика“, „Нил“… Где все это? Как давно это было!.. Карточки выбросил, они стали не нужны, как и многое другое…
Наш „Даймер“ пыхтел по дороге Салдус — Скрунда, забитой колоннами уставших войск, которые тянулись к Либаве…»
«7 мая.
Утром явился Упр. Ходил гоголем. С ним серж., офицер-переводчик и немец — маленький, под глазом глубокий шрам, будто скула вынута, в форме, без погон. Немец по радио выступил — ультим. нашего командования: Берлин пал, Кр. Армия соединилась у Дрездена с союзн., фронт в Германии распался, сопротив. бессмысл., курлянд. групп. обречена, сдача в плен — не акт позора, а акт благоразумия…
Фрицы не огрызались, ни единого выстрела. А раньше бы ответили огнем…
Упр. сообщил комбату: фрицы скрыто отходят к Либаве, — оторваться, спастись, с фронтов сняты лучшие дивизии, обор. держат незнач., истреп. части, им приказ — стоять насмерть…
Упр. со своей командой уехал. И хорошо. Не люблю, когда появляется, боюсь, не сдержусь, поскандалим.
Только что приказ: ночью выступаем, направ. — дорога от Пампали на Скрунду, перехват, немец, части…»
«Либава… Либава… У всех на устах звучало это слово, как спасительный пароль. Машину мы бросили еще утром: кончилось горючее. Достать было негде. Дороги забиты бегущей пехотой, конными повозками, автомашинами, техникой. Все грохотало, лязгало, вопли, ругань, толчея, взаимная ненависть. Готтлебен пытался купить канистру солярки у офицера-танкиста.
Тот расхохотался ему в лицо, истерично выхватывал из кармана рейхсмарки, швырял их и кричал: „Канистру солярки за эти бумажки?! Я могу обклеить ими, как обоями, свой дом если доберусь туда!..“
Двигались мы уже вчетвером пешком по лесной дороге. Привалы делали краткие. Ночью почти не спали — было холодно, дремали у костра. Под утро совсем окоченели. Альберт предложил выпить спирту, но Готтлебен отказался. Настелив в канаву еловых веток, накрылся с головой шинелью и так пролежал до утра. Неужели спал?..
А мы, сидя у костра, выпили. Спирт на какое-то время снял усталость, пришло возбуждение и страшная обнаженность того, что произошло. И вдруг Мария сказала:
— Там на вокзале в Резекне я вдруг испугалась, что не доживу до конца и не увижу, каким он будет для всех нас…
Я опешил, так неожиданно это прозвучало. А ведь последнее время и в моей душе копошилось нечто подобное: тайная жажда дожить до поражения, до этого страшного момента, если уж он неизбежен. Как у самоубийцы — желание заглянуть по ту сторону бытия…
Я сказал им об этом, я говорил много и о многом. И мне казалось, что все исполнено истины, конечной истины и всеохватной правды: ведь я говорил искренне, основываясь на виденном и пережитом. В этой ночной исповеди перед друзьями мне казалось: подняться выше уже нельзя, ибо я говорил о своем народе.
Альберт слушал, привалясь спиной к сосне, переводя взгляд с меня на Марию, потом, пошевелив веткой остывающие угли, сказал:
— Все верно, Конрад. Но ты лишь зафиксировал внешние факты, коснувшиеся тебя. Ты подавлен частностями: голод, разруха, разбитые семьи, опустошенные души. Такова сейчас Германия, Но голодные со временем станут сытыми, разрушенное восстановят, построят новое, разбитые семьи регенерируют за счет следующих поколений. С душой и того проще — для ее утешения придумают много новых подачек. Трагедия нации, Конрад, не в этом.
— В чем же, Альберт? — насмешливо отозвалась из темноты Мария.
— Менее чем за полвека в двух войнах исчезла, пожалуй, четвертая часть нации. В кратком же перерыве между ними был снят самый ценный ее слой: она оскоплена в духовном отношении, исчез ее интеллектуальный потенциал. Для его же восстановления понадобится минимум столетие. Вот ведь как обстоит дело, Мария, Тут простым биологическим воспроизводством ничего не поправишь, даже если наши девушки начнут рожать по два раза в год от племенных эсэсовских жеребцов.
— Перестань, Альберт! — вспылила Мария.
— Собственно, что тебя задевает? — спросил он.
— Скоро узнаешь! — она отошла в глубину леса.
— Что с ней? — спросил я.
— Мне не надо было так, — нахмурился Альберт. — Она беременна…
Я давно подозревал это. Бедная Мария! Как все для нее усложнилось…»
«8 мая.
Утром — слух: немцы в Курл. приняли условия капитул. Нам приказано в полосе дороги Скрунда — Пампали прекратить огонь: к 15 часам — наши и немец. парламент.»
8 мая! День, когда почти для всех закончилась война. А на нашем участке она еще агонизировала десять дней.
К 15 часам 8-го наши парламентеры прибыли, а немецкие не явились, но части, стоявшие перед нами, флаги вывесили: вдоль всей передовой болтались на ветру белые тряпки — на кольях, на ветках деревьев, на колючей проволоке, торчавшей над траншеями. Немцы открыто разгуливали по брустверам, махали нам руками.
— Ишь, радуются, гады, — кивнул на них Лосев, — чесануть бы сейчас из пулемета, вот потеха была б!
— Под трибунал захотел? — спросил я.
В ожидании прошло полдня. Немецкие парламентеры не появлялись. Где-то правее и левее нас громыхало — там вовсю еще шла война, а у нас под вечер немцы начали сдаваться сами, не дождавшись своих парламентеров, — организованно, по-деловому.
Это были солдаты и офицеры 329-й пехотной дивизии. Шли строем. Тысячи! Одни в распахнутых кителях, другие заправленные по форме. И странное дело — касок ни на ком: либо пилотки, либо суконные форменные кепи-каскетки. За спинами, мешки, а не те аккуратные прямоугольные ранцы, покрытые коротким рыжим мехом, какие я видел в 1941-м.
Шли они уставшие, понурые и трудно было понять — смиренность это, страх ли, горечь и разочарование или полное понимание, что всему наступил конец; есть внутренняя радость, что уцелели, но и тревога, что придется отвечать за все содеянное им и каждым, идущим рядом. Возглавлял колонну их командир дивизии со штабом. Шли немцы через боевые порядки нашего батальона.
Рядом со мной стояли Виктор и Семен.
Семен оценивающе-пристально всматривался в лица пленных, опустив свое ленивое веко, а Витька — приоткрыв рот, с улыбкой.
Не первый раз видел я пленных, но такое скопище — никогда. Что я испытывал в эти минуты? К ним — ничего. Но в себе ощущал силу, будто я один принудил тысячи обстрелянных, умеющих хорошо воевать немцев сдаться. И вспомнился тот мертвый немец с перерубленной осколком шеей. У меня не было тогда ненависти к нему. Ненавидел я те неразличимые в лицо фигурки, шедшие цепью, по которым я стрелял. Если в 1941-м году, глядя на первых пленных, я как-то даже стыдился за них, наивно спрашивая себя: «Как же они поддались на обман все?», то майским днем 1945-го я не думал, что их обманули или принудили. Всех обмануть нельзя. Была всеобщая цель с заранее высчитанным, спланированным результатом, которую многие из них выбрали, когда им ее предложили. То, что результат оказался иным, — это не плод их осознания, понимал я, а наша заслуга…
Колонна шла долго, втягиваясь в пыльное облако, взбитое тысячами ног.
Витька сказал:
— Смотрел я на их рожи и думал: вот идет зверье, которое вешало и сжигало, пытало, насиловало, издевалось, а морды у всех обыкновенные, человеческие, такие же, как и у нас. Один был похож на нашего Андрюху Гуменюка, будто близнецы… Надо же! И никакой в них лютости, ненависти не видно. Глазели на меня с любопытством, рыжий один даже улыбнулся. Куда же девалась их ненависть? Трусами их не назовешь, мужики здоровые, многие с крестами. Убей, не пойму!..
Сеня чуть поднял левое веко.
— Что, Сеня? — спросил я.
— Их ненависть к нам механическая, что ли. Ну, как указ или декрет, спущенный властью. Ее им вменили в обязанность. Ее могли и отменить.
— Но ее никто не отменил, — возразил Лосев.
— Не то чтобы ее отменили или она исчезла, — сказал я, — она лишена уже смысла, в ней нет необходимости…
Да, оказалась уже лишенной смысла. Она действовала в пределах запланированной ситуации… Тут Сенька был прав. Какой они могли предъявить счет нам? За что? Их просто научили нас ненавидеть, приказали — и все. А я смог бы предъявить им счет за своих родных, которых они убили в меловом карьере. И таких, как я, — миллионы. Ого, какой реестр мы могли представить! Вот откуда она, наша ненависть…
— Значит, выходит, она бесконечна? — спросил Витька.
— Почему? — отозвался Сенька. — Ты их сейчас ненавидел?
— Да вроде нет, — сказал Витька.
— Наша ненависть — просто жажда справедливости. Вот и все. Мы ее удовлетворили: Берлин взят, мы в Германии. Чего же еще нам нужно?..
— Это ты им расскажи, — засмеялся Витька.
Часов в одиннадцать вечера мы отсалютовали окончательную победу в Курляндии: наконец-то немцы безоговорочно капитулировали, в чем и расписалось их командование. Шарахнули мы из всего, что было: лупили в ночное небо из ракетниц, автоматов, пистолетов. Патронов не жалели. А ночью нас разбудил близкий орудийный грохот и беспрерывная автоматная стрельба где-то за нашими спинами. Выскочили ошалелые, сонные, держа в руках оружие. Всплески огня дырявили черный горизонт, цветные трассы пуль уходили круто в небо, перекрещивались, путаясь.
Прибежал комбат:
— Победа!! Кончилось, хлопцы!.. В Берлине Жуков принял капитуляцию! Победа!!!
Тут началось! Витька приволок ящик с патронами к ракетницам. И пошло! Кто-то воткнул РПД торчком меж стволом и веткой дерева, нажал на крючок, взлетели вверх руки с автоматами и пистолетами. В грохоте — ни слова не разобрать, хотя все кричали какие- то слова. Мы бегали, обнимали друг друга. Витька, по-моему, даже плакал. Витька!.. Кто-то колотил ложкой 6 котелок. Откуда-то появились бутылки с самогоном. Пили из котелков, из крышек, из касок, пропахших потом, дули из горлышка…
Угомонились, когда начало светать.
Хлопцы спали вповалку, накрывшись с головой шинелями. Храп стоял, аж трава качалась. А вокруг — тишина; странное было состояние: ничего не надо делать, ни о чем не надо беспокоиться, приказывать, докладывать, даже какая-то растерянность и мысль: а что же завтра?.. Кто мы завтра?..
«На дорогах началась паника: пошел слух, что Либава уже взята русскими, что есть приказ командующего группой армией генерала Гильперта о капитуляции. Но приказ этот якобы касался не всех. Ничего невозможно было понять. Эту новость принес Готтлебен. Поскольку мы вчетвером двигались по лесным тропам, где безопасней, Готтлебен иногда уходил к шоссе узнать обстановку…»
«9 мая.
Победа!!! Верится и не верится! Дожили! Дотопали!
Вчера освобождена Либава. Крышка котла захлопнулась, Витька сказал: „Будет навар“. Фрицам деваться некуда. Днем комбат сообщил: немцы чего-то выгадывают: часть сложила оружие, а часть наиболее боеспос. драпает к морю — надеются проскочить дуриком. Те, что сдаются, снимают оруд. замки, прицелы, зарывают, топят в болотах. И здесь хитрят.
Нашему бат. в сост. др. подвижн. групп приказ: перейти линию фр. и, не нарушая системы связи и снабж. сдающихся немец. частей, идти наперехват снявшихся с передовой. Ехали на „доджах“ по лесным дорогам. Отмахали сто км. Настигли роту из мотобр. „Курляндии“. Был бой. У меня трое раненых. Вот тебе и конец войны!
Мы на рожон не перли. Грех теперь людей терять. Заночевали в лесу…»
«11 мая, пятницу, я запомнил на всю жизнь. К этому дню нас осталось двое: Готтлебен и я. Но в сущности — я один. Альберта и Марии не стало! Не могу, не могу произносить эти слова: „не стало“.
Я сидел в яме, вымытой под старой свалившейся лиственницей, и вспоминал, что произошло накануне ночью. Готтлебен спал. На кронах светился тающий закатный багрянец. Любовно щебетали птицы, свившие уже первые гнезда, и больше — ни звука.
Жизнь весеннего леса, чуть пахшего сырым листом и влажной корой, была бесшумна и томила душу: ведь нам предстояло исчезнуть, безвестно раствориться в этом сочном воздухе, в чистом обновлении природы, сгнить в оживающей травами и цветами земле. В чужой, в ее глухой глубине. Мы вернулись туда, откуда начали. Какой далекой, долгой и бессмысленной пролегла перед моим взором дорога, приведшая нас на круги своя! Какой нелепостью оказалось наше существование на ней все эти страшные годы! „Ради чего?!“ — хотелось крикнуть мне на весь лес…
Гибель Марии и Альберта вытеснила из меня все. Та ночь, словно высвеченная магнием, остановилась во мне и предо мной. И это видение было не сдвинуть…
Ночевать тогда мы забрались поглубже в лес, подальше от шоссе. Втроем сидели за кустами, жевали галеты, а Мария отошла к болотцу вымыть ноги. Я слышал всплеск воды. Вдруг там что-то зашуршало, хрустнуло, и сразу же — громкие голоса русских. Мария вскочила, мелькнул ее темный силуэт меж деревьев. И тут раздались выстрелы. Падая в болотце, она закричала. Рванув пистолет, Альберт бросился к ней. Я — за ним. С автоматом. Трещали ветки. Альберт что-то крикнул Марии, когда из-за черных кустов ему навстречу с грохотом выпрыгнула раскаленная добела прерывистая длинная игла; светящийся кончик ее будто раз за разом обламывался, входя в тело Альберта, гас и остывал в нем. Альберт рухнул. Автоматная очередь разрезала его. Кто-то рванул меня за плечо. Готтлебен. Изготовленный к стрельбе мой шмайсер ткнулся стволом в куст. „Тихо! За мной“, — жарко зашептал Готтлебен, уволакивая меня. Я вырывался, хрипел: „Альберт! Мария!“ „Назад! Они убиты! Поздно!“ — увлекал меня Готтлебен за собой…
Мы бежали во тьме, проламываясь сквозь влажные колючие кусты, хлеставшие по лицам и рукам, спотыкались о пни и корневища. Вслед гнались выстрелы, рикошетили со звенящим жужжанием пули. Глухо били в уши толчки крови. Мы бежали, задыхаясь, боясь потерять друг друга… Куда?! Зачем?!
Мы спаслись, — я и этот однорукий безумец, — чтобы оказаться после Альберта и Марии первыми в длинной очереди на последний призывной пункт, который называется Смерть…»
«11 мая.
Мы еще в лесах. Гоняемся за беглыми фрицами. Командующий их группир. генерал Гильперт сдался со штабом, но тайно связывался по радио с Деницем, немец. штабисты уничтожают докум., — скрыть колич. войск и их дислок. На что надеются? Наши отобрали у Гильперта и его генералов рации…
Некоторые части СС, не подчинившиеся приказу Гильперта о капитул., — по лесам, как волки. Выбиваем их оттуда. Взвод. В. на прочесе напоролся на фрицев. Молодая немка, в форме. В темноте кто-то срезал ее. Отправили в санбат. В. наповал уложил офицера. По докум. — врач. Разбери, какими они теперь докум. обзавелись…»
К тому времени тылы наши закрепились в деревне Аудари, где жили совсем по-мирному. Почтальон наш говорил, что по вечерам там танцы с местными девчатами под аккордеон. Спали ребята сколько влезет, только караульную службу несли. Офицеры шили себе новенькие сапоги из брезента. Солдаты доставали у латышей яловую кожу на сапоги. Надоела кирза. Каждый хотел приехать домой и выглядеть понарядней. Только и разговору было, что о демобилизации: когда, мол? В роте у меня — тоже. Витька вовсю суетился, шнырял по старым немецким блиндажам. Собрал целую библиотеку вырезок — многоэтажные дома, виллы, всякие охотничьи домики, был какой-то шальной в те дни, носился со своими строительными идеями. Семен в свободное время, уже не таясь, сочинял стихи, но никому не показывал. Всем уже виделась жизнь на «гражданке», особенно тем, кто постарше. И тогда мне вспомнился Киричев. Непутевый штрафник Киричев со своим страхом перед мирной гражданской жизнью: как дальше жить, когда умение стрелять уже не понадобится? Вот что его терзало. В те последние военные дни я вдруг понял его: не сегодня завтра тоже ведь стану цивильным. Гадал: что смогу делать в той жизни, от которой отвык и в которой еще не опробовал себя по-настоящему ни в чем?..
Где он, Киричев? Уцелел ли?.. Он был старше меня года на два. Значит, сейчас ему — за пятьдесят. Вот с ним бы встретиться было интересно…
«Наутро после гибели Альберта и Марии к нам в лесу примкнул некто Карл Лаук из 19-й дивизии СС. По-моему, офицер, хотя на нем был общевойсковой солдатский мундир. Лауку за тридцать, высокий, крупнолицый, щеки и подбородок у него заросли курчавыми светлыми волосами. Он из Вупперталя. Принес последние новости: действительно, Либава пала еще 8-го; в тот же день в Карлсхорсте Кейтель подписал акт о капитуляции; генерал Гильперт и командующие 16-й и 18-й армиями вместе со штабами сдались в плен и приказали подчиненным войскам сложить оружие. Но некоторые эсэсовские части отказались и ушли в здешние леса.
Готтлебен выслушал его, молча покивал головой…
Итак, конец: Германия капитулировала. Как-то дивизионный священник сказал: „Виноваты не мы, а время, в которое живем“. Это удобно: у времени нет ни имени, ни фамилии, ни убеждений. Значит, спрашивать не с кого.
—- Что ты там шепчешь? — окликнул меня Готтлебен.
И тут что-то на меня нашло. Я посмотрел ему прямо в глаза и выпалил:
— В послании у апостола Петра сказано: „Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое“. Вам не вспоминается это, господин гауптман? В связи с капитуляцией?..
— Оставь эти бредни! — оборвал он меня. — У того же Петра были и другие слова: „Возлюбленные! Огненного искушения, вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас страшного…“ Разве церковники не втолковывали вам их перед строем? То-то, болван!..
Они с Лауком начали хохотать. Лаук вытащил пачку „Спорта“, швырнул мне сигарету:
— Лучше закури, эти австрийские хорошо мозги прочищают.
Готтлебен спросил его, что он намерен делать дальше.
— Не объединяться в большую группу, — ответил Лаук. — В нашем положении это всегда источник для разногласий. Да и передвигаться большой группой сложнее, быстрее обнаружим себя.
— И дальше что?
— Двигаться лесами к побережью, захватить лодку и уйти в Швецию. Это триста километров.
— Бред, — отмахнулся Готтлебен. — Нужно идти через Литву в Силезию…
— Пожалуй. Хотя и дольше, но надежней…
Они советовались между собой, обсуждали, прикидывали, но ни разу и ни о чем не спросили меня. Как будто меня уже не существовало. Я смотрел на них и слушал. Мне казалось, что все это происходит в каком-то нереальном мире, в страшном, фантастическом сне, явившем моему взору двух грязных, полуголодных безумцев, воспаленно сверкавших глазами, строивших такие чудовищные планы, какие возникают у морфинистов в их самые блаженные минуты…
Скоро совсем стемнело. Тихие сумерки перешли в сырую лесную ночь. Где-то очень далеко, наверное, уже зарытые в землю, успокоенно лежат Мария и Альберт. Четыре дня, как всюду кончилась война. У меня дома, в Карлсхорте, в инженерном училище Германия подписала свою капитуляцию. А меня война все еще тащила по своим ухабам…
Для чего я все это пишу? Для кого? Просто мне надо с кем-то говорить, чтоб не сойти с ума, молчать невыносимо. Но говорить не с кем: каждый говорит сам с собой, даже произнося какие-то слова для другого. И каждый слышит только себя…»
«12 мая.
Не думаю, что ЧП, но волнуюсь: исчез Семен. Утром, когда я уезжал в штаб, видел: он и В. умывались. Вернулся я после полудня, старшина доложил: „Березкин в самоволке“. Семен — в самоволку?! Вызвал В. Спокоен: „Найдется, куда денется? Девчонку, наверное, завел на хуторе или в Аудари. Пока не шуми“. В. видел его последний раз, когда Сем. собирал сушняк для кухни…
Уже вечереет. Сем. нет. Комбату пока не докладывал. В. уговорил. Приказал ему: носом рыть, а Сем. отыскать. В. ушел с двумя солдатами в Аудари, не унывает: „Зря паникуешь…“
Жду. Тревожно…»
«Почти целый день я провел один: Готтлебен и Лаук уходили разведать дорогу возле Аудари: можно ли там ночью незаметно проскочить в соседний лес, потому что здесь начались болота, идти трудно.
Пришли злые, возбужденные: на опушке возле отдаленного хутора наткнулись на русского солдата. Он шел с пустой канистрой, увидел их поздно. Они свалили его, заткнули рот и утащили в лес. Допрашивал Готтлебен. Солдат сказал им только, что командир взвода послал его на хутор за пивом, больше ни слова.
На мой вопрос: „Где же он?“ Лаук ухмыльнулся, а Готтлебен вытащил из кармана какую-то тоненькую книжицу размером с блокнот и швырнул мне. На серой обтрепавшейся обложке красная звездочка.
Видимо, солдатская книжка. Шесть листков плохой желтоватой бумаги, в типографски напечатанные графы внесены чернилами записи.
— Сожги, — приказал Готтлебен. — Русские будут искать своего. Дождемся темноты и пойдем через болота…
—-Ничтожная хилая вошь, а корчил из себя героя, в молчанку играл, — возмущался Лаук. — Я его и так, и этак, гауптман то даст ему рукояткой в морду, то что-то по-русски втолковывает, а он только головой мотает и глаз все время прищуривает. Я ему и влепил в этот глаз, чтобы совсем закрылся… Его взводному пива, видишь ли, захотелось! Послал героя!.. Пусть ждет!.. Упрятали его так, что господь бог не отыщет…
Что они сделали с одиноким, спокойно шедшим уже по мирной своей земле человеком? Убили, конечно. А я? Что сделал бы я на их месте, в их ситуации? Отпустил бы его или дал бы убить себя? Я ни когда не отвечу себе на этот вопрос. Правду даже о себе можно узнать только там, где потребуется поступок…
Костра мы не зажигали, боялись. Лаук, поскребывая заросшую светлой курчавой бородой щеку, спросил вдруг, где моя солдатская книжка. Я сказал, что в кармане.
Оказывается, он прихватил с собой штабную печать, предложил записать мне в книжку, что я произведен в лейтенанты. И подмигнул при этом.
Я ужаснулся.
— Может, после войны они нам пенсию платить будут, — сказал Лаук.
Я отказался.
— Дурак, они нам здорово задолжали. И на много лет вперед…
Я знаю, кто это „они“, но не знаю, кто будут „они“ теперь, после всего. И все равно я ни от кого не желаю никакой пенсии, ничего, что напоминало бы эти дни! Только бы добраться домой, увидеть своих близких и дать душе свободу. Я хотел свободы, хотя не очень ясно представлял ее в подробности. Мои долгие надежды на нее и тоска по ней не простирались дальше желания снять с себя грязную одежду, вымыть истосковавшееся по теплой воде и мылу тело, поесть домашнего супу и просто выспаться. В нормальной чистой постели, которую человек давно придумал для себя. Лечь и заснуть, не думая, что предстоит делать завтра с собой, когда проснешься свободным, ибо не будешь знать, как поступить с этой свободой, очнувшейся среди хаоса…»
«13–19 мая.
Сутки, как исчез Семен. Неужели беда? Не был он скрытным со мной. Хотел бы отлучиться, сказал бы. Девчонка на хуторе? Не похоже на Семена…
Прошла неделя, а Семена нет. Страшно, непостижимо! Комбат сказал: в связи с этим ЧП присвоение мне очеред. звания задержано: Приезжал дознаватель».
Об исчезновении Семена Березкина я доложил комбату через сутки. Он приказал поиски не прекращать. Я еще раз расспросил всех во взводе, но никто ничего не знал, никому Семен не говорил, что собирается куда-либо. Виктор молчал, пожимал плечами, ходил мрачный. Оптимизм его выдохся, и меня он больше не утешал. Я приказал ему написать рапорт. Вместе со своим объяснением отдал комбату. Мы понимали: начнется официальное дознание, пришлют кого-нибудь из дивизии. Как-никак — ЧП. Ждал неприятностей, но думал: черт с ними, отыскался бы Семен…
В лесах стрельба к тому времени почти утихла, но один раз выезжали на ликвидацию бродячей немецкой группы — человек пятнадцать эсэсовцев. После короткого боя живьем взяли шестерых, отправили на сборный пункт…
Дознаватель прибыл в конце недели. Беседовал с нами. Со мной был вежливо сух, официален, но дотошен. Что я мог ему сообщить? Ведь и сам мало что знал. Витька вышел от него красный, будто прыщи на лице давил. Дознаватель сказал нам: «Придется пока считать, что Березкин ушел в самоволку. Не то тому, кто отпустил или послал его одного, зная, что в лесу еще полно немцев, — с попутным ветром под трибунал…» С этим он отбыл, а дело об исчезновении рядового Семена Березкина тащилось своим чередом по следственным каналам.
Шли дни, недели, история с Семеном удалялась в прошлое, все были поглощены преддемобилизационной суетой и понимали, что дальнейшие поиски Семена и всякие расследования уже бессмысленны: живой человек так долго отсутствовать не может.
В один из дней Виктор подал рапорт с просьбой о демобилизации — спешил. Я не возражал. Спросил у него, как быть: что напишем матери Семена — Ольге Ильиничне? Как объясним ей? Но у Витьки в таких случаях совет бывал один: «Надо подождать немного. А там видно будет…»
Все вещи Семена пока оставались у меня, а бумаги, какие были у него в вещмешке — письма от матери, стихи, — забрал с собой дознаватель. Что он мог понять из них? Какой Семен был человек? Едва ли. Это знал я.
20 мая батальон вывели из лесу окончательно, и нас сменили войска НКВД…
«19 мая, в субботу, я остался вовсе один: Готтлебен и Лаук бросили меня. Ушли они на рассвете, когда я спал, сваленный усталостью после тяжелого ночного перехода по болотам. Понимаю, что был им в тягость, тем более полуслепой: накануне ночью, зацепившись за корягу, я упал и сломал дужки очков.
Готтлебен и Лаук двинулись продолжать свою войну. „Убивать, пока еще есть время“, — как-то сказал Готтлебен и с удовольствием глянул на здоровенного Лаука, обвешанного оружием. Они подошли друг другу и, конечно, презирали меня.
Если их не убьют, когда-нибудь они расскажут о своем благородстве: уходя, они оставили мне три банки консервов, галеты, котелок, спички, компас, шмайсер с полным магазином, нож и бинокль.
Как ни странно, я не испытал ни сожаления, ни страха от одиночества. Я мог теперь сам принимать решения.
На закате вышел к опушке и услышал стук. Взял бинокль, выглянул из-за кустов. На зеленой поляне стояли ульи, паслась стреноженная лошадь, возле большого сарая у телеги сидел крестьянин и обтесывал топором длинную жердь, примерял ее к телеге — наверное, мастерил оглоблю. Я смотрел на его коричневые, как мореное дерево, огромные руки, сжимавшие топорище, видел налитые усталостью и силой узлы вен. Звенел острый топор, стесывая с жерди лишнее. Крестьянин делал свою работу. Давно я не видел работающего человека. По бокам этой оглобли потом встанут кони, и он поедет в поле убирать картошку или хлеб. Этим он занимается всю жизнь — естественным и вечным делом.
Тюкал топор, отслаивал щепу. Рука, сжимавшая его, была точной, верной в расчете, привычно трудившаяся для жизни. Густав Цоллер был убит возле хутора таким же топором, размозжившим ему череп. Тюк-тюк, — звенел, взблескивая в низких лучах солнца, топор в тяжелой вдохновенной руке. Как могла такая рука подняться, занести топор, когда перед нею оказалась не жердь, а лицо человека?! За что? Только ли потому, что человек этот был немец? Но Густав был тихий и не злой человек. Вот вопрос, на который надо ответить! Но надо ли? Смогу ли я правильно ответить, не ошибившись, не осквернив при этом память Цоллера и не осудив в душе безвинно того, кто поднял на него топор?! Но кто-то же виноват в том, что топор, каким так любовно делал крестьянин свою мирную, нужную для жизни работу, опустился на голову Цоллера — отца семейства, тихого, трусоватого мекленбуржца?..
Потом наступила ночь, и я двинулся в путь, моля господа сократить мне его. Выбор у меня был еще велик: застрелиться или сдаться русским. Но я хотел домой! Только домой! Увидеть мать, отца, сестру и Кристу, которые, наверное, уже оплакали меня…»
Записью за 19 мая 1945 года завершается часть дневника Конрада Биллингера, переданная мне его сыном. Биллингер-старший, пожалуй, сказал в нем все, что хотел сказать, и сделал это, видимо, честно, ничего не умаляя и не прибавляя, хотя и беллетризировал свои записи спустя почти тридцать лет.
Донимает меня одна мысль: что сказал бы Лосев, прочитав оба дневника — Биллингера и мой? Что сказал бы он на этот раз? Но мне никто не ответит.
Виктор демобилизовался в июле 1945-го, я — месяцем позже. По относительно свежим следам я съездил на тот перегон, где разбомбило эшелон, в котором ехала Лена. Под насыпью в высокой августовской траве еще валялись остовы обгоревших вагонов и заржавевшие колесные тележки. Вот все, что я нашел тогда, но и позже к этому так ничего и не прибавилось…
За два дня до Алькиного отъезда в Дрезден она с Женей заявилась ко мне.
— На последнюю консультацию, — сказала Алька, заложив руки за спину и вымеривая длинными шагами паркетины вдоль книжных полок.
— Ты чего еще в сапогах? Вроде сухо уже, — сказал я.
— Не везде.
— Она считает, что сапоги ей очень идут в любую погоду, — засмеялся Женя.
— Да, в них у меня ноги еще красивее. А ты лицемер, Копылов. И вообще помолчи, мы сейчас будем заниматься делом. — Она подала мне бумажку. — Это мой вопросник. Ты, пожалуйста, растолкуй подробней обо всем, что я здесь нацарапала. Если попадутся глупости, пропусти…
Я начал отвечать. Женя сидел в кресле, внимательно слушал, покусывая губу, иногда задавал вопросы. Они отличались от Алькиных, в них не было праздного интереса к загранице, формулировал их четко и емко, и мне приходилось отвечать обстоятельно. Мне показалось, что вопросы его возникли не только что. Для парня его возраста подобный интерес к немцам был для меня непривычным.
— А вы хорошо знаете немцев, — сказал он мне потом. — Но это все от впечатлений последующих и рациональная их оценка. А вот что вы испытали, когда впервые ехали туда, когда впервые ступили на ту землю спустя четверть века после войны?
— Сложно пересказать, как всякие эмоции.
— Ладно, согласен… Формулы для эмоций губительны… И со всем, что вы скажете, я заранее согласен, пойму, — горячо сказал он, даже встал и сильно потер ладонями лицо. — Одного никогда не пойму…
— Что ты пристал! — перебила его Алька. — Далось тебе это…
— Далось, Алюша, далось… Погоди… Вот чего я не пойму. Для каждого понятия добра и зла ясны в самых элементарных проявлениях. Скажем, один ограбил другого, случайно даже убил. Совершено зло, оправдать его нельзя, но можно искать мотивы хоть личностного характера. А есть ведь зло в чистом, выделенном виде, истинное, самое обнаженное! Например, уничтожение сотен тысяч людей в печах концлагерей. Откуда оно? Вот чего я никак не уразумею.
— Один человек на этот вопрос ответить не в силах.
— Не понимаю… Вы так говорите, будто боитесь быть невежливым по отношению к кому-то.
— Вы уловили это в моих словах, Женя?
— В интонации. Этакое интеллигентское умение всех понять. Может, это чисто возрастное, не обижайтесь. С возрастом люди иногда впадают в такой сантимент: жажда поставить себя на место каждого, чтоб понять.
— Женька, не хами! — крикнула Аля.
— Я предельно вежлив, Алька. Но почему на этот вопрос один человек не может ответить? Ответить ясно, без пресловутого подтекста, а текстом!
— Потому, что фашизм поставил этот вопрос не перед отдельными людьми, а перед всем человечеством, — сказал я. — И на много десятилетий! И для ответа слова не годятся, нужны поступки, если хотите — деяния.
— Тогда, как же быть…
Я перебил его:
— Погодите, Женя. По-моему, есть определенный символический смысл в факте Алькиной поездки на производственную практику в Дрезден. И едет она туда не без удовольствия, — повернулся я к ней.
— А почему бы нет? — засмеялась Алька. — Он вообще любит во всем ковыряться, — кивнула она на Женю, — доискивается начала…
Потом разговор перешел к делам бытовым — что и сколько Альке брать в эту поездку: сколько кофе, сигарет, какие сувениры.
Когда они уходили, прощаясь, Женя сказал:
— Когда Алька вернется, любопытно сравнить будет ваши и ее впечатления. Да, Лосева? — шутливо подергал он Альку за нос.
— Идем, идем, любопытствующая душа, — засмеялась Алька. И, повернувшись ко мне, сказала: — Это он выпендривался перед тобой.
Но глаза ее счастливо и тайно поблескивали…
Они ушли, новые люди моего времени. А я поймал себя на ощущении, будто прожил бесконечно долгую жизнь и что она будет продолжаться неведомо сколько. Исчезали некогда бывшие рядом люди. Их исчезновение и отсутствие с годами делалось все менее и менее заметным, хотя вокруг меня вроде образовывалась глубокая пустота. Но постепенно она зарастала, как воронка, которая год от года мелеет, пока, наконец, не сровняется с землей. И тогда рядом со мной снова появлялись люди, но уже другие, не имевшие никакого понятия о тех, вместо кого они возникли, и делали то, что не успели даже неведомые им предшественники.
Как долго это будет продолжаться? Пока вместо меня рядом с кем-то возникнут другие… И так будет вечно и с каждым… Символика? Меня не раз отвращали от нее: дескать, от символов попахивает притчами. Но разве чья-то прожитая жизнь не притча для тех, кто только начинает жить?..
1974–1976 гг.
Львов — Берлин.
РАССКАЗЫ
В мое дежурство
Сквозь сон слышу, как тянут с меня шинель.
Я укрыт ею. И сплю на ней, подвернув одну полу. Хлястик отстегнут, чтобы шинель была пошире. Подо мной еще двухметровый мешок, заправленный сухим, хрустким сеном. Мешок сплетен сеткой, и в мелкое очко, из тонкого бумажного жгута. Во всю его ширину отштампован черной краской когтистый немецкий орел. Этот трофей я вожу с собой уже второй год; едем куда — вытряхиваю сено, укладываю мешок в ящик с противовесами для антенны. На новом месте — вновь набиваю его.
На войне человек не успевает привыкнуть к вещам. Но к мешку я привык и очень им дорожу. В нем что- то постоянное для меня и домашнее. И я называю его надежно: «матрас». Дома я любил маленькую подушку-думку. Она лежала у нас на диване. На ее наволочке крестиком вышита надпись: «Еще бы полчасика»… Может быть, поэтому я люблю свой немецкий мешок: я сплю на нем. Иногда я выдергиваю из очка выткнувшийся сухой стебелек поковырять в зубах или просто пожевать перед сном, когда хочется о чем-нибудь подумать, или чтоб пощекотать в красном приплюснутом ухе механика Шишлова. На мочке у него коричневая бородавка. И когда холодно, мы советуем ему застегивать бушлат повыше — самой верхней петлей за эту бородавку…
Откинув шинель, сажусь, потягиваюсь до хруста в спине. Ребята еще спят, натянув шинели почти на глаза, а мне сейчас заступать дежурить.
Я знаю, что разбудил меня старшина Бурыкин. В коридоре еще стучат его рыжие английские ботинки: это он поднимается в мансарду, где живут шифровальщики. Входить к ним запрещено. Перед дверью, занавешенной тяжелым брезентом, Бурыкин постоит, сипло кашлянет, затем, отодвинув брезент, легонько попросится в филенку. Его томит любопытство. Он ужасно хочет попасть в эту таинственную комнату и посмотреть, что там и как. И всякий раз, когда будит шифровальщиков, ждет желанного «войдите». Но и на этот раз оттуда раздается: «Да-да! Все в порядке!» И толстогубый Бурыкин, косолапя, уже гремит вниз по ступенькам рыжими английскими ботинками сорок второго размера. Нога у него — сорокового. Но зимой и летом он мотает две пары портянок — холщовые, а поверх байковые. «Колыма стужей все еще через ноги, выходит. А при теплых ногах и башке легче. Понял, милаша?» — как-то пояснил он мне такую свою заботу о ногах.
Я знаю, что он из бывших уголовников, что выпросился в штрафную, что после штрафной заработал две «Славы». Он все время что-то пришептывает, почти неслышное, словно напоминая себе условие задачи, которую ему задали еще в школе, а он ее по сей день никак не может решить и шепчет, повторяя, боясь забыть.
Когда старшина обувается, я смотрю на его багровый затылок. Натянув ботинок, он шумно вздыхает, затем, намотав на короткие толстые пальцы сыромятины шнурков, быстро шнурует. Рядом лежат два рулончика — его обмотки. У нас, радистов, их называют «соленоидами». Бурыкин мотает их лихо, ровными этажами на мускулистые икры. Наука эта далась ему трудно. И сейчас еще иногда из-под обмотки торчит белая штрипка кальсон (их он тоже носит зимой и летом).
Сапоги старшина не признает: «Ты, милаша, попробуй в сапогах по намету потопать, — враз голенищем снегу нахлебаешь». В этом, конечно, есть резон. Но к концу войны мы почти все обзавелись сапогами. Кто какими и все по-разному.
Сережка Шишлов на каком-то хуторе срезал в холодной черной кузнице мехи. Сапоги из них стачал ему ездовой хозвзвода за трехлитровую сулею домашнего латышского пива. Его Сережка выменял на полканистры керосина. Латыш — хозяин кузницы, обнаружив пропажу, заявился к старшине. Был скандал. Сережка все-таки остался в сапогах. И латыш ушел от запасливого и прижимистого Бурыкина ублаженный. Но чем? Мы так и не узнали.
Шишлов был прощен старшиной за свои частушки. Знал он их тьму.
— Ну-ка, хомутовский, — щурился, бывало, Бурыкин (Сережка был из Хомутовки, где-то на Курщине), — повесели соратников.
И Шишлов под гармонь заводил:
Сережка пел, опустив веки, как слепой на ярмарке. Пел серьезно про самое смешное. Бурыкин следил за его игрой, как за колдовством, приоткрыв рот, смотрел, как бегают Сережкины пальцы по пуговкам, и от удовольствия мотал головой.
С моими сапогами было иначе. Под Мадоной я выпустил полдиска в немца, выскочившего из подвала. Он замахнулся гранатой на длинной деревянной ручке. Но я управился быстрее.
Уже сутки машины нашей радиостанции стояли на пустыре, звеневшем на ветру консервными банками и вонявшем прелью картофельной шелухи, а немец тот все лежал, выставив ноги из подвала. Подошвы посверкивали множеством заклепок-подковок, отсеребренных асфальтом и брусчаткой, снегом и осенним месивом полевых дорог.
— Иди-ка сюда! — позвал меня Бурыкин. Он стоял возле убитого, вытирая куском грязного вафельного полотенца свой покрасневший нос, вжатый между крутых скул. — Сейчас зароют. Латыши вон яму готовят. Со всего города сюда свезут.
Несколько гражданских в отдалении ковырялись лопатами, готовя общую могилу.
Бурыкин присел на корточки, потрогал сапоги немца.
— Яловички будь здоров! Что ж им, гнить?! Добро ведь! Вещь! У наших мужичков небось пара лаптишек на пять дворов. А может, эти ходунки из нашей русской коровы. — Он похлопал по голенищам. — Разувай суку. — В щелочках его глаз зрачки метнулись от сапог к моим обмоткам. — Эх ты, шестёрка интеллигентная! — хмыкнул он, заметив, что я колеблюсь, хотя мне безумно хотелось эти сапоги с широкими раструбами голенищ.
Одной рукой подхватив задник сапога, другой он ударил по подъему. Сапог словно сам съехал в руки. Из голенища вывалились запасной рожок к «Шмайсеру» и сложенная вчетверо по длине тонкая обложка иллюстрированного журнала. Рожок старшина отшвырнул, а журнал поднял.
— Видал! — он щелкнул пальцем по обложке.
На цветном снимке была изображена красивая полуголая девица в бюстгальтере-бабочке. На каждой его чашке было написано: «С Новым, 1945 годом. Все для вас!» Длинные гладкие ноги девы стояли в огромной рюмке с вином.
— Ишь, паскуда, куда влезла! — заметил Бурыкин. — А в общем ничего. Так, что ли? — спросил он меня.
Я пожал плечами. Он был старше меня на десять лет. Мне было двадцать. В его словах мне многое было непонятно. Вот и тогда. Он обыскал убитого, вытащил какие-то бумаги и колоду новеньких карт. Заталкивая документы за пазуху, Бурыкин приговаривал:
— «Ксивенки» сюда, а колотушки нельзя, нельзя. — И, ловко переломив колоду, молниеносно перетасовав, он изорвал ее в два приема. — Хороши колотушки. А мы из газетки делали.
Обложку журнала он тоже выбросил. Она упала в лужицу ружейного масла, и по лицу красотки, словно тень сожаления, поползло темное жирное пятно.
— С обновой! — Старшина сунул мне сапоги и, сутулясь широкой спокойной спиной, зашагал прочь.
«А что, если это мародерство? — подумал я. — Но они бы сгнили!» Мучимый сомнениями и брезгливостью, я поначалу носил сапоги в очередь с ботинками. Мне в них как-то даже не ходилось: то голенища шумно хлопали по худым моим ногам, то слишком уж нахально звякали заклепки-подковки. А позже привык. Мама, увидев меня, воскликнула бы: «Боже мой, ты же похож на Осипа в этих сапогах!» По соседству с нами жил крючник Осип. Он имел патент на извоз, держал коня и телегу и работал на станционных пакгаузах. Его сапоги воняли так же, как и ступицы колес его телеги.
Я вскакиваю с постели, обуваюсь и лезу в вещмешок. Я знаю все, что там есть: пахнущий щелоком кусок стирального мыла, завернутый в присохший бинтик; пяток некрохких обожженных сухарей, таких, что за двое суток не отмочишь; две пачки моршанской махры; россыпью патроны к автомату; толстая, со свернувшимися темными углами тетрадь.
Зажав мыло в руке, выхожу на крыльцо. Солнце уже в лесу. Оно запуталось в густой хвойной неразберихе, ломится сквозь нее, обдирая бока, оставляя на ветвях и на стволах золотую свою кожицу, продирается на поляну, где в холодно-чистой майской росной траве стоят машины нашей радиостанции.
Чуть в стороне дымит под дощатым навесом кухня. Я вижу, как рядом с глуховатым поваром Мухиным возится у поддувала ефрейтор Таська. Она сегодня в наряде. От запаха, плывущего оттуда, у меня начинает посасывать под ложечкой, и я бегу умываться к старому медному рукомойнику, прикрученному к сосне старшиной.
Таська встречает меня обычным:
— Здравствуй, точечка-тирешечка. Как спалось, что снилось? Садись.
Говорит она быстро, словно не думая. Шмыгнув носом, вытирает согнутым пальцем слезинку — глаза ее красны от горьковатого дыма сырых поленьев, лениво тлеющих под котлом.
— Вот дрова! Вот дрова! Дую, дую, а из них только сок сычит, а огня нет, — жалуется она, садясь на корточки и набирая полный рот воздуху. Халат ее распахнут, и, когда она сгибается, узкая юбка ползет с колен вверх, туго обтягивая бедра. Мне страшно, мне кажется, что плотная, без единой складочки, заполненная телом диагональ вот-вот лопнет по шву. На всякий случай отворачиваюсь, успевая подметить, что у Таськи, наверное, очень сильные ноги.
Я сглатываю какой-то комок в горле и подаю ей совет:
— А ты возьми бересты. У старшины полный мешок ее.
— Ой! Правда ведь! — восклицает Таська. — Вот умница-то ты моя, точечка-тирешечка. — Она смеется.
У хозяйственного Бурыкина на случай сырой погоды, когда мы на марше, есть в запасе мешок сухой бересты. Он дозами выделяет ее в таких случаях для растопки на кухню и в холода нам, на радиостанцию, для нашей печурки.
Пока я ел вермишель с тушенкой, Таська притащила охапку бересты.
— Это тебе за бересту, — Таська ласково заглядывает мне в глаза и кладет в миску кусок хлеба с густо вмятым в него слоем маргарина. И пока ее лицо очень близко, я успеваю заметить веснушки на скулах и в светлых ресницах серые глаза. — Ешь, ешь! Ты еще молоденький, тебе в силу входить надо, — подначивает Таська, хотя она всего на пять лет старше меня.
Она поверяет мне все свои любовные заботы, словно однажды я дам ей какой-то важный совет на этот счет.
А как-то, заметив мой грязный подворотничок, что пришит «сикось-накось», сказала:
— Приходи ко мне, я тебе воротничок подошью.
Вечером я вспомнил о ее предложении. Оглядываясь по сторонам, я петлял возле ее двери, а затем, как с размаху, без стука вломился.
— А, это ты, точечка-тирешечка, — словно ожидая меня, сказала Таська. Была она босая, в батистовой ночной рубахе и юбке. — Садись. — Ногой она придвинула мне табурет, руки у нее были в мыле. На другом табурете стоял тазик с бельем. — Вот постирушку затеяла, — сказала она по-домашнему и усмехнулась. Ее не смущало то, что она полуодета.
Вытерев мыло, она порылась в тумбочке, нашла кусок белого плотного полотна.
— Снимай рубашечку, — Таська сказала «рубашечку», а не «гимнастерку». Деревенеющими пальцами я расстегнул пуговицы, послушно сдернул гимнастерку и напряженно выпрямил спину. Она подошла близко-близко, грудью почти касаясь моего лица (я даже видел штопку на кружеве ее рубаки), и начала примерять на моей худой шее подворотничок. Я чувствовал прикосновение теплых и чуть влажных пальцев. Меж лопаток у меня пробежали щекотливые мурашки, а я тайно вдыхал чистый запах ее счастливого тела…
Что бы подумала Оля про все это?! Но где она сейчас, Оля, с которой мы мечтали в десятом классе об Арктике, четыре раза бегали смотреть кинокартину «Цирк», всякий раз одинаково возмущаясь отношением к неграм в Америке, собирали подарки для детей испанских республиканцев. Тогда нам было по семнадцать. Оля сейчас где-то в эвакуации, а я на войне. И здесь человека легче потерять, чем найти: война большая…
Странный человек эта Таська. И мне нисколечко не стыдно слушать ее разговоры про любовь. Сейчас у нее любовь с помпотехом Шадриным.
Однажды ночью, выйдя за дровами, я увидел их у дверей Таськиного фанерного домика. Во влажной октябрьской мгле с далекими, заспанно мигающими зеленоватыми звёздами, когда луна, будто умывшись, присела за бугор, я видел лишь их силуэты и слышал голоса: низкий, с хрипотцой Шадрина и словно смеющийся, тоненький Таськин.
— Ты не бойся, Таисья, — говорил Шадрин. — Все равно на тебе женюсь.
— Чудной ты, товарищ старшин лейтенант! А может, я за тебя и не надумаю замуж. Я просто жалеючи люблю. Ты всегда серьезный такой. И на любовь ко мне, как на работу, ходишь. По расписанию.
— Я, Таисья, на всю жизнь засох. В сорок третьем заскочил в овин. Вижу — фрицы как фрицы. Спят. Возиться некогда было. Наступали мы. Я их троих враз и кончил. Так сны их с ними и остались. А разобрались когда, оказалось — русские. Власовцы. В темноте не разглядел.
— А если бы разглядел?
— Хоть разбудил бы…
Не дождавшись, покуда в котле закипит чай, я благодарю Таську за вкусный завтрак и иду на радиостанцию. На полдороге к ней — впритык к лесу — сельское кладбище. Таких красивых кладбищ я не встречал. Ажурные железные ворота, центральная аллея, засыпанная гравием, по обе ее стороны могилы с мраморными и гранитными надгробиями; есть могилы победнее, но все равно ухоженные, с живой зеленой изгородью вокруг. Здесь всегда много цветов. В железных застекленных фонарях у могил часто горят тонкие самодельные свечи. Каплица с высоким, рвущимся в небо крестом. Здесь торжественно, но не грустно, как на наших голых кладбищах. На одном из железных крестов бессильно обвис отлитый из чугуна Христос. В дневную мартовскую оттепель на него с ивы падали капли и словно слезы текли по его лицу. За ночь они замерзали. И однажды утром Бурыкин, заметивший сосульку, пристывшую к носу распятого, сообщил нам:
— А Исус-то простыл. Осопливел, — и щелчком сбил тонкую ледышку.
Сейчас на кладбище ярко от зелени и солнца. Над постриженными кустами висят на слюдяных крылышках сытые стрекозы, как из райского сада, слышен птичий щебет. Все радуется маю, окрепшим веселым листьям, чистому смолистому духу от прогретых золотобоких, словно выпрямившихся после зимы, сосен, открытому синему небу.
И я улыбаюсь, проходя мимо памятника с надписью по-польски: «Я вижу вас, живые». Что он видит, чудило? Меня, который, подпрыгнув, как на школьном дворе, счастливо сощурившись от солнца, бьющего в глаза, бежит по сочной траве в тяжелых сапогах, мнущих редкие желтки одуванчиков, а солнце, забавляясь, как в комнате смеха, отшвыривает приклеившуюся к моим подошвам длинноногую с коротким туловищем тень?
Сегодня я дежурю в паре с Сережкой Шишловым. На радиостанцию он пришел раньше меня и уже возится с движком: заливает масло, шурует тряпкой его лоснящиеся бока. Затем, сложив в сумку ключи, вытерев ветошью пальцы, выскакивает мне навстречу со своим вопросом:
— Послушаем музыку?
— Погоди, дай оглядеться. — Я вхожу в аппаратную. Здесь все блестит, сияет чистотой и мудростью, перед которой робели солдаты, заглядывавшие сюда и не знавшие нашего ремесла. Надев наушники, я включил приемник. Сумятица и хаос огромного мира, исполненного ненависти, надежд, проклятий, мечтаний и безразличия, умещались в краткость морзянки — точек и тире, деловито вылетавших из-под ключей радистов. Но мне казалось, что это просьбы накрыть огнем переправу, где застряла колонна «тигров», прислать машины со снарядами и сеном; директивы расстрелять дезертиров из фольксдойче, доставить два ящика «Мартеля» командующему группой; мольбы спасти сидящий в «котле» без хлеба и патронов полк егерей; выслать спасателей к торпедированному у Клайпеды транспорту «Ратклиф»; приказы снять артналет с городка Визендорф, во избежание жертв среди гражданского населения направить туда с ультиматумом парламентеров; телефонистку Курашову, родившую близнят, срочно эвакуировать в тыл, а «виновнику» — капитану Мартынюку — дать трехсуточный отпуск как сопровождающему…
Но все это, конечно, было зашифровано. И я слышал только цифры, цифры: спешившие, успевавшие, опаздывавшие.
Повращав лимбом настройки, я поймал далекую джазовую музыку и позвал Шишлова. Он сел, как обычно, на ящик с запасным аккумулятором и, прикурив от самодельной зажигалки, стал слушать. Ныли саксофоны. Глухим голосом, картавя, на незнакомом языке пела женщина. Сережка слушал со знанием дела. И на особенно низких регистрах двигал кадыком и старался ей подпевать. Человек он был способный и мелодию запоминал быстро. За время его работы на радиостанции репертуар его обогатился, и жил Шишлов надеждой, что Бурыкин выполнит свое обещание: достанет ему трофейный аккордеон «Сопрани».
Лицом Сережка худ, жилист, с бурым загаром на впалых щеках и обнаженном высоком лбу. Глаза черные, влажные. Говорил, что после войны в Хомутовку свою не вернется, а поедет к Утесову пробоваться в джаз. Если, конечно, старшина достанет ему аккордеон.
В наушниках знакомо запищало. «Почерк» радиста я узнал сразу. Вызывали меня. Придвинув чистый бланк, я кивнул Сереге. Он с сожалением выключил музыку, ушел к себе и завел движок.
Радиограмма была длинная, слышимость плохая, от напряжения заныла шея. Дав «квитанцию» — подтверждение, что радиограмма принята, я отправил ее с Сережкой к шифровальщикам, а сам извлек из кармана толстую, со свернувшимися углами тетрадь. Это мой дневник.
Я начал его еще в десятом классе. Иногда на дежурстве, когда нет работы, я читаю старые записи про школу, про наших девчонок. Есть там одна запись про Олю.
Ее папа был начальником конторы связи. Жили они во дворе конторы, куда посторонним вход был запрещен. Но меня охранник пускал. Он сидел в будке, завернувшись в тулуп, и лузгал семечки. От него вкусно пахло подсолнухом. Шелуха висела на губах, и, вытирая их темной ладонью, он говорил:
«Иди, жених, иди. Барышня все в окно тебя высматривала».
От этих слов у меня жгло уши. Я втягивал голову в плечи и, боясь оглянуться, входил во двор. Местом свидания у нас была кабина старой полуторки. Она стояла без мотора на ржавых дисках. Мы проваливались в мятую, поющую пружинами подушку и шептались. Мы говорили красивые слова о смысле жизни, о войне, о подвигах. Оля еще не знала, что через две недели я и пять моих друзей — комсомольцев из 10-го «Б» — добровольцами уйдем на фронт. А я не знал, что через четыре месяца, оставшись один в тылу у немцев (Витька Гладыш еще по дороге туда подорвется на мине), я буду двое суток в полузатопленном немецком блиндаже корректировать огонь нашей артиллерии и, кровавя десны, догрызать последний сухарь. А когда наши прорвут оборону и меня найдут — оглушенного, синего от холода и голода, — генерал Степичев засмеется, обнимет меня и повесит на мою мокрую гимнастерку медаль «За отвагу»…
Но тогда, сидя с Олей, мы говорили о князе Андрее Болконском. И мне хотелось поцеловать Олю в щечку Вместо этого я отрешенным голосом разочарованного и уставшего человека вдруг произнес: «Я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой».
Оля в восторге слушала, сжав пальцы, а я, исполненный превосходства, молчал. Назавтра, на физике она прислала мне записку: «Врун! Это же Печорин говорил Грушницкому!» Я был посрамлен. Но запись в дневнике сделал. И выглядел в ней настоящим мужчиной, произносящим такие роковые слова…
Во всей роте только старшина знал, что я веду дневник: ночью, зайдя в радиостанцию, он застал меня за этим занятием.
— Пиши, пиши! — поощрил он. — На память не надейся. Она так сработана, милаша, что помнит то, что ей выгодно.
Нет! Тут я с Бурыкиным не согласен. Я помню все. И первые свои сто граммов водки — «наркомовскую норму», — от которых я опьянел; и то, как нас осталось четверо на три орудия, когда поперли «пантеры». Мы начали расстреливать их из «сорокапяток», понимая, что, если не задержим, они зайдут в спину управлению дивизиона, а что тогда будет — один бог знает. Потом был госпиталь, откуда я попал сюда…
В наушниках назойливо жужжала буква «ж». Кто-то настойчиво выбивал ее, — знак настройки, известный радистам всего мира. Судя по плотности звука, радиостанция была большой мощности. Затем «ж» исчезло. В эфире наступила непривычная тишина. И снова заработала та же станция. И ее радист вдруг открытым текстом начал клепать: «Всем! Всем! Всем! Я „Луч“, я „Луч“, я „Луч“! Мир! Братцы! Война кончилась! Только что в Берлине! Как слышите меня?! Войне конец! Кончилась! Войны больше нет! Я „Луч“, я сержант Россихин. Повторяю: война кон…» Передача оборвалась.
Я сидел, тупо соображая: это или какой-то сумасшедший, или чудак. Но за такие чудачества, да еще открытым текстом… И вдруг эфир взорвался: морзянка трещала, пищала и хлопала на каждом миллиметре шкалы, которую я начал медленно прощупывать.
Открытым текстом вопило уже несколько станций.
Кто-то просил «Луч», Россихина повторить; кто-то, срываясь, стучал: «Правда, правда! Конец! Конец! Москва — в Берлине! Братцы-славяне, война издохла! Живем!» Точки и тире начали звучать уже просто немецкими, английскими и французскими словами. Вплетался международный радиожаргон. Какой-то Вася передавал им поцелуи какой-то Люсе. И, обомлев, я понял, что это правда! Я сдернул наушники — и все исчезло. Тишина. Лишь с кладбища долетал птичий щебет. Я приложил один наушник, и вновь — шквальный перекрик морзянки. И все — об одном и том же. Ударом ноги распахнув дверь, я закричал. Я кричал так сильно, что закашлялся. Я не помню, что кричал. Но никто меня не услышал. Выдернув ракетницу из ящика, я выпустил одну за другой — без разбора — белую и красную и опять белую ракеты.
И вот распахнулась дверь дома. И бегут уже ко мне, размахивая руками, Серега Шишлов, помпотех Шадрин, начальник радиостанции очкастый Гурвич. Он в брюках, сапогах и нательной рубахе. Это его я утром сменил. Перепрыгивает яму командир радиовзвода лейтенант Ляхов — высокий, лысый. Он почему-то с планшеткой. Со стороны кухни несется босая Таська. Ее белый халат как парус. Чуть отстав — старшина Бурыкин, загоняя в автомат диск. Там дальше — еще шоферы, телефонисты, хозвзводники.
А я начинаю хохотать, видя их растерянные, непонимающие, возмущенные, соображающие глаза. И я кричу:
— Это правда! Война кончилась! Слушайте! — Хватаю наушники и, стоя в дверях машины, высоко поднимаю их на длинном шнуре над головами людей.
Но никто, конечно, ничего не слышит. И тогда, распахнув рундучок, где лежат всякие запасные детали, обдирая пальцы, я вырываю из этого хлама огромный трофейный динамик фирмы «Мэндэ». Втыкаю его вилку в приемник. И из его глотки вылетает такой силы рев, треск и визг, что все шарахаются.
Это занудливый Бурыкин, дай бог ему здоровья, заставил нас «на всякий случай» прихватить немецкий динамик. Но то, что из него грохочет, далеко оглушая лес, холмы, вылощенную солнцем и промытую зелень, распугав над кладбищем суетливое воронье, — то, что из него вырывается к людям и в небо, понятно лишь троим из десятков, столпившихся у машин. Я вижу это по странным глазам, сосредоточенным и диковатым: мозг в эти минуты читает захлебывающиеся, обгоняющие друг друга, сталкивающиеся точки и тире. Эти трое — я, близорукий Гурвич в исподней рубахе и худой лысый Ляхов с планшеткой под мышкой.
Остальные блуждают взглядами по нашим лицам, словно глухонемые, старающиеся по шевелению чужих губ постичь суть разговора.
Вдруг, словно по команде, Гурвич снимает очки, а Ляхов швыряет планшетку и, выхватив у Бурыкина автомат, поднимает его одной рукой и дает долгую очередь. Я уже слышу, как, всхлипывая, смеется Таська. Она смеется, а из глаз текут слезы. Я вижу, как побледнел Бурыкин, как Серега снял пилотку и вытирает ею вспотевший высокий лоб, как что-то бормочет, дрожа губами, помпотех Шадрин — философ с одной непонятной для меня всегда фразой: «Страшнее Гитлера поп, который не верит в бога, а службу правит».
Я вижу всех остальных.
Я вижу, как, всполошенные ревом динамика и стрельбой, крестьяне ближних хуторов бегут сюда, где люди в сапогах и обмотках смеются, слизывая языком с губ своих слезы, тискают друг друга и, схватившись в объятия, целуются. А к ним и над ними, в леса и поля вызревшего мая летят точки и тире, тире и точки, которые я поймал в мое дежурство.
Возвращение
Сдвинув дверь, взвизгнувшую ржавым роликом, я словно снял четвертую стену поскрипывающей, раздерганной теплушки. После ночной духоты, круто уплотненной махорочным дымом, с запахами кирзы, мужского потного тела, легко и сытно вдыхается встречный воздух. Раздувая ноздри, втягиваю мирные и почти забытые мазутные запахи железной дороги, идущие от нагретых ранним солнцем шпал и потеплевшей щебенки по краям колеи.
Эшелон длинный. Паровоз едва тащит его, обреченно пыхтя на подъемах, выталкивая из нутра черный дым, медленно и неохотно гибнущий в июньском небе. Бессильный растворить в себе синеву, он цепляется за телеграфные провода.
Я сижу в бриджах, в пожелтевшей от многих стирок нательной рубахе, свесив с вагона босые ноги. Поезд идет медленно, и я вижу каждую травинку внизу, каждое темное пятнышко мазута, вытекшего из буксы. Осторожный ветерок залезает за пазуху, рубаха то надувается, то опадает, словно кто-то живой дышит там. Боже, сколько людей до меня носило эту рубаху! Какие они и где они? Но этого мне никогда не узнать. Теперь я последний и, видимо, вечный ее владелец; с прочим бельем мне вручила ее дородная тетя Фима — кастелянша госпиталя. Было это две недели назад.
Война окончилась, и я еду домой. Обидно только, что не из полка, а из госпиталя, куда я попал в конце апреля. Рука еще болит и плохо разгибается в локте. Врачи сказали, что повреждена суставная сумка, пообещали, что со временем все наладится. Закатываю рукав и смотрю на сизый, бугром, шрам с гладкой пленкой молодой кожицы… Повязку мне велели снять. «Грей на солнышке», — сказала сестра из перевязочной.
В истории моего ранения нет ничего необычного. И сейчас я вспоминаю ее, потому что в госпитале другими было рассказано столько историй похлестче моей, что мне не хотелось высовываться со своими россказнями, да и лень было все это припоминать. Я наслаждался чистой постелью, сном, удивлялся существованию тарелки с синим штампом «Нарпит. Столовая ИТР».
Под вагонами что-то звякает. Оно звякало всю ночь. Но тогда я этого не замечал. Пригретый солнцем, я лениво смотрю в медленно меняющуюся спокойную иззелененную даль, вращающуюся, как на оси, вокруг нашего эшелона. Тихие перелески, незатоптанные луга, поля, словно простроченные ровными зелеными стежками. Людей не видать. За все время дороги я видел покуда лишь две не сгоревших хаты и козу, безразлично жевавшую у кладки через болотце.
— Эй, Аника-воин! Смотри, задремлешь — вывалишься. Ноги уйми, под колеса угораздишь! — Это меня окликает Емельян Петрович, тоже демобилизованный солдат, сосед по вагону. Он старше меня вдвое, хитровато насмешлив и пристален, все время меня поучает.
После Ольшевичей в теплушке нас осталось трое.
На рассвете почти все сошли на пересадку: кому куда — страна большая. А мы втроем едем дальше: я, он и хмурый танкист по фамилии Валионта, полсуток пробывший в плену. Ночью он заманил в подвал, где сидел, часового из фольксдойче, оглушил его куском угля и бежал. Его не успели ни обыскать, ни отобрать награды — четыре ордена и три медали, видимо, решили отложить это до утра, до первого допроса. Говорит Валионта мало, все ходит по теплушке, перезвонно потряхивая медалями, курит. Иногда только, шумно сплюнув на пол окурок и растерев его сапогом, обратится к Емельяну Петровичу:
— Слышь, ездовой, пошуруй у себя в сундучке, может, там чего выпить есть. — Он все время называет Емельяна Петровича «ездовым», а его красный трофейный чемодан на ремнях — «сундучком».
— Не ездовой я. Сказано тебе об этом было. Второй номер я в пулеметном расчете. А выпить — так мне и дома есть с кем.
На этом разговор кончается, и Валионта молча уходит на свое место на нарах. Одну половину вагона занимают какие-то ящики, обитые полосовым железом, другую — жилая наша часть: настил досок, всплошную покрытых брезентом, под ним свежее сено.
Валионта говорит, что демобилизовали его несправедливо, что в плену он был всего полсуток, даже убил часового, сохранил все свои документы и награды, что поедет он в Москву жаловаться.
— Я танкист, понимаешь? Это моя работа. Вот он, — Валионта кивает на Емельяна Петровича, — будет ложки вырезать да лукошки плести. Ты-то учиться пойдешь? — спрашивает он. Я киваю, хотя учиться я еще не собирался и вообще не думал, чем займусь после войны. — А я танкист. Человек военный. Понимаешь? Это моя работа, — твердит Валионта. Он достает из-за голенища самодельную алюминиевую ложку, черенок ее заканчивается фигуркой пышногрудой русалки, и начинает натирать ложку кусочком мелкого наждака, хранящегося у него в кармане гимнастерки..
Я соврал ему, когда сказал, что демобилизовали меня, потому что мать стара и болеет, а я один сын. Мне просто было стыдно, что здоровый парень, а в двадцать два года уже получил документы на инвалидность. Справка эта лежала в бумажнике, сшитом мною из куска дерматина, срезанного с сиденья подбитого немецкого дизеля.
Поезд пошел еще медленней, загибая на колее так круто, что из нашего вагона в центре состава я вижу далеко впереди паровоз, остервенело, но как бы вхолостую вертящий колесами, и позади — последние три платформы, а на них самолеты без крыльев.
Наконец у семафора мы совсем остановились.
Я натянул гимнастерку, спрыгнул, сбежал с откоса и повалился в чистую траву У моего лица, как подсолнух, вытянулась ромашка, а у одуванчика, видимо сломленного мною, из лопнувшего стебля сочилось белое молочко. Я помнил, что оно горькое.
Ни о чем не думалось, ничего не надо было делать. Можно было двигаться, а можно было и не шевелиться — все по моему желанию. Война кончилась. Поезд меня вез домой. В вагоне у меня был верный ночлег. В вещмешке — жратва на всю дорогу. Денег, правда, не было. Но я отвык от того, что они нужны, платить было не за что: я был обут, одет, по-солдатски сыт разными концентратами. И от такого состояния бестревожности меня занимал лишь тихий солнечный мир, зеленый от травы и соснового леса, начинавшегося на желтой лысине песчаного бугра; белый, словно замелованный ломтик древней луны; стоявший далеко черный паровоз с красными колесами, как в роздых сопевший перед закрытым семафором.
— Ну, чего грустишь? — услышал я голос бесшумно подошедшего Емельяна Петровича. Он присел на корточки, видимо боясь испачкать травой новые армейские штаны. Дома-то знают, что вертаешься?
— Нет, не успел сообщить. Да и не нужно. Так приятней, сюрприз. — Я сел напротив него.
— Тоже правильно, — сказал он. — Что ж, едешь не как-нибудь — героем! Вон! — Словно, взвешивая, он взял на ладонь две мои медали «За отвагу». — Так что не грусти. Немки небось косяком за тобой играючи ходили? В войну все мы до востребования живем.
Я пожал плечами.
— Неужто промахнулся? — Он засмеялся, и его рыжие усы подковой вокруг рта раздвинулись над красной пухловатой губой. — Да ты не стесняйся! — Он задрал голову, провожая желтоватыми глазами юрких стрижей, и я увидел напрягшуюся мускулистую шею в лабиринтах мелких морщин, напомнивших мне запекшийся в зное грунт потрескавшейся, уезженной сельской дороги. — А чего? — продолжал он. — Харч у нас напоследок пошел ладный: и каша гречаная тебе, и сальце. Сахару вволю, винишко тоже бывало. А бабы в этом деле толк понимают. Видят — раз мужик харчуется справно, значит, кровь в ем кверху идет. Эх, ты! Верность небось блюдешь. А я понимаю дело так: коль ты на чужую бабу вкус имеешь, так и твою в одночасье кто-то глазом гладит. Эх-ха! — Он вздохнул, повел по усам горстью, как снял с нее улыбку, посерьезнел — Мне в августе сорок восемь стукнет, а все начинай сначала Все дочиста сожгли. Кто я сейчас? Уже не хозяин, а погорелец.
И я вспомнил, что перед сном он каждый раз раскрывал чемодан и под перестук колес: вопрос — ответ… вопрос — ответ… перекладывал с места на место его содержимое. А были там — это мы уже знали — наборы столярных и слесарных инструментов: долотца разного калибра, дрель с целым выводком сверл, ручные тисочки, фуганок с красно-голубым клеймом фирмы «Штрезер-Верке». И все смазанное маслом, аккуратно спеленато тонкой шуршащей бумагой.
Емельян Петрович вдруг ложится рядом со мной, устроив тяжелую согнутую руку на лбу, будто защищаясь от чего-то. Я думаю, что все сказанное им ко мне не имеет никакого отношения. Во-первых, я не женат, во-вторых, у меня нет невесты. Я начинаю вспоминать девчонок из нашего класса, но все как-то путается у меня в голове: их лица, фигуры, характеры. О людях я точнее вспоминаю, когда вижу принадлежавшие им вещи, потому что с этими предметами связаны какие-то конкретные случаи, а иногда и события. Но сейчас, разглядывая в памяти нашу квартиру, я вижу лишь свои авиамодели на полочке в чулане, папины счеты на гвоздике в кухне; вижу мамино пианино, на нем — толстые нотные книги, в черном тяжелом переплете «Школа Бейера». Часть из них мама подкладывала на стул, когда приходили ее ученики из малышей. Я вижу, как всегда перед уроком мама легким перебором пальцев пробегала по клавишам, словно пробуждая их к работе. В одной из басовых октав на «ля» не было белой косточки, клавиша чернела засохшим клеем. Эту косточку случайно отбила Лидуся, уронив подсвечник. Она училась на скрипке, а мама ей аккомпанировала…
Вот разве что Лидуся…
Мать заставляла меня провожать Лидусю после вечерних уроков музыки. Мы шли через двор, на нас смотрели.
— Почему ты стесняешься? — спрашивала Лидуся. — Ты же знаешь, что я живу далеко. — В одной руке она несла футляр со скрипкой, в другой — черную нотную папку на витом шелковом шнуре На папке было оттиснуто крутолобое лицо Бетховена.
— Я не стесняюсь. Идем быстрей, — ворчал я, сворачивая к пролому в заборе.
— Нет, пойдем по улице. Я не люблю проходных дворов. Там грязно, — возражала Лидуся и выпрямляла свою тонкую высокую шею гордо и независимо.
Это было хуже всего: мне предстояло переться с девчонкой минут пятнадцать через всю нашу улицу и соседние, где меня знали все мальчишки.
— Возьми, пожалуйста, скрипку. Рука устала, — сказала Лидуся.
Я ужаснулся. Я и так ненавидел скрипку за визгливое всхлипывание, а теперь должен был тащиться с этим черным футляром, как тихоня, маменькин сынок, на виду у всех. Я мог, конечно, отказаться, но Лидуся сказала бы свое: «Почему ты стесняешься?» — словно уличила бы во лжи.
Никогда не заходил я в комнату, когда Лидуся играла под аккомпанемент матери. Вся польза от ее игры для меня содержалась в кусочках канифоли, которые Лидуся дарила, когда я собирался что-нибудь паять.
Лишь однажды я видел, как она играла. Моя кровать стояла в той комнате, где и пианино. Я лежал тогда с опухшими гландами, с вонючим, из денатурата, компрессом. А Лидуся играла. Ей не давалась какая-то закрученная фраза, со всеми этими немыслимыми бемолями и диезами. Она повторяла ее раз десять, упрямо упершись острым подбородком в скрипку, выгнув тоненькую шею. «Хватит, Лидуся, ты устала», — говорила ей моя мать. «Нет, я еще попробую», — нервно возражала она и пробовала до тех пор, пока не получалось. «Кому она хочет доказать?» — думал я, глядя на ее наклоненное лицо — узкое, очень смуглое, с одной ровной линией лба и носа, с черной, как у индуски, точечкой родинки меж высоких, легких бровей. Лидуся была худа, я видел ее острые, выпиравшие под сарафаном лопатки, две черные косы на спине. «И охота ей так мучиться с этой музыкой?» — рассуждал я, глядя на завлажневшую кожу над ее верхней губой, такой вырисованной, как на зубной пасте «Хлородонт», которую я очень любил.
— Удивительная девочка. В ней уже — характер, какая-то сила преодоления. Неприятие условностей, мешающих проявлению естественных чувств и поступков. В себе и в других. И это в ее-то возрасте! — так однажды моя мать сказала ее отцу.
Дом Лидуси стоял за палисадником, последний у края тут же начинавшейся степи с зовущим запахом полыни, платиново-белой, когда задувал ветерок и клонил ее по всему простору в одну сторону.
— Ты можешь уже идти, — сказала Лидуся, забирая у меня скрипку. — Спасибо.
Но мне показалось, что спешить уже некуда, и я был не прочь постоять и поболтать, если бы не скрипка, которая тут, на окраине, особенно мозолила глаза: на нас зыркали, лузгая семечки, молодые тетки на лавочке и здоровенные парни в сапогах гармошкой, которые здесь называли «прохарями». И оттуда долетало слово «интеллигенция» и хохот.
— Слушай, отнеси скрипку и выходи, — сказал я.
— Ты опять стесняешься, — серьезно ответила Лидуся. — Ты все время стесняешься нормальных вещей. Разве оттого, что они, — она кивнула на тех, лузгавших семечки, — не понимают музыку, мы с тобой становимся хуже? Когда свершится мировая революция и люди будут жить мирно и дружно, музыка особенно нужна будет, — очень авторитетно подчеркнула Лидуся. — И возможно, именно скрипка. Понимаешь, людям очень нужна нежность.
Я согласился, потому что речь шла о мировой революции, хотя подумал, что все равно я вряд ли к этому времени научусь понимать музыку настолько, чтобы полюбить скрипку. «Людям очень нужна нежность». Над этими ее словами, может, и следовало подумать, но какое отношение они имеют ко мне, сдавшему на значок ГТО?
Скрипку Лидуся все же отнесла. И мы пошли в степь. Где-то в стороне закипала гроза, тучи набрякли черным и как перестоявшееся тесто, вываливались одна за другой. Но ближе городу небо было чистым, лилово-синим в редком набрызге первых звезд.
Мы сидели на сухом кургане, поросшем чебрецом.
— Значит, ты хочешь стать музыкантшей? — спросил я.
— Я поступлю в консерваторию. А ты хочешь стать военным?
— Да, — уверенно ответил я. — Танкистом, летчиком или моряком.
— Так нельзя. Надо выбрать что-то одно, — возразила Лидуся. — Думаю, надо идти в летчики. Характеристику тебе дадим хорошую. Мы в комитете комсомола уже обсуждали тебя. Был представитель из аэроклуба. Если бы еще твоя модель заняла первое место, тогда совсем здорово. Я сказала, что ты хороший товарищ… Смотри, у тебя подметка отрывается.
Я подумал, что отец даст нагоняй, потому что сандали были новые. Теперь опять мяч запрут на две недели, выпустят воздух и запрут.
— А твоя мама сказала, что тебя не примут в Красную Армию, потому что ты плохо ешь, выплевываешь пенку, когда пьешь молоко, а какао выливаешь в помойное ведро. Это правда? — спросила вдруг Лидуся.
— В армии надо есть кашу и борщ, — пришлось возразить мне. — Какао тут ни при чем!..
Еще много раз провожал я Лидусю домой. И всегда затем мы сидели в степи. Больше никого из девчонок я не провожал и ни с кем из них не ходил в степь Только с Лиду сей.
В армию меня все-таки приняли. Шел ноябрь 1942 года.
Я стоял голым в очереди с другими в большой холодной комнате, где панели были наведены серой масляной краской, как в нашей городской бане. За столами, сдвинутыми в один ряд, сидели врачи и командиры из военкомата. Они о чем-то переговаривались по-деловому тихо, а мне казалось, что они говорят о чем-то тайном. И я удивлялся, потому что был добровольцем — что же от меня скрывать. Потом они что-то писали в большие карточки из плотной бумаги и раскладывали их стопками на столе.
Пока двигалась очередь, чтобы отвлечься от противного состояния стыдливой беспомощности из-за наготы своей, я смотрел в окно, за которым виднелся двор военкомата. Шел скучный, мокрый снег. Двор был огромен, со спортивными сооружениями. Снег опускался медленно, словно выбирал место посуше, но все равно падал в растоптанную черную грязь, смешанную с соломой и навозом.
Заявление с просьбой послать в авиацию мы с Лидусей сочиняли вдвоем. И когда я написал фразу «обязуюсь честно выполнять любые обязанности», Лидуся посоветовала вычеркнуть ее. «Это само собой разумеется, — сказала она, — раз ты идешь добровольцем».
Кто-то дышал мне в затылок. Я обернулся. Высокий зобатый парень подмигнул:
— Ты не дрожи, оно не так холодно. Просто непривычно, что голый стоишь. Дело нормальное. Человеку редко выпадает голым среди людей побывать. Не жалей, может, больше не придется. Так что не стесняйся!..
Я отвернулся и стал разглядывать весы, высокую рейку с облупившейся краской и со шкалой, по которой отмечали рост; кушетку, покрытую розовой клеенкой. Представил себе, как будет холодить она, если придется лечь, и гусиная кожа пошла по рукам и бедрам.
Очередь двигалась. И приближалось самое страшное: за столом я заметил молоденькую красивую врачиху с серебряным молоточком в руке. Это была сестра Вити Бирюкова, приятеля из Осоавиахима. За год до войны она окончила мединститут. Глаза наши встретились, и я отвернулся и увидел плакат, призывавший вступать в доноры. Мне хотелось содрать этот плакат и завернуться в него, как в простыню…
А потом еще раз был квадратный двор военкомата, когда все мы стояли в строю с мешками за спиной, но еще в гражданской одежде. Нас рассчитали по четыре, выстроили в каре, и в центре его возвышался военный оркестр. Было весело и грустно. Грустно оттого, что как-то сиротливо кучкой жались у ворот родители.
Оркестр был отменный. Крепкие красноармейцы в шинелях, сияющие трубы, тугой ухавший барабан и чистый медный звон тарелок. Их было четырнадцать человек, оркестрантов, которые иногда по воскресеньям играли в городском саду имени Луначарского. Пятнадцатым был юный капельмейстер в очках. Он то и дело двумя пальцами левой руки изящно снимал их, а правой дирижировал. Музыканты играли слаженно и красиво, играли долго — вальсы, марши и бодрые песни. Было как на концерте. А потом, когда строй двинулся на вокзал, оркестр вышагивал впереди нас, и торжественная его музыка словно повисла над всем городом. От нее перепуганно над тополями мельтешили черные галки, похожие на множество черных шапок, которые кто-то приветственно все время подбрасывал вверх. Выстроившиеся вдоль тротуаров горожане отыскивали взглядами в проходившей колонне кого-то нужного, своего. Шеренги шли под строго и четко отмеренный оркестром ритм, мы старались показать такую же строевую удаль, что и музыканты.
На вокзале я сказал Лидусе, кивнув на оркестр:
— Тебе бы не на скрипке учиться, а на трубе. Это — я понимаю — музыка!
Лидуся не обиделась. Она только сказала:
— Ты пиши мне. Не стесняйся. — И тут же начала смотреть по сторонам, вертя своей худенькой высокой шеей.
Я удивился: о чем я буду писать ей? Я никому еще не писал писем, потому что никуда из дома не уезжал.
А музыка гремела, густая, многоголосая, заполнявшая собою все: и высоту над зданием вокзала, и каждую щель меж телами плотно стоявших людей, и темнеющую глубину еще пустых теплушек с откатанными до предела дверями.
С отлетевшим стоном тенькнули семафорные провода, и Емельян Петрович сказал:
— Вставай, однако. Сейчас поедем. Семафор открыли.
Я лениво пошел к вагону, озираясь назад, на то место, где мы только что лежали в тишине. Чем ближе к насыпи, тем сильнее слышался гуд в черных проводах на блестящих ложбинкой роликах.
Валионта мрачно курил, далеко сплевывая слюну, желтую от размякшей во рту самокрутки.
И снова мы поехали. Валионта не разговаривал с Емельяном Петровичем. Мне была непонятна его неприязнь к нему. А Емельян Петрович, вроде ничего не замечая, поучал танкиста:
— Ты бы последние штаны поберег. Руки после сала об них вытираешь. Вещь беречь надо, — и трогал горстью свои усы.
Валионта тихо огрызался:
— Тебе-то что?! Ты береги свои. Может, перед господом богом в них еще предстанешь.
Чего они грызутся? Иногда меня это злило, и хотелось матернуть обоих. Война кончилась, остались живы, где-то расстанутся навсегда. Какого же черта не поделили?!
Под вечер мы остановились на станции Городищево. Емельян Петрович порылся в чемодане, вытащил большую коробку, набитую черными пакетиками, протянул три Валионте:
— На-ка возьми. Это иголки. Швейные. Сходи, может, променяешь на литровочку вина. Товар этот нынче спросный. Жинка писала, вези, мол, иголок поболее. А мы тут ужин сообразим.
Валионта потер стриженую голову, натянул свой танкистский шлем, взял пакетики и ушел. Его долго не было, и я отправился на станционный базар на поиски. Рядом с нашим эшелоном стоял порожняком санитарный поезд. У вагонов вертелись щеголеватые врачи и медсестры. Веселые и разбитные, они грызли свежие огурцы, курили хорошие папиросы из красивых коробок и вели разговоры не о войне, а о каких то не очень понятных мне делах мирной тыловой жизни. Я с интересом толкался среди них, никто не обращал на меня внимания. И тут возле последнего вагона я увидел знакомую медсестру из госпиталя, где я лежал в сорок третьем после контузии.
— Здравствуй, сестричка, — обрадованно сказал я ей.
— Здравствуй, — ответила она.
— Смотри, на повышение пошла — уже сержант. Давай, давай! — сказал я ей. — А я уже домой. Отвоевался. Ты теперь здесь работаешь? — кивнул я на санитарный поезд.
Ее подружки рассмеялись.
— Да он просто спирту хочет, Аня, — сказала одна. — Не видишь, что ли?
— Ты хочешь спирту? — спросила Аня.
— Дай ему наркомовскую дозу, Анка, — вмешался краснорожий старшина с медалью «За боевые заслуги» на новенькой диагоналевой гимнастерке.
— А тебе какое дело? — сощурился я на старшину. — Валяй в свою каптерку портянки считать.
Мне не хотелось объяснять им всем, что просто обрадовался знакомому человеку. Я махнул рукой и отошел. Я слышал, как Аня сказала своим подружкам: «Наверное, обознался». А я не обознался, я даже знал, что она родом из Чимкента. Хотел крикнуть об этом ей, но эшелон наш тронулся, бежать искать Валионту было поздно, и я двинулся к своему вагону.
Валионты не было. На нарах, подрагивая, сиротливо валялся его вещмешок. Емельян Петрович пересчитывал пакетики с иголками.
— Зря товар дал. Надо бы проверить, что у него в сидоре. Может, документы какие, так начальнику эшелона сдадим, — и ожидающе посмотрел на меня.
— Чего рыться в чужом? На станции коменданту скинем. Он обязательно туда обратится. Куда же еще? — возразил я.
Всю ночь нас везли без остановки. Валионта догнал эшелон на разъезде. Приехал он в паровозной будке, на спарке. Влез в вагон как ни в чем не бывало, руки и лицо в угольной пыли, тонкие губы запеклись, на скулах худого лица черные подтеки от брызг или от пара. Содрав со стриженой головы шлем, швырнул его на нары, вытащил из карманов две бутылки розоватого самогона.
— На, слышь, возьми, — он протянул бутылку Емельяну Петровичу. — Вижу, всю ночь не спал, убытки итожил. — Танкист разделся догола и выскочил из вагона. — Эй, малый, ну-ка плесни, — крикнул Валионта кочегару на тендере, куда из конусообразной горловины водопровода била прямая струя. Кочегар засмеялся и отвел трубу на голого Валионту. Вода тяжело ударила его с высоты, разбилась о спину, а он, пританцовывая и корчась, тер голову, грудь, ноги. Затем выстирал брюки и гимнастерку и в одних кальсонах блаженно растянулся на нарах, слизывая языком капли, стекавшие с бровей и ресниц.
Мы сели завтракать. Самогон был вонюч.
— Что ж ты, брат, за хороший товар первака не взял? — спросил Емельян Петрович, макая хлеб в кружку с самогоном.
— Слушай, ездовой, научился бы ты дулю складывать ногами, — Валионта пошевелил пальцами на ногах, будто желая продемонстрировать, как это делается. — Знаешь, каким богатым стал бы! На руке скрутишь, подашь человеку, а он тоже так умеет. И тебе в ответ — дулю. А так — всю жизнь сверху будешь. Учти это. А иголки твои я бабам на базаре отдал за так. Самогонку на сапоги свои сменял.
Только сейчас я заметил, что стоят в углу не хромовые сапоги Валионты, а старые, пролысевшие на сгибах, кирзовые.
— Ну, и дурак, — огорчился Емельян Петрович. — Я б тебе за эти сапоги поболе дал. А за так в жизни ничего не прибудет.
Вскоре бутылки опустели. Емельян Петрович заворачивал в белые тряпочки и мешочки остатки завтрака. Валионта, услаждаясь, курил лежа, раскинув руки.
— Съезжу домой, недельку-другую отгуляю, а там — в столицу добиваться правды. Так, мол и так. Эх, и дадут мне новую' тридцатьчетверку! — подобрев, мечтал он. — Думаешь, не поверят?
— Держи. карман шире, — усмехнулся Емельян Петрович. — Война кончилась. Теперь вера по другому счету пойдет.
— Не балабонь. Не с тобой речь веду. — Валионта повернулся в мою сторону: — Мне не такое доверяли. Десант наш в тылу у фрицев выручать ходил. Двумя машинами двинулись, а такого наворотили, как будто батальон прошел… Должны дать! Как думаешь? Я же танкист, понимаешь.
— Конечно, дадут! — сказал я. Мне очень хотелось, чтобы ему дали новый танк.
— На кой он тебе, танк этот? — удивлялся Емельян Петрович, посмеивался и качал головой. — Кончилась война. Теперь мы, цивильные, в разговор вступаем. Не слушай ты его, — обратился ко мне. — Жизнь по другому кругу пойдет. Поначалу еще туда-сюда позвенишь медалями, потом поутихнешь, приспособят тебя. А ты не ершись, сам подстраивайся потихоньку. Глядишь, и в гору пошел. Не стесняйся!
— «Наши пошли в гору», — сказал цыган, увидя повешенного брата. — Валионта сел. — Что ты понимаешь, ездовой?! Ты хоть раз в танке сидел?! Тебя качает, ты смотришь в триплекс, а на тебя «пантера» прет. А ты ей в дых болванкой — р-р-р-аз! Зажигательным — два! Горит, сволочь!.. Вот что, друг, — он подобрал коленки к подбородку, — главное в оставшейся жизни — помни: кем был, откуда начал, докудова дошел. Сперва пехом, потом на колесах. Будешь подстраиваться — сам в дых схлопочешь. Да при этом еще и улыбаться научат. А ты помни себя. И не стесняйся!..
«Не стесняйся!» Сколько раз обращались ко мне с этой фразой! И Лидуся. И зобатый парень, тогда в военкомате, когда мы стояли голые. А теперь ее говорят мне Емельян Петрович и Валионта. Каждый вкладывал в нее свой смысл. Может, так и создается путаница, усложняются отношения, люди перестают понимать друг друга, судят об одном и том же так по-разному, что со стороны иногда просто смешно…
Захмелев, я начал дремать, решив, что со всем этим надо разобраться как следует. Мой дом был уже близок. А Германия осталась теперь где-то далеко. То, что горело в красном дыму, накалившемся от пламени, искр и горячего пепла, то уже догорело. На домах, наверное, остались наши надписи: штыком, гвоздем, куском древесного угля с их же пепелищ, — надписи, объяснявшие, зачем и почему мы пришли сюда. Помню, была там одна надпись с грамматической ошибкой, за которую в седьмом классе я получил двойку. Но какое значение имела эта ошибка в слове, нацарапанном солдатом в дни заканчивавшейся войны?!
Поезд миновал последний станционный семафор. Уже я видел водокачку и градирни городской электростанции, над ними висел пар. Показались высокие тополя, серебряно игравшие плотными листьями. И снова — тот перрон, с которого я уехал так давно, так давно, как будто это было в другой жизни.
В нашем городе станция считалась узловой. Здесь ссаживалось на пересадки почти полэшелона. И, видимо, поэтому вокзал был торжественно украшен транспарантами. На одном красном полотнище написано: «С возвращением, дорогие победители! Слава ваша всегда с вами!»
Наконец остановились. Я соскочил с вагона, закинул вещмешок на спину и, перепрыгивая через рельсы, проталкиваясь меж солдат, густо сыпанувших к перрону, заспешил к выходу. Я помнил: там, за побеленным известкой домиком уборной, за кубовой с надписью «кипяток», — служебная калитка, ведущая в общежитие проводников, и привокзальная площадь.
А плотная толпа, вывалившаяся из теплушек, торопилась, раскачивалась и, спотыкаясь, перла к перрону. Гимнастерки, скатки, вещмешки, пилотки, фуражки. Все рода войск.
И вдруг со стороны перрона, сквозь возбужденный галдеж, гул, крики, смех, сопение, расплывавшиеся над головами людей, я услышал музыку. Марш. Играл оркестр, и я обрадовался, вспомнив тот красивый военный оркестр, провожавший нас на фронт. И тогда, свернув, я тоже двинулся к перрону вместе со всеми: мне захотелось снова увидеть этот оркестр, молоденького дирижера, изящно двумя пальцами левой руки снимавшего очки. Но чем ближе подходил я и чем громче звучала музыка, тем больше мне казалось, что в игре оркестра нет той густоты, инструментовой насыщенности и слаженности: как-то опаздывая, ухал барабан, дребезжали тарелки, а труба, беря высокую ноту, на самом верху вдруг сипела, словно сквозь звук просачивался воздух. И еще странная вещь: в разреженных звуках медного марша прослушивался голос скрипки, медленный и нежный, несмотря на то что исполнялся марш.
Толпа остановилась. Дальше напирать было некуда: впереди — здание вокзала и оркестр.
Я попытался продраться еще хоть на метр, все время вслушиваясь в приятный голос скрипки, выделявшей свою мелодию для каждого порознь, но мне так сдавили больную руку, что грудь и живот покрылись противно теплым потом. Удалось лишь несколько раз приподняться на носках. И тогда я увидел оркестр. Странный оркестр: трубач в сером коверкотовом костюме и в белой парусиновой фуражке — старик из ресторана, я помнил его; три пацана из ФЗУ в черной форме, — двое дули на альтах, третий на басе; наш пионервожатый Костя — в тельняшке под пиджаком, один глаз перевязан черной лентой — бил одной рукой в залатанный барабан, а другой — по тарелкам, укрепленным сверху.
И — Лидуся! Со скрипкой!
Я дернулся назад, выдирая из толпы свой мешок, проскочил бегом мимо кубовой в служебную калитку и вылетел на перрон уже из дверей вокзала. Теперь я стоял в пяти шагах от оркестра, сбоку. Я видел Ли- дусю. Она была такая же худенькая. Из ворота синей, не по размеру просторной спецовки возвышалась ее тонкая шея. То же смуглое лицо, узкое, с точечкой родинки меж легких и высоких бровей, та же прямая, единая линия лба и носа. Кроме спецовки что-то еще меняло ее облик, делало старше. И я понял: косы. Вернее, их отсутствие. Она была подстрижена. Гладко, без завитушек и коротко: волосы кончались на уровне смуглых пухловатых мочек.
Постепенно толпа стала редеть. Кто куда: к билетным кассам, в буфет, на базар — на площадь.
И тогда Лидуся увидела меня и опустила смычок. И мне показалось, что оттого, что умолкла скрипка, оркестр заиграл скучнее и вразнобой.
— Здравствуй. Ты сейчас приехал? Этим эшелоном? — спросила Лидуся, когда я подошел и взял ее за тоненькое запястье руки, державшей смычок.
— Ну да! — Я улыбнулся, показывая ей вещмешок. — Здравствуй, Лидуся. Видишь, я вернулся. Как ты тут? Играешь? — Я кивнул на музыкантов. — Помнишь тот оркестр, когда мы уезжали на фронт? Молоденький дирижер в очках…
— Он погиб. Его мама приезжала сюда. Тут оставались какие-то его ноты. Он, оказывается, музыку сочинял… Три года тебя не было…
Мы посмотрели друг на друга, Лидуся что-то торопливо ловила в моем лице, словно боясь, что такая возможность коротка и сейчас кончится вовсе вместе с этой торжественной, суетной и, может быть, единственной минутой встречи после такого возвращения. Мне было приятно, что она так смотрит.
— Почему же ты не писал? Ты стеснялся? — спросила Лидуся.
— О чем писать? Война. — Я засмеялся: неужели она подумала, что я все еще не разучился стесняться. — Ты поступила в консерваторию?
— Нет. Работаю табельщицей на швейной. Папа погиб. Мы остались с мамой. Я не могла ее бросить и уехать.
Я взял у нее скрипку, уложил в футляр. Я видел, что Лидуся наблюдает, как ловко это у меня получается. Вещмешок по-походному я надел на лямки, и мы пошли через опустевший перрон к выходу в город. Я улыбнулся, потому что какой-то солдат сказал другому:
— Видал вояку со скрипкой? Лучшего трофея не нашел.
Чудак он…
Конь
Первый апрельский дождь плотно осадил в полях снег, смыл его голубизну, и по черствой шуршащей корочке пошли серые тени. На дороге снег и вовсе был истолчен в бурую кашицу, заплывшую в разъезженные колей.
В такую погоду топал я свои пять километров в батальон майора Суджакова. Полуторку я заметил, когда тракт, уведя меня на холм, круто скользнул вниз. Здесь на холме, где волглый ветер затеребил полы шинели, пустовала площадка с тремя окопчиками, валялись, ржавея, спирали «бруно», цинки от патронов и пропитанные смолой упаковочные картонки. Все это напомнило мне вдруг, что фронт близко, что все это — уже настоящее, а не учебное, как на училищном полигоне. А внизу у обочины стояла машина, из открытого радиатора валил пар. Шофер набирал воду из воронки самодельным ведром — белой высокой банкой от сгущенного молока с куском телефонного кабеля вместо дужки.
— Подвезете? — спросил я.
Шофер оглядел мое новенькое обмундирование, незатасканный вещмешок и равнодушно спросил:
— Далеко?
— В хозяйство Суджакова.
— Садитесь.
Ехали медленно. В коробке скоростей что-то металлически хрустело.
— Разве это дорога?! Мать ее так! — плюнул шофер за окно. — Из госпиталя?
— Нет, только из училища, — смутясь, ответил я. — Закуривайте. — Я достал пачку «Казбека», полученную перед отправкой на фронт, прорезал ногтем бумажную оклейку.
Он взял папиросу двумя пальцами, осторожно, чтоб не нарушить весь ряд, подул в нее легонько, фигурно смял мундштук и закурил.
— Хорошо! — улыбнулся шофер. — С филичевым табачком сравнить — будет слабовато, правда, но для наслаждения хорошо. Ее бы после завтрака на закуску, — усмехнулся он. — Да поди угадай, что раньше: до завтрака доживешь иль осколок в брюхо схлопочешь. Так что экономить ни к чему. — Он повернул ко мне лицо — темное, с глазами, блестевшими слезой от долгого бессонья. Затем умолк, круто, обеими руками вперехват выворачивая пощербленную баранку.
Миновали сожженную деревеньку. Черные печи, пролысины черной земли, рыжая щетина прошлогодней травы.
Водитель повел короткой шеей:
— Вот она, война, как управилась тут! В ней все горит: изба, железо, человек. Так-то! Ничего, придем и к ним. Там и камень у нас запылает… Вам сколько лет? — вдруг спросил он.
— Двадцать, — соврал я, будто год, который я накинул себе, мог в глазах шофера прибавить мне солидности и укрепить значение моих новеньких лейтенантских погон. — А вам?
— Двадцать три, — сказал он равнодушно.
Усталый, небритый, он казался старше. И эти четыре года, и эта усталость здорово отдаляли его от меня: он воевал с самого начала, прошел и узнал все с теми, кто был старше меня и его вдвое.
На развилке он остановил машину.
— Ну, вам налево, мне — направо. Дайте-ка вкусненькую на прощанье.
Я протянул ему папиросы. Взял он одну.
— Остальные спрячьте: раскурочат враз, к вечеру сами «стрелять» начнете…
Из сугроба торчала жердь с фанеркой, а по фанерке — в раскорячку — буквы: «Фомино. Хозяйство Суджакова». Так мне и сказали в штабе полка: «Идите в деревню Фомино. А там найдете».
В Фомино я пришел в сумерки. Мороз снова сковал хрупким стеклом края луж. Фиолетово-зеленая прожилка заката медленно остывала, становилась синей, а потом слилась со всем темным охолодевшим небом. Оно низко раскаталось над грустными полями, по которым шел накрап воронок. Никакой деревни, собственно, и не было, — ни улиц, ни закоулков — черные от пожара голые печи и дымоходы, кое-где недогорелые бревна с приплясывавшим на ветру пеплом. Уцелели каким-то чудом лишь одна изба да черная баня.
Батальон обжил блиндажи, оставленные немцами, — чистые, обшитые неошкуренными стволами изведенного на это дело ближнего соснового подлеска, пошел он и на нары да столики посередке.
В одном из таких блиндажей я и нашел Суджакова. Он сидел на стуле босой, расставив толстые ноги, туго охваченные ватными брюками, и пошевеливал розовыми пальцами-коротышками. Видать, только разулся. И ворот гимнастерки расстегнут.
Покуда он читал мои бумаги, я разглядывал его. Круглая, шаром, голова, низкие, ежиком, волосы, а брови смешные — широкие, смоляные, с кисточками у переносья, — они, как живые, вроде самостоятельно шевелились на его скуластом монгольском лице.
Он отложил документы и сказал:
— Вовремя тебя. Офицеров у меня повыбивало. А скоро наступать начнем. — Достал большую холщовую тряпку и стал громко сморкаться, напрягаясь при этом весь, поводя плечами. — Кочегарка, и все! — отдышавшись, багровый, кивнул он на снарядную гильзу, где, чадя, горел фитиль. — Полон нос сажи.
Двери блиндаж не имел, проем был завешен камуфляжной немецкой плащ-палаткой, и там за нею послышалось шарканье, затем вошел сержант в зеленом бушлате, низко опоясанном офицерским ремнем, на котором висел подсумок.
— По вашему приказанию прибыл. — Лихо дрогнув, сержант дернул руку к виску.
— Ну что, надумал? — шевельнул бровями Суджаков, с трудом втискивая холстину в карман налитым толстопалым кулаком.
— Никак нет, товарищ майор! Не могу я на ей жениться. Засмеют меня наши балабоны. Во-первых. А потом опять же — война. Ну, как убьют меня — вдова останется, ребенок — сирота. Не резон.
— Ты не юли! Думаешь, неженатых не убивают! «Не резон»!.. — передразнил Суджаков. — Когда девку улещивал — нашел резон. Видал, — обратился он ко мне, — была кашеварка у нас Нюрка. Добровольчиха. Ушли на переформировку. Он ее раз-два — и окрутил. Тары-бары, березка да ночка лунная. Дуреха и втюрилась. Наобещал ей радостей-сладостей, а теперь девка на третьем месяце, а он — знать не хочу. Так, что ли?! — злился Суджаков. Стул под ним, тяжелым, припадал на одну укороченную ногу, и это вихляние раздражало майора. — Так вот что, — сказал он сержанту, — частушки, говорит, пел ей разные. Так вот и я тебе частушечку одну скажу. Она и станет моим последним словом. — И, будто команду, отмахивая при этом рукой, он продиктовал частушку: — «Солдатик в ночку темную прижал вольнонаемную. Мораль сей басни такова: вольнонаемная права». Усвоил? А не усвоил — завтра сдавай хозяйство и топай вторым номером к пулемету. Иди!
Сержант вышел. Суджаков, казалось, забыл обо мне, вникал в ночные звуки, шедшие с недальнего переднего края. Я тоже слышал, как тремя короткими очередями всполошился пулемет, в ответ огрызнулся другой. И все утихло.
— Обмен любезностями на ночь, — ответил майор. — Банька еще теплая, помойся с дороги да где-нибудь переночуй. А завтра сходи на передовую, обнюхайся. Филимонов! — позвал он.
Пламя над гильзой заволновалось — вошел солдат.
— Проводи лейтенанта к бане, устрой с ночлегом, — распорядился Суджаков.
Густая, оползшая с неба темень была всюду, ни близи, ни дали — все как плоская черная доска. Так мне показалось, когда мы выбрались из блиндажа.
— Вы уж тут ногами ощупывайтесь, не ровен час, в воронку угодите, — откуда-то из мрака заговорил мой поводырь.
Я его не видел, а брел за надежным звуком шагов, боясь отстать, и дивился, как уверенно ступал он в этой беспроглядности.
Вскоре мы подошли к бане — маленькому строению, словно росшему из земли. Стояла она на отшибе, где снег не был обметан пеплом и копотью сгоревшей деревни. В узком предбаннике пахло мореным деревом и мокрой золой.
Филимонов поджег белый кубик сухого трофейного спирта и присел на лавку.
— Парьтесь себе, а я перекурю покудова, — равнодушно сказал он. Однако не закурил, а, сняв ушанку, стал поглаживать стриженую голову.
И я подумал, что ему неохота было тащиться со мной сюда, что он бы, пожалуй, уже спал — делал бы самое важное на войне, когда прочие заботы отошли уже в исполненное. А для сна солдат приспосабливает любую оказию, даже если можно подремать сидя или стоя — нашлось бы обо что опереться, и мне неловко стало, что из-за меня парень этот торчит здесь.
Я разделся, вошел и увидел круглые закопченные камни, вмазанный в них котел с водой, а на мокрой лавке — ведро и алюминиевую кастрюльку. И я зачерпнул ведром мутноватой, с пленочкой накипи воды…
Баня остывала. По ногам шевелился холодок, и мытье уже было не в удовольствие, когда вошел Филимонов и, усмехнувшись, сказал:
— Что же вы так, по-холодному, без пару? Плеснуть, что ли? — И, не дождавшись ответа, видимо понимая, что в этом деле я — тумак тумаком, набрал котелок воды и вывернул его на камни. Враз зашипело, к потолку рванулся пар. — Еще? — спросил, повеселев, Филимонов и утер запаренный лоб. — Нет, будя вам! На полок лезьте…
Потом я торопливо одевался, трудно натягивал белье на влажное тело, а он уминал махру в клочок газеты большими проворными пальцами и говорил:
— Вы не, спешите, не спешите, поостыть малость надо. С непривычки и чих подхватить недолго, на улице не лето, поди… Нате-ка, — протянул он мне готовую цигарку.
Я с наслаждением затянулся. По нутру резанул крутой дым. Отвалившись к стене, я вытянул ноги. Так не хотелось надевать сапоги!
— Попробуйте моих, Филимонов, — мне хотелось сделать ему что-то приятное, и я подал «Казбек».
Выкатив пальцем папиросу, он спрятал ее в самодельный алюминиевый портсигар.
— Сами-то откудова? — поинтересовался Филимонов.
— С Донбасса.
— Значит, и ваш дом под немцем, — покачал он головой. — А я из этих мест. Пятнадцать верст от Пустошки деревня наша. Да все боком я, никак наш полк на тот участок не попадет. С сорок первого года по России кочую. То взад, то вперед. И Волгу повидал, и казачьи места на Дону. Богатые, ничего не скажешь. Земля хорошая там. На ладони разотрешь — будто помаслена, хоть бери и на хлеб расстилай. Не то что подзолье или суглинок. Однако и у нас росло! — вздохнул он. — А теперь что! После войны и мужиков не останется. В городах у вас законы разные: кого берут кого не берут, заводских там. В деревне-то закон один случилась война — там каждый первый становись в строй и шагом марш. — Он встал, высокий, с сутулой мосластой спиной, натянул шинель. — Пойдемте, что ли?
Мы вышли. Морозец насухо выпил дневную оттепельную сырость, небо очистилось, звезд было много, и казалось, что они шевелятся. Изредка в той стороне, где предполагалась передовая, взлетало и оседало зеленовато-белое свечение — беззвучно, с испуганным трепыханием.
— Фрицы ракетами балуются, — сказал Филимонов. — Темноты боятся. А чего ее бояться? Темнота и есть темнота, что для них, что для нас — одинаково. Небо-то одно, вон какое: ни конца ему, ни края, без донье. — Он задрал голову. — Нетто они его по-иному видят?.. Глубже иль звезды иные — не те, что мы?..
Я вертел головой: было интересно, как откуда-то издалека в небо вдруг беззвучно взлетали прерывистыми стежками желтые трассеры; я следил за их полетом, боясь пропустить момент, когда они появляются и когда исчезают. Мне хотелось спросить у Филимонова, куда меня могут назначить, и про майора Суджакова, но я постеснялся. Мне все было любопытно. С какой-то дрожавшей внутри радостью шел я рядом с Филимоновым, еще не веря, что наконец-то на фронте, что завтра пойду на передовую, измажу в глине свою новенькую шинель.
Филимонов привел меня к избе. Едва мы отворили дверь, как из черной глубины шибануло в лицо густым несвежим теплом, запахом просыхавшей овчины и войлока, людского пота.
— Осторожно, не придавите кого, тут внавал спят, — тихо произнес Филимонов. Ловко пробравшись к лавке, он стал кого-то трясти. — Вставай, Лядов, слышь. Лейтенанту место отступи.
— Тебе чего? — трезво спросил этот Лядов и тут же, повернувшись к стене, снова уснул.
— Вставай, говорю, — расталкивал его Филимонов. — Во колода! Очнись!
— Чего теребишь? Я те что — вымя? — огрызнулся тот, просыпаясь. — Куда идти? Кто приказал?
— Спать, спать иди. В малу кучу. Место лейтенанту отступи.
— Так бы и сказал. — Лядов встал, сволок шинель и вещмешок на пол и непостижимо проворно втиснулся меж спящими.
— Всяк норовит в середку. Никто с краю не хочет, чтоб в бок не задувало, — усмехнулся Филимонов. — Ложитесь.
— Спасибо, Филимонов. — Я поблагодарил его за заботу, сожалея, однако, о зряшных его хлопотах, так как думал, что в духотище этой мне не уснуть. Однако сон сморил меня, едва я улегся.
Утром все началось не так, как предполагалось с вечера: прибежал Филимонов и сказал, что меня вызывает майор.
Суджаков сидел на хромоногом стуле, подобрав толстые ноги, сильно упершись в них ладонями. На столе лежала фляжка в суконном чехле, перекисше смердела капуста в глиняной миске с воткнутой в нее ложкой, а на самом углу стола стояла мятая алюминиевая кружка.
— Отоспался? Спирту хочешь? — спросил комбат, пошевеливая черными кустами бровей.
— Можно, — лихо ответил я, и сам с ужасом подумал, что никогда не пил спирт, тем более натощак.
Суджаков плеснул из фляги в кружку.
— Пей и слушай. Думал придержать тебя пару дней покуда в обороне, чтоб привык, но не получится. Нужен прорыв. Мы и начнем. Примешь второй взвод в роте Котельникова… Ну давай, не мучайся, — сказал он, заметив, как я, поднеся кружку ко рту, сглотнул тошнотную слюну. — Капусты возьми… Так вот, пойдешь в роту Котельникова. Учти, там народ трудный: большинство узбеки. Воюют хорошо, только мерзнут. Особенно ногами мучаются. Следи, чтоб ноги у людей сухие были. Усвоил? А сейчас вот что: в Карловке завалилась в кювет машина. В ней патроны и гранаты. Шофер-растяпа поплавил подшипники. Сходи в село, организуй тягло и сани. К полудню чтоб все было перевезено сюда. Ясно? Пойдешь с Филимоновым…
Мне все было ясно. От спирта я пребывал в состоянии легкости и умиления, мне нравилось все, что со мной происходило, я был благодарен кому-то или чему-то за то, что любой мой шаг мог осуществиться только по воле майора Суджакова, все, как мне казалось, знавшего наперед.
Затем я вспомнил, что нужно выяснить, где стать на комсомольский учет, и написать письмо домой, сообщить свой новый адрес. Больше меня ничто не заботило: я находился в армии, а она — на фронте, и все здесь предусмотрено БУПом[10]; я полагал, что его простотой, несложностью должны определяться и характеры людей, и их взаимоотношения, и вообще все в окоп ной жизни, поскольку мы существовали ради одного гнать врага на запад. Приказ я получил. Оставалось быстро и точно выполнить его, доложить майору и отправиться затем принимать взвод…
Я вышел из блиндажа, окликнул ждавшего Филимонова, и мы отправились.
Филимонов шел молча, будто чем-то озабоченный Теперь он был определен мне в подчиненные и, значит, отстранен от меня разницей в звании. Может, поэтому и не затевал он разговоров. Мне не хотелось, чтобы и мое молчание он расценивал именно так, и я заговорил первым.
— Смотрите, как лес искалечили, — кивнул я на опушку. — Тут и снарядами, и танками, и топорами шуровали.
— Уж порезвились, — согласился Филимонов. — А до войны, бывало, за одну лесину — штраф. Не укради! Эдак дальше — и на гробы людям ничего не останется. — Он усмехнулся, умолк, к разговорам не расположенный.
Так без попутных слов мы и дошагали до машины.
Шофер полуторки оказался моим вчерашним знакомым. Он сидел на подножке и тер тряпочкой свечу.
— Что, угробил инвентарь? — спросил Ого Филимонов.
— Не бреши, и без тебя тошно, — огрызнулся шофер. — Ее давно списать пора. А кто на ней ездит — орден за каждый километр, будь она проклята!
Я сказал шоферу, к чему мы здесь. Он устало махнул рукой.
Карловка была небольшой деревенькой, издали едва приметной у опушки. Уцелела она, видимо, оттого, что жалась к лесу, стояла в стороне от главных нынче дорог, а может, по какой другой удивительной и случайной для войны причине.
Я шел впереди, Филимонов и шофер, чуть поотстав, разговаривали о каких-то событиях и людях, мне не знакомых. А потом, как я понял, речь повели обо мне. Я слышал, что Филимонов сказал:
— Взводным, в роту Котельникова. Усову-то руку оторвало. На его место, значит.
— А ты все в адъютантах, при Суджакове спишь? — ехидно поддел шофер.
— Зато не просплю ничего, как иные, — с намеком отозвался Филимонов…
В первых четырех дворах, какими начинала себя Карловка, не оказалось ни коня, ни саней.
А еще через двор нас встретила высокая старуха, вся в черном. Лицо сухое, коричневое, в рубцах морщин. Темными, не разгибавшимися пальцами прижимала она к подолу за плечи пугливо моргавшую белявенькую девочку.
— Розвальни? Где же им стоять? Вон поветь, там и берите, — ответила старуха на мой вопрос. — А коня нет. Какой конь? Козу ишшо на покров день прирезали, сами-то пухли от голода. Где уж тут коня держать при немце. Почитай, вся деревня безлошадная…
Я видел, как нетерпеливо топтался на месте Филимонов, вроде понимая что-то больше, нежели я, в рассказе старухи. По напряженным челюстям покатывались у него злые желваки.
Полдела было сделано, полагал я, шагая дальше по улице, — сани есть.
За поворотом за нами увязался мальчик лет двенадцати — худенький, с тоскливо голодными глазами и голубоватым свечением хилости на лице, в больших, размятых, видно, мамкиных, катанках. Позади нас он обскакивал лужи, рысцой догонял, снова отставал, не поспевая за нашими деловитыми шагами.
— Тебе чего, оголец? — спросил шофер, когда мальчик, забежав, пошел вперед спиной перед нами.
— Мыла, дяденька военный, — робко высказал он.
— Эх, брат, где же у нас с собой мыло! — воскликнул шофер. — Ну-ка постой. — Он залез в карман, порылся там и вытащил сизоватый, в порошинках табака и пыли заветный кусок рафинада. — Вот тебе сахар, рубай! Зубы целы?
— Обо что им ломаться-то было? — усмехнулся Филимонов.
С какой-то испуганной и щемящей жалостью смотрел я на мальчика, вспоминая коричневую старуху и ее скрюченые темные пальцы. Я порылся в карманах — что бы ему такое дать, однако ничего не нашел, кроме тоненького химического карандаша. Но дать его голодному я постеснялся.
— Ты вот что скажи, рыцарь, у кого у вас тут конь есть? — заглядывая в глаза, наклонился к нему шофер.
Мальчик отступил назад и опустил голову.
— Не знаю, — тихо сказал он.
— Ну уж, так и не знаешь! — подмигнул ему шофер.
— Отстань от мальца, — вмешался Филимонов. — Сами управимся.
Но шофер не унимался.
— Что ж ты старшим брешешь, малый? Не годится так. А ведь брешешь, по глазам вижу.
Мальчишка опустил голову еще ниже и, разжав пальцы, протянул на ладони рафинад.
— Возьмите, не надо мне, — прошептал он.
— Ну-у-у! За что ж ты меня обижаешь? Я же тебе просто так дал, — смутился шофер. — А коня не мне нужно, Красной Армии. Понимаешь? Перевезти патроны — и все. И получайте своего коня назад… Ты сахар спрячь, мамке отдашь. Ну так что?
— На хуторе. У дяди Анисима, — буркнул мальчик и пошел прочь, размахивая кулачком с зажатым в нем сахаром.
Анисимом оказался бородатый красногубый мужик лет под шестьдесят в латаной телогрейке, подвязанной сыромятным жгутом. Деревянным молотком он набивал на бочку обруч.
Мы поздоровались.
— И вам добрый день. Проходите, — позвал хозяин, отложив молоток и вытирая руки о штаны.
— Что, отец, без рассолу рассохлась тара? — завел издали шофер.
— Рассол, говоришь? К осени приходи, будет чем разговеться. На свадьбы поспеешь. Кончилась для Кар- ловки война. Немец, курва, все обглодал.
— Кончилась? Ну, и слава богу! — добрым голосом откликнулся шофер. — А для нас еще — о-го-го! Вот тут у товарища лейтенанта к тебе разговор есть по этому случаю, — подмигнул мне шофер.
— Хотим на несколько часов коня у вас попросить, — выступил я вперед, замечая, как усмехнулся при этом Филимонов.
— Коня, значит. Так-так… — сказал мужик.
— Машина сломалась. Патроны перевезти надо. Понимаете?
— Понимаю, что не пахать. Как же я тебе, родимый мой, дам, ежели кобылка у нас одна на всю деревню? Общественная она. А ты как клещ: «Дай, дай». Чудной ты, — закачал головой мужик и, словно говорить на эту тему больше не полагалось, поднял молоток.
— Слушайте, мне приказано перевезти боеприпасы. Вы советский человек? Я прошу ведь всего на несколько часов. Мы возвратим… Я сам ее приведу… Честное слово! — заволновался я, не понимая равнодушия, с которым мужик отнесся к моим, таким важным для меня словам, к той чистосердечности, с какой я прокричал ему свое «честное слово!».
А он, продолжая постукивать молотком, поглядывая сбоку, как садится на бочку обруч, поднял на меня бровь:
— Что ты мне политграмоту читаешь? Я без тебя все ликбезы прошел… «Советский человек, советский человек»… Я советский человек! А ты, как советский командир, уразумей, что такое одна кобыла на всю деревню! Пахать скоро. Зима на убыль пошла. Мы кобылой той колхоз зачинать будем. Ты по деревне шел? Видел, как народ оголодал? Я, почитай, один мужик на всю Карловку остался. Бабам да детишкам и отец родной, и председатель, и вся власть советская, хоча и беспартейный. Как же это я тебе кобылу отдам?!
Я был в беспомощности и отчаянии. Он не верил моему честному слову! Как еще сказать ему, что я обязательно возвращу эту лошадь?! Понимая правоту его слов, вместе с тем я ужаснулся своей бесполезности, тому, что не выполню приказ Суджакова и батальон останется без боеприпасов перед самым наступлением. И тут-то в дело вступил шофер:
— Что вы уговариваете его, товарищ лейтенант?! Он же несознательный! Здесь прифронтовая полоса, у вас есть приказ. И баста! Пошли, Филимонов! — И он решительно направился к сараю.
Филимонов, однако, с места не сдвинулся. Он только хмуро слюнявил палец и прикладывал его к цигарке, тлевшей одной стороной, вероятно, полагая, что можно еще выждать: а последует ли ему приказ от меня?
Я же, подбодренный надежностью и твердостью шофера, двинулся вслед за ним.
— Это как же так?! — воскликнул мужик, опуская вдоль штанов руки. — Не пущу! — бросился он ко мне, пятерней вцепился в рукав шинели, что аж хрустнули нитки во шве. — Кого грабишь, сукин сын?! Колхозное добро! Мне сход что скажет? Что власть скажет: вгужайся, Аниська, сам и тяни плуг, коли ты, раззява, последнюю кобылу не сберег! Жеребая она, пойми ты. Я ее от немца в лесу прятал. Не трожь! — замахнулся он молотком.
И тогда я, чтоб увернуться, оттолкнул его, вроде даже отстранил, да то ли не рассчитал, то ли бревно за его ногой катнулось, — взмахнув руками, мужик упал. Я ждал: вскочит, бросится на меня, но он вдруг сник, затем, опираясь о бочку, стал медленно подниматься, обреченно глядя, как шофер выводит из сарая белую с серыми пежинами лошадь.
У ворот я оглянулся. Аниська плакал. Беззвучно, как бы одним глазом, потому что тер ладонью одну и ту же сторону лица. Мне стало не по себе, я чувствовал, что стыдно краснею, хотелось крикнуть ему что- то доброе, во что бы он поверил, но я не знал, какие тут еще должны быть слова, да и присутствие шофера и Филимонова стесняло меня: ну как подумают, что я и вовсе слюнтяй? Как-никак сейчас я был их командиром, выполнявшим приказ старшего начальника…
По улице мы шли молча, понуро, с ощущением вины. Она прижала и меня, и, как я понимал, шофера. И только Филимонов как-то странно усмехался и попыхивал цигаркой: мол, я в этом не участвовал.
Лошадь мы привели во двор коричневой старухи. Там и выяснилось, что ни я, ни шофер впрячь кобылу в розвальни не способны. Приблизился Филимонов, отстранил шофера и, все так же усмехаясь, но с каким-то торопливым удовольствием, завел лошадь меж оглобель, подталкивая ее ласковыми шлепками по тугой шее, впряг и, вскочив на розвальни, стоя, выехал со двора…
Втроем в несколько ездок с короткими перекурами мы перевезли все, что было в машине. Перед последней ездкой шофер сказал:
— Подзаправиться пора, — и похлопал себя по животу. Тут же принес из кабины вещмешок, извлек прожелтелое сало, хлеб.
Взмокший от тяжести ящиков, я уселся на розвальни и, когда еда была разложена, вдруг почувствовал голод. Ели мы, как обычно едят люди, если им приходится вдвоем-втроем черпать из одного котелка — аккуратно, старательно жуя, не обгоняя друг друга. А потом всласть покурили, и, когда Филимонов отошел по нужде за кусточки, шофер мне сказал:
— Вы все мучаетесь этой историей, лейтенант. Я же вижу. Бросьте! Что тут выяснять: кто прав, а кто не прав? У каждого своя правда. А чья старше и у кого ее больше — это ли важно? Вот как примирить одну с другой? Война ведь. Филимонов, конечно, держит сторону мужика. А я — вашу.
— Почему? — полюбопытствовал я.
— Вы приказ выполняли, — ответил он. — Вы почаще повторяйте себе: «Это должен был сделать я, чтоб другие не сделали еще хуже…» Сразу легче станет, — засмеялся он. — Э-э, что толковать! Я с сорок первого воюю. Насмотрелся.
Шофер говорил, желая успокоить меня. Но только раздражал этим, потому что я действительно хотел лишь точно и в срок выполнить приказ Суджакова: обеспечить батальон боеприпасами накануне наступления. Приказ я выполнил. Так в чем же дело? Чего он еще ковыряется во мне, этот дошлый шоферюга? Разве я не понимаю, что и мужик прав, только зря не поверил мне, что лошадь нужна всего на несколько часов…
Суджакова я нашел в ложбине, поросшей нетронутым ельником. Наверное, тут была мертвая зона: деревья стояли с верхушками, а зелень хвои по-зимнему грузно обвисала под затвердело отяжелевшим сырым снегом, не струшенным пулями и взрывной волной. Отсюда хорошо просматривался передний край.
Я узнал майора не сразу. Теперь он был в коротком полушубке и кубанке, низенький, плотный, накрест перехлестнутый по выпуклой груди ремнями. Он о чем-то говорил с людьми, от головы до пят упрятавшимися в белые маскхалаты. Ближе всех к майору находился их старший — смуглый, с тоненькими усиками. Суджаков что-то показывал ему на карте.
Я доложил, что приказ выполнен. Суджаков мельком, вроде случайно, глянул на меня, кивнул и отвернулся к тому, смуглому с усиками, будто важность дела, выполненного мною, оставалась важной лишь для меня, а для него все считалось само собой разумеющимся и потому, исполненное, уже перестало существовать.
— Нет у меня саперов, — сказал смуглому Суджаков. — Комдив все отдал соседу справа. Главное, видать, там будет. А мы тут с тобой на подхвате, старший лейтенант, — улыбнулся Суджаков.
— Товарищ майор, меня заверили, что вы обеспечите проход, — категорически отвергая веселый тон Суджакова, сказал усатый старший лейтенант. — В двадцать ноль-ноль я должен выйти с тылу к высоте 315,3. Не могу же я топать по минному полю, положить всех людей здесь. Полоса тут неглубокая, метров пятьдесят.
— Знаю, знаю, старший лейтенант! Но послать мне некого. Понимаешь — не-ко-го! Сам бы рад, если бы мне ее кто очистил. Тоже ведь наступать придется. Его, что ли, пошлю, — кивнул на меня Суджаков. — Так он вчера только из училища, совсем скворец.
Воспользовавшись, что они оба посмотрели на меня, я обратился к Суджакову:
— Товарищ майор, разрешите отлучиться на час?
— Куда?
— Лошадь возвратить.
— Какую лошадь? — шевельнул бровями майор. — Ага! — вспомнил он. — Постой, постой. Где она? Ну-ка пойдем старший лейтенант.
У саней суетился Филимонов. Он притащил откуда- то охапку старой потемневшей соломы, и кобыла вяло захватывала ее черными мягкими губами.
Обойдя лошадь раз, другой, Суджаков насунул глубже на голову кубанку и приказал Филимонову:
— Возьми людей, сходи к баньке. Там в снегу две бороны валяются. Тащите их сюда. Достаньте слегу подлиннее. Скумекал? — спросил он, хлопнув старшего лейтенанта по спине.
Замысел комбата стал доходить до меня, когда Филимонов по подсказке майора выпряг кобылу, привязал оба конца слеги к постромкам, а к самой слеге, по краям, — бороны.
— Что ж, миноискатель готов, — грустно кивнул Суджаков.
Тогда я не выдержал:
— Товарищ майор! Этого делать нельзя! Я обязан лошадь возвратить. Она колхозная… Одна на всю деревню… — засуетился я, краснея от стыда и своей смелости.
— Ты что это? — замер Суджаков.
— Я дал честное слово, что возвращу ее! Сам! Честное слово дал! Что же они подумают?.. Они голодают там, а скоро пахота! — не унимался я, в отчаянии видя, как сужаются глаза майора под шевелящимися бровями.
И неожиданно тихо, почти шепотом он спросил, ткнув пальцем в грудь старшего лейтенанта:
— А он давал честное слово, что в двадцать ноль- ноль возьмет высоту. А?!
— Слушай, иди-ка ты… — нетерпеливо повел плечами старший лейтенант.
Кобылу повели по ложбинке к передовой. Оглушенный случившимся, я плелся следом, наивно и мучительно ища в себе слова и понятия, какими можно было бы все объяснить. Но не находил, как и тогда, когда хотел, чтобы мне поверил тот мужик из Карловки.
Сырой дол, выстилавшийся к немецкой стороне, уже затягивался сумеречной дымкой и легкими полосами тумана. Кто-то ремнем ожег лошадь, гаркнул: «Но-о!» Она побежала, волоча за собой бороны. Справа и слева от нее дернулись автоматные очереди — разноцветные трассеры вытянулись нитями вдоль ее хода. Всполошенная, как в огненном коридоре, она неслась меж ними по минному полю. Рядом со мной стоял Филимонов. Губы его ломала знакомая мне тоскливая усмешка, а на побелевшем лбу мелко лоснилась испарина.
Справа раздался один взрыв, затем другой и — еще, еще, и пошел за боронами взметываться фонтанами побуревший снег.
— Хорошо, что здесь не противотанковые, — спокойно отметил усатый старший лейтенант, натягивая белый капюшон на ушанку. — Везучая эта кобылка.
Суджаков ничего не ответил. Он смотрел не на лошадь, а на Филимонова; густые брови майора совсем наползли на веки и замерли. Он стоял, заткнув рукавицы за пояс, заложив руки за спину, и сжимал задубелыми пальцами погасший недокурок.
Раздалось еще несколько взрывов, лошадь припала на передние ноги, снова выпрямилась, метнулась по сторонам, подрывая собой и боронами мины, затем как-то боком прошла несколько шагов, завела высоко шею, словно оглянулась назад, и рухнула.
У меня закаменело лицо и взмокли ладони.
— Перекурим, — хрипло очнулся Суджаков.
Люди, которых привел старший лейтенант, курили жадно, обжигая пальцы, словно понимали, что им не скоро придется лезть в карман за махоркой. Переговаривались они почему-то шепотом, подпрыгивали, пробуя, не звякнет ли на одежде случайная, но коварная в их деле мелочь — тренчик какой или пряжка. Громко говорил лишь их старший лейтенант, но ничего лишнего в словах его не ощущалось: они были коротки, как команда, и относились лишь к присутствующим его людям.
Когда туман в низине загустел, старший лейтенант поправил на груди автомат, протянул руку Суджакову:
— Спасибо, майор. Может, еще встретимся. — В мою сторону он даже не посмотрел. — Пора, — кивнул своим.
Цепочкой, за ним, они неслышно зашагали по плотному сырому снегу. Мы смотрели вслед. Странные чувства испытывал я при этом: восхищение и страх, что, едва они скроются, мне снова вспомнится лицо мужика, когда темной ладонью он утирал слезы.
Люди в белых маскхалатах уже вошли в туман и растворились в нем, как капли молока в молоке.
— Пойдем, что ли? — заглядывая мне в глаза, неожиданно спросил Суджаков.
Мы шли рядом. Филимонов позади.
— Тебе сюда, — остановился майор у тропинки, путавшейся в низком черном кустарнике. — Иди, принимай взвод. Я Котельникова предупредил. На рассвете наступаем. — И, будто не ожидая от меня никаких ответных слов, поглубже надвинул кубанку и пошел прочь.
Я остался один. Надо было поторапливаться, чтоб найти еще дотемна свою роту.
Двадцать четвертый
Городок пропах пылью. Взбитая тысячами ног, колесами автомашин и повозок, пыль втягивалась в улицы вместе с запахами пота, бензина, ружейного масла. Тяжелая, плотная, она оседала на придорожные кусты, тусклые и неподвижные, на брезент кузовов, на камень домов, на металл, на влажные лица и руки людей. И все от нее становилось серым. В этом колыхавшемся потоке, в движении ног, рук, колес, изнывая от жары, чувствуя над губой росинки пота и мечтая о ведре холодной воды, в которую хорошо бы окунуться лицом, а затем попросить, чтоб тебе выплеснули ее на спину, — в этом душном потоке двигалась вместе со всей дивизией Варя. Сидела она в крестьянской бричке, в которую пригласил ее старый поляк, пожелавший въехать в родной городок вместе с советскими частями, шесть часов назад перешедшими польскую границу.
Винтовку Варя осторожно сунула в сено, предварительно проверив чехол на оптическом прицеле, а сверху положила свой вещмешок. Сидела она рядом с поляком, возбужденно и без умолку говорившим. Он восторженно ахал, восклицал, показывая кнутовищем на катившиеся рядом танки, орудия разных систем и калибров:
— Ну, холера ясна!.. Тшимайся, герман!.. Вьё, вьё! — понукал он рыжую кобылу, весело сверкая серыми глазами, сдвигая на затылок с разгоряченного красного лба зеленую велюровую шляпу с темной от пота, выгоревшей лентой.
С Варей он говорил по-русски и был страшно доволен, что не забыл «ензыка россыйскего», который знал еще с детства. А она слушала, то рассеянно глядя по сторонам — на воспаленные, распаренные лица солдат, то кося глазом на небритую, в седых щетинках щеку поляка, на аккуратные, закрученные кверху кольцами острые кончики его усов — белые, с желтыми подпалинами снизу.
«Вот тебе и заграница, — думала Варя. — Все проще, чем представлялось. И бричка, и рыжая лошадка, и этот поляк в белой рубахе с грязными манжетами, в смешном черном жилете…»
Они ехали по улице, где целых домов почти не осталось. Был хаос кирпича, ярко-красного на местах излома, разноцветной штукатурки, балконных, извитых взрывом прутьев, искореженной кровли. И над всем этим — уже другая, розоватая пыль, а в ней люди с кайлами, ломами и лопатами. Иногда они прекращали работу — женщины вытирали платками, висевшими на шее, скулы и подбородки, подправляли выбившиеся из зачеса пряди волос, мужчины, голые до пояса, с лоснившимися в лучах августовского солнца плечами и спинами, закуривали — и все разом смотрели на двигавшуюся массу войск. Кто-то из мужчин, заметив бричку поляка, крикнул ему сквозь грохот и лязг:
— Гей, Франек! Цо ты робишь, старый батяр?! Ты юж сам маш таку цурку![11]
Довольный этой шуткой, тем, что его заметили вместе с Варей, поляк загоготал, вытащил пачку немецких сигарет и сказал Варе:
— У меня такая дочь, как ты. Веславой звать. Ай-яй! — покачал головой старик. — Така млода и юж на войне!.. — Он вздохнул. — Эта улица, где мы едем, называется Ягеллонска. Слышала, жил такой круль наш — Ягелло… Была и улица. А теперь одни камни. — И, поводя кнутовищем, стал показывать, что где находилось на этой улице. — Тут кафе пана Ляссоты. — И она увидела в проломе расписные яркие стены и то, что некогда было зеркальной стойкой. — А тут парикмахерская Фишмана. — И она увидела кусок уцелевшей фасадной стены с намалеванными ножницами над завитою, в бигудях, женской головкой. — Тут… ладно… тут неважно. Заведение было одно, пся крев. А дале — дом пана профессора Скавроньского, лекаж-хирург. — И она увидела тяжелую, из серого мрамора лестницу с медными кольцами, которая не вела никуда, просто в зиявшее небо. — А тут, где поворот на плац, была синагога. Триста лет стояла. — И она увидела глыбы камня с остатками аскетически белой штукатурки, голой, без единого узора… — Ляссота ушел в партизаны, Скавроньский в Освенцим, Фишман в Треблинку, — поляк покачал головой и развел руками. — А я знал их фамилии сорок лет! Сорок лет! Вшистце жице!..
Бричка их катила уже по булыжной мостовой. Почуяв дом, лошадь пошла резвей, кованые колеса попадали то в выбоины, то на выпершие булыжины, бричка громко тряслась, и у Вари смешно подергивался подбородок.
На углу, возле уцелевшего здания, на котором сохранилась вывеска «Restauraja „Kaprys“», стояла толпа с красными и красно-белыми повязками.
— В этом ресторане до войны было самое лучшее пиво, — сказал старик, указывая на «Kaprys».
— А почему такое смешное название — «Каприз»? — спросила Варя.
— Важно, чтоб у тебя были форсы, ну эти — деньги, деньги, деньги, — вспомнил поляк. — А за деньги ты мог там делать, что хотел. Только плати.
В толпе, стоявшей на углу, послышались звуки аккордеона.
— «Грудек-марш» играют, — сказал поляк.
И Варя увидела высокого пожилого мужчину в черном костюме и белой манишке, который играл левой рукой на басовой стороне сиявшего красным перламутром аккордеона. На правой же стороне — на клавиатуре — мелодию выводила стоявшая рядом полная женщина в зеленом длинном платье. Лицо мужчины было желтовато-белым, неподвижным, как маска, глаза же — закрыты большими темными очками.
— Слепой? — спросила Варя.
— Так, — кивнул старик. — Еще с той войны, с першей…
Домик старика находился в конце улицы, почти у выезда в поле. Двор выглядел по-деревенски — с сараем, с небольшим стожком сена, с маленькой калиткой, ведшей за изгородь, где зеленели грядки капусты. Встречали поляка жена и дочь, встречали так, словно он вернулся с того света, жена утирала передником глаза. А он только отмахивался, хмурил брови, как бы стыдясь всего этого перед Варей.
— Живой, живой я! Хватит вам! Живой — цо еще?! — шумел он, мешая русские и польские слова.
Умывалась Варя за ситцевой занавеской над большим тазом, и хозяйская дочка — маленькая, с легкими льняными волосами, вся в веснушках, Веслава — поливала ей из высокого фаянсового кувшина, все время улыбалась, не зная, что и как сказать гостье, и обе они смущенно хмыкали.
Обедать сели в центре комнаты, куда от окна сдвинули стол. В белой глубокой чаше лежали листья салата, приправленные уксусом и сахаром. Заставляли Варю есть зеленую кашицу, пахнувшую чесноком, — шпинат. Был и польский холодный борщок, и флячки, а по-русски — рубцы. Все это Варя ела впервые, вслушиваясь в названия, уступая настойчивым просьбам хозяев.
Отуманенная обильной едой и усталостью, Варя, словно издалека, видела лица сидевших перед нею людей, которые, видимо, после долгой разлуки не могли сдержаться — так хотелось им досыта поговорить. И только Веслава все время молча смотрела на Варю, положив щеку на пухлую короткопалую ладошку, улыбалась ей медленными синими глазами.
Уже в закатное время уходила Варя от поляков. Провожали ее Веслава и старик. Где-то за переездом должен был быть штаб полка, а там ей скажут, когда и куда дальше. Старик тряс Варе руку и все повторял: «Будешь в городе — зайди обязательно! Запомни: Смолки, 38. Запомни: Франек Марценяк. Смолки, 38». На углу Варя оглянулась. Старик уже шагал домой, а Веслава все держала руку над светловолосой головой и прощально шевелила пальцами.
Теперь Варя часто вынимала маленькое зеркальце из кармана гимнастерки и смотрелась подолгу, ища на лице те изменения, которые произошли в ней самой. Она знала, что при беременности на лице появляются коричневые пятна. Но, ничего не обнаружив, счастливо вздыхала, прятала зеркальце и, затянув ремень все на ту же дырочку, проводила ладонями по животу, еще плоскому и упругому.
В дверь блиндажа постучали.
— Заходите, — сказала Варя, снова усаживаясь на нары, где на белой, в желтых пятнах тряпке лежали масленка, ерш, шомпол и части разобранного винтовочного затвора.
— Здравствуйте, товарищ сержант, — сказал вошедший. — Рядовой Утин прибыл в ваше распоряжение. — Парень козырнул.
Был он высок, длиннорук, каска сдвинута со лба, и из под нее проглядывал светлый ежик волос, отраставших после стрижки наголо. Рукава гимнастерки коротки, на левом запястье Варя увидела компас, а на правом — черный циферблат трофейных часов-хронометра.
— Посиди минутку, — предложила Варя. Она стала быстро собирать затвор, успевая снимать лишнюю смазку тряпочной полоской. — Вслепую умеешь собирать? — спросила она Утина.
— Нет, — откровенно признался Утин.
— Научу, — улыбнулась Варя.
— А зачем? — удивился Утин. — Вслепую зачем? Если глаза выбьют, все равно стрелять не смогу.
— Логично, — согласилась Варя. Она встала, смахнула с юбки белые ниточки. — Ну что, пойдем на воздух?..
Медленно они спустились с холма и по травянистой низине пошли к реке. Начиналось тихое солнечное утро, в котором пробовали голоса пробудившиеся птицы, и ни единого звука — ни выстрела, ни взрыва — со стороны передовой. Еще не жарко, идти приятно по высокой, чуть подвявшей траве. Потом Утин свернул в кустарник и, продираясь, придерживая ветки, чтоб не хлестнули идущую сзади Варю, вывел ее прямо к берегу, зеленому от осоки. Почти над самой водой возвышался широкий темный пень давно срезанного явора.
— Это твое место? — спросила Варя.
— Как ты узнала? — удивился Утин, переходя на «ты».
— По тому, как ты уверенно шел именно сюда.
Варя села на пень, а Утин рядом, на траву. Каску он снял и, поджав высоко ноги, сгорбился, облокотился на колени, почти касаясь подбородком сложенных накрест рук.
— Тебя как звать? — спросила Варя.
— Левка. А тебя?
— Варя.
— Ты действительно снайпер? — склонил он голову и глянул снизу.
— Ну да!
Он с любопытством смотрел на нее. Он никогда не видел снайперов, тем более девчат. И все равно лицом она не походила на снайпера: глаза не прищурены, нет в них стального блеска суровости, той проницательной выдержки, которые, как он полагал, должны быть у снайпера.
Левка покачал головой:
— Да-а… Ну и дела! — Он подпер щеку ладонью. — Слушай, Варя, а зачем меня приставили к тебе? Ротный так и сказал: «Поступаешь, Утин, в распоряжение сержанта снайпера Людниковой. Все, что прикажет, выполнять беспрекословно. Головой за нее отвечаешь».
— Ты не обижайся, тебя не в ординарцы ко мне.
Просто мы, снайпера, работаем всегда в паре. Наблюдаем и ведем стрельбу поочередно. А у вас я пока одна. Вот ты и будешь напарницей моей, — Варя улыбнулась. — Согласен?
— А куда деваться? Приказ, — миролюбиво согласился Левка. — Ты много фрицев нащелкала?
— Есть кое-что. Горел? — кивнула она на его щеку, смятую сизым шрамом с запекшейся тонкой кожицей.
— Ходил с разведчиками в группе прикрытия. В скирде сидели, ждали, пока наши вернутся с той стороны. Фрицы очередью скирду подожгли. А нам уходить нельзя — мы прикрытие. А-а, — он махнул рукой и поглядел на небо, словно там, в неохватной тихой голубизне, висела не темная случайная тучка, а застыл клуб дыма от той сгоревшей скирды. — Что мне! Это вам, девчонкам, лицо беречь надо, чтоб замуж выйти.
«А я уже замужем, — подумала Варя. — И никто об этом не знает. Даже мой муж». Она прикрыла глаза, будто от солнца, поднявшегося из-за холма, и, слушая, как легко шелестит вода, обтекая корягу, представила, что здесь, на этом берегу, где так красиво и бестревожно, сидит рядом с нею Алеша, а не этот незнакомый парень, который задает все время вопросы.
— Хочешь? — спросила Варя, доставая пачку «Северной Пальмиры». — Наверное, еще довоенные. Начальник школы перед отъездом подарил. — Прикурив от самодельной зажигалки, Варя улыбнулась: — Вот бы папа увидел, как я курю!
— Ругал бы?
— Ругал? Отлупил бы! Он строгий!
— А зачем же куришь? Я вот не курю, меняю на сахар.
Она швырнула окурок в реку и, глядя на медленную, почти стоячую воду, где расползалась желтая кашица табака, покусывая губу, сузила глаза, словно что-то вспоминая. И тогда Левка увидел, как тяжел и неподвижен проникающий во что-то взгляд, приученный долго держаться на одной точке.
— Когда с рассвета лежишь под дождем в мокром окопе — закуришь! Я была под Великими Луками. Болота там и комары. Только махрой и спасалась. Жди, пока вылезет фриц! Сухари сжуешь, в животе сосет. А я заядлая, не могу уходить ни с чем. Ты что больше любишь: оборону или наступление?
— Наступление. — Левка содрал с каски комочек глины. — Веселее тогда!
— А я оборону. Самое наше время, снайперов. Фрицы обживаются, комфорт любят. В общем, как в тылу начинают жить, посвободней.
— А правда, что ты уже партийная? В батальоне слух пошел про тебя, что на партучет у нас стала, — спросил Утин.
— Правда, — кивнула Варя.
— Сколько тебе?
— Девятнадцать.
— Когда успела? Я вот старше тебя, мне двадцать…
— Уже год. Еще на Калининском.
— А чем была до армии?
— В школе училась. А ты?
— Я учеником провизора.
Варя удивленно глянула на Утина.
— Ты не думай, это интересно! — поспешил ее заверить Левка. — Сначала, конечно, посуду всякую мыл, колбочки, ступки. Надо, чтоб все стерильно было. Научился возле автоклава работать. Тут главное — знания по химии. Фармацевтическое дело без химии не освоишь.
— И тебе нравится? — спросила Варя.
— Нравится, — сказал Левка, поднимаясь и быстрыми движениями ладоней распрямляя кверху мягкие голенища сапог. — Пойдем, что ли, не то завтрак прозеваем.
Варя лежала на нарах, на пахнувшем хвоей лапнике, прикрытом плащ-палаткой. До ухода на передовую еще оставалось время, которое отвела себе, чтобы написать письма тете Жене, папе и Алеше. Надо было встать, сделать это, но вставать не хотелось, еще не решила, кому первому станет писать.
Она думала, о том, что отвыкла от передовой. Пробыла на ней благополучно полгода, а в ноябре сорок третьего, пробираясь перед рассветом к своей ячейке, свалилась в воронку с незамерзшей водой. Не сказала об этом никому, чтоб не погнали в блиндаж сушиться. Так, мокрая до нитки, весь день и просидела на ветру, а тут начался дождь со снегом. Шарила оптическим прицелом по немецкому переднему краю, а зубы стучали от холода. А потом еще три дня, уже с температурой, ходила на «охоту», даже убила двоих, и ночью, когда ее сменили, еле добралась до нар и потеряла сознание. Провалялась в госпитале с крупозным воспалением легких. Как ни просилась на фронт, отправили инструктором в снайперскую школу, в ту, которую кончала сама…
Варя думала о том, что отвыкла от передовой. Она боялась не страха, который может возникнуть при разрыве мины или свисте пули, боялась, что начнет оберегать себя от резких движений, от неудобных поз, к которым принуждает снайпера необходимость долгого и однообразного ожидания в узкой замаскированной ячейке, от риска, наконец, на который порой надо пойти, чтобы выманить немца хоть на секунду поднять голову над бруствером. Она боялась, что нечто, возникшее в ней, не подчиняясь ее воле, начнет оберегать себя, а значит, и ее, и кто-нибудь это заметит. Когда начальник школы наконец удовлетворил ее рапорт с просьбой отпустить на фронт, она уже поняла, что беременна, но не сказала об этом никому: ни Алеше, ни подружкам, не написала ни отцу, ни тете Жене. Она все решила сама, и сама должна справиться со всем, война шла к концу, и, рассчитав, Варя решила, что все успеет. То, что было в ней, она еще никак не назвала: ни «сын», ни «дочь», оно, наверное, было еще ничем, но уже сделало так, что курить ей стало противно, и Варя боялась, что оно может как-то помешать там, в окопчике, когда она будет отыскивать цель, щурить глаз, подводя мушку к роковому сокрестию, нажимать на спусковой крючок… Главное, чтоб никто не заметил.
И тут же на нарах, лежа, она начала мысленно сочинять Алеше письмо.
«Дорогой Алешенька! Мы очень далеко друг от друга, а мне так много надо тебе сказать! Ты не сердись, мы обязательно распишемся, но только после войны. Пойми, я просто хочу, чтобы это было красиво, я приду в белом платье, в туфельках на каблуках, будет много друзей и твоих, и моих. Правда ведь, так лучше? Все равно я твоя жена. Ты даже не представляешь, насколько я уже твоя жена! Но ты догадаешься и поймешь…»
Варя поднялась, подсела к тумбочке — это были зеленые ящики из-под мин, прикрытые куском гардинного тюля, — и, выдернув разграфлённый лист бумаги из какой-то немецкой бухгалтерской книги, начала писать.
«Дорогой Алеша! Часть, в которую я прибыла, уже в Польше. Скоро начнется моя работа. Пока ничего интересного сообщить не могу, как говорится, еще не осмотрелась. Относятся ко мне здесь хорошо. Писем сюда я ни от кого не получала, поэтому немножко скучаю. Места тут красивые, река, много зелени. Красота! Как-то не ощущается, что это заграница. Такая же земля в воронках, траншеи. Город сильно разрушен немцами, их тут люто ненавидят, а к нам очень приветливы. И язык понятный. В общем, ничего заграничного я почти не почувствовала. Я перечитала твою записочку, которую ты мне с Витей накануне отъезда написал, и нашла в ней несколько грамматических ошибок. После войны тебе придется подналечь на русский язык. Сегодня я пойду на передовую знакомиться с обстановкой. Ты за меня не волнуйся. Все будет хорошо, Я тебя очень люблю. Береги себя…»
Варя сложила треугольником листок и надписала адрес. Она не знала, где сейчас Алешина десантная бригада, но номер полевой почты всегда вызывал у Вари ощущение ужасной отдаленности. И вдруг она подумала, что, может быть, это не так, может, Алеша всего в ста километрах отсюда. И эта мысль обрадовала. Варя не хотела видеть в ней ничего сомнительного, старалась укрепить ее различными аргументами, которые казались ей очень убедительными, во-первых, потому, что «на войне всякое бывает», во-вторых, потому, что ей так хотелось, ибо в мысли этой была надежда на случайную встречу с Алешей. И с этим светлым чувством радостного и тревожного ожидания, будто такая встреча непременно произойдет и очень скоро, Варя начала писать письмо тетке.
«Дорогая тетя Женя! Твоя Варенька жива и здорова, прибыла на место, здесь совсем тихо, не стреляют, тыл, одним словом. Видимо, меня здесь и продержат до конца войны. Ты, конечно, опять не веришь, начнешь что-то выискивать между строк, полагая, что я просто успокаиваю. Я уж тебя знаю! Как только получишь мой адрес, сразу напиши: есть ли от папы письма? Я очень волнуюсь. Женюра моя дорогая, как мне хочется обнять тебя, сесть рядом и начать выдергивать из твоей черной косы седые волосинки. Помнишь, как до войны ты давала мне по пять копеек за каждый седой волосок твой. Плохи были мои заработки: 10–15 копеек в месяц. А сейчас? Как ты живешь, как здоровье? Давно ли была на маминой могиле? Не разрушилась ли она? Вернемся с папой с войны и поставим маме красивый памятник из мрамора, белый такой и высокий-высокий! Она же у нас была добрая и умная! Мне бы очень хотелось тебе многое рассказать, но сейчас не время, да в письме это не получится так, как мне бы хотелось. Ведь ты любишь задавать вопросы, перебивать меня, а я должна тебе отвечать. Как же это в письме сделать? Очень тебя прошу вот о чем: я ужасно выросла и поправилась. Все мои школьные платья не будут годиться мне, не влезу в них, так что ты их продай или выменяй на продукты. Ты должна хорошо питаться. После войны я сошью себе много новых модных платьев. Пиши. Целую. Твоя Варваша».
В блиндаже стало светлее: солнце, садившееся за дальнюю рощу, стелило красно загустевшие лучи по холму, свет их проник сквозь открытую дверь и все в блиндаже сделал оранжевым, даже графитно отблескивали буквы, которые Варя выводила химическим карандашом на желтоватой бумаге.
«Здравия желаю, товарищ военврач! Пишет вам самая послушная ваша дочка Варька. Та самая — когда-то худенькая, вечно наступавшая на болтающиеся шнурки собственных ботинок, любившая половинку французской булки запихивать в стакан с молоком и хлебать эту кашу. Папун, миленький! Я опять, слава богу, на фронте. Мы в Польше. У меня все в порядке, и ты не нервничай. Пуля, хотя и дура, но зачем ей убивать девятнадцатилетнюю Варьку?! О быте моем распространяться не буду. Как врач, ты понимаешь некоторые неудобства для женщин, связанные с фронтовой жизнью. Постирушки и прочее. Но что делать, если идет действительно священная война! Между прочим, когда я была в спецшколе, встретила Алешу Обухова. Их десантная бригада была на переформировке недалеко от нас. Ты, должно быть, помнишь его. Он учился в параллельном классе, десятом „Б“, такой рыжеватый, высокий. Помнишь, он с нашего балкона перелез по доске на четвертый этаж к Бычковым, когда их бабка вышла, захлопнула двери, а ключи забыла. Мы с Алешей пробыли почти месяц вместе. Ты, пожалуйста, не подтрунивай. Он очень серьезный человек. Уже два ордена Отечественной войны, старший лейтенант. Тете Жене я сегодня тоже написала письмо. Жду от тебя весточки…»
Солнце совсем зашло, но было еще очень светло. По-летнему медленно и незаметно под кусты, в складки овражков западали тени, и в гладкой голубизне неба появлялась послезакатная прозелень.
Варя стояла в замаскированной ячейке. От малейшего шевеления сухие комья на бруствере, прошитые увядшими корнями травы, сочились струйками земли. За бруствером, метрах в пятистах, темнело в легкой ряби озеро, один край его, изгибаясь узким клином уходил вдаль, в глубь немецкой обороны и скрывался в кустарнике. По восточному, ближнему берегу озера шла немецкая передовая.
Третий час осматривает Варя в оптический прицел оборону немцев. Солнца нет, и Варя не боится, что зайчиком оно вспыхнет в линзе. Взгляд ее неторопливо движется сперва по нейтральной полосе, запоминая каждый куст, впадину, пенек, затем еще медленней — по брустверу немецких траншей. Там все замерло, никакого движения.
Окопчик Вари оборудован удобно, со ступенькой, на которую можно опереться коленом, и находится он чуть правее окопа боевого охранения. Никого ближе к немцам, чем Варя и Утин, нет. Наша передовая оставалась за их спиной.
— Ну, что там? — спросил Утин.
— Все тихо, — ответила Варя, чуть подвинув дистанционный маховичок. Глаза у нее устали, словно снует перед ними роем мошкара — кружатся, пляшут какие- то серые точечки, и расходятся от них цветастые яркие круги. — Все тихо, — повторила она и осторожно, чтобы не сбить прицел, отставила винтовку.
Утин навел в окопчике порядок — сложил в нише гранаты, обоймы, две фляги с водой и, присев на корточки, смотрел на Варю.
— Скоро стемнеет, — сказал он. — Дай глянуть, а?
— Возьми, только аккуратно.
— Здорово как! — восхитился Утин, прильнув к оптике. — Кажется, рукой камешек можно снять с немецкого бруствера. А ведь он черт те где! — шептал он, поводя прицелом. — Когда-нибудь стрельнуть дашь разок? — спросил, возвращая винтовку.
— Дам, дам, — улыбнулась Варя. — Тут, как и у вас в аптеке, — все точно взвешено и рассчитано: законы света, законы оптики, девять линз, четырехкратное приближение… А черненькие на вашем участке есть? Люблю черненьких, — сказала она, заталкивая под каску выпавшую прядь.
— Кто это — черненькие? — спросил Левка.
— Ну эсэс.
— Не видал…
— А у тебя девушка есть, Лева? — спросила Варя.
— Есть. Только родители ее не разрешали нам дружить. Они верующие, вроде сектанты какие-то. А когда узнали, что ухожу добровольно на фронт, запретили ей писать мне. Да и мои письма, наверное, прячут. Ведь по их законам человек не должен брать в руки оружие, убивать другого. Может, оно и правильно? — Хитро сощурясь, Левка глянул на Варю. — Так что мое дело — хана, грешник я. — Утин хихикнул. — Честно говоря, первого — было страшно. Ведь я ножом его бил. Ладно бы пулей, с расстояния, а то — прямо в окопе ихнем, навалились мы, разведка боем шла. Потом два дня руки мыл, сейчас и не вспомню, куда я его саданул…
Беззвучно подул легкий ветер, в нем незримо и мягко заколыхались, очнулись запахи трав и земли, прогретые дневным солнцем. На высоком, слабо покачивавшемся стебле Варя увидела бабочку — оранжевую, с коричнево-красными и траурно-черными узорами, которая пошевеливала черными длинными усиками с шариками на кончиках, как барабанные палочки. И было в этих запахах, летевших издали, и в этой детской бабочке что-то давно знакомое.
Варя не заметила, как улетела бабочка. Где-то слева застучал крупнокалиберный пулемет, и над нашей передовой низко промчались светящиеся тире трассеров, исчезая в потемневшем на востоке небе. Сумерки стали плотнее, и первые звезды уже пробуравили их тонкими подрагивающими лучиками. И вроде отдельно от всего на земле, что было исковеркано огнем и металлом, начиналась над миром вечерняя тишина. И если бы не пугливая стрекотня пулеметов, изредка выстилавших движущуюся цепочку свинцовых светлячков, можно было бы подумать, что все умиротворилось, образумилось, что человеку можно уже подняться, наконец выпрямиться во весь рост, стряхнуть с одежды пыль, пожухшие травинки и зашагать, в голос разговаривая, не боясь ни земли, ни неба, с которых так долго следила за ним смерть…
— Который час? — спросила Варя. — Мои часы стоят, завести забыла.
— Двадцать минут десятого, — Левка глянул на часы, где лимонно фосфоресцировали цифры и стрелки.
— Пора домой. Завтра с рассвета начнем, — сказала Варя.
Они выбрались из ячейки, проползли до овражка, по которому уже можно было передвигаться на четвереньках, чтобы добраться до первой линии наших окопов.
Шел четвертый час утра. Еще не было слышно щебета птиц, только в темной и теплой тишине громко разносился мирный стук дятла, долбившего высокую звонкую сосну на холме.
Утин шел рядом с Варей, спросонья потирая ладонью лицо. Как и рассчитали, затемно они добрались до передовой, а оттуда по овражку поползли в свою ячейку.
После ночной суетной стрельбы «на всякий случай» наступила предрассветная немота. Варя даже услышала, как кто-то в окопчике боевого охранения с подвывом мучительно зевнул.
— Позавтракаем? — шепотом спросил Левка.
Варя кивнула.
Они съели по куску холодной жесткой говядины с хлебом, которую с вечера Утин взял на кухне, запили ее водой из фляги, потом Левка угостил Варю куском рафинада.
— Вместо папиросы, чтоб не курила, — пояснил он. — Глюкоза, погрызи.
— Ты заботливый, — улыбнулась Варя.
— Приказано следить за тобой, — он опять устроился по-своему, на корточках, так, что колени почти касались подбородка, а голова склонена набок. — Ты поосторожней, чтоб не убило. Я за тебя отвечаю…
Начинался рассвет. Небо на востоке оттаивало, и малиновая легкая полоса поднималась над холмом.
— Днем будет зной, — сказал Левка. — Скорей бы выбить их оттуда, — он кивнул на озеро. — Поплавать бы! Знаешь, как я плаваю? У-у! — Он выпятил губы и мечтательно провел рукой по автомату, словно погладил. — Я вот не знаю, пригодится ли мне то, чему я научился на войне, или нет, только разучиться этому я уже не смогу.
— А я смогу, — сказала Варя и посмотрела за бруствер сквозь маскировочные чахлые ветки со съежившимися листиками. — Конечно, смогу! Я начну заниматься всем новым, совершенно новым. Ведь в мире будет так много нового!.. Ну, давай бери бинокль. Уже совсем светло. — Она медленно взяла винтовку, сняла чехольчик и осторожно просунула в бойницу ствол.
Шло время, но никакого движения в траншеях перед озером не было. Утин вдоль и поперек по нескольку раз обшарил приближенные биноклем нейтралку и немецкую передовую, дышал и протирал линзы и снова смотрел.
— Что они, вымерли?! — злился он.
— Бывает, что и по два дня вот так сидишь, — отозвалась Варя, не отрываясь от оптики. — Нужно терпение.
Солнце стояло уже высоко, жгло в спину, у Левки завлажнело под бровями и на веках, потные ладони прилипали к пупыристой поверхности, которой обтянут металл бинокля. Ему уже невмоготу было вот так неподвижно сидеть, а Варе, хоть бы что — даже плечом не шевельнет.
Лишь после полудня в том месте, где кончался фланг вражеской траншеи и где озеро, изогнувшись узкой полоской, удалялось в немецкие тылы и было полускрыто кустарниками, в их зеленой глубине Варя заметила какой-то промельк. Спустя некоторое время — еще. Приближенные оптикой, хорошо были видны кусты, серебристые чешуйки озерной воды меж ними и две удалявшиеся неясные тени, они то возникали, то исчезали. Но ухватить их прицелом было трудно, и стрелять Варя не решилась.
— Я поползу туда, — сказала она Утину. — Ты, если что, прикроешь меня. Отсюда удобней. Понял?
— Может, лучше я? — Он кивнул в сторону озера. — Ты ж как на ладошке будешь. А тут дело чисто пехотное. Знаешь, как я ползаю?!
— Ты понял мой приказ? — Варя отхлебнула из фляги, прополоскала рот и выплюнула воду на дно окопчика. Вода тут же ушла в землю, оставив темное пятно.
Утин кивнул.
— Неловко как-то: я тут, в окопе, а ты — вся на виду там. — Он попытался еще возразить, действительно испытывая неловкость и опасаясь за Варю.
— Все! Выполняй!..
Из ячейки Варя приметила воронку, которую прикрывала, упершись стволом в землю, стоявшая на единственном уцелевшем колесе пушка.
Варе казалось, что ползла она к этой воронке вечность, и когда скатилась в нее, почувствовала, что вся взмокла. Отдышавшись, устроила поудобней винтовку и глянула в прицел.
И словно метнулась к ней земля с кочками и кустиками, стволы березок и прутики лозы — все наплыло и остановилось перед нею, близкое, замкнутое в круглом окуляре. Она чуть повела прицелом и увидела чистую полосу песчаного берега, овально срезанную окуляром кромку воды. А на берегу — Варя, от удивления даже закусила губу — сидел в трусах парень. Сидел почти так, как Левка, на корточках, подобрав высоко колени. Варя видела часть его крепкой загорелой спины и повернутое широкое молодое лицо. Оно тоже было загорелым, лишь на лбу оставалась белая полоса, видимо, от постоянного ношения головного убора. Затем парень лег на песок, поправил упавшие волосы и принялся читать газету, но читал странно: в руках его был карандаш, он что-то коротко писал им на газете, подносил карандаш к губам, задумывался и снова писал. Похоже было, будто решал он кроссворд, — свободно, расслабленно, по- пляжному парень развалился на горячем песке. Затем он поднял голову, глянул в сторону озера — вроде кто-то его окликнул, закивал и опять уставился в газету, поигрывая карандашом.
Варя сдвинула винтовку чуть вправо и тут же увидела, что из воды вышла женщина. Голая. Попрыгала на одной ноге, вытряхивая из уха воду. Отжала короткие волосы. Шагнула к парню. Женщина была молода, но уже не девическими были пухлый покат ее плеч и большая грудь. Утираясь, она наклонилась к парню. Они говорили о чем-то. Оба теперь были в круге прицела. Но конус мушки Варя держала на лбу немца — лицо его теперь было повернуто к ней. Обыкновенное человеческое лицо. Даже приятное, с широким разлетом бровей, скуластое. Не было на нем никакой печати жестокости или злобы. Лицо молодого крепкотелого парня в коротких синих трусах с белой полоской по бокам. Варя медлила.
В снайперской Вариной книжке по графам были занесены даты ее выстрелов, количество убитых и подписи наблюдателей, подтверждавшие, что пули попали в цель… Двадцать три такие записи… Пилотки и каски, серо-зеленые мундиры и летние военные рубахи с открытым воротом и с темными пятнами под мышками, нашитые на одежду орлы и кружочки со свастикой, черепа на кокардах и свисавшие с плеч ремни автоматов… Помнит Варя лишь это, но не лица тех, кому все это принадлежало. И она сняла палец со спускового крючка, оторвалась от окуляра. Парень и женщина рядом, и все, что окружало их мирно и безмятежно, — сразу же пропало, отброшенное расстоянием назад, на свое прежнее место, — за несколько сот метров в глубину вражеской обороны.
Варя хотела, чтобы парень скорее оделся. Она не боялась, что цель исчезнет, — полутора минут достаточно, чтобы все это увидеть снова: она делала пять прицельных выстрелов в минуту.
Утерев пот, стекавший из-под каски по вискам к глазницам, Варя почти ощутила прохладу воды, блестевшей на полных руках и высоких бедрах женщины, вышедшей из озера. «Интересно, рожала она или нет?» — подумала Варя, опять пристраивая теплый приклад к щеке.
Теперь она увидела их снова порознь; женщина была уже одета: в сапогах, в форменной юбке и кителе, в руках она держала сумку с большим белым почтовым знаком — рожок и крылья. «Полевая почта», — поняла Варя. А парень тем временем, разбежавшись, бултыхнулся в воду. Много раз Варя видела, как купаются именно так: ныряют, болтая над водой ногами, затем, вынырнув, трясут головой, протирают ладонями глаза. Наверное, все люди в мире делают одно и то же, когда купаются. Варя понимала, что женщина может уйти, и не смотрела в ее сторону.
А парень уже одевался. Господи! Чтоб переодеться, он так знакомо обмотался полотенцем, сволок синие и натянул белые трусы, а те, что снял, стал выкручивать неумело, по-мужски — правой рукой к себе — и, выкрутив, завернул их в полотенце, предварительно стряхнув налипший песок. И вот он уже в галифе и сапогах, широко расставив ноги, причесывается. Из той же кучки одежды, которую Варя видела все время, но как бы отдельно от него, он берет китель, ремень с кобурой. Ладный, застегнутый на все петельки, аккуратно перепоясанный, осторожно, чтоб не смять пробор, надевает высокую офицерскую фуражку… Немцу осталось только прикурить от зажигалки, вмонтированной в портсигар. И когда дым сигареты после длительной сладкой затяжки слегка затуманил, размывая черты лица офицера, Варя потянула спусковой крючок…
Когда потом она посмотрела на свои маленькие часики — подарок тети Жени, — то с удивлением отметила, что с момента, как засела в этой воронке, и до выстрела прошло всего двадцать семь минут.
Долгий путь
«Я должна возглавить совет регентов, — сказала Анна-Мария».
«Но как быть с Карлом?»
«Вы мужчина или скопец? Задавать женщине подобные вопросы! Или вы способны зарезать только теленка, зажарить на вертеле и хрустеть корочкой с его сочной ляжки, нашпигованной салом дикого кабана, которого убьют ваши слуги?»
«Я понял вас».
«Ступайте…»
Отброшенная книжка, шаркнув по цементному полу, полетела к большому мусорному баку — истрепанная, без обложки, отпечатанная холодной, дисциплинированной, как солдатский строй, готикой. Роман о германских рыцарях. Массовая серия для бюргеров.
Когда майор Левицкий подобрал книжонку, думал — что-то путное, почитать хотел, отвлечься от ноющей боли в желудке.
Тусклый свет карбидной лампы выдавил из темноты высокого пустого флигеля кусок кирпичной стены, перехлестнутой накрест могучими балками из мореного дуба. В них торчали крюки с подвешенными хомутами и шлеями.
Левицкий лежал на нарах. Портупею, ремень с пистолетом опустил на пол, к сапогам. Во флигеле пахло навозом, пропотевшей сыромятиной и старой чердачной пылью, попискивали и шуршали летучие мыши.
Он опять вспомнил немку из Вюртенау, у которой вчера попросил напиться. Она стояла во дворе с одежной выбивалкой в обнаженной белой руке. Женщине было едва за тридцать. В скупом на движения лице с высоким светлым лбом, на котором дрожала дымчатая прядь, не было ни страха, ни ожидания, оно не искажалось упреждающе-услужливой улыбкой, а в фигуре была статность без малого намека на подобострастную сутулость плеч. Встречный взгляд ее, прямой и протяжный, вроде цеплял давним, выпытывающим любопытством: что же вы такое? какие воистину? что несете нам? какая она, уже ваша правда? Левицкий не отводил ее взгляда, упершись в него своим: кто же вы в конце концов такие? чего же хотите от нас теперь?.. Так, показалось ему, они поняли друг друга в этот миг взаимных вопросов без ответов. Но ни он, ни она не задали вслух этих вопросов. Война кончалась, но еще шла. На земле этой немки. И, наверное, еще было время немых вопросов, а не слов… Вот в чем дело… Она вынесла ему воды в тяжелой фаянсовой чаше, наблюдала, как он пьет, жадно дергая кадыком; так, возможно, пил ее муж или брат. И эта схожесть, наверное, поразила ее, потому что с трудом она отняла взгляд от напряженной шеи русского. Он поблагодарил ее кивком, хотя мог по-немецки сказать слова благодарности и еще что-нибудь, удивив своим превосходным саксонским диалектом. Но он только кивнул и ушел… А вот лицо ее застряло в памяти. И вся стройная фигура на фоне аккуратного особняка, отделенного от улицы металлической сеткой…
Левицкий перевернулся, плотно лег животом на доски — может, боль поутихнет. Соды бы! Щепоть соды, чтоб присыпать изжогу! К этой поре у него всегда обострение. А тут дернуло еще пообедать щами. Капуста к весне сильно переквасилась, полкотелка умял…
Он вышел из флигеля. Тишина и темень. Где-то у плотины, на канале, звонко поплескивала вода, из черноты, куда уходило поле, тянуло сыростью сытой от влаги, очнувшейся голой земли.
Двухэтажный помещичий дом, упирающийся в каменные глыбы высокого фундамента, назывался, как и весь хутор, Гохдорф, и нынче располагалось здесь несколько служб штаба фронта.
Сейчас дом казался еще тяжелее и угрюмее, темнота словно не вмещала его, и он выпирал из нее, круто нахлобучив кольчужно чешуйчатую черепичную крышу. Где-то во внутреннем дворе трещал движок, сквозь небрежную маскировочную защиту из окон ускользал свет.
«Осмелели братья славяне, — усмехнулся Левицкий. — Дело к концу подошло…»
— Майор! Товарищ майор, вы, что ли? — услышал он за спиной голос и сухое щелканье гравия под шагом. — К генералу вас. — Человек приблизился, однако лица его было не разглядеть.
Левицкий двинулся следом за ним. Миновали арку ворот, двор, вымощенный брусчаткой, вошли в дом. В полутемных коридорах, где в нишах стояли статуи курфюрстов, по стенам висели провода и жгуты кабеля.
Генерал снял пенсне, вялым движением узкой ладони прикрыл глаза, смял и тут же разгладил кожу и снова защемил переносье стеклами:
— Садитесь.
Левицкий сел. Лампа горела неровно, то обмирая, то накаляясь, словно дышала, и от этого Левицкому казалось, что все в комнате колышется.
— Почему не бриты, майор? — спросил генерал.
— Утром брился, товарищ генерал.
И это было правдой. Но он давно заметил: когда наступали приступы боли, борода вроде быстрей росла, щеки мученически западали, от этого лицо темнело. Но объяснять такое он тут не мог.
— Вы что, больны? — всмотрелся генерал в его серое лицо.
— Язва, — ответил Левицкий.
— Желудка? — оживился вдруг генерал. Он даже вышел из-за стола, прислонился к голландской печи из белого с узором изразца. — А у меня — двенадцатиперстной. Осенью и весной особенно донимает.
Левицкий кивнул.
— И голодные боли. Да?.. А желатин пробовали?
— Соды бы, товарищ генерал, если найдется, — сказал Левицкий.
Генерал пошевелил бумагами в ящике стола и извлек оттуда обычную ружейную масленку, протянул:
— Вода в графине.
Левицкому понравилось, как хранилась сода: в масленочке, сухо, надежно. Ополаскивать бокал он не стал, постеснялся, да и воду потом не знал бы куда вылить. Тряхнув на ладонь соды, он губами и языком слизнул ее, запил двумя большими глотками и вернул генералу масленку.
— Можете ее прикарманить, — сказал генерал и начал что-то вспоминать о народных средствах лечения язвы, которыми после войны надо бы все же заняться.
Левицкий слушал генерала рассеянно. Хотелось скорей выбраться из этой комнаты на волю, расслабить ремень хоть на одну дырочку, на попутных машинах поскорей добраться к себе в часть и там, ложась спать, завернуться в шинель и прислонить к животу бутылку с горячей водой. Мог, правда, и не спешить отсюда: немедленной нужды в нем, в его профессии война не испытывала, задержись он здесь, ничего бы не нарушилось и не изменилось в ее уже окончательно пересчитанном и отмеренном пути, который теперь разветвился и гремел по улицам Берлина.
— Майор Левицкий… Виктор Николаевич, — генерал читал уже по бумажке, — 1915 года рождения, военный переводчик. Офицер отдела по разложению войск противника. — Он поднял голову. — Вам придется заняться цивильными немцами. В особенности — после всего. До конца войны осталось несколько дней. Верится, а? — он опять снял пенсне. — Вот… Подробные инструкции получите у полковника Щербатова. Дело нелегкое. Тут понадобятся и другие слова, и другие эмоции. Вы поняли?
— Да, товарищ генерал.
— Учтите: другие слова и другие эмоции! В материалах, которыми мы вас обеспечим, их нет. Все это придется отыскивать в себе. Заново.
— А если не отыщутся? — встречая взгляд генерала, спросил Левицкий.
— Что, я вас лозунгом убеждать должен? Нужно, майор!
«А лозунг-то есть. Подходящий, — подумал Левицкий. — Да и лозунг-то чей! Гейне! „Всякое время имеет свои задачи, и, решая их, человечество движется вперед“. Они выбросили имя этого человека из своей истории, вычеркнули и забыли. Сейчас, когда все рухнуло и пришло возмездие, вспомнив, не постеснялись бы на каждом доме приклеить эту фразу, чтобы уберечься от нашего гнева, спрятаться за нею. По-фарисейски, мол, „всякое время имеет свои задачи…“».
Генерал не знал Гейне так доподлинно. Он просто приказными словами втолковывал Левицкому его новые обязанности.
— Вы можете не спешить к себе в часть. Отлежитесь здесь, если желаете, — сказал генерал. — У меня все, майор. Вы свободны.
К полуночи Левицкий закончил все дела у полковника Щербатова, получил у него необходимые печатные материалы и инструкции, узнал у дежурного офицера последнюю сводку и вышел во двор. Небо было черным, в звездных проколах. Левицкий прислушался к боли в желудке, словно это должно было решить его дальнейшие действия. Впрочем, он действительно прикидывал: то ли в самом деле отлежаться здесь, то ли двинуться немедля к шоссе. Надо бы так, конечно! На попутную, чтоб побыстрей добраться к себе, пойти в санбат к Анне Михайловне… Снять боль…
— Товарищ майор, товарищ майор! Вернитесь-ка на минутку! — окликнул его выбежавший дежурный офицер.
— Что еще? — морщась, спросил Левицкий, входя в комнату.
— Такое дело, — посмеиваясь, качал головой дежурный. — Прибыло пополнение, пятеро лейтенантов. Пацаны, я вам скажу, натуральные пацаны, — весело скалился он. — Прямо из училища… Дак чуть не заблудились! У них назначение в вашу часть. Спешат. Хотят еще на войну поспеть. Прихватили бы вы их, товарищ майор. А? Сами-то они, чего доброго, опять заблудятся в этой чехарде. Немцев-то полно по лесам да проселкам разбежалось. Не ровен час.
«Надо же! — подумал Левицкий. — Няньку нашел».
— Ведь в вашу часть, товарищ майор, — напомнил дежурный, чувствуя, что Левицкий будет отказываться. — Боязно за них. Школяры безусые.
— Где они, эти… лейтенанты, что ли? — выдавил Левицкий.
— Да в соседней комнате чаи гоняют, — дежурный быстро прошел к двери.
Они действительно пили чай, пятеро мальчишек с лейтенантскими, торчком, новенькими погонами. Вскочили. Вытянулись. Форма свеженькая, ни складочки, ни стертости. Ремни и портупеи не потеряли глянца, топорщились необмятые кобуры.
— Вот, товарищи лейтенанты, поступаете в распоряжение товарища майора, — упреждающе сказал дежурный. — Он вас до самого места доставит, на самую войну, — хмыкнул он и козырнул.
Они все еще стояли, открыто и любопытно глядя на Левицкого, тужились в строевой выправке, которая в училище считалась, наверное, верхом офицерского достоинства.
— Садитесь, — устало сказал Левицкий. Ему тоже вдруг захотелось чаю, но вспомнил, что сахар у него вышел, а они, конечно, начнут предлагать свой. «Ладно, без чая будет», — решил он и сказал:
— Что же вы? Пейте, остынет.
— А мы уже, товарищ майор!.. Мы готовы! Когда выступать? — поспешно затараторил один — рыженький, с большими розовыми ушами.
Остальные согласно и радостно закивали, хотя перед каждым стояло еще по полкружки недопитого чая.
— Выступать когда? — переспросил Левицкий и задумчиво оглядел их. — Выступим… — не сразу ответил он, словно примеривался к ним взглядом, наконец спросил: — Вы где устроились?
— Нигде, — удивленно сказал за всех рыженький. — Мы думали немедленно двигаться к фронту.
— А кипяток у вас есть? — Левицкий заметил на подоконнике порожнюю бутылку из-под мозельвейна с воткнутым в горлышко оплывшим свечным огарком.
— Есть. В двух котелках, товарищ майор.
Проливая на руки и на пол булькающий в бутылке кипяток, Левицкий кое-как наполнил ее, заткнул тем же огарком.
— Что ж, воинство, пошли спать, — сказал, заметив при этом, как огорчительно сжались лица лейтенантов.
Когда шли через двор — он впереди, смешно, с бутылкой в руке, они, поотстав, цокая по брусчатке подковками необношенных сапог, — Левицкий слышал, как лейтенанты о чем-то шептались, перебивая друг друга, вроде спорили.
Устроились в том же флигеле: он на прежнем месте, они — у торцовой стены на нарах, где по-детски долго укладывались, возились и опять горячо шептались.
Левицкий сунул под гимнастерку бутылку, лег на бок, прижав ее к животу. Вскоре от тепла стало легче: боль вроде собралась в комок и сидела уже в одной точке. Он не догадывался, что был тот случай, когда ему нужна не теплая бутылка-грелка, а пузырь со льдом.
Засыпал он медленно, то опускаясь в сон, то поднимаясь в явь, и в эти минуты думал о том, что зря застрял здесь на ночь, хотя то, что подтолкнуло его остаться, имело причину, однако была она столь еще смутна, как ощущение, что обдумывать ее он не спешил.
Было тепло, боль отступила. И он снова вспомнил ту немку, ее белые руки, спокойное, чуть скуластое лицо и дымчатые волосы на плечах. И, может быть, впервые за четыре года он подумал о женщине. Неужели уже тогда, когда смотрел на нее, в его глазах дымилось это желание?! И она прочла его?! Но как? Пришел победитель и требует дань? Но почему это чувство вызвала в нем именно эта женщина, немка?! Ведь немало иных проходило рядом за минувшие годы, с близкими и привычными именами, которых можно было запросто окликнуть?..
Туман свежего утра зыбкими полосами сползал с канала и поймы. До самого леса шла зеленая кучерявина мягкой травы, отглянцованной предзоревой росой. Был конец апреля. Умиротворенность и сонный покой только что явившегося дня ощущались в мерном плеске воды, в поклонных движениях тугими шеями двух коней, редко и лениво ступавших по лугу.
Было еще прохладно. Передернувшись до судороги в мышцах, Левицкий посмотрел на низкое белесое небо, углубившееся голубыми промоинами, и решил, что день будет жаркий.
Отсюда, из-за жесткой изгороди высоких кустов, он видел причальные мостки на канале. Пятеро мальчишек в черных, почти до колен, сатиновых трусах прыгали там, растирались куцыми вафельными полотенцами. Углами ходили лопатки на их гибких спинах. Слышны были голоса — задиристо-веселые, ничем не обремененный молодой смех. Им было зябко после раннего купания в еще по-ночному студеной апрельской воде, но они хорохорились.
Затем они присели на корточки над медленным ручейком, стекавшим в канал, опустили в него бумажный кораблик, стали швырять камешки и соревноваться, кто раньше его утопит…
Левицкий с любопытством и с улыбкой наблюдал за ними. В эти мгновения они вдруг стали существовать для него как бы вне того времени, которому безраздельно вот уже четыре года принадлежал он и которое управляло им по своим, подвластным лишь войне, законам. В таком кругу дней, месяцев и лет рядом с ним были многие люди, но эти мальчишки в черных трусах оставались пока в стороне, за пределами этого круга, они еще не умещались там, где спешили занять чье-то уже зияющее место. И, глядя на них сейчас, Левицкий даже взглядом отсекал справа, словно отодвигал за поле зрения, угол этого мрачного немецкого дома, — а слева — лежавшие на траве их гимнастерки, сапоги, ремни с пистолетами. Он как бы заключал их в раму, где фоном были луг, два коня на нем, дальний тихий лес — то, что могло и должно было сейчас по его воле оставаться рядом с ними только вневременным и географически безымянным.
Чтоб не смутить лейтенантов, он решил уйти.
Позавтракал клейкими, без жира, макаронами, выпил кружку кипятку и закурил. И снова засосала тягучая боль в желудке.
Вскоре явились они — гладко-розовощекие, затянутые тканью и ремнями, легкие в походке, одинаковые.
— Завтракали? — спросил Левицкий. — Тогда собирайтесь.
Радостно они начали упаковывать вещмешки, возбужденное настроение было в каждом их движении, словно их торопило предчувствие встречи с чем-то удивительным, необходимым и ожидание этого делалось уже невыносимым.
С самого начала Левицкий взял неспешный, размеренный темп, издали казалось, что это — походка человека в конце пути и вот-вот он присядет переобуться.
Повел он их по грунтовой дороге вдоль леса, иногда она, разветвляясь, заныривала в глубину, где с нее начиналась ровная, сквозившая вдаль, как под линеечку, прорубленная просека.
Лейтенанты шли серьезные, молчаливые, сосредоточившись на значительности каждого шага, отдалявшего их от наскучившего тыла. Сапоги их запылились, на гимнастерках появились складки. Левицкий видел, что это им нравится, потому что придает вид людей, протопавших по фронтовым дорогам не одну версту.
На каком-то уже трудном километре напряженное ожидание отпустило лейтенантов, за поворотами дороги больше ничего не угадывалось, солнце било уже в спины, щекотно стекал пот с их мальчишеских затылков на быстро потемневшие подворотнички. Наскучило им и молчание.
— А почему мы не идем к шоссейке, чтоб попасть на попутную, товарищ майор? — опять за всех спросил рыженький.
— И тут неплохо, — повел рукой Левицкий.
— Но оттуда быстрей доберемся до места.
— Место-то на месте стоит, — неопределенно ответил Левицкий.
Лейтенанты переглянулись.
Вскоре Левицкий знал о них все: где жили прежде, кто родители, из какого пехотного училища выпорхнули. И на вопрос, сколько же им лет, узнал: «Скоро девятнадцать». Понимай как хочешь: то ли через неделю, то ли вообще когда-нибудь.
Привал он устроил на зеленой поляне у входа в лес. Лейтенанты вспороли ножом банки с тушенкой, уминали волокнистое мясо с сухарями. Левицкий от их приглашения отказался. Он сразу же разулся, лег на спину и стал грызть галету, пытаясь умилостивить голодную боль, от которой хотелось согнуться, прижать живот к коленкам. По теплой траве босой он ушел в лес подальше, прислонился спиной к высокой сосне и откинул голову, чувствуя, как холодная испарина облепила лицо, а к горлу поднимается тошнота. Он постоял так с закрытыми глазами, глубоко дыша широким ртом, зная, как сейчас бледен…
Тошноту, однако, он не сдержал. Боялся лишь, чтоб они не услышали, как его рвет. Он увидел кровь и понял: выгрел вчера бутылкой. Кусочек бы льда проглотить… Зачем он устроил этот пеший переход?.. Сейчас бы в санбат, к Анне Михайловне… Блажь какая-то. Все равно у Молоха глаза зрячие… Ладно… Ладно… Только бы не так болело…
Отдышавшись, он вытер грязным платком рот и побрел к поляне.
— …Нельзя так с ходу: «Трусоват». Ты что, видел его в деле?..
— Ну, я имел в виду, что не спешит он. И мы тащимся.
— Просто штабист-тыловик. Чего ему рваться туда? Там страшно.
— Посмотрим.
— У него «За отвагу»…
— А под конец — труханул. Исключаешь?
— Кончайте вы.
Левицкий понял, что лейтенанты говорили о нем, и задержался в кустах: пусть не знают, что он слышал.
Потом они стали развлекаться — затеяли «жучка»: один стал спиной, прикрыл правой ладонью глаза, левую же выставил из-под мышки. Кто-то из товарищей сильно бил по ней, стоя сзади, а он должен был угадать — кто именно, и если угадывал, его место занимал уличенный.
Кто мальчишкой не играл в «жучка»?! А после обычно горела нашлепанная ладонь и набито ныло плечо. Детвора…
Кашлянув, он вышел к ним. Они смутились этой своей забавы, подобрались, одернули гимнастерки и, пока он мотал портянки, покорно ждали, жадно прислушиваясь к шуму двигающихся к фронту машин на невидимом отсюда шоссе.
Но он не повел их туда, а снова двинулся по проселку.
К вечеру добрались они к какому-то фольварку. По двору бродили куры, лениво клевали землю, надеясь в который раз на одном и том же месте найти зернышко.
Дом был хозяевами оставлен. Лейтенанты с любопытством, но деликатно ходили по комнатам, разглядывали все, что составляло не знакомый им уклад, постигая приметы тайного для них быта, но ни к чему не прикасались, это было чужое, из другого мира, как из другого времени. Пусты были и службы — хлев и добротный амбар с сеновалом. На нем Левицкий и решил заночевать.
— А зачем ночевать, товарищ майор? — осторожно спросил рыженький с розовыми ушами. — Мы не устали. Можно часок отдохнуть и двигаться дальше. К фронту, — досказал он в глаза Левицкому.
Остальные согласно закивали.
— Во сне люди растут, — усмехнулся Левицкий, перехватывая недовольный перегляд лейтенантов.
Среди ночи Левицкий пробудился как от толчка: то ли что-то приснилось беспокоящее, а что — вспомнить не мог, то ли необъяснимое предчувствие, — однако проснулся с гулким толчком сердца. В тишине по-детски безмятежно посапывали во сне лейтенанты.
Левицкий сполз с сена и, волоча ремень с кобурой, приблизился к чуть приоткрытой двери и сразу увидел немцев: темные фигуры в камуфляжных куртках и шароварах, в касках, с автоматами. Человек двадцать. Они стояли у входа в дом. По темным окнам его изнутри шевелился свет: кто-то с фонариком…
А эти ждут… Блуждающая группа, отбившаяся от части…
Осторожно, чтоб не нашумели, он разбудил лейтенантов:
— Тссс! — прикладывал Левицкий палец к губам. — Немцы…
Это слово сдуло с них сон. Лейтенанты уже сгрудились возле него, держа взведенные пистолеты. На их юных лицах была решительность и готовность ко всему.
«Игра!.. Да ведь для них и это — игра! Интересная игра в опасность», — с какой-то жалостью вдруг опознал он. И подумал, как, наверное, сам-то он смешон им нынче: босой, неподвижный, взлохмаченный, с пистолетом в руке.
— Пойдем на прорыв, товарищ майор? — жарко прошептал рыженький.
— Стой и не рыпайся. Это живые немцы, а не в кино, — осадил Левицкий. — И главное — тихо. Вон их сколько!.. На прорыв…
Он расставил лейтенантов по обе стороны двери, а сам приник к щели, чувствуя в ладонях потеплевшую тяжесть пистолета и понимая: взбреди на ум кому-нибудь из немцев заглянуть в амбар, тогда — все… Отвоюются лейтенанты… Да и он…
Но немцы тихо и осторожно стояли у дома, никто даже не курил. В доме уже горел слабый колыхающийся свет. Видимо, свеча.
— Можно глянуть, товарищ майор? — спросил рыженький.
— Глянь, — разрешил Левицкий, отстраняясь от двери.
Тотчас к щели приникли все пятеро, горячо дыша, мешая друг другу. Они не осознавали того, что произошло, сильнее этого было их детское любопытство. Они впервые видели живого врага. И он оказался вдруг для них обыкновенным: просто люди в касках, сапогах, с автоматами, никто из них не стрелял, все чего- то по-мирному ждали! И это было самым непонятным и разочаровывающим.
Но Левицкий все знал иначе. Знал он и таких юных лейтенантов, как эти, его, но уже расчетливых, не по возрасту мудрых и спокойных, а когда надо — отчаянных и мужественных в самых тяжелых боях. Такими они становились уже через две-три недели после училища, если, конечно, успевали прожить этот срок окопной жизни…
Время, замедляясь, тянулось к рассвету. Немцы вытащили из подвала бочку и поочередно пили из нее, черпая крышками котелков, по двое уходили за угол дома и возвращались с другой стороны, а навстречу им отправлялась новая пара часовых.
И тут из темного далека послышалось чихающее тарахтенье мотора. Оно приближалось, буравя тишину ночи. Кто-то из немцев метнулся в дом. Свет там погас. На крыльцо вышло еще четверо. Один махнул рукой. Все без команды построились и двинулись со двора. Они прошли мимо амбара так близко, что Левицкий сдержал дыхание. Он даже услышал запах давно немытого, уставшего мужского тела, пыли и металлически сухое трение автоматов о жесткую ткань маскировочных курток.
Свернув за амбар, строй сошел по тропе в долину, примыкавшую к лесу.
Тарахтенье мотора было совсем близким. Оно звучало напористо, открыто в ночной прислушивающейся тишине. И вскоре во двор вкатился мотоцикл с коляской, дернулся, кашлянув раз-другой дымным выхлопом, и заглох. Человек слез с сиденья, потянул из коляски «шмайсер» и, держа палец на спусковом крючке, заорал по-русски, дерзко отвергая всякую осторожность:
— Эй, есть кто живой?!
— Потише бы, — отозвался Левицкий, распахивая дверь амбара и заталкивая пистолет в кобуру.
— Привет, земляки! Вы что тут, как мыши? — заметил он выходивших из-за спины Левицкого лейтенантов.
— Немцы только что были, — ответил Левицкий.
— Черт с ними!.. Были — и нету… Не те они теперь… Капитан Галашин, — протянул он руку.
Капитан был выпивши. Шумный, подвижный, он размахивал трофейным автоматом, как палкой.
— Горючее кончилось! Я из госпиталя, понимаешь? Так быстрей, — кивнул он на мотоцикл. — Фирма что надо — «Цундап». В Вюртенау прихватил. Там этого добра полно.
Название городка откликнулось в памяти Левицкого видением: женщина с одежной выбивалкой в руке, ее серые, вглядывающиеся в него глаза… Она там живет… Эта женщина…
— Завернул сюда, понимаешь, может, бензинчика у бауэра организую, — он швырнул автомат в коляску.
— Бауэра нет. Пусто здесь. Вон другое горючее, — показал Левицкий на бочку.
Они подошли к дому, и капитан потянул носом над бочкой.
— Сидр это по-ихнему. Вроде нашего кваса. Так себе пойло.
Лейтенанты весело переглядывались. Им понравился капитан, его лихость бывалого фронтовика, нестеснительность, его трофейный «шмайсер», наконец, слова и словечки. Теперь Левицкий выглядел в их глазах и вовсе нерасторопным, со штатскими манерами, непонятным человеком, у которого все время почему- то морщилось серое уставшее лицо с кривой въевшейся улыбкой.
Светало. Небо на востоке пошло голубовато-сиреневым подтеком, он ширился, гася звезды.
Левицкий и Галашин вошли в дом. Лейтенанты же вертелись возле мотоцикла, крутили ручки, пробовали завести.
В комнате все было по-прежнему. Лишь на столе торчал в подсвечнике огарок и валялись остатки ночной трапезы немцев.
— Ты из какой армии, майор? — спросил Галашин. — Ну да! И впрямь земляки! — захохотал он. — А дивизия?
Левицкий назвал.
— В самом пекле. Уличные бои… А эти тоже оттуда? — дернул он головой на окно. — Петушки-то…
— Нет. Еще только туда. Из училища.
— Жаль ребятишек. Я ведь из госпиталя. Навезли туда мяса — глядеть страшно, хоть сам трижды меченый. Фаустники, понимаешь, лютуют. Агония. А эти, твои-то, совсем еще цыплятки. Спешат, небось?
— Спешат.
— А ты?
— Может, не успеют уже, — твердо сказал Левицкий, глядя мимо Галашина.
— Можно и так, — вслушиваясь в его слова, протяжно произнес Галашин, и они понимающе обменялись взглядом. Помолчали, и Галашин снова спросил: — Ну, а право ты имеешь? Ты же их вон чего лишаешь! Такой записи в биографии!..
— Мертвые, они об этом ни знать, ни помнить не будут.
— Это понятно, — пожевал губами капитан и распахнул окно.
Лейтенанты разглядывали «шмайсер», приставляли его к боку — тра-та-та-та, — точь-в-точь как немцы, которых они видели в кино.
— Как знаешь, — сказал Галашин, все еще глядя на лейтенантов. И уже о другом — веселее: — У меня спирток есть и закусь. — Он вышел к мотоциклу.
Левицкий видел, как лейтенанты окружили Галашина, наперебой задергали вопросами, а он шутками-прибаутками потешал их, отвечая. А потом рыженький с розовыми ушами воскликнул:
— Мы тоже бы хотели побыстрей… Представляете, товарищ капитан, в Берлине повоевать!
— Представляю, — хмыкнул Галашин.
— Но товарищ майор не спешит почему-то. Мы бы на попутных давно на месте были, — сказал рыженький опуская голос почти до шепота. Но Левицкий слышал.
— А что ему спешить? — засмеялся Галашин — Он свое уже отхлебал. Войне-то вот-вот конец. А кто под конец погибать хочет?.. То-то, господа офицеры, — он глянул в окно и подмигнул Левицкому.
От спирта Левицкий не отказался. Было у капитана и полбуханки хорошего хлеба, масло и вареная курица После спирта боль в желудке онемела, сделалось мягко, тепло ополаскивала дремота. Он жевал куриную ногу, рассеянно слушая шумливого Галашина.
— …Недодали орденок… Недодали, понимаешь. Того вроде не делал, этого — тоже, а вот, понимаешь обидели…
«Почему люди ждут благодарности и поощрений за то, что чего-то не делали? — думал Левицкий — Странная манера утверждать свое право на внимание „Я же этого не делал, а вот обошли“».
Они посидели еще с полчаса. Уже совсем рассвело когда вышли во двор.
— Значит, говоришь, нет горючего? Жаль бросать таратайку, — капитан обошел мотоцикл, махнул за спину вещмешок. — Самопальчик-то возьму. Авось пригодится, — подхватил он «шмайсер». — А это вам господа офицеры, на память, — протянул он лейтенантам флягу. — Закусь найдется? Ну и ладно… Слышь, майор, а может, двинем вместе? Веселей будет Ты мужик с замочком. Люблю таких. Тут до шоссейки рукой подать, а там вадовцы[12] на попутную устроят. Прямо в рейхстаг въедем, — засмеялся он, сузив по красневшие в углах глаза. — Ну, как знаешь… А я еще хочу стрельнуть разок-другой, заглянуть фрицам в зрачки. Что там у них на самом донышке? Знаешь, что такое свобода и право? Крылья человеческие!..
«Да ведь не свободы, а вольности, не права, а привилегии хочет он, — подумал Левицкий. — Уставший, четыре года отказывавший себе во всем человек, ощутивший близкий конец лишениям…»
С уходом Галашина лейтенанты поскучнели, с насупленными лицами ушли в амбар завтракать.
Расположились они на сеновале, вровень с зарешеченным вентиляционным окном, Левицкий слышал их голоса.
— Ну и капитан! Орел!
— Как он автоматом немецким, как игрушкой! Здорово!
— Ох и спирт! Комом в горле!.. Ху!
— Надо же было, чтоб нам этот прокисший майор достался!
— Не говори!.. С капитаном мы бы давно в Берлине были.
— Трус он, этот наш майор. Вот что я вам скажу.
— Ты ему скажи!.. Чего он нас водит?
— Трус не трус, а осторожничает чего-то.
— От трусости. Она на его серой физиономии написана. Боится, что под самый конец его ухлопают.
— И порошки какие-то глотает из масленки.
— От поноса.
Все засмеялись.
Левицкий встал с травы. Их разговор не возмутил и не обидел его, а только обдало тоской, но тут же она и сошла. Кто он им, чтоб осуждать? Да и за что? «Прекрасен их порыв на жертвенник высокий! Будь проклят тот, кто утаит их суть, возжаждав уберечь их от судьбы жестокой, своей любовию им пресекая путь…»— усмехнулся он.
Лес остался в стороне. И теперь они шли по пустынной полевой дороге. Все двигавшееся к фронту норовило втиснуться на автостраде в лязгавший и гудевший поток.
Лейтенанты, уже не тая недовольства, шли хмуро-молчаливые, изредка перебрасывались тихим словом. Все чаще попадались им следы войны: отброшенная с дороги разбитая машина со срезанной на сиденьях кожей, искореженная пушка, желтые трубочки пороха на траве, ящики с минами и целлулоидные пакетики дополнительных зарядов. И тогда лейтенанты оживились: заглядывали, щупали, вертели в пальцах; как детей, их интересовало все, что связано с войной, с военным ремеслом — занятием мужским, опасным и манящим.
В такие минуты Левицкий, отвернувшись, терпеливо ждал, как ждет взрослый, взяв в долгую дорогу ребенка, которого на длинном пути останавливает столько интересного и который не понимает равнодушия взрослых.
В Лангер-Альтзее — местечко с разбитой кирхой на площади — они пришли под вечер второго мая. Все было забито нашими войсками, перемешалось: обозы вторых эшелонов, машины с надписью РГК[13], почему- то застрявший здесь дивизион «катюш», фургоны радиостанций.
В этой сутолоке, водоворотно крутившейся и смещавшейся к перекрестку, Левицкий нос к носу столкнулся с капитаном Галашиным, пытавшимся заговорить строгую регулировщицу.
— Дотопали? — воскликнул Галашин. — Ты вовремя, майор: кончилось все, — захохотал он и заговорщицки сожмурил глаза. — Иди-ка сюда.
Он привел Левицкого к большой машине — радиостанции, стоявшей в сквере.
— На-ка, прочитай, — сказал Галашин, выходя из аппаратной. — Гамбургское радио вчера передало.
Левицкий читал: «…наш фюрер Адольф Гитлер сегодня пополудни на своем командном пункте в рейхсканцелярии, борясь до последнего вздоха против большевизма, пал в сражении».
— Понял? А час назад сообщили, что рейхсканцелярии — капут! Конец!.. — засмеялся капитан.
Левицкому тоже захотелось засмеяться, но он не мог: какая-то дрожь, возникшая внутри, в подвздошье, разбегалась по всему телу, кончаясь в пальцах, которыми он держал бумажку. Исчезли вдруг голоса, гул и скрежет, доносившиеся с перекрестка, Левицкого охватила глухота. Он присел на ступеньки машины, тупо глядя на лица лейтенантов, силясь понять, кто они, почему рядом с ним и ждут чего-то от него и что такое важное он должен был для них сделать…
Лейтенанты же растерянно глядели то на него, то на Галашина, то на перекресток, где шевелилась масса людей, машин и повозок, и, охватывая взглядом все это движение, потерявшее уже свой изначальный напор, не знали, то ли им радоваться, как иные — крича и размахивая руками, то ли огорчаться, что движение это прошло вроде мимо их судьбы.
Попрощавшись с Галашиным, они быстро выбрались из местечка. Теперь заторопился Левицкий. Лейтенанты едва поспевали за ним, не понимая, куда и зачем уже спешить. А он шел широко, не обращая внимания на них, часто спотыкаясь о битый кирпич, вышвырнутый взрывом на дорогу. От быстрого шага вновь очнулась усыпленная прежде спиртом боль и напоминала о себе короткими спазмами. Он уже не замечал, как в такие секунды кривилось его лицо, а потом снова проступала въевшаяся косая улыбка, и он делал короткий взмах рукой, мол, быстрее, и все это сбивало лейтенантов с толку.
Они вышли к автостраде, где был вадовский пост. Левицкий что-то сказал старшине с повязкой на рукаве, показал какие-то бумаги. Старшина козырнул и тут же остановил тяжелый «студебеккер».
Они впрыгнули в железный кузов. Могучая машина рванулась. Левицкий сидел на шедшей вдоль борта лавке, словно от ветра смежив веки. Неслись назад поля и перелески, хутора с мельницами у плотин, все менялось, исчезало, возникало другое, и только огромное синее небо было неподвижным, навечно распростертым.
Он провел ладонью по подбородку. Побриться бы… Что скажет ему в этот раз Анна Михайловна? Наверное, опять: «Оперироваться надо. Допрыгаетесь до прободной язвы…» Он поджал коленки к животу… Как все-таки медленно идет машина…
Старый враль
В субботу, как обычно, привоз небогатый, потому и базар почти пуст — мало продавцов да и покупателей негусто. «Все больше такие, как я, — нерадивые хозяйки», — усмехнулась Анна, глядя, как черные, в резких трещинах пальцы крестьянки выгребают из мешка картофелины и накладывают их на весы — осторожно, чтоб не рухнула горка.
— Эту мне не надо, гниль. А эту — тоже, бок зеленый у нее, — ворчала высокая дама в желтой кожаной куртке, выковыривая из кучки картофелины, что не приглянулись. — Дерете три шкуры с городских да еще норовите дрянь всучить, — бормотала она.
— А вы не покупайте. Не неволю, — спокойно отвечала крестьянка. — Свое продаю, не краденое.
— По-вашему выходит, мои деньги краденые? Вам бы на мою работу!
— А что ж, можно, — пожала крестьянка плечами. — Я на вашу, а вы на мою. Хоть на годок.
И тут в разговор влез старик, стоявший впереди Анны.
— А ведь она соглашается совершенно искренне, — обратился старик к городской, — в то время как вы сделали предложение об обмене неосторожно.
— А вам-то что? Стойте себе, ваша очередь за мной. Вы-то кто, такие, замечания мне делать? — подхватилась дама.
— Я министр чуткости, — серьезно сказал старик. И Анна видела, как под морщинистыми веками повеселели глаза.
Теперь Анна его узнала. В школу она ходила через парк. Прежде это был лес, росший по холму. Нынче за ним застроился микрорайон, лес просекли асфальтовые аллейки, и стал он парком. Те, кто не хотел жаться в троллейбусах, возивших вкруговую, двигались напрямик, в гору через этот парк. Она часто встречала старика тут. Всегда одного. Все обгоняли его. Видимо, крутость холма уже не давалась так просто, и старик, крепко перехватывая железную трубу, служившую перилами, медленно поднимался по ступеням, которыми кончалась аллея…
Он купил картошку, а Анна, растопырив старый его портфель, помогла ссыпать ее. Затем вместе оказались они и в булочной и вместе, выйдя оттуда, шли дальше.
— Эта женщина в желтой куртке вовсе не злая, — старик закивал. — Просто ей кто-то испортил уже настроение.
— Вы так думаете? — Анна смотрела на него сбоку, как шел он, устремив вперед лобастую голову.
— Конечно же! Ей давно уже не говорили, что она красива и умна, что борщ ее очень вкусный и что она хорошо танцует. А крестьянка рассуждала, как Диоген. Когда его однажды спросили, что он будет делать, ежели сломается бочка, в которой он живет, грек ответил: «Меня это не тревожит. Ведь место, которое я занимаю, сломаться не может».
— Жаль, что не все знают о Диогене.
— Печально, что историю многие считают вообще наукой о прошлом, а она ведь — больше о будущем Как вы полагаете?
— Представьте, никогда не задумывалась над этим, — призналась Анна. Ее занимал старик, его строгие слова и то, как они звучали — то ли серьезно, то ли шутливо, — не поймешь.
Был октябрь, сухой, с незаметным солнцем за лег кой серостью тонких облаков, часто прорывавшихся от высокого ветра, и тогда синими полыньями холодно и далеко виднелось небо.
В такую пору Анна вспоминала, что отпуск уже прошел, а целый год впереди — тетради, на педсоветах разговоры об успеваемости, олимпиады, конференции и не всегда милые беседы с родителями.
Возле почты старик попрощался.
— Благодарю вас. — Стоя на ступеньке, он галантно наклонил лобастую голову, отчего некстати свалилась с макушки реденькая прядка.
Зима началась бесснежно. От мороза позванивали булыжины, закостенел пыльный асфальт. Белье, задубев, грохотало ночью о балконные решетки, а теперь, занесенное в комнату, хрупко потрескивало, шел от него тот особый озонистый дух, какой всегда напоминает детство. Но снега не было, на улице ветер мел старую пыль.
В восемь утра еще темно. И в неясную эту пору суток — то ли действительно утро, то ли ранний зимний вечер — желтели на разных этажах сонным светом окна. Но хлопали двери в подъездах, прокашливались мужчины и, поеживаясь с тепла, спешили на работу.
Старые дубы в парке еще бережно держали на тяжелых ветвях не оборвавшиеся, поточенные ржавчиной сухие последние листья, и высокие ели шумно покачивали верхушками. Здесь было совсем темно, вспыхивали папиросные раскурки, слышались редкие голоса.
Чувствуя подбородком мех и пошевеливая зябнувшими пальцами в рукавичках, Анна шла не спеша, с тем расчетом времени, какой нужен, чтобы без одышки войти в учительскую, раздеться и уж совсем спокойно появиться в классе перед учениками…
Портфель был тяжел от тетрадей — после контрольных в двух классах, — и Анна переложила его в другую руку. Из-за спины обогнали школьники, закивали: «Здрасте», «Здрасте» и дальше пошли, как-то независимо и со значением перебрасываясь словами.
На самом верху аллейки Анна, как обычно, догнала Сергея Петровича. Старик, опершись о короткие перила на последнем подъеме, передыхал, прижав под мышкой старый портфель — коричневый, без замка, с темными, обтершимися углами.
Анна вспомнила, как однажды в первые дни их знакомства она, по привычке идя быстро, заметила, что он вдруг приотстал — от ходьбы и одновременного с ней разговора, видно, дыхание сбилось, и старик вовсе остановился, махнул рукой:
— Вы идите… Мне за вами не поспеть… Нужна передышка. Укатали сивку…
Анна, смутившись, словно совершила бестактность, остановилась, ожидая его, а он, хрипло дыша, сказал:
— Знаете, один мудрый муж заметил, что здоровье не требует объяснения. Это естественно. Неестествен недуг. У меня грудная жаба, — он развел руками И тут же без всякой связи с разговором произнес: — Доброта должна занять то же место, что и здоровье, — не требовать объяснения.
И тогда Анна пошла с ним рядом. Сколько-то они прошагали вместе, затем он по пустырю свернул к шестивековому зданию бывшего францисканского монастыря, где теперь размещался исторический архив, а Анна пошла в школу. И это здание, и то, что старик много и увлеченно говорил ей о далеких эпохах, битвах и умерших цивилизациях, вызвало тогда в ее представлении низкие подвалы с толстыми устоями, и слежавшуюся тишину, и старика в синем сатиновом халате, когда он склоняется над рукописями и фолиантами; сухие страницы их таинственно, как бы шепча что-то, шелестят под его длинными чуткими пальцами.
И уже у самой двери школы она оглянулась тогда и увидела сутулую его, худую стать в длинном, как кавалерийская шинель, вроде без примерки куплен ном пальто из грубого драпа. Прорвавшись из-за зданий, степной ветер кружился по пустырю, и старик, приподняв руку, охранял шляпу с обмятыми, не державшимися полями. Анна же, легко рванув тяжелую дверь, вошла в школьный коридор — в шум голосов и шарканье ног. Она действительно чувствовала себя легко, бодро, словно случилась какая-то еще не до конца узнанная радость, и покамест дошла до учительской, поняла, что это от потаенного ощущения своей молодости и здоровья, когда они принадлежат тебе, а ты — им. И только — от ощущения, ибо, когда она поду мала об этом, сосредоточась, доискиваясь причины, то призналась себе, что есть в этом ощущении что-то постыдное и даже злорадное, потому что возникло оно, хоть и не осознанно, от вида сутулой спины старика, всей его беспомощной и вроде безразличной миру фигуры в тяжелом для него пальто; от руки, поднятой неловко над шляпой, будто он хотел заслониться от одиночества, старости и болезней…
С этими воспоминаниями Анна и догнала Сергея Петровича на самом верху аллейки, где он стоял, передыхая, ожидая ее.
Когда с последними ступеньками они одолели подъем, было уже светло. На розовато-пепельном отуманенном небе еще жил, не стаяв, остуженный добела заиндевелый месяц, но в многоэтажных кубических зданиях-новостройках, как в панорамной декорации, тепло светились окна.
— Какой у вас первый урок? — спросил Сергей Петрович.
— Физика. Магнетизм.
— Это должно быть интересно, — прицокнул он языком, — я в детстве коллекционировал магниты. Увлекательное занятие! Мне казалось, я на пороге великого открытия: вдруг ни с того ни с сего начинала вертеться иголка или гвоздик, а магнит ее — хвать! Вот ведь, а?
Анна никак не могла представить себе старика мальчиком, играющим с тяжелым магнитом, скорее он мог собирать старые монеты и рыться в трухлявых книгах.
Он остановился и закашлялся.
— Придется снова начать курить. Организм жаждет никотина и напоминает об этом кашлем… — Он посмотрел на нее напрягшимися от надрывного кашля глазами: — Вы сегодня нарядны и очень красивы. Как старшая сестра Нефертити.
— У Нефертити была сестра?
— Я этого доказать не могу. Но никто же не докажет противного! Если вы поверите мне, значит, уже два человека будут думать, что сестра была. Силою воображения мы сможем увидеть ее: нос, шею, лоб. Главное — шею. И тогда этого уже никому не опровергнуть: мы ее видели! Ловко?
Анна улыбнулась. Она уже привыкла к его неожиданным словам.
— Кстати, — вспомнила она, — как поживает ваш фараон, помните, вы мне рассказывали? Имя только забыла.
— Рамахамон. Занятный, занятный человек, — покачал головою старик. — О нем можно написать прекрасную сказку. — Он прижал локтем портфель и неумело стал заталкивать за пазуху выбившееся вискозное кашне.
— Сказку? — удивилась Анна.
— Да. Вы еще не знаете: ведь я сочиняю сказки. Это самое любимое мое дело.
Они уже подходили к пустырю. Каменная ограда вокруг монастыря рухнула во многих местах. Помалу ее растащили на частные гаражи. Желтые вымерзшие стебли бурьяна дергались на ветру. Анна знала, что старику должно быть зябко в подвалах под тяжелыми камнями здания.
— Сергей Петрович, история, конечно, наука великая. Но вы там совсем простудитесь и захвораете, — сказала Анна, всматриваясь в красноватые жилки на серых его скулах. — Неужели для каких-то царьков и фараонов имеют такое значение ваши старания? — улыбнулась она.
— Что вы! Что вы! — воскликнул старик. — Это имеет значение для нас. Разве имена Ивана Грозного и Петра Великого не наложили отпечатка на последующую жизнь? — спросил он строго. — А ведь и Рамахамон Первый — личность тоже незаурядная. И он добивался объединения страны, экономического и культурного ее прогресса. Но в отходы производства обратились не только чужестранные народы, покоренные им. Сотни тысяч его соотечественников!
Старик говорил быстро, шевеля перед собой длинными, изломанными в суставах пальцами. Вязаные нитяные перчатки он снял и заткнул в карман. В торопливости его речи чуяла Анна жадное желание высказаться, будто боялся, что прервет его приступ кашля или ей, Анне, наскучит все это. И не то чтобы он увлекся, а как-то весь отстранился и ушел куда-то в неизвестное ей, поспешая, ловя некую важную мысль, словно настигал ее словами, в какие мысль эта никак не хотела попадаться.
— Так вот, — он спрятал остуженные пальцы в обтрепанные раструбы рукавов, — по требованию Рамахамона жрецы начинали богослужение со слов. «Костер можно возжечь, лишь срубив дерево». Понимаете? Меня всю жизнь такие фразы смущают своей способностью числиться этичными.
— Мерзкий тип, — засмеялась Анна и спохватилась: как бы этой несерьезностью не задеть старика, вспомнила, как однажды он вразумил ее: «Сказать можно, но захотят ли услышать».
— Но и велик: понастроил красоты, развил науки и экономику.
— Значит, вы оправдываете деспотизм?
— Ну, нельзя же так! — Он вздохнул. — Я просто сталкиваю факты и явления. Все равно то, что для одних — истина, для других — ложь. Будь все люди одинаковыми, сплошь творилось бы либо только добро, либо только зло.
— Какой же смысл в ваших поисках истины?
— А кто этим не занимался? — вроде отшутился он — Зло очень вредно, — сказал старик как бы самому себе.
— Разве это нуждается в доказательстве?
— Представьте. Ведь творящий зло полагает, что оно касается лишь других, но не его. Надо, чтобы люди постигли это заблуждение. Тогда появятся перебежчики в наш стан. — Он лукаво вздернул жесткую бровь.
— Это непосильно, — пожала плечами Анна.
— Вот, вот! — Он быстро стал тереть скрюченные синеватые пальцы, вырвав их из рукавов. — Беда, что каждый считает это непосильным. Для себя. И надеется на кого-то. На-де-ет-ся! — пропел он. — Я еще расскажу вам как-нибудь про Сингх Аббаса.
Им надо было расходиться.
Вдруг он сказал:
— Я скоро умру. — И, не дав ей возразить, поднял спокойное, внезапно разгладившееся лицо. — И уже я ничего не боюсь, даже ошибиться.
В класс Анна вошла в настроении странном, словно все обрело иные, большие измерения и пространственность. И растворилось в них единственное возражение старику, которое не успела высказать ему: людей надо научить понимать именно доброту. Зло всем понятно — его причины постижимей, заметней. А доброта не имеет или не должна иметь причин…
Дети сидели готовыми к уроку, и ей очень значительными показались их лица, рельефно выглядели портреты бессмертных на стенах под пыльными плоскими стеклами. Ее даже поразила живая складка на лбу у Эвариста Галуа.
Тема урока — магнетизм, Фарадей. Она отыскала глазами его портрет. И показалось ей, что худощавое лицо великого физика словно сморщилось, длинные волосы, как от ветра, шевельнулись, а губы, открывшись, сложились в улыбку.
Анна начала рассказывать об английском мальчике Майкле Фарадее — худеньком, хилом и очень добром мальчике.
Он бегал по грязным улицам, сумрачным и стесненным темными холодными домами. Вечерний сырой туман заползал под плащ и куртку, мальчика знобило. Газовые фонари чуть размывали ноябрьский мрак. Майкл сворачивал за угол, где рабочие перекладывали булыжник на осевшей мостовой. В тяжелой большой жаровне жадно горел огонь. Рабочие и бродяги грели руки. Майкл протискивался к огню и протягивал пальцы, с трудом разжав озябший кулачок. Он грелся и всматривался, словно околдованный, как мерцают переливами угли. Сонно ударил церковный колокол, и мальчик вспомнил, что пора домой. Ему не хотелось уходить отсюда, от этих нищих и оборванцев, вовсе не страшных, а добродушных и уставших людей. Он знал, что они до утра останутся под промозглым туманом у жаровни, с тоской глядя, как остывают угли а он тем временем будет спать в своей постели под тяжелым материнским пледом. Он бежал домой по мокрому тротуару, обгоняя неспешный стук копыт и скрип старых карет, медленно тащившихся по ухабистым булыжным мостовым. Мрак сгущался. Валил липкий снег, и факельщики предлагали кучерам осветить дорогу, чтоб заработать несколько пенсов. Когда колокол пробил еще раз, Майкл тяжелым молотком постучал в дверь своего дома…
Анна заметила, что ученики посматривают на Фарадея, но знала, что они не видят, как он одобрительно кивает ей: «Ты правильно делаешь. Я был не только великим ученым, но и мальчиком. И еще я дал себе тайную клятву прославиться каким-нибудь добрым делом, хоть не знал, кем стану: фермером конторщиком или ученым…»
В классе было тихо. Анна боялась глянуть на часы — не замутить бы завороженность этого неожиданного урока напоминанием, что все оборвет звонок. И уж когда подошла к доске, взяла мелок, чтобы вывести первую формулу, одна девочка, поигрывая косичкой с легким голубым бантом, спросила:
— А откуда вы знаете, что Фарадей дал такую клятву? Ведь вы сказали, что он дал себе клятву тайную?
Анна смутилась. Ждала любого вопроса, но не такого. По классу сквозняком прошел шепот. Кто-то крикнул девочке: «Сядь, дура». И еще кто-то со смешком сказал, заметив, как растерянно Анна перекатывает в пальцах мел:
— Анна Федоровна, не теряйте на нее времени. Мы ей сами втолкуем, откуда вы узнали про клятву Фарадея…
Дома, чуть посмеиваясь над собой, Анна подумала: давать такие уроки — большая роскошь, чего доброго, не уложится в отведенные на эту тему часы. А она всего лишь учитель физики. И дети должны знать физику. Тут уж ей захотелось вспомнить, кто вскрикнул: «Сядь, дура», однако вспомнить не смогла, а интересно…
Анна стояла перед зеркалом в незастегнутом халате. За окнами темнело. Ей не хотелось зажигать свет, спокойней было с тем, что попадал от большого фонаря на троллейбусной остановке и отблескивал в стекле. Часть лица ее была в тени, зато другая четко отпечатывалась на зеркальной глади.
«Старшая сестра Нефертити, — усмехнулась она, поводя глубоко обнаженной шеей. — А сколько ей было лет?.. Опять не забрала посылку», — Анна заметила на столике почтовое извещение.
Посылка была от мужа. Но Анна не спешила забирать ее, словно он мог узнать об этом ее равнодушии. И подумала о муже.
Их семья не принадлежала к тем, какие негромко называют неблагополучными. Издали для людей все пребывало заманчиво красиво: он летал где-то на Севере, пропадал по нескольку месяцев в году, наезжал с тяжело набухшими чемоданами и кофрами, видать, о длинным рублем. Двухкомнатная квартира заставлена чешской мебелью, кухня сияла пластиком и кафелем. Обоим по тридцать два года. Анна всегда выходила хорошо и модно одетой. Детей у них не было. И семьи-то не было. Но об этом никто не знал.
Они никогда не ссорились. Просто однажды, спустя семь лет после того, как поженились, по душам поговорили, не сумев объяснить друг другу, что их отдалило, потому что это почти невозможно, как бесполезно объяснять, почему один любит зеленый цвет, а другой — синий.
Муж уехал к себе на Север, где жестоко, по-мужски, без жалоб, изнуряясь, летал на тяжелых трассах, пил неразбавленный спирт, хрипло матерился, лютел, углядев чью-то нерасторопность, и успокаивался за штурвалом, отвалившись к спинке, морщился, тайно глотая таблетки соды, чтобы осадить изжогу, давно привыкнув к сосущей боли в желудке, — там, вспыхивая и притухая, мучила язва, из-за которой его списали в тридцать лет из военной авиации.
Он присылал Анне посылки и привозил подарки. Не потому, что любил это делать, — просто знал, что женщинам нужно дарить что-то, и он, не ужимая карман, накупал все, что брали его приятели своим женам, выменял у якута за японский транзистор кянчи и оленью парку, расшитые красивым узором, которые ей и были-то ни к чему…
Так они жили: он — там, она — здесь, в комнатах, напоминавших ей выставочный салон — красивый, но неуютный.
Однажды она сказала ему:
— Ты знаешь, что земля покачивается?
— Что-то слышал об этом.
— И Северный полюс, где ты летал столько раз, описывает окружность. Подумать только: приблизительно за год один оборот!
— Вот уж не замечал, — усмехнулся он.
— Но ты мог бы себе это представить!
— А зачем, Аня? — пожал он плечами.
— Ну, чтобы удивиться хотя бы!
— Это мелочи, Анна. Некогда…
И тогда она уяснила, что никогда не поймет, что же для него не мелочи и что способно его удивить. Но ничего плохого о муже она сказать не могла.
Так и стояла Анна перед зеркалом, глядя в его мерцавшую глубину, и сколько времени истекло — не знала.
Потом что-то случилось за окнами. Анна почувствовала это, поняла по странному движению уличного света в комнате. И, уже подходя к окну, догадалась: снег. Откуда-то сразу, и много, словно прорвало какой-то заслон. Сросшийся в большие хлопья, он почти не опускался, а кружил, но вскоре все укрыл собой.
«Утром будет много снега», — обрадовалась Анна, словно снег приблизил пору, какую она ждала весь вечер: можно было расстелить постель, лечь и читать.
Рукопись Сергея Петровича лежала в скоросшивателе с надписью «Дело №…». Это были сказки, которые он вручил ей. Первая называлась «Сингх Аббас», и предварял ее эпиграф: «Ненавидеть — не значит опровергнуть. Ненависть — еще не доказательство правоты твоей и неправоты чьей-то».
Анна перечитала еще раз эпиграф и радостно улыбнулась какой-то внезапной своей мысли, подоткнула под бок одеяло и придвинула рукопись ближе к лампе.
«Когда Властелин, рожденный из большого пальца Будды и омытый святой водой Ганга, взошел на престол, ему было двадцать два года. Он был молод, богат, умен и тщеславен. Он призвал нас и спросил:
„Вы мудрые, и пыль дорог, которые вы прошли по жизни, чтобы постичь ее, могла бы заслонить солнце.
Так ответьте же: как мне сделать мой народ счастливым?“ И Первый сказал: „Расширь владения свои, ты пополнишь казну золотом и сможешь снизить подати, которые платит тебе твой народ“. И Второй сказал: „Три раза в день говори народу, что он счастлив, и он поверит в это“. И Третий сказал: „Запрети сравнивать красоту с уродством, мудрость с глупостью, богатство с нищетой, разумное с бессмысленным, и народ ощутит себя счастливым“. Но Властелин ответил, потому что он был умен и тщеславен: „Все это уже делали предки мои по советам ваших предков. Но вы вынуждены повторять это снова, ибо ничего не изменилось с тех пор. А что скажешь ты, скромный Сингх Аббас“? И тогда сказал я: „Твоя мудрость родилась раньше тебя, Властелин. И совет мой таков: каждый твой подданный, бедняк он или богач, знатного или простого рода, должен стать равным всякому себе подобному. И получать блага, рис, землю и воду для земли столько, сколько доброты он отдает ближнему своему, сколько доброты вмещается в сердце его и помыслах. Тогда доброта пойдет в уплату за доброту, а зло будет оплачиваться только злом. Золото вернется в истинную цену. И богатый на доброту станет богатым, а бедный на нее — бедным. И каждый труд, и деяние каждое будут идти только во благо подданных твоих и царствования твоего“. Властелин понял мой намек. Он улыбнулся и спросил: „А где чаша та, где мера та, какой мы будем мерить доброту в делах, сердцах и помыслах?“ И тогда сказал я: „Будет эта чаша, будет эта мера. Я открою ее тебе“. Властелин сказал: „Хорошо, я согласен“. И в срок оговоренный я назвал эту меру. Властелин спросил: „На ком испытаем ее, с кого начнем?“ И тогда сказал я: „С тебя, мой Властелин, чтобы весь народ узрел, сколь богат ты добротой к людям, чтобы, возлюбя тебя, все последовали твоему примеру“. Он улыбнулся и ответил: „Мудрость твоя родилась раньше тебя, достойный Сингх Аббас. Иди в храм и ожидай меня. Мне же надо удалиться на несколько часов, чтобы приготовиться к этому великому моменту“. Я ждал в храме, когда пришли стражники, скрутили мне руки и повели подземельем к Властелину. „Я не могу принять твой совет, скромный Сингх Аббас, — сказал Властелин, — Я передумал. И вот почему: я верю, что у тебя есть мера доброты, но как народу моему доказать, что она истинна и безошибочна? Если первым испытанию подвергнусь я, а так должно быть, ибо я Властелин, не возникнут ли кривотолки, что ты в угоду мне сфальшивил, ведь мера эта покажет, сколь много у меня доброты?! Посему решил я отрубить тебе голову и сообщить всему народу, что совершили это его и мои враги за то, что я согласился принять твой мудрый совет. Так ты будешь мною прославлен в веках, да и я буду виден в лучах твоей славы“. И тогда сказал я: „Теперь верю, что я мудр, потому что знал заранее, что поступишь ты именно так, ибо некоторых людей снедает не только собственная злоба, но и добродетель других…“»
Анна отложила рукопись и прислушалась. Шло к полуночи. Где-то, видимо, на повороте, как от боли, скрежетал трамвай, с грохотом уволакивая пустые вагоны в парк…
С понедельника Анна не встречала Сергея Петровича. «Заболел, — поняла она. — А я даже не знаю, где он живет. Надо же навестить». И определила себе завтра, в пятницу, сходить в монастырь, сослуживцы должны знать, что с ним, да и адрес, наверное, можно спросить. Но вечером, когда она мыла собранную за два дня посуду, в дверь позвонили.
— Вы Анна Федоровна, — словно утверждая это, сказал мужчина, чуть приподняв шапку-«пирожок» из коричневой цигейки.
— Да, — Анна развязывала за спиной тесемки передника. — Проходите. Вы чей-то родитель? — спросила она, стараясь наскоро вспомнить, с кем из ее учеников произошло что-либо, послужившее поводом для этого визита.
— Нет, — понял он ее предположение. — Я сын Сергея Петровича Новикова. — Он повесил «пирожок» на черную скобку вешалки и ладонью сдвинул с затылка наперед прилежавшиеся волосы. — Вы простите за вторжение. В школе мне дали ваш адрес. Я просто выполняю волю отца.
Он сказал «волю», и что-то отозвалось в ней тревогой на это слово.
— Отец умер, — сказал мужчина, аккуратно — палец к пальцу — складывая на тумбочке перчатки.
— Когда? — спросила Анна, чувствуя, что тесемки безнадежно стянулись в узел. Дернув, оборвала их, стащила фартук и комом зажала его под мышкой «Да что за разница — когда, — удивилась она. — Вот уж глупый вопрос. Умер ведь!» Она хотела спросить «от чего?», но успела подумать, что это так же праздно, как и вопрос «когда?». «Умер ведь!» — Снимите пальто, проходите, — сказала она.
— Он слег в субботу. А во вторник умер. Приступ грудной жабы и — вульгарный инфаркт, — мужчина развел руками.
Ей не понравилось, зачем он сказал «вульгарный». Как-то театрально получалось. Мужчина сидел напротив, в кресле, а она на тахте. Из-под его тяжелых красных ботинок на жирном паркете пузырились лужицы.
— Я был в командировке. Тетка вызвала телеграммой Едва успел. Погода нелетная. Пришлось с самолета на самолет.
«Почему он так много о себе? — подумалось ей. — Умер Сергей Петрович, почти чужой ей человек, случайный знакомый». Она даже не знала до сих пор его фамилии, да и плакать-то не может. Просто грустно стало, когда она вспомнила его лицо.
— Он чувствовал, что скоро умрет, — произнесла она, чтобы остановить слова мужчины о том, как он маялся в аэропорту, ожидая вылета. — А вам он говорил?
— Нет. Он иногда о вас мне говорил.
— А мне о вас — никогда, — вдруг сказала Анна и посмотрела ему в лицо.
— Мы редко виделись. Он жил с теткой. А я отдельно, почти за городом. Да и люди мы с отцом разные, — сказал мужчина, поднимаясь. — Ну, вот, пожалуй, и все. Может, мне и приходить не следовало, — усмехнулся, — но отцу казалось, что для вас это почему-то важно. И он сказал, что такова его воля.
— Что вы! Я вам очень благодарна! — Теперь, когда он встал, собираясь уходить, Анне захотелось расспросить его обо всем: как жил Сергей Петрович, как протекала его недолгая болезнь, где похоронили, какими были похороны — обо всем, что опять-таки не имело уже никакого значения ни для умершего, ни для живых, но почему-то всегда интересует.
— Да, едва не забыл, — сказал Новиков-младший. — Отец оставил вам письмо. — Он суетливо пошуршал в карманах и подал Анне конверт.
Она развернула тетрадную страничку и узнала почерк Сергея Петровича.
«Милая Анна Федоровна!
Эту записку отдаст Вам мой сын Вадим. Отдаст после моей смерти. То, что я уже не поднимусь, ясно не только мне, но и врачам. Бумаги мои, кои я Вам дал, можете вернуть сыну. Мне безразлично — сожжет ли он их или сохранит на память об отце-чудаке. Дело в том, что не существовало ни Рамахамона, ни Сингх Аббаса. Я их выдумал для своих сказок. Как видите — вранье. Но теперь я не боюсь Вам открыться в этом. Уверен: за сим не последует Ваше разочарование, ибо человек Вы большой души, и я понимал, что менее всего важна Вам достоверность, но более всего — бескорыстие и суть. Ведь Вы ни разу не подвергли сомнению мои россказни, ни разу не воскликнули: „Неужели это правда?!“ Не стесняйтесь своей доброты и впредь. И помните, что библейский убийца Варавва, прощенный по требованию толпы взамен невинного Христа, ходит среди нас и посмеивается над нами, понимая, что никакого воскрешения Христа не будет. Посему берегите и любите людей, покуда они живы. Будьте счастливы. Новиков».
По прежним изгибам она сложила письмо и сунула его в карман халата.
— Вернуть вам рукопись?
Он пожал плечами.
— Ваш отец был, наверное, хороший историк.
— Историк?! Он был старый враль, — сокрушенно покачал головой Новиков-младший. — Всю жизнь чудил, прожектерствовал, занимался духовной благотворительностью, отыскивал для человечества главного бога. А работал он переплетчиком в архиве исторического музея. Рукописи, фолианты и прочее. От него же всегда пахло столярным клеем! — Новиков грустно улыбнулся.
— Он никогда не говорил мне, что он — историк. Я сама так решила, — сказала Анна, будто защищаясь от слов «старый враль». — Вы разве не читали его… записок? — Сперва она хотела сказать «сочинений», но ей показалось это определение презрительным.
— Представьте, недосуг. Дома-то шкаф забит его бумагами. Всю жизнь он сочинял и никуда не посылал. Видимо, в них есть что-то? — Он поднял на нее глаза — темные, догадливые, под спокойными низкими бровями.
— Есть, — ответила Анна.
— Что ж, заберите эти папки у нас. Мне все равно некогда будет читать. А сын мой еще мал — в шестом классе. Да и он всё больше насчет хоккея интересуется. — И, уже стоя в дверях, он произнес: — Я понимаю — что-то не так воспринял или сказал… Ну, об отце?
Анна не ответила. Ей хотелось, чтоб он ушел. И когда за ним закрылась дверь, Анна, пройдя в спальню, еще раз перечитала письмо. На тумбочке подле кровати лежала рукопись в скоросшивателе с надписью «Дело №…». И казалось, что по-деловому положил ее здесь сам владелец, что сейчас он должен вернуться и весело сказать:
— Вот и я, — старый враль. Что ж, продолжим?..
Потом Анна проверяла тетради. И когда ей попалась аккуратненькая, без единой ошибки и помарки, с легким остреньким почерком — милая глазу учительскому работа, — Анна снова посмотрела на обложку. Была эта тетрадь девочки, которая, поигрывая косичкой с голубым бантом, спросила ее: «А откуда вы знаете, что Фарадей дал такую клятву? Вы ведь сказали, что он дал себе клятву тайную?» Анна вывела пятерку. Что ж, по всем самым строгим школьным правилам здесь полагалась только пятерка…
Обида
Июнь стоял холодный и хмурый. На пустынном пляже, тянувшемся двадцатикилометровой вогнутой полосой, одиноко торчали керамические мусорные урны и ярко размалеванные фанерные кабины для переодевания. Купающихся не было. В куртках, плащах, свитерах люди сидели на длинных скамьях вдоль берега, беседовали, дышали полезными ионами и, успокаивая нервы, созерцали светлевшую к горизонту тяжелую сине-черную даль воды с красными вспышками лениво покачивающихся буйков. Медленно рождавшийся где-то прибой гнал вялую низкую волну, и вдоль береговой полосы оседала белая пряжа пены.
Как и бывает на курорте, на отдыхе, люди быстро смиряются с непогодой, находят развлечения, сколачиваются компании, придумываются поводы выпить. И вот уже откуда-то появляются авоськи, в них напиханы банки консервов, бутылки местной минеральной воды, тминный хлеб, белые батоны, колбаса. И вечером в столовой, после ужина, под предлогом чьих-нибудь именин, начинается шумное торжество. Внутри компании возникают маленькие компанийки, а потом диетсестра, уставшая, с отекшими за день ногами, говорит, что ей пора домой. Все поднимаются и, несмотря на дурную погоду, темень и ветер, задувший с моря, отправляются на пляж подышать сырым ночным воздухом. Там снова компания распадается на компанийки. И так — одни до самого отбоя, а другие и попозже…
Но это — взрослые. Дети же томились от скуки, жадно смотрели на море, топтались в джинсах и кедах у самой кромки воды, пробовали ее рукой: не потеплела ли, и, пошвыряв камешки, уходили в лесопарк смотреть белок, бравших прямо с ладоней семечки или орешки. В ближайшие дни о купании, похоже, нечего было и думать. Но и для детей нашлось занятие: в лесопарке стоял павильончик с двумя столами для тенниса. И вскоре там застучал легкий целлулоидный шарик. А другие ребята разнюхали, что в двух километрах, на реке, есть специальные пирсы для рыболовов, выклянчили у родителей трешницу, обзавелись снастью и терпеливо коротали время на бетонных плитах пирса, ожидая, как говорится, у моря погоды.
Мне не хотелось никаких компаний, и после завтрака, накинув плащ, я отправлялся в павильон. Идя по мокрой травянистой тропе, я еще издали слышал стук шарика, детские голоса, смех. Я входил, садился на подоконник и подолгу смотрел, как ребята играют, лихо выворачивают руку с ракеткой для коварного, неотразимого удара. Сначала мое присутствие смущало их, мальчики и девочки, ожидавшие очереди (игра шла «на вылет»), поглядывали на меня, перешептывались. Потом ко мне привыкли и вроде уже не замечали, и мне было хорошо оттого, что я им не мешал оставаться самими собою. Мальчишки запросто знакомились с девчонками, мне даже предложили несколько раз сыграть, но я честно сказал, что не умею.
Взрослые, ходившие на прогулки вдоль берега или в поселковый универмаг в надежде, что там «выбросят» что-нибудь дефицитное, теперь не звали меня с собой и после завтрака, посмеиваясь, задавали один и тот же вопрос:
— Вы опять на теннис?
Я кивал. Они уходили.
Однажды две дамы в модно расклешенных кримпленовых брюках цвета беж, гармонировавшего с их омоложенными перекисью волосами, не зная, что я иду вслед за ними к выходу, заговорили о странностях моего поведения:
— Чудак какой-то! Пинг-понг! Ты себе представляешь его за пинг-понгом? Что он за человек?
— Он?! Он же, наверное, носит кальсоны! — захохотала ее подруга.
— Это не страшно. Лишь бы других не заставил это делать.
Они весело зашагали в поселок, неся, как украшение, сверкавшие замками-«молниями» большие яркие хозяйственные сумки…
В павильончике шла игра. Кто-то принес новую японскую ракетку, обсуждались ее достоинства. Дети здесь были примерно одного возраста — тринадцать-четырнадцать лет. Они смеялись только над тем, что взаправду было им смешно, и говорили серьезно о том, что действительно их интересовало.
Отворилась дверь, и на пороге показался мальчик лет восьми — худенький, с большим белым лбом, в сером плаще с откинутым клетчатым внутри капюшоном. За мальчиком стоял пожилой грузный мужчина в зеленой куртке и черном берете. Они, видимо, о чем-то говорили перед тем, как войти сюда, потому что мальчик сказал:
— Ну разреши… Я немножко. Поедем следующей электричкой.
— Хорошо, Митенька. Через пятнадцать минут я зайду за тобой, — мужчина взглянул на часы. — Только не смей отсюда никуда уходить.
— Нет, я никуда не уйду, — ответил мальчик.
Мужчина окинул взглядом павильон, ребят, чуть подольше посмотрел на меня и ушел.
Какое-то время мальчик стоял у двери, внимательно следил, как летал справа налево шарик, вертел тонкой жилистой шейкой, а потом смело двинулся к ребятам, стоявшим в углу. Они все были старше и намного выше его, и он, маленький, щуплый, с широколобым и серьезным лицом, похож был на мудрого гномика, которого не смущает ни его незаметный рост, ни щуплость: он знает и может нечто такое, что недоступно этим высоким и плечистым ребятам.
— Вы каждый день тут? — спросил мальчик.
— А что? Ну, каждый день, — отозвался паренек в синем свитере.
— А кто у вас чемпион?
— Не мешай, малый, — отмахнулся паренек.
— Я ведь не мешаю, — пожал плечами мальчик, — я просто спросил. — И он спокойно отошел к другой группе ребят, деливших на кусочки единственную пластинку жевательной резинки.
— Это какая у вас жвачка? — спросил.
Все обернулись к нему.
— «Дональд», — сказал рыжий в очках. — А у тебя что есть?
— «Холливуд».
— Не врешь?
— Нет. Правда. Я принесу. Я и обертки от них собираю.
— У тебя много этикеток? — загорелся рыжий.
— Полная коробка. А у Витьки Стебликова в два раза больше.
— Кто это — Витька?
— У нас во дворе живет. Он уже в восьмом классе Мы с ним дружим.
— Ладно, давай, приноси. Когда принесешь?
— Завтра, — сказал мальчик и, подойдя ко мне, сел рядом на подоконник.
— А вы — судья тут? — спросил он.
— Нет, наблюдаю, — сказал я. — Ты умеешь играть? Тебя, кажется, Митей зовут?
— Митей, — кивнул он. — Немножко умею. Что я! Вот Витька Стебликов здорово играет. У него такой крученый, с подрезом, удар! Ему купили за сорок рублей ракетку «Стига». Он говорит, что за границу на соревнования поедет.
— Ты живешь здесь? — спросил я.
— Нет, мы приехали отдыхать. Мы «дикарями» тут Вот не повезло — дожди и холодно. Плавать нельзя.
— Это, конечно, жалко, — посочувствовал я.
— Без плаванья скучно, — сказал Митя. — А вы до буйка доплывете?
— Доплыву. А ты?
— Нет, — сокрушенно покачал он головой. — Говорят, у меня узкая грудная клетка, дыхания не хватает Вот вы бы видели, какая грудная клетка у Севки Мирошниченко! Он и за буи заплывет, а с ластами тридцать метров ныряет.
— Это твой приятель?
— Наверное, — пораздумав, неуверенно ответил Митя. — Только он старше меня. Ему уже тринадцать. Но мы с ним дружим, он у нас в подъезде живет. Еще он химию здорово знает, на олимпиаде — первое место!.. — Митя умолк, сдвинул брови, отчего его широкий, вроде недетский лоб как бы навис над узеньким ребячьим лицом. Потом он сказал: — Скучно здесь, — и вздохнул.
Через пятнадцать минут отворилась дверь:
— Митенька, пора, — позвал мужчина в черном берете.
Мальчик соскочил с подоконника.
— Завтра приду, — сказал он.
Я часто встречал их — пожилого, с седым тяжелым затылком мужчину и Митю. Они жили в поселке и сюда приходили через калитку хозяйственного двора. Шли они по тропинке, утоптанной меж высокими перьями папоротника и кустами жимолости: впереди быстрым шагом — мужчина с толстой ольховой палкой, а за ним, почти не отставая, — Митя. Они пересекали хозяйственный двор, асфальтовую площадку у жилого корпуса и скрывались в сосновом бору над прибрежными дюнами. Маршрут их и время появления на тропинке были постоянны. Издали они выглядели как два странника, внезапно возникавшие тут, где шла неспешная, однообразная и понятная насквозь жизнь. И было что- то странное в деловом шаге, каким проходили мимо всего праздного пожилой мужчина и мальчик…
Митя пришел на следующий день. Он выполнил обещание: принес жвачку, коробку с этикетками, и сразу же его окружили, он оказался в центре внимания. Сидя на своем привычном месте, я слышал восклицания мальчишек, читавших надписи на этикетках: «Лотте», «Дэнди», «Адамс»…
Я видел, как счастлив был Митя, когда оказывался просвещеннее кого-нибудь из тех, кто, роясь в коробке, разглядывал его коллекцию и задавал вопросы. Он вставал на цыпочки, поднимал лицо, вытягивал худенькую шею и, улыбаясь, отвечал.
— Давай на что-нибудь поменяемся? — предложил Мите рыжий в очках, свесившись над ним.
— Зачем? Я подарю, — великодушно сказал Митя. — Выбери, которых у тебя нет.
Я понимал: это — нелегкая плата за внимание к нему, за то, что он был принят в иной возрастной круг, куда так тянет, ибо приятно быть равным там, где царят свои интересные, хотя иногда и жестокие по отношению к младшим законы. Да, это была Митина плата, но не угодливый расчет хитреца и не обманутая ничем доброта.
— А вы на рыбалку ходите, на пирсы? — спросил Митя ребят, уже дружно жевавших его дары.
— Ходим.
— А мне можно с вами?
— Чего ж, давай, — добродушно ответил рыжий.
И вновь отворилась дверь, и Митю позвали:
— Митенька, пора.
Мальчик подбежал к мужчине и радостно заговорил:
— Меня берут с собой на рыбалку. На реку. Наверное, на рассвете пойдем! Ты знаешь, как они умеют ловить? У них такие спиннинги! Особенно тот, — Митя указал на рыжего. — Он лучше всех ловит! Ты мне разрешишь?
— На какую рыбалку? — удивился мужчина. — Что ты, Митенька!
— Ну хоть разок! — взмолился мальчик.
— Нет, там опасно. Можешь поскользнуться на пирсе и упасть в реку. Тут каждое лето кто-нибудь тонет.
Дело принимало трагический оборот, и я подошел к ним.
— Можете его пустить, я пойду с ними, — я положил руку на слабое плечико мальчика.
— Ну, разве что, — улыбнулся мужчина.
Митя, не ожидавший такой поддержки, удивленно и радостно смотрел на меня…
На реку мы отправились после завтрака. Было пасмурно, тихо и безветренно, как перед осенним грибным дождиком. Вдоль реки шла железнодорожная колея. После моря и сосен здесь остро пахло мазутом, пропитавшим щебень и песок, гнилостной стоячей водой, затекшей под осклизлый причал. Пощелкивая щебнем, мы перешли колею, спустились к серым тяжелым плитам пирса с торчавшими ржавыми скобами. К одной из них цепью была привязана наполовину затопленная белая лодка с красной надписью «Велта». Темная, с глинистым отливом вода текла медленно, почти незаметно, ее движение угадывалось лишь по тяжелым продольным жгутам, возникавшим на стрежне, они шевелились, словно вздутые мышцы.
Ребята расположились на пирсе, выложили консервные банки с червями и хлебным мякишем. Разумеется, спиннингов не было: либо обычные бамбуковые трости из отдела спорттоваров поселкового универмага, либо самодельные удилища из вырубленных гибких веток. Я полагал, что никакой рыбы тут быть не могло: слишком шумное место, то и дело грохочет, сотрясая берег, электричка, вода мутная, со щепками, огрызками яблок и обрывками грязных газет.
Митя сидел возле меня на корточках, старался следить за всеми четырьмя поплавками, мертво лежавшими на спокойной воде. Тянуло глубинной пресной сыростью. Не так, как на юге: там у речных берегов всегда стоит особый резкий запах гниения и жизни…
— Ты не озяб? — погодя спросил я Митю.
— Нет, — шепотом ответил он, косясь на поплавки Он все еще во что-то верил.
Я понимал, что мне вскоре это надоест, и уже сожалел, что ввязался в такую затею. Я курил, смотрел за реку на низинный луг, сочно зеленевший под серым, вроде опустившимся небом. Там, лениво передвигаясь, поводя головами, щипали траву рыжие, со вздувшимися боками коровы.
— А ты когда-нибудь рыбу ловил? — спросил я Митю.
— Пробовал. Ничего не получается. У нас во дворе живет такой дяденька Петя — «керосинщик». Про него говорят, что он здорово керосинит, ну, водку очень пьет. Вот он рыбак! У-у!.. Тот рыжий, — тихо сказал Митя, указав пальцем на очкастого паренька, сидевшего к нам спиной, — должен здорово ловить. Вы видели, как он забрасывал?! А как червяка насаживал! Они вообще хорошие ребята. Этот, в синем свитере, должен быть сильным гимнастом. Может, уже разрядник. Я видел, как он делал утром зарядку на пляже. Сто два раза отжимался. Его Сашкой зовут. Мы с ним подружились. Он самый главный на их улице, знает карате.
— Ты в каком классе, Митя?
— Во втором.
— Отличник?
— Не, — мотнул он головой. — Ударник. У нас есть отличник, Строев. У него память сильная. Я читаю три раза, чтоб запомнить, а он полраза. И сразу всю страницу. У него, наверное, особая память. Он, не видя, определяет цветы по запаху. Это да! Никто так не умеет как Строев!..
— Хоп! — крикнул в это время рыжий и поднял удилище: на крючке извивалась махонькая, как тюлька, плотвица.
— Ура! — вскочил Митя. — Есть! — Он стоял у края пирса, тянулся, стараясь поймать раскачивавшуюся леску, весь напрягся, из воротника вылезла жилистая тонкая шея, а я придерживал его за плащ.
Рыбешку отцепили и бросили в банку с водой. До обеда выловили еще три такие же. Их решено было пустить в цементный бассейн фонтана перед жилым корпусом. Банку с рыбами торжественно нес Митя. Потом все стояли и смотрели, как рыбки плавали. Рыжий дергал носом, придерживая сползавшие очки, крошил в бассейн хлеб. Наконец, стали расходиться: в столовой начался обед.
— Мне пора, — сказал Митя. — Я пойду.
— Проводить тебя? — спросил я.
— Нет, я сам.
— Не заблудишься? Не боишься?
— Я не боюсь. Тут недалеко, возле станции.
— Ну, будь здоров, рыбак. Приходи.
— Спасибо, — ответил он и быстрым деловым шагом, каким обычно шел по тропинке через хозяйственный двор, двинулся прочь…
Два дня меня не было: уезжал на экскурсию по побережью. А потом снова — после завтрака сидение в павильончике, стук шарика, детские голоса. Все были на месте: толстый рыжий мальчик с розовыми ушами и сползавшими на нос очками, стройный атлетичный паренек в синем свитере, игравший белой японской ракеткой, модная девочка в широко подвернутых внизу джинсах. В общем, вся компания. Не было только Мити. Не появился он и через день, и через два. «Не заболел ли?» — думал я, вспомнив сырое утро на рыбалке.
Дети здесь были, как дети, все в них обычно, нормально. Они казались мне одинаковыми, и относился я к каждому из них равно, а вернее — никак. А вот Митя занимал меня. Худенький, видно, болезненный, он ничего не умел, но независтливо, увлеченно рассказывал, что и как здорово умеют делать его приятели по школе и друзья по двору; слабый, он бескорыстно восторгался чьей-то силой и спортивностью; обладая неплохой коллекцией этикеток, он по-доброму делился ею и уничижительно для себя превозносил достоинства коллекции никому не знакомого Витьки Стебликова. Рассказывая о себе, он тут же хвастался достоинствами других. Были, быть может, в этом хвастовстве и преувеличение, и фантазия, и просто выдумка. Но, привирая, Митя искренне возносил не себя — других…
Однажды я отправился в поселок за сигаретами и столкнулся с Митей. Он стоял у витрины хозяйственного магазина и разглядывал разложенный в красивом деревянном ящике набор слесарных инструментов. В руках Митя держал длинную розовую авоську с батоном. Заметив меня, он как-то потянулся ко мне, но тут же замедлил это движение.
— Здравствуй, Митя, — сказал я, протягивая ему руку. — Что это ты исчез?
Он насупился, медленно высвободил маленькую костлявую ладошку из моей руки и склонил голову так, что глаз его не было видно, лишь белел большой лоб.
— Так просто, — тихо произнес он.
— А все-таки? — я почувствовал что-то неладное. — Тебе не разрешают?
— Разрешают, — буркнул Митя.
— В чем же дело?
— Я сам не хочу.
— Надоело?
— Нет.
— Может, тебя кто обидел?
Он помолчал и, сглотнув что-то мешавшее, прошептал:
— Нет.
— Мне ты можешь рассказать, мы все исправим. Мне-то ты веришь?
— Верю… Я не хочу туда ходить… Просто не хочу… Там скучно.
Я почувствовал, что это неправда, что именно эту неправду ему нелегко было произнести, но понял я и то, что больше он ничего не скажет.
— Мне пора, — произнес Митя знакомую фразу. — До свидания, — и, обойдя меня, как некое препятствие, он двинулся по улице — маленький мальчик с батоном в большой розовой авоське…
Стучал о зеленую фанеру стола белый, высоко взлетавший, как матовый воздушный пузырек, шарик. Я подозвал ждавших своей очереди паренька в синем свитере и модную девочку в джинсах.
— Ребята, вы помните мальчика, который принес вам жвачку и этикетки?
— Митя?
— Да, Митя. Почему он перестал приходить? Что- нибудь тут произошло?
— Ничего. Что могло произойти? — пожала плечами девочка.
— Может, кто его обидел, Толя? — спросил я парня в синем свитере, хлопавшего ракеткой по ладони.
— Кто его тронет? — улыбнулся Толя. — Он же совсем малец, во, — и он показал рукой над полом, какого роста, по его мнению, Митя. — Если б кто тронул, я бы в ухо за это дал. — Толя широко повел уже тяжелевшими по-мужски плечами.
— Его никто не трогал, — вдруг отозвался рыжий, низко подрезая мяч. — Стой, Борька, — сказал он партнеру, бросил на стол ракетку и подошел к нам. — Произошел тут один чепуховый разговор, когда вы уезжали на экскурсию. Может, это? — Он скривил губы и смотрел на меня — красный, разгоряченный игрой, помаргивая светлыми длинными ресницами.
— Какой разговор?
— Толик спросил у него: «Где ты достаешь жвачку?» Митька говорит: «Папа привозит, когда бывает за границей». — «Этот старик, что ли, — твой папа?» — спросила она, — рыжий кивнул на девчонку в джинсах. «А мы думали, что это твой дед!» — «Нет, это мой папа!» — сказал Митька. Тут все и засмеялись. Верка говорит: «Ничего себе папа — старикан, а сколько же лет тогда твоему деду? Моему отцу вот тридцать восемь». А я говорю: «Ты чего-то перепутал, Митька. Моему бате тоже сорок. Это, наверное, точно — твой дед». А он как закричит: «Нет, не дедушка, не дедушка! Это мой папа, папа!» И тут же убежал… Чепуха какая-то… А так — кто бы его трогал, он ведь совсем хиляк…
— Да если б кто тронул, я бы в ухо дал, — снова повел крутыми плечами Толя.
— И вы об этом забыли? — спросил я.
Они промолчали, начиная что-то понимать…
Дождь шумел в соснах монотонно, ровно, и его негромкое, но сплошное шуршание заглушало звуки моря. Песок впитывал невидимую в лесу мелкую морось, упруго скрипел под шагом, надолго сохраняя на себе след узорных подошв. Меж стволами сосен желтели дюны, а дальше — студенисто-сизой полосой виднелось море. Подмытые ежегодными осенними штормами, дюны осели, обнажились старчески скрюченные корневища нависших над пляжем деревьев и кустов.
Мы сидели под грибком на пустом пляже — я и отец Мити. Он был в той же зеленой куртке, а черный берет держал в руках, подставив ветру тяжелую голову с мягко шевелившимися седыми волосами. Сейчас я видел близко его лицо с затененными впадинами резких морщин на гладко выбритой вялой коже. Он действительно был стар, грузен, за шестьдесят ему, наверное. Опершись руками о палку, он подпер подбородок, как бы раздумывая, с чего начать, позвав меня, незнакомого человека, сюда, на этот пустынный пляж.
— Мне одному с Митенькой тяжело, — сказал он наконец. — Матери у него нет. Здесь, в этих местах, мы бывали с нею… Счастливые для меня дни. Брожу здесь, езжу по побережью и всюду натыкаюсь на что-то, связанное с нею. А может, это обман, что натыкаюсь, просто сам ищу… Какая, в сущности, разница… А Митеньке все это скучно, я таскаю его за собой и говорю ему: «Смотри, Митенька, как красиво, какой залив, какая коса, какой бор!» Разве я могу объяснить ему, в чем дело? Разве он виноват, что ему нудно там, где сладостно мне? Ему хочется к ребятам, к голосам, к шуму и играм, а не к немоте и тишине моих воспоминаний… Его мать оставила нас. Я, конечно, сам виноват, — не имел права жениться на такой молодой женщине. За Митеньку больно. Ему недостает не просто матери, а молодой матери… Знаете, иногда я думаю, что и хиленький он такой, немощный оттого, что стар я был, когда женился… Биологическое несоответствие, что ли… Глупо, наверное, но это угнетает меня…
— Зря вы, — отозвался я. — Митя хороший мальчик, будет заниматься спортом, окрепнет… Зря вы казнитесь.
— Иногда кажется, что он даже стесняется, что я так стар. В прошлом году отдыхали мы с ним в Мисхоре. Он стоял с такими же ребятишками, смотрел, как взрослые играли в волейбол. А играли отцы этих ребят, и мальчики кричали: «Папа, бей!», «Папа, подай драйфом!» Их отцам было по тридцать — тридцать пять лет. Я сидел в стороне на скамье и наблюдал. А Митенька подбежал и говорит: «Папа, папа, пойди поиграй с ними…» Я сказал ему, что мне не хочется, и еще что- то такое придумал, отказался. А он все просил… Вы, наверное, заметили, он, когда рассказывает, все хвастается чьей-то силой, ловкостью. Вот ведь как — чьей-то…
Он умолк, сидел, все так же глядя на море, не поворачивая ко мне лица, словно говорить ему было легче, когда я не видел ни его шевелившихся губ, произносивших эти слова, ни его глаз.
— Понимаете, с Митенькой что-то произошло, — снова заговорил он. — Я подумал, может, вы знаете… И позвал вас, уж извините… Несколько дней назад, после той рыбалки, услышал я ночью, что он плачет. Я еще не спал, читал газету… Да, он плакал. Я испугался: не заболел ли. «Ты что, Митенька, нездоров?» — я присел на его кровать. «Нет, — говорит, — я здоров, папа». — «Но ты плакал? Да? Что случилось, Митенька?» — «Ничего, папа, это я просто так». Я понимал: что-то стряслось, он очень жизнерадостный мальчик, не плаксивый. Просидел я с ним долго, но ничего не узнал. Что-то скрывал он, не хотел сказать. Не были ли вы свидетелем чего-нибудь?..
Свидетелем я не был. Однако я знал истину. Но зачем она ему? В ней были горечь и обида…
— Да нет, ничего такого я не заметил, — солгал я. — Может, Митя со сна, что-нибудь приснилось?.. Бывает такое…
Темнело. Оконечная полоса залива размылась в сумерках, слилась с морем и небом, и угадать, где обрывается мыс, уже можно было лишь по ритмичному пульсированию желтого маячного огня. Вдоль берега шли парень и девушка. Она сняла туфли, шла босая по воде, придерживая руками подтянутую кверху юбку, были видны ее сильные белые ноги. А он нес ее туфли, что-то говорил ей, она отвечала, смеясь, отбрасывала головой спадавшие волосы. Но слов не было слышно, в соснах шумел дождь…
А ехать-то чуть меньше суток
В эту дорогу собираться недолго. И путеводитель не нужен. К чему он, если решил спустя четверть века посетить любимый город, где родился и вырос…
Фотографию возьму с собой, на ней запечатлен наш седьмой «Б». Мальчики и девочки. И еще — учителя. Довоенная фотография. Почти детские лица с челками или стрижкой «под бокс» — самая тогда распространенная. Из двенадцати этих мальчиков семеро давно в земле: война прошлась частой гребенкой по моему поколению. Фотографию отыскал, когда получил письмо от Алешки — моего одноклассника и дружка. И вдруг окатило: как же так, до сих пор я туда не съездил повидать и повидаться?! Надо, непременно надо. И это желание, тоскливое и сладостное, мучило, ныло, вызывая в памяти цветные, почти рельефные видения прошлого: детство и отрочество в родном городе.
Осенью на улице Благовещенской, где я жил, стояла густая черная грязь, вихляя колесами, увязавшими в ней по ступицы, ползли телеги. Кучера с оттяжкой хлестали лошадей, и на потных, лоснившихся крупах оставались ровные полосы. Летом грязь превращалась в горячую сухую пыль, и в ней сидели, нахохлившись, квочки, прикрывая крылом желтый цыплячий выводок. Душно росла акация. Мы рвали ее белый медовый цвет, набивали им рот и весело жевали. Через город протекала река Баламутка. Чистой воды в ней почти не было — сплошь ряска и тина и жуткое количество лягушек. Они оглашали криком кривые в колдобинах улицы с одноэтажными старыми домами, где во дворах, волоча звякавшее по проволоке кольцо, бродили злые старые псы и пахло вареньем, оно пузырилось вкусной розовой пеной в медных тазах, под которыми горели бездымно сухие поленья…
Жителей в городе было тысяч тридцать, самое высокое здание — единственный четырехэтажный дом железнодорожников; вдоль него — тоже единственная — асфальтированная мостовая. Но это был самый большой и самый красивый город… Мой город.
Меня не покидало странное ощущение — прямо предчувствие торжественности, даже важности того, что произойдет, едва я выйду на перрон; почти уверенность, что сразу же увижу и узнаю кого-то, кто скажет: «Боже, сколько лет, сколько зим?!.» — «Двадцать пять!» — почему-то радостно отвечу я, словно мною был обещан и назначен именно этот день приезда сюда, и вот я выполнил свое обещание: приехал… А из окна вагона, который я покинул, за нами будут наблюдать соседи по купе. Они, конечно, знают, куда и зачем я ехал, одобрительно, вроде с завистью отзовутся о моей затее: «Как же, как же, очень даже правильно!» Рассуждая на эту тему, я даже пытался научно обосновать, почему у человека возникает такая потребность; отчего он отчетливо помнит годы детства, а то, что было совсем недавно — с десяток лет назад, — забыл начисто, как ненужное. Зато чем дальше, тем все подробней и жадней вспоминает место, где родился, откуда отроком двинулся в иные места, затеревшись и затерявшись в суете и плотности жизни… Мне было приятно говорить с попутчиками обо всем этом, я был как бы в центре внимания, как бы герой какого-то важного поступка, словом, человек, великодушно оказавший кому-то снисхождение, что ли. И в этом возбуждении я не помыслил о сути происходящего, покуда молодой человек в красной рубашке, куривший длинные сигареты из узкой серебряной пачки, не сказал: «Просто люди с возрастом становятся сентиментальны. Это во-первых. Во-вторых, тщеславие. Хочется предстать в полный рост, явить, так сказать, себя: мол, смотрите, кем и каким я стал!..» Это меня неприятно кольнуло: в чем-то он был прав, но я утешил себя, что не во всем, что главное — необъяснимо, тайна нашей души. И лишь пророчески сказал ему: «Вы тоже когда-нибудь отправитесь в такую дорогу». — «Может быть», — усмехнулся он, как показалось мне, самонадеянно.
Но перрон был пуст. У вокзальной двери, где некогда висел медный колокол с каким-то словом, написанным через букву «ять», стоял милиционер. Два солдата, выскочившие из вагона, покупали в киоске банки с жареной треской и крюшон. Я прошел мимо милиционера, зачем-то кивнул ему, вышел на привокзальную площадь и… ничего не узнал: когда-то коряво торчавший булыжник был похоронен под асфальтом, а возле скверика с пыльными кустами сирени — стоянка автобуса. Прежде здесь стояли пролетки, извозчики в ожидании пассажиров лениво жевали воблу, подвесив к лошадиным мордам небольшие мешки с овсом… Я ощутил растерянность, будто меня надули, даже какую-то обиду: обещали одно, а показали другое. И пешком двинулся к гостинице, с досадой заставив себя спросить у прохожего, где же она, гостиница эта, находится. И прохожий, живущий в моем городе пять лет, не более (мне непременно так хотелось о нем думать), называя незнакомые, переименованные улицы, стал растолковывать мне (человеку из этого города!), как добраться до гостиницы.
Плащ на мне расстегнут, я шел, легко неся кричаще новый, поблескивавший замками-«молниями» самый модный немецкий чемодан из бежевого кожзаменителя, вертел по сторонам головой. Ощущение праздника вновь ожило во мне. Шел я свободно, широко и радостно, а встречные люди смотрели на меня, будто узнавая, суетливые воробьи за палисадником подняли галдеж, они, наверное, кричали: «Смотрите, он вернулся!» Но языка их я не понимал. И вскоре они утихли, — кошка, вспугнувшая их, удалилась в соседний двор, где была богатая голубятня…
— Придется часок подождать, — сказала дежурная, листая квитанционную книжку. — Может, кто съезжать будет. Посидите на диванчике.
Я сел.
Гостиница мне не нравилась: низкие облупившиеся потолки и длинный, плохо освещенный коридор, где едва разминутся два человека.
— В командировочку, значит? — спросила дежурная, закладывая листок фиолетовой копирки в квитанционную книжку.
— Почти, — улыбнулся я и подошел к конторке. И, словно боясь, что больше эта женщина ни о чем не спросит, заспешил рассказать ей, что вот спустя столько лет приехал в родной город, где родились отец и мать, где родился и вырос я.
— Выходит, за свой счет прибыли? — Она сняла очки и посмотрела на меня.
— Ну да! — весело отозвался я, довольный, что она проявила интерес.
— И охота вам, — покачала она головой.
— Ну как же! — удивился я. — Вы-то где родились? Разве вам не интересно посетить те места?
— Что мне их посещать? Я здешняя. И ничего интересного тут нет, в этом городе. Вот сорок лет здесь, хожу по одним и тем же улицам, на рынок, в магазины… И охота была вам ехать сюда, тратить деньги, — снова покачала она головой. — Я думала, командировочный. Тогда, может, полулюкс возьмете?
— Возьму, конечно! — обрадовался я.
Улица Благовещенская не изменилась, почти не пострадала от войны, она только обменяла свое прежнее название на новое — стала Ворошиловградской, получив в придачу за это асфальт, под который угодливо ушла ее прежняя грязь, но асфальт тут никак в моем представлении не вязался с низенькими, побеленными известкой домами, с деревянными, почерневшими от дождей и старости заборами.
Вот и мой двор. В нем семь невысоких белых домиков. Лишь один — восьмой — краснокирпичный, двухэтажный. Жило в этих домах несметное количество людей, особенно много было детей. Весной и летом двери и окна никогда не закрывались. Из них неслись крики, смех, плач детей, песни и густо тек запах еды: жареного лука и фаршированной рыбы, сдобного с ванилью теста и сбежавшего на плиту молока, тушенной с салом капусты и огуречного рассола…
Первый дом слева. Дверь в темный коридорчик. Здесь жила семья сапожника Славина. Было у него восемь детей. Постепенно они покидали этот дом и больше сюда не возвращались. Где они — весь двор знал по их редким письмам с погранзастав, новостроек, флотов. Письма эти тетя Поля — жена сапожника — читала соседкам, плакала при этом, утирая спрятанные в морщинках глаза грязным передником… Я смотрю в черный дверной проем, в глубокую, знакомую с детства бесконечную темноту коридорчика, прислушиваюсь, будто ожидаю, что оттуда выбегут сейчас Левка и Борька Славины, — один мой ровесник, другой — погодок, — и мы, поправляя на худеньких плечах помочи, понесемся дразнить шарманщика Файвла… Но выходит из коридора незнакомая женщина. Она несет таз с мокрым бельем, на шее у нее, как четки, висят на шпагатике прищепки.
Я слышу запах свежевыстиранного и вываренного в баке со щелоком белья, хотя с детства привык чуять у этой двери крепкий дух выделанной кожи и сыромятины, навощенной дратвы и гуталина… Женщина проходит мимо, не взглянув и не оглянувшись. И я понимаю, что Славины здесь уже не живут. Не живет тут (дверь рядом) и шарманщик Файвл со своей крикливой женой Розой, проклинавшей нас, огольцов, за жестокие шутки над ее мудро молчаливым и безответным мужем. Не живет здесь (дом напротив) и Кузьмич. Мы так любили тихонечко войти в его чулан, придерживая дыхание, замерев, чтоб нас отсюда не турнули, наблюдать, как Кузьмич припаивает ножку к примусу или «латает» кастрюлю. Здесь пахло железом, окалиной, серной кислотой, дегтем и огнем, в котором постоянно распаляют металл. В кучу были свалены старые велосипедные рамы, цепи, какие-то втулки, полые утюги, нагревавшиеся древесным углем изнутри, измятые самовары и мотки проволоки. А на верстаке лежали молотки и молоточки и похожие на них облуженные на кончиках паяльники, напильники и рашпили, зубила и полотна ножовки… Кузьмич делал вид, что не замечал нас, сопевших от напряженного внимания, притихших. Мы смотрели, как он макал куриное перышко в пузырек с кислотой и мазал им зачищенную напильником и наждаком сияющую пролысинку на тазу или на кастрюле — место, куда он положит тотчас латку из ртутно шевелящегося олова, которое, быстро остывая, тускнело на наших глазах.
«Ну-ка, Вовка, сопли подбери, чего дергаешь ими, шум создаешь!» — говорил Кузьмич, не глядя на нас.
И Вовка шумно втягивал сопли на место и вытирал под носом рукавом. Воспользовавшись этим, мы позволяли себе переступить с ноги на ногу, пошевелиться…
Не живет здесь (дверь рядом с чуланом Кузьмича) и Нестор Ильич — высокий, бритоголовый учитель пения в нашей школе, очень похожий на Котовского из фильма. В карманчике его пиджака всегда торчал камертон. Нестор Ильич звякал им о парту, когда разучивал с нами «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и другие песни…
Этих людей уже нет. Какой бы силой ни обладало мое щемящее желание увидеть их — это невозможно, нельзя вернуть плоть из небытия. Жажда увидеть их искренна, но и эгоистична: удовлетворение ее необходимо лишь мне, чтобы пережить сладостное перемещение во времени, доступное, к сожалению, только воображению.
Через неделю после начала оккупации нашего города на подворьях Новосельского совхоза немцы организовали временный концлагерь, куда после облав загоняли выбиравшихся из окружения бойцов и всех из местного населения, кто должен быть уничтожен.
Партиями, охраняемыми солдатами с собаками, людей из лагеря гнали через город к рыжим степным холмам в меловые карьеры и там расстреливали. Чтоб было это забавней, по приказу полицейского начальника из наших, местных, — Синицына их сопровождал старый Файвл со своей шарманкой. Он шел рядом с колонной смертников в латаной фуфайке, семенящим вялым шагом, подгоняемый гнусавыми выкриками Синицына, глядя сухими синими глазами так далеко, куда проникал уже не взор, а его мысли — утомленные годами, горем, воспоминаниями и словно отрешенные уже от нелепостей реальной жизни. За спиной он тащил на обтрепанном брезентовом ремне шарманку с рассохшейся деревянной ногой. Охваченная внизу широким металлическим кольцом, которое приспособил когда-то Кузьмич, она напоминала нам всегда деревяшку-протез одноногого инвалида.
Что отдал бы я теперь, чтоб обрести возможность искупить перед старым шарманщиком свою вину за нередко жестокие, но не от зла, от детской беззаботности, проделки над ним — не знаю! Но не поскупился бы! Мы ощущаем эту потребность в искуплении, когда соседские мальчики уже начинают подшучивать и иронизировать над нами…
Ящик шарманки спереди был обтянут выцветшим гобеленом: в райских кущах возлежала восточная красавица, на ветках сидели попугаи, резвились обезьяны, а вдалеке, как сказочный принц, в тюрбане с пером скакал на иноходце юноша в дорогих одеждах и с кривой саблей на боку. Музыка в шарманке была небогатая — давний русский вальс «Над волнами»…
Когда колонна обреченных добиралась наконец до карьера и перед нею выстраивались автоматчики, Синицын отдавал приказ Файвлу. Старик сволакивал шарманку из-за спины, упирал ее ногу в утоптанную, прошитую травкой землю и начинал вертеть ручку. Всхлипывая, срываясь на стертых или проскакивая на выбитых уже колышках, возникал вальс «Над волнами». Синицын в стороне о чем-то весело болтал с немецким офицером. А Файвл крутил барабан шарманки, ветер нес колкую степную пыль, шевелил редкие серые волосы на огромном черепе шарманщика. Потом раздавалась команда: «Фойер!»…
— У тебя сегодня здорово получалось. Молодец, хорошо играл. Можешь идти домой, — глумливо усмехался шарманщику Синицын, когда после выстрелов наступала опустошающая тишина.
Так продолжалось несколько дней.
Расстрелы подходили к концу, оставалось человек пятьдесят — последняя партия. Несколько вечеров кряду в чулане у Кузьмича допоздна горела керосиновая лампа. Над нею дрожал прогретый темный воздух, тени уползли в углы, пахло теплым керосином и остывшим металлом. Свет мягко блестел на стеклах очков Кузьмича. Потрескивал самосад, когда Нестор Ильич делал глубокую затяжку, безмолвный Файвл, не мигая, смотрел на крылышко пламени, которое почти недвижно, как бабочка, сидело на фитиле за стеклом.
Кто знает, о чем они говорили, эти пожилые люди? О смерти, о душе или плоти, а может, вспоминали свое детство, вкус подсоленного лука, политого пахучим, давленным из жареных семечек маслом, куда макали хлеб; или вкус терпких яблок из соседского сада, которые в наших краях называют «кислицы»… Кто знает? Но допоздна горела керосиновая лампа, слышались позвякивание камертона Нестора Ильича и удары молоточка: Кузьмич осторожно бил по металлическим колышкам, меняя их местами на барабане старой шарманки…
А потом наступил этот день: опустели подворья зерносовхоза — Файвл шел с последней колонной обреченных. И когда пришли туда, к карьеру, и когда Синицын подал команду играть, а Файвл крутнул ручку шарманки, из ее темного нутра сквозь источившуюся от времени ткань гобелена, из райских кущ, где сидели попугаи и резвились обезьяны, из дали, где скакал юноша в тюрбане с кривой саблей на боку, — из натруженной души шарманки возникла музыка. Немецкий офицер удивился — это была другая, незнакомая музыка. Напрягся, дернув головой, Синицын. А в рядах тех, кого привели на расстрел, что-то ожило, шевельнулось. Мелодия была короткой — одна, все время повторявшаяся музыкальная фраза: «Наверх вы, товарищи, все по местам: последний парад наступает…» Синицын что-то сказал немцу, все еще удивленно прислушивавшемуся к чреву шарманки, и тот крикнул: «Фойер!» Крикнул в момент, когда шевеление в рядах стало разрастаться и оттуда уже долетал не стон, а гомон…
Файвла приволокли зачем-то на подворье совхоза, швырнули в вонявшую травянистой гнилью силосную яму и застрелили. А вечером туда же столкнули Кузьмича и учителя пения, и усатый полицай с обвислыми лиловыми щеками, неторопливо перезаряжая карабин, стрелял в них, держа карабин в одной руке, опустив его стволом вниз — в яму…
Это уже чужой двор, потому что я в нем чужой для тех, кто жил здесь теперь: на меня либо не обращали внимания, либо удивленно оглядывались. В конце двора, спускавшегося к яру, — двухэтажный краснокирпичный дом. Здесь я родился и прожил пятнадцать лет.
По железным, протяжно отзванивавшим под моими шагами ступенькам поднимаюсь к двери, на которой знал каждую щелочку и каждый сучок. За нею — застекленная терраса, где должен стоять высокий, во всю стену, шкаф, в нем лежат мои масляные краски и в консервной баночке в скипидаре торчат кисти: в детстве я ходил в изостудию. И вдруг мне становится жутко и сладостно от мысли, что из глубины квартиры я услышу сейчас голос мамы: «Он опять не съел борщ, вылил в помойное ведро» (это обо мне), а затем еле слышный, из далекой комнаты голос отца: «Всыпь ему хорошенько!»… И хотя я понимаю, что ничего этого не произойдет — отец и мать давно похоронены на большом, как город, пышном кладбище вдали от этих мест, — тем не менее я иду сейчас к ним, поднимаясь по железным ступенькам. Сейчас я все увижу: диван с высокой спинкой, коричневый буфет, висячую полку с книгами — темно-зеленые твердые корешки собрания сочинений Амфитеатрова и тяжелые тома Шекспира, мою кровать с желтыми медными шарами, мраморный умывальник — всю нашу маленькую уютную квартиру. Я не представляю, что все это может быть сдвинуто со своих мест, стоять иначе или вообще ничего этого нет — все заменили другим. Так не может быть, потому что так не должно быть…
Звоню. Жду долго. Успеваю обследовать взглядом дверь: что на ней изменилось. И опять звоню. Наконец детский голос:
— Кто там?
— Открой, девочка.
— Я не девочка, а мальчик. Дома нет никого. Мама ушла и не велела никому открывать.
— Слушай, мальчик, понимаешь, я жил здесь когда-то.
— Ну и что?.. Это наша квартира.
«Ну и что?..» Как ему объяснить?. Что он может понять? Он сам должен пройти этот круг, чтоб вернуться к точке, у которой стою я. Круг этот длинный.
Я спускаюсь с лестницы. Из двери соседнего дома выходит мужчина. В руках у него авоська с бутылками из-под молока. Мы посмотрели друг на друга и двинулись каждый в свою сторону. И вдруг я остановился: дошло, что лицо его мне знакомо, спиной чувствую, что и он остановился, мы поворачиваемся друг к другу.
— Вы Радик? — спрашиваю я.
— Да, Радик-«головастик», — застенчиво улыбается он, как пароль называя дразнилку, какую мы дали ему в детстве за несоразмерно большую для худенького тельца голову. Он отводит за спину руку с авоськой, словно прячет, бутылки звякают, и я вижу, что «головастик» смущается.
— Вы все еще здесь живете? — спрашиваю.
— Да.
— А я вот зашел посмотреть. Потянуло, — обвел я рукою двор.
— В командировке?
— Вроде… А где ваш брат? Его звали Лель, да?
— Да, Лель, — отвечает мужчина. — Он в Днепропетровске.
— Слушайте, — я не знаю, как обратиться: сказать просто Радик или Головастик — неудобно, ему тоже за сорок, — а помните, как я с Лелем играл в шахматы, и вы сбивали прутиком фигуры. Вы были моложе года на три. И я кричал: «Головастик, получишь шалабан!»
— Помню. — Он нетерпеливо переступает с ноги на ногу. — Здесь ведь нет уже никого, — кивнул на дома. — Кто умер, кто убит, кто просто уехал, а кто из эвакуации больше не вернулся. — Он пошевелился, и за спиной звякнули бутылки. — Извините, мне надо идти.
— А там еще пройти можно? — задерживаю его вопросом и показываю на памятное место между домами, каким мы проникали на соседний двор. Проходные дворы! Я знал все их лабиринты, лазы, щели, каждую отодвигавшуюся доску в заборе, каждый подкоп под изгородью. Я мог пройти по ним, не выходя на улицу, полгорода.
— Да, здесь все так же, — сказал он, и вдруг — поразительное: — Вы к Анне?..
Аня! Моя школьная любовь! Смуглая тонколицая девочка, стройная, подвижная… Девочка из параллельного, седьмого «А», жившая во дворе рядом… Как он мог помнить об этом?! Но он точно спросил: «Вы к Анне?» Выходит, знал, помнил и, значит, вспоминал свое детство, где жил и я, и Аня. В его памяти мы были связаны с нею чем-то, что безошибочно подвело его к догадке: «Вы к Анне?»
— Ее нету. Она в сорок девятом вышла замуж и куда-то уехала…
На нашей Благовещенской в те годы жил единственный на весь город обладатель ордена. Да какого ордена! Красного Знамени! Человек этот — невысокий, плотный, с седыми, как из лунного света, волосами — носил орден на белой косоворотке, подпоясанной тонким кавказским ремешком с набором серебряных украшений.
Еще издали, завидя его, мы собирались и стайкой шли следом от крыльца его дома до маслобойни, где он работал бухгалтером. И не было большего счастья, чем идти за ним, а то и получить разрешение потрогать пальцем холодный металл ордена. Но такой завидной чести удостаивались только я и Аня. Может, потому что ходили за седоголовым повсюду, млея от радости, когда он заговаривал с нами, а прохожие это видели. В такие минуты мы ощущали себя конниками рядом со своим командиром в скрипящих, потно пахнувших седлах, и мятный ветер донецкой степи дул нам в худенькие спины. Мы бежали, и это ощущение крыльев, почти явственное, уносило нас в степь, где земля горячо выдыхала настой бархатисто-платиновой полыни, где плотную духоту тонким попискиванием буравили суслики и под курганами шуршали обезвоженные кустики колючек, а в пепельно-синем небе высоко скользил кобчик.
Аня бежала за мной по тропинке — спекшейся, в трещинах, отглянцованной зноем, сильно бившей в босые пятки, уже не боявшиеся ни заноз, ни острого камешка.
Здесь мы и нашли тельце воробья — серый комок с тонкими ножками. Одно крыло у него было перебито. Наверное, кто-то в городе — из рогатки, а он долетел сюда в степь на втором крыле, рухнул здесь и погиб.
Мы растянули, как веер, его шелковистые мертвые крылья и удивились их размаху при таком ничтожном тельце.
— Не долетел. На одном крыле, — сказал я.
— Два крыла сильнее загребают, — сказала Аня.
Мы похоронили воробья в сухой сыпучей земле, перемешанной со стебельками, и на незаметный могильный холмик положили найденный тут же камень: кремень, из которого хорошо напильником высекать вечером искры.
Нам было тогда по двенадцать лет.
Потом мы забыли о похороненном в степи воробье Сидели на почерневших щитах, какие на зиму ставят, чтоб задержать на полях снег. За пыльными репейниками над кюветом начиналось травянистое летное поле местного аэроклуба. Там люди в комбинезонах суетились возле бипланов, выкатывали их в центр, по двое садились в машины и совершали несколько кругов Затем, снижаясь, бипланы касались земли большими колесами и, подпрыгивая, катились к белым полотнищам в виде буквы «Т». Иногда знакомый механик разрешал нам приблизиться к самолету, потолкаться меж курсантами, и тогда мы слышали слова: «Карабанчель», «Барселона», «капрони», «хейнкели»…
Когда в городе открылся Дворец пионеров, Аня записалась в авиамодельный кружок. Меня это не заинтересовало. Аня рассказывала мне, как разводить столярный клей, гнуть над пламенем спиртовки бамбуковые щепочки, рассчитывать несущую поверхность крыла, о лонжеронах, расчалках, нервюрах и элеронах. Однако меня больше занимали рассказы об Икаре и русском холопе, смастерившем крылья и сиганувшем с колокольни.
— Дурак твой Икар! — как-то сказала Аня.
— Почему?
— Прежде чем лезть на такую высоту, надо соображать, что к чему.
— А мужество!! — воскликнул я.
— Что? — спросила она так, словно об этом не принято говорить, как о само собой разумеющемся.
— Если бревно на земле, ты запросто пройдешь. А попробуй, если оно между твоим балконом и Митькиным, на втором этаже! Ну что? — Это меня волновало. Я собирался завтра пройти над четырехметровым пролетом между своим и соседским сараями по узкой доске, переброшенной с крыши на крышу.
— Буза! — сказала Аня. — Ты еще мамин зонтик возьми.
— Нет, как раз без зонтика. Так. — И, спрыгнув со щита, я пошел по краю кювета, балансируя руками.
Что было еще? Пушистая, белая, в искрящихся блестках зима. Парк. Его аллеи, шедшие концентрическими кругами, на зиму заливали водой, и здесь был городской каток. По вечерам мы неслись с Аней сквозь зыбкие полосы света и теней и где-то в темноте, густой от плотно стоявших деревьев и черных скрипучих ветвей сирени, пытаясь затормозить, с разбегу влетали в сугроб и стояли там по колено в снегу. Сближались наши руки и лица; все жарче и острее ощущая наше встречное дыхание, мы робко, неумело касались друг друга губами…
Мне ничего не нужно было, только видеть ее лицо каждый день. Эта постоянная жажда видеть Аню пробуждала меня ночью, гнала в школу задолго до первого звонка. Мне казалось, что жажда эта вечна, чем больше я видел Аню, тем неизбывней делалось это ощущение…
Демобилизовался я в августе сорок пятого. Мне шел двадцать первый год. В сентябре я уже был студентом в большом незнакомом городе. Лежа на узкой железной кровати в общежитии, я все соображал, как вырваться на недельку-другую в родной город, повидаться со всеми, главное — с Аней. Я точно знал, как это должно быть: вот мы идем с нею за город. Я в гимнастерке, бриджах, сапогах — другой одежды у меня еще нет. Солнце высоко остановилось над степью, знойный воздух загустел, и идти сквозь него тяжело, пот за ушами стекает по шее, а расстегнутая гимнастерка прилипла к телу. Аня чуть сзади. Она, наверное, видит бурые пятна на моих лопатках. Затем она обгоняет меня, идет легко, упруго, из-под ее синих парусиновых тапочек на резиновой подошве взвихривается облачками степной, иссушенный жарою прах. Она наклоняется за камешком и знает, что я сейчас близко вижу ее сильные напрягшиеся ноги, высокие, с нежной голубизной вен в подколенных сгибах.
Затем мы сидим под курганом на ломкой и колкой траве.
Вокруг тихо-тихо, как бывает только в пропеченной солнцем степи в засушливом невыносимом июле, когда небо становится почти белым, а сонное пиликание кузнечиков тоже обозначает тишину. Тут Аня и вспомнит, что давным-давно мы похоронили где-то здесь воробья. Но это произошло действительно очень давно, землю эту за годы, что мы не были, так начинили металлом и мертвецами, что страшно копнуть ее на полштыка.
— Ну вот, мы и вернулись, — скажет она и, приблизившись лицом к моему лицу, проведет стебельком, зажатым в зубах, по твердым моим губам.
Но в этот год я так и не съездил на родину: не было денег. А потом что-то тоже помешало. И я отложил поездку еще на год. Затем — пошло-покатилось! И уже не откладывал, а просто забывал, что вот в этом-то году как раз и собирался смотаться в родной город. И деньги вроде уже были, но появлялись вдруг какие-то причины, и эти деньги важнее было истратить на другое. А позже просто время стало дороже денег и его надо было расходовать на нечто более значительное. Так и пронеслось ни много ни мало — четверть века…
Покинув двор, знакомыми переулками иду в свою школу. Это недалеко — угловое трехэтажное здание напротив пожарной каланчи. Иду быстро. Понимаю, что волнуюсь, будто сейчас должно свершиться что-то важное в моей жизни. Но что — не могу объяснить себе. Стараюсь думать трезвее: ничто повториться уже не сможет. Время постоянно мчится, как быстрый, все охватывающий поток, а то, что мы обладаем властью останавливать дни и мгновения, — иллюзия власти, ибо это происходит лишь в нашей памяти в момент, когда реальное время все так же безостановочно движется, унося нас с собой… Что ж, утешусь, хоть иллюзией, она вызывает сочувствие к самому себе. И что греха таить — сочувствие это приятно, в нем смутный намек на какую-то надежду…
Двор школы пуст. Идут уроки. Обвожу взглядом этажи, окна. В глубине двора, прикрытый старой акацией — домик. Там жил наш математик и многолетний завуч Авдей Петрович, ловко подкрадывавшийся к уборной, чтоб поймать курильщиков. За домиком, над которым торчит скворечня, видна бурая кровля дома, где занимал квартиру директор школы — невероятно худой, весь вытянутый вверх человек с маленькой птичьей головой на тонкой шее. Мы звали его «Рамзес». Он преподавал историю…
Школьный порог. Большая черная ручка-скоба. Сколько раз я тянул ее на себя, чтоб открыть тяжелую дверь! Скоба была тогда почти на уровне носа. Сейчас опускаю к ней руку и легко открываю дверь. В коридоре никого. Прямо, напротив, по-прежнему — учительская. Почему-то становится неловко, не хочется встречать ничьих любопытных глаз. И я сворачиваю к лестнице в подвальное помещение: когда-то там были слесарные и столярные мастерские, раздевалка, спортзал и буфет, где мы покупали французские булочки с горячими сочными котлетами в пупырышках поджаренных сухарей… Но вторая дверь в подвал заперта. Огорченный, поднимаюсь наверх и вздрагиваю: так резко ударил по тишине электрический звонок — перемена.
Из классов, с верхних этажей по лестнице сыпанула детвора, захлопала входная дверь: ребятня несется во двор. Еще тепло, безветренно, начало октября, в сухом воздухе серебрятся, проплывая, нити клейких паутинок, под стволом акации желтый круг опавшей листвы; небо голубое, огромное, далеко-далеко в нем, как изморозь, белеет почти прозрачное, распутанное высокими ветрами облачко. Вспоминаю, что в классах сейчас должно быть много солнца, оно греет в спины, все так же, как тогда, незаметно скользит, наверное, от портрета Пушкина на другую стену — к Ньютону. Когда Пушкин и Ньютон останутся в тени, а луч высветит слонов и воинов на них у высоких стен Карфагена — это значит, что начался последний, шестой урок первой смены. Но сейчас перемена, и дежурные, вероятно, распахивают в классах окна…
Мимо меня с классными журналами проходят учителя. Ни одного мужчины, все женщины среднего возраста. Лица мне незнакомы. И приходит простая и безнадежная мысль: если мне сейчас сорок шесть, то Авдею Петровичу и Рамзесу, любимой Варваре Павловне — грузной, прихрамывавшей учительнице литературы и нашему классному воспитателю — сейчас далеко за семьдесят. В лучшем случае они на пенсии. В лучшем… Как же я надеялся их здесь встретить?!
И все-таки одного человека я должен тут встретить. Это Лиля, подружка Ани, таскавшая нам друг от друга записочки, мирившая нас. Я знаю, что она в этой школе преподает русский язык и литературу. Давний мой верный дружок Лиля! Очень редко, раз в два-три года мы обмениваемся короткими письмами.
Я верчу головой: смотрю вверх на лестницу и налево — вдоль коридора: боюсь ее прозевать, вернее — не узнать! Ко мне. подходит женщина с большим циркулем и огромным деревянным транспортиром в руках.
— Вы чей-нибудь родитель? — спрашивает она.
— Нет, я жду Лилию Михайловну.
Она открывает дверь учительской и зовет:
— Лиля Михайловна, к вам пришли.
Я успеваю заглянуть в учительскую: у маленького столика, заваленного тетрадями, сидит женщина, за нею — окно, и на его бело-золотом, ярком от солнца фоне — темный силуэт лица. И он не знаком мне. Но это — Лиля: она встает и идет к двери.
— Вы войдите, — предлагает женщина с транспортиром. Ей, видно, любопытно, кто я, если пришел в школу, а ничей не родитель.
— Ничего, я подожду здесь, спасибо.
Лиля выходит. Я вижу близко ее лицо. Но узнаю лишь недоуменно-близорукий прищур серых глаз. Я молчу: признает ли она меня? Какое-то мгновение она смотрит, пытаясь понять, кто я, понимая, что я не по школьным делам тут.
— Ты?! — наконец выдыхает она и делает движение навстречу, сейчас мы расцелуемся, но Лиля вдруг замирает и, радостно зажмурив глаза, лишь крепко сжимает мне руки. Лиля смущается, целоваться неудобно: на нас поглядывают в коридоре и из распахнутых дверей учительской, где я вижу канцелярский шкаф, старый обшарпанный глобус на нем, а в углу свернутые в рулоны географические карты, подклеенные с изнанки прожелтевшей марлей.
Мы отходим к окну под лестницей. Лиля молча разглядывает меня, я, улыбаясь, — ее. И странное ощущение: я не знаю этой женщины с уставшим лицом в мелких морщинках, со смятыми, вялыми губами, с пробеленными сединой каштановыми волосами. Нет в ней ничего от той стройной, плотнотелой девушки в синеньком нитяном купальнике, туго обтягивавшем тело, когда она выскакивала из пруда на скользкие мостки, прыгала на одной ноге, вытряхивая из ушей воду, и смеялась большим красным ртом, где влажно сверкали белые ровные зубы… Я не знаю этой женщины, но мы стоим здесь с нею рядом, потому что ее зовут Лиля…
— Почему ты не дал телеграмму?
— А зачем? Так интересней, — довольный, посмеиваюсь я.
— Какой же ты молодец, что приехал! — восклицает она. — Как же нам устроить все это получше? У меня еще уроки. Давай так: вечером ко мне. Я позвоню Алешке Вескову и Мишке Погосову. В городе Нина Беляева, обе Вальки — Бугаева и Ушакова… Кто еще? Ага, в совхозном поселке Шурка Жданова!.. Позовем и их. Свету Ермолину… Зря ты не написал, что приедешь. Можно было списаться с остальными, кто неподалеку, съехались бы. Вот славно было бы!.. Ну, мне пора, урок, — говорит Лиля. — Значит, до вечера, у меня… Какой же ты молодец, что приехал! — еще раз восклицает она и уходит.
Я смотрю вслед, на щуплую, словно от времени уменьшившуюся фигурку, стянутую в талии жакетом, походка ее мне кажется напряженной и неуверенной, припоминаю жесткие пальцы, испачканные мелом, в темных морщинках от стирок и кухонных забот…
Как славно все получилось! Вечером еще интересней будет, когда соберемся у Лили…
Я сижу в углу, под торшером, разглядываю комнату: два шкафа с книгами, круглый аквариум с черными рыбками, низенький сервант с небогатым сервизом. Стол накрыт скатертью.
— Ну вот, — говорит Лиля и садится рядом, уложив руки на пестрый фартук, — картошку уже начистила. Сейчас Август придет, мой муж. У них партбюро сегодня, он директор школы… А ты хорошо выглядишь, совсем молодой. Я уже старуха рядом с тобой, да? Жена у тебя, наверное, молоденькая. Вы все женились на молоденьких, угадали, на ровесницах жениться не спешили. А нам женихов на выбор совсем не осталось: война! Верка Реброва вообще не вышла замуж. А мой Август старше меня на четырнадцать лет. Вот как вы с нами поступили, — смеется Лиля. — Но я не жалуюсь, он у меня хороший, любит. Может, и лучше, что так получилось?.. У Ани уже четверо детей. Она бабушка. А кто у тебя жена? — спросила Лиля.
— Биолог.
— Красивая?
— Не знаю.
— Ну ладно, потом расскажешь про все. — И она снова убегает на кухню, возбужденная и счастливая, как все люди, беззаветно и безоглядно бросающиеся навстречу воспоминаниям.
Через полчаса приходит муж Лили — Август — приметный человек, высокий, большая голова в седых, плотно вьющихся волосах, глаза веселые, прицельно прищурены под широкими темными бровями. С порога улыбаясь, он перебрасывает из правой руки в левую большой рыжий портфель, чтоб поздороваться со мной. Вместе с ним пришел и Алешка Весков.
— Ну-ка, Август, дай мне его, — шумит Алешка и, потерев ладони, крепко загребает меня за плечи. Мы припадаем друг к другу щеками, неудобно целуемся. Алешка в военной форме, и погон жестко упирается мне в подбородок.
Алешка единственный, с кем довелось после войны свидеться. В 1954 году он, майор-танкист, ехал из Венгрии в отпуск и на сутки завернул ко мне. Вот уже полгода, как Алешка уволился в запас, поселился в родном городе в беленьком доме матери, где в сумеречных сенцах всегда стояла большая гладкая макитра квашеной капусты, а в чулане возились и кудахтали несушки. Это из его подробных и длинных писем со множеством восклицательных знаков я знаю обо всем, что произошло в нашем городе…
— Ты что это при параде? — спрашиваю, отстраняясь и оглядывая его подполковничью форму.
— В честь тебя! — громко смеется Алешка.
— Врет, — щурит глаза Август. — Он у меня в школе военруком теперь. Мы ведь прямо с работы… Ну, вы тут лобызайтесь, а я все же хозяин, схожу на кухню, гляну…
Алешка снова потирает ладони и медленно обходит стол, смотрит, будто примеривается к чему-то.
— Та-ак, — говорит он, — порядок! — Выходит в коридор и возвращается с зажатыми меж веснушчатыми пальцами обеих рук четырьмя бутылками водки. — Годится для нашего калибра? — спрашивает, утверждая бутылки на столе.
В это время звонят, и Алешка идет в прихожую. Я слышу его голос: «Смелей, не робей!» Затем в комнату входит женщина, и Алешка весело кричит из-за ее спины:
— Дама пожаловала!
В женщине этой я никого не узнаю. Скуластое, обветренное до смуглоты лицо, никакой косметики, с высокого лба, без затей, волосы туго оттянуты назад и собраны на затылке в большой узел. Она неторопливо снимает зеленый плащ «болонью», Алешка галантно подхватывает его.
— Смотри, какой кавалер, — усмешливо говорит она про Алешку, а смотрит на меня. — Шпоры-то давно обломал, а все в петухи лезешь, Алеша. — Затем подходит ко мне — в коричневом шерстяном платье простого покроя с кружевным воротничком — и протягивает ладонь с напряженно сомкнутыми пальцами. — Ладно тебе мучиться, все равно не признаешь, — говорит она мне, — Шурка я, Жданова. Помнишь, на второй парте в ряду у окон сидела. С Борей Петрушиным. Коса у меня большая была, а Сережка Донцов кусочек смолы в нее впутал. То-то слез было! Помнишь?
Этого я не помню. И ее смутно помню. Но вот Борю Петрушина и Серегу Донцова как сейчас вижу.
— Оба убиты, — говорю я.
Шура прикрывает глаза и несколько раз медленно кивает.
— Как же ты живешь, Шура? — спрашиваю я, потому что надо что-то спросить.
— Я-то? — Она пожимает плечами. — Живу. Трое ребят. Муж электриком на гвоздильном. Не здешний он, с Урала. А я хозяйство веду.
— Помещица она, — подначливо кричит Алешка. — Огород, куры, утки, кабанчики да коровка. И сад — будь здоров! Малинник — заблудишься!
— А как же! — смеется Шура. — И это надо. Батраков, правда, не держу, все своей поясницей. Такого, — весело кивает она на Алешку, — возьми в батраки, самой в убыток станет: объест ведь и обопьет. Вон какой гладкий. А был-то Алешенька конопатый тихий пацаненок, все, помню, портрет Кирова по памяти рисовал… Вот ведь, а! Двадцать пять лет пролетело, а я тебе все про себя уж и рассказала, как про один день, — поворачивается Шура ко мне: — Ну, а ты-то как? В командировку сюда, что ли?
Странное дело: третий человек за сегодня задает мне этот вопрос: дежурная в гостинице, Радик-«головастик» и вот сейчас Шура.
— Нет, — говорю я, — не в командировку. Просто взял и прибыл к вам.
— Самолетом?
— Нет, поездом.
— Ну ладно, потом все расскажешь про себя… Слышишь, Леша, — Шура встает, — принеси-ка мою корзинку, пойду подсоблю им на кухне.
Алешка приносит из прихожей большую плетеную корзинку, прикрытую марлей.
— Гостинцы из собственного хозяйства? — спрашивает он.
— А как же! Масло-то получше магазинного, настоящими сливками пахнет. — Шура подхватывает корзинку и уходит на кухню.
Вдвоем с Лилей они утесняют стол тарелками со свежими огурцами и помидорами, появляется блюдо с салатом из поздней пористой редиски, а Алешка ходит за ними — туда-сюда, все потирает ладони, вдыхает запах еды и, мучительно закатывая глаза, приговаривает:
— Братцы, помру от голода!.. Ох, и вкуснотища!..
Но вот уже все готово. И тут наступает долгая странная пауза. Есть в ней что-то тайное, неловкое и напряженное. Я перехватываю взгляды Августа и Лили: ее озабоченный, его успокаивающий.
— Больше ждать не могу! — восклицает Алешка.
— Да и некого, — спокойно говорит Шура. — Никто больше не придет. И не казнись ты, — поворачивается она к Лиле. — Что ж ты от него скрывала? Он же свой человек, — кивает на меня.
Вот оно что: больше никто не придет!
— Черт с ними! — взрывается Алешка. Он садится за стол и разливает водку по большим стопкам. Садимся и мы. — Я вот что хочу, — говорит Алешка, поднимая стопку и обращаясь к пустым стульям и тарелкам, приготовленным для тех, кто не придет, — впрочем, ничего не хочу. За Мишку Погосова, наверное, как всегда, распорядилась его супруга: «Нечего зря время терять, диссертацию заканчивать надо. И пить ему нельзя — печень». А я думал, что он все же придет. Жалко мне тебя, Миша. И тебя, Валя Бугаева. И тебя, Валя Ушакова, вместе со Светой Ермолиной, — он кивает поочередно на пустые стулья. — Ну, а мы будем здоровы и выпьем за встречу. — Не дожидаясь, Алешка выплескивает в горло водку и натужно дергает кадыком.
Выпиваем и мы. Молча. Сперва по одной. Потом еще и еще. Едим. И это — спасение: можно не разговаривать, разве что похваливать закуску — кулинарные способности хозяйки да овощи с огорода Шуры. Потом начинаются тосты: за жен, детей, мужей, учителей, что нас учили, фронтовое братство. Произносит их Алешка, он пьянеет быстро, и в словах его отчаянно отзванивает злость и горечь.
— Никто, кроме нас, мужики, этого не поймет, — склонившись к Августу, хмельно бормочет он и обнимает меня за плечи свободной рукой. — Никто! А кто не с нами, тот — что? Против нас! Ясно?
— Слышь, Леша, ведь не однополчане собрались, — останавливает его Шура. — Ты чего-то спутал: «не с нами, против нас». Света, что ли, Ермолина против тебя или Валя Ушакова? Зря ты распылался, не к месту эти слова, не люблю я их, жестокие.
— Убери ты их тарелки к чертовой матери! — мотает Алешка головой. — Мешают только.
— Ну что ты, Алеша, — растерянно откликается Лиля. — Давайте я принесу альбом со старыми фотографиями, там много наших довоенных, — Лиля обводит нас смущенным, завлажневшим взглядом. Чувствую, она вот-вот расплачется.
— Не надо, Лиля, — вдруг тихо говорит Август. От выпитого лоб у него малиновый, в испарине, а глаза трезвые, надежные. — Тот день, когда все это было бы в самый раз, — повел Август рукой, будто очертил некий круг, где и стол, и мы за столом, — тот день проскочил мимо вас. Ушел.
Вы и не заметили. А сейчас силой хотите вернуть его. Так не бывает. Чего вы хотите друг от друга? — он пожал плечами. — Какого внимания и за что?
— Но есть долг, понимаешь — долг, — осоловело бормочет Алешка.
— Перестань, — зря раздражаясь, одергиваю я его и смотрю на Августа: что же дальше?
— Вам просто жаль самих себя, — спокойно говорит он. — Ну в том смысле, что стареете, мол, а где-то кто-то помнит вас молодыми. И от этой растравляющей жалости хочется вам встретиться, сравнить себя друг с другом, и каждый держит тайную мысль: «А вдруг я сегодня буду выглядеть моложе своих однокашников?» Эгоизм стареющих людей. Ведь и говорить-то вам даже не о чем. И ни к чему эти наркотические разглядывания старых фотографий. Будем считать, что ты просто у нас в гостях, — обращается Август ко мне. — Вот по этому случаю и выпьем.
Под тяжелыми, точно подогнанными, как камни в фундаменте, словами мужа Лиля сникает. Вижу, хочет она что-то возразить ему, но не решается, — чувства словом не перескажешь.
Я тоже хочу возразить Августу, но понимаю, что я — сторона, наиболее заинтересованная, в какой-то мере виновник всего. Да и что сказать ему, когда те, кто не пришел, как бы подтвердили его правоту!.. И мне уже хочется, чтобы вечер этот скорее закончился…
На улице совсем темно. Похолодало. Где-то по степным оврагам, в негустых здешних лесочках уже нагуливает силу осень. Днем она отлеживается там, а к ночи, еще таясь, проносится по городу, остужает сады, землю, дома и небо над ними, и снова по окраинным переулкам и задним дворам, огородам убегает ожидать свою надежную пору.
Частые, невпопад, шаги утихают за поворотом: это Август уводит пьяного Алешку домой.
— Я провожу тебя, — говорит мне Шура. — Не то совсем разобидишься, что так нескладно получилось.
— Ну что ты! Какие уж тут обиды, — возражаю я.
— Пойдем, пойдем, — не верит мне Шура, — от гостиницы я уеду автобусом.
Улицы пустынны. Мы идем по узкому земляному тротуару, обходя стволы старых акаций.
— Когда война началась, вы жили по прежним законам, — говорит Шура, — по понятным правилам: и те, кто в эвакуацию уехать смог, и те, кто на фронт. Лиля, ты, Алешка. А мы — в оккупацию попали. Уж такого нагляделись, наслушались! Уж такого! А кто мы были? Дети — по пятнадцать лет. Только что сидели за одной партой и все было ясным. Да пошли дни один другого страшней и путаней. Мы ведь у заборчиков, у калиточек с Валькой Бугаевой стояли и видели, как по улице на расстрел в карьер уводили. Видели и дядьев твоих обоих с женами и ребятней, когда гнали их туда. Я-то помню твоих дядьев: один в аптеке работал на углу Садовой, а другой — шорником в совхозе. Верно ведь?
— Шура, а почему Нина Беляева не пришла? — спрашиваю я.
— Картошку копала. Огород у них в Поповке. Она и отгул для этого взяла.
— Картошку?
— Ну да! Ты что, не знаешь, что картошку копают? И делать это надо вовремя, — серьезно отвечает Шура.
— Наверное, — соглашаюсь я.
— Ты не обижайся, что так получилось. Винить тут некого. У жизни не только прогулки-переулки, а и тупички…
— Ну, а другая Валя — Ушакова, — она почему не пришла? — спрашиваю я.
— Бог ее знает, — отвечает Шура спокойно. — У Светы Ермолиной дочь на сессию уехала, младенца ей своего оставила, мужик-то у Светы парализованный с войны вернулся.
— А почему ты пришла, Шура? — допытываюсь я.
— Уж такая любопытная, — смеется Шура. — Думаешь, мы с Лилей что ни день в гости друг к дружке бегаем? Где уж! Хоть и живем в одном городе. Раз в месяц на улице встретимся, два-три слова — и прощай. Говорить-то о чем нам? У нее — школа, свои знакомые да новые подружки, у меня тоже — свое. Ты сколько сюда не заглядывал? Четверть века! То-то! Не до нас, наверное, было. Густые они, ушедшие эти годы, попробуй продерись сквозь них теперь назад…
— Да-да, — бормочу я и думаю: от города, где я живу сейчас, до этих мест поездом чуть меньше суток, самолетом — около трех часов; в году 365 дней, то есть 8760 часов; за двадцать пять лет я не нашел времени сюда слетать, а недавно, кривясь и передергиваясь от водки, просидел в ресторане часов пять с едва знакомыми людьми, но мне было с ними интересно, хотя уверен: никогда больше я не вспомню их, как и они меня, а может, кто-то другой вспоминает, как я вдруг вспомнил о своих друзьях детства и родном городе, и они, возможно, люди эти, жаждут с кем-то повидаться, раздумывая, ехать или нет… Никакого совета на этот счет я дать им не смогу…
Шурин автобус стоит пустой в ожидании редких пассажиров, светясь желтыми сонными огнями. Отъезжает он медленно, позванивая и поскрипывая всем, что от давности и плохих дорог сдвинулось в нем с законных мест. Он удаляется по темной прямой аллее, которая кажется мне бесконечной. И еще долго я вижу почти неподвижный красный огонек стоп-сигнала, словно запрет всем, кто хотел бы двинуться по этой аллее вослед автобусу, в котором возвращается домой, к своей нынешней привычной и не требующей перемен жизни Шура Жданова…
Дежурная по гостинице, предложившая мне утром полулюкс, за стеклом конторки листает какие-то бумажки. Я быстро прохожу мимо, боясь, как бы она не остановила меня вопросом, и поднимаюсь на свой этаж. Больше всего я не хочу сейчас вопросов…
Утром следующего дня
Декабрь неожиданно помягчал, вдруг потеплело, заморосил дождь и убил ненадежный, начавшийся вяло снег, растворил его, смыл с мостовых и тротуаров. От бесснежья мокрые, плохо освещенные улицы стали черными. Сумерки рано и быстро завечерели. Одежда людей — пальто, плащи, отяжелевшие шубы, куртки казались одного цвета, как и портфели у мужчин и авоськи у женщин; и все, что было в этих авоськах: хлеб, бутылки с молоком, пачки пельменей и окостеневшие хвосты свежемороженой рыбы хек, — тоже все одного, темного цвета.
Рабочий день кончился. И в этот час «пик» — сырой, промозглый — у трамвайной остановки зябко шевелилась большая толпа. Сыпался серый дождик, разжижая слякоть, нанесенную сюда, размешанную за день сотнями ног.
Сиверцев решил идти домой пешком. Ему даже хотелось одиноко пройтись по этой непогоде. Так неприятно подумалось нынче о давке в трамвае, где надо вытаскивать прижатую руку, чтоб передать кондуктору чью-то теплую монетку, либо, долго не попадая, совать онемевшими пальцами трамвайный талон в узкую щель компостера. И, оглянув толпу, Сиверцев стал огибать ее, отходя ближе к ларькам, что жались у самых домов под капелью, летевшей с высоких крыш и балконов. Только бы никто из сослуживцев не увязался в попутчики, ведь обязательно затеется разговор, а Сиверцеву даже губами было двинуть тяжко, от дурного настроения вроде и скулы закаменели и слова опостылели, утратили свою необходимость.
И все же его окликнули.
Он остановился и увидел продиравшегося к нему из людской кучки круглолицего, в мохнатой шапке, Шелехова — учителя ботаники, классного руководителя восьмого «Б», где учился сын Сиверцева Сережа.
«Что-нибудь опять, — тоскливо подумал Сиверцев. — Какой-то клятый день…»
— Хорошо, что я вас встретил, — сказал Шелехов, цепко взял за локоть, вывел из толчеи в сторону, к бакалейному киоску, где пожилая продавщица, закутанная в пушистый коричневый платок, грела лиловые пальцы над рыжими спиралями электрокалорифера.
— Как там мой Сережка? — заторопился с вопросом Сиверцев. — Набедокурил?.. Возраст, Леонид Иванович, такой… сложный, — говорил он, будто стараясь этими околичными словами упредить и смягчить нечто страшно неприятное, что мог сообщить ему о сыне классный руководитель.
— Я хотел посылать вам записочку, чтоб зашли, — сказал Шелехов. — Острит.
— Как это? — не понял Сиверцев.
— Учителя жалуются: острит не в меру и не к месту. Разговаривает с ними тоном столичного нагловатого интеллектуала. Вопрос какой-нибудь выищет — вдруг учитель не ответит! То-то торжество! Как же — учитель невежда, перед всем классом… Знаете, это искаженное ощущение превосходства может стать чертой характера. В последующем тяжкой для окружающих, для тех, кто будет от Сережи зависеть. Но пока он зависит от учителей…
— Да-да, вы правы… Откуда же такое?! — смущенно говорил Сиверцев, чувствуя, как накипает раздражение против сына за необходимость беспомощно выслушивать слова классного руководителя, за свою при этом конфузливость — унизительную оттого, что не может назвать Шелехову никакой отчетливой причины подобного поведения сына. Уж лучше бы Шелехов сообщил, что Сережка получил за что-то двойку и выдрал страницу из дневника — объяснимо, несложно исправить, в общем, проще…
За углом на повороте взвизгнули трамвайные колеса.
— Идет, — сказал Шелехов и втиснулся в толпу, подталкивая Сиверцева, нисколько не сомневаясь, что и тот ждал трамвая. А Сиверцев подумал, что нехорошо теперь вдруг отказаться ехать вместе да и суматошно выбираться, раздвигая прущих, нелепо.
В вагоне их растолкали по разным концам. Сиверцев оказался у кабины вагоновожатого. Повертев головой, он увидел Шелехова, дернул губами, пытаясь улыбнуться ему, кивнул. у[ означало это одновременно, что Шелехов правильно поступил, что остановил его и все рассказал, и то, что Сиверцев, разумеется, примет меры, и еще — прощание, потому что Шелехов сойдет на две остановки позже…
Сиверцев смотрел сквозь приоткрытую дверцу кабины вагоновожатого, видел лишь его правую руку в потертой бежевой перчатке на рычаге, лежащий на газетном клочке надкусанный пирожок с капустой. Трамвая не было долго, и народу в вагон набилось много. Сиверцева толкали, наваливались на него, извинялись, он тоже извинялся, отжимался, освобождая проход. Женщина в белом тюрбане затевала скандал — кто-то локтем сдвинул с ее высокой прически этот тюрбан. И тогда плотный, занимавший много места мужчина в серой модной овчине весело сказал ей: «В трамвае так тесно, что даже мужчины стоят». И все вдруг от этого тоже повеселели, засмеялись, и, казалось, трамвай пошел шибче, не так тесно стало. И Сиверцев подумал, что в сущности люди незлобивы. Лишь нашелся бы рядом кто-то, хоть один, с легким характером человек, умеющий вовремя неким точным словом прорваться к разуму и сердцам людей, обычно отзывчивых на доброжелательность. Но самому Сиверцеву мысли эти не принесли облегчения, что-то было независимо сильней их, потому и сошел он на своей остановке с тем же дурным настроением, с каким садился в вагон.
Темный большой двор был пуст, лишь у дальнего подъезда на детской площадке перекликались ломкие голоса подростков да кто-то там однотонно пощипывал невпопад дребезжавшие басовые струны гитары. Огромный шестиэтажный дом обжито и уютно светился окнами. Сиверцев отсчитал взглядом свои на четвертом этаже, в комнате сына лампа тоже горела, значит, он дома и ничего не придется откладывать на завтра, когда с души все схлынет и нужно уже заставлять себя снова озлиться, наполниться решимостью для серьезного разговора.
Выйдя из лифта, Сиверцев позвонил и прислушался, желая по шагам угадать, кто пойдет открывать ему — жена или сын. Но в квартире работал телевизор, и услышал Сиверцев лишь щелчок уже отпиравшегося замка.
На пороге стоял сын.
— Приветик! Мама, кормилец прибыл, — весело крикнул он, протягивая руку, чтоб взять у отца мокрую, с зализанным мехом шапку.
И тут Сиверцева вроде шатнуло, и подумать не успел, как без замаха хлестнул сына по щеке, не оглянувшись, быстро прошел в свою комнату и плотно притянул дверь. Ему хотелось еще выйти, крикнуть что-то яростное и обидное сыну, но уже, трезвея, удержался. Медленно стянул пальто, бросил на стул, снял пиджак и лег на тахту, подложил руки под затылок, желая сейчас только тишины.
В комнате было темно, а свету ему не хотелось, и он лежал, глядя в гладкую черноту окна. Над крышей дома, что напротив, словно мерещась, теплилось слабое лиловое Зарево: за домами, в той стороне, было депо, с тяжким гудением там постоянно горел какой-то большой сильный огонь, летом оттуда в открытое окно тянуло мазутом и остывавшим шлаком.
Сиверцев курил, когда тихо вошла жена.
— Что случилось? За что ты его ударил? — спросила она, осторожно присев на край тахты.
Он, медля, долго и глубоко затянулся сигаретой, прикрыл глаза и вяло ответил:
— Заслужил… Позже объясню… Сейчас оставь меня…
В такие минуты, когда он вот так ложился на тахту и протяжно курил, допытываться было бесполезно и жена лишь спросила:
— Есть будешь?
— Не хочу.
Она вышла из комнаты.
Сигареты кончились, но Сиверцеву невмоготу было вставать за новой пачкой — идти к письменному столу, открывать ящик, закрывать его и снова возвращаться, двигаться, производить шум, слышать свои шаги; не хотелось, чтоб какой-нибудь, даже малый звук долетал из его комнаты туда, где сейчас сидели жена и сын.
Он лежал долго, отгороженный какой-то пустотой от мыслей и чувств, вроде даже подремывал, складывал в навязавшийся ритм случайное постукивание капель, ударявших за окном по оцинкованной жести водосточного козырька. Потом слышал позвякивание посуды на кухне, гуд воды, бившей из крана. Наконец все стихло. Матовое узорное стекло на его двери потемнело — в квартире погасили свет, он понял, что жена и сын легли спать.
Спустя какое-то время Сиверцев отнес пальто на вешалку в коридор, а оттуда завернул на кухню, зажег газ, поставил чайник, достал из холодильника плавленый сырок, отрезал ломоть хлеба и, без удовольствия жуя, смотрел на синее острое пламя газа, рвавшееся с шипением из пальника.
Попив чаю, Сиверцев тихо прошел по коридору до комнаты сына, постоял, послушал у двери и вошел. Он любил эту комнату: здесь иногда делал забавные открытия для себя, наталкивался на что-нибудь забытое, давнее, вдруг напоминавшее собственное детство, школьные годы. Когда сын уезжал на каникулы в Москву или в Киев к бабушке, Сиверцев часто заглядывал в эту комнату и, будто не имея возможности делать это при ее хозяине, сидел подолгу, с интересом рассматривал всякие штучки, которыми еще играл сын. А были здесь в картонном ящике из-под болгарского вина мотки проволоки, графитовые стержни от батареек, маленькие магниты, шестеренки от часов, коллектор крохотного электромоторчика и еще уйма разных вещей, приобретенных во время сбора металлолома или у кого-нибудь выменянных. И в одно из таких посещений Сиверцев вдруг понял, что вид этой комнаты, захламленной, с наваленными на подоконнике учебниками и тетрадями, с угольниками, карандашами и контурными картами на письменном столе, с помятой картонной коробкой, где всякая всячина, — имеет для него огромный поглощающий смысл, непреходяще и отчетливо связанный с самим существованием мальчика, живущего здесь; понял он, что заглянуть сюда по нескольку раз в день тянет его непереносимая, порой тоскливая, а иногда пугающая неприрученная мысль об отсутствии четырнадцатилетнего хозяина этой неприбранной комнаты…
Сын спал на спине, приоткрыв рот, дышал легко, неслышно. Худенькая в запястье рука покоилась на одеяле. В окно попадал свет с торца лестничного пролета, где всю ночь, накаляясь, горела лампа, и Сиверцев видел лицо сына — странно отдаленное сном, без того сходства с лицом матери, которое так заметно, когда они рядом. Сейчас спящий сын снова был дитя, мальчик. Все наносное, — подсмотренное жадным возрастом у других, заимствованное отрочеством, сочиненное, чтоб выглядеть старше, — стаяло, сошло, растворилось в глубоком бестревожном сне, вернув лбу, скулам и разомкнувшимся теплым губам черты неубывшей мягкой детскости. И даже вымытая на ночь земляничным мылом кожа на лице и руках источала запомнившийся Сиверцеву на всю жизнь парной запах младенчества. Захотелось Сиверцеву коснуться пальцем гладкой чистой щеки сына, по которой пришелся удар его замускулевшей ладони, стало стыдно за нетрудную, выгодную, оттого и незавидную смелость вот так ударить того, кто и не помыслит ответить тем же.
В сердце что-то больно шевельнулось, как защемило дыхание, когда хотел глубоко вздохнуть. Он знал, что сын не злопамятен, что завтра как ни в чем не бывало будет весело разговаривать, обо всем забудет… Забудет ли? Или просто чутко избавит отца от неловкости, от необходимости как-то вести себя?..
Конечно, не повстречайся Шелехов, ничего бы подобного не произошло, но Сиверцев был распален учительской жалобой и, идя домой, втайне, может, ждал, чтоб Сережа встретил его именно так — развязно-пренебрежительно, тем самым облегчая решительность Сиверцева, подталкивая его гнев. Сиверцев собирался круто поговорить с сыном, ущемляюще наказать его, лишив какого-нибудь удовольствия. Но ударить!..
Вздохнув, Сиверцев еще раз глянул на спящего и, ступая мягко, словно винясь, пошел к себе.
Зажигать свет не стал, на ощупь выволок из постельного ящика белье, кое-как постелил на тахте, открыл форточку и лег.
Уснуть, однако, не мог. Понуждал себя думать о постороннем — спокойном, приятном, как любил иногда после трудного хлопотливого дня. Любил острее ощутить усталость, потому что знал, как через минуту расслабленно вытянется под одеялом во весь рост и, неторопливо покуривая, станет думать с умиротворяющей радостью, что вот лежит в тепле и уюте за надежно добрыми стенами своей трехкомнатной квартиры, где есть почти все, что человеку нужно. За годы войны он столько мок и мерз в окопах и сырых продымленных блиндажах; уж так наспался сидя и стоя, на что-то привалясь, чувствуя сопревшими пальцами ног липкую сырость портяночной фланели; до того намаялся, стараясь задавить в теле судороги холода, когда просыпался от осенних протяжных сквозняков в полуразрушенных, почти бесстенных выстывших избах или на заиндевелой отвердевшей от утренников колкой траве, когда по плащ-палатке шебуршил дождь или первая зимняя крупка!.. Кто же так смел, что скажет ему осуждающее слово за эти приятные, но нечастые и недолгие предсонные тайные ощущения радостной надежности своего быта?! Ведь и это человеку нужно!..
Но сейчас это были всего лишь размышления, напрочь лишенные тех любимых благостных ощущений… Ах, черт бы побрал этого Шелехова! Не мог повстречаться в другой, более удачный день!.. Да, вот оно что — день!.. Неудачный день… Ни при чем здесь Шелехов, и Сережу бы не ударил, повстречай его Шелехов в другой день… Вот в чем дело… Шелехова он встретил, будучи уже в дурном настроении, злой, обиженный, угнетенный еще с полудня, после разговора с Власовым. Вот она где, причина!.. Власов… Вот кто виноват во всем!..
И, подумав об этом, Сиверцев заерзал возбужденно на постели, улегся поудобней, подоткнул под бок одеяло, словно готовился к долгому и важному разговору с Власовым, намереваясь высказать ему сейчас все!
Власов вызвал его к себе перед обедом. Высокий, молодой, с тугими розовыми щеками и розовыми губами, он встретил Сиверцева стоя, сгибая и разгибая сильными, как бы расплющенными пальцами пружинившую металлическую линейку, ожидая, когда Сиверцев приблизится.
— Садитесь, Андрей Андреевич, — сказал Власов, а сам угрожающе не сел. — Вы где работаете? — резко бросил он.
— То есть как? — не понял Сиверцев.
— Я говорю, где зарплату получаете? — хлопнул Власов линейкой по ладони.
— У нас, — пожал плечами Сиверцев.
— Не похоже. Ваш участок остался сегодня без машины. Люди простаивают. Конец квартала. Если не закончим монтаж в срок, мне опять в горкоме будут мылить шею… А мы не закончим. По вашей милости. И премиальные люди не получат по вашей милости. Почему вы не разрешили добавить в справку этому шоферюге еще три часа?
— Он работал у нас семь часов, а не десять.
— Знаю не хуже вас. А вы не хуже меня знаете, что ни одно автохозяйство в городе не хочет нас обслуживать. Они получают хорошие деньги лишь за тонно-километры. У нас же этих тонн нет! Мы оплачиваем их почасовую работу. Самая невыгодная для шоферов оплата. И они там находят тысячи причин, чтоб как-то увильнуть, не дать нам машину либо прислать с опозданием.
— Вот об этом вы и скажите в горкоме, — возразил Сиверцев. — Это же шантаж!
Власов отшвырнул линейку.
— Что говорить в горкоме, я сам знаю! — Власов уже кричал. — А вы крохоборничаете, отказались накинуть ему еще каких-то три часа! Вы что же думаете, вы такой хороший, принципиальный, а Власов — сволочь — заставляет начальников участков потакать вымогателям?!
— Нет, просто надоело потакать шантажу, — пожал плечами Сиверцев.
— Ах, вам надоело! А эти автобазовские шофера говорят, что им надоело работать у нас на почасовой оплате, у них семьи, дети! Но мне на это плевать! Мы — монтажники, товарищ Сиверцев. И этим все сказано, ясно? «Спецуправление Власова срывает пуск объекта» — вот как звучит!.. Не мы с вами придумали такой расчет с автохозяйствами, и не нам его отменять. И пора бы вам научиться жить! — Власов все еще стоял, сверху глядя на темную, простеганную сединой голову Сиверцева. — В нашем деле медузой быть нельзя! А вы ведете себя, как медуза. Как вы будете выглядеть перед своими же рабочими, что объясните им, когда они лишатся премиальных? Им чихать на ваши со-об-ра-же-ния, — Власов насмешливо пропел последнее слово и, склонившись к лицу Сиверцева, как протянул сквозь сцепленные зубы: — И мне чихать, Сиверцев! Мне дело делать надо, сдать в срок объект, и доложить об этом в тресте и в горкоме! Без наших слаботочных устройств цех не вступит в строй.
Сиверцев сидел подавленный, оглушенный, страшась увидеть красное, наверное, вспотевшее лицо этого тридцатилетнего парня, словно нарочно возвышавшегося над ним, постыдно отчитывавшего. Было боязно глянуть в лицо Власову, потому что тогда надо что- нибудь крикнуть, может, обматерить. И стало Сиверцеву страшно оттого, что он этого не делал, а продолжал, как виноватый ученик, сидеть. Затем встал и, все еще избегая наткнуться взглядом на побелевшие глаза Власова, сказал:
— Вы забываете, что, накидывая вот так по два-три часа, помимо всего, — выделил он, — мы будем рубить сук, на котором сидим: часов-то этих у нас ведь тоже определенный лимит. И нам их до конца года может просто не хватить…
— Спасибо, что напомнили, — нетерпеливо перебил Власов. — Но я молод и в этих услугах еще не нуждаюсь…
И вот сейчас, лежа под одеялом, он вдруг опять пережил все, что произошло в кабинете у Власова. Но теперь в груди его не было нервной знобящей дрожи, той почти обморочной вялости, разлившейся по телу, — не было ничего, что сковало его тогда, едва он вернулся к себе от Власова и принялся бессмысленно перекладывать бумаги на столе, тупо глядя на них, не осознавая своих движений.
Сейчас его спирал гнев, жаркий, сбивавший дыхание, замутила ненависть к Власову за оскорбительный тон, за то, что Власов специально, вроде возвышаясь, стоял над ним, бросая тяжелые презрительные слова. Он ненавидел Власова сейчас лишь за все это, забыв существо разговора. И еще за то, что там и тогда не сумел как следует ему ответить, одернуть, поставить на место! И за то, что дал пощечину сыну, — тоже ненавидел он Власова! Да! За то, что излил на сыне и обиду, и злость, и униженную свою правоту, и попранное достоинство, не сумевшее защитить себя вовремя…
Спать уже не хотелось вовсе. Возбуждение согнало усталость. Сиверцев уже знал, что не успокоится и не уснет, покуда не закончит свой страстный, резкий, но запоздалый разговор с Власовым. Мозг его работал ясно, складывались логичные, последовательные и емкие фразы — целые периоды — беспощадные, хлесткие, но справедливые, потому что ими он бичевал хамство.
Сиверцев почти видел, как в этом разговоре притихший Власов даже не в состоянии перебить его, чтоб вставить оправдательную реплику — так убедительно звучал мысленный голос Сиверцева и так неотразимо прекрасны и глубоки были его немые слова. Связно и решительно он напомнил Власову, что когда тому было от роду два года, Сиверцев уже жег немецкие танки и получил первую медаль «За отвагу». И что, может, пуля, ударившая Сиверцева в бедро, расплющившись о кость, застряла там, а потому и не долетела до иной цели, какая вполне могла оказаться двухлетним мальчиком Петенькой Власовым из Великих Лук!.. Нет, не так, это выспренно, нескромно… Об этом надо иначе… И он снова говорил, наслаждаясь своим умением находить вместительные страстные слова…
Он даже устал от этого монолога, но вроде успокоился, закурил и лежал, глядя в потолок, припоминал, как бы заучивая, отдельные фразы… Вот это все он завтра и выскажет Власову. Именно так! Завтра же утром, едва придет на работу!.. И ему стало легче. Загасив окурок, Сиверцев грузно повернулся на бок и натянул одеяло.
Они поднялись на свой этаж по разным лестницам, и потому находились сейчас в противоположных концах коридора, идя друг другу навстречу. Где-то посередине между ними находилась дверь в кабинет Власова, а ближе к Сиверцеву — дверь, куда должен был сворачивать он. Но пока они двигались друг другу навстречу. Вот сейчас… Вот… И Сиверцев почувствовал, как что-то толкнулось в груди, сменился ритм сердца, оно зачастило тоскливо и громко… Ах, как нехорошо получилось, подумал он. Надо же, чтоб в коридоре… Ну что ж, в коридоре так в коридоре. Какая в сущности разница? Но захочет ли Власов выслушивать его здесь? — засомневался Сиверцев, замедлил почему-то шаг, вроде безотчетно давая возможность Власову первым дойти до середины коридора, где дверь в кабинет. И тут вдруг Власов поднял высоко руку в приветственном движении.
— Здрасте, Андрей Андреевич! Ну и погодка, а? — весело и миролюбиво проговорил он. — У вас ко мне ничего срочного? Я собираюсь на товарную станцию насчет контейнеров… Ну и отлично! — он широко распахнул дверь и исчез в «предбаннике» — тесной приемной перед кабинетом.
Сиверцев глубоко и облегченно вздохнул, будто что-то роковое, подстерегавшее с утра, обошло стороной, разминулось с ним.
Водворившись у себя, Сиверцев подписал оставшиеся с вчера бумаги. Затем звонил в ПТО. Выходил во двор, смотрел, как грузят на машину бухту с кабелем Перед обедом уехал на завод, где в одном из цехов люди его участка монтировали коммутаторную установку. Обедал в заводской столовой. С аппетитом ел солянку и тугие плоские котлеты с макаронами. Потом вернулся в управление. И снова звонил, принимал людей, давал указания прорабу. И так — целый день. Работа ладилась. Все шло своим чином, плотно, одно за другим, без роздыху. Несколько раз, правда, Сиверцев заглядывал в приемную. Но выходил оттуда втайне довольный, что там полно народу и, значит, к Власову сейчас не пробиться. И это почему-то придавало ему бодрости в работе, и он уже тихо вслушивался, как некто незримый, внутри, уговаривал его, что Власову просто повезло: ведь он первым достиг двери своего кабинета и скрылся за нею…
Если не спросит…
На похороны отца Суханов опоздал: был в горах, а когда спустился, оказалось, что телеграмма от сестры ждала его на базе уже три дня. Но странное дело: он не ощутил ни опустошающего смятения, ни безысходного горя и, вдумываясь в происшедшее, еще раз взглянул на телеграмму: «Умер отец. Похороны восьмого. Люда». Он сунул бумажку в карман. Геологи молча, со значением пожимали Суханову руку, скорбно вздыхали, а ему было неловко от этого театрального сочувствия; при таких известиях, знал он, человека ошеломляет, а он вот не испытывал ничего, кроме озабоченности, хотя, как считал, был в общем- то добр, отзывчив, широк. Мать умерла в войну, когда Суханов лежал первый раз в госпитале. Отца же и сестру, живших совместно и безвыездно в Томашеве, Суханов не видел уже лет пятнадцать; посылал им исправно деньги, в год — два-три письма, все больше норовил к праздникам. Письма эти были похожи одно на другое, ему казалось, что ничего такого, что могло быть интересным отцу и сестре, в его жизни не происходило…
В Томашев он прибыл на восьмой день после похорон. Ничего, что жило в памяти Суханова, не изменилось тут. Разве что за давностью как бы уменьшилось, усохло с тех пор, когда он последний раз видел и заборчик, где столбы пошли враскоряку, и крыльцо из темных плах, осевшее на один бок, отчего гладкое, незанозистое перильце вылезало из паза, и притолока, где вывалилась штукатурка, обнажив сосновый брус. И потому, что все это уменьшилось, ушло в себя, Суханов, отодвигая филенчатую узкую дверь, пригнул голову, чтобы не задеть, входя.
Сестру он увидел со спины — серая вязаная кофточка в обтяжку на полном теле и узелок фартука на пояснице. Сестра протирала стаканы. На звук его шаркнувшего шага она обернулась, и он увидел сразу не лицо ее, а запухшие на суставах короткие пальцы, свисавшее с плеча полотенце, потом, когда она вскрикнула: «Ой, Витенька!» — круглое, с маленьким носом и белесыми бровями лицо.
Так, с полотенцем в руке, она и припала к Суханову, легла щекой на пиджак и всхлипывала, а он, возвышаясь, гладил ее по мягким теплым волосам, густо простеганным сединой, и тихо говорил:
— Ну что ты, Люда… Что уж тут… — не то успокаивая, не то оправдываясь, что не успел на похороны.
Потом они сидели друг против друга на синих облупившихся табуретах. Сестра маленькой ладонью утирала щеки, подбородок и смотрела на Суханова, поводя синими, еще светившимися от слез глазами, словно весь он не умещался в ее взгляде и потому рассматривала его по частям, а сказала вдруг о себе:
— Старая я стала, Витенька.
— Я ведь тоже не задержался, — усмехнулся Суханов. — Догоняю тебя. — И, вспомнив ее возраст, спросил: — Пенсия у тебя какая, Люда?
— Тридцать семь рублей. Пойду еще нянечкой в больницу. Вот и хватит мне. Ты уж больше не присылай.
— Не о том я, — смутился Суханов.
Он присел на корточки, распахнул чемодан, выставил на стол несколько банок лосося, курильской скумбрии в собственном соку, два штофа экспортной «Столичной». Затем ногой затолкал чемодан в угол между диваном и стеной и пошел умываться.
В темном коридоре памятно висел медный бочонок-рукомойник. Поднимаясь от ладоней Суханова, стерженек открывал сузившееся от многолетнего осадка отверстие, пропуская хилую струйку, приходилось часто клацать им, склонившись над тазом.
Тем временем со двора вернулась сестра, неся в алюминиевой миске яйца. И Суханов понял, что ходила она в сарай к несушкам. Яйца были белые, свеженькие, и меж ними темнели стебельки сена.
— Там Чемерисов, — сказала сестра. — Он видел, как ты приехал. Мы ведь соседи. Выйди к нему, а? — посмотрела она просительно.
— Какой Чемерисов? — Поводя головой, Суханов тер полотенцем шею. — Матвей, что ли?
— Матвей, Матвей, — обрадованно сказала сестра. — Начальником почты он теперь. На своем крыльце дожидается. Тебя стережет…
Чемерисов стоял уже не на крыльце, а у забора и поглядывал на дорогу.
— Матвей, — позвал Суханов, сходя с крыльца.
— А, Витя! — обернулся Чемерисов. — Здорово, с приездом! Давненько мы не видались.
— Самую малость — всю сознательную жизнь, — хмыкнул Суханов. — С ярмарки уже едем, Матвей.
Знакомы они были с детства, правда, в том возрасте дружбы не водили, нагуливая синяки и шишки каждый в своей мальчишечьей компании.
— Ты тут безвыездно? — спросил Суханов.
— Почти. Во время войны в области работал, на оборонном заводе. — И, как бы поясняя, добавил со смыслом: — Бронь имел. А потом вернулся сюда.
— Женат, семья?
— Как положено, трое ребят. А у тебя?
— Сын в восьмом классе.
— Отец покойный внука-то хоть успел повидать?
— Нет, — ответил Суханов. — Не довелось как-то. — И вопрос этот Чемерисова, вроде простой такой, вдруг повернулся к Суханову иной сутью, открывшейся только сейчас, как нечто важное, но уже непоправимо упущенное. — Ждешь кого-нибудь? — спросил Суханов.
— Машину. На озеро надо съездить за рыбой. Людмила Фоминична твоя просила на завтра. Для гостей.
— В честь меня, что ли? — улыбнулся Суханов.
— В честь батьки твоего. Завтра девятый день, поминальный. Предрассудок не предрассудок, так уж…
— Ах, вот что… А разве сестра верующая? — удивился Суханов.
— В церковь не ходит… Не отменять же ритуал. Народ соберется.
Суханов только из книг знал про девятый день да про сороковины. И от мысли о завтрашнем таком застолье сделалось почему-то тревожно.
— Может, со мной поедешь, озеро поглядишь? — предложил Чемерисов.
— Я на кладбище хотел сходить.
— Сегодня ни к чему. Завтра сходим.
— Ладно, пойду с сестрой согласую, — сказал Суханов, полагая, что предложение Чемерисова соответствует заведенному порядку и что на кладбище нужно идти именно завтра.
Сестра согласно сказала:
— Ну и ладно, ну и ладно. Только ты поел бы, Витенька.
— Я не голоден, Люда. В поезде плотно позавтракал.
— Что тебе на обед сделать? Любимое какое блюдо? Может, холодный борщок? Любишь ты его?
— Давай, — кивнул Суханов, решив, что это самое заветное, чем хотела угостить его сестра, а потому согласие должно доставить ей удовольствие. — И вареники с картошкой, со шкварками.
— Ну поезжай, поезжай, сделаю вареники, — обрадовалась сестра.
«Газик» стоял на дороге напротив калитки. Чемерисов услал шофера, молодого паренька в гимнастерке, бросил в машину плетенный из рогожи большой кошель.
— Поехали, — мотнул головой.
— Водишь? — спросил Суханов.
— Получается. Да тут у нас светофоров нет…
— На какое озеро поедем?
— На Томашевское. Там Мусий Петрович с утра сидит. Помнишь его? Он уже на пенсии. Внештатно на рыбнадзор работает…
Суетливое пламя быстро обгладывало сушняк. Сгорал он торопливо, жар проедал веточки до сердцевины. Отпылав, они распадались — черные, с серым зольным налетом, храня, однако, живучее тепло внутри, где древесина поплотнее. Когда огонь совсем приник, уголья осели, Чемерисов поставил на костер тяжелую, с длинной ручкой сковородку и пошел к берегу, где Мусий Петрович мыл почищенных и выпотрошенных карпов. Рыбины были крупные, скользкие, но Мусий Петрович ловко переворачивал их большими, багровыми от быстро насохшей рыбьей крови руками, сильно встряхивал пальцами, сбрасывая клейкую слизь, и снова окунал рыбину в воду. Хвосты у карпов подрагивали, и казалось, что в рыбе бьется еще, трепещет последний живой мускул.
Всю эту знакомую затею Суханов наблюдал, устроившись у куста на опушке, прислушиваясь, как в позвоночнике у поясницы шевелится боль. Дурацкая хворь — дискоз: когда-то давно, переселяясь на новую квартиру, неумело рванул на себя тяжелый тюк с книгами, и в позвоночнике что-то сдвинулось, ущемив нерв. А нынче боль эту раздразнила долгая тряска в «газике» по вихлястой, с выбоинами и вымоинами дороге. Хворь была капризна: дома Суханов приручил ее тем, что и сидел, и спал на жестком, А креслице в «газике» оказалось промятым до железного каркаса, и на колдобинах, хотя и держался крепко за скобу, Суханов все же подскакивал и проваливался, наперед уже зная, что разбередит, озлит боль. Был бы шофер, может, вел бы поаккуратнее, умеючи, а тут Чемерисов сам за баранку сел. Был он высок, сухощав, телом скуден, и Суханов дивился, чей же это мощный зад так размял креслице, просидел в нем такую ямину. И снова пошевелил он спиной, словно позывая боль: откликнется или нет. Но вроде утихла, уползла и улеглась в свое, спокойное для нее место. Он сидел на твердом сухом пне, от которого уже и кора отказалась, обнажила мертвую белизну когда-то могучего сочного ствола.
И все же от самого низу пня какой-то силой дерзко гналась вверх зеленая свежая веточка.
Еще теплый, мягкий по-осеннему воздух хранил густой, как навар, дух разомлевших за лето леса и чистой травы. В это свежее дыхание природы струйкой вошел кухонно-угарный запах подсолнечного масла, которое Мусий Петрович вылил на горячую сковороду, затем уложил на нее присоленные рыбины.
Когда рыба была готова, Мусий Петрович расстелил на траве брезент, поставил сковородку, крупно нарезал хлеб и, выставив поллитровку, кивнул на все это, приглашая. Но от водки Суханов, а за ним и Чемерисов отказались.
— Что ж вы так? — удивился Мусий Петрович. — Я ведь не каждому выставляю, — щелкнул темным пальцем по бутылке. — Я без умыслу, для соответствия. — И, ухмыльнувшись, мол, «как знаете», блеснул из-под усов вставными зубами, отодрал пробку, плеснул себе в граненый стакан. — Ну ты-то, Матвей Ильич, понятно — за рулем, а Виктору Фомичу можно. Вроде со свиданьицем.
— Ладно, наливайте, что ж вы один будете пить.
— Смотри, сжалился, — покачал головой Мусий Петрович и налил Суханову водки.
Рыбу ели со свежим, отдававшим приятной кислинкой хлебом, выпеченным в пекарне местной потребкооперации.
— Сестру-то хоть узнал? — спросил Мусий Петрович со смешком.
— Постарела, — ответил Суханов.
— А ты думал!.. Эх! — крякнул он. — Маманя твоя мудрая баба была, знаешь, что говорила: «Покуда я жива — веник связан. Помру — все прутики распадутся».
Суханов жевал и мог не отвечать, и так ему было удобней.
Сентябрь стоял тихий и прозрачный, с синим приподнявшимся небом, низкое солнце выстилало по озерной глади почти неподвижные, нестерпимо сиявшие золотые полосы, после долгого взгляда на них в глазах стояли черные пятна. Лес вокруг озера еще темно зеленел, но кое-где в него въедалась осенняя рыжина. Тишина и покой были столь величественны и значительны, что, казалось, озеро и лес не имели никакого отношения к людям, отторжены от всех их дел и забот, и уже не он, Суханов, наблюдает природу, а вроде она молча следит за людьми и, будучи вечной и зная об этом, не понимает их тщетной возни, всего преходящего, чем заняты люди в том кратком сроке, который они обозначали словом «жизнь»…
— Хорош у нас карп, Виктор Фомич? — словно окликая Суханова, спросил Мусий Петрович. Вкус- то какой! Не то что в иных местах, нефтью воняет. Съешь такого, цельный день потом керосином отрыгиваешь. — Он вытер жирные пальцы о траву и полез в карман за куревом. — Отец твой хаживал ко мне на карпа. Любил беседовать, — Мусий Петрович сузил пьяно покрасневшие, заслезившиеся глаза, — мы ведь с ним, почитай, всю жизнь выясняли, отчего он Людмилу-то, сестру твою, не отдал мне в жены. Да так и не выяснили, — покривил он в улыбке губы. — А ты про это и не знаешь… Все говорил он мне: «Неровный ты человек, Мусий. Где отчаян не в меру, а где смолчишь не вовремя». Возражал я ему: «Живу, как все. Всем плохо — и мне плохо. Всем хорошо, значит, и мне хорошо». Он на это серчал: «Вот-вот, Мусий, душа в рабстве у тебя. Оттого и живешь по хилому закону». И все растолковывал, объяснял, значит, что да как тут неправильно. А объяснял он знаешь как? Будто приказывал. Однако не все это любят, такой манер объяснений. Властен был… Ты, видать, тоже, а?
— Это другим видней, — ответил Суханов.
— Если б только видней… Зол я на него за Людмилу, — хмельно покачал головой Мусий Петрович. — Ходу не дал ей, при себе держал вроде от большой любви, но для своего удобства.
— Что ж ты так о покойнике, Петрович? Неприлично, — сказал Чемерисов, глянув на Суханова.
— Ладно, бог простит, да и ты не серчай, Виктор Фомич. Человек ты вроде сторонний, от родни вдалеке прожил. Однако не чужой им. Поэтому и сказал тебе, не кому-то…
Потом Чемерисов и Суханов сняли пиджаки, закатали рукава рубах и, стоя в лодке, наполовину лежавшей на воде, мыли руки и ополаскивали лица. Суханов сложил ладони корытцем и, зачерпнув из озера, долго вглядывался, покуда вода медленно вытекала меж Пальцев. Была она прозрачно-зеленоватой, с острым пресным запахом. Утираясь носовым платком, Суханов с удивлением думал о словах Мусия Петровича, о том, что ни возразить, ни подтвердить что-либо он не мог…
Когда кошель с рыбой положили в машину, Суханов тихо спросил Чемерисова:
— Матвей, уплатить надо?
— Он денег не возьмет, — сказал Чемерисов. — Не тот случай. В другой раз не прочь трояк, пятерку заработать, сейчас не возьмет.
— Обидится?
— Может, и не обидится, а брать не станет.
Попрощавшись с Мусием Петровичем, поблагодарив его, они сели в «газик».
Возвращались в Томашев той же дорогой Машину швыряло на колдобинах, и Суханов, сцепив зубы и крепко ухватившись за скобу, повитую синей изоляционной лентой, чуть приподнимался, когда машина проваливалась в очередной ухаб. Откинувшись, Суханов видел молодой затылок Чемерисова с гладкой детской кожей. Узколицый, с седыми висками, Чемерисов цепко держал взглядом дорожную колею, напряженно сжимал баранку, вертел ее без той лихости, с какой умеют делать это опытные шоферы…
Кладбище было старое, с деревянными и железными крестами из поперечно сваренных труб, лаково блестевших черной краской. Хватало и обелисков из наспех выструганных и пропитанных красным досок с фанерными и жестяными звездами. На многих могилах коробились венки — больше из елового лапника с поджелтевшими на кончиках иглами, а были и тоскливо-пышные с алыми и желтыми розами из провощенной бумаги. Кое-где мертвенно и беззащитно в солнечном свете горели воткнутые прямо в землю свечи. И трудно было сказать, что на этом угоре появилось прежде: могилы ли, у которых высадили затем березы, или издавна тут стояла белая роща с редким янтарным просверком стволовой сосновой шкурки, а уж потом заселили эту рощицу мертвецами, облюбовав для них такое тихое и красивое место…
Могилу отца уже обровняли квадратами плотного, с осенней подпалиной дерна. Стоя меж Чемерисовым и сестрой, Суханов, весь обращенный к своему нутру, прислушивался, отыскивая в памяти какую-нибудь чудную мелочь, деталь, связанные с отцом, чтоб откликнулись они в душе его и опечалили — так жаждал он сейчас ощутить эту печаль. Но в гулко опустошенном его сознании ничего не отзывалось, и только удивлением звучал вопрос: «Да разве я его не любил?!» «А почему ты считаешь, что любил? — отвечал Суханов себе. — Оттого, что сейчас спросил себя об этом и подумал: мол, как же иначе?.. Люда, Люда любила его, она может объяснить почему, рассказать…
Я уж ничего не могу, разве утверждать: любил! Но как?..»
Воду для цветов сестра принесла в пузатой красной грелке. Суханов налил из нее в литровую банку, воткнул большой букет белых астр и глянул на Чемерисова. Вдвоем они отошли в сторонку покурить, а сестра хлопотала у могилы, расставляя банки с цветами в том порядке, какой в этом случае казался ей лучшим.
— Жаль, что ты не поспел на похороны, — сказал Чемерисов. — Народу много было. Видишь, сколько венков. Все по-человечески сделали.
— Я тебе очень благодарен, Матвей, — отозвался растроганно Суханов. — За заботу, за все…
— Брось ты, — сказал Чемерисов. — Живем ведь, люди, и смерть не мимо нас ходит, как и все прочее.
— Я ведь любил его, — упрямо сказал Суханов, вздохнул и подумал: как ни кощунственно, но хорошо, что он уже миновал эти жуткие минуты — смерти и похорон родителей; позади самое страшное, что человеку суждено пережить, — навечный уход матери и отца, а он, Суханов, уже прожил это. Он посмотрел на табличку и подсчитал, что отцу было семьдесят шесть лет…
Из квартиры Чемерисовых принесли стол, сдвинули его со столом Сухановых, накрыли скатертью и новой простыней, потом начали таскать стулья и табуреты. Суханов дважды бегал в магазин: за хлебом, водкой и минеральной водой, а сестра тем временем носила из погреба блюда с говяжьим холодцом, малосольные огурцы и капусту. Покуда Суханов ходил в магазин, появились две женщины, они расставляли тарелки с едой и, не оглядываясь, снова уходили на кухню.
— Сколько человек будет, Люда? — спросил Суханов, отсчитывая пальцем стулья и табуреты.
— Да как тут угадаешь, Витенька, — робко улыбнулась она, — отца-то многие знали. Мало ли кто заглянет. А ты о чем? Еды хватит!
— Не мало ли стульев? — обеспокоенно сказал Суханов.
— Рассядемся, даст бог, — ответила сестра и окинула взглядом стол.
Сход гостей длился долго. Входили мужчины и женщины, старые и молодые, здоровались друг с другом, поглядывали на Суханова, единственного им тут не знакомого, а он стоял у двери в другую комнату рядом с сестрой и напряженно кивал — отвечал на поклоны и приветственные слова, завидуя, как легко и просто Чемерисов разговаривал и распоряжался в чужой квартире.
— Ты не тушуйся, — шепнул Чемерисов, проходя мимо Суханова, — все пойдет своим чередом, вот выпьют по первой, и все пойдет… Народ свой, Томашевский… Что ж, Людмила Фоминична, пора?
— Да, да, Матвей, приглашай, все на столе уже, — промолвила сестра и сжала руку Суханова. Ты со мной сядешь, Витенька, так тебе ловчее будет…
Погремев стульями и табуретками, поерзав для удобства, гости сели и перво-наперво потянулись за хлебом. Суханов подумал, что ведь и он так, когда где-нибудь за столом, да только сегодня, сейчас впервые подметил со стороны эту похожую на инстинкт привычку людей, приступающих к еде, — сперва хлеб…
— Прошу налить, — поднялся Чемерисов. Он держал стопку-мензурку, наполненную по золотой ободок. — Мы, товарищи, собрались сегодня еще раз вспомнить Фому Егоровича Суханова, — сказал Чемерисов. — Прожил он жизнь не героическую, вовсе обыкновенную. Почтальон и есть почтальон. Простой труженик. Но ведь что главное? Был он нужным и желанным в каждом доме, в каждой семье… Одним словом, жизнь его не перескажешь, а долго выступать тут не место, все мы его знали… Пусть будет светлая память о нем с нами, и ему земля наша — пухом…
Все согласно закивали, выпили. Зазвенели, заскребли ножи и вилки. Выпил и Суханов — отчаянным, искупительным, каким-то жестоким к себе движением выплеснул в горло стопку водки и не поморщился, ткнул вилкой в скользкую, юлившую головку белого гриба.
Неторопливо и спокойно гости закусывали. Потом поднялся тучный мужчина с широким, нависшим над всем лицом лбом. На лацкане его серого, видать, редко ношенного пиджака висел орден «Знак Почета». Белой пухлой ладонью прикрыл он налитую стопку, словно оперся на нее.
— Это Филатов, бывший секретарь райкома, год, как на пенсии, — шепнула Суханову сестра.
— Обычай поминать усопших, полагаю, придуман нашими предками с полной их надеждой на загробную жизнь, — заговорил Филатов. — Дескать, пусть покойный услышит добрые слова о себе, какие ему недодали при жизни. Мы ведь тоже не балуем друг друга добрыми словами. Рассчитываем, что ли, после, на поминках вернуть все, что задолжали ближнему, хотя и атеисты и знаем, что не услышит он этих запоздалых слов наших. — Филатов шевельнул усмешкой большие, чуть выпяченные губы. — Я по должности своей хоть и не скуп был на слова всякие, а вот нужного слова покойному Суханову не произнес, утаил вроде. А повод у меня лично четверть века сохранялся, до самой смерти Суханова. Давно-давно, я тогда только пришел в райком инструктором, послали меня на открытое партсобрание, выступить, значит. Ну, выступил, сел на место, доволен, вроде все удачно, думаю. Тут слово попросил Суханов. Обращается ко мне: «Вот вы, товарищ Филатов, говорили нам: „Мы с вами добились“, „Мы с вами достигли“, „Мы с вами перевыполнили“. Все это верно. А как перешли к критике, у вас сразу другое местоимение: „Вы ослабили“, „Вы недоделали“, „Вы упустили“… Почему так, товарищ инструктор?.. Сперва „мы с вами“, а потом „вы сами“?..» Обиделся я тогда на почтальона Суханова. Однако с тех пор не стал путать местоимения. — Филатов загреб в ладонь стопку, поднял ее медленно, как некую тяжесть. — Вот и вся моя притча. Что к чему — сами поймете… Ну, — скомандовал он.
Все выпили. Заговорили. И снова налили, и снова…
Пил и Суханов, равно со всеми, словно боялся, Что следят: не пропускает ли, не увертывается ли — поминают-то его родителя.
Разговор пошел уже нестройный, бражный, сосед с соседом, либо через стол, громко, уже не скорбно: и о покойном, где, когда и что он сказал да сделал, и о домашних своих делах, и о служебных, — о жизни, что продолжалась, в которой отец Суханова все еще оставался связанным с этими людьми словами и поступками.
И возникал из сумятицы фраз и восклицаний незнакомый Суханову человек, бывший ему отцом. Получалось вроде, что Суханова сейчас знакомили с ним. Он вслушивался с интересом и стыдливым удивлением, и порой казалось ему, что речь ведут о человеке, которого ждут: вот-вот он войдет в дом, сядет за стол, чтоб поддержать общую беседу, и тогда впервые Суханов увидит его во плоти…
После еще одной стопки все как-то отдалилось от Суханова, обволоклось, отгородившись, гомоном. И, наливаясь противно расслабляющим, тягуче тяжким хмелем, он слышал все приглушенно и невнятно, уже с натугой вникая в слова об отце, кружившиеся в туманном хмельном облаке. И сквозь него Суханов трезво улавливал лишь покалывавший хитрым прищуром и разумением чего-то вроде подсмеивавшийся над ним взгляд Мусия Петровича, бередивший пугливую мысль о том, что могут предложить произнести поминальное сыновье слово, а он, Суханов, ничего и сказать не сможет, ибо ничего об отце не знает…
Уже закурили, отстранились от стола, разговор закрутился еще живей и шумней. Суханов, стараясь, чтоб не качнуло, поднялся и, горбясь, — быть бы меньше заметным, — осторожно, вдоль стены, за спинами, выбрался в прихожую, а оттуда во двор.
Со свету спотыкаясь о темень, пошаркивая, неуверенно пошел к скамье, вкопанной под старой, усыхавшей яблоней-дичкой. Отстегнув пуговку воротника, он опустил узел галстука, провел рукой по горячей шее и полно вдохнул в грудь, стесненную духотой, едой и долгим напряженным сидением за столом. Было тихо и темно, лишь где-то за пустырем и полем, над невидимым лесом вздрагивали далекие зарницы и погромыхивала нерастраченная, опоздавшая к весне и лету гроза.
Надышавшись вволю свежего черного воздуха, подсыревшего, с запахом далеко стороной прошедшего дождя, Суханов с наслаждением закурил, медленно, но благостно отходя от хмеля.
Блеснул за открывшейся дверью свет, и кто-то неосторожно шагнул с крыльца, матюгнулся и двинулся к скамье. Уже обвыкший в темноте, Суханов узнал Мусия Петровича.
— Дымишь? — садясь рядом, спросил тот. — Или не по себе стало?
— Отчего же?
— Ну мало ли! Лишку выпил или не все по-твоему вышло, может, кто сказал не то иль сделал не так… Мало ли… Я ведь смотрел за тобой, все ты дивился, как про отца говорили, будто тайны тебе открывали…
— Нет, все нормально, хорошо… Я очень рад, что так… А вы ведь не случайно за мной вышли, а?
— А ты как думаешь?
— Вот так и думаю.
— С чего бы я за тобой мог пойти? Или, может, ждешь какое слово от меня?.. Молчишь. Значит, ждешь. Ну что ж, скажу. Все про успехи твои покойный рассказывал, на письма твои ссылался: «Витька-то мой — молодец! Такими делами ворочает, такими делами! Да еще как! К начальству большому на доклад в Москву ездил. Премию получил от министра — часы золотые»… В другой раз — другую побаску сочинял. Все верили, да только не я: ты ведь и писал-то им в год раз. Вот и сочинял он…
«А что оставалось ему делать? — подумал Суханов. — Ничего он не знал обо мне, ни о моих делах, ни о том, как я ими ворочаю. Просто ему хотелось, чтоб люди думали, какие тесные и дружеские отношения у нас с ним…»
— Гордый он был, — сказал Мусий Петрович. — Гордость его всю жизнь мучила.
«При чем тут „гордый“? — думал Суханов. — Просто он был отец. Вот и все…»
И снова отворилась дверь. В желто вспыхнувшем прямоугольнике зашевелились темные силуэты, послышались громкие, несдержанные голоса, как у всех людей, выпивших и наконец выбравшихся на волю из духоты.
Суханов поднялся на крыльцо. С ним уважительно прощались, уже как со своим человеком, о котором они почти все и подробно знали от покойного, а теперь вот повидали и в натуре; благодарили, он искренне крепко пожимал потные, набрякшие руки, тоже благодарил сердечно и извинительно, будто чего-то недодал гостям, которые так много знали, помнили и говорили о его отце.
«Эмоциональная независимость — вот новая сила, рычаг!» — вспомнил Суханов забавную фразу белявенького миловидного студента-геолога, практиковавшегося у него на Памире. Фраза эта тогда понравилась Суханову. Она утверждала нечто яркое, многоцветное, новое. Она прозвучала на синем леденящем высокогорном ветру, в сырой палатке, в кругу усталых, промокших людей, измученных тяжелым переходом, жадно глотавших недоваренные макароны, перемешанные с говяжьей тушенкой. За фразой этой ощущалось что-то значительное, как ночные страстные мечты, обещания и клятвы, в которые истово и безоглядно веришь в тот момент, не думая, однако, что утром, при свете будничного дня, они потускнеют, слиняет их пылкость, и покажутся они нелепыми, ибо не будут соприкасаться с реальной жизнью никакими своими сторонами…
Суханов усмехнулся: «И вот я, давно эмоционально независимый, сижу на чердаке родительского дома, — он обвел взглядом чердак, где, обметанные пылью, валялись безногие стулья, медный чайник без дужки, сетка от кровати, смятая соломенная шляпа, оправа к трюмо из орехового дерева и еще какой-то хлам, — сижу у старого семейного сундука, который помню с детства… Мне хочется рыться в нем, перебирать и разглядывать предметы, принадлежавшие отцу, трогать их, что-то узнать от них… Я ничего не знаю о своем отце, для меня он всю жизнь только и был почтальоном… А он ничего не знал обо мне, кроме того, что я есть, что я геолог, у меня трехкомнатная квартира, жена, сын — его внук, которого он так и не увидел…»
Сундук стоял под самым скатом крыши, у отворенного люка. На чердаке было светло. Ровные, словно натянутые, солнечные нити били из щелей меж досок, в них дрожали мириады пылинок, метушились какие-то мельчайшие комахи, исчезавшие, едва вылетали они на мгновение из этой пронзительно тонкой световой полосы… Суханов поднялся сюда сразу же после завтрака, когда сестра, торопливо собравшись, ушла по каким-то хлопотным делам в собес…
Открыл сундук легко, выдохнул облачко пыли. Но был он почти пуст: старая телогрейка отца, два медных, нынче модных подсвечника с затверделым посеревшим воском в гнездах, солдатский ремень военной поры и что-то обернутое в иссохшую, ломкую уже газету, перевязанную накрест шпагатом. Оказалась в ней пачка бережливо сложенных бумаг. Суханов стал брать по одной сверху. Сперва шли какие-то счета и квитанции, затем попались его письма с фронта — торопливые, восторженные, громкие письма мальчишки-солдата. Он перечитал сколько-то страничек, дивясь и радуясь себе, пареньку тех лет, неопытно полагавшему, что убить могут кого угодно, только не его. Письма на углах были красным карандашом помечены отцовской рукой — дата их прибытия. Была это, наверное, вечерняя утеха отца, его нешумливая радость в дни, когда разносил он почту на своем участке: кому письма от живых еще, кому похоронки… Потом пошли личные бумаги отца. Читал их Суханов с удивлением и интересом, переносясь в незнакомые годы, где юношей, затем молодым человеком жил его отец.
«Предъявитель сего свидѣтельства, слушатель учрежденных преподавателемъ Мелитопольского реальнаго училища В. С. Балабановым в гор. Мелитополѣ вечернихъ курсовъ для взрослыхъ Фома Егоровичъ Сухановъ, как видно изъ документовъ, сынъ мѣщанина, вѣроисповѣданія православнаго, родился в 1896 году 20 сентября, поступилъ въ октябрѣ 1913 года на означенные курсы и подготовлялся на нихъ до 1-го іюня 1914 года. В настоящемъ году, на бывшемъ испытаніи, произведенномъ подъ наблюдениемъ депутата отъ Одесскаго Учебнаго Округа, онъ оказалъ нижеслѣдующія познанія изъ курса четырехъ классовъ реальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія:
Въ Законѣ божіемъ — хорошія
— русском языкѣ — хорошія
— математикѣ, а именно: ариθметикѣ — удовлетворительныя…
Въ удостовѣреніе сего выдано Суханову Фоме настоящее свидѣтельство, предоставляющее ему права лицъ, окончившихъ четыре класса реальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія».
«Сие удостоверение дано тов. Суханову Ф. Е. в том, что он действительно состоит на службе в Особой Продовольственной Комиссии по Снабжению 1-ой Донецкой Трудовой Армии (Опродкомтрударм) в должности счетовода финсчетного п’отдела Губраспредотдела, что подписями и приложением печати удостоверяется. Июля 18 дня 1922 г.».
«Штаб Украинского Военного округа. Пропуск № 761. Дан сей сотрудн. финчасти орготдела УВО тов. Суханову Ф. Е. на право беспрепятственного входа в здание штаба. Действителен по 26 мая 1924 г.».
«Правительственная Комиссия Артемовской почтовой конторы настоящим свидетельствует, что гр. Суханов Ф. М. прослушал четырехмесячные курсы украинского языка и при проверке выявил знания удовлетворительные согласно II категории Положения о проверке ЦК Украинизации».
«Справка. Артемовская почтовая контора удостоверяет, что тов. Суханов Ф. Е. действительно состоит в ней на службе и получает содержание по 8-му разряду 37 руб. 20 коп. Семья его состоит из 1-го взрослого и двоих малолетних, которые торговлей не занимаются. Дана сия справка для предоставления Фининспектору. 31 марта 1927 г.»…
Суханов улыбнулся: одним из этих малолетних, не занимавшихся торговлей, был он, двухлетний Витя.
Потом он нашел грамоту наркома связи, которой был награжден отец в 1943 году, списанный с белым билетом с военного учета из-за тяжелой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. И было еще много незнакомых, неожиданных бумаг и справок. Суханов проглядывал их уже по-быстрому и лишь с одной, затаив дыхание, не заторопился, читая, а приблизился к свету, чтоб разобрать разгонистые строчки чернового, с зачерками и вписками, отцова заявления на имя районного прокурора. Составлено оно было в ноябре 1946 года:
«Настоящим сообщаю, что я, почтальон Томашевской почтовой конторы Суханов Ф. Е., совершил в военном, 1944 году должностное преступление. А именно: не вручил и скрыл прибывшую для семьи Бартеневых, проживавших по ул. Суворова, 5, похоронную на сына Александра. Сделал это сознательно, от невозможности, т. к. за неделю до этого вручил им похоронную на старшего сына Андрея…»
Черновичок был написан на двойном тетрадном листке, внутри которого и лежала сама похоронка.
Боже, Сашка Бартенев! Одноклассник, с которым Суханов вместе, зябко и стыдливо дрожа, стоял голым в большой холодной комнате на военкомовской медкомиссии в декабре 1942 года…
…Домой Суханов прилетел во вторник. Теща, кормившая его на кухне, сообщала новости: Нина (жена) уехала в командировку в Томск; в холодильнике вышел из строя агрегат, надо становиться в очередь, — в продаже их нет; для домашнего консервирования не хватило крышек, необходимо срочно доставать, ведь огурцы и помидоры уже кончаются; у Валерки (сын) украли в школе кеды…
Суханов без аппетита жевал яичницу — дежурное в семье блюдо — и рассеянно слушал воркотню тещи, дувшей в кастрюлю, где пузырилось вскипавшее молоко. Выпив кофе, он ушел к себе, лег на тахту. В голове звенело, а самого покачивало. Летал он давно, много, далеко и всегда не любил, дурно чувствовал себя после полета.
Он вспомнил, как на автобусной остановке сестра, провожая его, сказала:
— Поездом бы лучше ехал, Витенька. Боюсь я, когда летают.
Он бодро улыбнулся:
— Человек всю жизнь мечтал воспарить, а ты меня, сестрица, к земле гнешь… Не волнуйся, все будет в порядке. Прилечу — дам телеграмму.
— Ну и хорошо, — закивала сестра. — Ты уж там приветы передай Нине, хоть я ее и не знаю, а передай, да племяннику Валерику.
— Передам, передам… А ты насчет переезда ко мне решай. Я ведь серьезно. Чего тебе тут одной? Ликвидируй все хозяйство — и приезжай. Три комнаты, места хватит. С Ниной, думаю, вы поладите, в конце концов ты ведь моя сестра, — он привлек ее к себе и поцеловал в лоб.
— Ну что ты!.. Как я брошу все тут? Все, понимаешь? — зашептала сестра.
Он понял и все же сказал Чемерисову, стоявшему поодаль возле чемодана:
— Уговори ее, Матвей.
— Чего захотел! — хмыкнул Чемерисов. — Тут я тебе не союзник. Не поедет Людмила Фоминична, не захочет, дом ведь ее — тут…
Потом Суханов, вспомнив чердак, спросил:
— Люда, а где Бартеневы? Помнишь, было у них два сына, с Сашкой, младшим, я учился вместе?
— Уехали они, на Урал куда-то. Ребята с войны не вернулись, вот они и переехали к родне… Что это тебе надумалось?
— Да так… Ну, Матвей, спасибо за все. Будешь в моих краях — не обходи. Адрес и телефон у Люды есть.
— Вряд ли, Витя. Дальше областного центра нам командировок не положено. Лучше ты давай к нам, по иному поводу, а можно и без повода…
И вдруг Суханова как обожгло: понял он, что вряд ли когда-нибудь сюда приедет, что только горестный какой случай пошлет его в эти края. Но, как бы отмахиваясь от этой мысли, пообещал:
— А что?! Возьму и прикачу с Валеркой. Пусть попасется в лесу да на бережке.
…И сейчас, когда он лежал на тахте, еще острее затомила его, разгораясь, завязавшаяся в нем за той вовсе не траурной, хотя и поминальной, трапезой тревога. Она поторапливала и понукала его, будто понял он вдруг, что опаздывает самым роковым образом свершить важное дело.
Когда Валерка, сын, был поменьше, он любил сидеть на тахте и, напряженно сопя, наблюдать, как Суханов наводит порядок в ящиках письменного стола, извлекая оттуда позванивавшие друг о друга значки, красные блокнотики и осыпавшиеся на истертых сгибах старые бумажки. Мальчик смотрел, как Суханов подолгу читал их, подклеивал, затем осторожно вкладывал в черный толстый бумажник, постоянно хранившийся в столе.
— Па, а что это? — спрашивал Валерка.
— Иди спать, Валерка, поздно, — отвечал Суханов.
Теперь уже Суханов не гонит сына спать: тот редко заходит в. комнату, когда видит отца, занятого чем-то за письменным столом. Заглянет и — мимо. Ему пятнадцать, и он сам возится у себя, натягивает жилку на ракетке, копается в механике инерционного игрушечного автомобильчика…
Вот что тревожно: будет ли еще такой нужный случай и сможет ли он его подстеречь, чтобы загодя или прямо при Валерке достать позванивающие друг о друга значки (орден и медали), красные блокнотики (удостоверения к наградам); бумажки, истертые на сгибах (справки о ранениях, вырезку из фронтовой газеты, где названа его фамилия), красноармейскую книжку… Сперва он спросил бы сына о его делах, о новостях в классе, о друзьях его. А потом, может, Валерка незаметно увлекся бы занятием отца: все это разложенное на столе стал бы перебирать, рассматривать и спрашивать: «Па, а что это?» — и просить: «Расскажи…»
Боже, по этим бумажкам-справочкам да выпискам из разных приказов, по каждой медальке, по ярким и блестящим камешкам-минералам, что лежат за стеклом шкафа, — по любой вещичке всю жизнь свою он сможет сыну пересказать… Всю свою и десятков людей, чтоб не от кого-то сын когда-нибудь узнавал ее, удивленно прислушиваясь, как сам он, Суханов, на поминках — про своего отца, когда уже не имеет смысла уточнять, кто в этом больше виноват: сам ли отец или он, Суханов…
Были в этой тоскливой тревоге Суханова такая надежда и нетерпение, что вскочил он, подошел к столу, выдернул ящик, словно проверяя, все ли на месте, как будто именно сейчас войдет сын и, заглянув в ящик, спросит: «Па, а что это?» Потом опять спросит. И еще спросит…
Не задвигая ящика, Суханов подошел к окну, откуда была видна темная арка соседнего проходного двора, через которую Валерка обычно возвращается из школы. Какая-то девочка на асфальте рисовала розовым мелком дом, трубу и дым из нее. И тут Суханова как встряхнуло. Возникла фраза — тоскливая и безжалостная. Она даже не звучала в нем, а виделась ему на фоне темной арки: «А что, если Валерка не спросит?..»
«…Как зов оттуда»
Для послесловия к этой книге можно было воспользоваться двумя надежными, не раз опробованными ходами: проза поэта и фронтовое поколение. Каждый из них, как известно, создает благодатные условия к тому, чтобы свободно вилась нить разговора.
Действительно, Глазов вошел в литературу как поэт. За первые двадцать лет, с 1951 года, он издал, если не ошибаюсь, десять поэтических сборников. Да и по сию пору он пишет стихи, довольно много переводит, особенно из украинской поэзии. Так что в его повестях и рассказах и впрямь можно обнаружить и поэтичность, и лиризм, и метафоричность, и многое иное, часто сопутствующее прозе поэтов.
И действительно, он принадлежит к фронтовому поколению, воевал, был тяжело ранен. И большинство его произведений — о войне. И весь этот том — фактически о войне. Но есть у него повести и не о войне, в том числе последняя, сюда не включенная, — «Без наркоза», из жизни врачей. Да и то, ведь фронтовая юность — не вериги, которые писателю назначено носить всю жизнь!
Конечно, опаленная войной юность сильно и страстно отзывается в его стихах и прозе. Но не только она. Григорий Глазов — талантливый писатель, который успешно работает в поэзии, прозе, кинодраматургии и который остро ощущает многообразные общественные и духовные движения современности. И таким его и надо принимать — полнозвучным талантливым писателем, а не «представителем» поэтического цеха или военной формации.
Каждый, кто прочел эту книгу, вероятно, ощутил, что свой путь прозаика Глазов начинал с рассказов, еще боязливо отрываясь поначалу и от уже проторенной поэтической дороги, и от привычного лирического рассказа о себе. Это была как бы разведка, проба сил. И автобиографического в них гораздо больше, чем в последующих повестях (на первую повесть он решился лишь в 1971 году, спустя шесть лет после своего дебюта в качестве рассказчика).
В большинстве рассказов, вне зависимости от того, написаны они о войне или о мирной жизни, главенствовало желание уловить, передать настроение. Было ли это ликующее счастье рассказа «В мое дежурство», где радист, «точечка-тирешечка», майской ночью неожиданно поймал по армейской рации известие о конце войны, о нашей победе, Победе! Было ли это возникшее в удивительном сплетении нежности, музыки, пьянящей радости лирическое чувство рассказа о возвращении с фронта в родной город, где его верно ждала Лидуся, которой он даже не писал все военные годы. Была ли это, наконец, щемящая горечь рассказа о встрече спустя четверть века с бывшими одноклассниками. Оба последних рассказа — «Возвращение» и «А ехать-то чуть меньше суток» — проникнуты ощущением своей вины перед людьми, обостренным осуждением своей нечуткости, душевной глухоты. Искренность осознания вины придает настроению этих рассказов особую — и впрямь, наверное, поэтическую — пронзительность.
К этим рассказам, стремящимся передать настроение и, как правило, написанным от первого лица, примыкают и такие, как «Старый враль». С «паустовской» акварельностью и несколько сентиментальной романтичностью повествуется в нем о старике переплетчике, который сочинял трогательные и милосердные сказки о неизменной победе добра и сумел поддержать, утешить, согреть захолодавшее сердце молодой учительницы.
Но все заметнее становилось в рассказах движение к драматическим ситуациям, пробуждающим уже не столько настроение, сколько напряженную мысль. И ситуации эти приходили обычно из дали фронтовых лет.
Некоторое «борение» сентиментальности и драматичности еще происходит в рассказе «Двадцать четвертый». Женщина-снайпер Варя, беременная и счастливая, переполненная любовью и материнством, видит из своего укрытия, как на немецком берегу купаются парень и женщина, а рядом лежит их военная форма. Голые купающиеся возлюбленные — люди как люди, довольные и безмятежные в своем редком на войне уединении. И у Вари, которую зародившаяся в ней новая жизнь непроизвольно заставила иначе ценить жизнь вообще, недостает силы выстрелить в это тело, «не прикрытое ничем, не защищенное даже одеждой». Лишь когда они оделись и «просто парень» стал вражеским офицером, потянула Варя спусковой крючок…
И уже с полной отчетливостью и резкостью возобладал драматизм жизни в рассказе «Конь». Словно в два витка закручивается его сюжет. Первый — когда лейтенант, под честное слово офицера вернуть скоро и в сохранности, отобрал единственного на всю деревню коня, сберегаемого для весенней пахоты. Но как ему было поступить: поддавшись жалости, оставить коня или, выполняя долг, забрать, чтобы вывезти боеприпасы от сломавшейся в дороге автомашины?
А едва успел лейтенант выполнить это задание, как комбат распорядился пустить коня с бороной проверить проход в минном поле для штурмовой группы. На одной из мин конь и подорвался. Вот он, второй виток, второй вопрос — как поступить? У лейтенанта, давшего честное слово, своя правда, у командира, пожертвовавшего лошадью, чтобы сберечь людей, — своя. И как тут не задуматься над логикой войны, ее жестокостью и ее справедливостью!
И вспомним «Круглянский мост» В. Быкова, где тоже столкнулись две правды: необходимости взорвать мост — и цена, которую Бритвин решил уплатить за нее. И стихотворение Б. Слуцкого «Лошади в океане» — пронзительный плач, и проклятье, и предостережение картиной того, что гибнут лошади с торпедированного судна.
Возможно, я несколько произвольно выстраиваю треугольник «Круглянский мост» — «Конь» — «Лошади в океане»: другой критик мог образовать иной треугольник, а то и многоугольник. Но вывод, думаю, остался бы тот же: Глазов активно участвовал в гуманистическом поиске нашей прозы тех лет. Больше того, рассказ «Конь» предварил многое в современной «экологической прозе», где гибель ни в чем не повинного живого существа проверяет человеческую нравственность и безнравственность.
А о том, насколько неслучайным был этот рассказ в его творчестве, можно судить по эпизоду из повести «Расшифровано временем». Там к повествователю заходит мальчик из соседней квартиры и, узнав, что дядя пишет книгу о войне, признается, что не любит ни книг, ни кинокартин о войне: он перестал ходить на военные фильмы после того, как в одном из них убили лошадь. На мудрую же реплику взрослого дяди, что в кино и людей убивают, он бесхитростно отвечает: «Люди умные, они понимают, а лошадь — животное». Что хотел сказать мальчик этими словами? Было в них что-то «простое и мудрое разом. Но какой он вкладывал смысл в них — четко выделить я не мог, его и мой жизненный опыт не совпадали…» Но читатель-то понимает: как бы ни был различен жизненный опыт, нравственная оценка едина — живое не должно гибнуть безвинно. И речь идет о мере осознания, мере ответственности.
Есть в даровании Г. Глазова примечательная черта. Его произведения всегда очень личностны и в то же время нескрываемо литературны. Множество поразительно точных деталей, дарованных художнической цепкой памятью, найдем мы в его прозе, но он смело опирается на литературные конструкции, отнюдь не имитируя «окопную правду».
Искусство любит достоверность, мы всегда поверяем правду изображенного правдой жизни. И, наверное, для военной прозы особенно важна правда факта, правда ситуации, правда обстановки. Недаром спорили в недавние годы: могут ли невоевавшие люди писать о войне. Выяснилось, что могут — и хорошо писать о войне, и успешно снимать кинофильмы, ставить спектакли.
А с другой стороны, многие прозаики, создавшие честные, жесткие повести о войне, скромно говорили, что масштабное художественное полотно типа «Войны и мира» создаст кто-либо из позднее пришедших, а их дело — оставить честные свидетельства, запечатлеть правду пережитого. Но именно эти честные свидетельства и стали истинным эпосом войны, ибо в них была правда, было эпическое дыхание времени.
Так что вопрос о личностном и литературном не так прост, как кажется с первого взгляда: заветная дверь творчества не открывается одной универсальной отмычкой.
Но, конечно, обычный писательский талант — есть ведь еще и писатели-фантасты и просто фантазеры! — увереннее и точнее чувствует себя в изображении тех сфер жизни, которые ему хорошо знакомы, а еще лучше — не просто знакомы, а и пережиты. Не очевидец только, а и участник — вот идеальная модель писателя. И то, что Глазов досконально знал описываемое им, во многом помогало ему сохранять достоверность литературных конструкций.
В повести «Годы дальнего следования» нескрываемо «литературная» композиция. Инженер Весловский, доведенный до края личными и служебными неурядицами, приезжает опустошенный и неприкаянный в дом отдыха на то лесное озеро, где был в войну расположен госпиталь. Здесь наплывают, наталкиваются друг на друга сегодняшние встречи и пробудившиеся воспоминания. Воспоминания о его тогдашних госпитальных днях, госпитальных друзьях, о бое с прорывавшейся из этого лесного края немецкой группой, в котором рядом сражались врачи и раненые. И могилы павших в том бою сохранились.
И вот все вместе — картины былого и нынешние впечатления — постепенно пробуждает в нем чувство дарованной жизни и ответственность за ту жизненную ношу, которую ему надлежит принять от боевых побратимов. Превозмогши свою душевную апатию, он уезжает, не пробыв положенный по путевке срок, как двадцать с лишним лет назад выбирался из госпиталя — «с чувством ожидания новизны и перемен, хотя знал, что это возвращение на передовую».
Еще более сложная композиция предстала в повести «Расшифровано временем». Похоже, что в повестях писатель делал тот же путь, что и в рассказах: от «настроенческой» «Годы дальнего следования» к драматически напряженной «Расшифровано временем».
Законченная в 1976 году, повесть создавалась на рубеже тридцатилетия нашей победы и несет в себе вполне понятное намерение осмыслить то, что было, каким оно стало и почему не должно повториться.
Это уже не центростремительная, сфокусированная на одном герое повесть, не диалог героя с самим собой, а повествовательно развитый диалог двух времен, двух станов, двух восприятий.
Увязать в таком диалоге войну и мир, вражеский стан и советский народ, былые бои и нынешние будни — задача, что и говорить, дерзкая. Но заманчивая. Недаром к ней не раз подступались прозаики самых разных творческих направлений. Глазов — один из немногих, кто решал ее не путем панорамирования, а взглядывая изнутри, отмыкая личностным ключом.
Действие развивается, словно втрое скрученная нить, в последовательном чередовании трех прядей: события сегодняшнего дня рассказчика, расшифровывающего, комментирующего скудные записи из своего фронтового дневника; сами эти дневниковые записи, дающие толчок воспоминаниям; письма и дневниковые заметки немца Конрада Биллингера, переданные его сыном.
Как в воронку, стягиваются судьбы авторов двух дневников. Сначала Конрад воюет под Сталинградом, а рассказчик находится в госпитале в далекой Средней Азии, потом они воюют примерно в одних и тех же местах на Калининском фронте, а затем, во время нашего прорыва в Прибалтику и боев по уничтожению курляндской группировки, оказываются буквально окоп в окоп. Рота рассказчика даже штурмует здание, где находился Конрад, а к тому попадает по прихоти случая дневник рассказчика. Это нарастание «соприкосновения» сделано мастерски и воспринимается как органичное, без какого-либо насилия над художественной логикой.
В сложном плетении повести — было бы правильнее, вероятно, именовать ее романом — наибольшее внимание привлекают немец Конрад и однополчанин рассказчика Виктор, оставшийся после войны в живых и лишь недавно погибший в автомобильной катастрофе.
Можно много писать о проникновенно воссозданном фронтовом братстве четырех друзей, о том, какими разными были эти парни, и о светлых образах погибших Семена и Марка. Но все это каждый читатель, конечно же, легко почувствовал и сам.
Поэтому я хочу сказать несколько об ином — о том, что связывает повесть не только с памятью о былом, но и с заботами сегодняшнего дня.
Виктор — своеобразный и, возможно, даже не осознаваемый автором отклик на «делового человека», о котором, как о любимом и совершенном герое НТР, много писали в те годы, любуясь Прончатовым, Чешковым и другими подобными героями — твердо знающими, чего они хотят от жизни, предпочитающими лишь «верняковые» дела, признающими за единственно правильные свои прагматические устремления. Время показало ограниченность таких «деловых людей», или, как называл их Ю. Трифонов, «железных мальчиков». Но, пожалуй, только Г. Глазов связал тогда напрямую образы некоторых своих сверстников из обычно поэтизируемого фронтового поколения и таких деятелей НТР.
Конечно, и раньше писатели не утаивали, что во фронтовом поколении были разные люди — вспомним и «Пядь земли» Г. Бакланова, и «Фронтовую страницу» В. Быкова, и «Горячий снег» Ю. Бондарева (пожалуй, именно Дроздовский из «Горячего снега» больше других напоминает глазовского Виктора). Но все-таки именно Глазов протянул столь зримую цепочку от воззрений, явленных в военной ситуации, к сегодняшним, показав, что так называемые деловые люди — порождение не научно-технического прогресса, а определенной суммы жизненных принципов, идеалов, установок. В разных условиях они проявляют себя по-разному, неизменно оставаясь жестокими, эгоистичными, расчетливыми. Это не мешает таким людям делать дело, а в иных условиях даже помогает, вспомним, что, только ударив своего друга Семена, смог Виктор преодолеть его упадок сил, его малодушное желание застрелиться. Такого рода удачи и вселяют в них уверенность во всегдашней правоте своих принципов.
Глазов понимает всю непростую суть характера Виктора, но все-таки пристально вглядывается в то, как реализовывалась после войны осознанная Виктором еще на фронте «формула жизни», программа жизни: нравственные силы, взлет и чистота души, явленные в окопах перед лицом смерти, неизбежно станут после войны сосуществовать с гнусностью, подлостью, тоже явленными в эту годину испытаний, и выбор возможен только один: или смириться с этим, приспособиться, или вступить в смертный, с неизвестным исходом бой. Он решил приспособиться.
И это нравственное исследование характера Виктора очень важно для Глазова: его волнуют в прошлом Не столько батальные картины — хотя он и не сторонится их, — сколько поведение друзей. Недаром такую существенную, акцентную роль играет то и дело вспыхивающий резкий обмен репликами между Виктором и Семеном. В этих спорах Виктор, словно магнитная стрелка, устремляется к полюсу жесткости, принуждения, хватки, а Семен отстаивает гуманные начала. Так трудно было отстаивать их на войне, но так необходимо, чтоб не заполонила послевоенные всходы дурная трава! В противовес Виктору, говорившему «Не жизнь, а война», Семен уверял, что война подчинена общим жизненным законам: «Не думать постоянно, что все делаешь только ради войны и для нее. Ведь она временная работа в нашей жизни». В еще большей степени эти слова относятся и к постоянной работе, к людям, убеждающим или даже искренне убежденным, что они свершают все только ради дела и для него Позднее, в повести «Подробности неизвестны», Ольга Лукинична скажет о таком хватком и жестком Анциферове: энергии у него мною, только свету от нее мало.
История четырех друзей могла бы стать самостоятельной повестью- воспоминанием — о военном прошлом и о «мирном» Викторе. И вроде о покойниках положено говорить хорошо, и о ветеранах привыкли слышать только доброе. А вот поди ж ты — Виктор!.. Но ведь и впрямь прожита целая жизнь — три десятилетия после войны. И здесь уже не фронтовая ностальгия, а фронтовой максимализм ведет автора.
Сближение военной юности и НТРной «деловитости» — несомненная художническая смелость Глазова. Но он оказался смелым вдвойне. Ведь это повесть не только об, условно говоря, разных фронтовиках в прошлом и сегодня. Это еще и повесть о разных немецких фронтовиках: они ведь тоже были разные — от подонка фон Киеслинга до таких, как Альберт, — помогающих друзьям, задумывающиеся над исходом войны и путями истории. И от этой «прядки» Никуда не деться.
В письмах и дневниковых записях Конрада проходят и слепо верящие, и сознательно исповедующие, и прозревающие — и в целом создается, как и в нашем стане, облик поколения. Только поколения изломанного, со сдвинутыми моральными критериями и искаженными представлениями о мире. Тем более значительной удачей автора представляется фигура самого Конрада, перешедшего от веры в предначертания фюрера к скепсису, от оправдания происходящего к постижению неизбежного, от бездумного согласия к осознанию вины. Такие люди стали после войны той опорой, благодаря которой и удалось построить демократическую германскую республику, создать широкое и антимилитаристское и антифашистское движение.
Временами может показаться, будто Конрад мудрее, вдумчивее, тоньше рассказчика. Вместо отрывочных, порой грубовато-прямых, укладывающихся в три-четыре строки упоминаний о событиях в дневниках рассказчика, у Конрада полные, искренние, исполненные раздумий записи, хотя тоже вроде делаемые наспех, особенно под Сталинградом и в Курляндском «котле» И уж, конечно, он мягче, вдумчивее, тоньше Виктора.
Но автор вовсе не собирался ни устраивать турнир двух «интеллектуалов», ни побивать кого бы то ни было фигурой незаурядного немецкого солдата. Есть у него два объяснения такой «расстановки сил» Полноте и раздумчивости записей Конрада дает объяснение наш профессор Рукавишников: «Иногда нужно много страданий, чтоб человек понял себя до сердцевины…»
А характер записей нашего дневника открывается в разговоре Конрада и Альберта при очередном отступлении. «Интересно, рассуждают ли столько русские?» — спрашивает один. А другой отвечает: «Вряд ли… Они просто изгоняют нас со своей земли. Как видишь, тут нет темы для рассуждений».
И это в общем-то справедливо. Безоговорочная вера в правоту своего дела, в свою победу, сознание святости своего долга не побуждало к рефлексии. Нельзя также не учитывать и того, что коротенькие дневниковые записи действительно «расшифровываются» в повести временем — сегодняшними воспоминаниями и комментариями рассказчика. Именно опыт десятилетий, прошедших после войны, составляет идейный и духовный противовес исканиям, заблуждениям, прозрениям тех лет. Время помогло рассказчику понять и то, к чему пришел Конрад, и то, что ему самому казалось еще неважным в военные дни.
Ясно видно, как в раздумьях Конрада и Альберта, в сегодняшних репликах рассказчика выкристаллизовываются те идеи, которые тревожат сегодняшний мир, вставший перед угрозой новой войны и усилением неофашистских поползновений.
И это опять-таки важно для Глазова: понять не только то, что разделяло два лагеря, два стана, но и то, что послужило затем объединению людей доброй воли. Будь живы Семен и Альберт, это единение далось бы, наверное, легче. Но их нет — и эта доля выпала ныне живущим. А от них перейдет к тем, кто еще вступает в жизнь. Исполнена глубокого значения итоговая мысль, напоенная и ностальгией и оптимизмом, — мысль о том, что уходили из жизни бывшие когда-то рядом люди и образовывалась глубокая пустота. Но постепенно она зарастала, как воронка. И тогда рядом снова появлялись люди, но уже другие, не имевшие никакого понятия о тех, вместо кого они возникли, и делали то, что не успели предшественники.
Эта мысль о преемственности является едва ли не главной в современной «прядке» повести, поворачиваясь все новыми гранями. То как поведение Виктора в мирные дни. То как беседы с молодыми — дочерью Виктора Алькой и ее возлюбленным. То как мотивы поведения Наташи, вдовы Виктора, относительно судьбы перспективных разработок, оставшихся после него. То как сон, в котором вновь и вновь возникает картина гибели Марка: «Давняя явь стала сном, он преследует меня много лет».
Этот сон — и память, и сознание долга перед павшими, и завет, чтоб такое не повторилось, и ощущение своей невольной вины за то, что ты остался жить, тогда как они погибли.
Есть в повести намеренно прямые сопоставления. В обоих дневниках имеется запись от 9 мая 1944 года, нескрываемо контрастны сценки, рисующие, как провожают любимых девушек Конрад и рассказчик, и т. д. Это могло бы представиться натяжкой, не будь вся повесть столь открыто «придумана»: именно ее «искусственность» и является ее естественностью, органичностью в том круге идей, которыми был движим автор.
И не случайно повесть кончается словами о том, что автора не раз остерегали от символики: дескать, от символов попахивает притчами. «Но разве чья-то прожитая жизнь не притча для тех, кто только начинает жизнь?» Именно потому, что повесть продиктована не умиленными воспоминаниями ветерана, а раздумьями человека, уже включившего войну в цепь жизни, что в ней так силен пафос извлечения жизненных уроков, смог Глазов закончить свою повесть этими словами о притче.
Есть у меня, признаюсь, веская причина для особого отношения к этой повести. Значительная часть событий происходит в «невельском мешке», образовавшемся после прорыва нашими войсками фронта в районе Невеля, когда узкая горловина прорыва могла быть трагично «перевязана» противником. Герои повести воевали в 3-й Ударной армии, я — в соседней, 4-й Ударной. За взятие Невеля дивизии, в которой я служил, было присвоено звание Невельской. И я тоже находился в этом мешке, и наша армия тоже совершила прорыв в Прибалтику южнее 3-й Ударной и всю зиму перемолачивала там немецкие части.
Вероятно, только ветераны могут представить те уколы сердца, когда встречаешь военного земляка — того, кто воевал рядом с тобой. Но и сурова ветеранская память — она не прощает красивости, неточности, лукавства. И своей ветеранской памятью я сильно и открыто отозвался на эту честную и глубокую повесть.
Если «Расшифровано временем» — самое многоплановое и философичное произведение Григория Глазова, то повесть «Перед долгой дорогой» — самое целостное. Она отчетливо настроена на балладную волну. Достаточно вспомнить начало повести и этот образ раскаленной подковы войны: «Ухватившись за широко разведенные ее концы обожженными солдатскими руками, страна со страшным усилием, до дрожи в мышцах, уже перегибала эту подкову вершиной на Запад». По воссозданной атмосфере, настрою, общей тональности небольшая, драматично напряженная повесть Глазова стоит в том же ряду, что и ранние повести Казакевича «Звезда» и «Двое в степи». За простой сюжетной канвой в ней неизменно чувствуется внутренняя напряженность, обобщенный подтекст: не занятная история о том, как рядового приняли за комиссара, а постижение народного характера.
В ситуации войны писатель прозревает, благодаря чему человек становится лидером, руководителем. Классическая русская литература и современная западная проза представили многие образы вожаков, командиров, хозяев, но только советская литература, воссоздавая совершенно иную социальную структуру общества, показала образ руководителя — человека, не верховодящего массой, но имеющего дело с коллективом.
В последнее время социальные психологи затратили много усилий, чтобы уяснить, прочертить разницу между назначенным руководителем и лидером — тем, кто фактически пользуется наибольшим авторитетом в коллективе.
И остроту этой проблемы — вполне допускаю, что неосознанно, подспудно — ощущал Глазов, работая над повестью. Оттого история выхода из окружения группы солдат стала не только рассказом о мужестве, верности долгу и чувстве коллективизма, а и раздумьем о тех качествах, которые создают человеческую добротность.
О том, кто и как становится лидером, опираясь на авторитет не должности, а личного поведения, примерно в то же время размышлял В. Семин в автобиографическом повествовании «Нагрудный знак OST». Очень точно подытожил он, как проходила смена лидеров на страдном пути военнопленных и тех, кого угоняли на работу в Германию. В эшелоне, в сумятице пересыльных лагерей всплывали устроители своих дел, мелкие хищники. Когда опасность усиливалась, вперед выступали те, кто словно заряжался от опасности, брал ее на себя, сознавая ее как главные минуты своей жизни. А в крайнюю минуту сгустившейся паники, общей растерянности лидерами становились спокойные, твердые люди, чаще всего пожилые — они умели найти неожиданно спокойные, вразумляющие слова. На эту глубинную моральную прочность, основательность опирались те, кто организовывал активное сопротивление, на нее равнялась основная масса, ибо здесь была не бесшабашная вспышка, а неколебимая и здравая норма поведения. Силе зла они противопоставляли сознание человеческого достоинства.
То, что В. Семин сформулировал, спрессовал в отточенные формулы, у Глазова развернуто в самой художественной структуре повести. Его Белов — тридцатидвухлетний шахтер с двенадцатилетним рабочим стажем — «пожилой» по тогдашним солдатским меркам и вправду годный по возрасту в командиры или комиссары.
Как ни парадоксально на первый взгляд, лидером обычно становится тот, кто может прожить в одиночку, кто привык сам принимать решения, сам отвечать за себя и в этом смысле не нуждается — вроде бы не нуждается! — в коллективе, в соратниках, в моральной поддержке.
Такое и случилось с солдатом Петром Беловым, который во время тактического контрнаступления немцев в 43-м году попал в плен, бежал и стал выбираться к линии фронта. В этом бывшем шахтере обнаружилась та добротность, надежность, самостоятельность, которая свойственна рабочему человеку, привыкшему трудиться всерьез, не пытаясь как-то словчить, устроиться в жизни полегче, повыгоднее.
Хорошо чувствуя своего героя, Глазов изобразил его Немногословным, не любящим вступать в спор: не словами, не доводами убеждает он, а справедливостью, основательностью своих решений. И этот облик художественно совпал с балладной напряженностью, которая требует прежде всего действия, поступков, решений.
Все тридцать с лишним человек, постепенно собравшиеся в группу Белова, добровольно приняли его руководство. Кто считал его командиром, кто комиссаром — не столько даже старшим по званию, сколько более крепким по духу. Не слабодушные вручили ему свои судьбы: и старшина-танкист и сержант-артиллерист сами были из породы лидеров, сами вели до этого небольшие группы. Они доверили Белову себя и товарищей потому, что доверяли ему больше, чем себе: одним виделся за ним еще и командирский опыт, а другим — авторитет партии. Но в любом случае за этим стояло уважение и доверие к его собственной нравственной прочности. Наблюдая это, радист Саша подумал: «Как живуча в людях тяга к чьей-то справедливой силе и воле, которые оказались надежней их собственной…как сбивает эта воля в единый и послушный строй людей, еще не успевших в этих обстоятельствах открыть в себе способность к подвигу и самопожертвованию». Пожалуй, главное слово здесь — справедливая: лидером становится тот, кто наиболее тверд, решителен и мудр в стремлении к общей правой цели. Пока Белов осуществлял такую цель в чрезвычайной обстановке, он был лидером. А после прорыва он снова, как и все, подчинен команде: «Рядовой Белов, в строй!»
Ни наград, ни званий, ни портретов в газете — обычный случай, простое исполнение долга, осуществление самого себя!
В этой ситуации автор резко обнажил психологическое перекрестие: одним хочется снять ответственность даже за себя, а Белов принимает ответственность за других.
Знаменательны два своего рода крайних случая. Первый — когда полицаи заставили схваченного ими бойца из группы подвести их к укрывшимся окруженцам — и «в тот момент, преодолевая душный страх предательства, Илья испытывал и ненависть и вроде благодарность к усатому, избавившему его наконец от необходимости самому что-то решать». А другой — когда старшина Тельнов, охотно и естественно подчинявшийся командам Белова, в трудную минуту сам, по своей воле, по своему решению увлек четверых автоматчиков и завязал отвлекающий бой; погибнув сами, они спасли остальных.
Между этими крайними случаями, двумя полюсами самостоятельности и подчинения чужой воле, течет основное русло повествования.
Когда группа вышла к незамерзшей реке, через которую нужно переправиться, автор замечает: «Может, каждый, оказавшись один на один с рекой, и придумал бы что-нибудь или хотя бы попытался сделать это, но сейчас, как по команде, все посмотрели на Белова».
Способность к решению подняла Белова над другими, а ожидания других подняли его над самим собою. Потому-то я и оговаривался, что лидер вроде бы не нуждается в соратниках: на самом деле они побуждают его действовать, они поверяют его правоту, они заставляют его совершить больше, чем он сделал бы для себя, и тем поднимают его над самим собой: «Нынче, как никогда, ему требовалась надежность каждого своего следа, в который вступят остальные, поверившие ему».
Поначалу Белов был убежден в том, что лучше выходить одному, полагаясь только, на себя. Но не мог он и отринуть тех, кто был слабее, кому было труднее, кто нуждался в поддержке или помощи. Не сладость власти, а тяжесть ответственности создает лидера. И это внутреннее напряжение, внутреннее движение характера сильнее всего покоряет в пружинно сжатой Повести, повести-балладе. Иной прозаик написал бы на этом сюжете изрядный роман: эпизодов тут можно нанизать множество. Но для Глазова было важно движение характера и та атмосфера, в которой этот характер себя обнаруживает.
И овладев этой балладной сжатостью, этим внутренним напряжением действия, Глазов подступился к повести «Подробности неизвестны».
В журнальном варианте она называлась «Ночь и вся жизнь», и уже само название предуведомляло, что в ней нужно видеть не этюд, не эпизод, не быль, а нечто большее — историю, столь же впечатляющую, сколь и поучительную (очевидно, из-за этого привкуса назидательности автор и заменил его).
Перед нами все та же влекущая Глазова зона времени и пространства: вторая половина войны, прифронтовые места, только на этот раз в ближних тылах наших войск. Можно было бы даже вообразить, что писатель проводит некий эксперимент: в какой обстановке прорывались из окружения наши бойцы и в какой — немцы. Собственно говоря, логика художественной мысли вполне допустимая.
И все-таки сходство между двумя повестями — в другом: и у Гурилева и у Белова происходит проверка добротных «мирных» свойств характера в экстремальной, как любят нынче говорить, обстановке. Да еще в том, что оба оказываются в неожиданной для них роли: рядовой стал командиром, бухгалтеру пришлось стать бойцом.
Но в новой повести писатель уже не удовлетворился тем, как явлены свойства характера, а заинтересовался и тем, как они сложились, сформировались, как всю жизнь накапливалась энергия для вспышки, озарившей ту ночь. Поступок — это и вершина и следствие накопленных нравственных ценностей. Поэтому так уместны оказались воспоминания героя, в которых не нуждалась предыдущая повесть, настроенная на балладную волну.
Три круга бытия проходит Гурилев в повести.
Первый — самый обширный, в нем герой раскрывает свою верность совести и долгу или, скажем лучше, совестному долгу, чтобы подчеркнуть их слитность, а не противопоставление, которое нередко привлекало своей драматичностью других прозаиков, писавших о войне.
Перед нами сугубо штатский, вырванный из привычного уклада человека в бурном прифронтовом солдатском море. И вот эта «штатскость» начинает испытываться — пока еще не на излом, а, так сказать, на прогиб. Достойно, хотя и не с таким самообладанием, как старший лейтенант Вельтман или сержант Ерхов, ведет он себя во время бомбежки поезда. Спокойствие, собранность, решительность предопределили его согласие поехать в дальний, только что освобожденный сельсовет.
Все эти добротные качества проявляются у него естественно, свободно, прочно. В предсмертные свои минуты во время допроса у командира прорывающейся немецкой группы Гурилев, заново оглядев свою прошлую жизнь, осознает как самое для себя важное: «Никогда не задумывался, что живет по внутреннему закону: не ожидание награды должно побуждать к добру».
И может быть, именно в силу логики этой идеи погибает сам Гурилев: счастливый исход был бы для него своеобразным вознаграждением за стойкость: выстоял — и за это был спасен. В повести он погибает, но как и другие, отважно павшие, остается жить навечно — жить в памяти народа. Памяти, в которой Никто не забыт и ничто не забыто.
Наверное, здесь уместно одно отступление. В романе Д. Гранина «Картина» есть эпизод, когда председатель горисполкома Лосев встречает церковного служку — «ересиарха», разжалованного из священников за еретическое предложение поменять рай и ад местами: только истинный праведник станет творить благое дело, зная, что не райская жизнь, а адовы мучения ждут его за это. И, в конечном счете, Лосев, решившийся на благое дело — сохранить памятник культуры, вынужден вместо ранее предрешенного повышения по службе отправиться в «ад», прорабом в какую-то строительную организацию.
Так что идея, выношенная Гурилевым как итог своей жизни, тревожит многих писателей. Больше того, она и служит, вероятно, той чертой, которая отделяет от христианской морали коллективистскую: добро совершается ради других людей.
И тут мы. естественно вступаем во второй круг повести: герой проходит испытание на человечность. Круги эти, разумеется, не отделены один от другого, просто акценты расставлены более интенсивно.
Все поведение Гурилева при приеме от крестьян фуража говорит о его человечности, деликатности, доброжелательности. А его сочувствие Ольге Лукиничне, председателю колхоза, которая старается сберечь при сдаче фуража хоть немного семенного картофеля! Вспомним, что сходный мотив был центральным в повести В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы» при аналогичной же расстановке персонажей: выметающий все подчистую уполномоченный, рачительный председатель колхоза и сострадательный «наблюдатель» Только у Тендрякова это было сутью всей повести, а здесь одним из мотивов. И скорее всего, служило для автора продолжением, еще одним поворотом той мысли, которая пульсировала в рассказе «Конь»: перед нами снова две правды, рожденные жестокой логикой войны. Но здесь автор и его герой уже более открыто встают на сторону человечности.
К проявлениям человечности Гурилева относится и его сердечное понимание любви Вельтмана и Нины, и его сострадание драме Лизы, забеременевшей от румынского солдата, который вскоре был казнен за попытку перейти к партизанам.
И снова — кто более прав по отношению к Лизе? Мать ли, движимая ненавистью и брезгливостью ко всему, что хоть как-то связано с оккупантами; безразлично, сошлась ли ее дочь по любви, из-за куска хлеба или поддавшись женской слабости? Или Володя, который готов принять беременную Лизу не потому, что безволен, не способен совладать со своей любовью, а потому что уважает чужую любовь, сочувствует чужой беде?
Так опять ставит нас Глазов перед двумя правдами, и опять он все-таки на стороне милосердия, сострадания.
Но крупнее всего испытание на человечность проявилось в отношениях и спорах — открытых и потаенных — Гурилева с Анциферовым, уполномоченным по заготовке фуража. Тот уповает на твердую руку, жесткую волю, беззастенчивый нажим. А Гурилев «срывается» в человечность, расположение к людям, доверие к ним.
И очень интересно разделил Глазов. цель и средства — проблему, столь волновавшую нашу прозу в 60-е — 70-е годы да и его самого еще с «Расшифровано временем». Гурилев поначалу чувствует себя подавленным «неуязвимой правотой» аргументов Анциферова, облаченных в громкие расхожие формулы: «Вы отчитываетесь перед бухгалтерией, я перед страной»; «Справедливо одно — собрать корма. И как можно больше — вот наша цель». И только спустя какое-то время смог он понять и высказать: «По-моему, вы размахиваете средствами, как топором, направо — налево. Так можно и саму- цель позабыть».
Чувство коллективизма слагается из многих качеств и свойств — и из стремления делать добро, не ожидая награды, и из способности сострадать, способности чувствовать чужую боль, радоваться чужой радости.
И здесь мы вступаем в третий круг, круг подвига — в ту ночь, что вобрала всю жизнь; ослепительно вспыхнули свойства и качества, которые долгие годы казались обычными и малозаметными.
Об этом писал Глазов и в «Перед долгой дорогой»: война ежедневно испытывала человеческие возможности радиста Саши Ивицкого, «порой казалось, они уже истрачены до конца, а все же чем-то всегда пополнялись из неведомых глубин, бывших в нем самом, но о существовании которых он как бы и не знал».
Почему Гурилев остался охранять собранные корма, хотя не обязан был это делать? Почему не окликнул Лизу, пришедшую за горючим? Почему с таким достоинством вел себя на допросе? Потому что жили в нем чувство долга и ответственности, понимание Лизиной ненависти к немцам, память о погибшем на фронте сыне Олеге и его размышления о добре, которому суждено убить зло, — вся многосложность душевных качеств. И как укрепляют его в эти недолгие часы воспоминания о прожитой жизни — о любви к жене, о дружбе с соседом-сапожником Погосяном, о беседах с польскими беженцами, о том, наконец, как он скрыл от жены и младшего сына извещение о смерти Олега!
В прерывистых мыслях Гурилева в минуты перед схваткой мелькает: «Выбор… Как итог всего, чем раньше жил… Соответствуем ли мы сами себе, или всякий раз наши поступки — произвол обстоятельств?» Утвердительный ответ, который дает нам автор, — да, непременно соответствуем сами себе — и есть нравственный итог поведанной нам истории.
Ведь соответствует себе и струсивший, бросивший Гурилева на гибель Анциферов. Решительным, твердым, самозабвенно выполняющим порученное дело выглядел он, пока у него была власть, была сила. Но власть и сила, лишенные человечности, всегда направлены лишь на услужение себе. Эгоист не способен на подвиг, ибо подвиг — добро, свершенное во имя людей.
Соответствуют себе Вельтман и Володя, не раздумывая вступившие в бой и погибшие, — как соответствовал себе в предыдущей повести Петр Белов.
Но образ Гурилева действует тем сильнее, что подвиг совершает человек пожилой, нестроевой: и выглядел он «не эффектно», не героически, и автомат перезарядить не сумел, и в плен попал. Но в таком контрасте «нескладного» и героического нет нарочитости: сколько таких людей совершали подвиг — в этом ведь коренились и исток успехов партизанской борьбы и великая стойкость городских ополченческих дивизий. Судьба Гурилева — эмоциональный знак, за которым стоит понятие: народная война!
Можно только поражаться, как удалось Глазову на таком небольшом плацдарме столь точно выбрать персонажи, сделать столь органичными их взаимоотношения, овладеть такой динамичной речью, свободной от заманчивых метафорических красот.
Я намеренно так часто сравнивал прозу Глазова с произведениями, где говорилось сходное: мне хотелось вписать его в движение всей прозы, в духовное движение общества, показать, насколько он современен даже тогда, когда обращается к временам войны.
С некоторых пор прозаики, пишущие о войне, стали подразделяться для меня на тех, кто использует (чтобы не сказать эксплуатирует) тему войны, столь выигрышную для всяческих «лихих заворотов», и тех, кто обращается к минувшей войне потому, что там для него точка отсчета многих нравственных ценностей. И как бы ни были талантливы и изобретательны «использующие», сколько бы пиротехники ни пускали они в ход, им не удается до конца компенсировать, скрыть свою духовную вялость. Только тот, кто живет былыми испытаниями, кому дарована естественность взгляда на пережитое, может взять частный эпизод, Негромкую судьбу, ибо за ними бьется для него живое чувство, живая мысль, делающие художественно значительными любой эпизод, любую человеческую участь.
В глазовском «Вынужденном детективе» один из героев говорит: «Для нее непостижимо, что каждое слово о годах войны и оккупации для меня — как зов оттуда, где погибли мои друзья, но куда уже не вернуться, где были страдания, пожары, пули, но где я сформировался как человек…»
Это же с полным правом может сказать о себе и сам писатель.
А. Бочаров